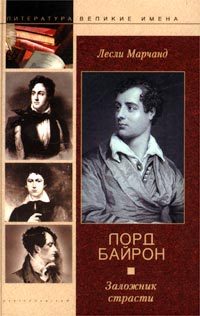
Лесли Марчанд
Лорд Байрон. Заложник страсти
Предисловие
Co стороны автора может показаться слишком самонадеянным назвать эту биографию «портретом» Байрона, однако такая самонадеянность несколько смягчается тем, что штрихи к «портрету» взяты из собственных признаний поэта как в стихах, так и в прозе, а за яркость красок мы благодарны множественным воспоминаниям его современников. Я поставил перед собой цель отделить истинного Байрона от бесчисленных фактов появившегося в наши дни неподтвержденного биографического материала, включив в данное произведение все самое интересное и примечательное из того, что удалось найти мне и что было издано после появления моего трехтомного труда «Байрон: биография». Желающие могут найти подробности в этом произведении и в других, изданных недавно.
Я добавил к воспоминаниям о Байроне необходимые объяснения и комментарии, но попытался не навязывать читателю мою «философию Байрона». Мне казалось неуместным перефразировать отрывки из произведений Байрона в тех местах, где их можно было дать в оригинале. Современной прозе вряд ли удастся передать ясный и четкий стиль его писем. Я нередко обращался к своему опыту, особенно если какое-либо утверждение полностью соответствовало моим взглядам. Иная трактовка возникала лишь тогда, когда я хотел сформулировать мысль более четко и емко, или в том случае, если на мои воззрения накладывали отпечаток новые исторические разыскания.
Некоторые свежие детали и новый взгляд на отдельные события были почерпнуты мной из недавних биографических исследований, таких, как «Последний лорд Байрон» Дорис Лэнгли Мур и «Супруга лорда Байрона» Малкольма Элвина. Я также добавил несколько не опубликованных доселе фактов, касающихся места проживания Байрона в Риме и его имени, начертанного на колонне в Дельфах. Моя цель была – показать суть трагической жизни Байрона и привлекательность его личности в одной книге, основанной на новейших исследованиях и достоверных источниках. Пусть теперь читатель сам составит представление о личности поэта.
Я глубоко признателен всем исследователям творчества Байрона из многих стран мира, которые оказали мне помощь своими публикациями или личной консультацией и советом. В предисловии к произведению «Байрон: биография» я отдал должное всем тем, кто помог мне в моих исследованиях. Сейчас мне остается только назвать имена тех, кто лично оказал мне помощь при подготовке и написании этой книги.
В Англии миссис Дорис Лэнгли Мур обратила мое внимание на многие интересные факты байроновской биографии. Я также благодарен за помощь и советы мистеру Малкольму Элвину, занятому изданием трудов Байрона, которые принадлежат графу Литтону, праправнуку поэта. Мистер Уильям Сен-Клер первым сообщил мне о недавно обнаруженном на колонне в Дельфах имени Байрона. Мой английский издатель, мистер Джон Грей Меррей, прямой потомок издателя Байрона, человек, отдающий много сил на изучение жизни и писем поэта, оказывал мне всяческую помощь и поддержку.
В Италии исследования Вера Каччиаторе, посвященные творчеству Китса и Шелли, натолкнули меня на открытие в Риме, на Пьяцца ди Спанья, дома Байрона, где он проживал в 1817 году.
Я бесконечно благодарен за помощь мистеру Фрэнсису Р. Уолтону, заведующему Национальной библиотекой в Греции, и его помощнице, мисс Е. Деметракопулу; мистеру Р. Лоуренсу О'Киффу, заведующему архивом в британском посольстве в Афинах; и моему давнему другу Нассосу Царцаносу.
В Америке я особенно признателен обществу Джона Саймона Гуггенхайма и его президенту, Гордону Н. Рэю, который дал мне возможность стать членом этого общества, что позволило мне проводить исследования за рубежом. Я благодарен профессору Аллану Девису, который предоставил мне помощников, когда я был руководителем кафедры английской литературы, и мисс Лине Боудиш, которая перепечатала черновик этой книги. Мистер Герберт Вайнсток, редактор издательства «Альфред А. Нопф», помог дельными советами. А помощь моей супруги Марион невозможно переоценить.
А также выражаю благодарность всем компаниям и частным лицам, предоставившим в мое распоряжение необходимые для работы принадлежащие им книги и рукописи.
Джордж Гордон, шестой лорд Байрон, родился 22 января 1788 года в скромном лондонском доме. Он от рождения был хромым. Род Байронов берет начало от двух родов британской аристократии, чьи представители отличались ярким темпераментом и бурной жизнью. Хотя впоследствии Байрон часто хвастался тем, что его мать является потомком Якова I, короля Шотландии, его воображение даже больше, чем кажется, будоражила великолепная родословная его предков. Вероятно, первыми представителями рода Байронов в Англии были Эрнегис и Радульфус (Ральф) де Бурун, крупные землевладельцы, жившие на севере страны во времена Вильгельма Завоевателя. О них мало что известно вплоть до времени правления Генриха VIII, когда живописное Ньюстедское аббатство в Ноттингемшире указом короля было даровано сэру Джону Байрону. Его внебрачный сын, «младший сэр Джон с большой бородой», унаследовал титул по велению королевы Елизаветы, которая в 1579 году посвятила его в рыцари; позже он собрал труппу актеров и этим оставил свое имя в истории.
Следующий сэр Джон Байрон, верный, хотя и не очень удачливый командующий войсками Карла I, 24 октября 1643 года стал бароном Байроном Рочдейльским в графстве Ланкастер. Этот лорд Байрон потерял большую часть своего состояния в гражданской войне и последовал в ссылку за Карлом II. В награду за усердную службу король сделал его рогоносцем, поскольку Пепис пишет, что вторая жена лорда Элеонора была семнадцатой любовницей Карла II. Его старший брат Ричард унаследовал титул и выкупил аббатство, конфискованное парламентом.
Уильям, пятый лорд, поступил служить на флот, но потом вышел в отставку и вернулся в Ньюстед, где приобрел скандальную славу благодаря своему весьма неординарному образу жизни. В Лондоне он успел заслужить репутацию повесы. В Ньюстеде он построил небольшой замок на берегу одного из озер, который, по слухам, стал местом, где происходили небывалые вакханалии. Он также построил две укрепленные крепости на берегах озера и устраивал между ними бутафорские бои на маленьких военных кораблях. Его прозвали «Жестокий лорд Байрон» после того, как он убил своего родственника и соседа Уильяма Чаворта на дуэли в лондонском клубе в 1765 году после пьяной ссоры; предметом спора был вопрос: как лучше всего сохранять дичь? Уильям был оправдан пэрами в палате лордов и вернулся в аббатство. В порыве мрачной мизантропии после побега его сына с бедной кузиной старый лорд вырубил в лесах поместья все древние дубы и убил двести семьдесят оленей, туши которых потом продал на рынке.
Брат «Жестокого лорда» Байрона Джон, дед поэта, был не менее колоритной фигурой, хотя и отличался относительной мягкостью нрава. В 1740 году, в возрасте семнадцати лет, он поступил на флот гардемарином. Кораблекрушение, голод и тяготы, подстерегавшие его во время путешествия по Южным морям, были описаны им в «Повествовании», опубликованном в 1768 году. В 1748 году он женился на своей кузине Софии Треваньон, давней близкой подруге миссис Трейл и любимице доктора Сэмуэля Джонсона. До того как Байрону даровали титул вице-адмирала в 1778 году, он повидал так много штормов, что его прозвали «Джек Дурная Погода». Его многочисленные любовные приключения давали богатую пищу для пикантных историй на страницах бульварных газет. Но еще до смерти старого адмирала в 1786 году его старший сын («Безумный Джек») настолько превзошел своего отца по части амурных похождений, скандалов и расточительности, что бывший моряк лишил его наследства.
Отец поэта, родившийся в Плимуте 7 февраля 1756 года, посещал Вестминстерскую школу и французскую военную академию, где изучил язык и вошел во вкус «приятного времяпровождения и мотовства», став притчей во языцех. Некоторое время он служил в британской армии в Америке по назначению гвардии. Но к 1778 году он, по-видимому, отказался от чина капитан-лейтенанта и вернулся в Лондон, чтобы вести жизнь светского человека. В том же году красивый капитан сбежал с утонченной изящной леди Кармартен, женой мистера Фрэнесиса, маркиза, а впоследствии пятого герцога Лидса. Она была единственной дочерью покойного графа Холдернесса, который оставил ей поместье, приносящее 4000 фунтов в год, очень соблазнительный доход, поскольку доходы капитана, а также терпение его семьи порядком истощились. После того как леди Кармартен развелась с маркизом, они поженились и уехали во Францию, чтобы избежать скандала и встреч с кредиторами капитана.
Вполне вероятно, что бесшабашный Байрон был по-своему верен богатой наследнице, потому что они прожили во Франции до самой ее смерти 26 января 1784 года. Она родила ему троих детей, двое из которых умерли в младенчестве, а выжила только последняя дочь, Августа, единокровная сестра поэта, которая родилась в 1783 году. Позднее поэт так ответил на обвинение, предъявленное его отцу, в том, что «бессердечное поведение» последнего причинило его жене много горя и свело ее в могилу: «Помимо своей бессердечности, он, согласно свидетельствам тех, кто знал его, отличался еще добродушием и веселым нравом, однако был беспечен и развращен… Отнюдь не из-за своего «бессердечия» молодой офицер гвардии соблазнил и увез маркизу, женился на двух наследницах. Верно и то, что он был очень красивым мужчиной, что говорит само за себя».
Очень скоро капитан Байрон достаточно оправился от своей потери и влез в бесчисленные долги, чтобы покинуть беспечный и веселый Париж в поисках очередной богатой наследницы. Зная, что зажиточные дома Бата представляют собой благодатные охотничьи угодья для поисков знатной невесты, он весной 1785 года появился в этом городе, блистая утонченными французскими манерами и безукоризненным произношением. Он повстречал и вскоре вскружил голову Кэтрин Гордон оф Гайт. Хотя ее состояние более чем в 23 000 фунтов, «удвоенное в устах сплетников», было не самым большим на брачном рынке Бата, но зато оно явилось самым доступным для пресыщенного обходительного капитана. Кэтрин Гордон была неопытной двадцатилетней шотландкой. Молодая, но довольно простоватая и неотесанная неуклюжая провинциалка с сильным шотландским акцентом. Великолепный танцор капитан Байрон вскружил бедной девушке голову и 13 мая 1785 года во второй раз сочетался браком с наследницей.
Род семьи Гордон, принадлежностью к которому так гордилась Кэтрин, брал свое начало в 1490 году, когда сэр Уильям Гордон продал своему старшему брату земли в Абойне в обмен на поместье Гайт в долине реки Итан в тридцати милях к северу от Абердина. Сэр Уильям был третьим сыном Джорджа, второго графа Хантли, от его второй супруги принцессы Аннабеллы Стюарт, дочери Якова I, правителя Шотландии.
Гордоны-Гайты прославились среди всех шотландских землевладельцев дерзким нравом, неприятием закона и порядка. Войны между шотландцами и англичанами дали Гордонам шанс заняться масштабными набегами и грабежами. Подобно Байронам в Англии, они были роялистами и совмещали политику с нарушениями закона. К началу XVIII века избрание более-менее постоянного правительства, охладившего горячую кровь кланов, постепенно превратило Гордонов из Гайта в более допропорядочных граждан.
Одиннадцатый землевладелец стал отцом четырнадцати детей, прежде чем утонул в реке Итан в 1760 году при обстоятельствах, весьма напоминающих самоубийство. Двенадцатый законный наследник поместья, Джордж Гордон, воспитал трех дочерей, но из них на свете осталась одна Кэтрин после смерти отца в 1779 году, который оставил ей приличное состояние, древний замок и причудливое сочетание в ее характере наследственных черт.
Невеста капитана Байрона не могла предложить взамен ничего, что бы сгладило ее простоватую внешность и заметно раскачивающуюся походку. Она была воспитана бабушкой Маргарет Дафф-Гордон, весьма набожной, но невежественной старухой. Кэтрин обожала сплетни и была подвержена приступам меланхолии, за которыми следовали взрывы бурной страсти, выплескивающиеся наружу в виде отборных эпитетов на ее родном шотландском диалекте. Сэр Вальтер Скотт вспоминал, как однажды, еще до замужества, Кэтрин Гордон в эдинбургском театре начала истерически хохотать при виде игры миссис Сиддонс в «Роковом браке», «ужасая зрителей отчаянными и дикими криками «О мой Байрон!» в подражание героине миссис Сиддонс Изабелле. Примечательно, что тогда эта леди еще не встречалась с капитаном Байроном».
Хотя письма миссис Байрон часто были открытыми и смелыми, когда предмет разговора ее особенно волновал, стилистика и грамматика выдавали вопиющую безграмотность. И несмотря на это, она жадно читала, обладала острым критическим умом, порой осуждая стихи своего сына, и либеральными взглядами.
Неизвестно, где Байроны провели свой «слащавый месяц», как назвал их сын первые дни «рокового брака». Вне всякого сомнения, он финансировался наследницей и прошел вдали от кредиторов капитана. Но к июлю 1785 года они вернулись в Шотландию и устроились в Гайте.
В середине лета Кэтрин начала побаиваться чрезмерной расточительности капитана, но не могла удержать его, и он продолжал проматывать состояние Гордонов. Почти год они жили в древнем полуразрушенном замке. Среди соседей Джонни Байрон приобрел репутацию повесы, о которых так часто поется в старинных народных балладах.
Летом 1786 года капитан Байрон промотал и наследственные земли. 3000 фунтов наличными – свадебное приданое Кэтрин – были потрачены, а другая часть ее собственности была продана почти задаром. Через год понадобилось 8000 фунтов на закладную на поместье. После тщетных попыток выжать хоть какие-нибудь деньги из поместья отца Байрона, адмирала, умершего в апреле, семья на время переехала в Гемпшир, где кредиторы были не так назойливы, как в Лондоне.
Положение миссис Байрон было ужасным. Находясь во власти чар своего обаятельного супруга, она обратилась к своей родственнице мисс Аркхарт, умоляя ее добиться от людей, решавших судьбу Гайта, выплаты 10 000 фунтов, но так, чтобы «не во власти мистера Байрона было их потратить и чтобы не в моей власти было уступить ему… Я бы не хотела, чтобы здесь фигурировало мое имя, и сам мистер Байрон не должен знать, что я писала или говорила с кем-нибудь на эту тему, потому что он меня никогда не простит». Но когда наконец на следующий год поместье было продано, по меньшей мере половина вырученной суммы, составлявшей 17 850 фунтов, была потрачена на оплату самых неотложных долгов капитана.
В сентябре 1787 года капитан Байрон сбежал во Францию, а его жена, ожидавшая ребенка, вскоре последовала за ним. У Байрона не было ни су, и он был рад получить из Шотландии денежный перевод. Короткое пребывание миссис Байрон во Франции было не очень-то счастливым. Пока ее супруг, отменно владевший французским, был принят в лучших домах, она не могла никуда выйти, поскольку совершенно не знала языка. Дочь капитана и маркизы, четырехлетнюю Августу, перевезли от сестры капитана в дом Кэтрин. Беременная женщина выхаживала серьезно болевшую девочку и по-прежнему была верна Джонни Байрону, который погубил ее. Когда наступило время родов, миссис Байрон в сопровождении Августы вернулась в Англию. Девочка стала жить у своей бабушки, леди Холдернесс. Миссис Байрон ненадолго остановилась в Дувре, а потом одна направилась в Лондон в поисках жилья для себя и будущего ребенка.
Постоянно борясь с жестокой нуждой, миссис Байрон сняла меблированные комнаты на первом этаже дома по Холлс-стрит, 16 – престижное, но недорогое жилье в переулке между Оксфорд-стрит и Кавендиш-сквер. По ее просьбе ей выдавали содержание небольшими порциями. 2 января она написала агенту в Эдинбурге: «Мне много не нужно, но если сумма окажется большой, то, как и прежде, будет растрачена очень быстро».
Капитан вернулся в Англию в начале января, не столько горя желанием присутствовать при рождении ребенка, сколько из-за того, что маленькое содержание миссис Байрон оставалось единственным доступным ему источником дохода. Следующие несколько месяцев он играл в прятки с кредиторами, по воскресеньям осмеливаясь показаться в Лондоне, чтобы вытянуть из несчастной супруги денег, потому что, согласно английским законам, должник в этот день был неприкосновенен. Мало вероятно, чтобы кредиторы знали о рождении во вторник, 22 января 1788 года, его сына.
Первый и единственный ребенок миссис Байрон появился на свет с физическим недостатком, который всю жизнь причинял ему много телесных и душевных страданий и, по-видимому, оказал большее влияние на формирование его характера, чем принято думать. Ребенок родился с деформированной правой ногой. Несмотря на ожесточенные споры по поводу характера этого недостатка, родители и врачи свидетельствуют, что у него на самом деле была искривленная стопа: пятка изогнута вверх, а подошва повернута вовнутрь. Джон Хантер, известный анатом и хирург, специализировавшийся на разрывах ахиллова сухожилия, был приглашен в дом Байронов и посоветовал специальную обувь, которая, по его мнению, позволит мальчику передвигаться без усилий, хотя и не внушает надежду на полное исцеление.
29 февраля миссис Байрон отнесла сына в ближайшую приходскую церковь Мэрилбоун, где его окрестили. Отца ребенка не смогли найти, и она дала сыну имя своего отца, Джордж Гордон. Несчастную женщину постоянно преследовали финансовые проблемы. Ее супруг задолжал 1300 фунтов и, «расплачиваясь по старым долгам, только приобретал новые».
Наконец в марте было подписано соглашение, согласно которому 4222 фунта оставшегося капитала миссис Байрон защищались от дальнейших посягательств кредиторов. Из этой суммы 3000 фунтов переходили в распоряжение опекунов с выделением 5 процентов для миссис Байрон, а оставшиеся 1222 фунта были вложены в поместье с ежегодными процентами 55 фунтов 11 шиллингов. Поместье перешло в пожизненную аренду к бабушке миссис Байрон, Дафф. Летом 1789 года миссис Байрон уехала из Лондона в Абердин, где они с ребенком могли безбедно жить на 150 фунтов, выплачиваемых ей по соглашению.
Вскоре после этого преследуемый кредиторами капитан Байрон снова бежал в Шотландию и в августе переехал в маленькую квартирку, которую снимала его жена на Куин-стрит. В этой тесной квартире и жили Байроны вместе с Агнес Грей, набожной служанкой пресвитерианской веры, которая ухаживала за хромым ребенком. В семье были натянутые, холодные отношения. Капитан уже не являлся хозяином поместья Гайт, где можно было скоротать промозглую шотландскую зиму под пение волынок до полуночи и за стаканом пунша. Самый дружелюбный и бесшабашный человек стал озлобленным и раздраженным. Наконец он успокоился тем, что снял квартиру на другом конце Куин-стрит, иногда заходил к жене и вполне мирно пил с ней чай. Хотя миссис Байрон могла прийти в бешенство, стоило ему лишь заикнуться о деньгах, она порой начинала изображать смехотворные приступы любви к своему Джонни. Такими же вспышками гнева и демонстративной любви впоследствии отличалось ее отношение к сыну, который унаследовал характер своей матери. Когда однажды она отругала его за испачканный костюм, который он только что надел, минуту он молча стоял бледный от бешенства, а потом разорвал одежду на куски.
Часто капитан испытывал родственные чувства к своей сестре, миссис Ли, особенно когда мог получить от нее чек. Если он уезжал, миссис Байрон тосковала. Она находила отдушину в смешанном чувстве ненависти и любви к сыну, который напоминал ей мужа. Поэт вспоминал: «Моя мать, рассердившись на меня (и надо признаться, я давал ей для этого немало поводов), говорила: «Ах ты, щенок, ты настоящий Байрон, такой же дурной, как твой отец!» Но уже в следующее мгновение она покрывала его поцелуями.
Содержание миссис Байрон уменьшилось до 135 фунтов, потому что пришлось заплатить 300 фунтов – долг, который успел сделать ее супруг, находясь в Шотландии. И по-видимому, он вернулся туда еще в сентябре 1790 года, чтобы вытянуть очередную сотню фунтов из суммы, идущей от оплаты аренды поместья бабушкой миссис Байрон. Эти деньги были ему необходимы для возвращения во Францию. После этого его видели в Валансьене, в доме сестры, когда он волочился за служанками и актрисами. Жена и сын больше не увидели его.
Письма капитана Байрона к сестре похожи на те, что его ставший знаменитым сын впоследствии написал из Венеции, где вовсю развлекался на карнавале: «И в кого, ты думаешь, я влюблен? В новую актрису, приехавшую из Парижа. Наверное, я уже влюблялся в треть женского населения Валансьена, особенно меня очаровала девушка из «Красного орла», местного постоялого двора. Я как-то заглянул туда, потому что шел сильный дождь. Очень красивая и высокая, и мне все эти любовные дела еще не наскучили».
В отчаянии миссис Байрон настолько забыла гордость, что обратилась к миссис Ли с просьбой одолжить ей 40 фунтов, потому что ее имущество было описано кредиторами, «все из-за долгов, которые мне пришлось оплатить по вине его расточительности». По-видимому, миссис Ли была тронута этой жалобной просьбой, которая была прислана в конверте, запечатанном красным сургучом с девизом гордых Байронов. Но Джеку Байрону нужны были только деньги для удовлетворения своих прихотей. В письме к сестре 16 февраля 1791 года он высокомерно отзывался о своей супруге и лишь однажды упомянул о сыне: «Что касается миссис Байрон, я рад, что она пишет тебе. Когда находишься далеко от нее, она кажется приятной дамой, но я клянусь всеми апостолами, что ты не проживешь с ней и двух месяцев, потому что если кому и удалось притерпеться к ней, так это мне. Что до моего сына, я рад слышать, что он здоров. Но ходить он не может, потому что нога его искривлена».
Летом Джек Байрон погрузился в трясину распутства и долгов. Трагедия, виновником которой стал он сам, подошла к концу 2 августа 1791 года. Возможно, это было самоубийство. Он оставил завещание, иронично назначая Джорджа Гордона «наследником моего личного недвижимого имущества, ответственным за оплату моих долгов и похорон».
Когда миссис Байрон получила весть о смерти мужа, даже на улице были слышны ее рыдания. Она написала миссис Ли: «Не верю, что когда-нибудь смогу справиться с горем; необходимость, а не намеренное желание разлучило нас, по крайней мере с моей стороны, и я лелею надежду, что так же чувствовал себя мой муж. Невзирая на его слабости, которые не заслуживают худшего имени, я всегда искренее любила его». Мальчику было три с половиной года, когда умер его отец. Позже он говорил Томасу Медвину: «Я прекрасно помню его, и с раннего детства у меня появился страх перед семейными узами от вида домашних ссор».
Миссис Байрон потребовалось все мужество, чтобы продолжать жить и воспитывать сына на жалкий доход, оставшийся после смерти мужа. Она всю себя отдала воспитаню своего больного ребенка. В письме к миссис Ли в Лондон она просила «помочь достать специальную обувь для Джорджа». Позднее она более подробно поведала о физическом недостатке сына: «Правая нога Джорджа повернута вовнутрь, так что он при ходьбе опирается на ребро ступни».
Мальчик с самого раннего детства очень болензненно относился к своей хромоте, возможно, потому, что часто мать в раздражении напоминала ему об этом, так же как и окружающие. Чужая няня, встретившая мальчика с Агнес Грей на прогулке, заметила: «Какой красивый ребенок! Жаль, что у него такая нога». Глаза Байрона вспыхнули от гнева, он ударил ее своим маленьким хлыстиком и крикнул: «Не смей так говорить!»
Миссис Байрон оказалась в состоянии обставить квартиру на первом этаже дома по Броуд-стрит, 64, в престижном районе в самом центре молодого города, и шла на любые жертвы, лишь бы ее сын ни в чем не нуждался, насколько этого позволяли их скудные средства. Крайне отрывочные и смутные сообщения о ранних годах жизни Байрона оставляют впечатление, что его мать била его каминными щипцами или разбивала о его голову тарелки. Однако эти семейные сцены больше свойственны бурной юности Байрона в Англии. В детстве Джордж был любящим сыном, хотя и отличался шаловливым, чувствительным и крайне мнительным нравом.
Необычному сочетанию аристократической гордости и либеральных воззрений Байрон обязан матери. Позднее он писал Джону Меррею: «Моя мать (с ее сатанинской гордостью по поводу восхождения рода Гордонов к Стюартам) постоянно подчеркивала превосходство Гордонов над англичанами Байронами». С другой стороны, она сочувствовала Французской революции. В 1792 году она написала миссис Ли: «Полагаю, что наши взгляды резко отличаются, потому что я разделяю воззрения демократов и не думаю, что следует возрождать монархию после всех предательств и клятвопреступлений, совершенных королем».
Сама обстановка, окружавшая Байрона в его ранние отроческие годы, проведенные в Абердине, обусловила его приверженность взглядам шотландцев среднего класса, с которыми он постоянно встречался на улицах, а потом и в школе. Миссис Байрон ощущала себя бедной родственницей, хотя и была связана кровными узами с лучшими семьями в северных графствах.
В первой школе, где учился Байрон, не было ничего аристократического. На узкой улочке, известной под названием Лонг-Эйке, неподалеку от их дома на Броуд-стрит, мистер Джон Боуэрс держал смешанную школу для среднего класса, расположенную в мрачном, похожем на склад доме с плохо освещенными комнатами, низким потолком и пыльным полом. Именно здесь маленький мальчик в красной курточке и нанковых брюках провел бесцельно весь год с щеголем Боуэрсом. Вспоминая об Абердине, Байрон напишет: «Я ничему не научился в этой школе, кроме как повторять односложные высказывания, вроде «Бог создал человека, возлюбим же его», узнавая их на слух и не имея понятия о буквах». В течение следующего года под руководством более опытного преподавателя он научился читать и начал изучать латынь по «Грамматике» Раддимана.
В 1794 году, когда Байрону было шесть лет, произошло событие, которое в корне изменило всю его дальнейшую жизнь. Внук «Жестокого лорда» Байрона был убит на Корсике пушечным ядром, и Джордж Гордон стал наследником титула и земель своих предков. Миссис Байрон опять стала гордо поглядывать на окружающих и более уверенно наносить визиты своим влиятельным родственникам.
Позже маленький Джордж посещал Абердинскую среднюю школу в Скулхилле, неподалеку от Броуд-стрит. Низкое одноэтажное серое каменное здание, вмещавшее 150 мальчиков, было построено в 1757 году. Единственным предметом, изучавшимся в школе, была латынь, которую преподносили традиционным методом, что делало все уроки смертельно скучной рутиной. Джордж Бэйрон Гордон (а именно в таком виде его имя было внесено в школьные списки, возможно, чтобы передать произношение абердинцев) не прилагал больших усилий для изучения латыни и оставался посредственным учеником, хотя в четвертом классе поднялся на пятое место по успеваемости среди двадцати семи учеников. Дополнительно он изучал правописание в школе мистера Дункана.
Байрон начал читать до того, как пошел в среднюю школу. Он вспоминал: «Ноллс, Кантемир, Де Тотт, леди М.В. Монтагю, переводы Хокинсом «Турецкой истории» Минье, «Арабские сказки», путешествия, книги по истории Востока, которые только можно найти, а также Рико были прочитаны мною тогда, когда мне не исполнилось еще и десяти лет». «Турецкая история» Ноллса, по его словам, «была одной из первых книг, из всех прочитанных мною в детстве, которая доставила мне истинное наслаждение, и, наверное, оказала влияние на мое последующее желание увидеть Восток и придала восточный колорит моей поэзии». Наравне с книгами по восточной истории, пишет Байрон, «я предпочитал историю морского флота, «Дон Кихота» и романы Смолетта, особенно же Родерика Рэндома, а также питал особенное пристрастие к римской истории. В детстве я не мог читать стихи, не испытывая при этом неохоты и отвращения».
Однако под чутким руководством своей няни Агнес Грей Байрон узнал и полюбил поэзию библейских псалмов. С ней же, а потом с ее сестрой Мэй он целиком прочитал некоторые книги Библии. «Я не устаю восхищаться этими священными книгами, – писал он впоследствии Джону Меррею, – и до того, как мне исполнилось восемь лет, успел прочитать их от корки до корки, в особенности Ветхий Завет, который я прочитал с удовольствием. Новый Завет оказался для меня сложен».
История Каина и Авеля рано завладела его воображением. В возрасте восьми лет он с восторгом читал «Смерть Авеля» Гесснера. Странная мысль, что он рожден для зла, еще более окрепла после прочтения готического романа Джона Мура «Зелуко», чей герой-злодей, ненавидевший все человечество, по велению Рока совершал злодеяния помимо своей воли.
Несомненно, Байрону удалось преодолеть излишнюю чувствительность по поводу своего физического недостатка, потому что он не только часто упоминал о своей хромоте, но и начал принимать участие в играх и бегать. Бравируя этим недостатком и желая подчеркнуть свою схожесть с другим мальчиком, страдавшим от подобного недуга, он говорил: «Посмотрите-ка, по Броуд-стрит ковыляют два косолапых мальчика».
Когда Байрон научился на равных общаться со своими одноклассниками, мать начала постоянно твердить ему о его превосходстве не только в качестве потомка Гордонов, но и как наследника пэров Байронов. Когда кто-то из гостей, желая польстить, сказал, что в будущем надеется читать речи Байрона в палате общин, мальчик гордо ответил: «Нет, если вы и будете читать мои речи, то это будут речи в палате лордов».
Сохранилось свидетельство о по крайней мере одном визите к прабабушке Байрона, Маргарет Дафф Гордон, в Банфе, вероятно во время летних каникул 1795 года, когда миссис Байрон заказала портрет сына художнику Джону Кею из Эдинбурга. В скромном ангельском личике семилетнего ребенка с вьющимися волосами до плеч, изображенного с луком и стрелами, невозможно распознать избалованного и проказливого мальчика.
Возможно, в том же году Байрон впервые встретил свою кузину Мэри Дафф. Годы спустя он напишет в своем дневнике: «Я помню все, что мы сказали друг другу, все наши проявления нежности, ее лицо, свое беспокойство, бессонные ночи, помню, как изводил служанку матери, чтобы она написала Мэри письмо от моего имени… Естественно, тогда я не имел никакого представления об интимных отношениях, и все же мои страдания и любовь к этой девочке были настолько сильны, что порой я начинаю сомневаться, был ли я настолько к кому-нибудь привязан в зрелые годы…»
В 1795-м или 1796 году Байрон провел каникулы в долине реки Ди в сорока милях от Абердина, рядом с Брэмаром. Живописная долина Ди располагала к прогулкам, а вдалеке открывался вид на Морвен и Локна-Гар. Именно там Байрон влюбился в шотландские горы и долины. Он носил национальный наряд клана Гордонов из темно-синей шерстяной ткани в светло-зеленую с желтым клетку. Если не считать одной вспышки гнева, мать относилась к Байрону хорошо и не стесняла его свободы. У него была возможность упражняться в плавании в реках Ди и Дон. Впоследствии плавание, где хромота не была помехой, стало его любимым видом спорта.
Из Англии пришло известие, что пятый лорд Байрон скончался. Произошло это вскоре после десятого дня рождения мальчика. На следующий день ему сообщили, что теперь он шестой лорд Байрон Рочдейльский, после чего он спросил у матери, «заметила ли она происшедшие с ним перемены, потому что он сам не заметил никаких». Смущение он испытал в школе, когда директор прислал за ним, дал ему пирог и вино и сказал, что теперь он лорд. Позже Байрон рассказывал своему другу Хобхаусу, что «угощение и почтительное обращение к нему директора дали ему почувствовать всю высоту его теперешнего положения». Когда в классе без предупреждения произносили его новый титул «Dominus de Вуron» и все в молчании глядели на него, мальчик разражался слезами.
Лондонский агент миссис Байрон, мистер Фаркухар, попросил своего друга Джона Хэнсона с Чэнсери-Лейн заняться ее делами. После переговоров с душеприказчиком старого лорда Хэнсон понял, что миссис Байрон напрасно надеется получать от поместья ежегодный доход в 2000 фунтов: после уплаты всех долгов не на что будет даже похоронить старого лорда. Он умер 21 мая, но только в августе Байроны смогли закончить все дела в Шотландии и начать новую жизнь в Англии. Они смогли переехать туда только благодаря тому, что миссис Байрон продала свою мебель, выручив 74 фунта 17 шиллингов.
Несмотря на романтические воспоминания Байрона о Шотландии, невозможно узнать, какие чувства испытывал юный лорд, покидая родину. В 1813 году он записал в дневнике: «Я совсем не отличался от других детей: был не высок и не мал ростом, не скучен и не остроумен, был даже довольно жизнерадостным, и, только когда накатывала тоска, я становился сущим дьяволом». И все же в нем были и мягкость, и застенчивость, и искреннее желание приносить радость другим и быть любимым. Он мог быть прекрасным спутником, несмотря на то что был испорченным ребенком. Позднее он с ностальгическим чувством вспоминал счастливые годы детства в Шотландии. Он писал, что при звуке слов из песни «Auld Lang Syne»:
В Шотландии родился я и рос,
И потому растроган я до слез… —
вся Шотландия вставала перед его глазами.
В четырех милях к югу от Мэнсфилда, на опушке Шервудского леса, в 130 милях от Лондона, на Большой северной дороге однажды произошло следующее: дилижанс из Абердина с тремя пассажирами остановился у Ньюстедской заставы. Миссис Байрон, испытывая удовольствие от наблюдаемого, спросила, что за знатный господин жил в этом поместье. «Покойный лорд Байрон», – ответила женщина у ворот. «А кто наследник?» – гордо спросила мать. «Говорят, маленький мальчик, который живет в Абердине». Мэй Грей, служанка миссис Байрон, воскликнула: «Это он, да благословит его Господь!» – и поцеловала смущенного маленького лорда. Они проехали две мили по дороге, окаймленной унылыми пнями когда-то величественных дубов, рядами пустых ферм, пока перед ними не возникли серые стены старого аббатства на берегу озера. Развалины готической церкви придавали романтический ореол мощной крепости.
Обойдя фонтан, перенесенный родоначальниками Байронов из монастырского двора и помещенный перед входом в замок, молодой лорд и его мать были встречены мистером и миссис Джон Хэнсон, лондонским агентом миссис Байрон и его супругой. Глядя на парк и просторные, но угрюмые залы, они еще больше укрепились в желании поселиться здесь. Но адвокат пытался отговорить их под тем предлогом, что в задней части здания просела крыша, а большая монашеская гостиная и величественная трапезная были набиты сеном для скота, который нашел приют в холле.
Кредиторы старого лорда захватили все имущество, включая почти всю мебель. 3200 акров большого поместья были достаточно плотно заняты, но общий доход от аренды, не превышающий 850 фунтов в год, уходил на оплату долгов. Было ясно: чтобы отремонтировать замок и заброшенные сельскохозяйственные постройки, сделать опись собственности и установить новую арендную плату, развязать юридические путы, затянутые вокруг поместья при жизни пятого барона, потребуются траты, превышающие большую часть всех доходов, по меньшей мере в течение первого года.
Но в конце августа в парке было так красиво… Поверхность обоих озер блистала на солнце, а причудливый замок и крепости являлись неиссякаемым источником очарования для десятилетнего мальчика. После тесной квартиры в Абердине вольно раскинувшиеся монастырские развалины притягивали в равной степени и его мать с ее романтичной натурой. Они без особой охоты переехали в Ноттингем, где их уже ждали родственники.
Однако, несмотря на это, мечты мальчика сбылись. Было решено, что миссис Байрон станет жить в Ньюстеде, по меньшей мере пока не уладятся все дела, сделан ремонт и найден подходящий арендатор для поместья. Хэнсон отдал семье мебель, которую можно было найти в полуразрушенном аббатстве, и в последующие дни часто навещал своих подопечных. Он представил мальчика семейству Кларков, которые жили на Анслейских холмах. У миссис Кларк была маленькая дочка от первого брака с мистером Чавортом, потомком того самого человека, что был убит «Жестоким лордом» Байроном во время нашумевшей дуэли. Мэри Чаворт была на два года старше Байрона, к тому же его сердце по-прежнему оставалось в Шотландии с Мэри Дафф. Хэнсон как-то сказал в шутку: «Вот на этой прелестной юной леди ты можешь жениться». – «Что, мистер Хэнсон? – ответил Байрон. – Как могут жениться Монтекки и Капулетти?»
Вскоре юный лорд обосновался в этом сельском поместье. Он гордился гербом Байронов с русалкой и гнедыми конями, увенчивающими древний девиз: «Верь Байрону». Он щедрой рукой одаривал своих родственников в Ноттингеме. 8 ноября он обратился к своей тетке миссис Паркер, дочери адмирала, с сообщением, что «картофель уже созрел, и вы в любое время можете приехать, чтобы отведать его». А миссис Паркинс, подруге тетки, он отправил в дар кролика.
В следующем году он жил с семьей Паркинс в Ноттингеме, где за его здоровьем наблюдал Лавендер, врач, называвший себя хирургом, который пытался выпрямить изуродованную ногу мальчика, натирая ее маслом и засовывая ее в специальную колодку, причинявшую пациенту страшную боль. Матери Байрона он написал письмо, из которого ясно видно, насколько серьезно относился врач к своим обязанностям по отношению к молодому лорду. Он предложил, чтобы мистер Роджерс, домашний учитель молодых мисс Паркинс, каждый вечер приходил к Байрону. «…Если вы не одобрите мой план, то можете повесить на меня клеймо болвана, чего я не в силах буду вынести». Даммер Роджерс занимался обучением молодого лорда несколько месяцев, познакомив его с трудами Вергилия и Цицерона.
На каникулах и в свободное время Байрон приезжал в Ньюстед, чтобы играть роль важного вельможи. Пистолеты пятого лорда Байрона завораживали его. Мальчик подражал своему предку, обучаясь стрельбе (привычка, которой он не изменял всю жизнь), и постоянно носил в карманах пальто заряженное оружие.
Хэнсон убедил родственника Байрона, графа Карлайла, стать опекуном мальчика. Во время следующего визита в поместье летом 1799 года адвокат понял, что необходимо разлучить избалованного, но многообещающего ребенка с матерью и поместить его в среду, сочетающую доброжелательность с дисциплиной, где он сможет получить более последовательное образование. Было очевидно, что Лавендер просто-напросто мучил ребенка без всякой пользы. Важнее всего было отправить его в Лондон, где его ногу бы осмотрели профессиональные хирурги. Когда адвокат покинул поместье в начале июля, Байрон уехал с ним. В Лондон взяли и Мэй Грей, чтобы она следила за регулярным бинтованием ноги ребенка.
Байрон впервые увидел Лондон, если не считать воспоминаний младенчества, 12 июля, когда экипаж проехал через Старый Бромптон к дому Хэнсонов на Эрл-Корт в Кенсингтоне. На следующий день Хэнсон встретился с лордом Карлайлом и доктором Джеймсом Бэйли по поводу ноги Байрона. Бэйли произвел тщательный осмотр и рекомендовал им мистера Шелдрейка, который занимался изготовлением специальных приспособлений для выправления деформированных конечностей, однако впоследствии они отказались от его услуг, изготовив взамен специальный ботинок.
Хэнсон знал, что миссис Байрон понадобится помощь, чтобы дать сыну подобающее образование, и они совместно составили петицию королю, которую должен был поддержать лорд Карлайл. 24 августа 1799 года герцог Портленд ответил, что мистер Питт получил указание выделить семье Байрон ежегодное содержание в сумме 300 фунтов из цивильного листа. Хэнсон также устроил, чтобы Байрон начал учиться в маленькой школе в Далвике, которой руководил шотландец, доктор Гленни.
Мэй Грей отправили в Ньюстед, и Хэнсон просил миссис Байрон уволить девушку. Он сказал, что в Ноттингеме она «постоянно била его (Байрона), так что у него иногда болело все тело, и приводила в дом различных знакомых самого гнусного происхождения и вида». Однако Хэнсон кое-что утаил. После смерти Байрона он говорил Хобхаусу: «Когда Байрону было девять лет, в доме матери девушка-шотландка приходила к нему в постель и проделывала с ним различные вещи». Сам Байрон, очевидно, вспоминал именно об этом периоде своего детства, когда в 1821 году в «Отдельных воспоминаниях» писал: «Страсти во мне проснулись очень рано, так рано, что мне никто не поверит, если я скажу и опишу все подробности». Если в то время Байрону было девять лет, то, по-видимому, все началось в Шотландии и продолжалось некоторое время, пока он не рассказал Хэнсону. Вероятно, Мэй Грей нанесла ему не физическую, а психологическую травму. Разочарование, постигшее его, когда он увидел, как она раздает свои ласки другим после их близости, могло вызвать приступ ревности, побудивший мальчика все рассказать Хэнсону. Это приключение с якобы набожной девушкой, которая научила его читать Библию, могло стать дополнительной травмой и отчасти вызвать его постоянную ненависть, направленнную против лицемерия и ханжества верующих.
Дисциплина в Далвике была не слишком строгой. Байрон нашел хороших друзей и спал в кабинете самого мистера Гленни, где получил доступ к его библиотеке. Однако он намного отставал от других мальчиков в знании латинской грамматики, без чего невозможно было обучение в английской школе. Все рождественские каникулы он проводил с детьми Хэнсона на Эрл-Корт. Он полюбил этот дом, где его любили и восхищались им и стар и млад. Хэнсон с женой отправились в аббатство, и миссис Байрон приехала с ними в Лондон, где сняла квартиру на Слоун-Террас. Вскоре она стала так докучать лорду Карлайлу, что он отказался иметь с ней дело. Ее неотесанность и буйный нрав привели к тому, что ее нахождение в Лондоне стало настоящим наказанием для сына и обузой для лорда Карлайла, доктора Гленни и Хэнсона.
Возможно, Байрон сопровождал мать в Ноттингем и Ньюстед летом 1800 года, поскольку именно тогда он «впервые погрузился в поэзию» под воздействием «бурной страсти к кузине Маргарет Паркер[1], самому красивому и хрупкому из всех живых существ. Эта любовь имела обычные последствия: я не мог спать, не мог есть, не мог спокойно отдыхать, и, хотя я знал, что она тоже любит меня, мне было мучительно думать о нашей разлуке…».
Странно, как мало значения придавалось признанию Байрона о том, что он начал испытывать страсти очень рано и что это «привело к постоянным грустным мыслям и в какой-то степени предопределило мою жизнь». Его отношения с женщинами, которых в то время олицетворяли для него Мэри Дафф и Маргарет Паркер, натолкнули его на «погружение в поэзию» и превратились в символ идеальной прекрасной и неразделенной любви, той, что обычно возникает в юности, но в случае с Байроном возникла в возрасте восьми – двенадцати лет. У этой любви в течение всей жизни было множество воплощений в лице как женщин, так и мужчин. Слишком ранний сексуальный опыт вызвал разочарование, меланхолию, появившуюся из-за физического отвращения и неудачных попыток совместить идеал и действительность. Разочарование поощряло постоянную влюбленность в разных мальчиков и девочек, отвращение подтолкнуло к циничному поиску «красивых животных», например жены булочника в Венеции.
В Далвике Байрон не мог сосредоточиться на учебе, и, несмотря на это, его мать, очевидно потакая его капризам, на длительное время оставляла его дома. Когда она разошлась во взглядах по этому поводу с доктором Гленни, с ней случился такой приступ бешенства, что его услышали все ученики и слуги. Один из одноклассников сказал: «Байрон, твоя мать сумасшедшая», на что мальчик смущенно ответил: «Знаю».
Хэнсон понял, что остается единственный выход – попытаться пристроить мальчика в частную школу, и с лордом Карлайлом побеседовал с доктором Джозефом Друри, директором Хэрроу. Хэнсон признал, что мальчик не готов к частной школе, но что «у него есть все задатки хорошего ученика». В конце апреля 1801 года Хэнсон отвез своего протеже в Хэрроу и представил его доктору Друри. Он произвел неожиданное впечатление. Красивый, с тонкими чертами лица и нежными серо-голубыми глазами, вьющимися золотисто-каштановыми волосами и маленькими ушами, он показался доктору надменным и сдержанным, к тому же трогательно стремящимся к независимости суждений. Однако доктор Друри, который хорошо знал детей, распознал под маской застенчивости отзывчивость на доброту при условии надлежащего воспитания. Позже он сказал: «Вскоре я понял, что дикий горный жеребенок восприимчив к моему руководству. В глазах у него была мысль… Однако лучше будет вести его к намеченной цели шелковым поводом, а не кнутом».
Так несколько месяцев спустя после своего тринадцатилетия Байрон погрузился в беспокойную жизнь частной школы. Вскоре он обнаружил, что только физическая сила сможет защитить его от звериной жестокости, с которой относятся к любому уродству в этой среде. К тому же он находился в переходном подростковом возрасте, чреватом физическими и эмоциональными изменениями. Своевольный и способный приходить в ярость, в глубине души он был мягким, почти женственным, особенно с теми, к кому привязывался, без сомнения щедрым и полным юношеских мечтаний и идеалов. Последующие четыре года суровых испытаний в Хэрроу только усилили эти черты.
В начале XIX века Хэрроу-он-де-Хилл была милой деревушкой в одиннадцати милях к северо-западу от Лондона. На вершине холма стояла известная школа, основанная в 1571 году Джоном Лайоном. Подобно Итону, она славилась богатой историей и соперничала со знаменитым учебным заведением для аристократов. На удивление много молодых лордов и отпрысков графов и герцогов обучались в Хэрроу в одно время с Байроном. Доктор Друри, которому в 1801 году было пятьдесят два года, проработал в школе больше тридцати лет и являлся директором с 1785 года. Он и другие наставники бесстрастно вдалбливали в головы лордов и простолюдинов, которые тоже обучались в школе, азы латыни и греческого.
Когда апрельским днем 1801 года Байрон вместе с Джоном Хэнсоном поднялся на холм, то увидел высокое, довольно неуклюжее строение с маленькими окнами и заостренными фронтонами. От церковного двора и храма Святой Марии XIV века с высоким шпилем школу отделяла стена. Застенчивый ребенок в специальном ботинке не почувствовал себя здесь лучше, увидев во дворе странных мальчиков в высоких широкополых черных шляпах, рубашках с отложным воротником, длинных плащах с фалдами и узких брюках.
Но Друри, предвидя смущение Байрона, если его поместить с младшими учениками, прикрепил к нему в качестве наставника своего сына Генри, чтобы подтянуть мальчика и впоследствии ввести его в класс с ребятами его возраста. Байрон жил в доме своего молодого наставника и не общался с другими учениками, поскольку «какое-то время застенчивость мешала ему сделать это».
Его первыми друзьями стали младшие мальчики и те, кто был слабее его. Эдвард Ноэль Лонг, который был самым близким другом Байрона в Хэрроу и Кембридже, прибыл в школу примерно в одно с ним время. 1 мая Лонг писал своему отцу: «Здесь есть лорд Байрам, хромой мальчик, который только что прибыл. Он кажется хорошим». Байрон также сошелся с Робертом Пилем, будущим государственным деятелем. «Пиль как ученик намного превосходил меня в знаниях, – вспоминал Байрон, – а как оратор и актер я был ему равен. Будучи отпущен из школы, я всегда попадал в неприятные ситуации, а он никогда; в школе он всегда знал урок, чего нельзя сказать обо мне, но если я знал его, то мог ответить почти так же хорошо».
У хромого и гордого мальчика неизбежно должны были начаться стычки со сверстниками. Насмешки над его уродством заставляли его бросаться в драку, хотя он об этом никогда не упоминал. Однако Ли Хант, очевидно опираясь на слова будущего поэта, говорил о хромоте Байрона, что «в Хэрроу он особенно остро ее ощущал из-за обычной бестактности учеников. Он мог проснуться и обнаружить, что его нога находится в тазу с водой». И все-таки в основном дрался он, чтобы защитить младших – Джорджа Синклера, Пиля, лорда Делавара и Уильяма Харнесса, который начал хромать в результате несчастного случая.
Первые месяцы в школе, когда приходилось защищать себя от нападок, были тяжелы для Байрона, и он возненавидел школу. Он называл себя ленивым, но «способным на внезапное усердие, которое, однако, длилось недолго». В конце июня доктор Друри перевел его в четвертый класс вместе с Пилем и Лонгом.
Летние каникулы принесли долгожданное облегчение. Миссис Байрон оставила квартиру на Слоун-Террас и сняла вместе с миссис Массингберд комнаты на улице Пикадилли, 16. Сын время от времени навещал ее, но большую часть времени проводил с Хэнсонами. Врачи Бэйли и Лори изготовили для него специальный ботинок с креплением вокруг лодыжки и продолжали бинтовать мальчику ногу. Хэнсон убедил суд лорда-канцлера выделить 500 фунтов в год на образование Байрона, которые будут ежеквартально выплачиваться его матери, чье содержание уменьшилось с 300 до 200 фунтов. С увеличением расходов на образование сына и удовлетворение его потребностей финансовое положение его матери стало более затруднительным.
В Хэрроу Байрон не заботился о том, чтобы надевать специальный ботинок, и часто забывал сделать это. Он ни в чем не хотел отставать от других учеников. Он занимался всеми видами спорта и стал хорошим игроком в крикет. У него появилось много друзей. Он был обаятельным, щедрым с теми, кто ему нравился, и стремился понравиться всем. Все его прежние друзья были из простых семей. Однако среди его протеже и новых друзей встречались графы и герцоги. Позже он называл графа Клэра и герцога Дорсета «моими любимцами, которых я испортил излишней снисходительностью».
Рождественские каникулы Байрон провел с матерью, но часто появлялся у Хэнсонов. Возможно, в это время он встречался с единокровной сестрой Августой. Она была старше его на пять лет, и он прежде никогда ее не видел. Миссис Байрон написала ей, что «Байрон часто говорит про тебя самым лучшим образом».
После каникул Хэрроу уже не казался Байрону таким чужим. Юношеское стремление к стихотворчеству охватило молодого Байрона. Нежные чувства и грустные мысли, испытываемые им, нашли обильную пищу в церковном дворе Хэрроу, где он часами сидел под вязом на плоской могильной плите из синего известняка, под которой покоился прах Джона Пичи, эсквайра с острова Святого Кристофера. Именно там, на вершине холма, с которого открывался вид на долины и миддлсекские холмы, он предавался мечтаниям или думал о быстротечности человеческой жизни, имея в виду смерть своей прекрасной кузины Маргарет Паркер. Почему «смерть избрала ее своей жертвой»?
Каждодневные переводы с древних языков становились все более утомительными, «я ненавидел этот школьный ад, где мы латынь зубрили слово в слово. И то, что слушал столько лет назад, я не хочу теперь услышать снова, чтоб восхищаться тем, что в детстве так сурово». Байрон искал отдушину в шалостях, чем вызвал нарекания у Генри Друри. И наставник и ученик были рады каникулам. Байрон навестил мать, вернувшуюся в родной Бат. Надеясь вновь пережить радостное время своей юности, она взяла его на маскарад. Вероятно, под впечатлением книг о путешествиях, прочитанных им в Абердине, он нарядился в турецкий костюм. 19 января миссис Байрон была вынуждена написать Хэнсону: «Байрон решительно отказывается возвращаться в Хэрроу и опять становится учеником Генри Друри». Но в конце концов в феврале он согласился вернуться при условии, что его наставником будет мистер Эванс.
Дружба Байрона с графом Клэром, которому было тогда всего лишь одиннадцать лет, началась именно в тот год и длилась всю жизнь в ореоле романтического идеала. Байрон писал: «Моя дружба была очень страстной, но вряд ли я вспоминаю сейчас о ком-нибудь из друзей. Однако знакомство с лордом Клэром началось раньше и длилось дольше всего…»
23 июня 1803 года Байрон написал матери: «Сегодня меня перевели в старший класс, и мои отношения с доктором Друри наладились». Директор начал ценить характер Байрона. Он говорил лорду Карлайлу: «Он талантлив, ваше сиятельство, что прибавляет еще больше блеска его титулу». Ответ опекуна был краток: «Вы правы!»
Адвокату Хэнсону наконец удалось сдать Ньюстед в аренду на пять лет лорду Грею де Рютину, молодому двадцатитрехлетнему человеку, за 50 фунтов в год. Миссис Байрон переехала в дом под названием «Бергидж Мэнор» в Саутвелле недалеко от Ноттингема. Когда Байрон вернулся на летние каникулы, то увидел красивый трехэтажный деревянный дом с небольшим садом. Он располагался в сонном маленьком городке, где жило не больше трех тысяч человек, в конце главной улицы перед зеленой лужайкой. Здесь Байрону показалось скучно по сравнению с Лондоном и Хэрроу. Через несколько дней он отправился в Ньюстед, где поселился вместе со смотрителем Оуэном Мили.
Молодому лорду пришелся по душе Ансли-Холл, где жила его кузина Мэри Чаворт, ставшая к тому времени прелестной девушкой во всем обаянии юности. Иронический ум Байрона забавлял ее, а его явственное восхищение льстило девушке, которая, впрочем, была равнодушна к нему, поскольку была уже помолвлена с Джоном Мастерсом, молодым сквайром с элегантными манерами, увлекающимся охотой на лисиц.
Байрон каждый день приезжал к Мэри из Ньюстеда и вскоре безумно влюбился в нее. Ничем не компрометируя себя, Мэри вела себя дружелюбно и даже кокетливо. «Случайные» поцелуи и прикосновения идеализировались в мыслях влюбленного юноши, на чувственность которого уже оказывали влияние нежные и сентиментальные стихи Томаса Мура. «Когда мне было пятнадцать лет, – вспоминал Байрон, – я переплывал реку в лодке в скалистом месте под Дербиширом. В этой лодке могли уместиться только два человека. Течение несло лодку под скалы. В лодке со мной была М. Ч., в которую я был давно влюблен, но не говорил об этом, и все же она узнала сама».
В середине сентября он был настолько влюблен, что и слышать не хотел о возвращении в Хэрроу, несмотря на просьбы матери. Когда Хэнсон по просьбе Друри спросил о причине, то получил ответ от отчаявшейся миссис Байрон: «Я не могу заставить его вернуться в школу, хотя последние шесть недель сделала все, что в моих силах. У него нет других известных мне причин, только любовь, безумная любовь, худшая из всех болезней. Короче говоря, мальчик влюблен в мисс Чаворт, и со дня приезда в графство он не был со мной и трех недель, все время проводя в Ансли». Но терпеливая мать, памятуя о своем увлечении отцом Байрона, сдалась и позволила сыну остаться до следующих каникул.
Однако в скором времени юный влюбленный стал беспокойным и угрюмым, поняв, что «она вздыхает не о нем». Хмурый мальчик наскучил Мэри, и она не принимала его всерьез. Он часто сидел, задумавшись, лениво играя со своим носовым платком, часами стрелял в деревянную дверь террасы. Несмотря на красивое лицо, склонность к полноте делала его просто неуклюжим школьником. Разрядка наступила однажды вечером, когда он услышал или кто-то сказал ему, что Мэри говорила служанке: «Что! Неужели я стану обращать внимание на хромого мальчишку!» В гневе он выбежал из дому и вскоре вернулся в Ньюстед. Однако мысли о Мэри Чаворт не оставляли его. Позднее он говорил Томасу Медвину: «Она была идеалом красоты моей юности; и все мечты о небесной натуре женщин я почерпнул из того обожания, которым мое воображение окружило Мэри. Я говорю «воображение», потому что в действительности я отнюдь не считал ее, да и всех других представительниц женского пола, ангелами».
Байрон был готов покинуть дом своих предков, где его постигло горькое разочарование, но в ноябре приехал лорд Грей, снова вернув аббатству былое притяжение. Грей был испорченным юношей на восемь лет старше Байрона. Больше всего его интересовало оружие, и в лунные ночи они с Байроном ходили стрелять фазанов. Байрон провел в аббатстве все каникулы, но еще до того, как ему исполнилось шестнадцать, случилось нечто непредвиденное, и он уехал из Ньюстеда с твердым намерением больше никогда не видеться с лордом Греем. Хотя он никогда подробно не рассказывал об этом случае, однако намеков было достаточно, чтобы понять, что пресыщенный лорд Грей попытался перейти грань обычной дружбы, что отвратило его молодого спутника. На полях экземпляра «Жизни» Мура Хобхаус сделал пометку: «…в их отношениях произошло нечто, что впоследствии наложило отпечаток на моральные воззрения Байрона».
В конце января Байрон вернулся в Хэрроу. К школе его привязывали лишь старые и новые друзья. Он даже отказался вернуться в Саутвелл на пасхальные каникулы. В единокровной сестре Августе он нашел верного друга. «Надеюсь, ты не припишешь мое пренебрежение стремлению к обожанию, – писал он, – это скорее застенчивость – неотъемлемое свойство моего характера. Ты самое близкое мне в мире существо, с которым меня связывают родство и искренняя привязанность». Чем шире становилась пропасть между ним и матерью, тем сильнее он привязывался к Августе. В следующем году его чувства к ней отразились в письмах. «Я не примирился с лордом Греем и никогда этого не сделаю, – признавался он, – причины прекращения нашей дружбы я не могу назвать даже тебе, моя дорогая сестра… Однако они достаточно веские, потому что хотя я и страстен по натуре, но не прерываю связи по глупой прихоти».
От скуки Саутвелла Байрона спасла встреча с семьей Пигот, жившей по соседству. Элизабет Пигот, девушка старше его на несколько лет, впервые увидела его на празднике, устроенном ее матерью, где его приходилось упрашивать принять участие в играх, потому что сам он был слишком застенчив. Элизабет он запомнился «толстым застенчивым мальчиком с гладко зачесанными волосами». Но когда он пришел к ним на следующий день, Элизабет удалось растормошить его и заставить чувствовать себя как дома.
Однако на следующий день он уехал в Хэрроу. В письме к матери звучит небывалое для него честолюбие: «…передо мной лежит путь к богатству и славе. Я поднимусь на вершины успеха или погибну в этой борьбе». Всем было ясно, на каком поприще он хочет удовлетворить свои честолюбивые стремления. Он мечтал стать оратором в парламенте. Во время лондонских каникул он влюбился в театр, особенно в монологи знаменитых актеров, и даже ходил в палату общин, чтобы послушать выступления политических деятелей. В своих самых смелых мечтах он видел себя последователем Берка и Шеридана. В Хэрроу его теперь интересовали только публичные выступления. Он так упорно готовился к ним, что заслужил похвалу доктора Друри, который, как Байрон вспоминал потом, «свято верил, что я стану прославленным оратором, если судить по моему голосу, жестам, яркой декламации, страстности и плавности речи».
«До последнего года я ненавидел Хэрроу, но потом мне тут стало даже нравиться», – писал Байрон в 1821 году. Он жадно читал и был полон самых разных мечтаний. Его знания «были так широки и многообразны, что возбуждали подозрение, будто я собирал информацию только из рецензий, потому что за книгой меня никто не видел, ведь я всегда был беззаботным и проказливым. Правда состоит в том, что я читал за едой, читал в постели, читал тогда, когда никто больше не читает; с пяти лет я прочитал множество самых разных книг».
Вероятно, Байрон, как доктор Джонсон, «выхватывал из книг самую суть». В кембриджском дневнике он набросал список книг, прочитанных им до пятнадцати лет. Он упоминает «Исповедь» Руссо, жизнеописания Кромвеля, Карла XII, Екатерины II, Ньютона и дюжины других; книги по юриспруденции Блэкстона и Монтескье; книги по философии Пэйли, Локка, Бэкона, Хьюма, Беркли, Драммонда, Битти и Болинброка («Гоббса я терпеть не могу»); поэзию – упоминает «всех британских классиках и большинство современных поэтов, Скотта, Саути и других, некоторых французских поэтов в оригинале, из которых Сид мой самый любимый; немного из итальянской поэзии, бесчисленное количество стихов греческих и римских поэтов; по богословию – Блэра, Портея, Тиллотсона, Хукера – очень утомительно». В 1803 году он открыл для себя поэзию Александра Поупа, которая оказала большое влияние на его литературные вкусы. Байрон пишет, что прочитал около четырех тысяч романов, включая произведения Сервантеса, Филдинга, Смоллетта, Ричардсона, Генри Макензи, Стерна, Рабле и Руссо. Прочитав после смерти Байрона этот внушительный список, его друг Хобхаус написал: «Я склонен верить словам лорда Байрона о том, что он прочитал все эти книги, но точно могу сказать, что он никогда впоследствии не давал понять, какими знаниями владеет».
Летом Саутвелл показался Байрону более приятным. С помощью семьи Пигот он сошелся с другими жителями города, включая молодых леди, которые жаждали познакомиться с ним. Несмотря на все попытки быть терпимым, Байрону не удавалось справиться с приступами бешенства своей матери. «В детстве она испортила меня, – писал Байрон Августе, – а теперь переменилась: по любому пустяку она устраивает страшный скандал, и все разговоры с ней кончаются ссорой, когда речь заходит о предмете моего искреннего и постоянного презрения, лорде Грее де Рютине. Как-то она обронила такую странную фразу, что я подумал, уж не влюбилась ли вдова в лорда».
В любую свободную минуту Байрон приходил к семье Пигот. Элизабет участливо относилась к мальчику, хотя и без особого интереса. С ней не приходилось изображать пылкого поклонника и можно было быть искренним и откровенным. Они обменивались книгами и писали другу чуть хвалебные и чуть романтические стихи. В их отношениях преобладала нежность, смешанная с кокетством. И все же Байрона не оставляли мучительные мысли о Мэри Чаворт. По всей видимости, он опять возвращался в Ансли и тайно встречался с ней. Позже он говорил Медвину: «Я был серьезен, а она капризна. Она любила меня как младшего брата, смеялась надо мной и обращалась со мной как с мальчишкой». Они расстались на холме неподалеку от Ансли, который он так поэтично описал в стихотворении «Сон» («…увенчан диадемой деревьев»). Мэри собиралась замуж, и ее мысли были далеко. Отчаяние и душевная боль чуть не свели Байрона с ума. Когда мать, уязвленная колкими замечаниями насчет лорда Грея, сказала, что его детская любовь Мэри Дафф вышла замуж, у него начался припадок.
Разочарования юности привели к зарождению цинизма, которым прекрывалось уязвленное самолюбие. Выразив сочувствие Августе по поводу ее горя (ее дядя генерал Ли возражал против ее брака с его сыном), Байрон добавил: «И все-таки прости меня, дорогая сестра, мне немного смешно, потому что любовь, по моему скромному мнению, полная чушь, смесь романтики, обмена любезностями и обмана…»
Байрон был рад осенью опять вернуться в Хэрроу. Получив отказ от девушки, столь безумно любимой им, он стал искать любви и признания у своих школьных друзей. Им он не казался неловким и неизящным, неспособным польстить сердцу молодой капризной дамы. Его отношения с друзьями не омрачались женским тщеславием и ужимками. Итак, Байрон привык к обществу мальчиков, моложе его, особенно подобных лорду Клэру и лорду Делавару, чья красивая внешность удовлетворяла его тягу к прекрасному, которая подогревалась в нем в женском обществе. Если здесь и присутствовал элемент полового влечения, то он сам об этом не подозревал и после случая с лордом Греем считал это отвратительным и вполне довольствовался нежной дружбой.
Если в Хэрроу Байрон не отдавал себе отчета в подоплеке близких отношений с друзьями, то, возможно, понял это в Кембридже и позже – во время первого путешествия в Грецию. Несомненно одно: если проследить весь жизненный путь Байрона, то можно увидеть, что влечение к юношам сохранилось в нем на всю жизнь. Однако, по-видимому, он не ощущал стыда и вины за слишком близкие отношения с друзьями в Хэрроу. Хобхаус, который знал эту склонность Байрона, написал на полях страницы, где Мур превратно истолковывал отношения поэта с друзьями: «Мур ничего не знает или не говорит о главной причине такого поведения Байрона». Любовь Байрона к женщинам полностью удовлетворяла его духовные потребности на всем протяжении его жизни. Об этом было давно известно. И эти факты многое могут объяснить в характере Байрона и пролить свет на его взаимоотношения с мужчинами и женщинами. Многие друзья замечали в натуре Байрона женственность. 7 июля 1827 года Мур записал в своем дневнике: «Вечером говорили с Д. Киннэрдом о Байроне. В его характере много женского: нежность, темперамент, капризы, тщеславие. Чантри отмечал нежные, чувственные черты нижней части его лица и твердые, мужественные – верхней».
Байрон был знаком с трудами философов-скептиков и деистов XVIII века и, обладая своевольным и независимым характером, часто выражал неординарные воззрения, которые шокировали его друзей, привыкших мыслить стандартно. В Хэрроу он как-то сказал Медвину: «Я подрался с лордом Калторпом из-за того, что он под моим именем написал: «Проклятый атеист».
В письмах к Августе Байрон постоянно упоминает о пропасти, появившейся между ним и матерью. 2 ноября он писал: «…она так нетерпима, что я с большим ужасом жду приближения каникул, чем другие мальчики их окончания». All ноября он продолжил разговор на эту тему, которая неотрывно преследовала его: «…она легко приходит в бешенство, ругает меня, словно я самое жалкое и низкое создание в мире, ворошит прошлое, вспоминает моего отца недобрым словом, говорит, что я настоящий Байрон – самый худший эпитет в ее устах. И как можно называть эту женщину матерью?»
Августа договорилась с Хэнсоном, что Байрон проведет каникулы в городе, не вызвав подозрений миссис Байрон. Он распрощался со своими друзьями в Хэрроу, потому что его поведение в школе вынудило доктора Друри предложить ему найти частного наставника для подготовки к экзаменам в университет. А пока он наслаждался свободой в Лондоне. Часто Байрон ходил в «Ковент-Гарден» поглядеть на представление «Молодого Росция» и увидеть юношу актера, бывшего звездой сезона. Августа была довольна, когда ей удалось устроить обед для своего брата и лорда Карлайла, который, увидев, что мнение мальчика о миссис Байрон сходится с его мнением, тепло отнесся к нему. Августа с восторгом писала Хэнсону: «Можете поверить, что он (Байрон – Л.М.) – мой большой любимец. Чем больше я узнаю его, тем больше люблю и ценю».
В начале февраля Байрон вернулся в Хэрроу, несмотря на совет доктора Друри, так как опасался, будто друзья подумают, что его отчислили, и мечтая принять участие в публичных выступлениях в конце семестра. Но скоро у него опять начались неприятности с доктором Джорджем Батлером, новым директором, назначенным на место доктора Друри, который собирался отойти от дел. Теперь, когда Байрон стал любимцем школы, мысль о том, что придется оставить ее, опечалила его. Привязанность к Хэрроу и друзьям все крепла по мере того, как узы, связывавшие его с домом, слабели. «Мне было так тяжело оставлять Хэрроу, – писал он, – несмотря на то что пришло время (мне исполнилось семнадцать), что я потерял покой, считая последние дни».
Теперь Байрон проводил меньше времени в размышлениях над могилой Пичи в церковном дворе. Его все чаще можно было встретить на поле для игры в крикет или на постоялом дворе «У матушки Барнард», где он привлекал всеобщее внимание громогласными выкриками: «Эта бутылка словно солнце на нашем столе!» Но все его мысли были заняты приближающимися днями публичных выступлений. Для первого дня он выбрал страстную и взволнованную речь Занги над телом Алонзо из трагедии Юнга «Месть». Вероятно, честолюбие побудило его подражать Кемблу, который был тогда любимцем публики. В последний день, 4 июля, он продекламировал отрывок из «Короля Лира». Байрон так увлекся и говорил с таким жаром, что под конец был вынужден покинуть зал.
Наступил последний день пребывания в школе. Байрон с грустью простился со своими друзьями, оставив им на память подарки. Генри Лонг, младший брат друга Байрона, Эдварда Ноэля Лонга, застал Байрона сходящим по ступеням школы после того, как он вырезал свое имя на стене комнаты, где занимались ученики четвертого класса. Молодой Лонг вспоминал, что «во время дальнейшего разговора Байрон произнес клятву, после чего я улучил момент и спросил у брата, неужели ученики Хэрроу должны это делать. «Иногда, – ответил он, – да ты сам только что видел пример».
Байрон пытался сохранить школьную дружбу как можно дольше. Он гордился тем, что был в команде во время последнего матча по крикету с учениками Итона. Матч состоялся в Лондоне 2 августа 1805 года. Нога почти не доставляла Байрону неприятностей, так что он смог надеть обычный ботинок поверх специального, который носил все время, но бегал все еще с трудом. Команда Хэрроу проиграла, что не мешало Байрону гордиться своей игрой. После матча обе команды обедали вместе, а потом направились в «Хеймаркет-театр», где настолько разошлись, что учинили скандал.
На следующий вечер Байрон выехал в Саутвелл. Школьная пора осталась позади, однако его мысли по-прежнему возвращались к Хэрроу и друзьям. По-прежнему он не мог забыть Мэри Чаворт. Когда миссис Байрон в присутствии Элизабет Пигот колко заметила, что мисс Чаворт вышла замуж, «на его бледном лице появилось странное выражение, которое невозможно описать». Затем «с деланой небрежностью и равнодушием» он спросил: «И это все?» – и переменил тему. Но впоследствии он выразил свои чувства в стихах, которые показал Элизабет Пигот:
Бесплодные места, где был я сердцем молод,
Анслейские холмы!
Бушуя, вас одел косматой тенью холод
Бунтующей зимы.
Нет прежних светлых мест, где сердце так любило
Часами отдыхать,
Вам небом для меня в улыбке Мэри милой
Уже не заблистать!
23 сентября Байрон покинул Саутвелл и провел месяц в Лондоне, прежде чем начать новую жизнь в Кембридже, где его уже приняли в Тринити-колледж.
«Когда я появился в Тринити в 1805 году в возрасте семнадцати с половиной лет, – писал Байрон много лет спустя, – я чувствовал себя несчастным и неготовым к получению ученой степени. Я сожалел о Хэрроу, к которой так привык за последние два года; жалел, что поступил в Кембридж вместо Оксфорда (в Крайстчерче не было свободных комнат); скучал по знакомой домашней обстановке и вообще чувствовал себя как волк, оторванный от стаи». Чувство ранней изоляции от окружающих постоянно владело им. «…Ощущать себя взрослым – самое тяжелое и горькое чувство, испытанное мною тогда, – писал Байрон в своих воспоминаниях. – С того дня я начал взрослеть в своих собственных глазах, не ощущая подобного отношения со стороны окружающих».
Байрон снял комнаты в юго-восточной части Большого двора Тринити-колледжа, выходившие на широкую винтовую лестницу башни, на которой вполне могла разместиться карета, запряженная шестеркой лошадей. Байрон всегда любил простор. Именно поэтому ему были так милы огромные залы Ньюстеда. В Тринити-колледже тоже было много простора. Двор здесь был самым большим среди всех колледжей в Англии, потому что Тринити всегда пользовался любовью королей с момента своего основания Генрихом VIII в 1546 году. В такой обстановке Байрон постепенно стал чувствовать себя лучше. «Сейчас я с удобствами расположился в превосходнейших комнатах, – писал он б ноября своей сестре, – соседями моими с одной стороны являются мой наставник, а с другой – старый преподаватель колледжа, которых поместили здесь, вероятно, для того, чтобы сдерживать мои порывы. В год мне положено 500 фунтов, слуга и лошадь, так что чувствую себя независимым, как немецкий принц». Находясь в приподнятом настроении, Байрон 12 ноября писал сыну Хэнсона, Харгривсу: «В колледже все прекрасно, кроме образования. Никто не пытается изучать произведения, будь они современные или классические».
В то время как усердие преподобного Томаса Джонса, наставника Байрона, и некоторых других усиливало моральные устои и качество образования в Тринити, в колледже по-прежнему царила атмосфера презрения к учению, обычная для XVIII века, которую Байрон тут же ощутил, как и его сверстники-аристократы и студенты более скромного происхождения. Традиция и нежесткие правила легко позволяли отпрыскам благородных родов избегать посещения лекций и экзаменов. Большую часть времени они являлись зачинщиками скандалов и вели разнузданный образ жизни, обычный для молодых аристократов. Однако в этой среде не было и признака снобизма и классовых различий. В 1787–1791 годах Вордсворт считал Кембридж самым демократичным из всех английских университетов. «Богатство и титулы ценились меньше таланта и усердия».
Байрон гордился дружбой с аристократами в Хэрроу, однако ни один из его близких друзей в Кембридже не обладал титулом. Хотя вначале он вращался среди пресыщенных молодых бездельников, представленных в основном порочными сыновьями знатных людей, с ними он не чувствовал себя уютно. В письме к Хэнсону он ясно дает понять это: «…учеба стоит у них на последнем месте: глава братства Уильям Лорт Мансел ест, пьет и спит, остальные пьют, спорят и каламбурят. Чем занимаются старшие студенты, вы можете представить и сами. Я пишу это письмо, а из головы еще не выветрился хмель; хотя я ненавижу разгульный образ жизни этой компании, но не могу его избежать. И все-таки я самый разумный человек во всем колледже, не часто попадаю в истории и выпутываюсь из них без особых последствий».
Привязанность Байрона к Эдварду Ноэлю Лонгу, который в то же самое время поступил в Тринити, зиждилась на более широких интересах, чем те, что связывали его беспутных сокурсников. Они оба любили плавать, ездить верхом и читать. Часто они ныряли за брошенными друг для друга шиллингами в глубокую реку Кем. Вечера они проводили слушая музыку, так как Лонг играл на флейте и виолончели. Отправляясь с Лонгом к плотине у Гранчестера, которую и по сей день называют плотиной Байрона, будущий поэт мог развеяться после ночных гулянок со своими жизнерадостными товарищами. Однако даже с ними он находил время читать. Именно в комнате Уильяма Бэнкса, «короля шуток», он впервые прочел Вальтера Скотта.
«Я с неимоверной быстротой приобщался к различным порокам, – позже писал Байрон, – но они не доставляли мне радости, поскольку мои страсти, хотя и очень бурные, были направлены в одно русло и не растрачивались попусту. Я мог бы пойти на все ради того, что люблю, но, хотя я вспыльчив от природы, все равно не мог без отвращения принимать участие в распутствах».
Не растрачивая душевный жар на случайные связи, Байрон полностью отдался другим страстям, поэтому испытывал нужду в деньгах, когда на рождественских каникулах появился в Лондоне. 27 декабря он обратился к Августе с просьбой совместного владения несколькими сотнями фунтов, «так как один из ростовщиков предложил ссудить…». Это первое упоминание о ростовщиках, у которых последующие три или четыре года Байрон ссужал деньги, пока его долги не возросли до нескольких тысяч фунтов. Августа испугалась и предложила одолжить ему денег для выплаты долгов, но он отказался. 7 января он намекнул на некую болезненную причину грусти, которой, однако, не раскрыл. «Ты слишком хорошо меня знаешь, чтобы подумать, что это любовь; я не поссорился ни с другом, ни с врагом, так что на этот счет можешь быть спокойна, потому что мое теперешнее мрачное состояние духа не приведет к неприятным последствиям».
Причина такого настроения окутана тайной. Возможно, разгадка кроется в дальнейших письмах и воспоминаниях. В своих дневниках 1821 года, говоря об отвращении к распущенности сокурсников, которая понуждала его «к бесчинствам, возможно, более роковым, чем те, от которых я уклонялся, предаваясь только одной страсти одновременно. Те страсти, которые испытывали многие, могли нанести вред только мне», Байрон пишет: «Если бы я мог объяснить истинные причины, ставшие причиной моего и так мрачного от природы расположения духа и сделавшие меня притчей во языцех, никто не удивится. Однако эти причины невозможно открыть, не наделав шума».
Обращаясь к Э.Н. Лонгу в дневнике 1821 года, Байрон писал: «Его дружба со мной и бурная, хотя и непорочная, любовь и страсть, которые я испытал в то же время, окрасили самое лучшее время моей жизни в самые романтичные тона». В 1807 году Байрон признался Элизабет Пигот, что в Кембридже он очень привязался к Джону Эдлстону, хористу в церкви Святой Троицы. «Его голос привлек мое внимание, внешность еще больше поразила меня, а манеры расположили меня к нему навеки… Я люблю его больше всех в мире, и ни время, ни расстояние не смогли оказать влияния на мою обычно переменчивую натуру. По-видимому, он даже больше привязан ко мне, чем я к нему. Во время учебы в Кембридже мы встречались каждый день, зимой и летом, нам никогда не было скучно, и каждый раз мы расставались все с большей неохотой».
В октябре 1811 года Байрон написал Хобхаусу: «Событие, о котором я упомянул в последнем письме (смерть Эдлстона), произвела на меня такое глубокое впечатление, о чем я даже не мог помыслить. Однако я ничего не могу поделать. Я мог бы больше ценить это прекрасное существо. Куда я ни пойду (Байрон писал из Кембриджа. – Л.М.), мысль не оставляет меня. Пишу об этом, рискуя вызвать твое презрение, но ты не можешь возненавидеть меня сильнее, чем я себя».
Какими бы ни стали чувства Байрона после путешествия на Восток, принесшего столько новых впечатлений, нет причин сомневаться в правдивости его слов о том, что чувство к Эдлстону «было бурной, но непорочной страстью и любовью», другими словами, романтической привязанностью. Лучшее свидетельство – тот факт, что самые прекрасные и сильные привязанности Байрона были окутаны аурой невинности и чистоты, как его любовь к Мэри Дафф, Маргарет Паркер и Мэри Чаворт.
Новый семестр в Кембридже начался 5 февраля, однако Байрон задержался в Лондоне. Августа отказалась поручиться за Байрона при получении им займа, и, очевидно, уязвленный, он не писал ей несколько месяцев. В конце концов миссис Массингберд, домовладелица на улице Пикадилли, 16, и ее дочь поручились за него. Августа и миссис Байрон были обеспокоены, особенно последняя, так как счета ее сына оказались «вдвое больше, чем я предполагала».
Ища, чем бы заняться, Байрон начал посещать зал Генри Анжело, известного учителя фехтования, и познакомился с «Джентльменом» Джексоном, бывшим боксером-чемпионом, который вместе с Анжело проживал на Бонд-стрит, 13. Вскоре Байрон стал брать у них уроки и вращаться среди представителей полусвета в театральных и спортивных кругах.
Он получил от ростовщиков несколько сотен фунтов под грабительские проценты. Ему удалось оплатить долги в Хэрроу и 231 фунт долгов в Кембридже, однако туда он не собирался возвращаться. «У меня есть несколько сотен фунтов наличными… – с зловещим наслаждением сообщал Байрон матери, – но мне кажется неуместным оставаться в колледже не только из-за расходов. Ты знаешь, что в английском университете невозможно стать настоящим джентльменом, сама мысль об этом смешна». В письме матери Байрон сообщил, что хочет провести пару лет за границей. «Я не могу поехать во Францию, но Германия и дворы Берлина, Вены и Петербурга открыты для меня…»
Бедная миссис Байрон билась в истерике, предчувствуя дурное. Она уже видела, как ее сын идет по стопам отца и во цвете лет губит себя. «Этот мальчик сведет меня в могилу, сведет меня с ума, – в отчаянии писала она Хэнсону, – я никогда не соглашусь, чтобы он поехал за границу. Где он возьмет деньги? Неужели он попал в лапы ростовщиков? У него нет чувств, нет сердца».
Тем временем Байрон весело проводил время в Лондоне благодаря наличию денег в кармане. Он стал заядлым театралом. А позднее остроумно пересказал случай, приключившийся с ним в Лондоне, когда ему было восемнадцать лет: «Там была одна известная француженка, которая помогала молодым джентльменам приятно провести время. Мы были знакомы уже некоторое время, когда внезапно что-то переменилось и она мне отказала, прислав письмо на таком английском, который позволили ей познать каких-то шестнадцать лет, проведенных в Англии. В письме была приписка следующего содержания: «Помните, милорд, с такими прелестями вам обеспечен успех».
Возможно, у мадам были причины сомневаться в «прелестях» юноши, поскольку он погрузился в трясину разврата и цинизма, что свойственно человеку, стремящемуся утвердить свое превосходство над женщинами, несмотря на то что он всего лишь «маленький хромой мальчик», или в попытке доказать самому себе, что в женских объятиях он может забыть преступную страсть к Эдлстону.
К 10 марта деньги у Байрона закончились, и он попросил Хэнсона выдать ему 500 фунтов, чтобы оплатить долги. Возможно, Байрону уже успела наскучить столичная жизнь. В середине апреля он вернулся в Тринити, где снова начались привычные кутежи. Байрон пожертвовал 30 гиней на возведение статуи Питта, покровителя Тринити, и приобрел экипаж.
Если Байрон и посещал лекции в Тринити, то не счел нужным сообщать об этом скучном занятии в своей переписке. Он также отказался от систематического чтения, хотя среди его счетов за первый семестр есть счет за книги на сумму 20 фунтов и 17 шиллингов. Однако Байрон постоянно писал стихи. В конце семестра он вернулся в Лондон, но не надолго, потому что у него не было наличных денег. Вопреки своим желаниям он отправился в Саутвелл. Сцена с матерью была неизбежна. При любом удобном случае Байрон сбегал к семейству Пигот, познакомившись с братом Элизабет, Джоном, который изучал медицину в Эдинбурге и отдыхал дома на каникулах. Байрон уже собрал томик стихов и отнес их печатнику Джону Риджу в соседний городок Ньюарк, но тут постоянные ссоры с матерью заставили его спешно вернуться в Лондон уже 7 августа. Семья Пигот помогла ему бежать от гнева миссис Байрон посреди ночи.
Мать отправилась за ним в Лондон, но ему удалось убедить ее вернуться, а самому отправиться в Литтлхэмптон на побережье графства Сассекс к своему другу Лонгу, который отдыхал там с семьей. Младший брат Лонга Генри оставил убедительное описание молодого лорда, с помпой и блеском появившегося в провинциальном городе: «Лорд Байрон привез с собой лошадей и собаку Боцмана и поселился на постоялом дворе «Дельфин». В первый же день своего приезда он занялся стрельбой по устричным раковинам у пирса». Иногда Лонг и Байрон играли в крикет, и Байрон называл Генри, приносившего мячи, «мальчишкой». Но когда они ходили купаться, Байрон часто плавал, посадив Генри на спину.
Генри вспоминает, что его брат и Байрон, сняв все, «кроме рубашек и кальсон, прыгали с пирса в реку. Теперь эта река обмелела, но тогда течение в ней было очень быстрым. Оттуда они плыли к морю и заплывали так далеко, что я едва мог различить их головы, то исчезающие, то возникающие на поверхности воды, как поплавки, делали огромный полукруг, необходимый, потому что приливные волны очень высоки вблизи берега, и, наконец, благополучно возвращались…».
В сентябре Байрон вернулся в Саутвелл. Несомненно, там он произвел впечатление своим экипажем, лошадьми, кучером и слугой, а мать только бессильно негодовала на его расточительность. Вскоре он стал принимать участие в домашних спектаклях семьи Пигот и некоторых друзей, включая Джулию Ликрофт, постановщицу спектаклей. Естественно, Байрону доставались главные роли, и он с успехом произносил героические монологи из пьесы Камберленда «Колесо фортуны».
В то же время Байрон ухаживал за местными красавицами и писал им стихи. Но ко всем своим увлечениям он относился цинично, не придавая им особого значения. Половина стихов, вошедших в появившийся в ноябре сборник под названием «Беглые наброски», была написана в школе или в Кембридже и представляла собой ироническое изображение нравов и обучения в этих заведениях. Другие стихи – романтическая поэзия в духе Томаса Мура. Откровенно эротические вещи, такие, как поэма «К Мэри», были, по-видимому, навеяны воспоминаниями Байрона о Лондоне. Эта неудачная поэма, по его словам, привела к тому, что его объявили «самым большим развратником и грешником, короче говоря, молодым Муром». Но в первом сборнике органично сочетаются реализм, сатира и романтика. Слезливая сентиментальность любовных поэм оттеняется вот такими насмешливыми строками:
Зачем же попусту стенать нам,
Зачем друг друга ревновать нам
С одной лишь мыслью фантастической
Любовь представить романтической?
Свой ум опасной пищей потчуя,
Вы пожелали, чтобы ночью я,
Окоченевший на морозе,
Вас долго ждал в смиренной позе
Под обнаженной сенью сада…
Осенью Байрон не вернулся в Кембридж потому, что финансовое положение не позволяло ему вести желаемый образ жизни, и частично потому, что он приятно проводил время в Саутвелле. Он заключил перемирие с миссис Байрон, что делало его жизнь в этом городе вполне сносной. Дом семьи Пигот стал его вторым домом. Он уже приобрел привычку поздно ложиться и поздно вставать, которой не изменял всю жизнь. Его любимыми занятиями были плавание и стрельба в цель из пистолета, чем он не переставал заниматься до самой смерти.
Байрон не мог не предвидеть отклика в уважаемых кругах Саутвелл а на такие вот строчки:
И мнится мне, на грудь мою
Склонилась ты; полупризыв,
Полуупрек таит твой взгляд.
Мы отдаемся забытью,
Два пламени соединив,
И сердце с сердцем бьется в лад.
Когда преподобный Томас Бичер, которому Байрон подарил экземпляр, возразил, что «описание слишком откровенно», Байрон ответил ему стихами. Он оперировал теми же аргументами, что в будущем при защите «Дон Жуана»: его муза – «правда». Но в тот же день он забрал все экземпляры, подаренные друзьям, и сжег их. Сохранились только четыре томика. Преподобный Томас Бичер оставил свой экземпляр.
Вскоре Байрон уже работал над следующим сборником, который попытался сделать «совершенно правильным и необычайно целомудренным». Искусственность стиля не позволила ему раскрыть своего ярко выраженного таланта реалистического описания, использовать юмор и колкую сатиру. «Стихи по разным случаям» вышли в свет в январе 1807 года.
6 января Байрон был в отеле «Дорант» на Элбермарл-стрит в Лондоне, пытаясь выручить немного денег и распространяя среди друзей экземпляры своего сборника. Миссис Массингберд – его посредница в денежных делах – устроила так, что Байрон смог получить 3000 фунтов с обязательством выплатить 5000 фунтов по достижении совершеннолетия. После выплат по предыдущему займу у Байрона осталось очень мало денег, и в конце января он вернулся в Саутвелл. Вскоре он опять попал в беду. Он неосторожно сошелся с Джулией Ликрофт. По словам Хобхауса, «семья закрывала глаза на близкие отношения Байрона с одной из дочерей, надеясь опутать его узами неравного брака».
Вероятно, чтобы избавиться от последствий своего галантного поведения, Байрон стал следовать строгому распорядку, в течение нескольких месяцев придерживаясь его с завидным рвением. За это время ему удалось уменьшить свой вес, значительный в период учебы в Хэрроу, до нормального, который он и сохранял с небольшими колебаниями до того, как в 1818 году в Венеции ослабил бдительность и снова поправился. Осенью 1806 года его вес был впечатляющим для юноши ростом пять футов восемь с половиной дюймов. Спартанский режим, помимо диеты, заключался в «неимоверных физических нагрузках, горячих ваннах и лекарствах».
Финансовое положение Байрона оставляло желать лучшего. Чтобы он не связывался с ростовщиками, мать заняла у родственников в Ноттингеме 1000 фунтов. В промежутках между любовными романами и стоихотворчеством Байрону удавалось почти постоянно подавлять в себе чувство мрачного отчаяния. Преобладание грустных мотивов в его творчестве создавало ложный образ угрюмого юноши. На самом деле он был полон жизненной энергии и порой, по словам Элизабет Пигот, вел себя как мальчишка.
Байрон считал, что его стихи заслуживают более обширной аудитории, чем маленький Саутвелл. Он послал экземпляр «Стихов по разным случаям» в подарок Генри Маккензи и был вне себя от счастья, когда получил хвалебный отзыв от автора «Сентиментального человека». Хэнсон также похвалил стихи, однако не преминул отметить, что сильной стороной поэта является все же ораторское искусство. Байрон ответил, что до совершеннолетия ему не удастся преуспеть на этом поприще. «Я остаюсь здесь, потому что в своем нынешнем состоянии не могу появиться ни в каком другом месте. Вино и женщины сгубили вашего покорного слугу, и в кармане у меня нет ни гроша…» Байрон продолжал неуклонно придерживаться своей диеты. «Я надеваю семь жилеток и толстое пальто и в этом облачении играю в крикет и бегаю, пока с меня не начнет градом течь пот, после чего я принимаю горячую ванну, и так каждый день. За сутки съедаю всего лишь четверть фунта мяса, никакого завтрака и ужина. Не пью пиво, а только немного вина, иногда принимаю лекарства; теперь на одежду мне требуется ткани на пол-ярда меньше».
Байрон был занят подготовкой к печати сборника стихов. Однако при мысли о встрече с публикой он испытывал такое волнение, что терял почти все искры своего самобытного дара, которые так оживляли его стихи, изданные для узкого круга читателей. То, что оставалось, было всего лишь подражанием и слащавой сентиментальностью. Сюда он добавил подражания и переводы из Анакреонта и Вергилия, ностальгическое стихотворение «Лакин-и-гер», посвященное далеким годам в Шотландии, «Прощание с Ньюстедским аббатством» – чересчур серьезное описание героических деяний своих предков и «Смерть Калмара и Орлы» – подражание Оссиану. Название сборника «Часы досуга» было предложено издателем Риджем.
27 июня Байрон с триумфом доставил сборник стихов в Кембридж, куда отправился, чтобы оплатить свои долги с помощью займа матери. Он был счастлив, когда никто из старых сокурсников не узнал его – так он похудел. Теперь он был более чем когда-либо настроен бросить учебу, потому что, писал он Элизабет Пигот, «наш дружеский кружок распался, и мой уже упомянутый певец-протеже оставил хор и сейчас находится в довольно крупном торговом доме в городе. Возможно, я уже говорил, что он ровно на два года младше меня. Он почти моего роста, очень худой, очень бледный, с темными глазами и светлыми кудрями. Мое мнение о его внутреннем мире ты уже знаешь, надеюсь, мне никогда не придется переменить его».
Привязанность Байрона к Эдлстону не только не уменьшилась, но еще более окрепла. Он весело сообщал об этом Элизабет Пигот, однако в строках сквозит его истинное чувство: «Я пишу тебе, в то время как пары вина еще не выветрились у меня из головы, а в глазах стоят слезы, потому что я только что расстался с моим «сердоликом», который весь вечер провел со мной… Сейчас мы с Эдлстоном расстались, и в душе у меня сумятица надежды и печали. Но это расставание ненадолго. Вероятно, мы не увидимся до моего совершеннолетия, когда я предложу ему стать партнером в моем деле или поселиться вместе».
Однако неделя, проведенная в Кембридже с новыми и старыми друзьями, оказалась не такой уж плохой, поэтому Байрон принял решение вернуться на будущий год. Кажется, что он с легкостью меняет решения, тем не менее им всегда движет неодолимая внутренняя сила. Встреча с Джоном Кемом Хобхаусом и Чарльзом Скиннером Мэттьюзом, несомненно, повлияла на его решение остаться в Кембридже. Оба этих юноши были так же жизнерадостны, как и сам Байрон, но отличались разными интересами и способностями. Хобхаус, сын Бенджамена Хобхауса, члена парламента из Бристоля, поступил в Тринити в 1806 году. Он много читал по истории и политике, отличался либеральными воззрениями, политическим честолюбием и любовью к искусству.
Мэттьюз, о котором мы знаем немного, занимал во время отсутствия Байрона его просторные апартаменты, «и Джонс, наставник, в своей оригинальной манере, введя его в комнаты, сказал: «Мистер Мэттьюз, будьте так любезны не повредить вещей, потому что лорд Байрон, сэр, – молодой человек весьма бурного темперамента». Мэттьюз был в восторге и, когда кто-нибудь приходил навестить его, умолял гостя даже дверь открывать с осторожностью. «Слова Джонса так развеселили его, что, полагаю, им в большей части я обязан его хорошему расположению».
В некоторых областях интересы Байрона и Мэттьюза, ставшего его близким другом, сходились больше, чем интересы более сдержанного и менее предприимчивого Джона Кема. Вольность, с какой они беседовали о различных предметах, тревожила Хобхауса. Байрон впоследствии говорил, что, хотя в поведении Мэттьюза не было ни резкости, ни беспутства, «он был законченным атеистом в самом прямом смысле этого слова, поскольку высказывал свои взгляды в любом обществе». Выходки Мэттьюза всегда отличались остроумием. Он колко отзывался о наставнике в Тринити, Лорте Манселе: «Взываем к Тебе, Господи! Спаси нас!» В обществе своих друзей Байрон всегда был полон оптимизма и остроумия.
В середине июля 1807 года Байрон вернулся в Лондон. Там он поселился в «Гордонз-отеле» на Элбермарл-стрит, наслаждаясь триумфом поэта и снова погрузившись в омут столичной жизни, засверкавшей особенно яркими красками после длительного пребывания в Саутвелле. 13 июля он отправил хвастливый отчет о своем времяпровождении и планах Элизабет Пигот. Кросби, лондонский распространитель его стихов, издавал журнал под названием «Мансли литерари рекриэйшнс», в июльском номере которого появилась хвалебная статья, посвященная «Часам досуга». В том же номере была напечатана статья самого Байрона «Обозрение поэм Вордсворта» (два тома вышли в 1807 году).
Внимание, которым пользовались его стихи, льстило самолюбию Байрона. «На полках каждой книжной лавки я вижу свое имя и только молча купаюсь в лучах своей славы». В минуты досуга, после двух часов ночи, Байрон написал 380 строчек белых стихов, посвященных Босворт Филд. У него было много планов, к примеру – отправиться в горы Шотландии или взять лодку и повидать красоты Гебридских островов или, возможно, Исландию.
Вернувшись осенью в Кембридж, Байрон приобрел ручного медведя и поселил его в маленькой шестиугольной башенке на крыше дома. Ему хотелось производить фурор, вышагивая по улице с медведем на поводке. Элизабет Пигот он с гордостью сообщал: «У меня появился новый друг, самый лучший в мире, – ручной медведь. Когда я привез его в Кембридж, меня спросили, что я буду с ним делать, и я ответил, что он станет прнимать участие в заседаниях совета колледжа». Томас Джонс умер, и преподобный Фредерик Тавелл стал наставником эксцентричного молодого лорда. В «Подражании Горацию» поэт посвятил пару строк своему несчастному учителю…
Хотя Байрону нравилось производить впечатление человека, занятого только азартными играми, пьянством и развратом, он, по-видимому, тратил не все свое время и умственные силы на эти излюбленные составляющие жизни в Кембридже. Выход в свет сборника вызвал прилив творческой активности. «Я написал 214 страниц романа, – говорил Байрон Элизабет, – одну поэму в 380 строк, которая анонимно выйдет через несколько недель, 560 строк о Босворт Филд, и еще одну поэму в 250 строк, а кроме того, дюжину стихов. Поэма, которая скоро выйдет, – сатира».
Осознавая, что со школьной скамьи забросил чтение, 30 ноября Байрон принялся составлять список книг, прочитанных им с пятнадцати лет, – получился внушительный список. «С тех пор, как я покинул Хэрроу, – заметил он, – я стал ленивым и тщеславным, потому что пописывал стишки и любил женщин». Однако есть свидетельства, что, берясь за книги, Байрон читал с большим вниманием, относясь критически к прочитанному. На форзаце книги Оуэна Раффхеда «Жизнь Александра Поупа» Байрон написал: «О выразительной ясности стиля Поупа Свифт, сам немногословный писатель, проникновенно сказал, что у Поупа в одном четверостишии больше смысла, чем у Свифта в шести».
Любовь Байрона к сатире и иронии нашла одобрение у его товарищей по колледжу. Мэттьюз познакомил Байрона с другим кембриджским острословом, Скроупом Берд-мором Дэвисом, студентом Кингз-колледжа. Дэвис был хорошо известен в игорных домах и светских салонах Лондона. Близкий друг Бью Бруммеля и других щеголей, он предпочитал им общество остроумных и начитанных людей, подобных Мэттьюзу.
Не имея точного представления о политике, но обладая либеральными взглядами и критическим умом, Байрон присоединился к кембриджскому клубу либералов – вигов. Возможно, там возросло его восхищение Хобхаусом. Однако именно их обоюдный интерес к искусству и литературе еще больше сблизил их. И Хобхаус и Байрон писали сатирические стихи. Поэма Байрона к 26 октября насчитывала уже 380 строк. Несомненно, это была настоящая «Дунсиада», посвященная всем известным авторам – современникам Байрона, которых он называл «британскими бардами». Хобхаус все свои взгляды относительно продажности политических и светских чиновников в противоположность античным добродетелям воплотил в поэме в духе Одиннадцатой сатиры Ювенала.
Еще одним человеком, дружба с которым началась на почве литературы и продолжалась длительное время, стал Фрэнсис Ходжсон, недавно назначенный наставником в Кингз-колледже. Он разделял восхищение Байрона творчеством Драйдена и Поупа, но что больше всего интересовало Байрона, так это то, что отец Ходжсона был другом Уильяма Гиффорда, бывшего редактора журнала «Антиякобинец», а впоследствии редактора и ведущего критика «Ежеквартальника». Байрон уже отдал дань уважения Гиффорду подражанием его сатирам «Мэвиад» и «Бавиад». Ходжсон был великолепным ученым классической школы и недавно издал перевод Ювенала. И все же это была странная дружба. Серьезность Ходжсона и его консерватизм полностью расходились с живостью Байрона. Однако Байрону всегда нравилось кого-нибудь поражать. Ходжсон, зная, что у Байрона доброе сердце, тешил себя надеждой когда-нибудь склонить его на свою сторону, и, подобно многим друзьям юности Байрона, был ему безоговорочно верен.
Новая жизнь Байрона в университете скоро подошла к концу. Заняв у Хэнсона 20 фунтов, он провел рождественские каникулы в Лондоне. Он больше не возвращался в Кембридж, если не считать редких встреч со своими приятелями, до лета следующего года, когда получил степень магистра гуманитарных наук. В течение последнего семестра в Тринити и нескольких месяцев нового года Байрон еще больше сдружился с Хобхаусом, Мэттьюзом, шутником Скроупом Дэвисом и Ходжсоном. И эта дружба была самым надежным воспоминанием, оставшимся после Кембриджа.
Все еще занимаясь исправлением поэм и подготовкой нового сборника, Байрон в начале 1808 года поселился в отеле «Дорант» в Лондоне и вскоре оказался в положении известного автора и светского человека. 20 января он получил хвалебное письмо от преподобного Роберта Чарльза Далласа, который называл себя его родственником (сестра Далласа, Шарлотта, была замужем за дядей Байрона, Джорджем Энсоном Байроном). Даллас был человеком, которого при других обстоятельствах Байрон заклеймил бы занудой, однако вежливый и льстивый тон письма несколько смягчил его желчную иронию. Байрон попытался положить конец всем ожиданиям своего набожного родственника, сообщив ему, что «меня уже называли приверженцем Беспутства и учеником Предательства». Наконец лицемерная пошлость Далласа вынудила Байрона сделать дерзкое признание: «Что касается вопросов морали, то я предпочитаю учение Конфуция десяти заповедям и Сократа святому Павлу, хотя два последних джентльмена едины в своем взгляде на брак… По моему мнению, правда – первейший атрибут божества, а смерть есть вечный сон, по крайней мере для плоти».
Но и это не остановило Далласа, который через несколько дней навестил Байрона, подружился с ним, помогал ему, порой даже навязчиво, печатать стихи в газетах и журналах и в течение последующих месяцев был частым гостем Байрона. Однако у Байрона были более талантливые и интересные друзья. Он снова сошелся со своими товарищами по Хэрроу.
Находясь в крайне неустойчивом положении, не имея перед собой четких целей, он держался за Хэрроу как за олицетворение счастливейших дней его юности. Скоро он примирился с Генри Друри, которому доставил немало беспокойства, а через него – с доктором Батлером, новым директором, против которого бунтовал в школе, так что теперь ничто не мешало ему приезжать в Хэрроу.
Байрон не мог вернуться в Кембридж, как обычно испытывая нужду в деньгах. «Мне уже двадцать один год, и я не могу больше требовать денег», – жаловался он Хэнсону после своего дня рождения. Отсутствие денег было, по всей видимости, унизительно для Байрона. Щедрость всегда являлась его отличительной чертой. Он уже дал 200 фунтов льстивому Далласу. Теперь, когда Байрон вел светский образ жизни, развлекаясь с людьми, не знавшими цены деньгам, подобно Скроупу Дэвису и другим его приятелям из богемных кругов, он должен был вести себя подобающим образом, даже если ему приходилось занимать деньги на завтрак. Чем меньше у него оставалось денег, тем беспечнее бросал он их на ветер. В Хэрроу он привычно давал пятифунтовые банкноты смущенным Генри Лонгу и лорду Делавару.
Встречи Байрона с друзьями по Хэрроу были одним из самых его невинных времяпровождений, потому что вскоре в Лондоне он был вовлечен в скандалы, которые подорвали его здоровье, и без того расшатанное строжайшей диетой, и чуть не положили конец его поэтической карьере. 26 февраля он писал Бичеру: «…чтобы вы имели представление о моей жизни в последнее время, сообщаю вам, что я как раз получил рецепт от Пирсона, но не от болезни, а от глупости и последствий моей любвеобильности». После этого он злорадно похвастался перед своим преподобным другом, вероятно припомнив, какое участие принимал Бичер в критике его первого сборника, где страсти были «слишком откровенно описаны». «Моя голубоглазая Каролина, которой всего шестнадцать лет, была так очаровательна, что хотя мы оба прекрасно себя чувствуем, но вынуждены отдохнуть после изнурительного труда. Пожалуй, хватит о Венере».
Байрон написал подобное признание и Хобхаусу, который только что вернулся в Кембридж: «Я тону в океане чувственности. Я не признаю риска, но связался с женщинами легкого поведения и имею сожительницу». В городе был Скроуп Дэвис и еще один друг по Кембриджу, Алтамонт, впоследствии лорд Слиго. «Прошлой ночью, в опере-маскараде, мы ужинали с семью проститутками, хозяйкой публичного дома и балетмейстером в комнате мадам Анжелики Каталани за сценой. Я подумывал о приобретении учениц Д'Эвилль: из них получится великолепный гарем».
Возможно, Байрон с такой страстью предавался разврату по той причине, что пренебрежительные статьи критиков умаляли его поэтическую славу. Он был сильно задет едкой критикой в журналах «Сатирик» и «Мансли миррор» в январе, где говорилось, что если за эти «школьные сочинения» его не высекли в Хэрроу, то только потому, что «питали чрезмерное уважение к ягодицам лорда». Байрон был готов вызвать издателя на дуэль, но из этого ничего не вышло. Более влиятельный журнал «Эдинбургское обозрение» ославил чувствительность и тщеславие автора. Байрон не понял, что критик не знал его либеральных воззрений и осудил его лишь поверхностно, как молодого честолюбивого лорда. Позднее он притворился, что понял статью именно в этом ключе, но Хобхаус взволнованно произнес: «Дело обстояло совсем не так: он постоянно терзался мыслями о статье». В конце концов гнев Байрона поутих, улеглось и желание отомстить. Однако в тот момент он испытывал неподдельное отчаяние.
Весной кутежи Байрона продолжались, пока его здоровье серьезно не пошатнулось. Он небрежно сообщил об этом Хобхаусу, как было между ними заведено: «Игра почти закончена. Последние пять дней я просидел в своей комнате, а настойка опия была моим единственным другом. Услышав про мой образ жизни в течение двух прошедших лет, из которых кембриджские забавы были самыми невинными, врач заявил, что еще немного, и моя земная жизнь подойдет к концу, дав скудную пищу червям».
В то же время Байрон хвастался, что у него появились две нимфы. Одну, по словам Мура, он поселил в Бромптоне. Вероятно, это была мисс Камерон, которую он приобрел за сотню гиней у мадам Д. Вероятно, он одевал ее в мужскую одежду и летом возил в Брайтон. Согласно одной истории, получившей широкую огласку после смерти Байрона, он выдавал ее за своего брата или кузена, однако «случай закончился нелепо, поскольку у «юного джентльмена» случился выкидыш в гостинице на Бонд-стрит, к неописуемому ужасу горничных».
Возможно, узнав, что девушка беременна, Байрон из благородных побуждений сообщил друзьям, что женится на ней, потому что Хобхаус обеспокоенно писал: «История твоей помолвки с мисс, забыл ее имя, разошлась по всему Кембриджу». Хобхаус почувствовал облегчение, когда понял, что Байрон прислушался к его совету и не собирается связать себя узами неравного брака. «Исходя из всего тобой сказанного, ты никогда не будешь холостяком. Но лично я с каждым днем ощущаю все возрастающее презрение и ненависть к этой женщине. С таким же успехом можно жить с проституткой или фурией». Байрон полностью согласился с Хобхаусом. Августе он сказал, что не пойдет на жертвы даже ради наследника.
Всю жизнь Байрон находил удовольствие в непристойных компаниях. Через «Джентльмена» Джексона он вошел в круг бывших боксеров и устроил на Эпсом-Даунз матч между известным молодым боксером Томом Бэлчером и чемпионом из Ирландии Доном Доггерти, за которого болел. Доггерти проиграл. Хотя Байрон не любил азартных игр, понимая, что они ему не по карману, все же ему были по душе и они, и игроки. Он писал: «Мне кажется, что картежники счастливы, постоянно испытывая возбуждение. Женщины, вино, слава, честолюбие, пиры быстро надоедают; но каждая открытая карта и брошенная кость волнуют кровь игрока…»
Здоровье Байрона улучшилось, чего нельзя сказать о его финансовом положении. «Между нами говоря, – писал он Бичеру, – я в чертовски ужасном положении: все мои долги до того, как мне исполнится двадцать один год, будут составлять девять или десять тысяч». Чтобы избежать соблазна расточительства, 16 июня Байрон отправился в Брайтон. Его больше всего привлекало море, потому что своей любви к плаванию он был верен неизменно. 4 июля он вернулся в Кембридж, чтобы получить ученую степень. «…Старый сумасшедший дом (альма-матер) присудил мне степень магистра гуманитарных наук, потому что деться было некуда. Вы же знаете, что за фарс выпуск в Кембридже».
Хобхаус и Дэвис сопровождали Байрона в Брайтон. Там он провел остаток лета, постоянно купаясь в море, сочиняя грустные стихи своим лондонским возлюбленным и иногда погружаясь в запои. Порой на него накатывала меланхолия, находившая выражение в стихах. Тайное разочарование и желание, скрытые в письмах под маской шутовства, полностью звучали в таких строчках: «Хочу я быть ребенком вольным». Чем сильнее было разочарование, тем чаще возвращался он к милым образам юности. То, что никогда не появлялось в его письмах, звучит в стихах, написанных тем летом: Байрон по-настоящему привязался к одной из лондонских нимф, возможно голубоглазой Каролине, в чем не признавался даже своим друзьям.
В начале сентября Байрон вернулся в Ньюстед. Хотя жилец аббатства лорд Грей запустил парк и озера, Байрон ощутил прилив нежности к Ньюстеду и не допускал и мысли о его продаже в уплату долгов. Он мечтал устраивать роскошные празднества, подобно своим предкам. В Ньюстед приехал Хобхаус, и они вместе строили планы, однако в настоящее время «в доме было полно рабочих, и сам замок перестраивался». Огромные расходы тревожили мать Байрона, которой он серьезно сообщал: «Ты не можешь возражать против моего желания сделать дом вновь обитаемым, несмотря на мой отъезд в Персию в марте или, самое позднее, в мае, потому что по моем возвращении ты уже будешь жить в аббатстве…»
Путешествие на Восток Байрон задумал в январе, когда писал своему другу по Хэрроу, Де Бату: «В январе 1809 года мне исполнится двадцать один год, и весной того же года я отправлюсь за границу не в обычное путешествие, а в более длительное. Что ты скажешь насчет Пелопоннеса и путешествия на греческие острова? Я говорю совершенно серьезно, потому что мои мысли направлены на паломничество…» В глубине души Байрон желал занять место в палате лордов и отправиться за границу, чтобы набраться опыта для дальнейшей карьеры в парламенте. Все это очень впечатлило бы его опекуна, юриста и мать. Однако помыслы Байрона слишком запутанны. Глубокое романтическое стремление к дальним краям и новым впечатлениям, а также все растущее недовольство расточительной и развратной жизнью явились действительной причиной для отъезда Байрона из Англии.
Он был слишком слаб и общителен, чтобы изменить образ жизни, поэтому ему могла помочь лишь перемена места, вырвавшая бы его из повседневного существования.
Можно догадаться, куда стремился Байрон, по тому факту, что на маскараде в Ноттингеме он попросил портного сшить ему роскошный турецкий костюм с «настоящей чалмой». Матери он писал о своем путешествии на Восток: «Признай, что мой план не так уж плох. Если я не поеду сейчас, то не поеду никогда, а это должен сделать каждый человек рано или поздно… Если мы не увидим никакого другого народа, кроме своего собственного, то не дадим шанса человечеству…»
Байрон избрал главным устроителем своих семейных дел старого Джона Меррея, бывшего еще управителем «Жестокого лорда». Среди других помощников были Уильям Флетчер, слуга, и Роберт Раштон, красивый мальчик, сын одного из арендаторов аббатства, к которому Байрон очень привязался. Любимая собака Байрона Боцман и ручной медведь жили теперь в Ньюстеде. Байрон и Хобхаус наслаждались независимой жизнью аристократов в полуразрушенном богатом замке. Они купались в озере и ездили верхом по запущенному парку. «Хобхаус охотится и тому подобное, – писал Байрон Ходжсону, – а я не делаю ничего». Но это не совсем так, потому что он постоянно писал. Это была новая сатира.
Когда Мэри Чаворт, теперь миссис Мастере, услышала, что Байрон вернулся в Ньюстед, она пригласила его с Хобхаусом на обед в Аннсли-Холл, с которым у Байрона были связаны такие мучительные воспоминания. Байрон признался Ходжсону: «Я позабыл беспечность и мужество и не мог ни смеяться, ни говорить, причем леди чувствовала то же, что и я…» Хобхаус ничего этого не заметил, и Байрон, не желавший делиться со своим другом-циником, рассказывал о случившемся с обычной непристойностью, к которой примешивалась горечь. Чувства Байрона, как обычно, нашли выход в стихах.
На Байрона обрушилась еще одна неприятность. Боцман, огромный ньюфаундленд, с которым так часто играл Байрон, заболел бешенством и погиб у него на глазах. Мур говорит, что лорд Байрон «настолько не обращал внимания на опасную болезнь, что несколько раз голыми руками вытирал пену с пасти собаки во время припадков». Горе Байрона было неподдельно, и в этот раз, как и всегда, он обратился к стихам, написав эпитафию на могилу Боцмана в саду аббатства.
Теперь Байрон сильнее прежнего стремился уехать из Англии. Он упорно убеждал Хэнсона в необходимости этого путешествия. «Я мечтаю изучить индийскую и азиатскую политику и образ жизни. Я молод, достаточно энергичен, неприхотлив; модные в обществе пороки не приносят мне радости, и я твердо намереваюсь объять больше, чем обычный путешественник… Поездка в Индию займет полгода, и если у меня будет дюжина помощников, то обойдется меньше чем в пять сотен фунтов. Вы должны согласиться, что тот же промежуток времени, проведенный в Англии, приведет к расходам в четыре раза большим».
Хэнсону и самому приходилось убеждаться в правдивости последнего. Однако следующее предложение ужаснуло его: «Вы оплатите мои долги: они составляют примерно двенадцать тысяч фунтов, а мне на дорогу потребуется около трех-четырех тысяч. Если денег не хватит, придется что-нибудь продать, но только не Ньюстед». Байрон надеялся продать поместье Рочдейл в Ланкашире, незаконно сданное в аренду «Жестоким лордом». Но это оказалось невозможным, Байрона огорчило заявление Хэнсона о том, что поместье находится в плачевном состоянии с точки зрения юрисдикции. Байрон преувеличенно весело сообщал: «Наверное, закончится тем, что я женюсь на богатой кукле или размозжу себе голову: одно не лучше другого».
К концу ноября Хобхаус покинул Ньюстед. Байрон пригласил на рождественские каникулы нескольких друзей, включая таких совершенно противоположных, как Ходжсон и «Джентльмен» Джексон, однако не один из них не смог приехать. В одиночестве Байрон вернулся к своим мизантропическим размышлениям. Когда садовник принес ему найденный в земле человеческий череп, Байрон по своей мрачной причуде решил сделать из него чашу. По его словам, «этот череп, вероятно, принадлежал какому-нибудь веселому монаху из аббатства». Он отправил его в Ноттингем и получил «отполированную чашу крапчатого цвета, наподобие черепашьего панциря…». Череп был оправлен в серебро, счет ювелира составлял 17 фунтов 17 шиллингов, что не обеспокоило Байрона, ведь он получал и более значительные счета. Это событие нашло отражение в поэме «Стихи, начертанные на чаше из черепа»:
Я жил, как ты, любил и пил:
Теперь я мертв – налей полнее!
Не гадок мне твой пьяный пыл,
Уста червя куда сквернее.
Свой двадцать первый день рождения Байрон отметил в Лондоне, предоставив Хэнсону представлять его в Ньюстеде, где жильцы уже готовили праздник в честь этого события. Байрон как-то обронил, что и в аббатстве он не был лишен женского общества. Он нанял двух служанок для работы по дому больше потому, «что младшая из них беременна (не буду говорить от кого), и я не хочу, чтобы девушка жила в церковном приходе». Несмотря на письма, Байрон никогда не вел себя столь бездумно. Хотя он не был влюблен в девушку (Люси) и не притворялся, что это так, он обеспечил ее даже больше, чем по тем временам был обязан обеспечить лорд в подобной ситуации: 50 фунтов для нее и для ребенка ежегодно. Очевидно, когда родился ребенок, он написал стихотворение «К моему сыну», в котором приветствовал свое «дитя любви».
В Лондоне Байрон прежде всего позаботился об издании своей сатирической поэмы и о занятии принадлежащего ему по праву места в парламенте. Он написал графу Карлайлу о своем намерении появиться в палате лордов, надеясь, что его опекун избавит его от необходимости представляться самому, введя его в палату как своего близкого родственника. Однако граф сообщил ему о проведении всей процедуры, но не предложил представить его. Байрон был оскорблен тем, что из-за высокомерия графа вынужден будет доказывать канцлеру палаты свое право на присутствие.
Тем временем Байрон готовился к карьере в парламенте, читал политические мемуары и книги по истории. Его счета в книжных лавках быстро росли. Он покупал серьезные труды: «Хроники» Холиншеда, «Дебаты и история парламента» Коббетта, «Мемуары Граммонта» и сорок пять томов «Британских эссеистов». Расточительность сына огорчала миссис Байрон. Она писала Хэнсону: «Молю Бога, чтобы он прекратил свои безумства. Он должен жениться на богатой женщине этой же весной: брак по любви – сплошная ерунда. Пусть он по назначению использует дар, которым Господь наградил его. Он английский пэр и обладает всеми вытекающими отсюда привилегиями».
Весь февраль, ожидая приема в парламенте, Байрон продолжал посылать Далласу исправления и изменения «Английских бардов и шотландских обозревателей» – такое название он дал своей сатире. Наконец Далласу удалось договориться с Джеймсом Которном насчет выпуска тысячи экземпляров.
Проходя мимо «Реддиш-отеля» на Сент-Джеймс-стрит 13 марта, Даллас увидел экипаж Байрона и сел в него. Байрон был взволнованнее и бледнее обычного. Он собирался занять место в парламенте, и Даллас сопровождал его в палату лордов. Из-за многочисленных унизительных задержек визита в парламент Байрон был в мрачном настроении. После церемонии канцлер лорд Элдон поднялся со своего места и протянул Байрону руку, однако тот просто коснулся его пальцев и на несколько минут присел на одну из скамей оппозиции. Позже он вспоминал, что канцлер извинился за задержку, объяснив, что «формальности являются частью его обязанностей». Байрон ответил: «Ваша светлость вели себя в точности как Мальчик-с-пальчик (это произведение как раз шло тогда в театрах). Вы исполняли свой долг, и не более того». Довольно грубый ответ Байрона отчасти объяснялся обидой, а отчасти тем, что он «рожден для противоречия» и не хотел, чтобы канцлер-тори решил, что Байрон его поддерживает. Застенчивость вынудила его напустить на себя самодовольный и беззаботный вид, совсем не соответствующий его душевному состоянию.
Статья «Английские барды и шотландские обозреватели» появилась два дня спустя без имени автора на обложке, что было сделано по его просьбе. С юношеской порывистостью Байрон обрушился на почти всех современных авторов, которые, в сравнении с Поупом, Драйденом или его последним увлечением, Гиффордом, были либо «дураками», либо «мошенниками». «Свора гончих помчалась по следу, и ее добыча – писаки». Байрон проклинал «рифмоплета Саути» за то, что тот пишет слишком много; Мур, которого Байрон с жадностью читал в детстве, был заклеймлен за пошлость; Скотт обвинялся в написании «низкопробных романов» за деньги. Несмотря на подражательный характер поэмы, среди строк все чаще проскальзывали оригинальный стиль и ирония автора. Отзываясь на недавние критические статьи Вордсворта, Байрон не уступал своему учителю Поупу, восклицая: «…о чем думали, но выразить не могли!»
К этой сатире Байрон добавил критику Фрэнсиса Джеффри, редактора «Эдинбургского обозрения», решив, что именно он в своей статье разгромил байроновский сборник «Часы досуга». Однако сатира получилась скучной, кроме одного отрывка, где Байрон обращается к известному своей строгостью судье Джеффрису с просьбой приготовить веревку для своего тезки.
Почувствовав, что они с издателями квиты, и представившись палате лордов, Байрон собрался за границу. Он понял, что придется сжечь за собой все мосты, и еще больше привязался к своим друзьям по Хэрроу, с которыми его связывали скорее узы нежной дружбы, а не общие интересы. Он нанял художника-миниатюриста Джорджа Сэндерса, чтобы тот написал несколько портретов – обменяться с друзьями.
В ожидании, пока Хэнсон соберет средства на путешествие, Байрон пригласил своих веселых друзей, включая Хобхауса, Мэттьюза и Уэддерберна Уэбстера, в свое поместье. Рассказы о бесстыдных оргиях, разыгрывавшихся там, появились уже при жизни Байрона, и их прибавилось после его смерти, однако это были не больше чем веселые развлечения, подогретые отборными запасами байроновских вин. Байрон вспоминал: «Мы вместе отправились в Ньюстед, где были знаменитый винный погреб и маскарадные монашеские одеяния… Мы допоздна засиживались в рясах монахов, пили бургундское, кларет, шампанское из черепа и дурачились по всему дому…» Мэттьюз был заводилой этих шумных дурачеств. Он называл Байрона «Аббат» и представлял привидение, появляющееся из каменного гроба, чтобы задуть свечу Хобхауса.
Что касается веселых и смеющихся «куртизанок» в аббатстве, как всему свету сообщил Байрон в «Чайльд Гарольде», то, возможно, это были служанки, скрашивавшие его одиночество. «Комната с привидениями», маленькая комната, прилегающая к спальне Байрона наверху, в которой, поговаривали гости, появлялась фигура монаха без головы, была занята Робертом Раштоном, красивым юношей, слугой Байрона.
Байрон постоянно торопил Хэнсона со сбором денег для поездки. 16 апреля он написал из Ньюстеда: «Если бы последствия моего отъезда из Англии были в десять раз плачевнее, чем вы пишете, все равно есть обстоятельства, делающие мой скорейший отъезд неизбежным». Байрон купил билет на пароход, отходящий б мая из Фалмута, и умолял Хэнсона поторопиться со сбором средств на «любых условиях». Манера, с какой Байрон пишет о своем стремлении уехать как можно скорее, более предполагает какую-то личную причину, нежели финансовое бессилие кредиторов. Позднее, в Греции, он вновь обратился с своему странному побегу из Англии и нежеланию возвращаться туда. Он уверял Хэнсона, что это отнюдь не страх перед последствиями, которые может произвести его сатира. «Если повезет, я никогда не вернусь в Англию. Почему? Пусть это останется в тайне». Эти смутные намеки, так непохожие на хвастливые рассказы о проделках с «нимфами» в Лондоне или откровенные признания Хэнсону о шалостях с Люси, наводят на размышления о том, что Байрон хотел убежать от своего влечения к юношам или даже боялся сблизиться с Эдлстоном, хористом из Кембриджа, который хотел поселиться с ним в Лондоне. Как бы там ни было, истинной причины мы, вероятно, никогда не узнаем.
25 апреля Байрон прибыл в «Батт-отель» на Джермин-стрит, чтобы узнать новости о своей сатире и получить деньги на путешествие. Некий мистер Собридж предлагал ему взаймы 6000 фунтов, однако переговоры должны были затянуться до июня и пришлось бы отложить поездку. Байрон был окрылен успехом поэмы и уже готовил второе, дополненное издание, на котором собирался указать свое имя. Однако бодрое настроение чередовалось с приступами отчаяния. Байрон дважды побывал на публичных выступлениях в Хэрроу. Его друг лорд Фолкленд был убит на дуэли, и Байрон, чтобы помочь вдове, наделал еще больше долгов, положив в чашку в доме леди Фолкленд 500 фунтов, которые она заметила только после его ухода.
С друзьями по Кембриджу Байрон был остроумным и жизнерадостным. Цинизм и беспечный фатализм Хобхауса, Мэттьюза и Дэвиса нравились ему больше, чем лицемерное ханжество общества. Он пригласил в путешествие Хобхауса и Мэттьюза, но только Хобхаус, который поссорился с отцом, принял приглашение, не имея на это средств. Однако Байрон, у которого было больше 13 000 фунтов, предложил снабдить Хобхауса всем необходимым.
В предвкушении путешествия Байрон раздражался, если отъезд затягивался по финансовым причинам. Он написал Хэнсону: «…добудьте мне три тысячи фунтов. Если возможно, продайте в мое отсутствие Рочдейл, выплатите ежегодную ренту и мои долги, а с остальным поступайте по своему усмотрению, только дайте мне уехать из этой проклятой страны. Клянусь, что лучше стану мусульманином, чем вернусь обратно». Ожидая заема от Собриджа, Байрон продолжал пользоваться услугами ростовщиков, обещавших в течение семи лет ежегодно выплачивать ему по 400 фунтов.
К 19 июня терпение Байрона истощилось, и он объявил о своем отъезде. Вместе с Хобхаусом он отправился в Фалмут в сопровождении слуг и багажа. Он взял старого Джо Меррея, Уильяма Флетчера, своего верного слугу, который служил хозяину до его кончины в Миссолонги, и Роберта Раштона, который, «подобно мне, кажется одиноким созданием», как говорил Байрон матери. Возможно, в Лондоне Байрон и Роберт позировали для портрета Сэндерса в широких галстуках.
Из Фалмута Байрон написал матери: «Я разорен, по крайней мере до продажи Рочдейла; и, если это не удастся, придется пойти на службу к австрийскому или русскому двору, а может быть, турецкому, если мне понравятся манеры турок. Весь мир лежит передо мной, я без сожалений покидаю Англию и не хочу видеть никого и ничего там, кроме тебя и твоего дома». Миссис Байрон, которая в отсутствие сына поселилась в Ньюстеде, писала Хэнсону то, что не осмеливалась сказать сыну: «Лорд Грей де Рютин женился на дочери фермера, а Смит Райт собирается жениться на леди с двумястами тысячами фунтов дохода!»
Разочарованный отчет Хэнсона о том, что Собридж дал всего 2000 фунтов, был сглажен займом размером в 4800 фунтов от Скроупа Дэвиса, которому повезло за карточным столом. Байрон радостно сообщал Генри Друри: «Корабль на Мальту отойдет лишь через несколько недель, поэтому мы пройдем в виду Лиссабона. Хобхаус рьяно приготовился к написанию книги после возвращения домой: сотня перьев, два галлона японских чернил и несколько пачек отменной бумаги – неплохое подкрепление для проницательной публики. Я отложил свое перо, но пообещал внести свою лепту в виде статьи о нравах и трактата на ту же тему под заголовком «Упрощенная содомия, или Достойная восхищения педерастия от древних авторов до наших дней». Хобхаус надеется обезопасить себя в Турции от целомудренной жизни, демонстрируя свое «прекрасное тело» всему Дивану, то есть совету…
P.S. В Фалмуте нас зверски покусали блохи».
Мэттьюзу Байрон писал с веселыми намеками, составляющими их собственный, придуманный язык, о занимательных сторонах жизни Фалмута, города моряков, и «восхитительного уголка, которого, наверное, не найдешь нигде больше в нашем отечестве, отличающегося полным набором всевозможных развлечений на любой вкус. Мы окружены гиацинтами и другими душистыми цветами, и я собираюсь отобрать самый красивый букет, чтобы сравнить его с причудливыми азиатскими цветами. Один цветок я обязательно возьму с собой».
30 июня на борту лиссабонского пассажирского судна «Принцесса Елизавета» Байрон написал для Ходжсона веселые строчки, в которых изображается шторм на море:
При последнем издыханье,
Проклиная все вокруг,
Завтрак вместе со стихами
Выблевал Хобхаус в люк.
Словно в Лету…
Но путешествие началось только 2 июля. Несмотря на шутливые письма, настроение Байрона, покидающего родные берега, было более чем обычно сентиментальным и тоскливым. Отдав должное насмешкам и преувеличениям, он отразил чувства и мотивы своего отъезда в первой песне «Паломничества Чайльд Гарольда». Через грустные строки пробивается воспоминание о веселых приключениях, которые ожидали Байрона в чужих краях.
Корабль плыл быстро: уже через четыре с половиной дня после выхода из Фалмута он приблизился к устью реки Тахо. В то время как душа Байрона была полна возвышенных мыслей, бунтующий желудок сильно беспокоил его, несмотря на относительно тихую погоду на море. Он признавался Ходжсону: «У меня морская болезнь, и меня мутит от моря». Когда на палубе появились португальские лоцманы, молодой англичанин с потрясающей ясностью и восторгом ощутил, что находится в чужих краях. «Я очень счастлив, – писал Байрон Ходжсону, – потому что обожаю апельсины и беседую на ужасной латыни с монахами, которые тем не менее ее понимают, потому что она не сильно отличается от их языка. Я хожу в город (с пистолетами в карманах), переплываю Тахо, езжу на осле или на муле и ругаюсь по-португальски, у меня расстройство желудка, и я весь искусан москитами».
Хобхаус, начавший вести дневник со дня прибытия в Лиссабон, в основном описывал грязь, бедность и невежество страны. Война на полуострове была в полном разгаре. Сэр Артур Уэллесли находился на границе и через месяц поклялся войти в Мадрид и вообще, по словам Хобхауса, «был городским богом». Несмотря на то что англичане считались союзниками и освободителями, в городе процветали жестокость и мошенничество, поэтому разумно было появляться там лишь с оружием, особенно ночью.
11 июля Байрон и Хобхаус отправились в Синтру. Байрон сообщал матери, что «деревня эта, вероятно, один из самых пленительных уголков в Европе. Среди скал, водопадов и ущелий высятся дворцы и сады; на утесах расположились монастыри, откуда открывается восхитительный вид на реку Тахо и море…». Но прекраснее всего мавританский дворец Монтсеррат, где жил Бекфорд, автор «Ватека».
Чтобы скоротать время в Лиссабоне, Байрон переплывал широкое устье Тахо и выходил на берег близ замка Белем, что было, по мнению Хобхауса, поступком более отважным, чем пересечь Геллеспонт. Через две недели им надоела Португалия, и они решили верхом отправиться в Испанию, посетив Севилью и Кадис. Слуги и багаж на корабле должны были идти к Гибралтару. Байрон взял с собой Роберта Раштона и нанял проводника-португальца по имени Сангинетти, чтобы он провел их по полуострову. То, что эта земля совсем недавно была полем битвы, лишь еще больше усиливало ее притягательность.
В Севилье, штабе повстанческой армии и союзников, где было полно народу, Байрон и Хобхаус сняли квартиру у двух незамужних дам, Хосефы Бертрам и ее сестры, на Калль де лас Крусес, 19. Хобхаус откровенно писал: «Без обеда и ужина легли спать в маленькой комнатушке вчетвером в одну кровать». Однако Байрону эти неудобства не доставили раздражения. Матери он писал: «Старшая сестра окружила твоего недостойного сына особым вниманием, нежно обняла его при расставании (я жил там три дня), срезала прядь его волос и подарила на память свою, около трех футов в длину, которую я и посылаю тебе и умоляю сохранить до моего возвращения. Ее последние слова были: «Adios, tu hermoso! Me gusto mucho» – «Прощай, красавец! Ты мне очень нравишься». Она предложила мне часть квартиры, однако скромность вынудила меня отказаться».


Байрон был в восторге от Испании. Он писал Ходжсону: «Лошади великолепные, в день мы делаем семьдесят миль. Довольствуемся яйцами, вином и жесткими постелями – вполне достаточно в этом знойном климате. Чувствую себя лучше, чем в Англии. Севилья – красивый город, а Сьерра-Морена, которую мы переходим, – крупная горная гряда, но поистине дьявольская». Позднее о Севилье – родном городе Дон Жуана – он сказал: «Красивый город, знаменитый своими апельсинами и женщинами». В Кадисе Байрон был поражен великолепием боя быков и посвятил ему одиннадцать куплетов «Дон Жуана», однако жестокость этого зрелища вызвала у него отвращение, особенно ужасно было видеть, как «дико мечется измученная лошадь».
В целом о Кадисе у Байрона остались самые теплые воспоминания. «Кадис, милый Кадис! – писал он Ходжсону с Гибралтара. – Самый прекрасный уголок мироздания. Красота улиц и особняков еще больше подчеркивается красотой их обитателей. Кадис – обитель Цитеры. Многие вельможи, оставившие разрушенный войной Мадрид, обосновались здесь, в этом самом прекрасном и чистом городе Европы. По сравнению с ним Лондон просто грязен».
Байрон писал матери, что в ночь перед отъездом он сидел в ложе в опере с семьей адмирала Кордовы. В своем дневнике Хобхаус записал: «Б. был в ложе с мисс Кордовой. Он вел себя как влюбленный безумец…» Байрон писал: «Дочь адмирала отобрала у старухи (тетушки или дуэньи) стул и приказала мне сесть рядом с собой, подальше от своей матери».
Романтическое увлечение огненной красавицей нашло отражение в стихах «Девушка из Кадиса»:
Британки зимне-холодны,
И если лица их прекрасны,
Зато уста их ледяны
И на привет уста безгласны;
Но Юга пламенная дочь,
Испанка, рождена для страсти…
Однако когда чары рассеялись, Байрон признался: «Вне сомнения, они очаровательны, но головки их полны только одним: интригами».
На борту фрегата «Гиперион» 3 августа Байрон обогнул мыс Трафальгар и на следующий день увидел Гибралтар, так непохожий на Севилью и Кадис, «самое грязное и отвратительное место на земле». Байрон и Хобхаус каждый день поднимались на скалу полюбоваться заходом солнца и обратить мечтательные взоры на берега Африки, потому что перед тем, как добраться до Азии, Байрон надеялся увидеть и этот континент. Однако его мечты развеял встречный ветер.
Когда наконец из Лиссабона прибыли слуги и багаж, Байрон и Хобхаус стали спешно собираться к отплытию на Мальту на корабле «Тауншенд». Байрон отправил Джо Меррея домой, потому что тот был слишком стар для путешествия по Востоку. За ним последовал и Роберт Раштон, «потому что в Турцию мальчикам его возраста было опасно ехать». Когда 15 августа корабль отправился в путь, из всех слуг Байрона сопровождал только верный Флетчер. Джон Голт, находившийся на борту, заметил, что «Хобхаус, в котором было больше простоты, быстро сошелся с другими пассажирами, а Байрон держался особняком и часто сидел на корме, прислонившись к вантам…». Однако на третий день его настроение изменилось, и он стал более общительным. Вместе с другими пассажирами он принялся стрелять по бутылкам. Но с наступлением ночи он вновь вернулся на ванты и часами сидел там в молчании.
Можно предположить, что причиной мрачного расположения духа Байрона была разлука с Робертом Раштоном, о котором он не переставал думать. Матери он писал: «Умоляю тебя, будь к нему добра, потому что я его очень люблю…» Байрон попросил отца мальчика выделить 25 фунтов из арендной платы на обучение Роберта. «В случае моей смерти он не будет ни в чем нуждаться согласно моему завещанию». Это завещание Байрон составил 14 июня 1809 года; по нему Раштон будет получать 25 фунтов ежегодно в течение всей жизни, а после смерти Джо Меррея эта сумма увеличится еще на 25 фунтов. В завещании, написанном в мрачном тоне после отъезда из Англии, Байрон просил, чтобы вся его библиотека перешла к лорду Клэру, земли и вся собственность – к Хобхаусу и Хэнсону, а мать должна была до самой смерти получать ежегодно 500 фунтов. Байрон пожелал «быть похороненным в склепе Ньюстедского аббатства без всякой траурной церемонии: никакой службы, священников и монумента с надписью, кроме имени и даты смерти. При этом памятник на могиле собаки не должен быть потревожен».
На Мальте Байрон встретил романтичную Констанцию Спенсер Смит. Это была женщина, способная покорить воображение поэта. Она была старше его на три года и обладала всеми достоинствами особы, жившей при иностранных дворах. Дочь австрийского посла в Константинополе, она вышла замуж за англичанина, одно время полномочного представителя в Турции, который настолько приводил в ярость Наполеона, что его жене дважды приходилось бежать с территории, захваченной французами. Байрон был очарован и постоянно находился рядом с Констанцией во время пребывания в Валетте. В Англии его пассиями были сельские девушки, подобные Джулии Ликрофт, актрисы или служанки. Непривычный к женщинам высокого положения, вначале он, по-видимому, чувствовал себя скованно, и эта сдержанность вкупе с классической красотой и обаянием вскружила даме голову.
И Хобхаус и Голт подумали, что Байрон ведет себя просто как галантный кавалер, и его намерения не серьезны, но они ошибались, введенные в заблуждение его обычными шутливыми замечаниями, и поняли свою ошибку позже, когда страсть уже остыла. Байрон писал леди Мельбурн: «…осенью 1809 года в Средиземном море я был охвачен всепоглощающей страстью, более бурной, чем эта связь (с Каролиной Лэм). Все было решено, и мы должны были отправиться во Фриули. Но увы! Все испортило подписание мира, по которому Фриули перешли во владение Франции. Однако мы условились встретиться в будущем году, хотя я говорил своей подруге, что нет ничего лучше настоящего момента и что я не могу рассчитывать на будущее. Она была уверена в своих чарах, а я в тот момент больше сомневался в ней, чем в себе».
Байрон и Хобхаус воспользовались возможностью отплыть на двухмачтовом судне «Паук», которое сопровождало флотилию британских торговых кораблей в Патры и Превезу. Они отправились в путь 19 сентября. Когда корабль бороздил волны голубого Ионического моря, Байрон почувствовал нетерпение путешественника, приближающегося к греческим островам. Они бросили якорь в гавани города Патры, охраняемой турецкой крепостью. Сойдя на берег, чтобы почувствовать землю Греции под ногами, Байрон и Хобхаус занялись стрельбой из пистолета, после чего возвратились на «Паук». На пути в Превезу они заметили лежащий в низине, к северу от залива Лепанто, город Миссолонги, так в первый день пребывания в Греции Байрон узрел вдалеке болотистый город, где пятнадцать лет спустя встретил свою смерть.
Первое впечатление от Превезы было испорчено дождем, от которого узкие улочки покрылись непроходимой грязью, а голые убогие стены домов-бараков стали еще ужаснее. 29 сентября Байрон и Хобхаус сошли на берег в военном обмундировании, но вскоре промокли насквозь. Байрон легко приспособился к неудобствам, а Хобхаус признался, что в первый же день на албанской земле мечтал вернуться домой. Истинный сын Англии, он писал: «Откровенно говоря, слово «комфорт» не применимо ни к чему, что находится за пределами Британии».
Но на следующий день взошло солнце и земля изменилась до неузнаваемости. Они ехали верхом через оливковые рощи к развалинам Никополя, смотрели на море, видневшееся между деревьями, слышали блеяние овец и далекий колокольный звон. 1 октября путники направились в Янину (по-гречески Иоанину), новую столицу Али-паши в самом сердце Эпира. Байрон никогда не путешествовал налегке. Четыре больших кожаных сундука и три маленьких были доверху набиты книгами, привезенными из Англии. В дополнение к этому путешественники везли походную кухню, три кровати и две легкие деревянные подпорки, чтобы защититься от насекомых и сырого пола. Для лошадей специально из Англии они привезли седла и уздечки. Путников теперь было четверо: в помощь слуге Флетчеру взяли переводчика по имени Георгий.
5 октября прибыли в Янину. Город, раскинувшийся у подножия Пинда, выглядел живописно, и даже в Хобхаусе проснулось непривычное красноречие: «Дома, купола и минареты, сверкающие сквозь апельсиновые и лимонные деревья и кипарисовые рощи, спокойное озеро, мерно несущее свои воды у подножия города, горы, отвесно стоящие на его берегах». Однако уже в предместьях они столкнулись с примером жестокости Али: с дерева свисали человеческая рука и половина тела.
Путешественники отправились к капитану Лику, официальному британскому наместнику в Янине, которому уже давно было известно о приезде Байрона. В доме грека, знающего итальянский язык, Николо Аргири[2], уже были подготовлены комнаты. Али-паша, правитель Албании и тогдашней Западной Греции, предоставил путешественникам сопровождение и настоятельно просил их приехать погостить у него в замке в Тепелене, на севере Албании, куда он направлялся, «чтобы закончить маленькую войну».
У гостеприимства Али-паши была своя причина: он хотел заручиться дружбой англичан, чтобы противостоять влиянию Франции на Ионических островах. До отъезда в Тепелену молодые английские путешественники провели шесть радостных дней в городе с мечетями и турецкими домами. У портного они заказали албанские костюмы, «похожие на фазанье оперение». Возможно, Байрон купил «несколько великолепных албанских костюмов. Они стоили по 50 гиней каждый, и были так разукрашены золотом, что в Англии стоили бы двести фунтов».
Путешественники видели греческую свадьбу и приготовления к Рамадану, или мусульманскому посту, который начался со стрельбы из пистолетов и ружей в тот час, когда на небе появилась луна. Как-то вечером они посетили турецкую баню, но испугались старого банщика и не вошли в парную. Им показали дворец Мухтар-паши, старшего сына Али. Проводником был сын Мухтара, Хуссейн, «маленький мальчик лет десяти, с большими черными глазами размером с голубиное яйцо, серьезный, как шестидесятилетний старец», который спросил, как Байрон путешествовал без лалы (наставника).
11 октября они отправились в Тепелену. Байрон никогда не забывал этого волшебного путешествия. Даже сквозь печальные настроения «Чайльд Гарольда» проскальзывают восторженные нотки. В первый день Байрон неспешно шел в хвосте своего маленького отряда и был застигнут страшной грозой с грозным сверканием молний и потоками дождя. Две лошади упали, переводчик Георгий, волнуясь, «топал ногами, ругался, кричал и стрелял из пистолетов, напугав слугу, который принял этот шум за нападение разбойников… Ситуация приняла такой серьезный оборот, что лорд Байрон рассмеялся», – записал Хобхаус. Остальные участники путешествия добрались до деревни Зитца, расположенной на склоне холма над долиной реки Каламас. Байрон в шерстяном плаще с капюшоном остановился у турецких могил и написал несколько строк к «милой Флоренс» (Констанции Спенсер Смит), поэтому приехал только в три часа утра. На следующий день путешественники отдыхали и осматривали монастырь над городом. «Это самый прекрасный вид, не считая Синтры в Португалии, который я когда-либо лицезрел», – писал Байрон.
Им понадобилась неделя, чтобы добраться до Тепелены, расположенной в семидесяти пяти милях от Янины, поскольку дороги размыло дождем. Путешествие оказалось утомительным, но Байрон был полон восторга и радужных надежд. Он вспоминал, что Хобхаус, «когда мы были странствующими путниками, горестно жаловался на жесткую постель и укусы насекомых, хотя я спал как младенец, и постоянно будил меня своими стенаниями; каждый день он проклинал еду и упрекал меня в жестоком равнодушии…».
Байрон был горд тем, что путешествует по стране, в глубь которой еще не проникал ни один англичанин, кроме Лика. В замечаниях к «Чайльд Гарольду» он процитировал слова Гиббона о том, что «страна неподалеку от Италии менее известна, чем внутренние области Америки». Байрон восхищался дикими горными грядами. «Арнауты, или албанцы, произвели на меня сильное впечатление своим сходством с шотландскими горцами… Их горы напоминают пейзаж Каледонии, но с более мягким климатом. Они тоже носят кильт, но белый и более просторный, их диалект напоминает кельтский, а их суровые привычки снова вернули меня к Морвену». Далее он продолжает: «Мы видели, как дорогу, размытую водным потоком, восстанавливали самые прекраснейшие из всех женщин, живущих на земле».
19 октября они спустились с гор и увидели в лучах заходящего солнца башни и минареты Тепелены. Байрон, обычно отделывающийся кратким описанием, на этот раз восторженно передавал свои впечатления матери: «Албанцы в национальных костюмах (самых великолепных в мире, состоящих из длинной белой юбки, плаща, украшенного золотой вышивкой, алой бархатной куртки с золотыми шнурами и жилетки, с пистолетами с серебряными рукоятками и кинжалами), татары в высоких шапках, турки в просторных плащах и чалмах, солдаты и черные рабы с конями, первые – группами на огромной открытой галерее перед дворцом, вторые – под крытой аркадой внизу, двести коней в чепраках, готовых пуститься вскачь в любую минуту, гонцы, снующие туда-сюда с донесениями, звон литавр, крики мальчиков, возвещающих время суток с минаретов…»
Атмосфера арабских ночей на фоне варварской роскоши оставила неизгладимый след в памяти Байрона. Его меньше тронул вид Константинополя с его великолепными мечетями и минаретами и самого султанского дворца. Больше его привлек маленький дворец Али-паши в недоступных горах Албании.
Гостеприимство паши к английским гостям, вероятно, усиливалась оттого, что британские войска недавно захватили острова Итаку, Кефалонию и Зант, отбив их у французов. Однако Байрон был убежден, что на Али произвел впечатление его титул. Хобхаус сухо записал: «Лорд Байрон прочел мне лекцию о том, что я не питаю должного уважения к английской аристократии».
Для аудиенции с Али Байрон оделся «в полный костюм служителя дворца с великолепной саблей». Он был поражен личностью Али, обладающего в своем маленьком королевстве большей властью, чем сам султан, которому он выплачивал формальную дань. Жестокость Али заставила Байрона изобразить его романтическим злодеем в своих восточных поэмах и пиратом Ламбро, отцом «невесты-гречанки» Дон Жуана, который «отличался от остальных любителей разбоя – как джентльмен пристойно он держался».
Байрон писал матери: «Визирь принял меня в большой мраморной зале, в центре которой бил фонтан, а по стенам стояли алые оттоманки. Он встал мне навстречу – неслыханная почесть от мусульманина – и пригласил меня сесть с правой стороны. Он сказал, что я точно благородный господин, потому что у меня маленькие уши, вьющиеся волосы и изящные кисти рук, выразил удовлетворение моей внешностью и костюмом. Просил меня относиться к нему как к отцу, пока я буду в Турции, и добавил, что считает меня своим сыном. Он и в самом деле относился ко мне как к ребенку, по двадцать раз в день присылая мне миндаль, шербет, фрукты и сладости. Он просил почаще приходить к нему в гости, особенно ночью, когда у него было свободное время».
Польщенный вниманием Али, Байрон не мог не понимать, что за словами последнего о его красивой внешности крылись более низменные намерения и чувства, чем восхищение перед высокородным господином.
Байрон уехал с благословения Али-паши и с албанским солдатом по имени Василий, который впоследствии стал его слугой. Байрон получил приглашение к сыну Али, Вели, тогдашнему паше Морей (Пелопоннеса). Именно благодаря Василию, который служил Байрону с «неистовой преданностью», у него сложилось самое лучшее впечатление об албанском национальном характере.
Когда 23 октября путешественники выехали из Тепелены, дожди прекратились, и через четыре дня они вернулись в Янину, где провели насыщенную неделю в городе и его окрестностях. Они побывали во дворце Али на озере, где хозяином был двенадцатилетний сын Вели-паши, обладающий всеми достоинствами своего кузена Хуссейна. Байрон писал матери: «Это самые восхитительные создания из всех виденных мною. Махмут надеется на встречу со мной, мы друзья, хотя не понимаем друг друга, как, впрочем, и многие другие, но только по иной причине».
Хотя Байрон посмеивался над любовью Хобхауса к написанию дневника и сбору путевых впечатлений, сам он тоже записывал впечатления от поездки. Именно они вызывали на его лице то «восхищенное выражение», замеченное Голтом во время плавания на Мальту, или вынуждали его глядеть «с отсутствующим видом и мечтательно созерцать далекие горы», как записал капитан Лик в Янине. В последний день октября Байрон приступил к откровенно автобиографичной поэме, посвященной приключениям и размышлениям Чайльд Буруна, впоследствии ставшего Чайльд Гарольдом. Спенсеровская строфа, которой написана поэма, несомненно, возникла после прочтения части произведения «Королева фей» из «Избранных произведений», антологии, путешествовавшей с Байроном через горы Албании. В самом начале поэмы плохо скрытое второе «я» автора, несмотря на общий мрачный тон произведения, с радостью отозвалось на путевые приключения. Каждую неделю во время остановок в пути Байрон писал эту поэму.
Поэт, привыкший к тяжелым условиям кочевой жизни, в отличие от Хобхауса и Флетчера, которые к этому так и не приспособились, 3 ноября оставил Янину. Он принял предложение Али плыть на военном корабле из Превезы в Патры, но ни капитан, ни турецкая команда не знали, как управляться с судном, и, когда поднялся сильный ветер, они запаниковали. Байрон так описывал матери это происшествие: «Флетчер прощался с женой, греки призывали всех святых, мусульмане – Аллаха, капитан, стеная, бегал по палубе, призывая нас молиться, паруса обвисли, палуба дрожала, ветер завывал, спускалась ночь, и, судя по всему, Корфу должен был стать нашей «водяной могилой», как высокопарно выразился Флетчер. Я как мог успокаивал его, но, поняв, что это бесполезно, завернулся в албанский плащ и лег на палубе, приготовившись к худшему». Наконец греки сумели бросить якорь на скалистом побережье Сули недалеко от Парги.
Путешественники решили не полагаться на турецких моряков и рискнули идти через кишащие разбойниками перевалы Акарнании и Этолии в Миссолонги с отрядом из пятидесяти солдат. Подкрепившись жареной козлятиной, албанцы плясали вокруг костра под собственное пение, «взявшись за руки». Одна из песен начиналась так: «Когда мы поднимем парус, шайка воров из Парги…», а припев звучал следующим образом: «В Парге все воры». Почти каждый солдат армии Али был в свое время разбойником и легко мог вернуться к старому ремеслу, которое объясняли чувством патриотизма в стране, долго находившейся под турецким гнетом. Это происшествие нашло отражение в «Паломничестве Чайльд Гарольда».
20 ноября путешественники добрались до Миссолонги, который располагался на плоском болотистом мысе, выдающемся в мелководную лагуну, куда могли войти лишь маленькие лодки. Лагуна была окружена хижинами рыбаков, стоящими на сваях, и рыболовными сетями. Вид отнюдь не прелестный, поэтому Байрон нигде не описал этот роковой для него город таким, каким увидел его в первый день своего приезда. В Патрах Байрон прогнал драгомана Георгия, который в изысканной греческой манере обманывал его с деньгами, и нанял другого грека, Андреаса, который говорил почти на всех языках, бытовавших в Средиземноморье. Байрон также взял на службу албанского турка дервиша Тахири, который преданно служил ему в Греции и был очень удручен его отъездом.
Следуя мимо голубых вод Коринфского залива, путешественники на несколько дней остановились у Андреаса Лондоса, правителя области, находящейся под властью Вели-паши. Этот богатый молодой грек вел себя чрезвычайно ребячливо, но при упоминании имени Риги, греческого патриота, который двадцать лет назад возглавил восстание против турецких завоевателей, он вскакивал с места и, «сжимая руки, восторженно повторял имя героя, а по его щекам текли слезы»[3]. Байрон начал понимать, что, в отличие от Албании, в сердцах греков таилась ненависть к своим хозяевам, и, чтобы разжечь ее, достаточно было легкой искры.
Вероятно, Байрон, так же как и Хобхаус, горел желанием увидеть обиталище муз и испить воды из Кастальского ключа. Поэтому вместо того, чтобы избрать более легкий маршрут через Коринф, Мегару и Элевсин, они пересекли Коринфский залив и поехали верхом через заросшую оливковыми деревьями долину к Кастри (месту, где находились древние Дельфы) на склонах Парнаса. Однако их ожидало разочарование, поскольку наиболее интересные части храмов и театра еще не были раскопаны. Они увидели Кастальский ключ и вырезали свои имена на древней колонне при входе в монастырь Панагии[4]. Однако Байрон не был любителем древних ценностей и обратился за вдохновением к горе Парнас. Увидев полет орлов (этих птиц еще можно заметить в небе над Дельфами), он принял это за знак свыше и написал несколько куплетов «Чайльд Гарольда» в надежде, что «Аполлон принял мою жертву».
Первый взгляд на Афины с поросшего соснами холма близ крепости Филы зажег Байрона интересом к современной Греции, бывшей наследницей Греции античной. «…Афинские равнины, Пентелекий, Гимет, Эгейское море и Акрополь предстали перед моим взором; на мой взгляд, зрелище даже более великолепное, чем Синтра…» В канун Рождества путешественники миновали оливковые рощи, пересекли Цефис, проехали под сводчатыми воротами и оказались в Афинах. Поскольку в городе не было гостиницы и постоялого двора, они сняли комнаты в большом доме миссис Тарсии Макри, вдовы грека, бывшего британского вице-консула. Хобхаус вспоминает, что их жилье «состояло из гостиной и двух спален, выходивших во двор, где росли пять-шесть лимонных деревьев, плодами с которых приправляли пилав…»[5]. На стол подавали три дочери вдовы Макри: Мариана, Катинка и Тереза, которым не было еще и пятнадцати лет. Байрон называл их «три грации».
Даже находиться рядом с Акрополем – ни с чем не сравнимое ощущение, хотя город узких кривых улочек никак не вязался с рассказами о его былой славе. В то время в Афинах проживало десять тысяч турок, греков и албанцев, ютившихся в тысяче с небольшим домах к западу и северу от Акрополя и окруженных стеной. Хотя в город часто приезжали путешественники с Запада, общее число европейских жителей не превышало семи-восьми семей.
Прежде всего англичане хотели увидеть Акрополь, но поездку пришлось отложить из-за необходимости отправить подарок Дисдару, подчиненному воеводы, или турецкому правителю города. Тем временем они осматривали храм Зевса Олимпийского. Уже опытные путешественники, к началу 1810 года Байрон и Хобхаус каждый день следовали определенному ритуалу. Они выезжали верхом из городских ворот и направлялись либо на запад, к Элевсину, откуда можно было разглядеть вдалеке Саламин и Эгину, либо к монастырю Катерины на горе Гимет. На следующий день они отправлялись на север к Пентелекию, горе, откуда древние греки брали мрамор для огромных колонн и статуй Акрополя. Больше всего Байрон любил приезжать к похожей на драгоценный камень гавани Мунихия[6], где, по легенде, на скале располагалась могила Фемистокла.
Через три недели они повидали большую часть достопримечательностей в Афинах и окрестностях города. Настроение Байрона в этих поездках можно определить по тому, что он позднее говорил Трелони, принимая во внимание склонность последнего к живописным преувеличениям: «Путешествуя по Греции, мы с Хобхаусом ссорились каждый день… Он без ума от легенд, топографии, древних надписей… Он с компасом и картой слоняется у подножия Пинда, Парнаса и Парна, чтобы определить местонахождение какого-нибудь древнего храма или города. Я же на своем муле взбираюсь вверх. Эти горы занимали мое воображение с раннего детства: сосны, орлы, ястребы и совы – потомки тех, что видели Фемистокл и Александр, и они, подобно людям, не стали хуже… Я смотрел на звезды и размышлял, ничего не записывал и не задавал вопросов».
Судя по сентиментальному тону «Чайльд Гарольда», Байрон ощущал одновременно душевный подъем и угнетенность при виде колонн и развалин некогда могучих и прекрасных храмов. Но по зрелом размышлении он стал глядеть на остатки золотого века Греции скорее с грустью, нежели с восторгом. Вторая песнь «Чайльд Гарольда» начинается с посвящения «царственной Афине»:
Увы, Афина, нет твоей державы!
Как в шуме жизни промелькнувший сон,
Они ушли – мужи высокой славы,
Те первые, кому среди племен
Венец бессмертья миром присужден.
О разрушенных колоннах Байрон говорит: «А ныне что? Где слезы сожалений? Нет часовых над ложем гордой тени, меж воинов не встать полубогам».
Несмотря на это, во время первого осмотра Акрополя у Байрона появилось новое отношение к древним развалинам и самим грекам. Из-за формальностей только 8 января вместе с Хобхаусом и Джованни Баттистой Лусьери, неаполитанским художником, нанятым лордом Элджином, который, будучи британским послом в Константинополе (Стамбуле), получил разрешение на зарисовки и отправку в Англию статуй и фризов, Байрон поднялся на всемирно известный холм. Первый корабль с реликвиями отправился в 1802 году, но только в 1807 году коллекция была открыта для широкой публики в музее на Парк-Лейн. Байрон отразил общественное мнение в «Английских бардах и шотландских обозревателях», где презрительно отозвался об «изувеченных обломках культуры», собранных Элджином. Но теперь, увидев их в Парфеноне и Эрехтеоне, он уже не называл их жалкими камнями и «изувеченными обломками», а почитал великолепными сокровищами греческой цивилизации. Байрон стал пылким защитником мраморных статуй и горько высмеял Элджина за вандализм в «Чайльд Гарольде»:
Но кто же, кто к святилищу Афины
Последним руку жадную простер?
Кто расхищал бесценные руины,
Как самый злой и самый низкий вор?
Чтобы ярче изобразить «бесчинства расхитителей», Байрон обратился к легенде о готе Аларихе, который, испытывая ужас при виде призраков Минервы и Ахилла, пощадил городские сокровища и памятники.
Хобхаус, с большим спокойствием взиравший на происходящее, доказывал, что сохранение памятников культуры в Лондоне «послужит появлению великих архитекторов и скульпторов», однако Байрон едко высмеял это утверждение. Он говорил, что вечно будет бороться с «грабежом Афин ради обучения англичан скульптуре, потому что они так же способны к ней, как египтяне к катанию на коньках…». Эмоциональный отклик Байрона на поведение Элджина получил признание в кругах сторонников греческой революции. Несомненно, это послужило возвышению Байрона в глазах греков и иностранцев, горящих желанием видеть Грецию свободной. Кажется, что он предвидел время, когда греки обретут независимость и возьмутся за охрану своих памятников[7].
Поездка на мыс Колонн, или Сонной, высокую скалу на оконечности Аттики, вдающуюся в Эгейское море, навечно запечатлелась в памяти Байрона. Они ехали верхом вдоль Гимета с Хобхаусом и слугой-албанцем Василием (тогда вдоль Аттического побережья не было хорошей дороги, по которой сейчас туристы добираются из Афин до мыса за час). Они прибыли на место 23 января, на следующий день после того, как Байрону исполнилось двадцать два года, и увидели белые дорические колонны древнего храма Посейдона (тогда считалось, что это храм Минервы), четко вырисовывавшиеся на фоне темно-синих волн, испещренных зелеными точками скалистых островков. Это были «острова Греции»:
Я с высоты сунийских скал
Смотрю один в морскую даль;
Я только морю завещал
Мою великую печаль…
Следующей целью путешественников были равнины Марафона, где в 490 году до нашей эры афиняне разгромили персов. Пока Хобхаус детально изучал поле боя, Байрон воссоздавал в своем воображении картину битвы, которая нашла отражение в строках, разжегших национальную гордость греков и укрепивших самосознание эллинов и которые стали одними из самых известных строк Байрона:
Холмы глядят на Марафон,
А Марафон – в туман морской,
И снится мне прекрасный сон —
Свобода Греции родной.
За это время у Байрона создалось более благоприятное впечатление о современных греках, чем у его товарищей и большинства других европейцев, с которыми он встречался в Афинах. Когда французский консул М. Фовел и коммерсант М. Рок, который, по словам Хобхауса, жил за счет того, что «одалживал деньги под двадцать – тридцать процентов греческим купцам и занимался переправкой нефти», пришли к Байрону, М. Рок выразил мнение, обычное для всех европейцев в Греции. Он сказал, что афиняне «такие же канальи, как во времена Фемистокла!». Произнес он это с «замечательной серьезностью», записал в пометках к «Чайльд Гарольду» Байрон, иронично добавляя: «Древние изгнали Фемистокла, современники обманывают месье Рока – вот каково отношение к великим людям!»
Байрон неплохо сошелся и с греками и с европейцами в маленьком обществе Афин, где зимой было столько забав. Часто устраивали танцы и праздники в доме Макри, где возрастающий интерес Байрона к самой младшей из «трех граций» Терезе («Ей 12 лет, но она уже вполне взрослая», – писал Хобхаус) позволил ему заполнить душевную пустоту, образовавшуюся после разлуки с Констанцией Спенсер Смит: «Волшебство утеряно, очарования больше нет».
Когда Байрон решил оставить веселые Афины, душу его опять охватила тоска. Он не отказался от намерения посетить Константинополь, а оттуда доехать до Персии и Индии. Он получил разрешение на путешествие от Роберта Адара, британского посла в турецкой столице. Когда английский корвет «Пилад» предложил доставить Байрона в Смирну, он ухватился за эту возможность и через день отправился в путь вместе с Хобхаусом. Расставание с Терезой было горьким. Возможно, накануне отъезда он написал или начал известные строчки:
Знай, я сохраню
Прощальное лобзанье
И губ моих не оскверню
До нового свиданья.
Вероятно, сама Тереза научила его словам «Моя жизнь, я люблю тебя», выражению нежности. Слова «прощальное лобзанье» предполагают, что отношения с Терезой носили если не платонический характер, то по крайней мере находились в области ожидания, а не обладания.
Никогда еще Байрон не ощущал такого сожаления из-за предстоящего отъезда. Никогда еще его жизнь не протекала так спокойно среди людей, которые хотя и не были героями, зато в их обществе было приятно находиться; никогда еще так не нравились ему природа и обстановка. Во время дальнейшего пути ностальгия по Аттике все возрастала. Хладнокровные суждения Байрона о людях не умаляют его восхищения ими. «Мне нравятся греки, – писал он Генри Друри, – конечно, они пройдохи, обладающие всеми пороками турок, но без их храбрости. Однако и среди них встречаются храбрые и красивые…»
Вскоре после прибытия в Смирну Байрон и Хобхаус отправились к развалинам Эфеса. Увидев эти печальные руины, Байрон заметил, что «храм почти разрушен, и святому Павлу нет нужды писать о нынешнем настроении эфесцев…». Поэта глубоко поразило тоскливое тявканье шакалов в некогда великом, а теперь пустынном городе. Их «скорбный лай, жалобно доносящийся издалека», эхом отдавался среди превращенных в прах мраморных руин.
Байрон и Хобхаус вернулись под гостеприимный кров мистера Уэрри, британского генерального консула в Смирне, в ожидании возможности направиться в Константинополь. Байрон был угрюм и не уверен в будущем. Угнетенное состояние («чем дальше я еду, тем ленивее становлюсь», – писал он матери) охватило его из-за тягостных размышлений о настоящем, непривычного климата и восточного образа жизни. Однако Байрон не стал настолько ленив, как говорится в письме, поскольку продолжал «Чайльд Гарольда». Его мысли опять возвратились в Аттику, где было ощутимо дыхание Древней Греции.
И ты ни в чем обыденной не стала,
Страной чудес навек осталась ты.
Во всем, что детский ум наш воспитало,
Что волновало юные мечты…
28 марта Байрон закончил вторую песню и отложил рукопись. Впечатления от Турции не побуждали его к творчеству.
Капитан Батхерст пригласил Байрона и его друга совершить путешествие в Константинополь на фрегате «Салсетт». Они отплыли 11 апреля, а 14-го причалили у мыса Яниссари, или Сигнума, в нескольких милях от входа в Геллеспонт. Принужденные задержаться на две недели по причине сильного встречного ветра и длительного оформления пропуска на пересечение пролива, они смогли осмотреть «широкие равнины ветреной Трои». Истинность легенды о Трое была важна для Байрона. Позже он писал в своем дневнике: «Я каждый день выходил на равнину. Это было в 1810 году. И великолепное впечатление портил лишь подлец Брайант, который оспаривал истинность рассказа о Трое… Но я продолжал преклонялся перед памятью этого античного города и святого места. В противном случае я бы с таким восторгом не стоял на равнине».
Пока «Салсетт» оставался в устье Дарданелл, Байрон мечтал переплыть пролив, подобно древнему Леандру. Вместе с лейтенантом Экенхедом они попытались вплавь пересечь пролив с европейской стороны, но холодная вода и быстрое течение принудили их отступить. 3 мая они повторили попытку и на этот раз преуспели. Хобхаус взволнованно писал в своем дневнике: «Байрон и Экенхед плывут через Геллеспонт – и перед моими глазами живая сцена из произведения Овидия о Леандре». К словам Хобхауса Байрон добавил свое замечание: «Общее расстояние, которое преодолели мы с Экенхедом, составляет более четырех миль, течение очень сильное, а вода холодная. Мы не устали, только немного замерзли, нам пришлось приложить определенные усилия». Этим подвигом Байрон неустанно гордился. Переплыть Дарданеллы было легче, чем преодолеть Тахо в Лиссабоне, хотя обстановка была более романтичной. Вероятно, более сотни пловцов, начиная со студентов колледжей и заканчивая Ричардом Халлибертоном, с тех пор преодолели Геллеспонт главным образом потому, что Байрон придал новое очарование знаменитому подвигу Леандра.
Байрон продолжал сообщать о своем приключении в письмах. Он писал Генри Друри, что «течение довольно опасно, поэтому полагаю, что Леандр был слишком изможден, стремясь к своей возлюбленной, чтобы вместе наслаждаться счастьем». Через шесть дней он сочинил веселые строчки, «написанные после того, как автор переплыл из Сестоса в Абидос». В действительности Байрон избежал лихорадки, о чем легкомысленно заявляет в последней строке, и холодная вода не остудила его пыла. С откровенностью, граничащей с вульгарностью, он писал Друри: «Не вижу большой разницы между нами и турками, кроме того, что у нас есть крайняя плоть, а у них нет, они носят длинные одеяния, а мы короткие, мы говорим много, а они мало. В Англии модными пороками являются пьянство и развлечения с женщинами, а в Турции – содомия и курение, мы предпочитаем женщину и бутылку, а турки – трубку и юношу. Турки благоразумные люди. Кстати, я терпимо изъясняюсь по-новогречески. Я могу ругаться по-турецки, но, кроме одного страшного ругательства и слов «хлеб», «вода» и «сводник», я не сильно подвинулся вперед».
Словно противореча шутливому тону переписки, более серьезному Ходжсону Байрон признавался: «Хобхаус сочиняет стихи и ведет дневник; а я просто смотрю и ничего не делаю… Почти год, как мы за границей. Я мечтаю провести здесь еще не меньше, особенно в тропическом климате, но боюсь, дела не позволят… Надеюсь, ты встретишь меня уже изменившимся, не внешне, а внутренне, потому что я начинаю понимать, что только добродетель способна выстоять в этом проклятом мире. Я устал от пороков, которым предавался во всевозможных видах, и по возвращении домой собираюсь порвать со всеми беспутными знакомыми, забыть вино и плотские утехи и обратиться к политике и этикету».
В два часа 13 марта путешественники впервые увидели Константинополь с Мраморного моря, минареты больших мечетей, купола и высокие кипарисы, выступающие из тумана. Пройдя мимо Семи Башен, они на закате бросили якорь у мрачных стен султанского дворца. В следующий полдень они вышли на берег у этого величественного сооружения и увидели двух псов, терзающих труп. Путешественники направились в уютную гостиницу в Пере, где располагались европейские посольства. В то время чужестранцам не позволялось жить в стенах старого города, расположенного между Босфором и Золотым Рогом.
Вскоре путешественники появились в Английском дворце, где британский посол Роберт Адар, который не в состоянии был поддерживать связь с французами, с радостью предоставил гостеприимный кров англичанам. Байрон отказался от комнат, но согласился взять переводчиком янычара, и впоследствии они с Хобхаусом часто обедали во дворце.
Появление Байрона в лавке, где он намеревался купить трубок, было замечено одним его соотечественником: «На нем был алый плащ с богатой золотой вышивкой и с тяжелыми эполетами. Черты его лица отличались замечательной тонкостью, почти граничащей с женственностью, если бы не мужественный взгляд прекрасных голубых глаз. Он снял украшенную перьями треуголку, открыв кудрявые золотисто-каштановые волосы, придававшие еще больше очарования этому необыкновенно красивому лицу».
Байрон испытал достаточно, чтобы проникнуться неприязнью к туркам. Их презрение к человеческой жизни и тирания казались ему отвратительными. В отличие от Греции, здесь ему не удалось встретить людей, равных ему по социальному статусу. Посетив винные лавки Галаты, крупнейшие мечети и базары, Байрон вскоре устал от города и вернулся к старой привычке каждодневно выезжать верхом, чтобы увидеть какую-нибудь достопримечательность за пределами Константинополя. Особенно нравилось ему ехать вдоль городских стен, которые тысячу лет полукругом стояли от Золотого Рога до Мраморного моря. Он был глубоко потрясен башнями и «турецкими кладбищами (самыми прекрасными уголками на земле), заросшими кипарисами». Когда весна преобразила сады и землю вдоль побережья Золотого Рога, Байрон стал часто ездить в Долину Свежей Воды, где в верховье Золотого Рога располагался один из «садов удовольствий» султана, или ехал европейским берегом Босфора в деревню Белград, где когда-то жила Мэри Уортли Монтагю, чье знакомство с Поупом делало историю ее жизни еще более увлекательной для Байрона.
В один из дней всех англичан пригласили на прощальную встречу Ад ара с Каймакамом, посланником великого визиря. Байрон направился во дворец посла в своем великолепном военном одеянии, но, когда понял, что его титул не примут во внимание и ему придется шагать за мистером Каннингом, секретарем в посольстве, он ушел уязвленный. Чувствуя себя оскорбленным, он три дня не мог прийти в себя. В раздражении он угрожал выгнать Флетчера и написал капитану Батхерсту с просьбой «позволить мне взять взамен Флетчера юношу с вашего корабля». Хобхаусу пришлось приложить немало усилий, и после дружеского увещевания Байрон согласился немедленно отправиться в Смирну, однако его остановило личное приглашение Адара отобедать во дворце.
Оставшиеся дни в Константинополе были омрачены вестями из Англии. 6 июня Хобхаус написал в своем дневнике: «Б. получил письмо от Ходжсона. Ходят слухи, что Эдлстона обвиняют в непристойных действиях». Второе издание «Английских бардов и шотландских обозревателей» раскуплено, и Которн уже готовит следующее, но Байрон сказал Далласу, что отзывы на его сатиру не потревожат его «спокойствия под голубыми небесами Греции», где он намеревается провести лето и, возможно, зиму. Он прибавил, что «мне интересны все климатические условия и все народы; повсюду человечество вызывает презрение своими нелепостями, и чем дальше я путешествую, тем меньше я сожалею, что оставил Англию». В письмах от матери говорится о неудовлетворительном положении дел. Бедную женщину осаждают кредиторы сына. Бразерс, обойщик из Ноттингема, выставил счет размером 1600 фунтов за ремонт и меблировку комнат в Ньюстеде и угрожал судом. Хэнсон, тщетно пытавшийся успокоить кредиторов, чьи счета достигли десяти тысяч, еле набрал три тысячи, да и то благодаря ростовщикам.
Роберт Адар пригласил Байрона на последнюю аудиенцию у султана, но предупредил, что турки не признают рангов во время процессии. Удостоверившись у австрийского посланника, признанного знатока этикета, что это действительно так, Байрон без особого удовольствия написал Адару: «Я готов принести свои извинения, не только следуя за вашим сиятельством, но даже за вашим слугой, служанкой, быком, ослом или чем угодно, что принадлежит вам».
Возможно, на Байрона так подействовали новости из Англии, но только в тот же день в письме к Ходжсону (4 июля) он говорит с заметной мизантропией: «На следующей неделе отплывает фрегат Адара: я направляюсь в Грецию, Хобхаус – в Англию. 2 июля исполнился год нашего совместного путешествия. Я знал сотни примеров людей, путешествующих вдвоем, но ни одна пара не вернулась вместе». Однако это мрачное настроение скоро прошло, потому что в тот же самый день Байрон добродушно подтрунивал над Хобхаусом, говоря о его литературном багаже.
Аудиенция у султана состоялась 10 июля. Хобхаус посвятил ее описанию четыре страницы своего дневника, Байрон же ни слова не упоминает об этом событии. Зрелище во дворце султана, роскошь и великолепие, превосходящие даже богатство дворца Али-паши, не тронули Байрона, потому что он чувствовал себя чужим и был лишь одним из толпы, а не полноправным героем события. Восхваляя турок, он имел в виду тех из них, которых повстречал в Албании. Неизвестный англичанин, видевший Байрона в лавке в Пере, сообщал, что султан остановил взор на красивой внешности молодого лорда, который, по-видимому, «разжег его любопытство».
«Салсетт» вышел из гавани Константинополя с Адаром, Хобхаусом и Байроном на борту 14 июля. В пути Адар заметил, что Байрон испытывал необыкновенный прилив сил. 17 июля фрегат вошел в гавань Кеос недалеко от мыса Колонн. Байрон со слугами сошли на берег, а Хобхаус сделал в дневнике трогательную запись: «Попрощался, не без слез, с этим одиноким молодым человеком на маленькой каменной террасе в устье залива, обменявшись с ним букетиками цветов».
В Афинах стояло жаркое лето, однако Байрону было приятней находиться в Греции, чем в Турции. Он говорил, что Константинополь с его мечетями «не сравнится с Афинами, ни один турецкий вид не может быть подобен виду предместий легендарного города». Он вернулся в свои прежние комнаты в доме Макри, но ощущение было уже не то. Очарование невинности пропало. «Обычная традиция здесь, – писал он матери, – расставаться с женами и дочерьми, одарив их на прощанье каким-нибудь золотым пустячком или английским гербом…» Вдова Макри горела желанием отдать свою дочь английскому лорду, но взамен хотела получить или компенсацию в духе вышеупомянутой греческой традиции, или законный брак. Байрон говорил Хобхаусу, что «…старуха, мать Терезы, выжила из ума и полагает, что я собираюсь жениться на девушке, однако у меня есть дела поважнее».
Несмотря на жару, 21 июля Байрон отправился в Патры, вероятно, чтобы получить от английского консула Стране посылку с Мальты. 25 июля он добрался до Востицы, где вместе с Хобхаусом останавливался у Андреаса Лондоса. Там к свите Байрона прибавился греческий мальчик по имени Евстафий Георгиу, которого он уже встречал в свой первый приезд. Нелепая ревнивая привязанность Евстафия, который был готов сопровождать его в Англию или «в неизвестную страну», забавляла Байрона. Ситуация стала еще нелепее, когда «на следующее утро это милое создание предстало передо мной на лошади в чрезвычайно нарядном греческом одеянии с этими восхитительными локонами, рассыпанными по спине, и к моему вящему изумлению и отвращению Флетчера, с зонтиком для защиты от солнца». Они направились в Патры и остановились у мистера Стране. Далее Байрон добавляет: «Наверное, ни разу в жизни я не прилагал таких усилий, чтобы доставить кому-нибудь радость, и никогда мне это не удавалось меньше… Сейчас он возвращается к отцу, хотя и стал более послушным. Наше расставание было очень трогательным: множество поцелуев, которые сошли бы и для школы, и объятий, способных пошатнуть целое английское графство, а кроме того, слезы (с его стороны) и бесконечные пожелания доброго пути. Все это вкупе с жаркой погодой окончательно обессилило меня».
Тем не менее Евстафий сопровождал Байрона, когда он вместе со Стране отправился к Вели-паше в Триполицу. Вели даже больше своего отца был очарован Байроном и выразил свое восхищение с меньшей сдержанностью, подарив ему «прелестную лошадку». В намерениях Вели сомневаться не приходилось. «Он сказал, что хочет, чтобы все старики приходили к его отцу, а все молодые к нему. Он почтил меня, назвав своим другом и братом, и выразил надежду, что мы навсегда останемся в хороших отношениях. Все это замечательно, но у него есть неприятная привычка обнимать человека за талию и сжимать ему руку при всех, что является высшим комплиментом, но может чрезвычайно смутить неопытного юнца».
Наконец Байрон отослал Евстафия домой из Триполицы, потому что «он досаждал мне своими капризами…».
Когда около 19 августа Байрон вернулся в Афины, то тут же съехал из дома Макри, где его натянутые отношения с матерью Марианы, Катинки и Терезы, несомненно, были помехой для развлечений с девушками[8], после чего поселился в монастыре Капуцинов у подножия Акрополя. Монастырь, построенный вокруг памятника Лисикрату IV века, являлся школой для сыновей европейцев и по причине отсутствия гостиниц – жилищем для путешественников.
Байрона забавляли фарсовые представления «шести Рагацци», живущих в монастыре, и он был польщен вниманием, оказываемым ему. «В первый день, после того как я познакомился с этими сильфами, – говорил он Хобхаусу, – после двухминутного изучения моей персоны, добродушный синьор Бартелеми запросто сел рядом со мной, сделал мне комплимент и потрепал меня по левой щеке… Но как ты догадываешься, моим другом стал Николо, который между прочим учит меня итальянскому, и мы ведем философские беседы. Я его «padrone», «amico» и одному Богу известно, кто еще». Признавшись Байрону, что будет следовать за ним повсюду, Николо добавил, что они не только будут жить вместе, но и умрут вместе. «Последнего надеюсь избежать, – говорил Байрон Хобхаусу, – а что до первого, то сколько угодно».
Николо Жиро, пятнадцатилетний брат жены-француженки мистера Лусьери, стал любимцем Байрона, прежде чем тот отправился в Константинополь, и часто сопровождал его в поездках. Вполне возможно, что Николо заполнил эмоциональную нишу, образовавшуюся после разочарования Байрона в Эдлстоне и Терезе Макри. Байрону, как уже говорилось, необходимо было постоянно иметь объект душевной привязанности, а в среде, где со времен Платона такие отношения были обычными и не вызывали нареканий, он опять обратился к своим склонностям, существовавшим со школьных дней. Однако он много повидал на Востоке, чтобы приписывать этим отношениям невинность, которой они обладали в Хэрроу. Все-таки Байрон не мог отделаться от чисто английского смущения, даже от уколов пуританской совести, и этим мы обязаны шутливому тону его писем (в которых он обращается к этой теме), чтобы придать серьезной привязанности характер легкого увлечения.
В таких отношениях были и восторг, и отвратительный привкус страха. Байрон хотел, чтобы его чувства разделял Хобхаус, «но, – вспоминал он тут же, – ты так упрям и раздражителен, что я даже рад твоему отсутствию. И все же я люблю тебя, Хобби, потому что у тебя так много положительных качеств и так много отрицательных, что невозможно жить с тобой и без тебя». О своих поездках Байрон писал: «Николо сопровождает меня по своей воле, путешествую ли я по морю или по суше». И тут же добавляет: «Я собираюсь возобновить ежедневные конные прогулки в Пирей, где буду плавать, несмотря на жару… Забавно, что турки, как и твой покорный слуга, купаются в нижнем белье, а греки без него…» Мур позднее писал, что больше всего Байрону нравилось, «купаясь в каком-нибудь отдаленном месте, взобраться на скалу, возвышающуюся над морем, и так сидеть часами, глядя на небо и морские волны…». Мур добавляет, что он так полюбил эти одинокие прогулки, «что даже общество его спутника Хобхауса становилось обузой и сковывало его…». Неудивительно, что Хобхаус, который лучше знал Байрона, размышлял: «На каком основании Том делает этот вывод? Он не имеет ни малейшего представления об истинной причине, побуждавшей лорда Байрона отказываться от постоянного общества англичанина». Хобхаус был для Байрона олицетворением английского духа.
Как-то раз, вернувшись с очередной прогулки в Пирее, Байрон повстречал группу людей, которые должны были привести в исполнение приговор воеводы Афин в отношении девушки, обвиненной в измене. Ее зашили в мешок и собирались бросить в море. Это была турчанка, которую Байрон, вне всякого сомнения, знал, хотя, насколько хорошо, никогда не говорил, и он решил спасти ее. С помощью угроз и подкупа (причем последнее оказалось более действенным) Байрон убедил воеводу отпустить девушку и ночью отправить ее в Фивы[9]. Это событие позднее послужило основой для эпизода «Гяура», страстные строки которого могут говорить о личных переживаниях автора. Байрон признался: «…невозможно было описать все чувства, даже воспоминание о них леденит душу».
Из писем Байрона очевидно, что он вновь вернулся к безумным страстям, которым предавался в Лондоне зимой 1808 года, и по обычным причинам – разочаровании в идеале и неверии в счастливое будущее – осуществлял свои самые дерзкие юношеские мечты. В письмах к Хобхаусу он ясно намекает, что в Афинах был замешан во множестве интриг, большая часть которых предполагала физическую близость. Тот факт, что он говорит о них намеками и игривыми недомолвками, подчеркивает, что это были не такие связи, которыми можно дерзко похвастаться. 23 августа он писал: «Большую часть дня я занимался спряжением греческого глагола «обнимать»… Уверяю тебя, я сделал большие успехи, но, подобно Цезарю, «nil actum reputans dum quid superesset agendum», должен вернуться к развлечениям, а потом напишу… Надеюсь избежать лихорадки, по крайней мере до конца этого романа, а после пусть попробует». «Развлечения» (во многих письмах именуемые по-латыни «plen. and optabil. Coit.») – шутливый пароль, известный Мэттьюзу и всем друзьям Байрона и обозначающий возможности для физического наслаждения. Несколько недель спустя он писал: «Скажи М. (Мэттьюзу. – Л.М.), что у меня было больше двухсот развлечений, от которых я ужасно устал. Ты ведь знаешь монастырь Менделе? Именно там я совершил свои «подвиги». В то время как эти намеки и ключевая фраза из сочинений Петрония о соблазнении мальчика предполагают связи с мужчинами, существует достаточно доказательств того, что Байрон не отказался также от любовных интриг с жительницами Афин всех национальностей. С обычной откровенностью, которая касается всех его связей с женщинами, он писал Хобхаусу до своего отъезда из Афин: «У меня было полно гречанок и турчанок, но полагаю, что и англичанки остались довольны, потому что мы все подхватили одну и ту же болезнь».
12 сентября, когда мысли Байрона были еще полны спасением турецкой девушки, леди Эстер Стэнхоуп, своенравная племянница младшего Питта, прибыла в Афины и несколько дней подряд часто виделась с Байроном. Он чувствовал себя неловко рядом с этой странной неженственной женщиной. В письме к Хобхаусу он делает вывод, что «мне совсем не по душе эта опасная штука – женский ум». Леди была также немилостива с Байроном. «Мне он кажется странным. То он унылый и ни с кем не разговаривает, то дурачится со всеми. То он изображает Дон Кихота, вступая в стычку с властями города из-за женщины, а то воображает себя великим человеком. У него порочная внешность – близко посаженные глаза и нахмуренные брови». Позже Эстер развлекала друзей, изображая причуды Байрона, особенно то, как он торжественно отдавал распоряжения слугам по-новогречески.
То ли чтобы скрыться от этой суровой дамы, то ли по другим причинам, Байрон предпринял вторую поездку в Морею в середине сентября, взяв с собой Николо Жиро и двух слуг-албанцев. Поездка оказалась неудачной. Сначала они были выброшены на остров Саламин, не успев добраться до Коринфа. Потом Байрон подхватил в Олимпии лихорадку, которая задержала его в Патрах: «пять дней в постели с рвотными средствами, хиной и кучей лекарств». Позже он узнал, что обязан жизнью верным албанцам, которые угрожали убить врача, если Байрон не поправится. Наконец 2 октября «природа и Бог» восторжествовали над доктором Романелли. Однако теперь Николо заразился лихорадкой, и Байрон самоотверженно ухаживал за ним. Вернувшись в Афины, он все еще чувствовал себя слабым и изнуренным, но был счастлив, что похудел после болезни, и продолжал соблюдать диету: трижды в неделю ходил в турецкую баню, пил уксус с водой и ел один рис.
Пока Байрон отсутствовал, в Афины приехали несколько весьма любопытных иностранцев. Байрон познакомился с ними, потому что желал вести философские беседы, чего ему так не хватало после отъезда Хобхауса. Его близкими друзьями стали доктор Питер Бронстед, датский археолог, и Якоб Линк, баварский живописец, которого Байрон попросил сделать несколько зарисовок здешних пейзажей.
Байрон всегда предпочитал иностранцев своим соотечественникам. Легче, чем другие англичане, он мог приспособиться к их образу мышления. Он достаточно изучил языки, бытовавшие в Греции, чтобы изъясняться. Со своим слугой Андреасом Цантахи он говорил на дурной латыни, но, когда Андреас ушел, а «болвана Флетчера» отослали домой, Байрон принужден был говорить по-гречески. К тому времени он прилично знал итальянский, который был в большом ходу в Греции, и изучал с наставником новогреческий. Ему также помог «довольно сносный французский и некоторые турецкие проклятия, уместные, когда спотыкается лошадь или попался глупый слуга».
Кроме семей Лусьери и Фовела, которые чувствовали себя в Афинах как дома, Байрон был на короткой ноге с турками и греками, занимающими государственные и церковные должности. 14 ноября он писал Ходжсону: «Позавчера воевода (губернатор Афин) с муфтием Фив (нечто вроде мусульманского епископа) ужинали здесь и по-скотски набросились на сырую баранину, настоятель монастыря напился не хуже меня, так что мой классический пир стал всем известен».
В хорошем настроении Байрон был великолепным компаньоном, но когда начинал размышлять о чем-нибудь, то становился скучным. Он писал Хобхаусу: «…моя жизнь, за исключением нескольких месяцев, сплошная скука. Я повидал цивилизацию – самую древнюю на планете. Я растратил себя по мелочам, вкусил все удовольствия (так и скажи Мэттьюзу); мне больше не на что надеяться, и теперь надо найти достойный способ выпутаться. Если бы я мог отыскать яд Сократа…»
Чтобы разогнать скуку, Байрон задумал поездку в Суний, где снова глядел вдаль с высокого утеса и где белоснежные колонны четко выделялись на фоне синего Эгейского моря и островов[10]. Вернувшись в Афины, Байрон с волнением узнал от греческого моряка, бывшего пленником пиратов-майнотов, что двадцать пять разбойников собирались напасть на их компанию у подножия скалы, но испугались свирепого вида албанцев. Байрон начал вести светскую жизнь. Он обедал с англичанами и «ходил на балы и устраивал разные дурачества с афинянками».
В письме к матери 14 января 1811 года он пытался оправдать себя, во-первых, за то, что отослал Флетчера домой, и, во-вторых, за причины, побудившие его столь долго прожить за границей. Английский слуга давно был для него помехой. «Кроме того, постоянные страдания по говядине и пиву, глупое, нелепое презрение ко всему иностранному и потрясающая неспособность к языкам сделали его, как и любого другого слугу-англичанина, обузой». Байрон заверил мать, что добился успехов в светской жизни: «Я виделся и говорил с французами, итальянцами, немцами, датчанами, греками, турками, армянами. И, оставшись при своем мнении, могу судить о странах и нравах других народов. Когда я вижу превосходство Англии, которое, кстати говоря, сильно преувеличено, я радуюсь, а когда вижу, что она уступает другим странам, то по меньшей мере становлюсь умудренным опытом. Я мог бы сто лет прожить в своей стране, задыхаясь в ее городах или замерзая в деревнях, и не узнать ничего интересного и забавного».
20 января, за два дня до своего двадцать третьего дня рождения, Байрон радостно писал Ходжсону: «Я живу в монастыре капуцинов, передо мной Гимет, позади Акрополь, справа храм Юпитера, вдалеке стадион, слева город. Вот вам, сэр, живописный пейзаж! Каждый день я обедаю вальдшнепами и кефалью, у меня три лошади (одна из них – подарок от паши Морей)…»
Испытывая потребность в творчестве, Байрон занялся написанием замечаний к «Чайльд Гарольду», где выразил свои взгляды на греческую нацию. Когда он писал греческие стансы к поэме, то высказался в том смысле, что греки должны полагаться на себя, если хотят быть свободными: «Рабы, рабы! Иль вами позабыт закон, известный каждому народу? Раб должен сам добыть себе свободу!» Однако после размышлений и бесед с греками и европейцами Байрон заключил, что у греков недостаточно своих сил, чтобы изменить унизительное положение, в которое их поставили века рабства: «…одно вмешательство европейцев может освободить греков…» Они не утратили надежду, но они разделены. Возможно, на взгляды Байрона оказал влияние его учитель греческого языка Мармаротури, ученый и признанный лидер греческих патриотов, который обратил его внимание на некую «сатирическую поэму в ролях между русским, английским и французским путешественниками и воеводой Валахии, архиепископом, купцом и примасом, чье настоящее состояние полного распада автор приписывает турецкому игу». Тема сатиры заключалась в том, что бездействие и жадность привилегированных классов в греческом обществе превратили их в пособников тирании. Однако, придерживаясь трезвого взгляда на греков, Байрон пытался избежать крайностей, в которые впадали те, кто либо называл их всех «канальями», либо идеализировал их, памятуя о прошлых подвигах.
Байрон с убеждением писал: «…мне кажется, что сложно заявлять однозначно, как заявляет большинство людей, что греки никогда не станут лучше, потому что они плохие… Сейчас, подобно ирландским католикам и евреям по всему миру, они обладают всяческими пороками, способными отвратить человечество. Их жизнь – борьба с правдой, они жестоки, чтобы защитить себя… Клянусь Немезидой! За что им быть благодарными? Туркам – за их кандалы и европейцам – за нарушенные обещания и лживые советы? Они должны быть благодарны художнику, который запечатлевает развалины, и антиквару, который растаскивает их; путешественнику, чьи слуги секут их, и писаке, который обливает их грязью в своем журнале. Вот каков их счет к иностранцам».
В конце января наконец прибыло разрешение на путешествие в Сирию и Египет, о котором просил Байрон, и он с новой силой начал просить Хэнсона о переводе денег. Твердо решив не продавать Ньюстед, он писал матери: «Ньюстед – единственное, что привязывает меня к Англии, и, если его не будет, ничто не заставит меня вернуться на север. Я ощущаю себя гражданином мира, поэтому тот уголок, где великолепный климат, всяческие удобства, намного более дешевые, чем жизнь в английском колледже, станет для меня родиной, как острова архипелага».
Хобхаусу Байрон писал: «Весной я собираюсь увидеть гору Сион, Дамаск, Тир, Сидон, Каир и Фивы». Однако денежного перевода все не было, и постепенно Байрон утратил интерес к путешествию и вновь вернулся к сочинительству. В феврале и марте он написал две поэмы, состоящие из героических куплетов. Одна была попыткой продолжить успех «Английских бардов и шотландских обозревателей», представляла собой сатиру на современников и называлась «Подражания Горацию». Другая была грубой и злой сатирой на лорда Элджина – грабителя Греции. Чувства Байрона еще больше накалились после того, как он принял сторону греков в борьбе против чужеземцев. В куплетах, в выражениях более энергичных, чем ранее в «Чайльд Гарольде», он просит Минерву «проклясть Элджина и всех его потомков». Англия не несет ответственности за него: он родом из Каледонии, «страны скупости, софистики и мглы».
Весной сложившиеся обстоятельства принудили лорда Байрона начать неохотно подумывать о возвращении в Англию. Многие хорошие знакомые-европейцы тоже уезжали, и он устроил в их честь прощальный обед. Зима в Афинах оказалась «самой веселой и сказочной», писал Байрон. Бурная жизнь стала причиной недомоганий. «Мое здоровье изменилось самым варварским образом, – писал Байрон Хобхаусу 5 марта, – я поправлялся и опять худел (каким и являюсь в данное время), у меня был кашель, катар и геморрой…»
Когда пришел день расставания, Байрон испытал большие душевные муки, чем мог предполагать. Прежде всего он трогательно распрощался со своими верными албанцами. Дервиш перенес разлуку тяжелее всех. Он швырнул на землю деньги, которые предложил ему Байрон в качестве прощального подарка, и, «стискивая руки, поднесенные ко лбу, со стенаниями бросился вон из комнаты. С этой минуты и до моего отъезда он не переставал жалобно сетовать, и все попытки утешить его вызывали лишь один отклик: «Он оставляет меня!» Расставание Байрона с «афинской девушкой» было нежнее, чем он сообщил Хобхаусу. Ему он писал: «Я уже был готов взять Терезу с собой, но ее мать потребовала 30 000 пиастров (600 фунтов)!»
По иронии судьбы, на корабле «Гидра», пришвартовавшемся в порту Пирей, одновременно находились сам Байрон, рукопись «Проклятие Минервы», которая содержала жестокие обличительные нападки на лорда Элджина – грабителя Греции, и последняя порция мраморных статуй лорда Элджина в сопровождении Лусьери, агента лорда и друга Байрона. У Байрона был свой груз. Кроме Николо Жиро, которого он собирался поместить в школу на Мальте, он вез «четыре древних черепа из Афин, найденных в саркофаге, фиал яда, четырех живых черепах, борзую, двух слуг-греков, один из которых был афинянином, другой – яниотом, но оба говорили только по-гречески и по-итальянски». Корабль должен был отплыть 11 апреля, но задержался до 22-го.
В разгаре весны Байрон покинул наконец Афины. Его мысли были устремлены на восток. Выходец страны, где «солнце светит лишь два месяца в году», как он позже писал в поэме «Беппо», Байрон был очарован душистым воздухом и ясным небом Греции, даже будучи в Превезе. Но только после зимы в Афинах природа так прочно завладела всеми его чувствами. В замечаниях к «Чайльд Гарольду» он воспел страну апельсинов и маслин: «…даже не принимая во внимание магическую силу имени, можно сказать, что само расположение Афин будет желанно для знатоков искусства и природы. Лично мне показалось, что там вечная весна: за восемь месяцев я ни разу не провел дня без конных прогулок, дожди там нечасты, на равнинах никогда не лежит снег, а облачный день – редкость».
Естественно, говоря о «климате Востока», Байрон имеет в виду нечто большее, чем простую погоду. Понятие это включает людей, города, нравы и весь уклад жизни. Его смысл могут оценить только те, кто достаточное время пожил здесь. Для Байрона, привыкшего к холодным туманам Англии, безоблачные небеса, изумрудная вода, сверкающая в ярких лучах солнца, стали олицетворением Востока. В великолепных строках своих «восточных поэм» воспоминание об этой прекрасной стране расцвечивает яркими красками некоторые банальные штампы, которыми грешат стихи Байрона о Греции. Сквозь поток красноречия проблескивает луч света, который так очаровывает любителей Эллады всех времен. Описание заходящего над Мореей солнца, открывающее поэму «Проклятие Минервы» и впоследствии перенесенное в поэму «Корсар», олицетворяло Грецию Байрона, лучезарный свет являл собой противопоставление сумрачным небесам Англии, свобода и открытость – противовес английской сдержанности и лицемерию. Именно вторая зима в Афинах и пригороде привела к тому, что молодой Байрон был окончательно покорен Грецией. Неизгладимые воспоминания о Востоке и «Стране солнца» стали отчасти причиной непроходящей ностальгии поэта по «зеленому острову» его воображения.
Все еще не оправившись от болезни, Байрон высадился на Мальте. Миссис Спенсер Смит по-прежнему терпеливо ждала своего возлюбленного. Позднее Байрон рассказал леди Мельбурн об их странной встрече во дворце. «Губернатор был настолько добр, что позволил нам встретиться для одного из самых ужасных объяснений. Это произошло в самый знойный день, когда дул сирокко (и сейчас при воспоминании об этом я покрываюсь потом), в промежутках между приступами лихорадки, чему немало способствовала моя любовь, я опасался в равной мере малярии и пробуждения былой страсти». В продолжение Байрон сообщил леди Мельбурн, что миссис Смит в то время (сентябрь 1812 года) писала мемуары в Вене, «в которых я предстану бездушным человеком и где ничего не осталось от сказочной любви, из-за которой мне пришлось рисковать жизнью и потерей рассудка. Там будут лишь разные пустяки и глупая переписка…».
Несомненно, эта связь усугубила и без того мрачное душевное состояние Байрона, несмотря на бодрый тон его писем. Он говорил о своей болезни Хобхаусу: «…почти каждый день случается припадок, сначала принуждая меня покаяться Гарри Гиллу, а затем вознося на крыльях лихорадки, которая заканчивается таким обильным потом, что требуется человек для перемены белья всю ночь».
Байрон уже договорился об отплытии на фрегате «Во-лаж» в начале июня, но по мере того, как тянулись знойные дни, он все более становился склонен к нелестному копанию в себе. Его настроение отражено в заметках, в которых он объясняет причины «необходимости перемен» в жизни: «Во-первых, в двадцать три года лучшие дни уже позади и в душе скапливается горечь. Во-вторых, я повидал людей и разные страны и нахожу их всех несносными, но, пожалуй, все же я бы высказался в пользу турок. В-третьх, моя душа устала (здесь он процитировал несколько строк из оды Горация «К Венере». – Л. М.). В-четвертых, человек, хромой на одну ногу, находится в унизительном положении физически неполноценного, которое все усугубляется с годами, делая его под старость брюзгливым и несносным. Кроме того, в другой жизни у меня будет две, если не четыре, ноги, в качестве компенсации. В-пятых, я становлюсь себялюбивым мизантропом. В-шестых, мои дела на родине и за границей идут неважно. В-седьмых, я все испытал и удовлетворил свое тщеславие, даже касающееся писательского триумфа».
Когда 2 июня Байрон отплывал на фрегате «Волаж», самым грустным было прощание с Николо Жиро, единственным существом, которое, теперь он это понял, любило его по-настоящему преданно. После отъезда Байрона Николо продолжал писать ему по-гречески, по-итальянски и позднее по-английски, выражая свою признательность и любовь[11].
Чтобы скоротать скуку во время морского путешествия, Байрон писал письма друзьям в Англии, сообщая им о своем скором приезде. Ему пришлось утешать Хобхауса, который так и не помирился с отцом и намеревался вступить в территориальную армию. Байрон уверял его, что ему не следует беспокоиться о долге (когда они расстались, Хобхаус был должен Байрону 818 фунтов 3 шиллинга). Он сообщил Далласу, своему литературному агенту, что подготовил для Которна подражание «Искусству поэтики» Горация, но ни словом не обмолвился о «Чайльд Гарольде», об откровенных строках которого так тревожился.
7 июля, когда фрегат попал в штиль у Бреста, Байрон написал Генри Друри, в своем обычном шутливом духе жалуясь на недомогания: «Приложенное письмо написано вашим другом, врачом Такером, которого я встретил в Греции, а потом на Мальте, где он посещал меня по поводу трех жалоб: гонореи, трехдневной лихорадки и кровотечений, которые приключились со мной одновременно, хотя врач и уверял меня, что эти злостные болезни не обостряются одновременно, – приятно это слышать, хотя меня они посещали с регулярностью часовых».
Байрон ступил на родную землю в Ширнессе 14 июля 1811 года, два года и двенадцать дней спустя после отплытия из Фалмута. Возможно, он до конца не отдавал себе отчета в том, насколько глубокое впечатление произвело на него это путешествие. Внешне он казался по-прежнему беззаботным. «По-моему, из этой поездки я вынес лишь поверхностное знание двух языков и привычку жевать табак», – писал он сестре Августе. Однако отпечаток, который наложила поездка, был более глубоким.
Впечатления, полученные за границей, сделали Байрона еще более непримиримым к узким ортодоксальным взглядам. «Могу поспорить, что десять мусульман не уступят вам в любви к ближнему, искренних молитвах и соблюдении законов в отношении своих соплеменников», – писал он Ходжсону, обеспокоенному его смелыми высказываниями. Политические взгляды Байрона стали шире из-за возможности сравнивать правительственную тиранию дома и в других странах. Но важнее всего было то, что на Востоке Байрон жил в таких необыкновенных условиях, которые невозможно забыть, а размышления о встреченных им удивительных людях постоянно питали источник его житейской мудрости. Он часто обращал свой взор к теплым краям, где «кипарис и мирт – символы дел, творимых под небом». Много раз в последующие годы, когда обстоятельства личной жизни пробуждали желание Байрона бежать прочь, он начинал подумывать о возвращении на берега Средиземного моря.
«Если я стал поэтом, – говорил он Трелони, – то этим я обязан воздуху Греции». Кроме неиссякающих милых сердцу Байрона фантазий, сюжеты которых он вывез с Востока и воплотил в своих произведениях, в нем глубоко укоренился космополитизм. Не случайно он выбрал отрывок из «Le Cosmopolite» девизом к «Чайльд Гарольду». Ему было суждено стать гражданином мира задолго до начала своих скитаний; домой он вернулся убежденным космополитом и всегда смотрел на предрассудки и предубеждения «маленького сурового острова» с точки зрения знаний о «нравах и образе мыслей других людей».
Когда 14 июля 1811 года Байрон прибыл в Лондон, то немедленно взялся за дела и начал возобновлять знакомства, что позволило ему отвлечься от грустных мыслей, не оставлявших его по пути домой. Его первым гостем стал Скроуп Дэвис, который в тот же вечер пришел пьяный, с «новым набором острот». Хобхаус, в конечном итоге подчинившийся желаниям своего отца и присоединившийся к армии в чине капитана, прислал Байрону привет из казарм в Дувре. Даллас, которого уже предупредили, что у Байрона готова рукопись, зашел к поэту, не теряя времени даром. Байрон признался ему, что «сатира мне лучше всего удается», и показал «Подражания Горацию». Даллас, любивший приписывать себе честь открытия «Чайльд Гарольда», впоследствии вспоминал, что был разочарован и спросил Байрона, не написал ли он чего-нибудь еще, «блуждая под безоблачными небесами Греции». Тогда Байрон достал из чемодана рукопись «Чайльд Гарольда» и показал Далласу.
Только после переговоров с Уолтером Райтом, бывшим генеральным консулом Ионических островов и автором поэмы «Ионические времена», которую высоко оценил Байрон в «Английских бардах…», осторожный Даллас поверил, что «Чайльд Гарольд» имеет все шансы на успех. Он расхвалил поэму и убедил Байрона позволить ему найти издателя. Так обстояли дела, когда Байрон уехал в Ситтингборн на встречу с Хобхаусом. Он был так же рад встрече с ним, как радовался и расставанию год назад. По его возвращении Даллас, убежденный в успехе поэмы (Байрон предоставил ему издательское право, придерживаясь представления о том, что джентльмену не подобает брать деньги за стихи, как какому-нибудь писаке), был огорчен, потому что теперь Байрон, кажется, не хотел печатать поэму. Вероятно, его сомнения усилились после разговора с Хобхаусом. На Востоке Джон Кем успел прочитать часть поэмы, если не всю, и предупредил Байрона о реакции критиков на разоблачительные мотивы некоторых строк.
Далласа беспокоило еще и то, что первоначально Байрон наотрез отказался вычеркнуть или изменить некоторые строки, выражающие сомнение в религии и политическом курсе. Однако уверенный, что ему удастся убедить Байрона смягчить опасные места, Даллас продолжал льстить автору, восхваляя его поэму и пророча ей успех. Вскоре Байрон изменил решение, потому что на самом деле мечтал увидеть свой труд напечатанным, хотя бы и без имени автора. Даллас отнес рукопись Джону Меррею, который владел издательским домом и книжной лавкой на Флит-стрит, 32.
Отец Меррея занялся книгоиздательским бизнесом в 1768 году. Унаследовав его дело в 1795 году, Джон Мер-рей Второй уже в 1811 году приобрел репутацию хорошего издателя благодаря своим тонким суждениям и инициативе. Он был связан со многими известными литераторами своего времени: Вальтером Скоттом, Исааком Дизраэли, Робертом Саути и Уильямом Гиффордом. Основав в 1808 году «Ежеквартальное обозрение», Меррей стал его издателем. И Байрону и Меррею повезло, потому что Гиффорд, которого Байрон считал величайшим критиком современности, был одновременно редактором «Ежеквартальника» и первым помощником Меррея.
Пока длились переговоры, Байрон тщетно пытался уладить свои финансовые дела, но лишь увеличивал долги. Он согласился приобрести за двести гиней экипаж у своего старого друга «дерзкого Уэбстера», который был королем розыгрышей в Ньюстеде. Уэбстер женился на леди Фрэнсис Эннсли, дочери первого графа Маунтнорриса и восьмого виконта Валентия. Байрон иронически поздравил его: «Я последую твоему примеру, как только получу подобающую сумму за свой титул».
Но на следующий день (1 августа) все затмило сообщение о том, что серьезно больна мать Байрона. По пути домой он написал ей, что заедет, как только закончит дела в городе, и добавил: «Я привез тебе шаль и много розового масла…» Но Байрон побаивался этой встречи, потому что, подобно своему отцу, лучше уживался с матерью, будучи на расстоянии. Когда сообщили весть о болезни, Байрон был на мели и вынужден был просить у Хэнсона 40 фунтов, чтобы выехать в Ньюстед. Но когда он был еще в Лондоне, слуга сообщил ему, что миссис Байрон скончалась.
Байрон не сразу осознал утрату. Но в Ньюстеде чувство потери полностью овладело им. Кровные узы и воспоминания детства открыли дорогу угрызениям совести и жалости. Служанка миссис Байрон нашла сына сидящим в темноте подле тела матери и оглашающим комнату тяжелыми вздохами. Внезапно он разразился слезами и воскликнул: «Ах, миссис Бай, всего один друг был у меня в мире, да и того больше нет!»
Еще до похорон миссис Байрон последовала другая ужасная весть. Чарльз Скиннер Мэттьюз, самый любимый из кембриджских друзей Байрона, погиб ужасной смертью, попав в водоворот на реке Кем. В утро, когда должны были состояться похороны матери, Байрон не мог заставить себя пойти на церемонию в церкви Хакнелл Торкард и остался стоять в дверях аббатства, пока похоронная процессия не скрылась из виду. Мур вспоминал: «Повернувшись к юному Раштону, он выразил желание, чтобы тот принес боксерские перчатки, и начал свои обычные упражнения. Но видимо, скоро обессилел, отбросил перчатки и закрылся в своей комнате».
Что бы ни говорила мать в гневе и раздражении, Байрон знал, что она желала ему добра. В его отсутствие она твердой рукой вела хозяйство в Ньюстеде. Распустила часть слуг, чтобы уменьшить расходы, зорко следила за работой оставшихся и стала настоящей грозой для посягающих на частную собственность. Она гордилась успехами своего сына и была уверена, что его ждет великое будущее. Вероятно, он был тронут, найдя среди вещей матери переплетенный том отзывов и замечаний по поводу его поэм с ее собственными пометками на полях.
Сообщение о третьей смерти окончательно сломило Байрона. Скончался его друг по Хэрроу, Джон Уингфилд. Только Хобхаусу он мог написать о своих чувствах: «В смерти для меня есть что-то такое необъяснимое, что я даже не могу говорить и думать об этом. Когда я увидел тление и смерть, то на минуту подумал, что это я умер, а не мать».
С мыслями о смерти Байрон приступил к составлению завещания. Поместье Ньюстед должно было перейти к его кузену Джорджу Байрону. Николо Жиро из Афин он оставлял 7000 фунтов, которые должны были выплачиваться ему до достижения совершеннолетия. Хэнсон получал 2000 фунтов, а долг Дэвису должен был быть уплачен. Библиотека и мебель переходили к Хобхаусу и Дэвису, которых он назначил душеприказчиками. И как и в завещании 1809 года, Байрон просил, чтобы его захоронили просто, без всякой надписи на памятнике, рядом с собакой Боцманом в Ньюстеде. Если наследники будут возражать («по причине ханжества или по какой-либо другой»), поместье должно перейти к его сестре на тех же условиях.
Прошло уже несколько месяцев со дня приезда Байрона на родину, а он еще не видел Августы. Прознав, что ее оскорбили его нападки на лорда Карлайла в «Английских бардах…», он не писал ей из-за границы. Но ее нежное участие в нем после смерти миссис Байрон побудило Байрона написать вежливый ответ. Он подшучивал над быстрым прибавлением семейства: «Несмотря на уверения Мальтуса, благодаря сражениям, убийству и внезапной смерти чаша нашего терпения переполнилась, и, думаю, за последнее время мы испытали немало этих перипетий, поэтому я воздаю тебе хвалу за твое почтенное поведение».
В Ньюстед приехал Скроуп Дэвис. «Его жизнерадостность (даже смерть ей не помеха) помогла мне, – писал Байрон Ходжсону, – но все же наш смех звучал неискренно… Я одинок и никогда прежде не ощущал, что одиночество столь тягостно». Байрон обратился к делам, чтобы отвлечься. Меррей был решительно настроен издать «Чайльд Гарольда», возможно, после заверений Далласа в том, что ему удастся заставить автора изменить некоторые строчки, выражающие еретические взгляды. Байрон уже пошел на уступку. Он прибавил к поэме несколько строк, посвященных бессмертию:
Но если есть тот грустный мир теней,
Что нам мужи святые описали…
Но больше Байрона беспокоило то, что Меррей хотел указать его имя на титульном листе. Он осознавал, что поэма слишком откровенно обнажит его внутренний мир и что критики, благосклонно относившиеся к его сатире, снова осудят его, как осудили ранние лирические стихи. Байрон хотел заслужить одобрение Гиффорда и боялся, что тот, будучи редактором консервативного «Ежеквартальника» и помощником Меррея, осудит сентиментальность и либерализм «Чайльд Гарольда». Когда Байрон узнал, что Меррей без его согласия обратился к Гиффорду, то пришел в ярость. Он хотел, чтобы мнение Гиффорда было объективным. «Это давление, унижение, ползание на коленях, подхалимство, – говорил он Далласу, – я рассержусь на Меррея. Это подлый, жалкий поступок, достойный подмастерья…» Но было слишком поздно что-либо изменить, и благоприятный отзыв Гиффорда побудил Меррея издать «Чайльд Гарольда».
Байрон неохотно согласился на то, чтобы его имя указали на титульном листе, и еще острее осознал, что будет невозможно отделить его героя от него самого. Эти переживания могли подтолкнуть Байрона на смягчение слишком резких строк, посвященных договору в Синтре, и вычеркивание куплета о «противоестественных любовных связях Бекфорда». Получилось так, что Байрон больше прославился благодаря своему «Чайльд Гарольду», чем сатирическим поэмам. Он всячески препятствовал публикации «Подражаний Горацию», что собирался сделать Которн, окрыленный успехом «Английских бардов…», выдержавших четыре издания.
Хотя Байрон это тщательно скрывал, но ни дела, ни удовольствия не могли заполнить душевной пустоты. В ответ на кроткие утешения Далласа он написал: «Твое письмо предполагает, что мои чувства более остры, чем есть на самом деле: хотя я чувствую себя глубоко несчастным, но одновременно со мной случаются приступы какой-то больной радости, смеха безо всякой причины, который я не могу подавить и который не приносит мне облегчения. Однако равнодушный решит, что я в превосходном расположении духа».
Нелепому Уэбстеру, пригласившему его насладиться тихими радостями у семейного очага, Байрон писал: «Зимой я нагряну к вам из чистой зависти, подобно Люциферу, который искушал Адама и Еву». Августе он писал с дружеским подтруниванием: «О финансовых неприятностях, упомянутых тобой в последнем письме, я никогда не подозревал, однако эта «болезнь» в нашей семье наследственная… Не знаю, что имел в виду Скроуп Дэвис, сказав тебе, что я люблю детей. Мне настолько отвратителен их вид, что я всегда предпочитал личность Ирода».
Августа переживала, потому что ее супруг, полковник Ли, поссорился с принцем Уэльским, у которого служил конюшим. Последствия могли быть самыми пагубными. Байрон писал: «Помни, что у тебя есть брат, что бы ни случилось, и мой дом станет твоим домом… Не могла бы ты навестить меня до Рождества? Апартаменты мои настолько огромны, что два человека могут жить в них, не видя, не слыша и не встречаясь друг с другом… Короче говоря, это превосходный особняк для супружеской четы: мы с женой будем так счастливы в нем – каждый в своем крыле».
Байрон скитался по опустевшему аббатству, одинокий и безутешный. Даллас и Ходжсон беспокоились о нем, потому что его скептицизм усиливался с каждым днем. Даллас продолжал спорить насчет свободолюбивых строк «Чайльд Гарольда», обращаясь, когда религиозные аргументы иссякали, к предстоящим расходам и опасности, угрожающей репутации автора. Ходжсон был еще более серьезен.
Байрон отвечал честно: «Не хочу иметь ничего общего с вашим бессмертием, мы и так страдаем в этой жизни, чтобы еще рассуждать о другой». Однако Ходжсон был решительно настроен на то, чтобы обратить своего друга в истинную веру. Используя девиз Байрона, он увещевал его: «Верьте Байрону!» Не полагаясь на свои силы, он призывал Байрона прочитать «Аналогию» Батлера и «Свидетельства» Пэйли – книги, к которым обращались священнослужители, чтобы опровергнуть несостоятельность неверующих, которых прибавилось после века Просвещения и научного прогресса.
На это Байрон отвечал еще более резко: «Бог объявил бы свою волю без книг, особенно принимая во внимание то, как мало людей могли их читать во времена Иисуса из Назарета. Он объявил бы свою волю, если бы захотел установить определенный порядок поклонения. А что касается вашего бессмертия, то почему люди умирают, если они должны жить? А наша плоть, которая должна возродиться, стоит ли она того? Надеюсь, если моя того стоит, то у меня будут ноги получше, чем те, что были эти двадцать два года, а иначе я буду последним в очереди в рай».
Скучная размеренная жизнь не была нарушена даже с приездом одноклассника по Хэрроу, Джона Клэриджа. Он говорил Хобхаусу: «…Скроуп Дэвис не обладает, по-видимому, большим умом и половиной всех прекрасных качеств, но является душой общества, а мой старый друг, честный и преданный, с множеством добродетелей, скучает сам и заставляет скучать других». Но у Байрона появились другие развлечения. Он опять начал собирать «кружок чувственных удовольствий»: привез из Ворвикшира Люси, «прогнал неприятных личностей и заменил их другими, многообещающими. Люсинда стала главной над всеми слугами в доме».
В конце сентября Байрон уехал в поместье в Ланкашире и вернулся в Ньюстед только 9 октября. Его нагнала весть о смерти хориста Джона Эдлстона в прошлом мае. Байрон писал Далласу: «Похоже, в юности мне суждено испытать всю горечь утрат. Друзья уходят, и я останусь одиноким деревом, пока не завяну». Единственной отдушиной были стихи. Байрон излил свое горе в поэме «К Тирзе». Использовав имя женщины, он мог свободно выражать свои чувства:
И взгляд, незримый для другого,
И смех в глазах, мелькавший вдруг,
И мысль, понятную без слова,
И дрожь соединенных рук.
На следующий день Байрон отправил Далласу куплет к «Чайльд Гарольду», начинавшийся словами:
Ты, с кем ушли Любовь и Счастье в землю,
Мой жребий – жить, любить, но для чего?
Сообщив Далласу о смерти Эдлстона, Байрон счел нужным оправдаться. «Думаю, уместно сообщить, что этот куплет имеет отношение к событию, которое произошло после моего прибытия в Англию, а не к смерти друга».
С Хобхаусом Байрон мог быть откровеннее: «Сейчас мне очень тяжело, не знаю, как объяснить тебе причину. Ты ведь помнишь Э. из Кембриджа – он мертв. Это случилось в прошлом мае, его сестра недавно сообщила мне. Хотя я знаю, что мне не следовало больше его видеть, все равно его смерть потрясла меня больше, чем я мог предположить».
В середине октября Байрон выполнил давно данное обещание и навестил Дэвиса, который был студентом в Кингз-колледже в Кембридже. Встреча была одновременно приятной и тягостной, поскольку все старые друзья ушли, а знакомый двор колледжа был наполнен призраками прошлого. Байрона тяготила река Кем, где они плавали с Лонгом и где утонул Мэттьюз, а хор церкви Святой Троицы навевал горькие воспоминания. Куда бы Байрон ни пошел, всюду были напоминания о веселых каждодневных прогулках и поездках по реке с Эдлстоном. И как обычно, он обратился к стихам. «Чайльд Гарольда» он закончил данью памяти мертвого певца церковного хора.
В Кембридже Байрон получил письмо от Томаса Мура, ирландского поэта, в котором тот повторял вызов на дуэль, уже присланный прежде, но удержанный у себя Ходжсоном. Кровь ирландца вскипела от строк в «Английских бардах и шотландских обозревателях», в которых говорилось о его фарсовом поединке с Фрэнсисом Джеффри, редактором «Эдинбургского обозрения». Теперь, когда Байрон вернулся в Англию, Мур решил, что дело чести – написать второе письмо, однако сам он не горел жаждой поединка, поскольку недавно женился. Он намекнул, что если получит удовлетворительное объяснение, то будет только рад знакомству с Байроном.
Ирония заключалась в том, что Байрон был бы тоже рад познакомиться с автором поэм, написанных под псевдонимом Томас Маленький, которые с жадностью читал в детстве. После изысканных словесных упражнений с обеих сторон Байрон легко убедил Мура в том, что «к вам я отнюдь не настроен враждебно». Колкость была направлена на Джеффри, которого Байрон считал своим главным противником из-за критических статей в «Эдинбургском обозрении». Мур с радостью принял это объяснение и согласился встретиться с Байроном. Он сообщил своему близкому другу, поэту Сэмуэлю Роджерсу, что встреча состоится у него дома.
В Лондоне Байрон вновь ощутил внимание критиков к своей личности и, собираясь познакомиться с Муром, Роджерсом и другими членами признанного литературного круга, пожалел, что слишком откровенно описал свои чувства в «Чайльд Гарольде». Он предупредил Далласа: «Я ни в коем случае не собираюсь ассоциировать себя со своим героем и буду отрицать любое отношение к нему. Я не хочу быть таким, каким сделал своего героя».
Долгожданный обед в доме Роджерса состоялся 4 ноября. Кроме Мура, там был Томас Кэмпбелл, автор «Радостей надежды» и «Гертруды из Вайоминга». Вероятно, Байрон с трудом мог сдержать волнение, когда вошел в комнату, поскольку Роджерс, который был старше его на двадцать пять лет, и Кэмпбелл являлись единственными современными писателями, кроме Гиффорда, о которых Байрон лестно отозвался в «Английских бардах…». Их, в свою очередь, поразила внешность молодого лорда, и они были польщены его почтением.
Гостям пришлось пережить несколько неловких минут, потому что Байрон был на строжайшей диете, состоявшей из сухих бисквитов и содовой воды, и, поскольку в доме Роджерса этого не оказалось, пообедал размятым картофелем, сбрызнутым уксусом. Однако когда разговор коснулся литературы, Байрон оживился и очаровал своих новых знакомых. Особенно поладил он с Муром, который позднее вспоминал: «С момента нашей первой встречи нечасто выдавался день, когда мы с лордом Байроном не виделись, и наше знакомство переросло в искреннюю дружбу так быстро, как редко случается».
Байрон тоже был доволен новыми знакомцами, которые оказались не какими-нибудь вульгарными писаками: впервые в жизни он на равных беседовал с теми, кого считал цветом литературы Англии. Однако, когда он попытался привести на встречу своих друзей, результат оказался неожиданно плачевным. Во время обеда с Муром и Роджерсом Ходжсон «напился и вел себя отвратительно». Байрон объяснил Хобхаусу, что друг Ходжсона, преподобный Блэнд, «из-за проститутки вызвал на дуэль офицера драгун; понадобилась помощь Ходжсона, который вовремя вмешался, чтобы предотвратить кровопролитие и потерю места Блэндом. Блэнд безумен, безумен, словно белены объелся, страшный, тощий, как олень во время гона, и все из-за дряни, которая не стоит и гроша. Она вульгарная проститутка, как уверил меня драгун, и тем не менее Блэнд хочет жениться на ней. Ходжсон хотел жениться на ней, офицер хотел жениться, ее первый соблазнитель хотел жениться (семнадцать лет назад). Я видел этот феномен и оценил ее на семь шиллингов».
Неудивительно, что Мур, который, можно сказать, вылез из грязи в князи, поднявшись с весьма низкой ступени (его отец был дублинским бакалейщиком – занятие, наиболее презираемое мещанами) до лучших гостиных Лондона, считал друзей Байрона ниже себя.
Новые друзья дали Байрону творческий импульс. Он писал Хобхаусу: «Роджерс – один из самых превосходных и скромных людей, а Мур – воплощение совершенства». Однако Байрон по-прежнему оставался верен старым друзьям, даже подшучивая над ними, как над Уэбстером. «Его жена очень хорошенькая, и я ошибусь, если не скажу, что пять лет спустя он начнет думать так же. Знаю, что люди склонны к преувеличению, но мне кажется, что она относится к нему с долей презрения, хотя осмелюсь сказать, что, возможно, это всего-навсего выдумка женоненавистника. Сейчас Уэбстер счастливейший из смертных и попросил меня сходить с ними на трагедию, чтобы посмотреть, как плачет его жена!»
Но несколько дней спустя Байрон мрачно писал Ходжсону: «Сегодня священный день отдохновения, который я никогда не провожу за приятными занятиями, как было возможно в Кембридже. Но даже там звук органа навевает на меня печальные воспоминания». Байрон услышал песню, напомнившую ему об Эдлстоне, после чего написал еще одну поэму «К Тирзе»: «Прочь, прочь печальные звуки». Об этом он теперь стремился забыть. «У меня много планов, – писал Байрон, – иногда я опять подумываю о возвращении на Восток и о моей милой Греции».
А пока он с упоением вращался в лучших литературных кругах столицы. Он писал Ходжсону: «Кольридж нелестно отозвался о «Радостях надежды» и о прочих радостях. Мистер Роджерс присутствовал при этом и слышал, как оратор делал ему косвенный выговор. Мы собираемся встретиться и послушать о новом искусстве поэзии в понимании этого раскольника…» 15 декабря Байрон писал своему другу, Харнессу: «Завтра я обедаю с Роджерсом и буду слушать Кольриджа, который, кажется, сейчас неистовствует». Еще учась в Хэрроу, Байрон полюбил театр и теперь опять вернулся к своему былому увлечению. Он видел миссис Сиддонс и слышал Кэмбла в «Кориолане»: «Он был великолепен и играл превосходно».
19 декабря Байрон уехал в Ньюстед. Он пригласил Мура, который не мог поехать, и взял с собой Ходжсона и Харнесса. Сейчас Байрон не был настроен буйствовать, как с Хобхаусом и Мэттьюзом. Целыми днями они занимались литературой, а встречаясь вечерами, дружески спорили о поэзии и религии. Молодой Харнесс с восторгом слушал, а более умудренный опытом Ходжсон «с судейским жаром и трогательной серьезностью, причем часто у него выступали слезы на глазах, пытался склонить Байрона к истинной вере».
Однако Байрону эти скучные вечера скрашивали другие комнаты аббатства. Среди слуг были три красивые девушки, которых Байрон привез в Ньюстед в сентябре. Его фавориткой стала теперь Сьюзан Вон, уроженка Уэльса, о которой он писал Хобхаусу: «Сейчас я опять влюблен». Перед отъездом Байрона в Лондон 11 января 1812 года Сьюзан, как он думал, уже достаточно доказала ему свою верность.
По письмам видно, что она была малообразованной и неостроумной, зато ее переполняли жизненные силы и желание угодить. «Да, – писала она, – когда я стану чинить твои рубашки, мне будет очень хорошо. Я люблю и всегда буду любить все, что принадлежит тебе. Как ты можешь в этом сомневаться, милый друг?» Но скоро тон ее писем стал тяготить Байрона, потому что ему стало ясно, насколько все были осведомлены об их связи. Очевидно, Сьюзан была няней маленьких сыновей Флетчера. Она писала: «Ты, конечно, не забыл той ночи, когда пришел в нашу комнату: я была в постели, а ты запер дверь… Он (Джордж Флетчер) сейчас со мной наверху. Он серьезно глядит на меня и говорит: «Неужели, Сьюзан, ты забыла, как лорд Байрон приходил к тебе в постель? Неужели ты не помнишь, как он положил руку тебе на грудь? Неужели ты забыла, как он целовал тебя?»
Однако рассказы Раштона и Люси, которые ревновали к новой фаворитке, вскоре убедили Байрона, что Сьюзан, несмотря на все ее заверения, была неверна ему. Никогда еще ему не случалось быть обманутым девчонкой, к которой он испытывал такие сильные чувства. Он написал ей последнее письмо: «Можешь торжествовать, что обманула меня и сделала меня несчастным. Ты оказалась на моем пути, я подобрал тебя, любил, пока ты не стала недостойной, и теперь расстаюсь с тобой с некоторым сожалением и без гнева. Не забывай, что из-за своей неверности ты лишилась друга, которого ничто другое отвратить не могло». Сьюзан вдохновила Байрона по меньшей мере на четыре стихотворения, которые он никогда не издавал и где, как обычно, откровенно описывал свои чувства. Его боль была настоящей, но он уже понимал, что, «если бы твоя любовь и пережила сегодняшний день, моя бы умерла завтра».
В минуты разочарования Байрон во всем винил свой физический недостаток. «Я не виню ее, – говорил он Ходжсону, – всему причиной мое собственное тщеславие, когда я воображал, что такого, как я, можно любить». Хобхаусу он писал: «Я разогнал свой гарем за неверность и ссоры». Воспоминание о Ньюстеде стало невыносимо. В порыве разочарования Байрон опять обратился к думам об Эдлстоне. Он признавался Ходжсону: «Мне кажется, единственным человеком, который искренне и преданно любил меня, был тот, кого я знал в Кембридже, и никто мне его не заменит… Я испытываю почти радость, когда тот, кого я люблю, умирает молодым, потому что мне было бы невыносимо смотреть, как он состарится и изменится». Байрон всегда спасался мыслями о прошлом. «Весной 1813 года, – заявил он однажды, – я покину Англию навсегда… Ни мои привычки, ни склад ума не станут лучше от здешних традиций и климата. Я найду утешение в том, что постараюсь стать хорошим восточным ученым. Я приобрету поместье на одном из этих прекрасных островов и время от времени буду ездить посмотреть на красоты Востока».
Однако скоро от этой мечты не осталось и следа, и с открытием парламента ее заменила другая: стать известным оратором и государственным деятелем. 15 января Байрон вновь занял свое место в палате лордов. Чтобы объяснить свое путешествие на Восток, он заявил, что таким образом хотел лучше подготовиться для будущей карьеры. Политика была его постоянной целью, хотя Байрон редко это признавал; литературу же он считал лишь вторым по важности делом. Уверенный в своих ораторских способностях и обладая минимумом знаний по правам человека, Байрон не разбирался в практических политических делах и осознавал свою неосведомленность в определенных вопросах.
Перед современным Байрону парламентом не стояло важных вопросов. Виги поддерживали принца-регента, который несколькими месяцами раньше взял в свои руки бразды правления вместо безумного отца, Георга III.
Темой своей первой речи Байрон избрал защиту ноттингемских ткачей и меры по улучшению их бедственного положения вместо жесткого подавления беспорядков. Он обращался за советом к лорду Холланду, лидеру умеренного крыла вигов, который поощрял потенциального оппозиционера в палате лордов, но не хотел портить отношений с палатой. Тори состряпали указ о смертной казни для разрушителей станков. Несмотря на это Байрон продолжал подготовку своей радикальной речи, которая в самом начале карьеры могла способствовать тому, что его заклеймили бы якобинцем. Беспечность Байрона по этому поводу проистекала из какой-то роковой убежденности в крахе своей политической карьеры, причинами которого были неверие в собственные силы и трезвый взгляд на неотвратимый упадок всей политической системы.
Байрон, заняв место в палате лордов в 1809 году, уже заявил о своем намерении не примыкать ни к одной из партий, говорить то, что думает, и оставаться независимым, но теперь понял, что одинок, потому что гордость аристократа удерживала его от открытого объединения с лидерами радикалов, чьи убеждения он почти целиком разделял. Теперь он, как никогда, стремился объединиться с лордом Холландом, от которого не скрывал своих взглядов. За два дня до выступления он написал:
«Причиной, по которой я выступаю против указа, является его явная несправедливость и определенная неэффективность. Я знаком с положением этих несчастных ткачей – это позор для цивилизованной страны. Настоящий указ приведет к настоящему восстанию. Я верю, что некоторые жалобы должны вызывать сочувствие, а не наказание». После этого, прикинув, какое впечатление может произвести письмо на лорда Холланда, Байрон приписал: «Я опасаюсь, что ваша светлость может посчитать меня излишне снисходительным к этим людям и назвать меня самого луддитом».
Опасаясь, что не сможет сдержать своих чувств во время выступления, Байрон написал свою речь и выучил ее, как во время выступлений в Хэрроу. Даллас, бывший свидетелем его репетиций, сказал: «Он изменил манеру говорить: раньше он говорил ясно и мягко, а теперь читал речь, формально растягивая слова».
Байрон решил выступить во время второго слушания 27 февраля 1812 года. Когда наступил этот день, он был в состоянии крайнего волнения. Он резко обрушился на несправедливость, неравенство и жестокость, находя, что указ использует несчастье рабочих. Байрон взывал к чувствам и человечности слушателей, используя риторические вопросы, краткие предложения, четкие доказательства и паузы. Примерами ему служили Питт, Берк и Шеридан, но сам он понимал, что его речь, «громкая и свободная», звучала, возможно, «несколько театрально».
Кульминацией выступления Байрона явилось перечисление драматических контрастов между Англией и другими странами: «Я побывал в самых угнетенных турецких провинциях, но нигде, под правлением даже самого жестокого мусульманского тирана, не доводилось мне становиться свидетелем такой страшной несправедливости, которую пришлось мне наблюдать в самом центре христианского мира». После чего он спросил: «Как вы собираетесь воплотить в жизнь этот указ? Разве можете вы заточить население всей страны в тюрьмы? Может быть, вы поставите на каждом поле виселицу и будете вешать людей, как пугала?» Должно быть, чопорные тори негодовали, посчитав, что их заставляют слушать очередного демагога, цитирующего строки из «Политического журнала» Коббета.
Байрон говорил Ходжсону: «Я произносил резкие обвинения с неким наивным нахальством, оскорблял всех и вся и поставил лорда-канцлера (лорда Элдона) в крайне неловкое положение; судя по отзывам, я не умалил своего положения этим дерзким экспериментом». «Я рожден для противоборства», – писал он позднее. Лорд Холланд поздравил Байрона, но свои истинные чувства отразил в «Мемуарах»: «Его речь кипела умом, страстью и праведным гневом, но не обладала ни логикой, ни строгим порядком, не подходя под обычные стандарты парламентского красноречия. Я думаю, именно его упрямство, наигранность и чрезмерная раздражительность помешали ему преуспеть в парламенте». Единственным, кто выразил искреннюю радость по поводу выступления Байрона, был сэр Фрэнсис Бердетт, лидер радикалов в палате общин, который даже поднялся со своего места, чтобы лучше слышать. «Он говорит, что это лучшая речь, произнесенная лордом с незапамятных времен; вероятно, он так сказал из-за сочувствия моим взглядам».
Байрон был членом комитета, который вносил в указ поправки о замене смертной казни штрафом или тюремным заключением, но они были отклонены в палате общин. Байрон отомстил своим оппонентам, «создателям указа о преследовании луддитов», в сатирической оде, которую анонимно опубликовал в «Морнинг крониклс», более дерзкой, чем его речь. Несколько дней спустя он отослал в ту же газету стихи, еще больше оскорбляющие монарха, поскольку в них говорилось о предательстве принцем-регентом своих друзей-вигов: «Плачь, дочь несчастных королей, Бог покарал твою страну!»
Ощущая шаткость своего положения в парламенте, Байрон искал более свободных путей для самовыражения, которые бы возместили его провал как политика. Его раздражало «парламентское фиглярство», мешавшее работе правительства. Если бы не убеждение, проистекавшее частью из гордости, а частью из традиций того времени, что литература не может быть основным занятием человека, Байрон бы тут же занялся поэзией или журналистикой. Но обстоятельства вынуждали его отказываться от самой естественной для него формы самовыражения, а именно – от гражданственной поэзии, от сатиры.
В начале своей парламентской карьеры Байрон оказался на перепутье. Симпатии и убеждения влекли его к радикалам, но в то же время он мечтал об обществе аристократов из лагеря умеренных вигов, в центре которого стоял лорд Холланд. Исходя из этого, нельзя обвинять Байрона в снобизме, поскольку, став светским львом в лондонском обществе, он ни на минуту не забывал своих старых друзей, Хобхауса и Дэвиса, которых Мур, истинный сноб, заклеймил «собутыльниками». Байрон всегда подсознательно стремился быть принятым в высшем свете, чему причиной было его высокое происхождение. Гордость и врожденный ум не позволяли ему становиться карьеристом, но ему льстила симпатия лорда Холланда, и он со времени их первой встречи не переставал относиться к нему с величайшим почтением.
Неудивительно, что, когда Роджерс намекнул, будто лорд и леди Холланд не расстроятся, если Байрон удержиться от дальнейших изданий «Английских бардов и шотландских обозревателей», он немедленно бросил работу над пятым изданием и сборниками «Подражания Горацию» и «Проклятие Минервы», которые намеревался издать одновременно. Он был рад избавиться от своих ранних сатир по многим причинам. После того как Роджерс и Мур ввели Байрона в высшие литературные круги, он понял, что его суждения были дилетантскими, поспешными и несправедливыми.
Теперь поэтическая звезда Байрона должна была вспыхнуть или закатиться с «Чайльд Гарольдом». Поэма должна была выйти в свет 1 марта, но Меррей удерживал ее до 10-го, а тем временем разогревал любопытство публики, демонстрируя выдержки из поэмы людям, которые рассказывали об этом повсюду. Три дня спустя после официальной даты издания Меррей продал все пятьсот экземпляров форматом в четверть листа. В середине месяца автор «проснулся знаменитым».
Еще до того как первое издание «Чайльд Гарольда» исчезло с книжных полок лавки Меррея, Байрон стал предметом любопытства и интереса в аристократических гостиных вигов. Тогда самое изысканное общество было сконцентрировано в доме Холланда, в кенсингтонском особняке третьего лорда Холланда и его жены Элизабет, на которой он женился в 1797 году, через два дня после того, как она развелась со своим первым мужем, сэром Годфреем Уэбстером, который попросил лорда Холланда стать его соответчиком в деле о расторжении брака. В обществе, где такое вызывающее поведение считалось допустимым – как преимущество свободного от предрассудков высшего класса, – не было ничего предосудительного в том, чтобы обедать с лучшими представителями этих кругов в Лондоне. На обедах собирались не только самые утонченные аристократы, но и лучшие умы эпохи. Частыми гостями были Роджерс и Мур, а вскоре их примеру последовал и Байрон. Радушный и искренний хозяин гостеприимно встретил его.
Однако не одна чета Холландов имела честь лицезреть у себя поэта. Байрон стал светским персонажем и вскоре сумел войти в другое, не менее изысканное общество. В доме Мельбурнов в Уайтхолле жизнерадостная и сумасбродная молодая дама была восхищена романтическим паломничеством Гарольда и горела желанием встретиться с автором. Леди Каролина Лэм была замужем семь лет и родила сына своему мужу, Уильяму Лэму, второму сыну лорда и леди Мельбурн. Женщина зажигательного темперамента, энергичная и чрезвычайно чувствительная, она сумела сохранить детскую непосредственность и открытость, на которые не повлияли замужество и рождение ребенка. В детстве она была сорванцом. Урожденной Каролине Понсонби, дочери графа Бессборо и Генриетты Понсонби, сестры прекрасной герцогини Девоншир, многое позволялось в открытой атмосфере в доме Девонширов, Четсворте и Хардвике. Не имея школьного образования, она в подростковом возрасте едва умела читать, но зато обладала талантом к рисованию и написанию стихов.
Однажды Роджерс, часто гостивший в доме Мельбур-нов, сказал: «Вы должны почитать нового поэта» – и дал ей экземпляр «Чайльд Гарольда». Роджерс сказал Каролине, что «автор хромает и грызет ногти», но она, прочитав поэму, ответила: «Даже если он безобразен, как Эзоп, я должна встретиться с ним». Она написала Байрону анонимное письмо: «Я прочла вашу книгу и думаю, что она прекрасна. Вы заслуживаете счастья и будете счастливы. Не хороните свой дар, предаваясь унынию и воспоминаниям о прошлом, и, кроме того, оставайтесь у себя на родине, которая будет гордиться вами и которая требует от вас новых трудов». Леди Уэстморленд предложила ей представить Байрона, но Каролина отказалась, не желая соперничать с другими женщинами. В дневнике она написала: «Он безумен, порочен и опасен». Это означало, что Каролина была готова встретиться, но на своих условиях. Самолюбие Байрона было уязвлено ее отказом. Наконец леди Холланд представила их друг другу, возможно по просьбе Каролины. Байрон не сразу влюбился в Каролину, согласно тому равнодушному отчету, который он дал Медвину: «Эта леди едва ли обладает какими-либо внешними достоинствами. Хотя она изящно сложена, но слишком худа…»
Но вскоре Байрон обнаружил, что недостаток внешней красоты компенсировался живостью и непредсказуемостью характера. Романтическая привязанность к женщине, равной ему по уму и положению, была внове для Байрона. Он всегда чувствовал себя увереннее с девушками более низкого положения, с теми, кто льстил его самолюбию и с обожанием относился к его титулу. На Востоке он приучился смотреть на женщин с некоторым презрением, как на существ, неспособных разделять чувства и мысли мужчин. Среди женщин, которых он встречал в модном обществе вигов, застенчивость вынуждала его держаться независимо и высокомерно, изображая томного и одинокого Чайльд Гарольда. Женщины не догадывались, что изысканная вежливость и утонченный цинизм скрывали робость в аристократическом обществе, которому он был чужд большую часть жизни. Грубое и разгульное поведение студенческих дней, которое пришлось бы по вкусу Скроупу Дэвису, не было оценено в высшем обществе.
Когда Байрон впервые увидел Каролину, ей было двадцать семь лет, она была похожа на мальчишку со светлыми вьющимися волосами и невинным выражением темно-карих глаз. Она обожала пажей и часто наряжалась в их алые и коричневые ливреи. Типичные для Девонширов растягивания слов и легкая шепелявость придавали еще больше привлекательности ее высказываниям. Несдержанность Каролины и ее презрение к мнению света часто поражали Байрона. Возможно, Каролина и влюбилась в Байрона, но она была вдвойне счастлива, что ей удалось заполучить признанного литературного гения Лондона, человека, который отвечал ее самым сокровенным романтическим мечтаниям. Вскоре после их знакомства она писала в своем дневнике: «Это красивое бледное лицо – моя судьба». Байрон был очарован и снова и снова наведывался в дом Мельбурнов. Но он не сразу попал под власть Каролины, потому что его отвращали ее многочисленные легкомысленные знакомые.
Во время второго утреннего визита 25 марта Байрон впервые увидел кузину Уильяма Лэма, Анну Изабеллу (Аннабеллу) Милбэнк, единственную дочь сэра Ральфа Милбэнка, брата леди Мельбурн. Она воспитывалась в сельской глуши в Сихэме, в доме, из окон которого были видны серые утесы Северного моря. Она была избалованным, но очень развитым ребенком, училась дома и интересовалась математикой, классической литературой и философией. Много читала[12], но почти ничего не знала о светском обществе, когда в 1811 году приехала в Лондон, чтобы освоиться в аристократических кругах и неназойливо присмотреть себе будущего мужа. Но ее ждало разочарование. О браке у нее были возвышенно-романтические представления, и из писем и дневника видно, что она была несколько самодовольна.
Однако 1812 год оказался более благоприятным. Аннабелле шел двадцатый год, и, несмотря на «высокомерное лицо», она обладала загадочной красотой, которой еще большую таинственность придавала ее задумчивая сдержанность. На этот раз у нее было несколько поклонников, некоторые досаждали ей, потому что в глубине души Аннабеллу никто не волновал. Один из них был Август Фостер, сын второй герцогини Девоншир, который даже хотел отказаться от поста министра Соединенных Штатов, потому что не мог расстаться с Аннабеллой. Другой, Уильям Бэнкс, товарищ Байрона по Кембриджу. Когда Байрон подарил ему экземпляр «Чайльд Гарольда», Бэнкс отдал его Аннабелле, которая как раз закончила читать поэму к моменту встречи с автором. Тем же вечером она написала в дневнике: «Его рот выдает язвительный нрав. Я бы сказала, что он искренен и независим. Мне показалось, что он пытался сдерживать свою естественную желчность и злобу по мере сил, чтобы никого не обидеть, но время от времени презрительно надувал губы и нетерпеливо поглядывал по сторонам».
Аннабелла жадно интересовалась слухами о жизни Байрона: «Миссис Найт передала мне несколько достоверных слухов о лорде Байроне, которые заставили меня задуматься, потому что указывали на чрезвычайно извращенные чувства». Было очевидно, что впервые в жизни Аннабелла встретила человека, который по-настоящему пробудил ее интерес. То, что она не одобряла его поведения, нисколько не уменьшало этого интереса. Она писала матери: «Мое любопытство было удовлетворено встречей с лордом Байроном, являющимся в настоящее время предметом всеобщего внимания. Говорят, что он атеист, и это вполне может быть правдой, учитывая склад его ума. Его поэма исчерпывающим образом доказывает, что ему не чужды благородные чувства, однако он всячески стремится их скрывать. Я не совершила приношения на алтарь Чайльд Гарольда, хотя не стала бы отказываться от знакомства, если бы оно было мне предложено».
Байрону не удалось поговорить с Аннабеллой, но он все же обратил на нее внимание. Позже он говорил Медвину: «Во внешности мисс Милбэнк было что-то оригинальное и запоминающееся. Черты ее лица изящны и женственны, хотя и не отличаются правильностью. У нее необычайно светлая кожа. Сложена она превосходно для своего роста, и в ней есть простота, скромная сдержанность, приятно контрастирующая с наигранной искусственностью и суровостью, навязываемых модой. Она очень заинтересовала меня».
Однако в настоящее время его мысли были заняты Каролиной Лэм. Вначале он опасался, что будет для нее очередной прихотью, чтобы потешить самолюбие. Он преподнес ей розу и гвоздику, произнеся с иронической улыбкой, которая скрывала его истинные чувства: «Говорят, вашей светлости нравится все новое и необычное». Импульсивность Каролины одновременно восторгала и смущала Байрона. С этого дня они стали постоянно писать друг другу письма и стихи. Байрон был поражен ее щедростью и небрежностью. Роджерс вспоминал: «Она совершенно пленилась им… Она говорила, что если ему понадобятся деньги, то все ее драгоценности к его услугам. Настолько безумной была ее страсть к Байрону, что иногда, не получив приглашения на бал, где будет он, она терпеливо ждала его на улице!»
Существуют, однако, свидетельства того, что любовное приключение не полностью захватило Байрона. Он пользовался всеобщей популярностью и наслаждался вниманием многих женщин, с которыми вел себя вежливо, но ничего не обещая. Графиня Девоншир писала своему сыну Августу Фостеру в Вашингтон: «Сейчас предметом восхищения, любопытства и постоянного внимания являются не Испания и Португалия, не воины и патриоты, а лорд Байрон!..
«Чайльд Гарольд» есть в каждом доме, и, как только сам автор появляется, его немедленно обласкают, воспоют ему дифирамбы и скажут что-нибудь угодливое». Перед домом Байрона на Сент-Джеймс-стрит движение было затруднено из-за множества экипажей, подъезжающих к нему с приглашениями. «Гениальный талант автора, – говорил Роджерс, – его молодость, титул, романтические скитания по Греции, – все это вместе заставило свет преклоняться перед «Чайльд Гарольдом» и Байроном. Мне известно, что две старые служанки в Букингемском дворце плакали над строками «Чайльд Гарольда», где говорилось о «смеющихся девушках», которые «удовлетворяли юношеские страсти Гарольда».
Даже скромная и упрямая Аннабелла Милбэнк легко оказалась очарована автором. На вечере в доме леди Купер, дочери леди Мельбурн, она первая заговорила с ним. Матери Аннабелла писала: «У меня есть достаточно свидетельств его доброты. Тебе известно, как легко самому благородному сердцу соблазниться злом… Лорд Б., несомненно, очень интересен, и я тронута тем, что он хочет, чтобы к нему относились со спокойным снисхождением». Аннабелла не сознавала своей судьбы, когда в дневнике писала: «Я убеждена, что он глубоко раскаивается в содеянном зле, хотя без посторонней помощи у него не хватает решимости, чтобы в корне изменить себя».
Байрон обладал свойственной женщинам чувствительностью к доброму отношению и необыкновенной способностью представать перед собеседником с той стороны, которая того, несомненно, привлечет. Об этом можно судить по его дружбе с такими разными персонажами, как Хобхаус и Том Мур, Даллас и Дэвис, боксеры-чемпионы, служанки и графини. Инстинктивно Байрон стремился оказаться на равных с наивной, чистой мисс Аннабеллой. Она чувствовала, что глубже понимает Чайльд Гарольда, чем те женщины, которые набрасывались на него, когда он на вечере внезапно спрашивал: «Как вы думаете, есть здесь хоть один человек, который посмеет заглянуть в себя?» Позже, вспоминая об этом, Аннабелла писала: «Мне он казался самым притягательным человеком из всей толпы, но я не чувствовала привязанность к нему, пока он не произнес эти слова, обращенные не ко мне: «Во всем мире у меня нет ни единого друга!»… Я втайне поклялась стать преданным другом этого одинокого существа». 26 апреля Аннабелла написала матери: «Я считаю, что бесчеловечно и не по-христиански отказывать Байрону в удовольствии находиться в моем обществе. Он для меня не опасен. Не могу поверить, что он атеист: Бог живет в его сердце».
Очевидно, Байрон слишком мало интересовался Аннабеллой, чтобы заставить ревновать Каролину. Простодушная Аннабелла передала Байрону через Каролину некоторые свои стихи. Но Каролина знала, что делать в столь возмутительном случае. Она просмотрела стихи и решила, что они не делают чести их автору. Байрон откровенно ответил Каролине: «Несомненно, она необыкновенная девушка: кто бы мог представить, что под такой скромной наружностью скрываются такая сила и такие глубокие мысли? Скажу не колеблясь, что у нее есть талант, который принесет ей известность. Передай все, что сочтешь нужным, мисс М. Я говорю от чистого сердца. У меня нет желания более близко сходиться с мисс Милбэнк, она слишком хороша для такого падшего ангела, как я. Мне бы она больше нравилась, не будь она такой совершенной».
Аннабелла была настолько тщеславна, что приняла бы последние слова за своеобразную похвалу, если бы Каролина передала их ей. Однако вскоре мысли «падшего ангела» были уже заняты другим, а вскоре и Аннабелла «устала от лондонского общества и начала мечтать о покое», перестав вести дневник.
Все это время покой Байрона часто нарушался, но по причинам, никак не связанным с мисс Милбэнк. В апреле и мае его увлечение Каролиной Лэм достигло апогея и стало диким и опасным. Ее небрежное отношение к общественному мнению пугало Байрона, приводя к ссорам и страстным примирениям. Одна из таких ссор, как позднее говорил Байрон Медвину, «произошла при очень странных обстоятельствах и без всякого объяснения. Она ее не забудет».
Сам Байрон часто бывал недовольным и придирчивым любовником. Балы, которыми славился в Лондоне дом Мельбурнов, были скоро забыты, потому что удручали хромого поэта – ведь он не мог танцевать. Ему было невыносимо видеть Каролину в объятиях другого. Она говорила: «…он любил читать и быть со мной подальше от гостей». Вскоре он начал ревновать Каролину к мужу. Его душу переполняла горечь, и он начинал хвастать своими пороками; вспоминая о своем уродстве, он выкрикивал, что они с Уильямом Лэмом – словно Гиперион и сатир. Байрон вынуждал Каролину клясться, что она любит его больше, чем Уильяма. Если она колебалась, он кричал: «Боже мой, ты за это заплатишь, я собственными руками сожму это маленькое упрямое сердечко!»
Никогда еще не сталкивались два настолько сильных и самолюбивых человека. Любовь причиняла им страдания, и все-таки они не могли от нее отказаться. В жизни Каролины это была самая сильная и долгая страсть. Она говорила Медвину: «Я стала любить его больше, чем добродетель, религию и все тому подобное. Он разбил мое сердце, но я по-прежнему люблю его». Байрон честно писал леди Мельбурн после того, как его любовь к Каролине превратилась в отвращение из-за ее выходок: «Я не собираюсь отрицать свое увлечение: оно было, но теперь его нет». В письмах к Каролине сквозит неподдельная нежность. Когда их любовь еще только зарождалась, он писал: «Я никогда еще не знал женщину, обладающую большими талантами, чем у тебя; я встречал обычных женщин, ничем не выделяющихся. Но все они несчастливо сочетают ординарность с необузданностью нрава… Твое сердце, моя бедная Каро, словно маленький вулкан, извергает горящую лаву, и все же я не хотел бы, чтобы оно стало хоть чуточку холоднее. Знаешь, я всегда считал тебя самым умным, самым привлекательным, самым непредсказуемым, самым открытым, самым удивительным, опасным, очаровательным маленьким созданием, которое можно встретить в наш век или можно было встретить две тысячи лет назад. Не буду говорить тебе о красоте: я не судья. Только все красавицы тускнеют рядом с тобой, потому что ты самая лучшая».
Но именно Байрон был повинен в том, что погубил лучшие черты своей возлюбленной, которые так привлекали его, – свежесть и невинность. Когда он упрекнул ее в холодности, она отвечала ему: «Разве была я холодна, когда впервые стала твоей, когда в карете ты попросил меня поцеловать тебя в губы, а я не смела; это был дурной поступок, но потом я уже не могла устоять: ты притягивал меня к себе как магнит, и я просто не могла уйти. Неужели я была холодна тогда, неужели и ты был холоден?.. Никогда, пока сердце мое не перестанет биться, я не забуду тебя и тот миг, когда ты сказал, что любишь, когда наши сердца не только соединились, но мое сердце стало принадлежать твоему, когда мы оба стремились удержаться от непоправимой ошибки».
Будучи избалованным ребенком, Каролина воображала, что можно играть с огнем и не обжечься. Она хотела полностью подчинить Байрона своей воле, как подчиняла весь свет. Единственный раз в своей жизни Байрон не удовольствовался легким флиртом, а полностью завоевал сердце своей возлюбленной, хотя часто сожалел о том, что совершил и что было предначертано ему судьбой. В течение нескольких недель политическая карьера Байрона, его успех в обществе, который вначале так много значил для него, даже литературная репутация – все было поставлено под удар из-за этой безумной любви. Вскоре он понял, какой опасный дикий дух выпустил на свободу, когда заставил быстрее забиться сердце этого «несносного ребенка». Каролина говорила Медвину: «Байрон не притворялся: он любил меня так, как никто еще не любил ни одну женщину». Он разбудил ее чувства, и она уже не могла забыть его.
Экзальтированность Каролины не знала границ. Если бы их роман продолжался тайно, ни один человек не выразил бы своей озабоченности. Сама леди Мельбурн давно была подругой лорда Эгремонта, на которого, как говорили, был похож Уильям Лэм, ее второй сын и муж Каролины, а связь леди с принцем Уэльским, возможно, была причиной участия, которое принимал принц в ее сыне Джордже. Леди Мельбурн не притворялась, что она добродетельнее других, и все же ее раздражали несдержанность и неуместное поведение Каролины. Леди Бессборо и сама в юности характером напоминала свою дочь, но, несмотря на это, строго следовала нормам общественной морали и скрывала свою связь с лордом Грэнвиллом Левесоном Тауэром. Ее последняя связь с Шериданом чуть не превратилась в скандал по причине горячности любовника (он сказал ей, что даже через крышку гроба будет взирать на нее).
Однако именно сам Байрон предложил весьма скандальный выход из положения, побег, возможно зная или надеясь, что Каролина не осмелится порвать со своим благополучным мирком, или желая проверить, бросит ли она своего мужа ради него.
В то время как страсти были накалены до предела, но ничто не предвещало бури, Байрон снова обратился к политике. Поглощенный увлечением Каролиной и успехом «Чайльд Гарольда», он забросил свои «парламентские обязанности» после первой речи в феврале. Байрон был в палате два раза в марте и три – в апреле. Его понятие о политической жизни состояло в том, что оратор с независимыми либеральными или радикальными взглядами должен доносить до публики свое мнение, чтобы пробудить брожение умов своим красноречием и благоразумием. У Байрона не хватало смелости присоединиться к лидерам вигов, но он также не мог пойти на компромисс или осторожничать, чего придерживались даже самые радикальные политики.
21 апреля Байрон вновь выступил с речью по поводу требований католиков – первой важной темой обсуждения в парламенте после утверждения указа, направленного против разрушителей станков. Ирония Байрона настраивала на пробуждение в сердцах жалости к угнетенным людям, ирландским католикам. Он закончил свою речь дерзким предположением о том, что сам Наполеон был бы благодарен за борьбу Англии с освободительным движением католиков: «На основе вашей тирании Наполеон надеется построить свою собственную».
В целом эта речь оказалась более вызывающей и своевольной, хотя и менее логичной, чем речь в защиту разрушителей станков. Хотя пэры вежливо выслушали находящегося в расцвете славы автора «Чайльд Гарольда» – не в пример выступлению порывистого, никому не известного молодого лорда, впервые ораторствовавшего несколько недель назад, – речь не произвела на них большого впечатления. Однако голоса Байрона хватило, чтобы утвердить предложение. Позднее он вспоминал, что «мне пришло спешное предложение на бал, которое я с неохотой отклонил, чтобы принять участие в освобождении пяти миллионов человек». Но после этого его интерес к парламентским дебатам начал убывать.
Критическая статья о «Чайльд Гарольде» явилась настоящим бальзамом авторскому самолюбию. Даже Джеффри похвалил поэму в «Эдинбургском обозрении», а когда Байрон написал ему письмо с извинениями за несправедливые нападки в «Английских бардах…», Джеффри намекнул на убедительные доказательства того, что не он автор отзыва на «Часы досуга». Байрон был рад закопать топор войны.
После успеха «Чайльд Гарольда» женщины засыпали Байрона письмами. Некоторые хотели развеять его скептицизм, другие просили его прочитать их стихи. Самой бесстыдной оказалась Кристина, леди Фолкленд, вдова друга Байрона, лорда Фолкленда, убитого на дуэли. Она вообразила, что Байрон влюблен в нее, потому что из жалости к ее бедственному положению оставил в вазе в ее доме 500 фунтов. Прочитав «Чайльд Гарольда», она решила, что все строки о любви в поэме обращены к ней. «Скажи мне, мой Байрон, неужели, когда ты так скорбно и нежно изливал свое сердце этой Тирзе, ты не имел в виду меня?» Она была убеждена, что «афинская девушка» не кто иная, как «твоя Кристина». Байрон в отчаянии отнес все письма своему юристу, но, когда сказал ей, что не будет ни читать их, не отвечать, она продолжала настаивать: «Почему, мой милый, ты не отвечаешь на мои чувства, как прежде? Умоляю, скажи мне, Джордж» и т. д.
Хотя Байрон никогда не чувствовал себя уютно в обществе, он все же со всей страстью предался светской жизни, которая била вокруг него ключом. Среди новых друзей, которых он приобрел после своего успеха, оказались две красивые, влиятельные и властные женщины. Одной из них была леди Джерси, признанная светская красавица и умница, покровительница всех модных балов. Она даже посмела отказаться от встречи с герцогом Веллингтоном, потому что он опоздал. Байрон стал любимцем на ее великосветских вечерах. Другой женщиной, с которой его связала долгая и крепкая дружба, оказалась Элизабет, леди Мельбурн, мать добродушного супруга Каролины Лэм. В скандальной связи Байрона со своей невесткой она играла роль его доверенного лица. В молодости она обладала загадочной красотой, но и в шестьдесят два была все еще хороша собой. Это была женщина, о которой мечтает любой мужчина: спокойная и рассудительная, женственная и даже чувственная, но чуждая женских причуд. Тактичная и понимающая леди Мельбурн никогда не терялась и не устраивала сцен.
Она с большим снисхождением относилась к человеческим слабостям. Женственные черты в характере самого Байрона располагали его к мягкости и житейскому опыту леди Мельбурн, которая стала его постоянной собеседницей и наперсницей. Возможно, он ценил ее еще больше за приятный контраст в нраве и понимании со своей матерью. Однако это приятное знакомство пробуждало в нем не только сыновние чувства. Байрон говорил леди Блессингтон: «Леди Мельбурн, которая могла бы быть моей матерью, так тронула мое сердце, как могли тронуть лишь некоторые молодые женщины. Она обаятельна – что-то вроде современной Аспазии. Я часто думал, что если бы леди М. была бы чуть моложе, то легко вскружила бы мне голову…»
В мае отношения с Каролиной настолько усложнились, что Байрон начал подумывать об отъезде, но не находил в себе душевных сил. Позже он говорил Медвину: «Женщины легко манипулируют мной, и она (Каролина. – Л.М.) приобрела надо мной такую власть, которую я не мог легко отбросить. Я долго покорялся, потому что ненавижу сцены и ленив от природы…» Он давал Каролине мудрые советы, зная, что она все равно не последует им: «Я подчинялся тебе и опять подчинюсь, если ты мне поможешь, но видеть, как ты несчастлива, – выше моих сил… Мы должны попробовать. Эта мечта, это двухмесячное помешательство должны закончиться…» Байрон собирался 1 июня отправиться в Ньюстед с Хобхаусом, «который старается, как ты и все другие, – писал он Муру, – помочь мне в этом затруднительном положении». Хобхаус, которого сэр Гарольд Николсон метко назвал «балансом в жизни Байрона», был встревожен затянувшейся связью своего друга, потому что лучше других знал, насколько далеко все зашло и как опасен побег. Но и в Ньюстеде они не могли найти спасения. Хобхаус писал: «К Байрону с письмами от леди К. Л. приходит паж – ужасный человек».
13 июня Байрон вернулся в Лондон. Во время своего отсутствия он был избран членом Лондонского Хэмпденского клуба, реформаторского заведения, состоявшего из либерально настроенных аристократов, таких, как сэр Фрэнсис Бердетт, который и рекомендовал Байрона. Байрон чувствовал себя не в своей тарелке среди инакомыслящих членов клуба. Однако и там он нашел людей, близких ему по духу. Одним из самых активных новичков оказалась леди Оксфорд. К середине июня Байрон и Хобхаус стали частыми гостями на ее балах и вечерах. Красивая и образованная Джейн Элизабет Скотт, графиня Оксфорд, была дочерью приходского священника и росла под влиянием идей Французской революции. Ее пылкое стремление к радикальным социальным изменениям могло сравниться только с увлечением красивыми мужчинами, которые по убеждению или влечению разделяли взгляды графини. Она вышла замуж в 1794 году, в возрасте двадцати двух лет, за Эдварда Харли, первого графа Оксфорда и Мортимера, но вскоре устала от роли светской дамы и полностью посвятила себя реформаторскому движению и его сторонникам. Ее первым любимцем после того, как граф, в юношестве придерживавшийся радикальных взглядов, превратился в благодушного политика и мужа, стал один из парламентских лидеров, сэр Фрэнсис Бердетт. Леди Оксфорд была свободна от условностей и следовала на поводу у своих страстей с готовностью, обычной среди английской аристократии, но с еще большей беспечностью. Принцесса Уэльская, чьей близкой подругой она была в 1812 году, простила ее за то, что графиня «была милостива к сэру Фрэнсису Бердетту», и обвинила лорда Оксфорда, потому что «он оставил такую молодую и красивую женщину на целую неделю в сельском доме с таким привлекательным и смелым джентльменом». Когда леди Оксфорд во всем призналась мужу, «он произнес, что ее откровенность настолько притягательна, что он полностью ее прощает». Леди Оксфорд не было нужды избавляться от столь благодушного и терпеливого мужа.
Так и жила леди Оксфорд, а тем временем плодом ее любовной страсти стал целый выводок красивых детей, отец которых был неизвестен и которых называли «Харлейской смесью», потому что под таким названием были опубликованы в 1744 году некоторые рукописи из библиотеки Оксфордов. Леди Оксфорд уже надоел последний любовник, лорд Арчибальд Гамильтон, когда она встретила Байрона, однако весьма сомнительно, что он, поглощенный интригой с Каролиной Лэм, обратил внимание на «увядшие прелести» женщины, которая, несмотря на свою привлекательность, была на шестнадцать лет старше его.
Возможно, к тому времени Байрона уже представили принцессе Уэльской. Она покровительствовала многим его друзьям, и леди Оксфорд была частой гостьей в Кенсингтонском дворце. В любом случае Байрон разделял симпатии, питаемые вигами к принцессе, чьи взгляды противоречили взглядам принца-регента. Однако, когда появилась возможность встретиться с принцем, Байрон ухватился за нее, как истинный тори. На вечере принц, узнав о присутствии среди гостей автора «Чайльд Гарольда», выразил желание увидеть его. Смущение Байрона исчезло, когда принц заговорил о литературе. Их обоюдное восхищение Вальтером Скоттом уменьшило сдержанность Байрона. Тем не менее он иронически писал об этом разговоре лорду Холланду, потому что не хотел, чтобы его друзья-виги подумали, будто он переметнулся в стан врага.
В конце июля отношения с Каролиной накалились до предела. В своем дневнике Хобхаус описывает те драматические события: «Среда, 29 июля. Отправился к Байрону на Сент-Джеймс-стрит, 8, надеясь отправиться вместе в Хэрроу, – план, придуманный им, чтобы избежать опасной встречи с дамой. В двенадцать часов, когда мы уже собирались уходить, мы услышали оглушительный стук и увидели толпу, собравшуюся у дверей дома, и немедленно по лестнице поднялся человек в странных одеяниях, это оказалась та самая дама из Брокета… Я решил, что бросить моего друга одного в такой ситуации, когда все до единого в доме, все слуги знали, что за женщина к нам пришла, и не попытаться предотвратить катастрофу-побег, который казался неминуемым, будет неслыханным поступком, поэтому я остался в гостиной, а дама в спальне сняла свои одежды, под которыми оказался костюм пажа. Наконец она облачилась в платье, шляпку и туфли служанки и вышла в гостиную…» Когда Хобхаус стал настаивать на ее уходе, она попыталась заколоться кинжалом, и Байрону пришлось удерживать ее. Наконец Хобхаусу удалось уговорить ее переодеться и отправиться с ним в карете к другу при условии, что она сможет увидеться с Байроном до того, как он уедет из города. Больше всего Хобхаус хотел, чтобы Байрон «не позволял этой женщине, которая, по мнению всего света, вцепилась в него мертвой хваткой, обрести власть над собой, согласившись на настоящее безумство, и, когда я узнал, что между ними все кончено, моей целью стало предотвращение общественного скандала».
И в самом деле между Байроном и Каролиной все было кончено, но тем не менее она продолжала свои безумства, а Байрон то подчинялся ей, то умолял ее проявить сдержанность и благоразумие. 9 августа Каролина прислала ему письмо, к которому приложила свои лобковые волосы и приписку: «От Каролины Байрону. От самой любимой после Тирзы и самой верной. Да благословит Господь твою любовь. Ricordati di Biondetta. От твоей дикой антилопы».
В письме говорилось: «Я просила тебя не присылать свою кровь, но теперь я согласна, потому что, если это означает любовь, я хочу, чтобы ты мне ее прислал. Я срезала волосы слишком близко, и было много крови; ты так не делай и, умоляю тебя, не подноси ножницы слишком близко. Лучше срежь волосы с руки или запястья. Пожалуйста, будь осторожен…»
12 августа произошло более серьезное прилюдное извержение «маленького вулкана». Леди Бессборо пыталась убедить Каролину уехать с мужем в деревню, а потом отправиться вместе в Ирландию. Когда лорд Мельбурн стал упрекать Каролину, она пригрозила, что уйдет к лорду Байрону. Мельбурн послал ее к черту и добавил, что не уверен, захочет ли Байрон ее принять. В ярости Каролина выбежала из дому и спряталась в доме врача, где Байрону удалось выследить ее, подкупив извозчика, и вернуть семье. Байрон испытал облегчение, когда в сентябре она отправилась с матерью и мужем в Ирландию. Его прощальное письмо, которое она хранила до конца дней, представляет собой искусную смесь учтивости и самоотречения, полностью отвечающих представлению Каролины о драматизме ситуации. Она была недалека от истины, полагая, что это письмо является достаточным доказательством любви Байрона, но не могла понять, что в то же время он был рад избавиться от нее. Ее отъезд дал ему возможность выразить чувства, которые он когда-то испытывал к ней.
«Моя милая Каролина, если слезы, которые ты видела на моих глазах и которые я не склонен проливать зря, если волнение, с которым я расставался с тобой, если все, что я сказал и сделал и готов сказать и сделать вновь, не убедили тебя в истинности моих чувств, которые вечно останутся неизменны, моя любовь, то у меня больше нет других доказательств… Знаешь, я бы с радостью отказался от всего в этом мире и в том ради тебя, и если я этого не сделал, то неужели ты мне не поверишь? Мне все равно, что думают другие… Я был и остался твоим, чтобы служить тебе, почитать и любить тебя и чтобы лететь за тобой куда угодно и тогда, когда ты этого захочешь».
Когда Каролина уехала, страсти немного улеглись, но Байрон продолжал писать ей, зная, что она ждет его писем, и желая предотвратить возможный скандал. От принца-регента леди Бессборо узнала, насколько широко распространились слухи о связи Байрона и Каролины и в каком смешном свете их всех представляли. Лорд Мельбурн сказал принцу, что Каролина свела его с ума, а Байрон околдовал всю семью, «матерей и дочерей». «Никогда не слышал ничего подобного, – воскликнул принц, – выбрать мать в доверенные лица!»
Байрон всегда был невысокого мнения о матери Каролины, впоследствии он называл ее «Леди Лесть». Но принц правильно догадался, что Байрон избрал своим доверенным лицом леди Мельбурн. Ей он с откровенностью и едким цинизмом доверял свои чувства по отношению к Каролине и другим женщинам. Но даже ей он не мог признаться в своих нежных чувствах, которые находили отражение только в стихах.
Прежде чем Байрон отправился из Лондона в Челтнем, Ньюстед наконец был продан. 14 августа поместье выставили на аукцион, но по совету Хэнсона Байрон не принял ни одного предложения, и на следующий день Томас Клотон, юрист из Ланкашира, предложил ему 140 000 фунтов за всю собственность, включая деревянные строения, 3200 акров парка и ферм и мебель. Предложение было принято, но Клотон скоро отступился и запросом документов на поместье и другими уловками отложил выплату денег, включая задаток в 25 000 фунтов. Байрон опять оказался в затруднительном положении.
После напряженных трудов весной и летом Байрон был рад провести время в спокойном кругу семейств Джерси, Холланд, Мельбурн и других лондонских друзей, которые в сентябре собрались на модном водном курорте. Лорд Холланд убедил его написать речь к открытию нового театра «Друри-Лейн», построенного после того, как старый театр был разрушен в 1809 году. Устроили специальный конкурс на лучшую речь, но Байрон отклонил это предложение. «Не хочу соперничества», – сказал он леди Мельбурн. Однако, когда ни одну речь не одобрили, Байрон согласился порадовать лорда Холланда, но ему пришлось приложить немало усилий, чтобы написать что-нибудь подходящее, и, хотя занятие его утомило, он не мог не согласиться с заявлением своего друга Перри в «Морнинг кроникл», что «в некоторых местах речь не очень благозвучна, но в общем весьма культурная».
Облегчение, испытанное Байроном после унизительного романа с Каролиной Лэм, отражено в его письме к леди Мельбурн: «…вам будет приятно услышать, что я мечтаю, чтобы это наконец закончилось, после чего я, конечно, не буду искать путей сближения с ней. Дело не в том, что я люблю другую, просто любовь не для меня, я устал быть дураком… По раннему опыту сужу, что любовь – нечто автоматическое, будто плавание. Когда-то мне нравилось и то и другое, но, поскольку теперь я не плаваю, а только бултыхаюсь в воде, любовь для меня теперь лишь некая обязанность…»
Байрон не признался леди Мельбурн, насколько сильно он был привязан к Каролине. Но ему была необходима ее помощь, не только для того, чтобы избавиться от надоевшей Каролины, но и чтобы узнать нечто важное для себя. Байрон признался леди Мельбурн, что обманывал и себя и ее, когда говорил, что не любит другую. Он поразил ее признанием: «…была и есть одна женщина, на которой я мечтал жениться, если бы не помешали эта связь и другие обстоятельства… Я имею в виду мисс Милбэнк. Я мало знаю о ней и не думаю, что у меня есть надежда добиться ее расположения. Но никогда не встречал я женщины, которая бы вызывала во мне большее уважение».
Леди Мельбурн сама мечтала устроить жизнь Байрона и желала, чтобы он забыл о своем увлечении Каролиной, но не могла поверить в его серьезность и в то, что ее племянница, образец совершенства, сумеет справиться с причудами байроновского темперамента. На ее удивление, он ответил: «Я восхищаюсь мисс Милбэнк, потому что она умная, милая и высокого происхождения женщина, так как насчет последнего во мне еще крепки предрассудки норманнских и шотландских предков, особенно если речь заходит о женитьбе. Что касается любви, то она может возникнуть за неделю, если только дама уже питает к вам какие-нибудь дружеские чувства; кроме того, лучше жениться, испытывая уважение и уверенность, нежели страсть, а мисс Милбэнк достаточна мила, чтобы быть любимой мужем, и не настолько ослепительно красива, чтобы привлекать толпы соперников».
Байрон не мог открыть леди Мельбурн всю глубину своего чувства к Каролине. Он неохотно воспринял ее совет написать ей дружеское письмо. Это «будет похоже на равнодушие и воспримется как оскорбление…». Теперь ему казалось, что остается лишь один путь – женитьба, и он шутливо умолял леди Мельбурн узнать мнение Аннабеллы, хотя бы «ради удовольствия называть вас тетушкой!».
Однако несколько дней в веселом Челтнеме, включая увлечение итальянской певицей, притупили желание Байрона сочетаться браком с достойной мисс Милбэнк. «А что до Аннабеллы, то, чтобы стать ее супругом, потребуется время и все основные добродетели, а я между тем склонен проводить время с той, которая не требует ничего и, кроме того, избавляет меня от необходимости жениться, будучи уже замужем». Еще больше Байрона прельщало то, что его новая пассия говорила только по-итальянски и что «у нее черные глаза и не очень светлая кожа, что напоминает мне о некоторых обитательницах греческих островов, которых я хотел бы забыть… Жаль только, что она так много ест: женщина не должна много есть и пить, кроме лишь салата из лобстеров и шампанского, единственных женственных и подходящих кушаний». Но певица была веселой и «очень любила своего мужа, что даже хорошо, потому что если женщина привязана к своему мужу, то, естественно, она еще больше привяжется к тому, кто таковым не является…». Леди Мельбурн знала, как относиться к подобным шуткам. Однако письмо из Ирландии, обещающее новые скандалы, снова заставило Байрона подумать о быстрой женитьбе. «Если ваша племянница не против, я предпочту ее; если же нет, то подойдет любая, которая не захочет плюнуть мне в лицо…»
После этого леди Мельбурн написала Аннабелле и, не называя имени поклонника, спросила, какими качествами должен обладать ее будущий муж. Об этом ее племянница размышляла долго и глубокомысленно. Она начала с того, что описала свой характер. «Я никогда не испытываю раздражения, пока другие ведут себя спокойно. Поэтому для моего душевного покоя необходимо дружелюбное расположение моего спутника. Поскольку я не приобрела привычки обдумывать свои поступки, то иногда утрачивала осторожность, идя на поводу своих чувств, однако никогда еще я не поддавалась искушению». А супруг Аннабеллы «должен обладать чувством долга и сильными чувствами, над которыми возобладал бы разум…». «Я хочу полной свободы от подозрений и постоянного дурного настроения, а также любви и уважения к себе, но не бурной страсти, способной разгореться или погаснуть от малейшего пустяка».
Леди Мельбурн обвинила племянницу в напыщенности, но решила все же осторожно намекнуть на предложение Байрона. Хотя Аннабелла была частично подготовлена, она не могла скрыть изумления, потому что он был единственным человеком, волновавшим ее, хотя ее аналитический ум и не одобрял его поведения. Ей потребовалось несколько дней на ответ, а тем временем она продолжила описывать характер лорда Байрона, что начала делать несколько месяцев назад, но потом бросила. Пытаясь выявить в нем плохие и хорошие качества, она заключила: «Он склонен полностью открываться тем, кого считает достойным, даже толком не зная этого человека. Он чрезвычайно застенчив с людьми, которых уважает, и признается им в своих недостатках…»
Аннабелла прервала свое описание на полуслове, возможно боясь, что сама не сможет вывести окончательное заключение. Однако ее ответ, который, хотя и выдавал волнение, заключался в том, что она отклоняла предложение Байрона, потому что не уверена в своих собственных чувствах, но не хочет прекращать знакомства, «которое является для меня большой честью и приносит столько радости и наслаждения». Байрон добродушно воспринял ее отказ, признавшись, что на самом деле был не очень заинтересован в исходе дела. Тем не менее его заинтриговал «очаровательный математик», о чем он и написал леди Мельбурн, завершив свое письмо словами: «Вновь благодарю вас за труды, предпринятые вами в отношении моей принцессы Параллелограммы, которая озадачила вас больше гипотенузы… Ее поступки чрезвычайно прямолинейны, и мы похожи на две параллельные прямые, которые уходят в бесконечность, но никогда не пересекаются».
В напряженные и суматошные дни Байрон нашел время, чтобы написать двести строчек сатиры, посвященной вальсам, которую и предложил Меррею. Зачатая в атмосфере ханжеской морали и в муках рожденная хромым автором, наблюдавшим за танцующими на лондонских и провинциальных балах, эта поэма была наполнена скорее горечью, нежели иронией. Гораций Хорнем, сельский эсквайр и вымышленный автор, сочинил хвалебную песнь «императорскому вальсу, привезенному с Рейна», который «побуждает пары причудливо кружиться». В поэме была затронута королевская семья, и именно по этой причине Байрон желал опубликовать ее анонимно: слишком явны были насмешливая дань уважения милостивому Георгу III, породившему на свет Георга IV, ироничные замечания по поводу «царственных ляжек» и «королевского бедра».
Леди Оксфорд, еще в Лондоне обратившая на Байрона благосклонный взгляд, находилась в Челтнеме и пригласила поэта в Айвуд, сельское поместье Оксфордов недалеко от Престона. Зрелая и спокойная красота этой дамы приятно поразила Байрона после импульсивной нервности Каролины, которая постоянно пыталась вызвать его симпатию или ревность рассказами о том, «сколько любовников принесли себя в жертву на алтарь этого образца постоянства». В Айвуде Байрон стал постоянным спутником леди Оксфорд – ситуация, которая весьма пришлась ему по душе. Позднее он говорил леди Блессингтон, что она «пробудила в моей груди прекрасные чувства, и даже теперь я вспоминаю красоту леди Оксфорд с большим восхищением».
Байрон обращался к леди Мельбурн, которая, с одной стороны, одобряла его увлечение, положившее конец связи с Каролиной, а с другой – опасалась, что перестанет быть его другом: «Неужели вы сомневаетесь во мне, находящимся под сенью «беседки Армиды»? Безусловно, я пленен, но ваши чары навсегда останутся со мной». И действительно, Байрон переживал прекрасные дни. Кроме очаровательной любовницы, он наслаждался обществом ее прелестных дочерей. Они находились именно в том возрасте, который всегда так волновал воображение Байрона. Его любимицей была одиннадцатилетняя леди Шарлотта Харли. Никто не смог бы с большей остротой осознавать всю прелесть невинной юности, чем разочарованный молодой лорд, слишком рано познавший горечь любовных услад. Его восхищение ребенком выразилось в идеализации образа матери. Седьмое издание «Чайльд Гарольда» он начал строчками к «юной пери Запада», изображенной под именем Ианты.
Но такая идиллия не могла длиться вечно. От Каролины пришло «нелепое, упрямое и угрожающее письмо». Она выражала свое презрение к Байрону, и, обиженный, он писал леди Мельбурн: «Даже если бы я не любил другую, то никогда не заговорил бы с ней вновь». В порыве откровения он продолжал: «Я не могу жить без предмета обожания и любви. Теперь я нашел его… Я слишком далеко зашел, чтобы отступать, и не жалею об этом».
Наконец разразилась буря. 9 ноября леди Оксфорд получила от Каролины письмо, «длинную тираду в германском духе», по словам Байрона, «очевидно, чтобы выяснить, каковы наши отношения». В письме было множество вопросов, на которые нет ответа, и Байрон убедил свою любовницу вовсе не отвечать. Он начал понимать, что оскорбленная Каролина пойдет на все, чтобы отомстить ему за измену. В тот же день он написал ей сдержанный и резкий ответ: «Леди Каролина, наши чувства не в нашей власти; мое сердце занято. Я люблю другую женщину. Мое мнение о вас изменилось, и если бы мне потребовались доказательства, то ваша ветреность, ваши капризы и низкие уловки, которыми вы в вашем легкомыслии воспользовались, полностью открыли мне глаза. Я больше не ваш возлюбленный…»
Вскоре после этого Каролина возвратилась в Англию и начала требовать встречи с Байроном, «чтобы оправдаться, не знаю за что». Но он уже пообещал леди Оксфорд не соглашаться на встречу и специально отложил свой отъезд в Лондон. В дружелюбной атмосфере Айвуда, «за чтением, смехом и игрой в жмурки с вашими детьми», Байрон был счастлив, что его брак с «Принцессой Параллелограммой» не состоялся. «Я поздравляю Аннабеллу и себя с нашим спасением. Из нашего союза получилась бы холодная закуска, а я предпочитаю горячие ужины».
Наконец 21 ноября Байрон с сожалением покинул Айвуд и по дороге в столицу остановился в Миддлтоне в доме Джерси. Ему нравилась леди Джерси, но между ними не было ничего похожего на то, что было в Айвуде, где «гравюра с изображением Ринальдо и Армиды была самым привлекательным украшением». Байрон писал Хобхаусу, что «между мной и леди Каролиной Лэм все кончено. Я по-прежнему далек от брака и полагаю, что, когда это все-таки случится, «беспристрастная судьба» сделает меня рогоносцем».
Однако Каролина не собиралась успокаиваться. Она не хотела мириться с тем, что произошло. Сначала она попросила Байрона вернуть ей все письма, но, когда он согласился, отказалась возвращать его. Затем она потребовала назад подарки, думая, что он отдал их леди Оксфорд, и желая смутить его. После этого она удалилась в сельское поместье в Брокете, где бешено разъезжала верхом по дорогам и слала своему бывшему возлюбленному нелепые угрозы: «Ты рассказывал мне о мести иностранок, а я покажу тебе, как отомстит англичанка». К счастью, месть оказалась символической. Каролина собрала детей и заставила их исполнить нечто вроде ритуала с чтением стихов, а сама в это время сжигала портреты Байрона и копии его писем (она так и не смогла расстаться с оригиналами).
30 ноября Байрон прибыл в «Баттс-отель» на Дувр-стрит и обнаружил, что его финансовые дела находятся в ужасающем состоянии. Клотон продолжал оттягивать обещанную выплату за Ньюстед, но в конце концов согласился выплатить 5000 фунтов, часть из которых пошла на уплату давнишнего долга Скроупу Дэвису. Байрона осаждал Ходжсон, обвиняя своего старого друга в забывчивости и умоляя его немедленно одолжить 500 фунтов. Уладив денежные дела с Мерреем, который переехал с Флит-стрит на Элбермарл-стрит, 50, недалеко от Пикадилли, где и сейчас его потомки продолжают его книгопечатное дело, Байрон за неделю до Рождества вновь направился в Айвуд.
Нелепые выходки Каролины утомили Байрона. «Я начинаю подумывать, что она действительно сумасшедшая, иначе было бы немыслимо сносить все ее выходки», – писал он леди Мельбурн. В Айвуде, по словам Байрона, «все было спокойно и безмятежно: никаких сцен, много музыки, веселье, и каждый день все больше отдалял меня от Каролины». А впереди было еще много приятного. «Мы поговариваем о поездке на Сицилию весной…» В случае неудачи Байрон решил вновь отправиться на Восток с Хобхаусом. Любовь к Востоку была подобна лихорадке, постоянно живущей у него в крови, которая могла вспыхнуть с новой силой при любом воспоминании.
Оглядываясь на год, принесший ему известность, Байрон не мог вспомнить ничего более счастливого, чем дни, проведенные в Айвуде. В последний день года он писал леди Мельбурн, восхваляя свою «Армиду»: «Не стану утомлять вас перечислением всех ее достоинств, скажу лишь, что я ни разу не зевнул за все два месяца, проведенные под ее крышей, – нечто поразительное в моей жизни».
В начале 1813 года жизнь в Айвуде стала еще приятней. В начале января лорд Оксфорд уехал в Лондон, и Байрон две недели провел с леди Оксфорд и ее красивыми детьми. 2 января он отправил через Хобхауса письмо к Хэнсону с просьбой выделить сотню гиней, чтобы заказать портрет своей возлюбленной, и втайне от всех переслать их Меррею. Два дня спустя он писал леди Мельбурн: «Мы живем без ссор и всяких неприятностей, у нас очень мало гостей и никаких жильцов, только книги, музыка и тому подобное». Позднее Байрон вспоминал, что в Айвуде леди Оксфорд сказала ему: «По-моему, весь месяц мы жили как боги Лукреция». И Байрон добавил: «Так и было».
Тем не менее мирное существование в Айвуде нередко нарушалось весьма беспокойным образом. Каролина Лэм была серьезно настроена заставить Байрона заплатить за пренебрежение к своей особе. Он перестал ей писать, однако это не остановило поток ее красноречия. Каролина сообщила, что на пуговицах своей пажеской ливреи выгравировала слова «Не верь Байрону». Кроме того, она подделала письмо Байрона, чтобы получить от Меррея портрет своего бывшего возлюбленного, который, в свою очередь, заказала леди Оксфорд.
Когда в конце января Байрон вернулся в Лондон, то снял комнаты на Беннет-стрит, 4, неподалеку от Сент-Джеймса, и продолжал наслаждаться благосклонностью леди Оксфорд. Он также вращался в обществе принцессы Уэльской и ее приближенных. Поначалу ему было немного скучно с принцессой, и он был уязвлен поведением леди Оксфорд, которая ввела его в этот круг. В райский уголок Айвуда уже проник змей. Позднее Байрон говорил Медвину: «Мне невыносимо расстаться с ней, даже теперь, когда я знаю, что она была неверна мне». В Лондоне леди Оксфорд обратила внимание на других блестящих молодых людей. Это вошло у нее в привычку. Но Байрон слишком долго наслаждался ее безраздельным вниманием, чтобы отнестись спокойно к новым увлечениям своей возлюбленной. А у леди Оксфорд могли быть свои причины для ревности и разочарования. Если верить поздним «заявлениям» леди Оксфорд, то ее друг признал, хотя надо заметить, что он часто преувеличивал свои прегрешения, чтобы напугать ее, будто однажды леди Оксфорд «застала его, когда он заигрывал с ее тринадцатилетней дочерью, и пришла в неописуемую ярость».
Принцесса вскоре заметила трещину в идиллических отношениях «Армиды и Ринальдо». Своей придворной даме она писала: «Бедняжка леди Оксфорд на этот раз влюблена сильнее, чем обычно. Как-то вечером она была у меня и плакала в приемной: так лорд Байрон был суров с ней».
Но, ближе сойдясь с принцессой и перестав чувствовать отчуждение в ее обществе, Байрон завоевал ее сердце своим обаянием и веселостью. Возможно, его привлекли ее несвойственные аристократам естественность, прозаичность. Принцесса же пришла к выводу, что «он совсем другой, когда окружен людьми, которые нравятся ему и которым он сам нравится…».
Если порой Байрон и бывал раздраженным, то это потому, что в Лондоне его настигли неприятные известия. Клотон продолжал затягивать выплату денег за Ньюстед, в то время как самого Байрона осаждали кредиторы, узнавшие о продаже поместья. Хэнсон отговорил его от разрыва отношений с Клотоном, боясь, что во второй раз невозможно будет продать Ньюстед по столь выгодной цене. Больше всего Байрон мучился от своего бессилия, сознавая невозможность помочь друзьям, которые обращались к нему. Наконец он подписал долговое обязательство с Ходжсоном на сумму 500 фунтов, но не смог помочь своей сестре, чей супруг-игрок довел семью до бедственного положения.
Если бы леди Оксфорд не посоветовала ему вернуться к своим государственным обязанностям, Байрон с радостью бы не появлялся в парламенте. В феврале он побывал на нескольких слушаниях в палате лордов, но речи быстро наскучили ему. К концу марта он написал Августе, что «больше не намерен появляться на политической арене». Байрон с тоской продолжал оглядываться на свою юность и вспоминать романтические мечты, которые преследовали его во время бесцельных скитаний за океаном. Августе он признавался в своем полном поражении в жизни: «Возможно, ты слышала, что я глупо тратил время с разными «царственными особами», но чего еще можно ожидать от меня? У меня всего один родственник, которого я почти не вижу. У меня нет привязанностей, а к браку не имеется ни таланта, ни склонности».
По-прежнему величайшей мечтой Байрона оставался побег из Англии, который мог осуществиться по трем направлениям. Леди Мельбурн он говорил: «О первом вы знаете (поехать вместе с Оксфордами или за ними); второй – персидский план Слиго… Еще Хобхаус предлагает поехать на Восток или в Россию…» Тем временем в конце марта Байрон вновь с радостью вернулся под сень Айвуда вместе с леди Оксфорд. В столице Каролина Лэм докучала ему желанием встретиться. Ему удалось отделаться от нее, предложив встречу в присутствии леди Оксфорд. После этого Каролина стала требовать прядь его волос. Он удовлетворил ее просьбу поистине дьявольским образом: послал ей прядь волос леди Оксфорд.
19 апреля Байрон заметил новую трещину в отношениях с леди Оксфорд. «Сейчас мы несколько смущены, – говорил он леди Мельбурн, – и все из-за события, которое никак не входило в мои планы; что это за событие, пусть вам подскажет ваше воображение…» Логично предположить, что в семействе леди Оксфорд ожидалось пополнение, но, поскольку больше об этом не упоминалось, тревога, видимо, оказалась ложной.
Молчание Каролины длилось недолго. Она снова начала требовать портретов, писем и брелоков. Байрон писал леди Мельбурн: «…я не стану описывать, огорчая вас, все отвращение и ужас, которые вызывает во мне ее поведение». Подаренное Каролиной кольцо он отдал леди Шарлотте Харли, дочери леди Оксфорд, «которую я бы любил вечно, если бы ей всегда было одиннадцать лет, и на которой я, возможно, женюсь, когда она вырастет и приобретет все необходимые дурные привычки, чтобы стать современной женой».
В конце апреля Байрон вернулся в Лондон. 29-го числа он сообщил Каролине о своем согласии встретиться, поскольку леди Оксфорд отменила свой запрет. Однако в письме не содержалось надежды на примирение. «Ты пишешь, что погубишь меня. Благодарю, но я сам уже сделал это. Ты говоришь, что уничтожишь меня, возможно, этим ты только окажешь мне услугу». Байрон не оставил замечаний об этой встрече. Вероятно, он хотел все поскорее забыть, потому что смягчился и выказал по отношению к Каролине жалость и снисхождение. Каролина, ошибочно принявшая жалость Байрона за любовь, позднее говорила Медвину: «Наша встреча была совсем не такой, какой он ее описывает: он просил меня простить его, жалел меня и плакал».
Пока леди Мельбурн жила в поместье, Байрон снова встретился со своими старыми друзьями. Он часто виделся с Роджерсом и Муром. Последний познакомил его с Ли Хантом, который стал настоящим мучеником либерального движения в результате отбытия заключения в тюрьме графства Суррей за клевету на принца-регента. Хант был поражен искренней добротой известного поэта-аристократа: Байрон принес ему книги, необходимые для работы над «Историей Римини», над которой Хант работал в украшенной цветами камере тюрьмы. Позднее Хант признался: «Оказалось, я уважаю лордов больше, чем мог бы предположить». Он воображал, что при помощи своей благоразумной жены Марианны, «добропорядочной матери семейства», сумеет исправить Байрона.
Однако на самом деле Байрон не обращал на Ханта особенного внимания. Он был слишком поглощен своими делами и друзьями. Хобхаус отправился в длительное путешествие за границу. Байрон писал леди Мельбурн: «…он самый старший и самый верный мой друг, и, расставшись с ним, я потерял «наставника, философа и друга», которого не могу и не хочу никем заменить». Без руководства Хобхауса Байрон стал беспомощным перед лицом своих собственных слабостей. Он сознавал, что единственным выходом будет бежать от опутывавших его неприятностей. Несмотря ни на что, встреча с Каролиной расстроила его. Байрон видел ее уловки, но не мог заставить себя ответить ей тем же и не знал, что ждет его, если он покинет Англию. Ситуация усугубилась еще и тем, что он вновь встретил мисс Милбэнк, единственную девушку, которая ответила ему отказом. Позднее в своем «Самоописании» она признавалась: «Я была взволнована встречей с ним и первая предложила ему руку. Пожимая ее, он побледнел. Возможно, тогда я бессознательно ответила на его прежнее предложение».
27 мая леди Оксфорд вернулась в Лондон. Возможно, именно она побудила Байрона 1 июня выступить в палате лордов и представить прошение майора Джона Картрайта на право сбора подписей в пользу парламентских реформ. Радикал Картрайт, являющийся настоящим проклятием для тори и умеренных вигов, собирал подписи в пользу этих реформ, но сталкивался с препятствиями, как сказал Байрон в своей речи, «со стороны оскорбленных гражданских и действующих незаконно военных властей». Сейчас трудно понять, насколько радикальной была речь Байрона, если не иметь в виду периоды политического помешательства в нашей недавней истории, когда одному смелому человеку приходилось выступать против всеобщих страхов и предрассудков, защищая конституционное право на свободу слова. Единственным защитником Байрона стал отверженный граф Стэнхоуп, от которого отреклись обе партии за его якобинские взгляды. Само осознание того, что, подобно Стэнхоупу, он сжег за собой все мосты в парламентской карьере, подвигнуло Байрона на свободное высказывание своего мнения, чего не мог бы себе позволить осторожный политик. Байрон называл свою речь «лебединой песней» в парламенте и прощанием с общественной карьерой, о которой так долго мечтал.
После этого Байрон занялся подготовкой к публикации поэмы «Гяур», восточной повести, которую начал в предыдущем году и к которой постоянно делал новые добавления. Он предложил право печати Меррею, потому что отношения с Далласом стали натянутыми. Байрон из вежливости не мог отделаться от подобострастного приходского священника, но стал сильно тяготиться им и в разговорах с Хобхаусом называл его «чертовым дураком». Другой заботой Байрона стал сбор средств, чтобы сопровождать Оксфордов за границу. 13 июня он отправился вместе с леди Оксфорд в Портсмут, но уже 20-го вернулся назад в Лондон. Лорд Оксфорд был озадачен такой открытой и длительной связью своей жены, но, когда этот терпеливейший из мужей все же подал голос, леди тут же поставила его на место. «Когда она потребовала предоставить ей полную свободу действий, он (лорд Оксфорд) тихо взял свои слова и намерения обратно», – сообщил Байрон леди Мельбурн.
Вечером 20 июня семья Джерси пригласила Байрона на встречу с мадам де Сталь, великой писательницей из континентальной Европы, только что приехавшей в Лондон. Наравне с Шериданом и другими Байрон был изумлен талантом этой необыкновенной женщины, которая повергала всех мужчин в немое удивление. «Она прерывала Уитбреда… она принимала шутки Шеридана за согласие, она читала лекции об английской политике первому из наших политиков-вигов на следующий день после прибытия в Британию». Вначале Байрон подумывал начать препираться с ней. Но увидел, насколько она умна, и под конец стал уважать ее, хотя, как и в случае со многими своими друзьями, цинично и ехидно описывал ее, что, впрочем, нельзя принять за антипатию. «Она мыслит как мужчина, но, увы, чувствует как женщина…»
Байрон забавно описал леди Блессингтон случай, когда уязвил этого оракула красноречия, сказав ей, что находит ее романы «Дельфина» и «Коринна» «очень опасными для юных женщин, что весь мир считает, будто то, как она в «Коринне» изобразила всех положительных героев скучными, заурядными и серыми, является намеренным ударом по добродетели…». Мадам де Сталь прервала его выкриками и жестами, но Байрон продолжал – в восторге от того, что он, с его репутацией повесы, может читать ей лекцию о морали.
Байрон был немного уязвлен, когда узнал, что Оксфорды отплыли за границу, не дав ему возможности вновь увидеться со своей возлюбленной. «Честно говоря, – писал он леди Мельбурн, – я отношусь к ней почти как к Каролине, чего совсем не ожидал от себя». Байрон был рад, что его сестра была с ним в Лондоне. 27 июня он отправился с ней к леди Дэви на встречу с мадам де Сталь. «Думаю, наш совместный выход в свет оказался новым ощущением для нас обоих». Они не виделись с момента отъезда Байрона на Восток и очень редко встречались после того, как в 1807 году Августа вышла замуж за полковника Ли. Грустной осенью 1811 года Байрон приглашал ее в Ньюстед, но семейные обстоятельства помешали ее приезду. Теперь Августа была матерью трех дочерей. Когда Байрон приехал в Кембридж, она была далеко от дома, в поместье Сикс-Майл-Боттом близ Ньюмаркета. После этого вышел в свет «Чайльд Гарольд» и последовали головокружительный успех Байрона в обществе и его любовные увлечения.
Августа, которая была старше брата на пять лет, обладала мягкими очертаниями лица и фигуры, и хотя ее нельзя было назвать красавицей, однако у нее были красивый байроновский профиль и большие глаза, длинный рот, который она часто кривила, как брат, привычка хмуриться, как он, и безудержно смеяться над его остротами. Материнское чувство к своему «малышу Байрону», которого она помнила красивым и веселым мальчиком, умение потакать его прихотям и прощать его слабости и ошибки, понимание, с которым Августа относилась к нему, сознавая его невеселую жизнь с матерью и чувствительность к своему физическому недостатку, – все это способствовало тому, что в лице Августы Байрон нашел друга и близкого человека, с которым можно было вести себя искренно. Они хорошо понимали друг друга, потому что были одной крови. Но духовное родство делалось еще привлекательнее благодаря разному воспитанию; в годы юности они не знали грубых и холодных отношений брата и сестры.
Оба они смущались в большом обществе, но Августа гордилась славой своего брата и была поражена тем, что в самых известных светских гостиных Лондона его с радостью принимали. Байрон был таким ироничным и забавным, таким красивым и обожаемым всеми! С сестрой его связывали теплые и дружеские отношения. Вскоре он уже называл ее Гасс, кличка, переделанная им в Гусь, из-за ее привычки говорить быстро и несвязно. Они часто смеялись, прекрасно понимая друг друга. Байрон был рад обрести близкого родственника, которого у него никогда не было. Сейчас он не был никем серьезно увлечен и весь июль ходил в театры, на балы и вечера.
И вновь Каролина грубо нарушила душевный покой Байрона. Во время танцевального вечера у леди Хиткот она подняла руку и прижала к ней острый предмет со словами: «Я собираюсь им воспользоваться». Байрон ответил: «Думаю, против меня?» – и прошел мимо. По его словам, после ужина он опять встретился с ней и сказал, что «лучше бы ей потанцевать, потому что она танцует хорошо, и я буду виноват, если она откажется от вальса». Однако, по всей видимости, в его голосе было больше горечи, о чем он умолчал в разговоре с леди Мельбурн. Каролина пришла в ярость. Позже она говорила Медвину: «…он заставил меня поклясться, что я никогда не буду танцевать». Когда леди Хиткот попросила ее принять участие в танцах, «я согласилась, но прошептала Байрону: «Думаю, сейчас я могу потанцевать», а он едко ответил: «Со всеми по очереди: тебе это всегда хорошо удавалось. Мне будет приятно смотреть на тебя». После этого Байрон отправился к столу с леди Ранклифф, а Каролина схватила нож. Проходя мимо, он произнес: «…если ты собираешься смеяться надо мной, смотри, куда ударишь ножом: пусть это будет твое сердце, а не мое – в мое ты уже ударила». Она убежала с ножом и, когда дамы пытались отобрать его, порезала себе руку. Этот случай появился в хронике скандалов на следующий день, и Каролина поняла, что переступила черту допустимого: впервые устроила сцену на людях.
Несмотря на это, Байрон продолжал готовиться к поездке за границу. Путешествие стало возможным, потому что Клотон был готов выплатить остаток наличных за Ньюстед. Байрон уже наделал чудовищных долгов, покупая вещи и подарки, необходимые ему для поездки. Кроме мечей, ружей и другого военного снаряжения, дорожных сундуков из красного дерева и письменных столов, он заказал огромное количество военной формы, дюжину нанковых брюк, алые и голубые плащи штабных офицеров, девять пар великолепных золотых эполетов и тому подобное, после чего счет портному достиг 896 фунтов и 19 шиллингов. Помимо дорогих безделушек, о которых свидетельствуют счета от «Лав и Келли», от ювелиров и золотых дел мастеров, он заказал семь изящных золотых шкатулок для подарков иностранным правителям на сумму 315 фунтов, которые взял из денег, выплаченных ему в 1812 году (657 фунтов 10 шиллингов).
13 июля Байрон обратился к Джону Уилсону Крокеру, секретарю военно-морского министерства, с просьбой разрешить ему отплыть на военном корабле, направляющемся в Средиземное море, но планы Байрона были так неясны, что он в то же самое время подумывал отправиться куда-нибудь не так далеко от дома. В тот же день он писал Муру: «Я серьезно настроен, – заметь, только лишь настроен, – влюбиться в леди Аделаиду Форбс». Но это было всего лишь минутное увлечение.
Лишенный серьезных сердечных привязанностей впервые за то время, что на него обрушилась слава, Байрон продолжал укреплять свое положение в обществе. Оглядываясь на прошлое, он писал: «Мне нравились денди: они всегда были учтивы со мной, хотя недолюбливали людей искусства…» Но Байрон чаще испытывал скуку в великосветских салонах, чем на собраниях денди. А салоны, покровительствующие писателям, были хуже всего. «В общем, я не схожусь с людьми искусства, – писал Байрон в 1821 году, – не то чтобы они мне не нравились, просто я не знаю, о чем с ними говорить, после того как все похвалы исчерпаны. Конечно, есть исключения; только они либо светские люди, как Скотт и Мур, либо мистики и мечтатели, как Шелли. Но я обычный человек и никогда не чувствовал себя свободно в их обществе…» Даже своих друзей, например Мэттью Грегори (Монаха) Льюиса, Байрон считал скучными. «Льюис был хорошим человеком, – вспоминал он, – умным, но скучным, чертовски скучным…»
Однако некоторыми писателями Байрон искренне восхищался за их самобытный талант и индивидуальность. Одним из таких людей был Ричард Бринсли Шеридан. «Бедный милый Шерри! Никогда не забуду день, который мы провели вместе с ним, Роджерсом и Муром, когда он говорил, а мы слушали с шести вечера до часа ночи, и никто из нас ни разу не зевнул». Байрон восхищался ораторским даром Шеридана, хотя слышал его выступление в парламенте всего один раз, но больше всего его остроумием. «Бедняга! Он напивался очень быстро и основательно. Мне часто выпадала доля провожать его домой; нелегкая работа, потому что он бывал так пьян, что мне приходилось помогать ему надевать шляпу, которая через несколько минут падала на землю, а я сам был не настолько трезв, чтобы поднимать ее».
После трех недель, проведенных с братом в Лондоне, Августа вернулась в Сикс-Майл-Боттом, где за несколько дней Байрон дважды навестил ее – ее супруг был где-то на скачках – и после второго визита повез ее в Лондон. 5 августа он сделал неожиданное признание леди Мельбурн: «Моя сестра, которая сейчас находится в городе, едет со мной за границу…» Насколько глубоко было его чувство, леди Мельбурн не знала, хотя он желал, но одновременно и страшился сказать ей. Несколько раз Байрон был готов открыть свою тайну, но сдерживался, хотя и продолжал намекать на нечто темное и запретное. «Когда я не пишу вам или долго не вижусь с вами, можете быть уверены, что я не делаю в это время ничего хорошего… Не сердитесь на меня, хотя вы все равно будете, во-первых, за то, что я сказал, а во-вторых, за то, чего не сказал». Августа вернулась домой, и мучения Байрона вновь усилились. Он горел желанием раскрыть свою страшную тайну. 22 августа он написал Муру: «…сейчас я в более серьезном положении, чем за весь последний год, и если я говорю об этом, то, значит, это действительно так. Как жаль, что мы не можем жить без женщин и с ними».
В последующие дни Байрон так подробно рассказал обо всем леди Мельбурн, что она испугалась за него. Близость с Августой, которая была его единокровной сестрой, наводила на мысль о страшном слове «кровосмешение», которое ужасало леди Мельбурн больше, чем открытый и бесстыдный скандал, связанный с Каролиной Лэм[13].
В связи с сестрой для Байрона крылось особое очарование, потому что это давало возможность «новых ощущений» и потому что это был запретный плод. Ощущение того, что ему судьбой предначертано испытывать чувство, в котором есть «что-то зловещее», ясно отражено в его восточных поэмах, где он изливал «лаву» своих внутренних противоречий. Байрона преследовала мысль о том, что ему уготовано продолжать темную славу своих предков. Если бы он видел письма своего отца к сестре Фрэнсис Ли, матери Августы, намекающие на его близость с сестрой, то еще больше убедился бы в том, что это судьба.
Приветливая и добрая Августа, которая так любила брата, только хотела видеть его счастливым. Она едва ли придавала значение абстрактным моральным вопросам, хотя и была набожной и часто дарила настольные Библии членам своей семьи и друзьям. В отличие от нее, Байрон не мог не думать об опасностях и общественных последствиях и, будучи человеком высоконравственным, испытывал угрызения совести. Подобно многим своим современникам, он лишь умом, но не сердцем понимал всю нелепость понятия «грех» в кальвинистском смысле этого слова. Но осознание развращенности человеческой натуры и своей собственной слабости вело его к дальнейшему нарушению общественных норм. Постепенно, следуя советам встревоженной леди Мельбурн, он отказался от затеи взять Августу с собой за границу, но и сам тоже отказался от поездки.
Во время этих неприятных переживаний Байрон с удивлением получил длинное письмо от Аннабеллы Милбэнк. 22 августа она подробно, под маской дружеского сочувствия, описала ему свои чувства. «В моем характере испытывать глубокие и скрытные чувства, – писала она ему, – и сильнейшие мои сердечные привязанности всегда остаются без ответа». Признание в том, что у нее появился новый поклонник, вновь подтвердило ее отказ Байрону, как и год назад. В конце Аннабелла давала ему разумный совет: «Больше не будьте рабом сиюминутных желаний, не пускайте свои благородные порывы по жизненному течению». После этого она просила сохранить это письмо в тайне от леди Мельбурн, которая «не поймет истинного характера моих намерений».
Три дня спустя в своем дневнике Аннабелла записала несколько мыслей по поводу «характера, представляющего для меня интерес». Такой человек должен обладать «деятельным, но не показным благоразумием, независимостью интересов. Неизменными нравственными устоями. Неизменной искренностью. Должен быть гордым и дорожить своей честью. Сдержанным на нежные чувства и вместе с тем обладать способностью к любви, которая является спутницей чувствительности. Щедростью и полным бескорыстием. Благоразумием и постоянством».
В дальнейшем появились строки: «Есть характеры, сформировавшиеся под влиянием разочарования или стремления к такому счастью, которое, по словам мадам де Сталь, состоит в совпадении ситуации с нашими возможностями. Отсюда в большинстве случаев возникают мизантропия или уныние… Естественная доброта сменяется подозрительной холодностью. Каждый добрый порыв подавляется мыслями о ничтожности человеческой натуры».
Проницательная мисс Милбэнк ошибалась, решив, что никто не догадается, что она думает о некоем молодом лорде, описывая второй тип характера. Она также не осознавала, насколько трагически неверно было ее представление о темпераменте Байрона.
Желая забыть о трудностях и польщенный тем, что Аннабелла все еще думает о нем, Байрон не оставил без внимания ее советы и ответил ей взволнованными словами, которых Аннабелла совсем не ждала: «Леди М. была совершенно права, когда сказала, что я предпочитаю вас всем остальным. Так было раньше, так есть и сейчас». После этого следовало признание, изумившее Аннабеллу и заставившее ее пожалеть, что упомянула о своем поклоннике: «Что касается дружбы, то я должен быть с вами откровенен. Этого чувства я не могу испытывать к вам. Сомневаюсь, что сумею перестать любить вас…»
Байрон сохранял эту переписку в тайне ради Аннабеллы и ради себя. Леди Мельбурн могла быть против, принимая во внимание настоящее положение дел. Однако вскоре он понял, что она мечтала вновь свести его со своей племянницей, возможно, в качестве противоядия против его более опасной связи. Она прислала ему описание Аннабеллой своего возможного избранника. Ответ Байрона мог бы потрясти бедную девушку. «Возвращаю вам портрет супруга Аннабеллы, о котором не могу ничего сказать, потому что не понимаю его… Похоже, что она избалованна, но не как дети, а систематическим воспитанием в духе Клариссы Харлоу, стремлением стать правильной во всем, попав в зависимость от своей собственной непогрешимости, которая может привести ее к ужасной ошибке. Я не имею в виду обычную ошибку женщин ее происхождения: она найдет то, что ищет, и потом поймет, что ее семейная жизнь скорее бремя, чем удовольствие». Байрон знал, что Аннабелла понимает под словом «дружба». Позднее он говорил Медвину: «Мысль этого письма заключалась в том, что хотя она не могла любить меня, но жаждала моей дружбы. «Дружба» – опасное слово для молодых женщин; это вполне оперившаяся любовь, ждущая своего часа, чтобы взлететь».
Теперь Байрон писал Аннабелле с меньшей сдержанностью. Ей оставалось либо принимать его таким, какой он есть, либо порвать с ним: «Ваше двусмысленное предложение о «круге, где мы встретились», забавляет меня, особенно когда я припоминаю некоторых из тех, кто входил в это общество. В конце концов, хотя оно и ужасно, у него есть свои достоинства. Чувство – основная цель жизни: чувствовать, что мы живем, хотя жизнь и приносит боль. Именно эта «опустошенность» ведет нас к игорному столу, на поле битвы, в путешествие…»
А теперь «опустошенность», непреодолимое желание чувствовать вели его, невзирая на все протесты разума, обратно к Августе. Байрон сказал леди Мельбурн, что намеревается 9 сентября уехать из города и, «поскольку я уверен, что вы правильно истолкуете мою решимость, я не посмею встретиться с вами». Однако он отложил отъезд. «Я очень озадачен. Вы говорите: «Пишите мне при любых обстоятельствах». Поверьте мне, я буду писать, пока не наступит миг, если, конечно, наступит, когда я решу, что вам не следует больше переписываться со мной…»
В июле и августе Байрон постоянно сочинял и отправлял Меррею, этому «королю торговцев книжными принадлежностями», дополнения к «Гяуру», «поэме-змее», которая «каждый месяц все удлиняет свои кольца». Впервые опубликованная 5 июня, она быстро разошлась, и теперь Меррей готовил пятое издание с новыми добавлениями. Кровавые описания и намеки на тайные преступления, которые молва теперь приписывала самому автору, подогревали интерес общественности. Для Байрона это была возможность убежать или по крайней мере попытаться освободиться от духовных тягот последних месяцев.
Любовь на небе рождена
Аллаха властью всеблагою,
И нам, как ангелам, дана
Святая искра. Над землею
Поднять желания свои
Мы можем с помощью любви.
В молитве ввысь мы воспаряем,
В любви – мы небо приближаем
К земле…
По-прежнему пребывая в состоянии волнения и недоумения, Байрон, скорее всего, 11 сентября отбыл в Сикс-Майл-Боттом. Можно только предполагать, что там произошло. Рассказал ли Байрон Августе об опасностях, подстерегающих их, если они вдвоем отправятся за границу? Или, может, она начала испытывать угрызения совести и хотела забыть все, что между ними произошло? Нечто подобное можно предположить исходя из того, что уже 13-го числа Байрон оставил ее и направился в Кембридж, где вечером вместе со Скроупом Дэвисом выпил шесть бутылок вина. Очевидно, что он искал забвения, потому что сразу же по прибытии в Лондон написал Джону Меррею: «Будьте так любезны и узнайте о каком-нибудь корабле с охраной, который берет пассажиров… Со мной едут друг и трое слуг. Мы отправляемся в Гибралтар, на Майорку или Зант».
Вскоре после этого Байрон принял приглашение своего друга Уэддерберна Уэбстера навестить его в Эстон-Холле недалеко от Ротерхэма. Оттуда 21 сентября он прислал леди Мельбурн описание этой нелепой семьи: «Ощущая беспокойство и нетерпение в городе, я с радостью принял это приглашение… Тут очень тихо и мило, и дети не шумят… [Уэбстер] прочел мне целую лекцию о добродетелях своей супруги, заключив, что по моральным качествам она близка к Христу!» Байрон смеялся до тех пор, пока Уэбстер не рассердился.
Если леди Мельбурн надеялась, что ее протеже позабудет о своей греховной привязанности, увлекшись леди Фрэнсис Уэбстер, то ее ожидало разочарование, потому что три дня спустя Байрон опять вернулся к Августе. Он написал леди Мельбурн: «Я пытался изо всех сил одержать победу над этим демоном, но безуспешно, потому что оружие, действенное прежде, подвело меня на этот раз. Я имею в виду, перенести весь пыл любовного увлечения на другую женщину. И вот что из этого вышло, вы теперь знаете». Под влиянием сиюминутного настроения Байрон составил новое завещание, по которому половина его состояния должна была перейти к его кузену и наследнику Джорджу Энсону Байрону, а другая половина – к Августе.
В Лондоне Байрона уже ждало письмо от Аннабеллы Милбэнк. Она была разочарована, услышав от него, что «цель жизни – чувство». Это было слишком по-байроновски. Он был по-прежнему очарован странной умной девушкой, но желал изменять себе только для того, чтобы заслужить ее одобрение. «Вам не нравятся мои «мятежные» теории – было бы жаль, если бы они вам нравились, и тем не менее я не могу быть бездеятельным». После этого Байрон обратился к «ужасному» предмету, в пренебрежении к которому его обвиняла Аннабелла, – к религии. Он больше не желал молчать на эту тему: «Я воспитывался в Шотландии среди кальвинистов, что навсегда отвратило меня от этого вероисповедания… Если в настоящее время я не имею безоговорочной веры в традиции и законы какой-либо человеческой религии, то надеюсь, что это проистекает не от недостатка веры в Создателя, но в создание…»
Теперь Байрон показывал письма Аннабеллы леди Мельбурн, которая не видела в них надежды на брак, потому в его рассказе о самообмане Аннабеллы не сквозило и намека на романтическое чувство. Байрон писал: «Послания вашего математика (обозначать ее просто А. теперь двусмысленно)[14] продолжают приходить. Последнее заканчивается выражением желания, что об этом не узнает никто, кроме папы и мамы. Почему вы не должны знать, кажется мне нелепым, но теперь об этом уже поздно спрашивать…»
Байрон собирался вернуться в Эстон в тайной надежде, что к нему присоединится и Августа, о чем он, естественно, не написал леди Мельбурн. Он продолжал рассказывать о смехотворном Уэбстере, который написал, что графиня, являющаяся предметом его желания, «неумолима».
«Какой счастливчик! Находит удовольствие в трудностях». Что касается леди Фрэнсис, то «она, очевидно, ожидает нападения и готовит блестящую защиту. Моя репутация повесы достигла Эстона, и мое беспечное и тихое поведение так ее изумило, что она посчитала себя уродливой или меня слепым, если не хуже».
Однако леди Мельбурн яснее Байрона поняла, что он уязвлен больше, чем предполагает, тем, что не уверен в чувствах леди Фрэнсис. Через три дня после его возвращения в Эстон он обнаружил, что его равнодушное отношение принесло свои плоды, то есть подогрело его интерес к этой любовной игре. Байрон заявил: «Я признался в любви, и, если верить словам, поскольку на них мы и остановились, она взаимна». Байрон произнес эту речь, находясь в бильярдной. Вместе с леди Фрэнсис они продолжали партию, «не обращая внимания на риск». Позднее он написал ей письмо, на которое она ответила, «очень недвусмысленно, однако слишком благоразумно: что-то о добродетели и бескорыстной привязанности в некоем неземном мире, где главное – душа, чего я не совсем понимаю, будучи плохим метафизиком. Однако обычно мы начинаем и заканчиваем платонической любовью, и, поскольку моей «новообращенной» всего двадцать лет, у нас еще достаточно времени». В порыве откровенности Байрон написал: «Помню, в последний раз все было наоборот, как говорит майор О'Флагерти, «сначала сражение, а потом объяснение». В шесть часов вечера он добавил к письму приписку: «Дело принимает серьезный оборот, думаю, платоническая любовь находится в опасности».
Леди Мельбурн поняла, что, несмотря на циничные откровения, Байрона глубоко затронула эта любовь, поскольку леди Фрэнсис сочетала в себе опыт и невинность, что он так ценил. Испытывая сердечный жар, Байрон в то же время как бы со стороны видел всю комичность сложившейся ситуации и знал, что в лице леди Мельбурн найдет благодарного слушателя. Ему было приятнее писать о своем увлечении, чем испытывать его прелесть на себе. Леди Мельбурн с удовлетворением читала его письма, зная, что на время Байрон забудет о своих прежних связях. Но когда его увлечение леди Фрэнсис стало серьезным, он посчитал необходимым написать в свое оправдание: «Все, что угодно, лучше последнего увлечения; а я не могу жить без предмета сердечной привязанности».
На следующий день Байрон сообщал: «Я полагаю, что меня постигла неудача, по крайней мере, к этому все идет… Мы быстрыми темпами перешли к менее духовному общению и обмену любезностями, но печать еще не поставлена, хотя воск уже готов». Забавная развязка наступила скорее, чем предполагал Байрон, на фоне живописных развалин Ньюстеда, куда в середине октября направилась вся компания. Леди Мельбурн он сообщил, что «в отношении развязки у меня были более радужные надежды… Один день, когда мы оказались наедине, чуть не стал роковым: еще одна такая победа, и мы с Пирром будем разгромлены. Вот ее слова: «Я полностью полагаюсь на вашу милость. Я подчиняюсь вам. Я совсем не так холодна, как думают другие, но не выношу осуждения. Не думайте, что это просто слова. Я говорю правду, а вы действуйте так, как сочтете нужным». Поступил ли я неправильно? Я пощадил ее… Это было не простое «нет», которое я слышал прежде раз сорок, и всегда с одинаковым оттенком согласия; это был ее тон и выражение лица. Я пожертвовал многим: было два часа утра, хотя дьявол нашептывал мне в уши, что это просто слова…»
Теперь Байрон был по-настоящему влюблен и готов на все – на дуэль, скандал, развод. Он предложил Фрэнсис уехать, но она ответила, что будет полагаться на него. «Бедняжка! Она или самое коварное, или самое бесхитростное создание в возрасте двадцати лет, которое я когда-либо встречал… Самыми нелепыми во всей этой истории, и все же я не могу заставить себя от них отказаться, являются ее ласки. Они какие-то детские, но не совсем невинные. Вся моя натура Сципиона тянется к этим проявлениям нежности». В отчаянии Байрон много пил после ужина и ночью, подстрекаемый хвастливым Уэбстером, одним глотком опустошал свою чашу из черепа, в которую вмещалось больше бутылки вина, и с помощью Флетчера укладывался в постель. Когда у него было время поразмыслить над своей провалившейся попыткой вести себя «решительно» с леди Фрэнсис, он не сожалел о своей сдержанности. «Я не переношу ничего, что свершается не по обоюдному желанию», – писал он леди Мельбурн. «Возможно, я стал жертвой ее обмана, но если так, то я пал жертвой добрых чувств, о которых мог бы похвастаться…»
В Лондоне страсть Байрона начала угасать, но он по-прежнему хранил верность своей возлюбленной. Леди Фрэнсис писала ему письма – смесь дерзости и осторожности, «используя два слова, «душевное излияние» и «душа», чаще, чем можно найти во всех книгах библиотеки». Однако Байрон заверял леди Мельбурн: «…вы неверно понимаете меня, если не верите, что я пожертвую всем ради Фрэнсис. Я ненавижу лживые сантименты, к тому же мои легкомысленные письма могут натолкнуть вас на мысль, что я пустой и бессердечный человек». Вскоре Байрона интересовали уже другие люди и дела. Его друг Ходжсон был увлечен некоей мисс Тайлер, мать которой не соглашалась на брак из-за долгов Ходжсона. Байрон всю ночь ехал в почтовой карете, чтобы встретиться с матерью девушки и убедить ее, что Ходжсон скоро рассчитается со всеми долгами, а по возвращении в Лондон вместе со своим другом пошел в банк Хаммерсли и там перевел на счет Ходжсона 1000 фунтов в качестве подарка. Вероятно, это были деньги, отложенные Байроном на путешествие.
Разочарование в любовном чувстве вновь нашло отражение в стихах. 4 ноября Байрон написал леди Мельбурн: «Последние три дня я не выхожу из дома; из-за недавних событий я постоянно нахожусь в состоянии возбуждения, которое приходится снимать стихами. Как раз сейчас я пишу очередную восточную повесть…» Через неделю он закончил ее и сказал Муру: «Все потрясения в моей жизни заканчиваются стихами, и, чтобы скрасить свои ночи, я нацарапал очередную турецкую повесть…» Тема кровосмешения – в первом наброске Селим и Зулейка были родными братом и сестрой – неудержимо влекла к себе Байрона, но в конце концов он отказался от нее и сделал любовников кузенами. Он думал об Августе и леди Фрэнсис, когда писал «Абидосскую невесту», такое название он дал поэме.
Увлечение леди Фрэнсис заставило Байрона позабыть про Августу и про свою «математическую» собеседницу из Сихэма. Однако 8 ноября он написал сестре письмо с извинениями, а два дня спустя отправил «Принцессе Параллелограмме» шутливое послание. О математике он писал: «Единственное, что я помню из этой науки, не вызывало во мне восторга. Это теоремы, кажется, так их называют, в которых после бесчисленных вариаций с АВ и CD приходишь к совершенно противоположному. Именно к этому я всегда приходил и, боюсь, буду приходить всю жизнь…» В следующем письме он делал более серьезное признание: «Я ни в коей мере не считаю поэтов и поэзию высшей ступенью на шкале интеллектуального труда. Это может показаться притворством, но таково мое истинное мнение. Извержение лавы воображения предотвращает землетрясение… Я предпочитаю людей действия – военных, сенаторов или даже ученых – всем размышлениям этих мечтателей…»
14 ноября, после того, как он отправил свою восточную поэму Меррею, Байрон начал вести дневник. Темой первой записи в нем были самоанализ и краткое описание своей жизни, которая казалась ему теперь сплошной чередой неудач и разочарований. «В возрасте двадцати пяти лет, когда лучшее время в жизни уже позади, следует чего-нибудь добиться. А что я? Ничто, просто двадцатипятилетний человек…Что я видел? Тех же людей во всем мире и женщин… Я не знаю, чего я хочу. Странно, что я никогда ни о чем не мечтал, лишь добивался желаемого, а потом сожалел». В своем разочаровании Байрон подумывал о женитьбе, единственной вещи, которой еще не испытал. Но в то же время интуиция подсказывала ему, что лучше воздержаться от столь решительного шага. Он все еще не мог оправиться от удара, нанесенного ему провалом его политической карьеры, ставшего очередной причиной недовольства собой. «Я отказался представлять петицию должников, устав от парламентского фиглярства».
Байрон по-прежнему выходил в свет, но теперь это доставляло ему меньше удовольствия. Он избегал званых обедов и мечтал оказаться в деревне, где можно заняться делом, вместо того, чтобы «принуждать себя к воздержанию… Я не стал бы возражать против возвращения к плотским утехам… Беда только в том, что с каждой из них приходит дьявол, и мне приходится прогонять его, потому что я не хочу стать рабом своего аппетита». Уютнее всего Байрон чувствовал себя в обществе Холландов. Он посещал «Друри-Лейн» и «Ковент-Гарден», где целый сезон занимал ложу лорда Солсбери. Но больше всего ему нравилось обедать в обществе приятных ему людей: Дж. У. Уорда, Джорджа Каннинга и Джона Хукэма Фрира, писавших для «Антиякобинца», с великолепным собеседником Шарпом, «человеком изящного склада ума, общавшегося с лучшими пропагандистами всех времен и народов – Фоксом, Горном Туком, Уиндхэмом, Фицпатриком и другими».
Однако ни светская жизнь, ни сочинительство не могли помочь Байрону избавиться от мысли о том, что он тратит силы впустую. Он пришел к выводу, что «ни один человек, который способен на что-либо большее, не должен быть поэтом… Быть известным человеком, не диктатором, не тираном, а таким, как Вашингтон или Аристид, человеком, ведущим к истине, – все равно что быть избранником Божьим!».
Увлечение Байрона Фрэнсис Уэбстер быстро превратилось в некий фарс, над которым он не мог не потешаться, одновременно испытывая сердечные муки. Он послал ей свой портрет, сделанный художником Холмсом, «мрачный и суровый, как мое настроение в прошлом июле, когда писался этот портрет (в первом порыве страсти к Августе. – Л.М.)». Вспоминая бескорыстную любовь сестры, Байрон говорил леди Мельбурн: «Знаете, боюсь, что эта греховная страсть была самой сильной в моей жизни».
В своем дневнике Байрон откровенно признавался в том, что наибольшее удовольствие ему доставляет писать леди Мельбурн, «…а ее ответы – такие благоразумные, такие тактичные, – я никогда не встречал человека, обладавшего хотя бы половиной ее дара. Если бы она была на несколько лет моложе, как бы она могла одурачить меня, если бы ей заблагорассудилось, и я потерял бы хорошего и верного друга. Помните, что возлюбленная никогда не может быть вашим другом. Пока у вас мир и согласие, вы любовники, когда это позади – друзья». Возможно, что Байрон думал о своем былом увлечении Каролиной Лэм.
«Абидосская невеста» была издана Мерреем 2 декабря и получила признание публики. В течение месяца было распродано шесть тысяч экземпляров, и Байрон вновь стал литературным кумиром сезона. Когда Меррей предложил ему тысячу гиней за право издания двух последних восточных поэм, Байрон испытал искушение согласиться, потому что постоянно нуждался в деньгах, однако гордость не позволяла ему их принять. Его приглашали в самые лучшие дома, но он чаще отказывался от званых обедов. Однажды вечером в доме лорда Холланда он беседовал с Томасом Кэмпбеллом, когда хозяин внес сосуд, по форме напоминающий католическую кадильницу, и, приблизившись к Кэмпбеллу, воскликнул: «Ладан для вас!» Кэмпбелл, слегка уязвленный успехом своего соперника-поэта, ответил: «Отнесите лорду Байрону, он к этому привык».
Шли дни, и Байроном овладевало чувство нерешительности, бесцельности существования и тоски. Он пристрастился к сигарам, которые, как раньше табак, помогали ему избавиться от мучительного чувства голода, когда он отказывался от еды, чтобы поддерживать вес в норме. 7 декабря он записал в своем журнале: «Лег в кровать и спал без всяких сновидений, однако сон не освежил меня. Проснулся на час раньше, но три часа провозился за туалетом. Если вычесть из жизни младенческий период, который представляет собой растительное существование, сон, время, затраченное на еду, умывание, раздевание и одевание, то сколько останется времени на настоящую жизнь? Время, отведенное мыши».
Доктор Джон Аллен, друг лорда Холланда, одолжил Байрону «множество неопубликованных и никогда не увидевших свет писем Бернса». Они произвели на поэта странное впечатление. Что за противоречивый ум! Нежность, грубость, тактичность, прямолинейность, чувственность, возвышенные чувства, унижение, грязь и божественность – все смешано в одном комочке священной глины!
«Странно: истинный сластолюбец никогда не станет задумываться о грубости реальной жизни. Превознося до небес земное, материальное, телесное, не признаваясь самому себе в греховности, потом забывая обо всем, можем мы сохранить всю прелесть земных удовольствий».
Вне всякого сомнения, Байрон осознавал, как близко в этом высказывании затронул противоречивую природу своего собственного характера. Вынужденный маскировать тягу к «земным» удовольствиям ореолом идеального чувства, чтобы избежать столкновения с жестокой действительностью, испытывая влечение ко всему земному, мешающему ему в достижении поставленных целей, Байрон становился ближе к Бернсу, чем сам о том подозревал.
Гнетущее уныние, испытываемое поэтом в первой половине декабря, усугублялось его тоской по Августе и попытками подавить это чувство. Хотя как бы Байрон ни старался, он не мог отделаться от мысли, что ни одна женщина, кроме Августы, так не притягивала его, не читала все его мысли, не была так чувственна и в то же время нетребовательна, не вела себя так по-матерински по отношению к нему. По мере того как его решимость уменьшалась, он все реже писал леди Мельбурн, зная о ее чувствах и опасениях, когда дело заходило о романе с Августой. 15 декабря Августа приехала в Лондон, а 18-го Байрон прекратил записи в своем дневнике. «Я написал достаточно, чтобы привести в порядок мои мысли, а мои дела вряд ли нуждаются в описании».
В день, когда Байрон отложил в сторону дневник, он начал очередную восточную поэму, на этот раз более откровенную, чем прежде. Проза больше не справлялась с поставленной задачей: выразить чувства Байрона. «I suoi pensieri in lui dormir non ponno» – «Его мысли не дремлют в его душе» – этот эпиграф к поэме Байрон взял из произведения Тассо «Освобожденный Иерусалим». В начале первой песни поэмы «Корсар» Байрон поместил известные строчки из «Ада» Данте:
Nessun maggior dolore,
Che ricordarsi del tempo felice
Nella miseria…[15]
С Конрадом, героем «Корсара», Байрон бродил по «темному синему морю», омывающему его нежно любимый греческий архипелаг. В этом тоже заключалась свобода – свобода духа, которую давал сам процесс сочинительства и которая позволяла Байрону сквозь пелену фантазии взирать на свои собственные чувства с откровенностью, не встречающейся даже в его письмах к леди Мельбурн. Он работал до поздней ночи в своей квартире на Беннет-стрит и, провожая Августу домой, брал рукопись с собой. 27 декабря Байрон закончил первый черновой вариант, сочиняя каждый день почти по двести строк.
До начала нового года в жизни Байрона появились два призрака из прошлого. Мэри Чаворт-Мастерс, чей супруг, Джек Мастере, теперь охотился уже не на лис, а на другую дичь, напомнила о себе хромому юноше, с которым кокетничала в детстве и который стал теперь известным поэтом. Если он приедет в Ноттингем, то найдет там «старого и преданного друга, с нетерпением ожидающего встречи с ним». Байрон написал Мэри вежливый ответ. Она была больна и намекала на неверность мужа. «Ты вряд ли узнаешь во мне ту счастливую девушку, которой я была когда-то. Я стала такой худой, бледной и мрачной». Такого письма Байрон вовсе не ждал от своей прежней возлюбленной и не горел желанием повидать ее. Он предпочел, чтобы в его мечтах она оставалась прежней.
Голос из недавнего прошлого принадлежал Аннабелле Милбэнк, которая написала Байрону на следующий день после Рождества. Она тоже была больна и еще не набралась храбрости, чтобы признаться в своей невинной лжи о другом поклоннике. Аннабелла заверяла Байрона, что она его «преданный друг». Получив в конце ноября ее предыдущее письмо, Байрон записал в своем дневнике:
«Вчера получил очень милое письмо от Аннабеллы, на которое ответил. Какие у нас странные отношения! Ни искры чувства с обеих сторон… Она прекрасная женщина, совсем не испорченная, что странно встретить в двадцатилетней богатой наследнице, будущей супруге пэра, единственной дочери и эрудированном человеке, который привык всегда поступать по-своему. Она поэтесса, математик, метафизик и одновременно очень добра, великодушна, нежна и не притворна. Любой мужчина потерял бы голову, столкнувшись хотя бы с половиной ее талантов и десятой частью ее достоинств».
Поэма «Корсар», написанная Байроном «на основании жизненного и любовного опыта», занимала его мысли всю первую половину января. Он сделал посвящение Муру, в котором опрометчиво заявил: «…в ближайшие несколько лет я намереваюсь не искать благоволения богов, людей и газет». В этом посвящении он интриговал публику, подстрекая читателей искать в поэме автобиографические черты; он больше не станет оправдываться.
Байрон был озадачен чувством леди Фрэнсис, которая и сама казалась «смущенной постоянством», потому после визита Августы в Лондон в декабре он еще больше привязался к своей сестре. Когда романтическая привязанность к леди Фрэнсис остыла, он стал испытывать досаду при мысли об их неудавшейся связи. Байрон говорил леди Мельбурн: «Если люди будут останавливаться, не дойдя до первого лица глагола «любить», то им не следует удивляться, что грамматическое спряжение закончится с кем-нибудь другим». Байрона приводили в недоумение попытки к сближению со стороны Мэри Чаворт-Мастерс. Получив от нее второе письмо, он признался Августе: «М. снова написала о дружбе, а также весьма просто и жалостливо о плохом обращении, бледности, нездоровье, старых друзьях, добрых намерениях, добродетели и тому подобном».
Отношения Байрона с женщинами становились напряженнее не потому, что он был злодеем, а потому, что поэт делал все возможное, чтобы не причинить боль тем женщинам, которые были привязаны к нему. Он писал леди Мельбурн: «Не могу постигнуть, отчего мне приходится постоянно сталкиваться с различными искушениями, которые, уверяю вас, поджидали меня еще до рождения. Когда мне приписывают талант писателя, то ошибаются самым непостижимым образом…»
Леди Мельбурн надеялась на появление нового сильного увлечения или даже на брак, но страны Средиземноморья вновь искушали Байрона воспоминаниями его беззаботной юности. Стремление преуспеть потеряло для него всякий интерес. «Мне никогда не удавалось завоевать свет, – говорил он леди Мельбурн, – а публика обласкивала меня по своей прихоти. Моя жизнь в Англии растрачивается впустую..» А далее он признавался: «.. в чувстве, недавно поглотившем меня полностью, есть что-то демоническое, отчего все остальные страсти теряют свою притягательность…»
Байрон безнадежно и скептически размышлял над предложением своей подруги, леди Мельбурн. «Хорошо, если бы я был женат и не думал о красоте, о добродетели и богатстве. Я принял решение следовать примеру вышестоящих лиц, но все же мне бы хотелось жизнерадостности, нежности, чистоплотности и немного привлекательности. Были ли когда-нибудь мечты человека более умеренными?» Далее он продолжал: «Я могу любить и ожидаю этого взамен, но, как говорит Мур: «Хорошенькая жена – плод тщеславных стремлений повесы»… Единственная неприятность заключается в том, что я потом опять могу влюбиться, поскольку привычка странным образом преобладает над моими чувствами».
Августа вновь приехала в Лондон, и в понедельник, 17-го числа, они с Байроном выехали в Ньюстед в огромном экипаже. Из-за сильного снегопада Грейт-Норт-роуд стала почти непроходимой. Они вдвоем оказались в заснеженном пустом полуразрушенном аббатстве. Огромный парк был заметен снегом, который тяжелыми шапками лежал на ветвях старых деревьев и перекрывал все дороги, ведущие к поместью. Дурная погода явилась причиной, чтобы отложить поездку к Мэри Чаворт, а присутствие Августы скрашивало дни. Байрон написал леди Мельбурн: «…мы никогда не скучаем и не ссоримся, смеемся больше, чем подобает в таком солидном особняке, а свойственная нам обоим застенчивость делает нас лучшими собеседниками в мире».
Дороги очистились только к 1 февраля, но даже после этого Байрон с неохотой покидал Ньюстед. Он ничего не писал, очевидно достигнув определенной степени довольства собой. До отъезда б февраля он получил восторженное письмо от Меррея с рассказом о небывалом успехе «Корсара», о чем не могли и мечтать ни поэт, ни издатель. Меррей взволнованно писал: «В день издания я продал 10 000 экземпляров, чего прежде никогда не случалось…» В течение месяца после первого успеха Меррей напечатал еще семь изданий и продал 25 000 книг.
Триумф вещи объяснялся, во-первых, прекрасными описаниями, особенно такими великолепными строчками:
Холмы Морей превратив в пожар,
Садится медленно багровый шар…
Во-вторых, с интересом был встречен яркий сюжет, подкрепленный личными наблюдениями над жизнью и бытом Греции. Но больше всего читателей заворожил образ пирата Конрада, этот «одинокий и таинственный человек», в чертах которого явственно проступает портрет самого автора. «Он будет жить в преданиях семейств с одной любовью, с тысячей злодейств».
Одновременно появление на свет «Корсара» вызвало и бурю журналистских нападок; особой критике подверглись строки с намеками на принца-регента. Газета тори «Морнинг пост» заклеймила Байрона как «нового Ричарда III – физического и морального урода». Байрон говорил Меррею: «Последнее сообщение не является новостью для человека, который пять лет провел в частной школе». Но когда Меррей, приверженец партии тори и испуганный издатель, убрал злополучные строчки из второго издания, Байрон принялся настаивать на том, чтобы их вернули на прежнее место. Он уверял леди Мельбурн: «Во мне живет дух противоречия».
8 февраля Хобхаус возвратился из поездки по Европе и вскоре встретился с Байроном в «Ковент-Гарден». Он записал в своем дневнике: «…в театре я увидел моего дорогого Байрона, он сидел в ложе. Давно я не был так счастлив. Вместе мы приехали домой и просидели до четырех часов утра». Байрон, также обрадованный, сделал запись в своем дневнике: «Он мой лучший друг, самый веселый и одаренный человек из всех». После этого они часто встречались. 19 февраля в театре «Друри-Лейн» они видели игру Кина в «Ричарде III». Байрона потрясло это представление: «Боже мой! Он (Кин. – Л.М.) настоящий талант. Жизненность, правдивость и ни капли преуменьшения или преувеличения».
Хобхаус привез с собой «десять тысяч анекдотов о Наполеоне, забавных и основанных на реальных событиях». Это заставило Байрона задуматься о человеке, который пленил его еще в школьные дни. «Наполеон! На этой неделе решится его судьба. Кажется, все против него, но я надеюсь и верю, что он победит, по крайней мере отразит натиск захватчиков. По какому праву мы насаждаем во Франции монархов? Да здравствует Республика!.. Чем больше равенства, тем равномерное распределяется зло, становясь не таким тяжким бременем после разделения между многими людьми. Итак, Республика!»
Но ни общество Хобхауса, ни светская жизнь, ни театр не могли отвлечь Байрона от грустных мыслей. Весь февраль он ощущал разлад с самим собой. Он не мог спать и читать, даже стихи не приносили облегчения. Еще в ноябре Байрон начал комедию и роман, но сжег их, потому что они «слишком напоминали действительность». Также он вырвал две страницы из своего дневника. Скрытность теперь стала для него важнее откровенных признаний. И все-таки только дневнику мог он поверить свои самые тайные мысли. В нем он анализировал свои слабости: «В присутствии женщины во мне все смягчается. Они оказывают на меня какое-то странное влияние, даже если я не влюблен, чего не могу объяснить, потому что в целом придерживаюсь невысокого мнения о них. И все же, если поблизости женщина, я более снисходительно начинаю относиться к себе и к окружающему миру. Даже миссис Мьюл, которая зажигает у меня свечи, самая древняя из всех женщин, но не самая дружелюбная – дружелюбна она лишь со мной, – всегда вызывает у меня улыбку, что совсем несложно сделать, когда я в хорошем расположении духа».
Еще больше усугубили разочарование Байрона размышления над собственными литературными трудами; ему казалось, что они не имеют большой ценности. Слишком много в них «лавы воображения», появившейся, чтобы избежать землетрясения в личной жизни. Байрон с неудовольствием замечал, что отклоняется от своего истинного предназначения, сатиры в стиле Поупа, которая так ему удалась в «Английских бардах и шотландских обозревателях», занявшись вместо этого написанием ставших популярными автобиографических восточных поэм и «Чайльд Гарольда». Байрон писал Муру: «…Недавно я стал подумывать, что мои вещицы странным образом переоценили, однако в любом случае я с ними навсегда покончил. Могу вам признаться в том, чего не говорил никому: последние две поэмы, «Абидосская невеста» и «Корсар», были написаны за четыре и за десять дней, чрезвычайно унизительное признание, которое доказывает мое желание быть оцененным публикой и желание публики читать произведения, имеющие только временный успех».
Байрон позировал Томасу Филлипсу, известному портретисту, но по-прежнему с неохотой принимал участие в светской жизни, соглашаясь на предложения пообедать лишь из вежливости или по привычке. Он предпочитал остроумное и интеллигентное общество, собиравшееся в доме Роджерса, где Шеридан, Макинтош и Шарп рассказывали старые анекдоты. Испытывая все возрастающий интерес к нравам и литературе XVIII века, Байрон больше наслаждался этими экскурсами в прошлое, чем безвкусными сборищами английского высшего света. «Какие пьесы! Какой блеск остроумия! Конгрив и Ванбру – ваша единственная комедия!» – восклицал Байрон, прочитав переделанную Шериданом комедию Ванбру «Неисправимый», получившую название «Поездка в Скарборо».
Несмотря на внутренний разлад, Байрон продолжал переписку с Аннабеллой Милбэнк, отправляя ей иногда шутливые, а иногда серьезные письма. Нечто отличное от обычного волокитства привязывало его к этой миловидной девушке, которая присылала ему серьезные наставления. Возможно, ему доставляло удовольствие осознание, что ему удается смутить ее логический ум. Возвращаясь к вопросу об утешениях религией, он писал: «Это источник, из которого я никогда не черпал и, надеюсь, не буду черпать утешения. Если я когда-либо чувствую искреннее благоговение, то лишь тогда, когда сталкиваюсь с чем-то хорошим, о чем даже не помышлял, и тогда готов благодарить кого угодно, только не человечество… Зачем я пришел в этот мир, я не знаю, куда уйду потом, бессмысленно спрашивать. Среди мириад живых и мертвых миров, звезд, звездных систем, бесконечности какой смысл волноваться о судьбе атома?»
Однако Аннабелла продолжала слать Байрону свои серьезные письма. Он немного испугал ее, но одновременно и разжег ее интерес, сказав, что хочет увидеться с нею, туманно намекнув, что хотел бы поговорить о личных делах. Аннабелла начала советоваться с родителями, когда лучше всего пригласить Байрона в Сихэм. Относительно слухов, что она отказала ему во второй раз, Аннабелла написала: «Чтобы избежать возможности оказаться в подобной ситуации, должна признать, что не отказывала вам». Так Аннабелла довольно хитроумным способом дала Байрону понять, что хотела бы услышать его предложение. Байрон понял ее правильно. 15 марта он записал в своем дневнике: «Получил письмо от Беллы и ответил на него. Могу снова влюбиться в нее, если не буду осторожен».
Необычайно холодная зима еще больше удручала Байрона, потому что он всегда испытывал недовольство, если не мог прокатиться верхом в солнечную погоду, как в Греции. Чтобы поддерживать себя в форме, он снова занялся боксом со своим старым другом и спортивным наставником Джексоном. «Моя грудь, руки и дыхание в очень хорошей форме, и на мне нет ни грамма жира, – записал Байрон, – у меня сильный удар, но руки слишком длинны для моего роста (5 футов 8,5 дюйма). Но в любом случае упражения идут мне на пользу, а бокс – самое суровое упражнение…»
28 марта Байрон переехал на первый этаж Олбани-Хаус на Пикадилли. Это оказалась просторная квартира, длиной около тридцати или сорока футов, которую Байрон взял в аренду у лорда Олторпа сроком на семь лет.
2 апреля Байрон отправился в Сикс-Майлз-Боттом, будучи не в силах противиться желанию Августы, которая была одинока и волновалась за него. Он гостил у сестры до 7-го числа. 5-го Хобхаус и Скроуп Дэвис ожидали его в Кембридже, но Байрон туда не поехал. Вернувшись в Лондон, он писал леди Мельбурн с насмешливой серьезностью: «Полковник Ли был в Йоркшире, жаль, что мне нечасто его приходилось видеть».
Байрон, бездумно восхищавшийся Наполеоном еще со школьных дней в Хэрроу, где выступал за возведение памятника ему, был поражен известиями о поражении и отречении Наполеона от трона. «Я запомню этот день! – написал Байрон в дневнике. – Наполеон Бонапарт отрекся от мирового престола… Увы! Этот царственный алмаз оказался с изъяном…» Несмотря на хвастливые заверения, что больше не будет печататься, Байрон все-таки сочинил за один день «Оду Наполеону Бонапарту» из девяноста строк и отправил ее Меррею. Хотя она была опубликована анонимно, посвящение Хобхаусу выдало ее автора, и вскоре об этом произведении заговорили в городе.
Тем временем Хобхаус намеревался отправиться в Париж, «где еще живы были воспоминания о Наполеоне». Байрону понравилось это предложение, и он согласился сопровождать Хобхауса, однако долг перед сестрой заставил его отказаться от поездки. После тревожного ожидания он узнал, что 15 апреля Августа родила дочь. Она назвала девочку Элизабет Медора[16]. Возможно, леди Мельбурн спросила Байрона, был ли оправдан риск, который влекла за собой эта связь, потому что его ответ был таков: «Конечно, оправдан! Не могу сказать вам почему, но это не позерство, а если и так, то только по моей вине. Однако я обязательно исправлюсь. Но вы должны признать, что никто меня не любил и наполовину так сильно, а я всю жизнь пытался завоевать чью-нибудь любовь, и никогда мне не удавалось получить то, что я хотел. Но мы определенно изменимся в лучшую сторону, мы уже стали лучше, и так будет эти три недели и впредь».
Переписка Байрона в этот период отражает его угнетенное состояние. Он по-прежнему не мог решить, вернуться ли к Августе или принять приглашение в Сихэм. Он писал Муру: «Я купил пальму макао и попугая и пополнил свою библиотеку. Я занимаюсь боксом и фехтованием каждый день и очень мало выхожу в свет». Пальма и попугай были первыми жильцами странного зверинца, состоящего из животных и птиц, которых Байрон приобрел в последующие годы, чтобы спрятаться от человеческого общества и найти выход для своей постоянной мизантропии.
Когда из Сихэма пришло официальное приглашение, Байрон начал опасаться возможных последствий. Он говорил леди Мельбурн: «Если она воображает, что мне особенно нравится обсуждать постулаты святого Афанасия или болтать о рифмах, то, думаю, она ошибается… Сейчас я не влюблен в нее, но не могу утверждать, что этого не случится позже, если наступит «теплый июнь», как говорит Фальстаф, но я восхищаюсь ею как благородной женщиной, несколько обремененной добродетелью…»
Леди Мельбурн понимала, что одной из главных причин нерешительности Байрона были ежедневные письма от Августы, и убеждала его поехать в Сихэм. «Если вам она не понравится, вы можете говорить только о Священном Писании, а если понравится, то эта тема сама собой уступит место какой-нибудь другой». Что касается «другой А.», то леди Мельбурн по-прежнему винила Августу в том, что Байрон увлекся ею. Однако он защищал сестру: «…именем Господа, который сотворил меня всем на беду, а не на благо другим, говорю вам, что она ни в чем не виновата, и ее нельзя обвинять даже в тысячной доле того, что случилось. Она не сознавала опасности, пока не стало слишком поздно, и я могу объяснить ее «падение» довольно справедливым, на мой взгляд, замечанием, что женщины больше, чем мужчины, способны на привязанность, если к ним относятся с искренностью и нежностью».
Байрон заключил свое письмо небольшим наблюдением из собственного опыта. «Возможно, ваша племянница сама связала себя обязательствами, но они могут не повлечь за собой никаких последствий; если бы я стал ухаживать за ней и получил бы согласие, то, естественно, должен был бы забыть все другие увлечения, и моя жена, если бы она оказалась здравомыслящей женщиной, обладала бы надо мной большей властью, чем кто-либо другой, поскольку мое сердце всегда «готово опуститься на ближайшую ветку»…»
К радости Байрона, в начале мая Мур вернулся в Лондон, и они стал вместе ходить повсюду, особенно часто в театр, который Байрон полюбил еще сильнее, увидев игру Кина. 4 мая в ответ на просьбу Мура написать слова к песне Байрон прислал ему пылкие строки:
Как имя твое написать, произнесть?
В нем весть о позоре – жестокая весть.
Молчу я, но скажет слеза на щеке
О горе, живущем в глухом тайнике.
Для страсти казались те дни коротки,
Но в них – семена безысходной тоски.
В неистовом гневе оковы мы рвем,
Но только расстанемся – снова вдвоем.
Мур убедил Байрона утопить печаль в светских развлечениях. 7 мая они вместе видели Кина в роли Яго. «Разве Яго не великолепен? Особенно последний взгляд, – писал Байрон Муру на следующий день, – не знаю других духовных страстей, кроме хорошей игры…»
Байрон пытался развеяться с помощью новых любовных увлечений. Мур свел его с леди Аделаидой Форбс, но Байрон в это время уже оказывал знаки внимания другой женщине. Он отправил свой албанский костюм, в котором его изобразил Филлипс, мисс Мерсер Элфинстоун, рыжеволосой спокойной девушке, которую встретил в доме Мельбурнов[17]. Однако эти мимолетные увлечения не затрагивали сердца Байрона. Он говорил леди Мельбурн: «…я пытаюсь влюбиться, что, полагаю, закончится ссорой с кем-нибудь…» В начале мая он послал Августе 3000 фунтов, чтобы уплатить долги ее никчемного супруга.
14 мая Байрон начал писать продолжение «Корсара». Пират Конрад теперь получил имя Лара, но остался все тем же одиноким мрачным человеком. Меланхолия Байрона рассеялась после быстрого окончания поэмы, которую, как он позже сказал Муру «я написал, разоблачаясь после балов и маскарадов в веселом 1814 году». Байрон очертя голову бросился в поток светских развлечений с непритворным весельем, потому что ему нравились люди, его окружавшие. Вместе с Хобхаусом он посетил «маленькую вечеринку из ста человек» в доме леди Джерси. С Муром он ходил в театр посмотреть игру Кина и после представления принял приглашение на званый обед в честь актера. Роль сэра Джайлса Оверича в исполнении Кина так поразила Байрона, что во время представления с ним случилось нечто вроде нервного припадка.
Из скуки и любопытства Байрон согласился на встречу с одной из многочисленных молодых поклонниц. Он часто получал письма от девушек, иногда дерзкие, иногда с выражением восхищения его стихами. Эта девушка по имени Генриетта д'Уссьер была иностранкой и писала довольно занимательные письма. Она родилась в Швейцарии, ее отец был либералом и сторонником идей Руссо. Она мечтала встретиться с известным поэтом, но сама боялась сделать первый шаг. Байрон направил ей письмо с приглашением на свидание. Тон письма был шутливым, потому что ему было все равно, придет она или нет. «За исключением комплиментов с вашей стороны, что вполне простительно, поскольку вы не знаете меня, в остальном вы пишете как разумная женщина, и именно по этой причине я надеюсь, что ваша внешность совсем не соответствует стилю вашего письма. Я знал лишь одну вашу соотечественницу, мадам де Сталь, а она страшна как смерть. Если вы познакомитесь со мной, обещаю не влюбляться в вас, если вы сами этого не захотите…»
Генриетта согласилась на встречу и приехала в квартиру Байрона. Они проговорили полчаса, и она была очарована. Очевидно, она оказалась отнюдь не безобразной, потому что в конце Байрон сделал ей предложение, которое шокировало ее. Она немедленно покинула его с возмущением: «Первые полчаса я была так счастлива! Но после этого лорда Байрона будто подменили… Неужели таким образом вы отплатили мне за все восхищение и почитание?» Вероятно, Байрон извинился и получил прощение, потому что Генриетта стала писать ему и хотела встретиться, но он уже заскучал и не отвечал на ее письма.
После этого Байрон с головой погрузился в водоворот светской жизни. Годы спустя он с ностальгией вспоминал прошедшее лето. В 1822 году он писал Муру из Италии: «Помнишь прекрасные вечера и балы в Лондоне в веселом 1814 году?» Это было «королевское лето». Окончание войны в Европе привело в июне в Лондон толпы царственных лиц, государственных деятелей и генералов победоносных союзников, среди которых были Александр, русский царь, король Пруссии, Меттерних, великий герой Блюхер и их свита. Долгая зима и длительная война закончились, и всеми овладело безудержное веселье. Никогда еще в Лондоне не было так радостно. Хотя Байрон с ироничной сдержанностью относился к царствующим особам, но все же наслаждался их обществом больше, чем отдавал себе отчет. Как-то вечером Уэбстер против воли Байрона притащил его на вечер в доме леди Ситвелл, где они встретились с кузиной Байрона, красивой миссис Уилмот в усыпанном блестками траурном платье. На следующий день Байрон написал прекрасные стихи, посвященные ей и позже положившие начало циклу «Еврейские мелодии».
Она идет во всей красе —
Светла, как ночь ее страны.
Вся глубь небес и звезды все
В ее очах заключены…
Мур к тому времени покинул Лондон, а Байрон собирался в Ньюстед, подумывая заглянуть к Мэри Чаворт, которая написала ему больше пятидесяти писем и вызвала в его памяти воспоминания, не исчезающие, несмотря на все усилия их подавить. Но в начале июня Байрон уже позабыл о Мэри. Теперь он лелеял дорогое воспоминание в своей памяти и одновременно желал и боялся встречи с этим волшебным видением. Безопаснее всего было переписываться, вспоминая о прошлом. Кроме того, рядом появился некто привлекательный. У герцога Грея Байрон встретил леди Шарлотту Левесон Гауэр, подругу Августы. Он уверял себя, что заинтересовался ею из-за Августы, но Шарлотта была молода, очень красива и застенчива, как газель, а именно это Байрон больше всего ценил в женщинах. Однако препятствием был один «из племени Карлайлов», а Байрон не желал ссориться со своим опекуном.
Каролина Лэм вновь напомнила о себе. Дружелюбное поведение Байрона на светских балах убедило ее, что ей удастся вновь завоевать его. Каролина понимала, что, встретившись с ней лицом к лицу, Байрон не сможет повести себя жестоко. Леди Мельбурн тоже это знала и не на шутку тревожилась. Каролина не знала про другие увлечения Байрона, но, ослепленная ревностью и его холодностью, продолжала терзать своего бывшего возлюбленного. В июне она в любое время суток приходила к нему домой без предупреждения. Страдания Байрона усиливались еще и оттого, что, несмотря на крайнюю худобу, она по-прежнему притягивала его. Каролина очень исхудала, и Байрон часто говорил, что «его преследует скелет». Он уверял леди Мельбурн, что «ежечасно и ежедневно он использует все замки и задвижки, чтобы препятствовать приходу Каролины». Однако этих предосторожностей было недостаточно. Однажды Каролина пришла к Байрону домой в его отсутствие, взяла со стола книгу Бекфорда «Ватек» и написала на первой странице: «Помни меня!» Когда Байрон увидел надпись, то в раздражении приписал:
Чтоб помнил, помнил я тебя!
Пусть стыд и совесть до кончины,
Как сна ужасного картины,
Тебя преследуют, губя!
Чтоб помнил я тебя? О да!
Тебя и муж твой помнит, верно;
Пред ним была ты лицемерна,
А мне – злой дух была всегда!
Однако Каролина не собиралась отступать. Несмотря на неприязнь к герцогу Веллингтону, 1 июля Байрон все же вместе с Хобхаусом отправился на великолепный бал-маскарад в честь герцога в Берлингтон-Хаус. Там собрались все сливки общества и некоторые представители полусвета, скрывающиеся под масками. Байрон в костюме монаха был крайне раздражен выходками Каролины, которая угрожала ему разоблачением, и он «отчитывал ее, как старый дед», за то, «что везде показывала свои зеленые панталоны».
Вероятно, последняя встреча Каролины с Байроном состоялась незадолго до бала. На слова Каролины нельзя полагаться полностью, хотя и в ее утверждениях есть доля истины. В 1824 году она написала Медвину: «…в последний раз мы расстались навсегда, и когда он прижался губами к моим – это было у него дома, – то произнес: «Бедная Каро, если кто и ненавидит меня, так это ты, и твои чувства останутся неизменными из-за моего плохого отношения!» Я сказала: «Нет, я изменилась и больше никогда не приду к тебе». Он показал мне свои письма и сказал такое, чего я не могу повторить, после чего вся моя любовь умерла». Последнее утверждение явно неискренне, потому что Каролина продолжала преследовать Байрона, и ее чувство к нему продолжалось всю жизнь. Возможно, в отчаянии он показал ей письма Августы и в припадке гнева рассказал ей о своем увлечении мальчиками, в частности Раштоном, потому что позже обо всем этом Каролина поведала леди Байрон.
На второй день после маскарада, 3 июля, Байрон уехал в Сикс-Майл-Боттом. Он не виделся с Августой с начала апреля, еще до рождения ее дочери Медоры. Байрон не любил «плачущих и икающих младенцев», которые все пачкали и постоянно хныкали. Через три дня Байрон отправился в Кембридж, где распил немало бутылок вина с Хобхаусом и Скроупом Дэвисом. В Лондоне он в отчаянии тщетно пытался уладить дела с Клотоном и Хэнсоном, которые затягивали переговоры. «Я словно продавец свиней на мусульманском базаре, – писал он Муру, – если бы у меня были жена и дети, насчет отцовства которых я испытывал бы сомнения, я бы мог стать счастливым или, по крайней мере, довольным, как Кандид или Скарментадо».
Байрон испытывал такое раздражение и нетерпение еще и потому, что хотел как можно скорее закончить все дела и отправиться к морю с Августой, которая приехала в Лондон и остановилась на Элбермарл-стрит. Ходжсон, отдыхавший в Гастингсе, подыскал им уединенный дом у моря, но только 20 июля Байрон смог отправиться туда. Была еще одна причина его стремления уехать из Лондона. Мэри Чаворт, когда-то его возлюбленная «утренняя звезда Эннсли», собиралась приехать в столицу, и он не желал встретиться с ней в каком-нибудь из лондонских салонов. Вместе с Августой они отправились в Гастингс до ее приезда.
Три недели Байрон был счастлив в этом доме у моря, которое всегда действовало на него оживляюще. Он читал «Уэверли», еще не зная, что произведение принадлежит перу Скотта, и назвал его «самым лучшим и самым интересным романом, который я прочитал в своей жизни». Хобхаус уговаривал его вернуться в столицу и голосовать против правительственного указа об ужесточении ирландских законов, но теперь Байрон находил больше удовольствия в сельской жизни, чем в парламентских дебатах. Он писал Муру: «Я плавал и ел палтуса, занимался контрабандой чистого бренди и шелковых носовых платков, слушал разглагольствования своего друга Ходжсона о выборе хорошенькой жены, гулял среди скал, спускался вниз по холмам и все две недели проводил время в приятном ничегонеделанье. Я встретил сына лорда Эрскина, который женат уже год и называет себя «счастливейшим человеком», поэтому здесь стоит находиться хотя бы ради того, чтобы стать свидетелем совершенного счастья этих лисиц, которые сами отгрызли себе хвосты…»
Однако Байрон втайне готовился покончить с холостяцкой жизнью. Он продолжал получать «красивые и строгие» письма Аннабеллы, но не знал, как на них отвечать. Аннабелла была озадачена, не умея выразить обуревавших ее чувств, и написала Байрону сумбурное письмо, полное скрытого смысла. Ей было так же трудно не выражаться абстрактно, как для Байрона не писать прямо и четко. Аннабелла признавалась в своей симпатии к нему, которую сама считала «несовершенной». Он тут же сел писать ответ, но, вновь прочитав запутанное письмо Аннабеллы, усомнился, что правильно понял ее. «Прошу вас, напишите мне прямо и жестоко. Вы именно тот человек, которого я хотел бы понять правильно». Далее он прибавлял: «…моя память еще довольно хорошая, чтобы не слышать во второй раз, что вы привязаны к другому».
Бедная Аннабелла вернулась к тому, с чего начала. Как еще она могла узнать правду, не признавшись в своей лжи о любви к Джорджу Эдену? Ее запутанный ответ еще больше связал ее, потому что она хотела одновременно написать о том, что сердце ее свободно, но в то же время признаться в своей любви к Байрону.
А тем временем события развивались своим чередом. В Гастингсе Августа и Байрон пришли к мнению, что единственным выходом из сложившейся ситуации будет женитьба Байрона. Позднее он говорил леди Мельбурн: «Августа очень хотела, чтобы я женился, потому что это было единственным освобождением для нас обоих…» Августа считала, что ее юная подруга, леди Шарлотта Левесон Гауэр, которой восхищался Байрон, больше подходит ему, чем строгая мисс Милбэнк, чьи письма он ей показывал. Она тут же начала переговоры, но шутливые послания Шарлотты вызывали сомнения в серьезности ее чувств, и Байрон начал испытывать раздражение и нетерпение. «Я, можно сказать, счастлив, но это счастье не может и не должно длиться…» – писал он Муру.
10 августа Байрон и Августа вернулись в Лондон. Два происшествия вывели Байрона из спокойного состояния. Хэнсон написал ему, что Клотон наконец-то согласился пожертвовать двадцатью пятью тысячами фунтов наличными и отказался от контракта на Ньюстед, кроме того, Хэнсон сообщил нечто, что заставило Байрона поторопиться уехать из Гастингса. «Миссис Чаворт, – писал он, – выглядит совсем больной и поговаривает о том, чтобы отправиться к морю в Гастингс. Она сообщила, что живет с детьми, без своего супруга».
10 августа Байрон написал Аннабелле. Она просила честно рассказать о своих чувствах, и он ответил с изумительной искренностью. «Я отвечу на ваш вопрос насколько можно более честно. Я любил, люблю и всегда буду любить вас, и, поскольку это чувство неподвластно разуму, я не знаю от него лекарства и ни за что не хочу найти его, чтобы пожертвовать вашим счастьем». Он предоставил право выбора Аннабелле, и она совсем растерялась.
В Лондоне Байрон занялся другими делами. Меррей анонимно опубликовал «Лару» в сборнике вместе с сентиментальной поэмой Роджерса «Жакелин». Однако вскоре все узнали имя автора, и Меррей продал шесть тысяч экземпляров, а когда решил опубликовать две поэмы отдельно, то предложил Байрону 700 фунтов за право напечатать «Лару». Впервые в жизни Байрон согласился принять деньги от издателя.
Неустойчивость финансового положения, неуверенность в будущем – Августа по-прежнему настаивала на браке Байрона со «стыдливой газелью» Шарлоттой – безнадежные попытки покорить Аннабеллу, которая привлекала Байрона больше, чем красивая, но ничем не примечательная подруга его сестры, ощущение того, что никто не заменит ему Августу, – все это заставляло сердце Байрона разрываться. Скоро он получил ответ Аннабеллы на свое искреннее признание, который только разочаровал его. В своем «красивом и строгом стиле» она объясняла, почему не должна выбирать его своим спутником жизни на земле и проводником на небеса, однако смягчала это жестокое признание уверениями в том, что в ее сердце никогда не было места для Джорджа Эдена: и что она очень уважает и ценит своего друга по переписке. Байрон ответил с резкостью, которая могла бы оттолкнуть менее самоуверенную девушку: «Очень хорошо, тогда мы можем поговорить о чем-нибудь другом».
20-го числа Байрон подписал бумаги, которые аннулировали контракт Клотона и вновь возвращали ему Ньюстед, и на следующий день отправился в свое родовое поместье с Августой и ее детьми. Там он вновь предался беззаботному существованию. Иногда он писал Аннабелле, советуя ей какие-нибудь книги по истории, в том числе скептического Гиббона. Но большую часть времени он проводил в родных лесах и у озер. Он ловил карпов и окуней, плавал, катался на лодке и стрелял из пистолета по бутылкам из-под содовой воды.
Мисс Милбэнк сообщила, что пыталась прочесть Гиббона, но выразила сожаление по поводу того, что Байрон отказался приехать погостить в Сихэм. «Если бы мы встретились, все мои сомнения могли бы рассеяться». Байрон ответил: «Вы вините себя в своих сомнениях. Я их не заметил; наоборот, для меня они показались самыми вашими устойчивыми взглядами».
Все это время милая Августа вела напряженную переписку с «газелью», полную недомолвок, намеков, одобрения и порицания, чего Байрон совсем не мог понять. Леди Шарлотта тоже не знала, чего от нее хотят, как и «Принцесса Параллелограмма», чьи углы могли быть острыми, но суждения всегда были прямыми. Когда раскрылись планы Августы, Шарлотта в страхе бежала. Она «была охвачена паникой из-за этих семейных интриг». Однако у семейных интриг было одно последствие: в том же году Шарлотта вышла замуж за молодого Говарда, графа Суррея, единственного сына герцога Норфолка.
Байрон рассказывал леди Мельбурн: «Я сказал X. (Августе. – Л.М.), сначала успокоив ее, что я попробую последовать примеру Шарлотты, поскольку с ней мне не улыбнулась удача». Письмо к Аннабелле было не очень уверенным предложением руки и сердца. «Несколько недель назад вы задали мне вопрос, на который я ответил. Теперь я хочу задать вам свой вопрос, на который вы можете не отвечать, если посчитаете его излишним, что уже само по себе станет для меня достаточным упреком. Действительно ли «препятствия», о которых вы говорили, непреодолимы? Или есть что-нибудь, способное удалить их?.. Я согласен почти на все, чтобы сохранить ваше доброе мнение обо мне. И все же не хочу, чтобы вы связывали себя обещаниями или обязательствами, просто подумайте о возможности, продиктованной вашей свободной волей… О других моих чувствах вы уже знаете. Если я не повторяюсь, то только для того, чтобы избежать или не увеличить вашего недовольства».
Байрон не задумывал это письмо как предложение, всего лишь хотел узнать, навсегда ли захлопнулась перед ним дверь, как следовало из двусмысленного послания Аннабеллы. Он оставлял ей свободу выбора и, чтобы не выставить себя в смешном свете, не тратил время на любовные излияния. Судьбоносное письмо было отправлено 9 сентября. В промежутке между 9-м и 18-м числом, когда пришел ответ, Байрон чувствовал себя неуютно и испытывал всевозрастающее нетерпение. К 13 сентября он был уже не уверен, хочет ли получить положительный ответ; в любом случае он был готов избежать позора, немедленно уехав, как и прежде, к Средиземному морю. У него была возможность присоединиться к леди Оксфорд, которая по-прежнему путешествовала по Европе. Байрон написал Хобхаусу: «…если обстоятельства, которые, впрочем, так же фантастичны, как то, что Джоанна Сауткот[18] может стать миссис Святая Троица, не остановят меня, я собираюсь прямиком направиться в Италию. Согласен ли ты поехать со мной?»
Несомненно, письмо Байрона вызвало волнение в Сихэме. Их прежняя переписка не давала Аннабелле повода для получения такого послания. Она была умной девушкой, но слишком неопытной, чтобы понять, что даже искушенная женщина едва ли смогла бы своими уловками разжечь интерес и любопытство Байрона лучше, чем она, держа его на расстоянии, чтобы было время убедиться в его истинных чувствах. Однако письмо Байрона уничтожило всю решимость Аннабеллы. Она не поверила, что это пробное предложение, и приняла его за настоящее. Ей легко удалось добиться согласия своих родителей, потому что они всегда шли на поводу ее желаний. Теперь Аннабелла не сомневалась, что хочет стать женой Байрона. В тот же день она написала: «Я уже давно поклялась себе сделать первейшей целью моей жизни ваше счастье… Я надеюсь найти в вас все, что мне так нужно, что я смогу любить».
Аннабелла отправила Байрону это письмо, предваренное письмом ее отца. Не зная, в Лондоне ли Байрон, она отправила другое послание в Ньюстед. Впоследствии Аннабелла вспоминала слова Августы: «Он получил письмо за обедом… Когда я протянула его Байрону, он так побледнел, что я подумала, что он упадет в обморок, а он заметил: «Пришла беда – отворяй ворота». Августа сказала, что письмо Аннабеллы было «самым лучшим и красивым из всех, что я читала».
Байрон начал писать ответ в более теплом стиле, чем сдержанное предложение, однако его письмо было еще далеко от страстных признаний пылкого любовника. «Ваше письмо дало мне новую жизнь. Оно пришло так нежданно… Я знаю, что вы в высшей степени достойная женщина, уважаю и люблю вас, и, если в моих силах дать вам любое доказательство моей любви и признательности, я предоставлю его. Я готов все сделать для вашего счастья – мое уже ждет меня. В ваших силах сделать меня счастливым, что вам уже удалось. Со дня нашего знакомства моя привязанность к вам усиливается, и вы все знаете про все недостатки – назовите их как хотите, – которыми я обладаю, и можете оценить поведение, которое я пытался забыть, но только сделал воспоминания ярче и горше, и страсти, которые могли бы погубить, но никогда не обманывали меня».
Впоследствии Аннабелла сказала об этом письме: «Я думала, что не высказала ему всех своих чувств… Я написала лишь то, что было у меня на сердце». Несомненно, Байрон был искренен, но он всегда бессознательно говорил своим собеседникам именно то, что они хотели услышать! Это письмо подкрепило бесплодную надежду Аннабеллы, что ей удастся изменить его, что он хочет, чтобы она помогла ему стать лучше. Как легко Байрон упустил свое счастье и нашел другое! Один взмах пера мог бы все изменить и направить его за границу.
Больше всего на свете Байрон мечтал получить благословение леди Мельбурн на свой брак с Аннабеллой. Хотя она могла себя поздравить с тем, что не имеет никакого отношения к его второму предложению, Байрон был благодарен ей за встречу с Аннабеллой. «В конце концов, наша помолвка состоялась благодаря вам. Как жаль, что первое предложение не было принято! Меня ужасает сама мысль о том, что придется отказаться от своих моральных принципов последних лет…» Однако Байрон не мог удержаться от шутливых намеков в письме к леди Мельбурн: «Было бы хорошо, если бы чей-либо кумир мог иногда сказать «нет», однако сейчас все уже позади. Думаю, что женатый человек не должен увлекаться кем-нибудь другим. Я спрашиваю на всякий случай».
Когда леди Мельбурн упрекнула Байрона в несерьезности, он ответил: «Вы ошибаетесь во мне, если думаете, что я равнодушен по этому вопросу. Если я ей нравлюсь, то стану таким, как она пожелает; ее вина, если она не сумеет вести меня, потому что нет человека более податливого».
Леди Мельбурн была бы очень удивлена, если бы узнала, как часто и как серьезно писал Байрон своей невесте. Он вознамерился убедить Аннабеллу и себя в том, что она не ошиблась в нем и что он попытается оправдать ее ожидания. Их характеры не так уж сильно различались, как она полагала, и даже если бы и различались, то это не могло бы стать помехой их счастью. На следующий день Байрон продолжил свои извинения и пояснения, затронув тему религии: «Я скорее смущен разнообразием религиозных принципов, нежели настроен оспаривать их. Одним словом, я готов читать любые книги, которые вы захотите, и выслушивать любые объяснения… Вы станете «моим наставником, философом и другом», мое сердце целиком принадлежит вам…»
Холодность Аннабеллы пропала. Она признавалась, что положительный ответ «принес мне неописуемую радость и наполнил меня счастьем». Вскоре от ее самоуверенности не осталось и следа, и она стала побаиваться скорой встречи с Байроном. Сумеет ли оказаться тем идеалом, который он нарисовал в своем воображении? Уверенность Байрона в ее постоянстве и настойчивые просьбы стать его наставником еще больше беспокоили Аннабеллу. Будучи побежденной, она хотела, чтобы он взял инициативу в свои руки. «…Мои убеждения ждут того часа, когда на них окажут влияние ваши, – говорила она ему, – я легко приспосабливаюсь к обстоятельствам и с удовольствием приму ваши принципы».
Несмотря на искреннее желание во всем прислушиваться к мнению своей невесты, Байрон вскоре стал тяготиться ролью жениха невинной и неопытной девушки. Во всех его серьезных увлечениях, включая юношескую любовь к Мэри Чаворт, было что-то запретное и тайное. Он лучше знал, как любить замужнюю женщину, чем неискушенную девушку, особенно ту, которая знакома с жизнью в основном по книгам. Этот внутренний разлад проявился в письмах Байрона к его умудренным опытом друзьям. В письме к Муру он прикрывал неуверенность маской развязности: «Мать моих будущих Гракхов, по вашему мнению, слишком сурова для меня… Я должен совершенно перемениться. Она такая хорошая, что я тоже хотел бы стать лучше».
На несколько дней Байрон задержался в Ньюстеде. Августа настаивала на его немедленном отъезде в Сихэм, но он не спешил. Вначале он собирался отправиться в Лондон, чтобы купить все необходимое для поездки и попросить Хэнсона заняться продажей Ньюстеда, а также подыскать достойное жилье для своей будущей жены. Кроме того, Байрон не хотел покидать родное гнездо, где он находился, возможно, в последний раз, один из самых его любимых уголков в Англии. Свежий воздух ранней осени вдохнул жизнь в величественные вязы в парке. Гуляя с Августой по берегу озера или в прохладном лесу, Байрон испытывал грусть расставания и страх перед переменами. Новая страница жизни отнимет у него не только полуразрушенное поместье и воспоминания, но и единственную женщину, которая понимала его и могла одарить бескорыстной и всепрощающей любовью. Они бродили по «Дьявольскому лесу» позади аббатства, где «Жестокий лорд» в порыве мизантропии установил статуи злобных сатиров. Там Байрон с Августой вырезали свои имена на коре старого вяза.
На следующий день, 21 сентября, оба они уехали из аббатства: Байрон – в Лондон, Августа – в Сикс-Майл-Боттом. В столице Байрона охватило беспокойство по поводу поведения Каролины, когда она узнает новости. К счастью, она приняла это известие достойно, решив вести себя как оскорбленная женщина и не причинять никому беспокойства. Ее письмо к Байрону было проникнуто духом самопожертвования и уязвленного чувства. Байрон вздохнул с облегчением и написал ей дружеский ответ, который она сочла холодным и снисходительным. Каролина искала утешения в письмах к Меррею: «Как он избавился от других несчастных? Заметьте, я говорю о них во множественном числе». Каролина весьма сдержанно поздравила Аннабеллу. «Она очень умная и хорошая, и верхняя часть ее лица красива…» Но в следующий раз Каролина заметила, что Байрон никогда не уживется с женщиной, которая часто ходит в церковь, знает все про статистику и обладает плохой фигурой.
Однако всепонимающую леди Мельбурн сейчас больше беспокоила Августа, нежели Каролина. Сумеет ли та уйти из жизни Байрона? Байрон защищал сестру, говоря, что именно она просила его поскорее поехать в Сихэм. А когда леди Мельбурн не успокоилась, он уверил ее: «X. – самое бескорыстное существо в мире. Ее единственная ошибка лежит на моей совести, и за это я не заслуживаю прощения». Леди Мельбурн укрепилась в своем подозрении, что любовь Байрона не пройдет быстро, но она не знала Августу так хорошо, как знал ее он. В самом деле, Августа бескорыстно любила Байрона и искренне желала ему счастья. Теперь она была готова любить его как сестра и с материнской нежностью заботиться о его благополучии. Случившееся не отпугнуло ее и не изменило ее отношения к нему.
Байрон хотел уладить все финансовые дела перед поездкой в Сихэм. Он предложил выделить Аннабелле шестьдесят тысяч фунтов или три тысячи фунтов в год, предполагая продать Ньюстед. Деньги Клотона могли пойти на уплату самых неотложных долгов, а Хэнсон полагал, что аббатство можно будет продать за сто двадцать тысяч фунтов. Также Хэнсон узнал, что сэр Ральф Милбэнк влез в долги, растратив состояние на выборах 1812 года. Единственной надеждой Аннабеллы был ее дядя, лорд Уэнтворт. Однако у Хэнсона не было времени встретиться с поверенными сэра Ральфа, и недовольному Байрону пришлось остаться в Лондоне.
А между тем переписка с Сихэмом продолжалась. Байрон уверял Аннабеллу, что по-прежнему полагается на ее руководство в семейной жизни. Он хотел видеть в ней воплощение идеала, к которому стремился с юности. Он вспоминал, какой впервые увидел ее в доме Мельбурнов: «В лице и манерах были простота, невинность и красота…» И добавлял искренне: «Совершенно искренне, от всего сердца, милая Аннабелла, могу сказать вам, что именно тогда, когда я понял, что недостоин вас, мои чувства и помыслы обратились к вам…» Свое письмо Байрон завершил мольбой, которая могла бы обескуражить девушку, так долго ждавшую человека, достойного уважения и превосходящего ее во всех отношениях: «Я буду таким, каким вы захотите меня видеть. Я полностью готов подчиниться разуму, который стоит выше моего».
Шли недели – Хэнсон тайком уехал в Девон, не предупредив Байрона, – и неловкость в Сихэме все усиливалась, а Аннабелла тщетно пыталась успокоить родителей и себя. Байрон был очень сердит на Хэнсона. Он попросил Хобхауса быть шафером на свадьбе, но не мог назвать точного дня отъезда в Сихэм из-за затянувшихся дел.
В это время Байрон получил письмо от молодой леди по имени Элиза. В нем не было ничего нового. Но когда эта женщина, такая пылкая и наивная, зашла к нему 24 октября, Байрон был тронут ее невинностью и подарил ей пятьдесят фунтов, чтобы она могла издать свои стихи. Сам он предпочитал не читать их. Когда Байрон сообщил Элизе, что скоро женится, она была так поражена, что ему пришлось отправить ее домой в своем собственном экипаже.
Два дня спустя, в субботу 29 октября, Байрон впервые отправился к своей невесте. Больше он не мог ждать Хэнсона. До воскресенья он задержался в поместье Сикс-Майл-Боттом. Страх перед предстоящей свадьбой, которая должна была разлучить его с Августой, зародился в его душе. В письмах Байрона и Аннабеллы было слишком много неловкостей и вымученных размышлений. Почему эта девушка не могла быть искренней и естественной? Ему это было необходимо, чтобы преодолеть собственную застенчивость. Только Августа могла помочь ему в этом, и вместе они часто смеялись. Позже, вспоминая свою семейную жизнь, Аннабелла говорила, что как-то Байрон сказал ей, что «только хочет, чтобы женщина смеялась, и ему все равно, что она думает». А в другой раз он заметил: «Я могу заставить Августу смеяться над чем угодно».
Байрон медленно продвигался на север, остановившись по пути в Ньюстеде. В Сихэме Аннабелла изо всех сил пыталась скрыть от родителей свое волнение. Байрон не сообщил, когда приедет. Она также пыталась скрыть досаду от того, что он не завалил ее стихами и подарками. Она была бы разочарована еще больше, если бы узнала, как щедро одаривал он украшениями и портретами других женщин.
Байрон приехал только в среду 2 ноября. Аннабелла читала в своей комнате, когда раздался стук колес экипажа. Напряженное ожидание изнурило ее. Она приняла решение не встречаться с ним при всех и вышла в гостиную, когда он был там один. Байрон стоял у камина. «Он не шагнул ко мне навстречу, но взял мою протянутую руку и поцеловал ее». Возможно, Аннабелла почувствовала бы досаду, что Байрон сам не подошел к ней, если бы позднее не поняла, что он стыдился своей хромоты.
Два дня спустя Байрон написал леди Мельбурн: «Аннабелла кажется более душевной, чем мы предполагали, однако это самая молчаливая женщина из всех, что мне встречались, что ужасно озадачивает меня». К счастью, лед отчуждения был сломлен другими людьми, которые оказались более разговорчивыми. Тревога родителей Аннабеллы вскоре рассеялась, потому что, когда Байрон намеревался быть очаровательным, ему это всегда удавалось. Он даже терпеливо выслушивал скучные рассказы сэра Ральфа. На следующий день Аннабелла пригласила Байрона на прогулку к своему излюбленному месту у утеса, стоявшего на берегу холодного Северного моря. Она «трепетно сжала» руку Байрона, когда он смотрел на катящиеся волны. Но он предпочитал моря, омывающие более теплые земли, хотя и не сказал этого.
Когда Аннабелла молчала, Байрону всегда казалось, что она наблюдает за ним и делает нелицеприятные выводы. Он сообщил леди Мельбурн: «Не могу вам сказать, будем ли мы счастливы или нет. Я готов относиться к ней со всем уважением, но боюсь, что она не сумеет «вести» меня. Если это правда, то ничего не выйдет… Я никогда не мог любить того, кто не отвечал мне взаимностью. Могу с точностью сказать, что мои чувства крепнут, встречаясь с ответными чувствами, и никогда не меняются в присутствии предмета моей страсти…» На четвертый день Байрону удалось немного расшевелить Аннабеллу, но он все еще не был уверен, что понимает ее. Письмо Байрона к «тетке» звучало ободряюще, но не слишком взволнованно: «У нас с Аннабеллой все благополучно… Она, как вы знаете, очень хороший человек, но думаю, что не только ее чувства и привязанности, но и страсти сильнее, чем мы предполагали».
Казалось, все складывалось. Юристы согласились на условия Байрона без излишней тяжбы. Аннабелла должна была получить двадцать тысяч фунтов, к тому же она возлагала надежды на своего дядю, лорда Уэнтворта. Однако и через неделю обрученные не стали ближе друг другу. Аннабелла не понимала грусти Байрона, хотя зачастую причиной его тоски были ее собственные перепады настроения. Он много говорил об Августе с «печальной нежностью», а когда заметил, что «когда ты в веселом настроении, то похожа на нее», то Аннабелла восприняла это как ключ к своему будущему поведению, хотя и не могла полностью побороть своего смущения. Байрон говорил: «Если бы ты согласилась выйти за меня два года назад, то избавила бы меня от того, с чем мне никогда не удастся справиться». В этом высказывании, сделанном в минуту досады, Аннабелла увидела зловещие намеки.
В итоге Аннабелла пришла к выводу, что Байрон не любит ее, и слишком буйная фантазия заставила ее устроить сцену с предложением разорвать помолвку. Когда Байрон «совершенно пал духом», Аннабелла решила, что, «должно быть, он все-таки любит меня». Однако Байрон пришел в замешательство. 13 ноября он написал леди Мельбурн: «Знаете, у меня появились серьезные сомнения в успехе нашего брака. Характер Аннабеллы оказался прямо противоположным нашим ожиданиям. Ее одолевают сильные чувства, угрызения совести в отношении себя и, думаю, меня… Любое слово или даже тон таят для нее в себе какой-то скрытый смысл. Иногда мы очень похожи, а порой совсем разные. Это происходит постоянно и полностью соответствует ее взглядам».
Байрон научился смягчать «бурные порывы» Аннабеллы так же, как делал это с другими женщинами, хотя не со столь неопытными, как она. Он говорил леди Мельбурн: «Что касается меня, то недавно я использовал способ «красноречивого действия», который Демосфен называет первым принципом ораторского искусства, и нахожу его очень эффективным, потому что он успокаивает Аннабеллу. Это дает надежду на успех «теории невозмутимого спокойствия», хорошо известной в нашей философии. Между нами, все это очень забавно. В данном отношении она совсем как ребенок, который легко откликается на доброту…»
Аннабелла, вероятно испуганная тем, к чему могут привести эти проявления доброты, сознавая, что родители могут понять, в чем дело, и опасаясь дальнейших скандалов перед свадьбой, просила Байрона уехать, хотя он гостил в Сихэме всего две недели. Она не была уверена, что сумеет сдерживать Байрона или сдерживаться сама в его присутствии, хотя и убеждала себя, что, когда они поженятся, все будет по-другому. Байрон был слегка задет и на следующую ночь после отъезда написал: «Если это доставит вам удовольствие, то я чувствую себя так же неудобно, как паломник с горохом, насыпанным в туфли, и так же холодно, как рядом с Милосердием, Целомудрием или другой подобной добродетелью».
Когда Байрон уехал, Аннабелла могла писать ему с меньшей сдержанностью: ей легко было любить на расстоянии придуманный ею идеал. «Мой любимый, нет ни одной минуты, когда мое глупое сердце не хотело бы увидеть тебя. Я знала, что это случится, наверное, это справедливая кара за мои дурные поступки».
В Кембридже Байрон встретился с Ходжсоном и Хобхаусом, которые убедили его остаться там до 23 ноября и голосовать за доктора Кларка, путешественника по Востоку и кандидата на получение звания профессора анатомии. Оставшиеся дни Байрон провел в поместье Сикс-Майл-Боттом. Испытывая чувство опустошения и раздираемый противоречивыми эмоциями, он всего один раз написал Аннабелле, предоставив Августе самой успокаивать встревоженную невесту.
Когда Байрон в Кембридже вошел в палату сената, чтобы отдать свой голос за доктора Кларка, ему рукоплескали студенты на галерке. Хобхаус вспоминал: «То, что случилось, незабываемо. Он покраснел и смутился. Мансел, магистр Тринити-колледжа и епископ Бристоля, и доктор Кларк почли за честь сопровождать его». На следующий день Байрон с Хобхаусом отправились в Лондон, где Байрон вновь зажил холостяцкой жизнью на своей прежней квартире. Байрон особенно привязался к ней, когда должен был покинуть ее навсегда. 26 ноября с Хобхаусом он ходил в театр «Друри-Лейн» посмотреть игру Кина в «Макбете». Несколько дней спустя они ужинали в узком кругу в доме Дугласа Киннэрда вместе с великим актером, который был в превосходной форме и рассказывал множество забавных историй. Байрон любил такие вечера и, возможно, сравнивал их с вечерами, проведенными в Сихэме, когда приходилось слушать однообразные повествования сэра Ральфа.
Аннабелла писала о приготовлении свадебного торта, и, вне всякого сомнения, ее родители предпочли бы венчание в церкви в присутствии всех богатых соседей. Но Байрон наотрез отказался, настояв на получении специального разрешения пожениться в домашней обстановке. Постоянные задержки дня свадьбы вызывали в душе Аннабеллы беспокойство, которого она уже не могла скрывать, а уверения Байрона звучали колко: «Жаль, что мы не поженились два года назад, но не беспокойся: я уверен, мы будем любить друг друга всю оставшуюся жизнь так сильно, как будто никогда не сочетались браком».
Тем временем у Байрона были другие дела в Лондоне. Элиза Фрэнсис, молодая девушка, которая навещала Байрона до того, как он уехал на север, появилась вновь и на этот раз встретила более теплый прием. Она писала об этой встрече как о самом важном событии в ее жизни: «Все было как в сказке». Байрон «поднялся с кресла и протянул мне руки, повинуясь внезапному чувству, я протянула ему свои, и тогда он выразил желание сделать для меня все возможное».
Во время следующего своего визита Элиза осмелилась выразить желание быть представленной леди Байрон после свадьбы. На это он дал пространный отрицательный ответ: «Хотя она очень дружелюбна и открыта, но может вбить себе в голову какую-нибудь ревнивую чушь…» Пока они разговаривали, Элиза услышала шум и спросила, что это. «Просто крысы, у нас их полно!» Ей показалось забавным наличие крыс в городской квартире, и она заметила: «По крайней мере, здесь нет детей». – «Детей! – вскричал лорд Байрон. – Не говорите о них, меня охватывает дрожь».
После этого Байрон подал Элизе руку, и она вновь ответила на пожатие. «Пока мы так стояли, я осмелилась посмотреть, какого цвета у него глаза, и хотя это были самые прекрасные глаза в мире, но оказались они не такими темными, как я предполагала, а большими и серыми – глаза «шотландской королевы Марии», а казались они почти черными из-за длинных темных ресниц. Я никогда прежде или потом не встречала таких глаз, и так мы стояли: я – глядя вверх, он – вниз. Не знаю, сколько это длилось, но вот раздался звонок в дверь, и он отпустил мои руки».
Во время следующих двух визитов «голос и манеры Байрона были ледяными», и он признался, что ничего не может сделать для Элизы из-за своего теперешнего положения. Элиза ушла, а «он стоял у камина, глядя мне вслед с выражением такой любви в очах, которое одновременно изумило и испугало меня». Она не приходила десять дней, но не могла забыть Байрона и наконец решилась на последнюю встречу. Его ответ поразил Элизу: «Пусть будет так, возможно, это и к лучшему!» «Потом он взял мою руку и добавил: «Возможно, встречайся мы чаще, наше увлечение закончилось бы, как заканчивается большинство подобных увлечений…»
Элиза поднялась, но у нее закружилась голова, и она чуть не упала в обморок. Байрон обнял ее за талию и взял ее руку в свои. «…Я стояла с опущенной головой, а он бережно отвел в сторону прядь волос, выбившуюся из-под шляпы, и поцеловал меня в шею, это испугало меня, и я попыталась освободить руку, но он прижал меня к груди с пугающей силой…»
Байрон успокоил Элизу: «Не дрожите, не бойтесь, со мной вы в безопасности». «Он опустился в кресло и привлек меня к себе, на какое-то мгновение я прижалась к нему: я влюбилась впервые в жизни, и это была моя последняя встреча с этим необыкновенным человеком… Он посадил меня к себе на колени, обнял меня за талию, и я не могла противиться ему…» Байрон поцеловал Элизу в щеку и хотел поцеловать ее в губы, но она вскочила со словами: «Я должна идти», однако «он так яростно прижал меня к груди, а его страстный взгляд яснее ясного говорил о его чувствах. Однако несколько ласковых слов привели его в чувство… Он отпустил меня. «Идите, – сказал он, – ни за что на свете я не причиню вам зла». Байрон спросил Элизу, придет ли она снова, но, когда она сказала, что не должна, он ответил: «Вы правы, как вы правы, но все же приходите!»
Когда Элиза пошла к двери, Байрон вновь заключил ее в объятия и опять отпустил. Элиза вспоминает: «Я оглянулась, чтобы еще раз увидеть человека, которого покидала навсегда: он стоял рядом с выражением такого горя на лице, что я снова бросилась в его объятия. И после нескольких безумных объятий я навсегда рассталась с благородным лордом Байроном».
Байрон обратился к архиепископу Кентерберийскому за специальным разрешением, «чтобы пожениться в любое время и в любом месте без суеты и публичной огласки». Так он сказал Аннабелле, которая пыталась скрыть свою досаду от своих родителей и самой себя. Свадебный торт уже черствел, а подобающий случаю текст – благородная попытка сэра Ральфа сочинить гимн в честь новобрачных – пылился на его столе. 24 декабря Хобхаус тронулся в путь вместе с унылым женихом. Они расстались в Честерфорде: Хобхаус направился в Кембридж, а Байрон – в Сикс-Майл-Боттом. Рождество оказалось несчастливым, как и в Сихэме, потому что полковник Ли был дома, и Байрон чувствовал себя не в своей тарелке.
Там он написал письмо с отказом от помолвки, но Августа убедила брата не отправлять его. Вечером следующего дня Байрон встретился с Хобхаусом. Тот записал в своем дневнике: «Никогда еще жених так не торопился».
Они отправились в Сихэм на следующий день, погода стояла морозная, землю покрыл снег. Байрон, который любил жаркий юг, решил, что это дурное предзнаменование. Он «честно признался своему спутнику, что не любит будущую жену, но в то же время добавил, что испытывает к ней уважение – самую верную гарантию семейного счастья и благополучия. Он заметил, что испытывает отвращение перед браком, пока его запутанные дела не разрешились…». Той ночью Хобхаус записал в дневнике: «Жених уже не испытывает нетерпения».
В восемь вечера, в пятницу 30 декабря, через неделю после отъезда из Лондона, они наконец добрались до Сихэма. Там их уже с нетерпением ждали. Первое впечатление Хобхауса о мисс Милбэнк было не в ее пользу. «Мисс выглядит довольно неизящно, в длинном и закрытом платье, как заметил Б., хотя у нее красивые ноги. Нижняя часть ее лица непривлекательна, а верхняя – выразительна, хотя и некрасива». Позднее он нашел ее более привлекательной. «Со мной она вела себя открыто и искренне, без манерничанья и притворства. К моему другу она казалась по-настоящему привязанной, с восторгом глядя на его волнующуюся грудь, однако мастерски скрывала свои чувства. Б. любит ее, находясь рядом, и это легко заметить посторонним».
1 января была суббота, и свадьбу отложили на следующий день. Ночью Байрон сказал другу: «Что ж, Хобхаус, это наша последняя ночь, завтра я буду мужем Аннабеллы». По словам Мура, Байрон «описал себя просыпающимся в утро свадьбы с самыми грустными мыслями при виде висящего на стуле парадного костюма. В том же настроении он один бродил по поместью, пока его его не призвали на церемонию…».
Свадьба состоялась в гостиной, где присутствовали только два священника, семья Аннабеллы и ее бывшая гувернантка, миссис Клермонт. «Мисс М. была тверда как скала и в течение всей церемонии не отрываясь глядела на Байрона, повторяла слова громко и четко. Б. сначала споткнулся, произнося: «Я, Джордж Гордон», а когда сказал: «делить радости и горести», то глянул на меня с полуулыбкой».
Кольцо, которое Байрон надел на палец Аннабелле, было когда-то найдено в саду в Ньюстеде, когда он был там с Августой, это кольцо принадлежало еще его матери. Тяжелое золотое кольцо, пришедшееся впору коренастой миссис Байрон, оказалось слишком большим для изящного пальца мисс Милбэнк. Ее мать была близка к истерике, потому что в душе уже сомневалась в достоинствах своего зятя, который не смог устроить отвечающую приличиям свадьбу. Позже она написала: «Никогда до или после свадьбы не сделал он ни одного подарка леди Б., даже такого простого, как бриллиантовое обручальное кольцо…»
Гостей не было. Леди Байрон вышла и вскоре вернулась в дорожном платье. Хобхаус вспоминал: «Байрон был спокоен, и мне показалось, будто я только что похоронил друга». Во дворе уже ждал экипаж. Новобрачным пришлось проехать сорок миль по морозу, прежде чем они остановились на ночь в Халнаби-Холле, в Йоркшире, доме, который снял сэр Ральф для их медового месяца. Хобхаус положил в экипаж томик поэм Байрона в желтом сафьяновом переплете в качестве свадебного подарка леди Байрон. В дневнике он написал: «Когда я пожелал ей много счастливых лет, она сказала: «Если я не буду счастлива, то только по своей вине». Я с грустью расстался со своим милым другом».
Путь в Халнаби был под стать хмурому зимнему дню. И Байрон, и его жена чувствовали себя скованно, а недавние волнения еще больше усиливали напряжение. Байрон, обожавший теплые берега Средиземного моря, не любил холод, и мысль о сумрачном доме в Йоркшире вызывала у него неприязнь. У него было время поразмыслить об утраченной свободе, невинной девушке, ставшей его женой, унылой семейной жизни, которая его ожидала. Аннабелла, удрученная отъездом из дома, где она была любимым и избалованным ребенком, хотела плакать и с тревогой следила за малейшими изменениями в поведении своего супруга, приготовившись оскорбиться его кажущейся суровостью и холодностью. Ничто не могло растопить лед их обоюдного отчуждения, и поездка в холодном экипаже еще больше усиливала раздражение Байрона и опасения Аннабеллы.
Позднее Аннабелла говорила, что они ехали молча, пока Байрон, чтобы дать выход тягостным чувствам, не разразился «диким пением», возможно исполняя одну из албанских песен, которые позднее так поразили чету Шелли на Женевском озере. Когда колеса экипажа застучали по улицам Дарема, в городе раздался колокольный звон в честь свадьбы мисс Милбэнк. Байрон, раздраженный вначале этим звуком, иронично заметил: «Должно быть, звонят на счастье?» После этого он яростно набросился на жену: «Мы расстанемся! Ты должна была выйти за меня, когда я в первый раз предложил!»
Такими были воспоминания леди Байрон о первых событиях и словах их семейной жизни, которые она записала сама или поведала своим друзьям. Байрон, слышавший часть этих обвинений, говорил Медвину: «Когда мы садились в карету, меня обвинили в том, что я женился на леди Байрон «назло», оттого что она дважды отказала мне… Я возразил. И если бы я был настолько груб, как утверждает леди Байрон, то она немедленно покинула бы экипаж… На это у нее бы хватило смелости, и она подобающим образом сумела бы ответить на оскорбление. Наш медовый месяц не был безоблачным, на семейном небосклоне появлялись тучи, но ни у кого он не был столь плохим».
Только после наступления темноты новобрачные прибыли в Халнаби-Холл. Слуги собрались поприветствовать их. Но Байрон, смущаясь своей хромоты, оставил Аннабеллу одну. Этой оплошности она впоследствии придала небывалое значение. Должно быть, Байрону удалось успокоить жену тем безмолвным способом, который оказался так эффективен во время первого визита в Сихэм, потому что Мур говорил Хобхаусу, что Байрон вспоминал в своих мемуарах, как «он до ужина уложил леди Б. на диван в первый день их совместной жизни».
Ужин и вино помогли скоротать вечер, и Байрон был приятно удивлен домашней библиотекой, уютной гостиной, окна которой выходили на юг. Однако его тон вновь стал горьким и негодующим. Еще в пути начался снегопад, и Байрон понял, что простудился, – естественно, это не обрадовало его. Стесняясь своей ноги, он всегда спал отдельно от своих любовниц, и теперь стыд сделал его жестоким, или так показалось Аннабелле, которая вспоминала: «Он с отвращением спросил меня, буду ли я спать с ним в одной постели, сказал, что ненавидит спать с женщинами, но что я могу поступать так, как мне захочется». И вновь он сумел успокоить ее или убедить, что его раздражение скоро пройдет, потому что наконец они уединились за алым пологом, прикрывающим постель. Проснувшись и увидев огонь камина за красной тканью, Байрон, глядя на жену, подумал, что «находится в аду с Прозерпиной рядом». Байрон признался Хобхаусу, что в первую ночь его охватил прилив грусти, и он встал с постели. Когда же наконец вернулся, то пролежал в кровати до полудня.
Утром Байрон выглянул в окно и увидел заснеженный парк и замерзшее озеро. Когда он спустился в библиотеку, то понял, что Аннабелла опять обиделась на его пренебрежение. Она чуть не плакала, но он сказал с иронией, возможно решив, что она уже сожалеет о браке: «Теперь слишком поздно, я ненавижу сцены». Позднее Аннабелла вспоминала: «Я изо всех сил пыталась притворяться веселой и улыбаться, чтобы вызвать в нем самые лучшие и великодушные чувства».
Аннабелла была влюблена в Байрона и легко прощала его, стоило ему повести себя мягче. Ее пугала лишь его непредсказуемость, и она не понимала, что его часто злила ее собственная чопорность. Когда она вела себя естественно и переставала быть безупречной мисс Милбэнк, вместе им было весело и хорошо. Байрон искренне радовался и называл ее душкой из-за круглого румяного лица. А она называла его милым гусем, ласковым прозвищем, вероятно предложенным Августой. Байрон и не подозревал, как жену пугали его меланхолия и резкие перепады настроения. Часто она казалась ему приятным и умным спутником, с которым легко находиться рядом. 7 января Байрон написал леди Мельбурн: «Мы с Белл пока уживаемся очень хорошо в обществе друг друга… Очень надеюсь, что наш брак окажется удачным».
Байрон с Аннабеллой много времени проводили в библиотеке за чтением и обсуждением книг. Байрон вновь вернулся к работе над «Еврейскими мелодиями», которые по просьбе Дугласа Киннэрда обещал Исааку Нейтану, который сочинял музыку по мотивам традиционных мелодий синагог. В октябре Байрон написал девять или десять стихотворений, «частью основываясь на сказании об Иове и частью на своей собственной фантазии». Печальные жалобные строки Ветхого Завета странно отозвались в душе Байрона. Некоторые стихи, включая «Плач Ирода по Мариамне» и «У вод вавилонских, печалью томимы…», были написаны в Халнаби, и леди Байрон, несомненно довольная, что талант ее супруга обратился к библейским мотивам, своим аккуратным почерком переписывала их.
В искренних письмах Байрона, написанных в начале января, нет и тени раздражения. Однако чрезмерная чувствительность обоих супругов портила их отношения. Обидчивость Аннабеллы усиливала в Байроне чувство вины оттого, что он женился на ней. Моменты нежности не могли умалить тревоги Аннабеллы, когда у Байрона были кошмары по ночам и он вставал и бродил по дому с кинжалом и пистолетом в руке, словно ожидая нападения. Однажды ночью, вспоминала Аннабелла, он вернулся к ней очень усталый и изнуренный. Желая «успокоить его», она положила голову ему на грудь. Он нежно, но горько произнес: «У тебя должна быть более мягкая подушка, чем мое сердце».
Больше всего Аннабеллу огорчали постоянные намеки Байрона на преступления, от которых она могла бы его спасти, если бы вышла за него раньше. Он говорил: «Я поступил подло, женившись на тебе. Я мог бы убедить тебя в этом в двух словах». Когда она невинно спросила, знает ли об этом Августа, он пришел в ужас и волнение и сказал: «Ради бога, не спрашивай ее». Словно человек, неодолимо влекомый к краю пропасти, Байрон постоянно намекал на предмет, мучивший его.
Байрон так нежно говорил о своей сестре, что Аннабелла написала ей и пригласила ее погостить. Августа не могла оставить детей, но прислала теплый ответ: «Не могу выразить, как сильно я желаю счастья тебе и моему милому Байрону». Она пыталась убедить Аннабеллу правильно воспринимать переменчивое настроение ее супруга. Но Аннабелла еще больше раздражала его своей кроткой преданностью и готовностью к «самопожертвованию». Когда он обвинил себя в ужасных преступлениях, она вместо того, чтобы высмеять его, как Августа, ответила, «что это будет и моей ношей», и попросила его позволить «разделить с ним его вину».
Порой Аннабелла была весела и смягчала Байрона настолько, что он спокойно мог говорить о своей «маленькой ноге», страстно восклицая, что в Судный день его вина должна быть смягчена, потому что он часто мечтал отомстить Небесам за свое увечье. Аннабелла поняла, что его вольтеровский скептицизм, который до свадьбы она считала причиной его дьявольских ужимок, оказывал на Байрона лишь поверхностное влияние, в то время как глубоко укоренившийся в его душе мрачный кальвинизм убеждал его, что большинство людей, и он сам в особенности, носят на себе печать Каина и обречены на проклятие. Истощив весь запас убеждений, остроумия и насмешек в попытке доказать несостоятельность религии, Байрон часто яростно говорил: «Самое ужасное, что я все-таки верю».
Как впоследствии с горечью убедился Байрон, Аннабелла очень хорошо могла объяснять причины его слабостей, но это не шло на пользу их отношениям. Несмотря на проницательность, ей не хватало тонкости чувств более общительной Августы. Аннабелла была готова угодить мужу и искала скрытый смысл в каждом его слове и жесте. Иногда он с раздражением и жалостью говорил: «Если ты не будешь обращать внимания на мои слова, то у нас с тобой все будет хорошо». Поняв, что Аннабелла воспринимает все буквально, он стал пользоваться ее доверчивостью в недобрых целях. Он заявлял, что она вышла замуж за изгнанника из рая или что его влечет неодолимая злая сила и он кончит, как и Зелуко, тем, что удавит свое дитя.
Вместо того чтобы высмеять его предрассудки, Аннабелла выказывала свой ужас, что еще больше распаляло Байрона. Она почувствовала облегчение, когда было принято решение вернуться в Сихэм после почти трех недель в Халнаби. Мнимым предлогом для такого раннего отъезда было то, что ее родители хотели, чтобы Байрон отметил свой день рождения, 22 января, с ними. Они собирались уехать 20-го, но когда Байрон узнал, что это пятница, то наотрез отказался уезжать до следующего дня. Увидев слабую улыбку Аннабеллы, он с кажущейся серьезностью заявил, что пятница – святой день у мусульман, который он соблюдает. Но когда они отправились в путь в субботу, Байрон был в хорошем настроении, полагая, что его отношения с женой вполне сносные. Глядя на нее, он произнес: «Думаю, ты хорошо знаешь, каких тем нужно избегать».
В Сихэме они оба почувствовали, что с их плеч свалился груз напряжения первых недель семейной жизни. Аннабелле уже не приходилось оставаться наедине с Байроном в его, как она позже определила, «черные дни», а он иногда забывал, что она его жена, и считал ее союзником в борьбе против скучных родителей и рутинной жизни в поместье. Нельзя сказать, что Байрон совершенно не уважал родителей Аннабеллы. Он мог скрупулезно соблюдать этикет, находясь в добром расположении духа, и легко завоевал расположение новых родственников и их гостей.
В свой день рождения Байрон написал леди Мельбурн: «Вчера я прибыл сюда против своей воли. Но ничего страшного, вы знаете, что я довольно добродушен и легко управляем еще и потому, что мне стыдно в этом признаться. Итак, Белл во всем добивается своего и, несомненно, будет продолжать в том же духе…»
Через несколько дней Байрон написал Муру: «…медовый месяц позади, я проснулся семейным человеком. Мы с супругой живем в абсолютном согласии. Свифт говорит, что «ни один мудрый человек не должен жениться», но в случае с дураком, думаю, это одно из самых божественных состояний. Я по-прежнему полагаю, что следует жениться по контракту, и полностью уверен, что продлю свой по его истечении, пусть даже следующий срок будет составлять девяносто девять лет». Но внезапно им овладевала ностальгия по потерянной жизни. «Прошу, напиши мне, какие интриги сейчас плетутся в свете, как поживают девицы и повесы…» Хобхаусу, который упомянул о возможной прибыльной стороне брака, Байрон написал: «…не говори мне об «ожиданиях»… Баронет, видимо, вечен, виконт бессмертен, а моя теща – само здоровье. С каждым днем они все крепнут, и я охотно верю, что в данный момент сэр Ральф, леди Милбэнк и лорд Уэнтворт готовят себе новые вставные зубы…»
Согласно наименее предубежденным воспоминаниям Аннабеллы, у них с Байроном были мгновения нежности, когда они находили удовольствие в обществе друг друга. Как-то раз он уговорил Аннабеллу быстро взобраться на скалу, и сам карабкался впереди нее с мальчишеской ловкостью, потому что в минуты азарта не обращал внимания на свою хромоту. Иногда он благодарил жену за маленькие услуги: за то, что она подала ему книгу или вставала ночью, чтобы принести ему лимонад. В такие минуты Аннабелле было приятно слышать слова Байрона: «Какая ты милая душечка, лучшая жена в мире». А когда он был в плохом настроении, она жалела его. «Он причинял другим страдания, но я уверена, что и сам страдал не меньше». Из этого второго и более счастливого для Аннабеллы месяца брака она запомнила «детские черты» в характере Байрона, когда он говорил о себе в третьем лице. Он говорил: «Байрон дурак» или «Бедный Байрон, бедный Байрон». Но «через несколько минут какое-нибудь случайное слово задевало его, и он возвращался к жестокой реальности».
Одной из причин вспыльчивости Байрона, как он позднее рассказывал леди Блессингтон, было то, что он постоянно сталкивался с финансовыми трудностями. Ему казалось, что его дела в Лондоне запущены. Он писал Хобхаусу, который пытался найти человека, чтобы проверить работу поверенного Хэнсона: «Мои долги вряд ли меньше тридцати тысяч…» Щедрость Байрона по отношению к Августе, Ходжсону и остальным привела к тому, что большая часть 25 000 фунтов Клотона была истрачена, еще больше ушло на уплату самых неотложных долгов и процентов. Остальное «поглотили мелкие кредиторы, покупка необходимых вещей, предметы роскоши, разные глупости, драгоценности, девки и мошенники». Байрон настоятельно просил Хэнсона продать Ньюстед и Рочдейл, но адвокат все еще наивно надеялся, что Клотон согласится завершить сделку.
Шли недели, и Байрону становилось все скучнее в Сихэме. В марте он понял, что необходимо ехать в Лондон, чтобы разобраться с делами. Когда Аннабелла высказалась против того, чтобы он ехал один, он рассердился. Но потом Байрон успокоился и согласился, чтобы она присоединилась к нему. Пока Хобхаус вел переговоры с герцогиней Девоншир о сдаче в аренду дома в Лондоне, Байрон с женой решили по пути в столицу нанести визит Августе.
Несмотря на свое неустойчивое поведение, Байрон любил Аннабеллу больше, чем признавался другим. За день до отъезда он сказал ей: «Думаю, я люблю тебя». В экипаже Байрон был раздражен, потому что поездки всегда приводили его в дурное настроение, но Аннабелла уже лучше узнала его, и, вместо того, чтобы угрюмо сидеть, как она делала на пути в Халнаби, ей удалось немного «расшевелить» Байрона, по словам Августы. Аннабелла даже рассмеялась над объяснением, которое он дал своей раздражительности: «Как будто я должен сейчас жениться». В Уонсфорде, накануне прибытия в Сикс-Майл-Боттом Байрон сказал: «Ты вышла за меня, чтобы сделать меня счастливым, правда?» Когда Аннабелла ответила согласием, он с жаром продолжал: «Тогда сделай это». Однако, по ее словам, «он будто жалел меня, предвидя какое-то надвигающееся на меня неизбежное горе».
Несчастье произошло в Сикс-Майл-Боттом, и воспоминание о нем наполняло Аннабеллу острым страданием всю оставшуюся жизнь. Когда они прибыли в поместье, Байрон находился в состоянии «сильного беспокойства», и Аннабелла, с обостренной чувствительностью, тревожно наблюдала за ним. Когда Августа спустилась к ним, обе женщины впервые встретились и с любопытством принялись разглядывать друг друга. Августа, с ее высоким байроновским лбом, шелковистыми темно-каштановыми волосами, большими карими глазами греческой статуи и полной, с мягкими очертаниями фигурой, казалась застенчивой и настороженной, но не скрывала своего душевного расположения. Она сердечно приветствовала Аннабеллу, но не поцеловала ее. Аннабелла и Байрон оба отметили это. Когда Августа повернулась к брату, то увидела, что он в дурном настроении. Аннабелла вспоминала, что «он объяснил его письмом о Ньюстеде, которое только что прочел».
Та ночь и каждая последующая были кошмаром для Аннабеллы. Байрон хотел оставаться с Августой после того, как его жена ложилась спать. Если она медлила, он находил особую радость в том, чтобы оскорблять ее, вынуждая уйти: «Ты нам мешаешь, моя очаровательная». Жестокость Байрона коснулась и Августы после того, как он понял, что она не собирается возобновлять их близких отношений. Раздражение вынудило его делать грубые намеки на прошлое, которые шокировали Аннабеллу, и «порой даже Августа выглядела испуганной». По утрам он приветствовал сестру, говоря о ее «знойном темпераменте» или об их жизни в Ньюстеде.
Аннабелла очень испугалась, когда однажды Байрон вернулся в спальню и, раздеваясь, начал ругать слугу Флетчера, а когда во сне она прижалась к нему, он разбудил ее криком: «Не прикасайся ко мне!» Аннабелла не приняла во внимание, что тогда Байрон был пьян. Она никогда не научилась, подобно Августе, пользоваться советом Байрона, который он дал, находясь в трезвом состоянии, – не придавать большого значения его словам. Горе Аннабеллы было неподдельным, и Августа искренне сочувствовала ей и была к ней чрезвычайно добра, «казалось, у нее не было другого намерения, кроме как загладить его жестокость», признавалась Аннабелла. Августа пыталась научить молодую жену, как управляться с Байроном. Его негодование по отношению к ним обеим укрепило понимание между супругой и сестрой.
В период депрессии Байрон испытывал неодолимое желание мучить обеих женщин. Отговорки одной и мученическая невинность другой раздражали его, препятствовали естественному стремлению к добрым поступкам. Байрон пил, чтобы забыться, и становился еще более несдержан в разговоре. Аннабелла писала в своих воспоминаниях, сделанных большей частью стенографически: «Он говорил: «Я знаю, ты носишь панталоны» или «Августа носит их» тоном абсолютно недвусмысленным… В поместье он разговаривал со мной меньше, чем обычно, но к концу нашего пребывания там возобновил свои беседы без всякого, однако, чувства любви ко мне и в те последние дни назвал причину такой перемены, не очень-то приятную для меня. Я слышала от А., что она сама чувствовала себя не очень уютно. Как-то раз он хитро сказал ей утром, вероятно намекая на прошлый вечер: «Итак, ты отказываешься, Гасс».
Причина раздражения Байрона становилась понятной из грубых намеков, но даже Аннабелла почувствовала, что Августа не поддалась его преступным желаниям, хотя «речи и поведение Байрона убедили бы любого другого человека». Неудивительно, что к концу второй недели обе женщины мечтали освободиться от тягостного соседства. Байрон не хотел уезжать, но наконец 28 марта семейная пара отправилась в Лондон. Когда карета отъехала от дома, Байрон оглянулся и долго и нежно махал Августе рукой.
Перед отъездом Байрон как бы между прочим написал Муру, что «у леди Байрон, кажется, появились признаки беременности. Я не очень волнуюсь насчет этого, думаю, что рождение ребенка обрадует ее дядюшку, лорда Уэнтворта, и ее родителей». Вне всякого сомнения, Аннабелла была счастлива уехать и надеялась, что в их собственном доме жизнь наладится. Возможно, Байрон проявит больше нежности и к будущему ребенку.
Настроение Байрона и вправду переменилось, как только они добрались до столицы и поселились в доме герцогини Девоншир, хотя суеверному поэту мог не понравиться адрес – Пикадилли-Террас, 13. Аннабелла вспоминала, что «десять дней он был добрее, чем когда-либо». Хобхаус, отдоживший поездку за границу, чтобы увидеться с другом, зашел на следующий день (Наполеон только что совершил побег с Эльбы, и Хобхаус мечтал увидеть волнения в Париже). Ночью он записал в своем дневнике, что Байрон «советует мне не жениться, хотя у него и лучшая из жен».
Скоро дела и издание книг завладели вниманием Байрона. Кроме переговоров с Хэнсоном о судьбе Ньюстеда, ему приходилось встречаться с Киннэрдом, который помогал издавать «Еврейские мелодии», и с Мерреем, который с нетерпением ожидал других произведений Байрона, – со дня женитьбы поэт написал совсем мало. Литературная репутация Байрона по-прежнему была высока. Во время Пасхальной недели Сэмуэль Тейлор Кольридж прислал ему длинное и хвалебное письмо с просьбой помочь найти издателя. Он не обиделся на сатиру Байрона «Английские барды…» и намекнул, что будет очень благодарен за рекомендацию Меррею. Байрон ответил, что с радостью займется просьбой Кольриджа, просил автора «Раскаяния» написать еще какую-нибудь драму и извинялся за свою сатиру: «Часть, касающаяся вас, бесстыдна, пуста и вздорна…»
Вскоре Байрон уже погрузился в круговорот прежней лондонской жизни: по утрам посещал Меррея, чтобы поговорить с писателями, собирающимися у него, ходил в театр, наносил визиты Дугласу Киннэрду и леди Мельбурн. Аннабелла не часто сопровождала его и чувствовала себя одиноко. Повинуясь неотвратимому року, который так сильно ощущался в жизни Байрона, она пригласила Августу погостить в их новом доме. Почему она не приняла за дурное предзнаменование временную доброту Байрона? Невозможно не увидеть в этом поступке жажду добровольного мученичества, которая делала ее жизнь с мужем невыносимой. Попытку Байрона разубедить ее Аннабелла, несомненно, восприняла как жест доброй воли, на который не могла согласиться. «Глупо, что ты пригласила ее в наш дом, вот увидишь, что после этого для тебя все будет по-другому». В первых числах апреля Августа приехала в Лондон. Но вначале напряжение смягчалось другими интересами Байрона в столице.
В городе проездом на пути во Францию находился Вальтер Скотт. Они с Байроном переписывались после публикации «Чайльд Гарольда» и восхищались произведениями друг друга. 7 апреля Меррей с гордостью записал в своем дневнике: «В этот день лорд Байрон и Вальтер Скотт впервые встретились и были мной представлены друг другу. Они беседовали почти два часа». Среди присутствующих были кумир Байрона Уильям Гиффорд, Джеймс Босуэлл, сын биографа Джонсона, и Уильям Сотби. Впоследствии сын Меррея вспоминал, что увидел «двух величайших поэтов своего времени, оба были хромы и вместе ковыляли по лестнице. Они продолжали встречаться на Элбемарл-стрит почти каждый день…».
Взгляды Байрона и Скотта на политику и религию были разными, но они благородно избегали открытых столкновений. Скотт считал, что через несколько лет Байрон может изменить свои взгляды. На что Байрон довольно резко отвечал: «Полагаю, вы один из тех, кто предрекает, что я стану методистом». Скотт возражал: «Нет, не думаю, что ваше превращение будет столь обыденным. Мне кажется, вы скорее примете католичество и будете искупать свои грехи суровым покаянием…» Байрон внимательно выслушал, улыбнулся и, казалось, согласился с мнением Скотта. Вероятно, консерватизм Скотта был несколько уязвлен вольными разглагольствованиями Байрона, однако Скотт в своих воспоминаниях отзывается об этом более мягко, говоря, что Байрону доставляло удовольствие упражняться в остроумии, направленном против государственных чиновников, и его отнюдь не вело сильное убеждение. «В глубине души я назвал бы Байрона патрицием из принципа». Скотт заметил затаенную грусть Байрона, но не стал интересоваться ее причинами. А Байрон, в свою очередь, как всегда было в общении с друзьями, тонко чувствовал те предметы, на которые их взгляды совпадали, и без всякого намерения обмануть собеседника опускал те свои суждения, которые могли бы неприятно поразить более подверженного предрассудкам шотландца.
Лорд Уэнтворт скончался 17 апреля, однако это никак не отразилось на запутанных финансовых делах Байрона. Ежегодной суммы в 700 фунтов от Милбэнков по условиям брачного соглашения едва хватило на уплату аренды за новый дом. Нужно было нанять нескольких слуг, приобрести экипаж и кучера, поэтому расходы увеличивались и долги росли как снежный ком. Увидев богатый дом на Пикадилли, кредиторы принялись осаждать Байрона.
В апреле Брейем и Нейтан опубликовали «Еврейские мелодии». Получилась книга большого формата стоимостью в гинею. Несмотря на цену и недоброжелательную критику, книга пользовалась успехом. Было продано десять тысяч экземпляров первого и второго издания, в результате чего издатели получили пять тысяч фунтов. Одновременно Меррей выпустил другой сборник поэм. Испытывая нужду, Байрон все же не принял денег за право публикации книги.
Один критик XX века, Джозеф Слэйтер, точно заметил: «Набожные люди, купившие «Еврейские мелодии» в надежде увидеть религиозные мотивы поэзии лорда Байрона, вместо этого получили книгу почти такую же земную, как «Абидосская невеста». Девять поэм посвящены темам из Библии, но в них слишком силен байроновский дух; две поэмы – любовные песни; пять – задумчивая лирика, которую нельзя назвать ни иудейской, ни христианской; еще пять являются отражением так называемого протосионизма». Однако Байрон знал Библию не хуже самых набожных читателей и обладал мастерством использовать строчки из этой священной книги в своих самых меланхоличных стихах.
Те, кто встречал чету Байрон летом, считали их самой счастливой парой. Уильям Харнесс заметил, что на балах «он всегда стоял возле ее стула, почти ни с кем не разговаривая и представляя жене своих друзей…». Меррей также восхищался леди Байрон: «Она самая замечательная женщина, с прекрасным характером и совершенно необыкновенным здравым смыслом». Однако в домашней обстановке Аннабелле часто не хватало именно здравого смысла. По ее собственным признаниям, подозрения насчет Августы изводили ее. Вероятно, Аннабеллу вывели из себя постоянные намеки Байрона и слишком собственническое отношения Августы к брату. После расставания с Байроном Аннабелла написала: «Порой мне хотелось вонзить кинжал в ее сердце, но она никогда не замечала этого…» Домашняя атмосфера грозила постоянными скандалами, и Байрон большую часть времени старался избегать опасности, хотя порой и играл с огнем, словно побуждаемый неодолимым импульсом.
Вне дома у Байрона были другие интересы. Он окунулся в театральную жизнь, и в мае его выбрали членом подкомитета управления театра «Друри-Лейн». Дуглас Киннэрд, также член этого комитета, считал, что хороший вкус Байрона поможет им при выборе пьес. Когда в июне Скотт вернулся из Франции и завтракал с Байроном и комиком Мэттьюзом, то нашел поэта «полным веселья, радости, остроумия и задора. Он вел себя как игривый котенок».
Августа уехала из Лондона в июне, и Аннабелла вздохнула с облегчением. Она писала, какое удовольствие доставляло ей общество Байрона, когда он был в хорошем настроении: «Когда он беседовал со мной, мы всегда говорили о какой-нибудь приятной чепухе, что отвлекало его от ужасных «притч и сентиментов» и давало волю его воображению».
Ли Хаита освободили из тюрьмы, и Байрон летом несколько раз заходил к нему в его дом на Эджвер-роуд. Хаит был польщен этими визитами и приятно удивлен простыми манерами Байрона. Он вспоминал, что «с детской радостью, так подходящей поэту», Байрон садился на деревянную лошадку сына Хаита. «Внешность его была в то время самая привлекательная… Он стал чуть полнее, чем до женитьбы…» Хаит мельком видел леди Байрон, которая ждала в экипаже. «У нее приятное серьезное румяное лицо». Байрон даже прочел «Историю Римини» Хаита, делая на полях вежливые пометки относительно изменения некоторых особо витиеватых выражений.
Общение Байрона с леди Мельбурн уже не было таким легким и беззаботным, поскольку он осознавал, что его жена не одобряет этой дружбы. Когда Аннабелла зашла к тетке, то с досадой обнаружила там миссис Чаворт-Мастерс. Она написала Августе: «Она справлялась о Б. Никогда не видела такой злобной ведьмы. Некоторые (Каролина Лэм. – Л.М.) по сравнению с ней добродетельны». Самая опасная соперница Аннабеллы когда-то тревожила юношеское воображение Байрона. Аннабелла знала, что ей не стоит опасаться Каролины, которая носила маску трагического самопожертвования. В июле Каролина направилась в Брюссель, а оттуда в Париж, смущая супруга любовными связями с герцогом Веллингтоном и множеством армейских офицеров.
Взволнованные письма Хобхауса из Парижа почти убедили Байрона присоединиться к другу. Вероятно, ему помешали поехать лень, нехватка денег и раннее возвращение Хобхауса, хотя более серьезным препятствием могло быть неодобрение Аннабеллы. Когда в конце июля приехал Хобхаус, Байрон узнал, до какой степени окрепли с благословения английских тори реакционные силы во Франции. Свои чувства он отразил в суровых строчках, посвященных Людовику XVIII и Талейрану, описывая последнего как «живое свидетельство всех государственных измен, обмана и позора, которые только можно встретить в одном падшем человеке».
Родители Аннабеллы, которые были не в состоянии немедленно разрешить финансовые дела Байрона, поскольку поместье лорда Уэнтворта с предполагаемым доходом в 7000 фунтов в год пошло в уплату долгов, предоставили чете Байронов дом в Сихэме, чтобы избежать чрезмерных трат жизни в Лондоне и одновременно дать возможность Аннабелле жить с удобствами. Сами Ноэли (Милбэнки переменили имя в соответствии с завещанием лорда Уэнтворта) должны были переехать в поместье Керкби-Мэллори в графстве Лестершир. Это решение, принятое в начале июля, полностью устраивало Аннабеллу. Она знала, что они живут не по средствам, и боялась соблазнов, подстерегающих Байрона в столице. Особенно ее огорчали его участие в театральных делах, общение с Дугласом Киннэрдом и другими жизнерадостными друзьями и близкое знакомство с актерами и актрисами. Однако именно эти занятия, помогающие Байрону отвлечься от запутанных денежных дел, удерживали Байрона, и он с неохотой покидал Лондон.
Наконец Байрон убедил Хэнсона выставить Ньюстед и Рочдейл на аукцион в конце июля. Аукционист предпринял попытку продать поместья 28 июля в Гаррауэе. Хобхаус сопровождал Байрона на аукцион, «где Ньюстед был продан за 95 000 гиней в первом лоте. Первое предложение составляло 70 000 гиней. Байрон очень недоволен». Рочдейл был также продан всего за 16 000 фунтов.
Хобхаус стал свидетелем растущего отчаяния Байрона. Однако он замечал: «Невозможно для семейной пары жить в большей гармонии. Некоторые его друзья опасались, что его светлость слишком привязан к леди Байрон и что редкие разлуки, поскольку они никогда не расставались, окажутся более благоприятными для их счастья». Можно с уверенностью сказать, что образ Августы уже не тревожил Аннабеллу в то время, потому что, когда Байрон составил новое завещание, подписанное 29 июля 1815 года, с условием, что доход от поместья после выплаты 60 000 фунтов по брачному договору леди Байрон перейдет к его сестре и ее детям, Аннабелла написала Августе, что «он поступил именно так, как нужно было поступить».
К концу августа Байрон был на пределе. Человеку, привыкшему сорить деньгами, было невыносимо слышать угрозы кредиторов и не иметь возможности достать денег. Он решил снять напряжение, нанеся визит Августе, и сознание того, что он не должен оставлять беременную жену наедине с неразрешенными финансовыми делами, заставило его «вести себя по отношению к ней жестоко» все четыре дня до отъезда. Однако впоследствии она вспоминала: «Уезжая, он попросил у меня прощения полушутя-полусерьезно, но доброе слово от него было слишком бесценно, чтобы вдаваться в его тон». Их переписка носит характер нежного взаимопонимания, что вполне естественно для Байрона в те дни, когда ничто его не тяготит.
Аннабелла вспоминает, что «Байрон вернулся из Сикс-Майл-Боттом ласковый ко мне, но обиженный на Августу», которая защищала Ноэлей, несмотря на его постоянные оскорбления. В последующие недели настроение Байрона было переменчивым, доброта, жалость или раздраженная суровость к жене делали его непредсказуемым. Нежелание уезжать в Сихэм объяснялось растущим презрением Байрона к родителям жены за их провалившуюся попытку оказать ему помощь, когда он особенно в ней нуждался, а также постоянным нежеланием Байрона видеться с ними и его растущим интересом к театральным делам. Кроме фиглярства и заигрывания с актрисами, Байрон занимался и более серьезными вопросами, связанными с подбором подходящих пьес и первоклассных актеров.
Позднее Байрон вспоминал драмы, которые ему пришлось прочесть: «Писатели и писательницы, модистки, какой-то дикий ирландец – все идут ко мне! Некая мисс Эмма с пьесой под названием «Богемский разбойник» или нечто в этом духе… Мистер О'Хиггинс, житель Ричмонда, с ирландской трагедией, в которой нельзя не заметить единства, поскольку главный противник героя большую часть времени прикован за ногу к позорному столбу».
Байрон пытался убедить известную актрису миссис Сиддонс приехать в Лондон, но она не хотела оставлять Эдинбург. В «Друри-Лейн» во время членства Байрона в комитете играли самые лучшие драматические актеры. Кроме Кина и мисс Келли, которой впоследствии восхищались Томас Худ и Чарльз Лэм, комитету удалось привлечь красавицу миссис Мардин, покорившую дублинскую сцену. То, что театральный сезон не выиграл от этого, можно поставить в вину отсутствию хороших пьес, и Байрон пытался найти какое-нибудь решение. Чтение пустых рукописей, валявшихся на театральных полках, убедило его в том, что надо искать скорее поэтов, а не профессиональных драматургов. Он безуспешно переписывался на эту тему со Скоттом, но ему удалось получить «Бертрама» Мэтьюрина. Байрон пытался увлечь Кольриджа идеей написать драму для театра и получал лишь обещания. Правда, Кольридж прислал ему экземпляр поэмы «Кристабель», и Байрон уговорил Мура дать ей хорошую оценку в «Эдинбургском обозрении».
Но даже бурная жизнь комитета не могла освободить Байрона от бремени обстоятельств. Терзаемый сомнениями, он вновь стал проводить ночи без сна и испытывать постоянный страх, вынуждавший его во время медового месяца вскакивать среди ночи и бродить по дому с пистолетами. Вполне вероятно, что Байрон был так поглощен своими бедами, что не понимал, насколько Аннабелла, сама страдавшая перепадами настроения из-за своей беременности, преувеличивала все слова, сказанные им в досаде на судьбу, а не на нее. Когда она поблагодарила его за часы, проведенные с ней вдали от театра, он ответил: «Что ж, бедняжка, тебя легко сделать счастливой», а потом прибавил: «Наверное, ты испытываешь ко мне чувство, которое испытывает мать к ребенку, когда он не шалит». И еще: «Ты единственная смогла сделать жизнь в браке сносной для меня» и «Думаю, ты будешь меня любить, пока я тебя не побью». Часто Байрон повторял свой старый упрек: «Сейчас слишком поздно. Если бы ты вышла за меня два года назад… Видно, мне на роду написано губить все, что находится рядом».
Байрон находил удовольствие и забвение в поздних посиделках за бренди с Киннэрдом и другими друзьями. Но даже это надоело. 31 октября он написал Муру: «Вчера я ужинал в большой компании с Шериданом и Коулманом, Дугласом Киннэрдом и другими скандально известными личностями. Час или два все шло просто прекрасно…» После пирушки ему с Киннэрдом пришлось вести Шеридана по «чертовой кривой лестнице» и доставлять его домой. На следующий день Байрон проснулся с головной болью.
Аннабелла, которая не в состоянии была смириться со столь бурной жизнью супруга, высказывала свои опасения Августе: «Его несчастье состоит в постоянной тяге к приключениям, которая всегда встречается у людей с бурным темпераментом, чьи страсти не укладываются в одно определенное русло. Скука монотонного существования вынуждает лучших людей ступать на самые опасные дорожки, и кажется, что порой они действуют из самых худших побуждений, в то время как они просто стремятся избежать внутренних страданий посредством переключения на внешние стимулы. Именно из этого источника вырастает любовь к мучению окружающих».
В начале ноября случилось неизбежное: в доме появился судебный пристав. Байрон сходил с ума от гнева и раздражения. Он уже продал мебель в Ньюстеде, а теперь должен был расстаться с бесценными книгами. И все же его собственность оценивалась суммой в более чем тысячу фунтов. Позднее Байрон говорил Медвину, что «началась конфискация, и судебные приставы завладели даже кроватями, на которых мы спали». Хотя леди Байрон считала пристава «несчастным негодяем», Байрон впоследствии даже подружился с ним, что помогло ему легче перенести свалившееся на него несчастье.
Бедная Аннабелла, полагавшая, что хорошо знает Байрона, пыталась свести его поведение и слова к одной четкой формуле и в результате этого не сумела найти простейших объяснений его поведения. Она полагала, что он безумен, в то время как он, подобно испорченному ребенку, давал выход своему раздражению и, словно ребенок, хотел прощать и быть прощенным после того, как вспышка гнева проходила. Леди Блессингтон после короткой встречи с Байроном мудро заметила: «Он кажется одним из самых легкоуправляемых людей на свете. Хорошо бы леди Байрон удалось раскрыть этот секрет». Слуга Байрона Флетчер, который знал все настроения своего хозяина и был свидетелем его отношений с различными женщинами, с наивной мудростью заметил: «Очень странно, но я никогда не видел женщину, которая не могла бы справиться с моим господином, кроме моей госпожи». Байрон сказал леди Блессингтон, что Аннабелла «наделена непревзойденным самообладанием… Однако оно производило на меня совершенно противоположное действие. Когда я срывался по малейшим пустякам, ее спокойствие уязвляло меня и было похоже на упрек…».
Удивительно, но, даже испытывая постоянный стресс, Байрон был в состоянии вести остроумную переписку. Меррей, не знавший о мучениях, которые испытывал Байрон и заставлял испытывать других, написал Вальтеру Скотту: «Лорд Байрон чувствует себя превосходно и находится в отменном расположении духа, каждый день ожидая появления сына и наследника». На самом деле Байрон чувствовал себя словно в западне. У Аннабеллы были дурные предчувствия. Когда к ним зашел Хобхаус, она была уверена, что он затевает какую-то интригу с целью увезти Байрона на континент, потому что он в приступе меланхолии однажды заявил, что уедет за границу, как только родится наследник, «потому что женщина всегда больше любит ребенка, чем мужа». Приняв, как обычно, его слова всерьез, Аннабелла резко ответила: «Если ты будешь так говорить, то заставишь меня возненавидеть нашего ребенка».
Испытывая горечь и раздражение от присутствия в доме судебного пристава, Байрон решился продать библиотеку. Аннабелла согласилась, потому что ей было больно видеть «его страдания». Он уже договорился с продавцом книг, когда слух дошел до Джона Меррея, который немедленно прислал Байрону чек на полторы тысячи фунтов с припиской, что через неделю предоставит в его распоряжение такую же сумму. Однако гордость не позволила Байрону принять деньги. Он ответил: «Я возвращаю ваш чек нетронутым, но это не значит, что ваш порыв не оценен мной по достоинству».
Леди Байрон понимала, чем грозит ежедневное общение Байрона с актрисами в театре. Его первое и, возможно, единственное увлечение началось в ноябре, когда его больше всего беспокоили семейные и финансовые дела. Вероятно, в других обстоятельствах он бы воздержался от общения с актрисами. Его романтическое воображение находило выход в стихах. От женщин он ждал прежде всего удовлетворения своих физических потребностей, однако постепенно его стали занимать причуды простой девушки, легко ставшей жертвой его чар. Более безжалостный повеса быстро бы избавился от нее, но Байрон продолжал хранить ее письма. Сьюзан Бойс была актрисой второго плана в театре «Друри-Лейн». Желание, чтобы к ней относились как к знатной даме, было пределом ее мечтаний. Она писала, что ей нужны «его уважение и преданность», и ее огорчило, что к красивому подарку Байрон не приложил нежного письма.
Но как и другие возлюбленные Байрона, Сьюзан не могла забыть его и несколько раз обращалась к нему за помощью, когда он был за границей. В 1821 году она написала ему трогательное письмо, подписанное «несчастная, но все та же Сьюзан Бойс». Но к тому времени Байрон уже мог спокойно говорить о своем романе. «Она была временным увлечением, – писал он Киннэрду, – но это не ее вина, потому что во время нашей связи я был в таком состоянии, что все плотские утехи были механическими и почти не оказывали воздействия на мои чувства и воображение. Перешли от меня бедняжке немного денег…»
И действительно, чувства Байрона были притуплены, когда он увлекся Сьюзан. Взбешенный безвыходной финансовой ситуацией, он стал мстительным и жестоким по отношению к тем, кого всегда любил. Августа, 15 ноября приехавшая в Лондон по взволнованной просьбе Аннабеллы, ощутила его настроение. Вначале Байрон был холоден с ней, а потом вновь стал отпускать язвительные замечания и оскорблять сестру и жену. Иногда он хвастался своими победами в театральном кружке, чтобы «вызвать раздражение Августы и Аннабеллы».
Неустойчивое поведение Байрона было спровоцировано пьянством. Приступы гнева стали такими ужасными, что обе женщины были испуганы. Аннабелла утешала себя мыслью, что он страдает временным безумием, и Августа с готовностью соглашалась с ней. Она всегда умела поставить Байрона на место, но теперь чувствовала, что ее сил не хватает, и обратилась к миссис Клермонт, бывшей гувернантке Аннабеллы, и к кузену Джорджу Байрону, которые приехали в Лондон и в декабре, до рождения ребенка, поселились в том же доме. Зайдя 25 ноября к Байрону, Хобхаус вспоминал: «Дома у них не все благополучно, Байрон советует мне не жениться и поговаривает об отъезде за границу».
Но даже Хобхаусу Байрон не признался в том, сколь сильно третировал он свою жену из-за собственных неудач. Возможно, его угрозы представляли собой пустые вспышки раздражения и гнева, но для беременной женщины они звучали угрожающе. Аннабелла вспоминала, что всего за три часа до родов он, «выражая свое отвращение», понадеялся, что она и ребенок погибнут, а если дитя выживет, то он проклянет его. Когда начались схватки, Аннабелле казалось, что ее муж бросает бутылки с содовой водой в потолок ее комнаты с нижнего этажа, чтобы лишить ее сна. Дело же было в том, что, как любой впечатлительный муж, он пытался скрыть свое волнение. Хобхаус положил конец этим слухам, которые появились в момент расставания Аннабеллы и Байрона, заявив, что «на потолке не осталось следов ударов, и пристрастие лорда Байрона к содовой воде в результате приема магнезии в больших количествах и привычка вскрывать бутылки кочергой, вероятно, были причиной шума…». Относительно слуха о том, что «Байрон будто бы спросил жену, не родился ли ребенок мертвым», то Хобхаус задал этот вопрос самому Байрону. «Он ответил, что довольствуется ответом леди Байрон». «Она этого не скажет, – часто повторял он, – хотя бог ее знает, бедняжка! Кажется, теперь она готова сказать что угодно, но этого она не скажет, нет, не скажет».
В час дня 10 декабря леди Байрон родила девочку. Согласно позднее появившейся истории (из третьих уст), когда «Байрону сообщили, что он может увидеть свою дочь, он, глядя на нее с восторженной улыбкой, внезапно изрек: «Какое орудие пытки я приобрел в тебе!». Однако, сообщая на следующий день Фрэнсису Ходжсону о рождении ребенка, Августа сказала: «Б. выглядит прекрасно и очень доволен своей дочерью, хотя, думаю, предпочел бы сына». Миссис Клермонт говорила Хобхаусу после того, как леди Байрон перенесли в ее комнату, что «она никогда не видела, чтобы человек так любил и гордился своим чадом, как лорд Байрон… Сама леди Байрон часто говорила мужу, что он любит дочь больше, чем она сама, и прибавляла то, о чем лучше было бы промолчать, а именно: «И больше, чем меня».
При крещении ребенка нарекли Августой Адой. Второе имя было фамильным именем Байронов в правление короля Иоанна, кроме того, он находился под впечатлением того, что это было имя сестры Карла Великого, а также упоминалось в Книге Бытия (Ада, жена Ламеха). Через некоторое время девочку стали называть только вторым именем. Но несмотря на то, что Байрон гордился дочерью, это не сблизило его с Аннабеллой, как она тщетно надеялась. Его несуразные выходки стали еще резче после рождения ребенка. Позднее он писал об Аде:
Дитя любви! Ты рождена была
В раздоре, в помраченьях истерии,
И ты горишь, но не сгоришь дотла,
И не умрут надежды золотые…
Байрон признавался Хобхаусу, что денежные дела доводили его «до безумства. Если бы я не был женат, то относился бы к ним легко». И еще: «…моя жена – само совершенство, лучшая женщина в мире, но заклинаю тебя, не женись», – добавлял он.
Вполне возможно, что Байрон не полностью осознавал, какое впечатление производит на впечатлительную Аннабеллу его поведение в моменты раздражения, когда он бывал пьян или выходил из себя. В приступе гнева он разбил вдребезги часы, которые носил с юношеских лет и брал с собой в Грецию. Позднее он признался лишь в одной грубой выходке по отношению к жене, хотя их могло быть и больше. Однажды, когда Байрон уже не мог выносить денежные затруднения, он вошел в комнату, где Аннабелла стояла у камина, и она спросила: «Я тебе мешаю?» Байрон говорил Хобхаусу: «Я ответил: «Да» – с особенным упором. Она разрыдалась и вышла из комнаты. Как можно быстрее я поднялся по лестнице («Бедняга, – заметил Хобхаус, – всем известно, что он хромой») и униженно просил у нее прощения. Это был единственный раз, когда я был с нею по-настоящему груб».
Трудно понять чувства Аннабеллы и ее мысли по поводу происходящих событий из последующих записей, однако очевидно, что развязка наступила 3 января 1816 года, когда Байрон зашел в ее комнату и с «потрясающей яростью» заговорил о своих связях с актрисами. Возможно, он уже прежде обсуждал с женой необходимость отказаться от дорогой квартиры на Пикадилли и переехать за город. Она должна была отправиться первой, пока он будет улаживать дела в Лондоне. 6 января Байрон написал Аннабелле записку, воздержавшись от встречи с ней, чтобы избежать сцен. Он просил ее назначить день ее отъезда в Керкби, куда ее пригласили родители. «Поскольку мне очень важно уехать из нашего дома, то чем быстрее ты назначишь день, тем лучше, хотя, безусловно, я в первую очередь приму во внимание твои желание и удобства. Естественно, ребенок поедет с тобой…»
Из истории Байрона, рассказанной Хобхаусу, следовало, что «жена была очень обижена этой запиской, вскоре после этого произошла ссора, но небольшая, и Аннабелла объявила, что полностью согласна с условиями. Она сама сделала попытку к примирению, назначив день своего отъезда».
Однако Байрон не знал всего, что происходило в душе внешне спокойной Аннабеллы. Она была убеждена, что ее муж сошел с ума. Ей удалось достать экземпляр «Медицинского журнала», в котором было описание водянки головного мозга, что, по ее мнению, могло быть причиной поведения Байрона. Она посчитала своим долгом осмотреть его вещи и письма и выявить в нем «особенности и признаки, являющиеся доказательствами данной болезни». Среди прочих вещей Аннабелла нашла маленькую бутылочку настойки опия и копию запрещенного романа маркиза де Сада «Жюстина». После этого, по словам Хобхауса, она «вывела заключение, касающееся поведения лорда Байрона, включая его слова, и особенностей внешнего вида и манер», о чем и поведала доктору Бэйли, который по ее просьбе пришел в дом и осмотрел найденные доказательства, но не сумел дать определенного ответа.
Аннабелла была так уверена в своем диагнозе, что попросила Хэнсона о встрече и прислала ему статью из журнала и свои комментарии. Хэнсон боялся, что у нее появились планы избавиться от мужа, и он спросил, есть ли у нее основания бояться за себя. Она ответила: «Нет, совершенно никаких, я всегда могу справиться с ним!» Хэнсон, давно знавший Байрона и привыкший к его странному поведению, убедил Аннабеллу, что «ее муж подвержен раздражению и, возможно, внезапным вспышкам агрессии и гнева и что он имеет привычку говорить такие вещи, о которых даже нельзя упомянуть в письме…».
Аннабелла откладывала свою поездку, надеясь, что появится внятный ответ на ее вопрос о психическом здоровье Байрона. Она почувствовала сильное облегчение, как сама позже признавалась, когда поверила, что дикие выходки ее супруга происходят от умственного расстройства. Осталось мало свидетельств о последних днях, проведенных Аннабеллой на Пикадилли-Террас, и о ее прощании с Байроном. Вероятно, он думал, что загладил свою вину извинениями, хотя и говорил Хобхаусу, что «последнее время испытывал раздражение, когда, подняв голову, обнаруживал, что жена смотрит на него со смешанным чувством жалости и волнения». Но, по словам Хобхауса, «Байрон с Аннабеллой до последней минуты поддерживали супружеские отношения…».
Наконец 15 января Аннабелла отправилась в путь. Она бы осталась и дольше, но капитан Байрон, который даже больше Аннабеллы принял всерьез угрозы ее супруга, «заявил, что не позволит мне оставаться дольше в этом доме, не сообщив моим родителям». Байрон не любил прощаться, особенно страшили его печальные расставания. Аннабелла была еще более эмоциональной. «Накануне отъезда из Лондона, – вспоминала она, – он ясно произнес в присутствии миссис Ли: «Когда мы трое вновь встретимся?» – на что я ответила: «Надеюсь, на небесах». Той ночью я со слезами на глазах рассталась с ним и ушла в комнату, где были миссис Ли и миссис Клермонт. Я совершенно потеряла самообладание и контроль над собой».
Воспоминания Аннабеллы о дне отъезда очень трогательны: «Я спустилась по лестнице: карета ждала у дверей. Я прошла мимо его комнаты. Там был большой ковер, на котором раньше лежал его ньюфаундленд. На какое-то мгновение у меня появилось искушение броситься на этот ковер и ждать, что бы ни случилось, но это чувство быстро прошло. Таким было наше расставание». Байрон больше никогда не увидел свою жену.
Когда 15 января леди Байрон покинула дом на Пикадилли-Террас, в ее душе боролись противоречивые чувства, но ее сердце переполнялось нежностью и жалостью к человеку, которого она никогда не могла понять, самому прекрасному и невыносимому из всех людей. И не одно следование совету доктора писать только о приятных вещах побудило ее послать весточку Байрону во время остановки в Вуберне.
«Милый Б.!
Ребенок здоров и прекрасно переносит дорогу. Надеюсь, ты ведешь себя хорошо и не забываешь о моих советах и рекомендациях относительно твоего здоровья. Не поддавайся ужасной привычке писать стихи, пить бренди и никому и ничему, что принесет только вред.
Хотя я нарушаю твой запрет писать тебе, но позволь мне получить положительный ответ в Керкби.
С любовью Ада и я.
Душечка».
Мы склонны предположить, как и поступил Байрон, что пером Аннабеллы двигало сердце, а не рассудок, когда она написала из Керкби на следующий день после своего приезда:
«Милый Гусь!
Мы благополучно добрались в Керкби прошлой ночью, и нас проводили в кухню вместо гостиной по ошибке, пришедшейся бы по душе голодному человеку. Об этом и других происшествиях папа хочет написать тебе шутливое письмо, и они вместе с мамой мечтают, чтобы вся семья собралась вместе. Вся гостиная или что угодно в твоем распоряжении. Если бы я не искала повсюду Б., то уже наслаждалась бы деревенским воздухом. Маленькая мисс хорошо ест и быстро поправляется. Как хорошо, что «маленький ангел» еще не понимает всех ласковых слов, которые ей говорят, иначе бы она возгордилась. Передай мои самые искренние пожелания милой Августе от всех нас.
Твоя вечно любящая душечка».
Байрон и его друзья всегда считали такие письма ясным свидетельством того, что Аннабелла не собиралась покидать его навсегда после отъезда из Лондона. Но теперь очевидно, что она еще до отъезда приняла твердое решение не возвращаться к мужу, если ее убеждение в его умственном расстройстве не будет подтверждено врачами. Миссис Клермонт заявила, что «Аннабелла сказала: «Если он болен, я сделаю все возможное, чтобы облегчить его состояние, но если он здоров, я никогда больше не вернусь под его крышу». Накануне отъезда она твердила: «Если когда-нибудь я по глупости соглашусь вернуться к нему, то больше не выйду из его дома живой».
Однако более убедительным является письмо, которое Аннабелла написала своей подруге детства Селине Дойл, которая стала ее доверенным лицом, в тот самый вечер 15 января, когда отправила первое письмо Байрону: «Хотя остаются еще сомнения относительно его будущего поведения, настоящее кажется достаточно ясным после подтверждения доктора Бэйли. Пользоваться болезнью человека жестоко и несправедливо… На основании этого я и принимаю решение. Но если мне сейчас придется сделать решающий шаг, в то время как мои родственники верят в болезнь Байрона, они покинут меня, а если произойдет то, чего они боятся (Августа опасалась, что Байрон совершит самоубийство. – Л.М.), то что я буду чувствовать?
Я желала написать ему и, повинуясь импульсу, составила письмо – всего несколько строк без упоминания о серьезных предметах, потому что никогда не посмею написать о них. Что касается моего мнения насчет причин, то оно совпадает с мнениями других, однако я боюсь принять на себя ответственность, которую долг, а отнюдь не робость, принуждает меня отложить на короткое время».
Августа по-прежнему оставалась верным союзником Аннабеллы. Она намеревалась уехать тут же после Аннабеллы, но Хэнсон и Ле Манн, личный врач леди Байрон, которого она просила осмотреть ее мужа, упросили Августу остаться еще. Она присылала Аннабелле ежедневные отчеты с описанием странного состояния своего брата, усматривая в нем еще одно доказательство его безумия. Она была готова поверить в этот диагноз ради Аннабеллы и, чтобы убедить себя, что ее брат не мог бы вести себя столь жестоко, будь он в нормальном состоянии, утратила свою обычную объективность и усматривала ложный смысл в его обыкновенных несдержанных замечаниях. Августа сообщала, что он держит на камине пистолет и постоянно боится нападения. Он не писал Аннабелле, потому что ему было лень, но просил Августу передать ей, как и Меррею, что «она единственная женщина, с которой я смог прожить полгода».
Аннабелла рассказала родителям о «болезни» Байрона – именно таким словом они с Августой обозначали его предполагаемое безумие, – и они настаивали, чтобы он приехал в Керкби, где за ним будет обеспечен наилучший уход. Неожиданно случилось нечто, изменившее весь ход событий. Что точно произошло, мы не знаем. Малкольм Элвин высказывает предположение, что мать Аннабеллы увидела письмо от Селины Дойл и попросила дать ей прочесть его, и после этого Аннабелла не выдержала и объяснила, что имела в виду Селина, говоря о «вспышках» и «плохом обращении». Возможно, тогда она поняла, как обманывалась, говоря об умственном расстройстве своего мужа. В любом случае очевидно, что Аннабелла рассказала родителям все, что скрывала раньше, относительно поведения Байрона и его диких угрожающих речей, все, кроме подозрений насчет Августы, которые она теперь считала несправедливыми. В первом письме к Августе из Керкби Аннабелла написала: «…мне нужно многое исправить в моем отношении к тебе… Я чувствую, что была несправедлива, а ты всегда относилась ко мне хорошо».
Вначале Аннабелла ощутила облегчение, рассказав все родителям, но потом пожалела об этом. Они не могли простить того, что могла простить она, и они все больше негодовали, заявляя, что дочь никогда не должна возвращаться к негодяю, который дурно с ней обошелся. Они вынудили ее пообещать, что если он окажется здоров, то ничто не заставит ее вернуться к нему. Родители решили, что Аннабелла должна получить юридическую и медицинскую консультацию, и 18 января 1816 года она составила список проступков своего мужа, чтобы мать отвезла его в Лондон. Однако из ее письма к Августе, написанного в тот же день, становится очевидно, что Аннабелла продолжала надеяться на умственное нездоровье Байрона.
Следующие несколько дней в душе Аннабеллы боролись рассудок и слепое чувство к Байрону. Он обладал неотразимым обаянием, которое, дай она себе волю, вновь заставило бы ее вернуться к нему, несмотря на все причиненные страдания. Позднее она писала: «Были минуты, когда решимость уступала место страсти, и я была готова позабыть себя, ребенка, свои принципы и вернуться к человеку, который отверг меня». Наивная Августа присылала ей отчет о всех поступках, словах и недомолвках Байрона, которые считала доказательствами его безумия. 19-го числа Аннабелла написала ей:
«Думаю, он был так доволен моим вторым письмом из-за одной фразы, подтверждающей мою неизменную любовь к нему, а любовь к власти является одной из главных причин его безумия или нрава. Однако мое убеждение в первом теперь все слабеет…»
Составив обвинения против своего мужа, Аннабелла находилась в таком взвинченном состоянии, что чуть не заболела. Она писала Августе: «Я пыталась избавиться от своих мучений, написав обо всем Байрону в письме, которое ты должна внимательно прочесть… Да благословит Господь тебя и его!» Однако Аннабелла не отправила это письмо. На следующий день она написала: «Наверное, я вновь наступлю на те же грабли». И 20-го числа: «…мое присутствие тяготило его с того самого момента, как мы поженились, и даже в хорошем настроении он стремился находиться подальше от меня… Если бы мы продолжали жить вместе, то сошли бы с ума». Далее Аннабелла жалуется: «Поистине я не сделала ничего, что бы противоречило долгу, и все же чувствую себя так, словно должна получить приговор от судьи в черном балахоне…» Это было написано в тот день, когда ее мать уехала в Лондон с документом, который, как опасалась Аннабелла, навсегда решит ее судьбу.
Но именно потому, что Аннабелла всегда повиновалась чувству долга, Байрон с таким облегчением вернулся к холостяцкой жизни, прежде чем неспешно начать избавляться от своего дорогого дома (он уже задолжал полугодовую аренду). Байрон и не подозревал о надвигающейся угрозе. Два нежных письма от Аннабеллы польстили его самолюбию, убедив его, что жена скучает без него, однако он по-прежнему доверял переписку с ней Августе.
Спустя два дня после отъезда жены Байрон ужинал в компании и пил бренди до двух часов утра, несмотря на предупреждения Ле Манна о том, что его печень в плохом состоянии. Байрон сказал Хобхаусу: «Они хотят, чтобы я поехал за город. Я так и сделаю, но не сейчас. Если бы леди Байрон была одна, я бы не колебался, но я не терплю леди Ноэль».
Однако Байрон по-прежнему легко выходил из себя. Когда сэр Джеймс Макинтош сказал, что если Байрон не хочет принимать денег за свои произведения, то может попросить Меррея передавать их более нуждающимся авторам, например Годвину, Кольриджу и Мэтьюрину, Байрон с радостью согласился. Но когда Меррей начал возражать, Байрон с жаром ответил: «Разве вы не давали мне слово, что я могу поступать с вашими деньгами так, как мне заблагорассудится? И какая вам разница, потрачу ли я их на проститутку, оставлю ли в больнице или дам талантливому автору, оказавшемуся в трудном положении?» Байрон забрал свои рукописи, но потом пожалел об этом. Неделю спустя он пришел в себя настолько, чтобы сказать Ли Ханту, который вел переговоры с Мерреем насчет издания «Истории Римини»: «Не сомневаюсь, что он поступит с вами по справедливости, он в целом хороший человек, а его недостатки – просто воздействие его ремесла».
Тем временем леди Ноэль обратилась к сэру Сэмуэлю Ромилли с обвинительным списком своей дочери. Он посоветовал не позволять Байрону ни минуты жить в Керкби и передать дело юристу по гражданским делам. Леди Ноэль обратилась к доктору Стивену Лашингтону, известному юристу Темпля (лондонского общества адвокатов. – Л.М.), который лично заинтересовался делом леди Байрон и стал ее пожизненным консультантом. Чем больше беседовала леди Ноэль с адвокатами, тем сильнее становилось ее негодование. Еще до разговора с Ле Манном она была убеждена, что Байрон не безумец, а просто плохой человек. Когда Августа намекнула, что публичное объявление о разрыве с женой может вынудить ее брата наложить на себя руки, леди Ноэль ответила: «Тем лучше: такие люди не должны жить».
22 января Августа, предпочитавшая верить в «болезнь» Байрона, а не в его «порочность», настолько утратила объективность, что стала видеть признаки сумасшествия во всех поступках брата. «Прошлым вечером он заметил, что хорошо бы Джордж (Байрон, кузен. – Л.М.) уехал жить в Сихэм, как в свой дом. А до ужина он назвал себя «самым великим человеком из всех живущих». Джордж со смехом ответил: «Кроме Бонапарта!» На что Байрон сказал: «Боже, не знаю, что бы я сделал, если бы был им». Меня поразил его дикий взгляд».
Становится очевидно, что Байрон пытался уязвить своего кузена, у которого почти не было чувства юмора, как и у Аннабеллы. Вскоре после этого Джордж обвинил его в жестокости по отношению к жене и намекнул, что ее родители примутся защищать ее. Байрон «прервал его бурными криками негодования и произнес: «Пусть попробуют! Для меня это будет великий момент». Но одно дело – шутливо рассуждать о подобных делах, и совсем другое – столкнуться с суровой реальностью. Подобно своей жене, Байрон страдал раздвоенностью натуры.
Сообщение Ле Манна 20 января о том, что он «не обнаружил признаков безумия», лишило Аннабеллу последней надежды, поскольку она поняла, что теперь они должны расстаться. Леди Ноэль в сопровождении мисс Дойл и миссис Клермонт 28 января прибыла в Керкби с письмом от сэра Ромилли, где предполагалось мирное расставание. Сэр Ральф сделал копию и отослал ее Байрону. В день отправки письма служанка Аннабеллы, миссис Флетчер, заметила, что ее госпожа «очень расстроена и ни на что не реагирует». Августа, опасаясь воздействия письма на своего брата, перехватила его и отослала Аннабелле, умоляя ее еще немного подождать. Сэр Ральф в сопровождении миссис Клермонт направился в Лондон и 2 февраля поручил передать Байрону письмо лично в руки. Была пятница, день, который Байрон считал неблагоприятным для дел. Повинуясь внезапному импульсу и долго не получая вестей от Аннабеллы, он как раз приказал готовить экипаж, чтобы в субботу ехать в Керкби.
Его удивление и волнение при прочтении письма были неподдельными. «Недавно, – читал он, – мне стали известны обстоятельства, которые убеждают меня, что ваше поведение не может обеспечить вам дальнейшей счастливой жизни с леди Байрон, и я еще больше убежден в том, что после ее отъезда из вашего дома и обращения, которому она подверглась, находясь под его крышей, те, на чью защиту она возлагает свои надежды, не могут позволить ей вернуться к вам». Сэр Ральф написал о своем желании вынести дело на общественное обозрение, но чтобы расставание произошло без лишних свидетелей.
Вспомнив их жизнь в Лондоне в последние дни и нежный, шутливый тон писем жены, Байрон не поверил, что она является инициатором разрыва, и попросил Августу поговорить с ней. Сэру Ральфу он ответил искренне и сдержанно: «Леди Байрон не была изгнана мною из дома, как вы можете подумать. Она покинула Лондон по совету врачей… Правда, что до этого я предложил ей временно поселиться с родителями. Основания для этого были очень просты, а именно стесненные обстоятельства и невозможность содержать дом. Все это легко может подтвердить леди Байрон – сама честность».
Байрон заметил, что в прошлом году ему пришлось «бороться с внешними неблагоприятными обстоятельствами и внутренней болезнью», которые «могли сделать меня несколько труднее в общении, чем на самом деле. Однако я не могу припомнить, когда я намеренно дурно обращался с вашей дочерью… По крайней мере, сейчас она моя жена, мать моего ребенка, и пока я не получу от нее подтверждения ваших намерений, то буду считать вас инициатором этого разрыва».
Сэр Ральф, которого Байрон называл «неплохим стариной», мог бы быть убежден этим письмом, если бы не наблюдение адвокатов и особенно миссис Клермонт, которая находилась в «Мивартс-отеле» в Лондоне и передавала всю конфиденциальную информацию в Керкби.
Аннабелла ответила на письмо Августы, подтвердив, что согласилась на предложение своего отца о разрыве с Байроном, и добавила: «Хочу только напомнить лорду Байрону об его искреннем и непреодолимом отвращении к семейной жизни и его желании и решимости с самого начала избавиться от ее уз, которые он считал крайне нетерпимыми…» Видя волнение своего брата, Августа не передала ему письмо Аннабеллы и вновь осторожно обратилась к ней: «Может быть, ты все объяснишь? Постепенно я смирюсь с твоим решением, но серьезно прошу тебя взвесить все возможные последствия… Мне остается только передать свои самые искренние пожелания…»
Аннабелле запретили давать прямой ответ. Когда 5 февраля к Байрону зашел Хобхаус, то нашел его в крайне удрученном состоянии. Он показал Хобхаусу письмо Августы и «торжественно оспорил тот факт, что они с леди Байрон расстались друзьями». Хобхаус предложил написать Аннабелле, и Байрон сочинил следующее послание: «…подумай обо всем, что поставлено на карту: настоящее, будущее и даже прошлое. Мои ошибки, назови их еще более сурово, все тебе известны, но я любил тебя и не хочу расстаться с тобой, не услышав твоего отказа вернуться ко мне».
В Керкби Аннабелла находилась в еще большем отчаянии, чем сам Байрон, после его второго письма. Разрываясь между чувствами и долгом, будучи, однако, неизбежно вынужденной выбрать последнее не только из-за обещания родителям, но и из-за своих моральных принципов, она продолжала испытывать невыносимые страдания, потому что не могла вырвать из сердца любовь, которая становилась все сильнее, как и убеждение Аннабеллы, что она поступает неправильно. Должно быть, именно тогда миссис Флетчер сообщила, что ее хозяйка «в отчаянии и ужасе», что «она бьется в истерике от горя, поскольку дала обещание расстаться с лордом Байроном…».
Однако ответ Аннабеллы был продиктован не родителями, а ее рассудком, который не оставлял ей другого выбора. Она писала, что действовала по своей воле, дав отцу согласие на разрыв, и добавляла: «К несчастью, ты таков, что не ценишь то, что имеешь и что теряешь. Только помни, что, когда я была твоей, ты считал себя самым несчастным человеком». Эти слова могли задеть Байрона за живое, потому что в них была доля истины. И все же он ответил со сдержанной печалью:
«Неужели ты никогда не была счастлива со мной? Разве ты никогда не говорила мне об этом? Неужели между нами не было ни малейших признаков привязанности и самых теплых и нежных чувств? Разве хоть один день прошел без того, чтобы кто-то один из нас или мы оба не выразили их? За эти двадцать дней ты сильно переменилась, иначе ты никогда не смогла бы так сильно отравить свои собственные чувства и растоптать мои».
Для Аннабеллы это было ужасное письмо, ставшее испытанием ее решимости, потому что она узнала в нем ту искренность, которая являлась основной чертой в характере ее мужа. Письмо напомнило ей о счастливейших минутах жизни с ним, которые уже не вернутся никогда из-за ее «принципов» и «неизменной правоты», бывших основными элементами ее характера до того, как она узнала переменчивость Байрона и самой жизни.
9 февраля Байрон сказал Хобхаусу, что жена «сидела у меня на коленях и одаривала меня бесчисленными поцелуями перед миссис Ли, больше, чем я целовал ее. И никогда я не поднимал на нее руку… Все, что произошло, необъяснимо». Но уже 12-го числа Хобхаус «встретил миссис Л. и Джорджа Б. и от них узнал то, чего так опасался: что Б. обвинен в самой жесточайшей тирании, угрозах, вспышках гнева, пренебрежении и даже настоящих оскорблениях, когда он, например, сказал жене, что живет с другой женщиной, и фактически он выгнал жену из дома. Дж. Б. подозревал, что она оставит Байрона, и сказал ему об этом за месяц до трагедии, но когда она уехала из Лондона, то не имела ни малейшего намерения никогда не возвращаться. Он постоянно запирался в доме, грозил пистолетами, раздражался, упрекал ее, делал все то, в чем жена его и обвиняла. Однако они оправдывают его, и как? Говоря, что он сошел с ума… Пока мне об этом рассказывали, появилась миссис Л. и сообщила, что ее брат горько плачет в спальне, бедняга».
Позднее в тот же день Хобхаусу удалось «узнать от него большую часть того, что я услышал утром, он был ужасно взволнован, сказал, что жизнь его кончена и он пустит себе пулю в голову. Он негодует и одновременно испытывает ужас. Порой говорит: «И все же она меня любила» – и тут же прибавляет, что рад избавиться от этой женщины. Сказал, что если я поеду за границу, то он тут же с ней расстанется». Хобхаус в последующие дни стал свидетелем того, как «Байрон поочередно становился жертвой жалости, сожаления, любви и негодования».
В Лондоне появились различные слухи. Хобхаус, верный друг Байрона, который твердо решил «опровергать все то, что будет говорится», сообщил Байрону худшее из того, что ему удалось услышать, и его друг воспринял эти вести, «к моему удивлению, почти спокойно, бедняга». Вероятно, к тому времени чувства Байрона притупились. Однако его спокойствие было временным и наигранным. Он написал последнюю мольбу Аннабелле: «Белл, милая Белл… Мне остается добавить только очень искренне, безнадежно, что я люблю тебя, каким бы я ни был: хороший или плохой, безумный или рационально мыслящий, несчастный или радостный. Я люблю тебя и всегда буду любить, пока еще живы мои память и чувства».
Упоминание о ребенке встревожило Аннабеллу, которая приняла это за намек на то, что он может отнять дочь законным способом. 17 февраля, получив письмо Байрона, Аннабелла написала доктору Лашингтону с просьбой о встрече: «Есть вещи, которые я могу объяснить только в разговоре, необходимом для полного понимания нашего дела». 22 февраля она приехала в Лондон и с глазу на глаз беседовала с адвокатом. Совершенно ясно из слов и писем леди Байрон, что тогда она впервые призналась в своем подозрении насчет кровосмесительной связи, прибавляя слова и описание поступков Байрона, служащих подтверждением этому. Однако первое обвинение, написанное для матери Аннабеллы, содержало описание супружеских измен и жестокости, но в нем не упоминалось об инцест[19].
Лашингтон был уверен, что без свидетельств леди Байрон будет невозможно доказать случай инцеста в суде. Однако он посоветовал добиваться развода, если возможно, через суд, где можно будет возбудить дело, основываясь на «неподобающем поведении и разговорах Байрона». Частично свидетельством в пользу инцеста станут его грубые намеки на связь с миссис Ли, сказанные для того, чтобы причинить боль жене, хотя не будет сделано попыток доказать, что инцест действительно имел место.
Однако Аннабелла во что бы то ни стало стремилась избежать публичных слушаний. По этой причине они с адвокатом старались сделать все возможное, чтобы заставить друзей убедить Байрона согласиться на развод без лишнего шума. Их усилия были удвоены, когда в последнюю неделю февраля появились упорные слухи о Байроне и миссис Ли. Именно тогда доктор Лашингтон и другие адвокаты настояли на том, чтобы Аннабелла прекратила всякую переписку с Августой. Но на это Аннабелла не могла пойти. Ее главной целью для разоблачения подозрений, которые не давали ей покоя, но которые она старалась подавить из-за доброты Августы, было приобрести, так сказать, «орудие» для этого ужасного разоблачения, чтобы вынудить Байрона согласиться на мирный развод и не позволить ему забрать ребенка (Аннабелла считала, что он хочет передать Аду Августе). Но теперь Аннабелла оказалась в сложной и запутанной ситуации. Августа обладала умением справляться с капризами своего брата, чего не могла делать его жена, и продолжала заботиться о нем, веря в его предполагаемую «болезнь», после того как Аннабелла отказалась от супружеских обязанностей. Хотя в душе Аннабеллы давно таилась ревность, она не могла забыть, чем обязана сестре Байрона. Августа защищала ее от дикого, безумного поведения мужа во время ее беременности, и Аннабелла считала, возможно ошибочно, что она обязана ей даже своей жизнью.
Когда Аннабелла наконец убедила адвокатов позволить ей переписываться с Августой, это не указывало на ее слабость, а, наоборот, означало решимость через сестру уговорить Байрона поверить в то, что Аннабелла действует по своей собственной инициативе и не выполняет чужую волю. Она убеждала Августу и Джорджа Байрона, что не вернется к мужу, «даже если отец и мать на коленях будут умолять меня сделать это». На постоянные заявления миссис Ли о том, что она не ручается за жизнь своего брата, если Аннабелла не вернется, непреклонная жена отвечала, что «ничего не может поделать и должна выполнять свой долг».
Неумолимость Аннабеллы лишь раздражала Байрона. Он говорил лорду Холланду, которого Лашингтон просил быть посредником: «Они думают напугать меня применением законных мер. Пусть идут в суд, там им будут рады». Он не хотел принимать отказа Аннабеллы через третье лицо. Байрон просил о встрече с ней, но не нашел понимания, однако продолжал слать ей нежные и трогательные письма, пытаясь пробудить в ее душе воспоминания о счастливых минутах их совместной жизни: «…если бы я не был убежден, что некая необдуманная решимость или, возможно, обещание породили эти горькие плоды, которые мы теперь вкушаем, я бы не стал больше досаждать тебе. Если бы я не любил тебя, если бы не был уверен в твоей любви, я не стал бы выносить то, что уже вынес».
Но Аннабелла, которая, по словам Элвина, «никогда не могла понять настоящего характера Байрона, видя в нем только то, что хотела видеть», продолжала искать в его письмах скрытый смысл и стремление обмануть ее даже в самых искренних мольбах. Она показывала все письма Лашингтону, описывая зловещие намерения Байрона.
Несмотря ни на что, жизнь продолжалась для Байрона, хотя даже его замечательной твердости духа не хватало на то, чтобы принимать участие в тех делах, которые его всегда занимали, – сплетничать у Меррея, обедать у Киннэрда и ходить в театр. Очевидно, по предложению Сотби он отправил нуждающемуся Кольриджу сто фунтов, хотя тот так и не закончил обещанную трагедию для театра «Друри-Лейн».
Событие, напомнившее Байрону одно из самых нежных и в то же время самых циничных романтических увлечений, побудило его обратиться к поэзии. Когда он услышал, что имя леди Фрэнсис Уэбстер скандальным образом связано с именем герцога Веллингтона, то иронично написал об этом происшествии Меррею, но потом его воспоминания о прошлом нашли отражение в стихах:
Помнишь, печалясь,
Склонясь пред судьбой,
Мы расставались надолго с тобой…
Хотя Байрон делал вид, что равнодушен к жестоким слухам, ходившим вокруг него, Хобхаус принял решение о том, что, прежде чем будут подписаны бумаги, означающие развод, он получит от самой леди Байрон обещание отказаться от своих слов. Хобхаус составил список «заявлений, предшествовавших разрыву, в которых леди Байрон отрицает жестокость, постоянное пренебрежение, бесконечные грубые измены, инцест и тому подобное», то есть все те вещи, которые были постоянно на устах у любителей сплетен[20].
Бумага, подписанная адвокатами леди Байрон и ею самой, содержала отрицание того, что ее семья распространяла порочащие Байрона слухи и что «два сообщения, упоминаемые мистером Уилмотом, кузеном Байрона и посредником Аннабеллы, не являются обвинением, которое в случае отказа от развода мирным путем будет использовано против лорда Байрона». Это заявление удовлетворило Байрона и Хобхауса, однако они не заметили, что оно было специально составлено так, чтобы Аннабелла не была вынуждена отрицать состав предъявленных обвинений, а лишь обязалась не сообщать о них в суде, и то только потому, что Лашингтон не верил в возможность их доказательства.
Аннабелла продолжала придерживаться своих «несгибаемых принципов», но происшедшее сломило ее. Мать писала ей: «Я не сомневаюсь, что ты сильно переживаешь, но иногда мне кажется, что твой ум слишком изощрен и не создан для этого мира, тебя занимают только высокие материи, а твой характер подобен твердой стали и не подходит для обыденной жизни. Мне бы так хотелось, чтобы ты стала чуть ближе к нам, обычным людям…» Это был единственный вопрос, по которому Байрон соглашался со своей тещей!
Августа также находилась на грани нервного срыва. Она хотела покинуть дом на Пикадилли-Террас, не обидев Байрона и не дав сплетникам пищу для размышлений, потому что жила в Лондоне только для того, чтобы заботиться о своем брате и сообщать о его самочувствии и настроении Аннабелле в надежде на их примирение. 16 марта она переехала в свои комнаты во дворце Сент-Джеймс, где ее друзья, близкие к королеве, предоставили в ее распоряжение придворную даму.
В течение нескольких дней настроение Байрона резко менялось, но 17 марта обе стороны пришли к согласию на законный развод, а 22-го Хобхаус нашел его «в приподнятом настроении от мысли о скорой поездке за границу». Байрона охватило беззаботное настроение. В эти суматошные мартовские дни он получил письмо, написанное женской рукой, которое вызвало его живейший интерес. Письмо было не похоже на другие, присланные сентиментальной Элизой или дюжинами других женщин, которые облекали самые циничные предложения в формы, принятые этикетом. Девушка, написавшая письмо, утверждала, что ее мировоззрение сложилось под влиянием поэзии Байрона, и задавала ему прямой вопрос:
«Если женщина, чья репутация всегда была незапятнанной и за которой не следит ни опекун, ни муж, отдастся на вашу милость, если с бьющимся сердцем признается в любви, которую испытывает уже много лет, сможете ли вы предать ее или останетесь безмолвны как могила?»
После второго письма ей удалось добиться согласия «быть принятой наедине и с чрезвычайной секретностью». Девушке не было еще и восемнадцати лет. У нее была внешность южанки, а неприметное лицо скрашивали молодость и острый ум, сверкавший в ее карих глазах. Девушку звали Мэри Джейн Клермонт. Друзья и родственники называли ее Джейн, чтобы отличить от сводной сестры Мэри Годвин, но сама она предпочитала имя Клара или Клер.
Она обладала смелыми взглядами на любовь, брак и права женщин. Их она впитала в доме философа Уильяма Годвина, который женился на ее матери после смерти своей первой жены, Мэри Уоллстонкрафт, автора работы «Защита прав женщин». В 1814 году Клер сопровождала Перси Шелли и Мэри Годвин во время их побега, когда их путь лежал через Францию и Швейцарию. В Англии она жила с ними, пользуясь щедростью Шелли. Привязанность Клер к Шелли вызывала ревность Мэри, несмотря на ее свободолюбивые идеи, и заставляла ее мечтать о разрыве этого треугольника. Возможно, Клер хотела доказать Мэри, что она тоже может привлечь известного поэта, даже более известного, чем Шелли, что и вынудило ее посетить самого знаменитого светского льва Лондона в его апартаментах, а также то, что этот апостол свободы и художник бурных страстей уже давно был ее кумиром.
Байрон выслушал ее историю, однако Клер не была ослепительной красавицей, и ему в то время досаждали другие неприятности. Она думала заинтересовать его рассказом о своей любви к театру, но в ответ он направил ее к Киннэрду. Она написала «половину романа» и хотела узнать его мнение. Клер пыталась завоевать симпатии Байрона, негативно отзываясь об институте брака, причине теперешнего горя лорда: «Я не могу бороться с искушением, проходя мимо, бросить в него камень». Удача улыбнулась ей, когда она похвасталась своим знакомством с Годвин и блестящим Шелли, который в 1813 году прислал Байрону экземпляр своей «Королевы Маб».
Девушка оказалась занимательнее многих писательниц, осаждавших Байрона. Кроме того, в нем были прирожденные доброта и мягкость, которые почувствовала и Клер. Как-то он сказал леди Мельбурн: «Я мог бы полюбить что угодно на земле, если бы это нечто пожелало моей любви». Он знал, что с Клер будут проблемы, но скоро собирался уезжать из Англии. Клер воспользовалась возможностью. Вскоре она уже заходила к нему так часто, как он позволял. А когда Байрон не мог увидеться с ней, то предложил ей с Шелли свою ложу в театре, но она написала, что Шелли не выносит театр.
Другие дела требовали внимания Байрона. Вскоре после подписания предварительного согласия на развод он посвятил жене стихи, в которых излил все свое сожаление и обиду:
Прости! И если так судьбою
Нам суждено – навек прости!
Пусть ты безжалостна – с тобою
Вражды мне сердца не снести.
Не может быть, чтоб повстречала
Ты непреклонность чувства в том,
На чьей груди ты засыпала
Невозвратимо-сладким сном!
Когда б ты в ней насквозь узрела
Все чувства сердца моего,
Тогда бы, верно, пожалела,
Что столько презрела его.
Пусть свет улыбкой одобряет
Теперь удар жестокий твой:
Тебя хвалой он обижает,
Чужою купленной бедой.
Пускай я, очернен виною,
Себя дал право обвинять,
Но для чего ж убит рукою,
Меня привыкшей обнимать?
И верь, о верь! Пыл страсти нежной
Лишь годы могут охлаждать;
Но вдруг не в силах гнев мятежный
От сердца сердце оторвать.
Твое то ж чувство сохраняет;
Удел же мой – страдать, любить,
И мысль бессменная терзает,
Что мы не будем вместе жить.
И в час, как нашу дочь ласкаешь,
Любуясь лепетом речей,
Как об отце ей намекаешь?
Ее отец в разлуке с ней.
Байрон отослал копию этого стихотворения Аннабелле, но ответом ему было душераздирающее молчание. Затем она без всякого объяснения прислала ему письма, подтверждающие, что Байрон всегда говорил о ней только хорошее, и этим привела его в ярость. Гнев нашел выход в «Зарисовке из частной жизни», направленной против миссис Клермонт, которая, по его мнению, больше всех влияла на его жену и являлась причиной ее безжалостного поведения. Это было самое горькое стихотворение Байрона:
Родясь на чердаке, на кухне взращена
И к барыне взята – служить при туалете,
При помощи услуг, державшихся в секрете,
Оплаченных ценой неведомой,
Она к господскому столу допущена оттуда,
К соблазну прочих слуг,
Ей подающих блюдо.
Меррей, которого Байрон опрометчиво попросил напечатать пятьдесят экземпляров для друзей, показал оба стихотворения Каролине Лэм, которая, по всей видимости, вела двойную игру. Услышав о разрыве с женой, она написала Байрону письмо с предложением лгать его супруге, чтобы та не узнала о его страшных грехах того, что знала только Каролина: «…нет ничего даже самого гнусного, что бы я не сделала ради тебя. Пожалуйста, не верь тем, кто говорит, что она все знает. Будь тверд, будь непреклонен… Что бы ни случилось, настаивай на встрече с ней, и у нее не хватит мужества предать тебя, а если хватит, значит, она сам дьявол…»
Когда Байрон, подозревая, что именно Каролина распространяла слухи, не ответил ей, она решила отомстить, объединившись с другой стороной. Она послала несколько писем леди Байрон, намекая на страшные тайны, известные только ей, и умоляя о встрече: «Я расскажу вам нечто такое, что, как только вы упомянете перед ним об этом, он задрожит от ужаса…» Каролина воспользовалась слухом о том, что Байрон собирается отнять ребенка. «Только вы одна из всех людей, близких с ним, будете знать тайну, открыть которую вас может заставить лишь отчаяние».
Хотя леди Байрон не доверяла Каролине и презирала ее, но все же поддалась на эту уловку, потому что именно таким способом хотела воздействовать на своего супруга, оказавшегося глухим к обычным предупреждениям. Встреча произошла 27 марта в доме миссис Джордж Лэм, и Аннабелла начала сдержанный разговор с Каролиной. Та выглядела чрезвычайно взволнованной. Она предоставила Аннабелле судить о своих поступках. Она дала «торжественное обещание не раскрывать этих тайн, ее удерживали лишь его заверения не повторять подобных ужасных преступлений». Эти слова были рассчитаны на несгибаемые принципы леди Байрон, поскольку Каролине не терпелось раскрыть ей тайну, о которой она уже поведала Меррею и, возможно, другим. Аннабелла с легкостью нашла этому разумное объяснение: «Я сказала, что она нарушает свое обещание потому, что он нарушил свое, и что теперь она может все исправить, поведав мне о страшной тайне, если она и в самом деле таковой является, чтобы помочь мне сохранить моего ребенка. По моему мнению, ни на земле, ни на небе не будет ей прощения, если она останется безучастной». Естественно, ни Каролина, ни Аннабелла не знали точно, действительно ли Байрон нарушил свое предполагаемое обещание, а последняя еще не подозревала о том, в каких преступлениях его обвиняют.
Наконец Каролина призналась: «С того времени, как миссис Л. в 1813 году приехала на Беннет-стрит, лорд Байрон рассказывал мне о преступной связи между ними», сначала намеками, а потом совершенно открыто, даже хвастаясь, как легко досталась ему победа. Каролина поведала, что Байрон рассказывал ей о еще «более страшных преступлениях»: «…он признался, что с юности был подвержен противоестественному влечению и что Раштон был одним из тех, кого он совратил… Он также упомянул имена еще трех товарищей по школе».
Аннабелла отправила доктору Лашингтону отчет о разговоре с Каролиной. «К. Л. не верила, что Байрон в Англии предавался этим порокам, хотя давал себе волю в Турции. Эти поступки так ужасали его, что он несколько раз, вспоминая о них, бледнел и чуть не терял сознание».
Теперь у Аннабеллы было оправдание своему непреклонному поведению. Она написала доктору Лашингтону: «Итогом моего утреннего разговора явилось то, что я изменила свое мнение относительно первого и второго пунктов своего обвинения: вместо предположений у меня появилась абсолютная уверенность». Ей было приятно услышать от адвоката сердечное поздравление с «вашим избавлением от дальнейшей необходимости общения с этим источником порока». Аннабелла знала, что, если удастся доказать обвинения в суде, у Байрона не останется никаких шансов.
В начале апреля Байрон вел напряженную жизнь, посещал друзей, пытался уладить свои финансовые дела и с головой погружался в развлечения, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. 8 апреля его книги были проданы на публичном аукционе. Там присутствовал Хобхаус, который купил книг на 34 фунта. Меррей также приобрел несколько для миссис Ли и Роджерса, а также ширму с портретами актеров и боксеров-профессионалов, которая по-прежнему находится в доме Байрона на Элбемарл-стрит, 50. Всего было продано книг на сумму 723 фунта 12 шиллингов б пенсов.
В тот вечер Хобхаус сопровождал Байрона в дом леди Джерси, где их представили Бенжамену Констану. Августа тоже была там, и ей пришлось вынести колкие замечания некоторых гостей, включая миссис Джордж Лэм, а сам Байрон ощутил презрение дам, которые прежде стремились к общению с ним. Некоторые мужчины также избегали его. Только леди Джерси и мисс Мерсер Элфинстоун были добры к нему, и он никогда не забывал об этом. Мисс Элфинстоун, которая в 1812 году заигрывала с ним, была теперь богатой наследницей, вполне независимой для того, чтобы с презрением тряхнуть головой с рыжими кудрями на общественное мнение. По словам некоторых гостей, она «кивнула ему, как давнему знакомому, и сказала: «Вам следовало жениться на мне, тогда бы этого не случилось!»
Байрон вновь вспылил, узнав, что Аннабелла прекратила переписку с Августой и отправила письмо через своего адвоката. 14 апреля Августа вернулась из Сент-Джеймского дворца, где жила весь последний месяц, чтобы проститься с братом. Она не покинула его, хотя была опять беременна и понимала, что нужна своей семье. Ее беременность уже была заметна, и вокруг опять поползли зловещие слухи, и Аннабелла окончательно порвала с ней. На следующий день Августа должна была вернуться в Сикс-Майл-Боттом. Трогательное прощание пробудило самые искренние чувства Байрона. Он посвятил Августе благодарные стихи, свои «Стансы к Августе». Другие могли считать ее слабой, но Байрон знал твердый характер своей сестры. Позднее он говорил леди Блессингтон: «Августа знала о всех моих слабостях, но любила меня настолько, чтобы мириться с ними… Она давала мне такие хорошие советы, но, поняв, что я не способен следовать им, любила и жалела меня еще больше, именно потому, что я ошибался». Раскаяние в причиненном Августе горе ошеломило Байрона. Она подарила ему маленькую Библию, которую он всегда носил с собой. Предчувствие не обмануло Байрона: в то пасхальное воскресенье они расстались навсегда.
К удивлению и недовольству Байрона, Меррей показал его «Стансы к Августе» Каролине Лэм, которая написала ему истеричное и лицемерное письмо: «…ты навлечешь беду на свою голову и на ее, если опубликуешь эти стихи. Ты обвинял меня, но несправедливо, и, если бы ты знал все, о чем сейчас говорят, ты бы поверил той, которая могла бы умереть, чтобы спасти тебя». Прочитав стихотворение Байрона, посвященное Аннабелле, Каролина написала Меррею, что Байрон «несчастный ничтожный лицемер, низкий трус и бессердечный человек». Однако в другом письме, написанном до или после этого, она заявляла: «…не сердитесь на него, несмотря на его проступки. Давайте отдадим дань уважения Гяуру, который по-прежнему остается ангелом, хотя скоро и станет падшим. Обещайте, поклянитесь мне, что останетесь верны ему…» Бедная Каролина была на грани безумия, что вскоре и свершилось.
Байрон написал последнее письмо Аннабелле: «Я только что расстался с Августой, практически последним существом, с которым мне довелось расстаться, и единственной нитью, привязывающей меня к жизни. Куда бы ни пролег мой путь, я еду далеко, и мы с тобой можем никогда не встретиться ни в этой жизни, ни в той. Поэтому давай простимся навсегда. Если со мной что-нибудь случится, будь с ней добра…» Аннабелла не ответила. Раньше такое письмо могло ее растрогать, теперь же она еще раз убедилась в своей правоте. Она безмятежно написала своей матери: «Общественное мнение обратилось против лорда Б. после вчерашней публикации его стихов в «Чемпионе», к которым были добавлены строчки, разоблачающие лицемерие автора, – они произвели потрясающий эффект».
Приготовления Байрона для отъезда за границу начались в марте. Он нанял личного врача, молодого Джона Уильяма Полидори[21]. Для путешествия заказали огромный экипаж, копию захваченного Наполеоном в Геннепе. Он был сконструирован Бэкстером за 500 фунтов. По словам Прайса Гордона, «кроме сидений, в карете были библиотека, ящик для вещей и стол со столовыми приборами».
Новая настойчивая знакомая Байрона, Клер Клермонт, не могла не повидаться с ним в последние дни перед отъездом. Чтобы вызвать его интерес, она привела с собой одаренную дочь Годвина, Мэри. Клер уже предложила Байрону встретить его в Женеве, что привело его в ужас, но потом стала подумывать о том, как бы уговорить поехать чету Шелли. Мэри, ничего не знавшая об увлечении Клер, была очарована Байроном. Клер сообщила: «Мэри в восторге от вас, как я и предполагала, она умоляет меня узнать ваш адрес за границей, чтобы, если возможно, иметь удовольствие вновь увидеть вас. Она постоянно восклицает: «Какой он скромный! Какой добрый! Я его совсем не таким представляла».
Байрон искал забытья, но, к своему смущению, нашел любовь, нежеланную и тягостную. Хотя он понимал, что его снисходительность лишь поощряет бедную девушку, он не мог заставить себя быть грубым с ней. Клер готовилась предъявить свой последний козырь. Это была последняя неделя Байрона в Англии. Она должна действовать быстро, если хочет удержать его. Клер смело написала: «Я не надеюсь на вашу любовь, я недостойна ее. Вы лучше меня, но все же, к своему счастью и удивлению, я поняла, что страсти, которые вы считали угасшими, по-прежнему живут в вашем сердце. Будете ли вы возражать против следующего плана? В четверг вечером мы уедем из города на десять или двенадцать миль на почтовом поезде или в карете. Там мы будем свободны и не известны никому и сможем вернуться на следующее утро… Я всегда буду помнить вашу доброту и оригинальность вашего мышления».
Неизвестно, ездили они за город или нет, но Байрон повидал Клер и нашел забвение в ее объятиях, к своему дальнейшему сожалению. Его лучшие чувства восставали против этой связи, но он был настолько слаб, чтобы согласиться «любить что угодно на земле, если только оно этого пожелает».
21 апреля Байрон окончательно расстался с ней со словами: «Случившееся было доказательством доброй воли мисс Клермонт». На следующий день его последние приготовления были прерваны приходом множества друзей, желающих попрощаться. Однако Байрон успел написать записку Августе: «Моя милая сестра, документы подписаны… Я мечтаю и молю лишь об одном: чтобы ты больше никогда, ни при каких обстоятельствах не упоминала имени леди Байрон, только лишь по вынужденному делу».
Несмотря не нелюбовь Байрона рано вставать по утрам, 23 апреля в ранний час в большом доме на Пикадилли-Террас шли последние сборы. Нужно было уехать до прихода судебных приставов. Кроме доктора Полидори, Байрон взял с собой троих слуг: швейцарца по имени Бергер, Уильяма Флетчера и Роберта Раштона, который некогда сопровождал его за границу до Гибралтара. Хобхаус и Скроуп Дэвис должны были проститься с ним в Дувре. Они приехали в восемь вечера и отправили вперед экипаж, опасаясь, что судебные приставы захватят его. На следующий день дул встречный ветер, поэтому плавание пришлось отложить, и они скоротали время, сходив на могилу Чарльза Черчилля, сатирика XVIII века и друга республиканца Уилкса. Хобхаус вспоминал: «Байрон лежал на его могиле и дал кладбищенскому сторожу крону, чтобы он насыпал на нее свежей земли».
Появились вести, что в Дувре находится прославленный лорд Байрон, и доктор Лашингтон позднее сообщил леди Байрон: «Любопытство было так велико, что многие леди нарядились служанками, чтобы поближе посмотреть на него, пока он был на постоялом дворе…»
На следующее утро ветер переменился, и капитан был готов к отплытию, но Байрон не желал рано вставать. Хобхаус записал: «Однако вскоре появился лорд Байрон и, взяв меня под руку, направился к набережной». Они прошли сквозь толпу зевак. «Суета радовала Байрона, но он выглядел расстроенным, когда корабль отошел от причала. Я побежал к краю деревянного пирса. Мой милый друг снял шляпу и махал мне. Я глядел, пока он не скрылся из виду. Да благословит его Бог за доброту и искренность…»
Байрон был взволнован и удручен расставанием. Но, как он говорил Муру, любое волнение всегда находило отклик в его чувствах, и его впечатления и воспоминания становились ярче и отзывались стихами. Море, ветер и летящий по волнам корабль пробудили былую меланхолию, испытанную им, когда он в последний раз отплывал от берегов Англии в 1809 году. Байрон снова был Чайльд Гарольдом, только повзрослевшим и изменившимся.
Кто жизнь в ее деяниях постиг,
Кем долгий срок в земной юдоли прожит,
Кто ждать чудес и верить в них отвык…
Байрон понимал, что это конец целой эпохи в его жизни, но еще не сознавал, каково будет начало его «взрослой» литературной карьеры. Навсегда покинув Англию, он погрузился в атмосферу свободы и самовыражения, которая на родине ограничивалась жесткими рамками условностей, наложенных на него годами славы. Свобода духа вновь проснулась в Байроне, когда он направлялся к теплым южным странам. Хотя он и планировал остановиться в Женеве и ждать Хобхауса, но его целью была Венеция, «зеленый остров» его воображения. А конечным пунктом путешествия должно было стать восточное побережье Средиземного моря. В письме от 1820 года из Равенны он заметил: «Я намеревался отправиться в Турцию и, думаю, еще не отказался от своего намерения…»
В Остенде Байрон ощутил полную свободу от британских условностей. На постоялом дворе Полидори нескромно записал: «Едва войдя в комнату, лорд Байрон как гром с неба обрушился на служанку». Они отправились в путь на следующий день в громыхающем наполеоновском экипаже, запряженном четверкой лошадей, и с форейтором. В Антверпене Байрон любовался знаменитыми портовыми бассейнами, построенными для флота Бонапарта, больше, чем картинами. Особенно он критиковал самого любимого художника фламандской школы. «Что касается Рубенса, – говорил он Хобхаусу, – то он кажется мне самым грубым, безвкусным, кричащим, бесстыдным самозванцем, который когда-либо измывался над чувствами человечества».
В Брюсселе Байрон встретил Прайса Локхарта Гордона, шотландского друга его матери. Больше чем соборы и музеи, Байрон мечтал увидеть поле Ватерлоо, и Гордон стал его «чичероне». По словам Гордона, глядя на поле боя, поэт «был молчалив, задумчив и спокоен». Перед отъездом он с Полидори взял лошадей и объехал галопом все поле, вероятно воображая себя лихим кавалеристом. По словам Полидори, Байрон распевал «турецкие или арнаутские песни».
Вечером в доме Гордонов Байрон был в хорошем настроении и очаровывал гостей забавными рассказами о своих восточных путешествиях. Он согласился написать стихи для альбома миссис Гордон, в который Вальтер Скотт уже вписал несколько строк о Ватерлоо. На следующий день Байрон вернулся с двумя строчками: «Ты топчешь прах империи, – смотри!», которые впоследствии вошли в третью песню «Чайльд Гарольда». В это же время он стал записывать мысли, преследующие его со дня отъезда из Англии, потому что только таким образом мог избежать сокрушительного ощущения несовершенства бытия:
Чтоб в слове жить, над смертью торжествуя, —
Таким увидеть я хочу мой стих.
Пусть я ничтожен – на крылах твоих я воспарю,
О мысль, твоим рожденьем ослепленный…
Поездка вызвала воспоминания о мечтаниях юности, которые он связывал с дикой природой, стихией, свободой земли и неба:
Среди пустынных гор его друзья,
Средь волн морских его страна родная…
Стоя среди «могил ужасного Ватерлоо» и ощутив бренность власти и славы, Байрон доверил свои чувства бумаге в отеле «Англетер». Для него Ватерлоо олицетворяло не победу, а печальное поражение, потому что Европа по-прежнему была в кандалах, а тирания стала еще более могущественной, чем прежде. Однако подвиги отдельных героев остались в людской памяти. Драматический контраст между веселым балом в доме герцогини Ричмонд в Брюсселе накануне битвы и смертью и разрушением открывают эпизоды «Чайльд Гарольда», посвященные Ватерлоо.
Что до Наполеона, то Байрон долго был «ослеплен и поражен его личностью и славой». Теперь он больше обычного ощущал в себе сходство с основными чертами характера императора. Написав эти строки, Байрон думал о себе:
Любовь безумье страсти в нем зажгла, —
Так дуб стрела сжигает громовая.
Он ею был испепелен дотла,
Он не умел любить, не погибая.
6 мая Байрон и его спутники отправились в экипаже к Рейну.
8 то время как Байрон пытался забыть Англию, ни друзья, ни враги на родине не забыли его. Хобхаус, Дэвис и Киннэрд пытались подавить безобразные сплетни, циркулировавшие в Лондоне, которые распространяли, по всей видимости, те, кто видел или слышал о показаниях леди Байрон доктору Лашингтону. По меньшей мере четыре женщины жили с незабываемыми воспоминаниями об этом красивом лице и неотразимом темпераменте.
9 мая Генри Колбурн опубликовал роман Каролины Лэм «Гленарвон», плохо скрытую сатиру на семейства Холланд и Девоншир, перемежающуюся романтическими описаниями похождений ее и Байрона, написанными в готическом духе. На следующий день Хобхаус записал: «Герой «Гленарвон» – настоящее чудовище, и, очевидно, под ним подразумевается Б. Я зашел к этой мерзавке, и она спросила, причинила ли ее книга вред… Она показала мне непристойные изображения Б.», Каролина использовала в своей книге одно из писем Байрона в слегка измененном виде, и, когда Хобхаус намекнул, что может опубликовать ее письма, она пригрозила, что в свет выйдут все послания Байрона и ее дневник с описанием их отношений. Однако даже в романе Каролина изобразила Байрона не таким уж чудовищем. Хотя она приписывала своему герою убийство, похищение и несколько совращений, но под ее пером он стал романтическим героем, притягательно меланхоличным, чей гений и обаяние так впечатляли ее в реальной жизни.
В то время как Каролина Лэм выставляла себя в невыгодном свете, другая женщина, чьи мысли постоянно возвращались к Байрону, спокойно вернулась в Керкби-Мэллори в графстве Лестершир. Однако Аннабелла вернулась не для того, чтобы, говоря словами Роджерса, «разбить свое сердце». Она уже планировала возобновление переписки с Августой насчет новых предметов (она прервала все отношения с сестрой Байрона в начале апреля). Размышляя над последними словами и поступками Байрона и его сестры, Аннабелла пришла к несомненному выводу о преступной связи между ними. Теперь у нее были две цели: окончательно установить истину, заставив Августу признаться, чтобы узнать, действительно ли их отношения продолжались после свадьбы, и, во-вторых, уговорить или напугать Августу, чтобы она больше не возобновляла связи с братом, и полностью вырвать из ее сердца чувство к нему.
Ревность, в которой Аннабелла из принципа не хотела признаваться, заставляла ее с садистской жестокостью пытаться уничтожить грех. Религиозно-наставительный тон ее писем, смешанный с выражениями любви к Августе и беспокойством о ее нравственном здоровье, не может скрыть грубых нападок на импульсивную, любящую и наивную женщину. Не много найдется примеров жестокости, таящихся под маской заботы, и намеренного подрыва душевного равновесия человека, таких, как атака на Августу леди Байрон и миссис Вильерс, близкой подруги Августы в период после разрыва Аннабеллы с мужем.
В то время как мстительная добродетель готовилась к нападению, Августа родила сына, прекратила всякие сношения с Аннабеллой и, чувствуя одиночество после отъезда брата, обратилась к Хобхаусу, который вскоре собирался за границу и мог доставить ей весточку. Она благодарила его за стихи Байрона, которые он ей прислал, возможно, за «Стансы к Августе». «Мне они кажутся прекрасными, – просто писала она, – и не стоит и говорить, как они дороги мне, которая так любит милого Б.».
Еще одна темноглазая девушка выражала крайний интерес к поездке Байрона и надеялась добраться до Женевы прежде него. Клер Клермонт выехала из Дувра с Перси Шелли и Мэри Годвин 3 мая и написала Байрону из Парижа: «Я приняла имя мадам Клервилль, потому что вы сказали, что вам нравится имя Клер, но вы терпеть не можете окончание «Монт» из-за той ужасной женщины. И я предпочитаю быть замужней женщиной, потому что это отчасти так (намек на то, что она уже знала или подозревала о том, что беременна от Байрона. – Л.М.), к тому же за границей мадам может делать все, что ей заблагорассудится… Не знаю, как обращаться к вам: не могу называть вас другом, потому что, несмотря на мою любовь к вам, вы совсем не обращаете на меня внимания…»
Тем временем Байрон неторопливо путешествовал по берегу Рейна. В Колоне он посетил собор и церковь Святой Урсулы, где, согласно легенде, были похоронены кости одиннадцати тысяч девственниц. Эта легенда всегда интересовала его, и в «Дон Жуане» он вновь обратился к ней:
Одиннадцати тысяч дев блаженных
И потому, наверное, нетленных.
Путешествуя по западному берегу Рейна, Байрон был очарован открывшимся пейзажем. «Зубчатые скалы» были бы ему «вдвойне милее», если бы их видела Августа. В Базеле уже была Швейцария. Моратское поле, где в XV веке швейцарцы разбили бургундцев, дало Байрону материал для новых строк «Чайльд Гарольда». Как и другие проезжие, он взял на память несколько костей, которые «могли бы составить четверть героя», угрюмо хвастался он.
Путешественники добрались до Женевского озера. Байрон был околдован: «Озеро Леман обратило ко мне свое хрустальное чело». Уже ночью они подъехали к отелю «Англетер» на дороге, ведущей в Женеву, в миле от города. Усталый и раздраженный необходимостью формальной записи, Байрон в графе «Возраст» написал: «100 лет». Клер, взволнованно следившая за ним и знавшая теперь, что ждет ребенка от самого знаменитого поэта в Англии, увидела журнал регистрации и написала шутливые строки: «Жаль, что ты так состарился, хотя на самом деле я думала, что тебе двести лет, судя по нашему медленному продвижению… Да пошлет тебе Господь сладкий сон – я так счастлива».
Однако Байрон не спешил возобновлять отношения с этой назойливой девушкой. На следующий день он двинулся в Женеву в поисках дома на лето. Его направили на виллу Диодати в деревне Колонь, в двух милях к югу от Женевы, на противоположном берегу от их гостиницы. Вилла стояла примерно в двухстах ярдах от озера на холме, откуда открывался прелестный вид на синие воды, город по левую руку и горы Юра, возвышающиеся вдалеке. Вилла принадлежала Эдуарду Диодати, потомку Чарльза Диодати, который был другом Джона Мильтона. Однако она оказалась меньше и дороже, чем надеялся Байрон. Он решил поискать еще.
Клер написала ему два жалобных и нежных письма, на которые Байрон, судя по всему, не ответил. На следующий день, когда он с Полидори вылез из лодки после охоты, их ожидали Клер, Мэри и Шелли. Когда два поэта встретились на берегу Женевского озера, завязалась дружба, ставшая самой знаменитой в истории литературы.
Шелли было тогда лишь двадцать три года, и он был автором поэмы «Королева Маб».
Шелли, как и Байрон, стеснялся незнакомых людей. Однако их застенчивость тут же исчезла, стоило им заговорить об известных вещах. Начиная с того дня Байрон все больше времени проводил с семьей Шелли. Их дружба окрепла, и Байрон привык к обществу обеих женщин. Ни Мэри, ни Шелли еще не знали о близости Байрона с Клер, и Байрон не спешил об этом говорить. Они вместе обедали и катались на лодке. Байрон рассказывал им о знаменитых писателях, которых встречал в Лондоне.
Мэри, очарованная Байроном с их первой встречи в Лондоне, позднее вспоминала об их ночных поездках по озеру: «Волны были высоки и прохладны… «Я спою вам албанскую песню! – вскричал лорд Байрон. – Настройтесь на грустный лад и внимательно слушайте». Это был странный дикий вой, но он объяснил, что это точная имитация дикой албанской мелодии, и рассмеялся нашему разочарованию…»
В один из таких вечеров появились новые строки «Чайльд Гарольда», на которые Байрона натолкнули небо, вода и беседы с Шелли. Очарованный красноречием Шелли, он поддался вордсвортскому пантеистическому мировоззрению. Только Шелли удалось показать всю прелесть теории Вордсворта, который тоже хотел «разорвать ледяные узы бытия». Однако Байрон всегда возвращался к ощутимой реальности, куда бы ни завела его фантазия. Позднее он говорил Медвину: «В Швейцарии Шелли усыплял меня теориями Вордсворта, но помню, потом я читал его произведения с удовольствием».
В начале июня семья Шелли поселилась в маленьком двухэтажном доме в Монталегре, у подножия холма Колони, неподалеку от озера. Вскоре после этого Байрон переехал на виллу Диодати всего в нескольких ярдах от Шелли. С нетерпением ожидая поездок по озеру, они купили за 25 луидоров лодку с килем. Она стояла в маленькой гавани недалеко от дома Шелли.
Байрон был доволен своим новым жилищем. Маленькая вилла представляла собой квадратное двухэтажное строение из серого камня с кирпичной кладкой и железными перилами, окружавшими балкон. В доме были огромная гостиная, окна которой выходили на переднюю и боковые галереи. Она была обставлена в простом и элегантном стиле XVIII века, и в дождливые ночи ее согревал огонь камина. Байрон, который с детства, когда бродил под полуразрушенными сводами Ньюстеда, любил простор, никогда еще не жил в доме, с балкона которого открывался бы более живописный вид.
Байрону было внове общаться с симпатичными ему людьми, не сдерживаемыми рамками условностей, начитанными и образованными, отзывчивыми, готовыми обсуждать любой вопрос со вдумчивым интересом. Когда стояла хорошая погода, Байрон и чета Шелли тихими вечерами шли к озеру; в ненастье собирались перед камином на вилле Диодати и беседовали о разных предметах, начиная с поэзии и заканчивая привидениями.
Единственной неприятностью было тщеславие и взбалмошность молодого доктора Полидори, который как-то раз вызвал Шелли на дуэль. Шелли только рассмеялся, но Байрон предупредил доктора, что, хотя Шелли не признает дуэлей, этого нельзя сказать о нем, и он с радостью примет вызов. Чтобы дать выход своему раздражению по поводу «вечных глупостей» доктора, Байрон отпускал на его счет колкие замечания, вроде того, что «доктор как раз тот человек, которому, если он вдруг упадет за борт, тут же бросят соломинку, чтобы проверить правдивость поговорки, действительно ли утопающий хватается за соломинку».
Байрон чувствовал себя неловко в присутствии Клер, к которой боялся лишний раз обратиться, опасаясь, что она воспользуется этим. Тем не менее она вынудила его возобновить отношения, хотя не могла приходить на виллу Диодати так часто, как ей того хотелось, частично потому, что ей мешал эгоистичный доктор Полидори. Байрон признавался, что его сердце всегда ищет пристанища. Позднее он оправдывался перед Августой: «Я не был влюблен, у меня не осталось чувств ни для одной женщины, но я не мог вести себя стоически с женщиной, которая проехала 800 миль, чтобы оказаться рядом со мной, кроме того, последнее время я столкнулся, увы, со столькими случаями презрения, что мечтал о любви, чтобы развеяться».
Как ни таились Байрон и Клер, вскоре появились слухи. Позднее Байрон говорил Медвину: «Я никогда еще не жил такой высоконравственной жизнью, как в этой стране, но это не принесло мне пользы. Нет ни одной истории, подобной той чепухе, которую выдумали про меня. За мной наблюдали с противоположного берега в бинокль, у которого, по всей видимости, были искаженные стекла». Подобное отношение к себе Байрон приписал тому, что мало общался с женевцами. Англичане, летом толпами приезжавшие в город, слышали множество странных историй, например о том, что печально известный лорд Байрон жил с «миссис Шелли, женой содержателя кофейни».
Байрон вел спартанскую жизнь, потому что очень поправился после бурного времяпровождения в Англии. Мур, несомненно основываясь на воспоминаниях Мэри Шелли, говорил: «Его диета была основана на почти полном отказе от пищи. Тонкий ломтик хлеба с чаем на завтрак, легкий овощной обед с бутылкой или двумя сельтерской воды, разбавленной вином, а вечером чашка зеленого чая без молока и сахара. Чувство голода он подавлял жеванием табака и сигарами». Полидори заметил, что «Байрон отправлялся отдыхать в три часа, вставал в два и проводил много времени за своим туалетом; никогда не ложился без пары пистолетов и кинжала и не притрагивался к скоромной пище». Обычно Байрон ел один, чтобы никто не знал о его диете.
В один из вечеров на вилле после обсуждения темы привидений, сверхъестественного и прочей мистики Байрон предложил написать фантастические истории. Он сам начал писать еще среди развалин Эфеса, но вскоре бросил; позднее Полидори подхватил эту мысль и на основе неоконченной повести написал свое анонимное произведение «Вампир», намекнув, что идея принадлежала Байрону, чтобы книгу лучше раскупали. Мэри единственная из всех приняла всерьез это предложение. В результате появилась ужасающая история о чудовище, созданном доктором Франкенштейном, которая вышла в свет в следующем году.
22 июня Байрон и Шелли отправились в открытой парусной лодке в путешествие по озеру. Они намеревались посетить места, ставшие известными благодаря Руссо. В Меллери они поужинали медом из горных цветов в прелестном местечке, где Сен-Пру, герой «Новой Элоизы» Руссо, жил в изгнании. На обратном пути они попали в шторм. Лодка наполнилась водой и чуть на пошла ко дну. Байрон беспокоился за Шелли, который не умел плавать, и говорил ему держаться за весло и не двигаться. Однако Шелли отвечал «с чрезвычайным хладнокровием, что он не желает быть спасенным, и что я должен прежде всего беспокоиться о себе, и умолял не утруждаться».
Следующий день был спокойный, и путники направились к замку Шильон. Осматривая башни, камеру пыток и подземелья, где к колоннам приковывали политических заключенных и еретиков, Шелли погрузился в бездну тоски, навеянную этим памятником «холодной и бесчеловечной тирании». Байрона поразила история Франсуа Бонивара, патриота XVI века, который устроил заговор против герцога Савойского и был приговорен на несколько лет к заключению в нижнем подземелье. Еще до возвращения на виллу Байрон сочинил «Шильонского узника», лирико-драматический монолог, ставший одной из самых его известных поэм.
В Кларенсе и Веве поэты вновь очутились на священной земле Руссо. Шелли как раз читал «Новую Элоизу». Байрон неоднократно читал это произведение и знал его почти наизусть. Он уже успел сочинить несколько замечательных строк для «Чайльд Гарольда», посвященных Руссо. Для него Руссо был «апостолом роковой печали, который пришел здесь в мир, злосчастный для него, и здесь его софизмы обретали красноречивой скорби волшебство». Байрон, описывая Руссо, описывал и себя:
И что же? Не красавица живая,
Не тень усопшей, вызванная сном,
Его влекла, в отчаянье ввергая, —
Нет, чистый образ, живший только в нем,
Страницы книг его зажег таким огнем.
Руссо для Байрона был не только символом своей собственной страстной натуры. Он был вдохновителем революции и сторонником свободолюбивых взглядов, которые могли быть искажены со временем, но не могли погибнуть.
Однако Байрон с легкостью, замеченной в нем всеми знавшими его, мог вернуться от судьбы Бонивара и печали Руссо к иронии и остроумию Вольтера и Гиббона. В день годовщины, когда Гиббон написал последние строки своей «Истории» в летнем доме в Лозанне (27 июня 1787 года), Байрон и Шелли посетили это место. Сочинив несколько строк о гигантах мысли XVIII века, один из которых был «пламя и переменчивость», другой – «король иронии», Байрон в тот же день написал Меррею о том, что завершил 117 строф новой песни «Чайльд Гарольда». На вилле он несколько дней исправлял строфы, записанные в порыве вдохновения на клочках бумаги.
Только 4 июля песня была готова и отдана Клер для переписки. Она была готова помочь, потому что только так могла оказаться на вилле Диодати наедине с Байроном. 10 июля она завершила написание копии для издателя и начала переписывать «Шильонского узника». Но вскоре Байрон устал от ее постоянных требований. Он поговорил с Шелли и попросил его не пускать Клер на виллу. Шелли планировали поездку в Шамуни и к Монблану. Клер хотела видеть Байрона перед отъездом, но он избегал ее. Шелли понял необходимость увезти Клер подальше.
Со своей стороны Байрон, несомненно, ощутил облегчение, когда 21-го Шелли отправились в поездку, продлившуюся почти до конца месяца. Байрон виделся с мадам де Сталь в ее домике в Коппе на другом берегу озера или сочинял после полуночи стихи. Во время первого визита в Коппе, по словам Полидори, который сопровождал Байрона, «он с удивлением увидел, как из дома вынесли женщину в беспамятстве…». Байрон написал об этом инциденте Меррею: «Действительно, миссис Херви, которая сочиняет романы, упала в обморок во время моего визита в Коппе, но потом пришла в себя. Герцогиня де Броли, дочь мадам де Сталь, воскликнула: «Это уже слишком! В шестьдесят пять лет!»
Тем не менее Байрону было приятно в обществе гостей в Коппе, и в домашней обстановке мадам де Сталь показалась ему более сносной, чем в Лондоне, хотя их споры иногда переходили в открытые столкновения. Образованные европейцы, встреченные Байроном, скрашивали атмосферу в Коппе, которая была более сердечной, чем в большинстве гостиных в Женеве, наполненных англичанами. Некоторые гости раздражали Байрона. В доме жил друг мадам де Сталь, Август Вильгельм фон Шлегель, который противоречил всем и был тщеславен до смешного. «Он сразу меня невзлюбил, – писал Байрон, – потому что я не льстил ему, хотя мадам де Броли просила меня об этом, потому что «лесть ему так нравится». Байрон сошелся с аббатом де Бреме, который, как Пеллегрино Росси, мечтал о свободной Италии. Полидори описал Бреме как друга «Уго Фосколо, патриота Италии, панегириста во всем, Великого Раздатчика милостыни, ненавидящего австрийцев».
После отъезда Шелли в Шамуни Байрон вновь ощутил желание писать, чему способствовали покой тихого озера и одиночество на вилле Диодати, где его никто не беспокоил. По просьбе Киннэрда Байрон написал «Оду на смерть достопочтенного Р.Б. Шеридана», однако мысль о напыщенном театральном исполнении смутила его, и он оставил лишь несерьезные строфы, несмотря на свое восхищение Шериданом. Вести из Англии всколыхнули прошлое, мысли и воспоминания о котором отразились в «Сне», краткой истории жизни Байрона, начиная с ранней юности, постигшего его разочарования и заканчивая печалью и отчаянием. В стихотворении он изобразил себя и даму своего сердца, в которой можно было узнать его первую любовь Мэри Чаворт.
В таком же грустном тоне написано другое произведение, названное Байроном «Тьма», – страшное описание последних дней жизни человека в умирающей Вселенной. Все человечество занято предсмертной борьбой за существование. Чувство альтруизма исчезло во всех живых существах, кроме одной собаки. Примерно в то же самое время Байрон написал несколько строк из «Прометея», посвященного любимому герою поэта еще со школьных дней в Хэрроу, когда он написал песнь для хора из произведения Эсхила. Эта тема все больше захватывала Байрона, чему способствовали размышления над собственной запутанной жизнью:
Титан! Что знал ты? День за днем
Борьбу страдания и воли,
Свирепость не смертельной боли,
Небес бездушных окоем,
Ко всем глухой Судьбы десницу,
И ненависть – земли царицу…
В одиночестве размышляя над крушением юношеских надежд, столкнувшихся с суровой реальностью, Байрон вновь обратился к мыслям об Августе, которая никогда не предавала его. Свои чувства к ней он излил в новом стихотворении:
Когда время мое миновало
И звезда закатилась моя,
Недочетов лишь ты не искала
И ошибкам моим не судья.
Байрон и не подозревал об ужасных испытаниях, с которыми столкнулась его сестра, когда вокруг нее сомкнулись клещи «Железной леди» Аннабеллы и миссис Билльере. Последняя с любопытством писала леди Байрон: «Ты уже сообщила ей, что он предал ее, или мы еще можем об этом сказать? Если бы она только поверила, мы многого бы добились». Аннабелла ответила: «Только один раз она не сумела отвергнуть выдвинутое обвинение, и я всегда знала, что он обладает более высокими моральными принципами, чем она. Казалось, она не думает об обстоятельствах. До моей свадьбы она выглядела такой виноватой, что я не могла даже и подумать о дальнейшем продолжении этой связи…»
Августа оказалась в тяжелом положении. Она жалобно писала Аннабелле: «Как я хочу, чтобы ты знала всю правду, тогда ты не будешь думать так дурно обо мне, как сейчас… Милая А., я не причинила тебе вреда. Я не злоупотребляла твоей добротой». Однако миссис Вилльерс, близкая подруга Августы, которая теперь находилась в Лондоне, заметила в жертве все признаки боли, сожаления и чувства вины. Уныние и страх Августы только ободряли ее. «Вчера я случайно узнала по ее вопросу о письмах за границу, что она собирается сегодня написать лорду Б.». Леди Байрон осторожно, но целенаправленно следовала своему плану. Она написала своей помощнице: «Сейчас я пытаюсь получить ее обещание никогда не возобновлять с ним переписки или каких-либо отношений. Я буду постепенно добиваться этого… Она постоянно идет на сделки с совестью…»
30 июля Аннабелла энергично пошла в наступление: «Пока ты не поймешь, что в действительности он был тебе плохим другом, ты не сможешь думать верно… Прости его, желай ему счастья, но избегай соблазна вновь стать его близким другом…» Августа должна была в своих письмах брату «наставлять его, но не успокаивать и не поощрять его, избегая всего (вероятно, тут Аннабелла вспомнила секретный код в виде крестиков в письмах Августы. – Л.М.), что может помочь укоренению его дурных мыслей… Позволь также предупредить тебя о легкомыслии и всякой вздорной чепухе, которую он обожает, потому что это мешает ему думать о серьезных вещах…».
Августа соглашалась со всем, причиной чему была ее подавленность. Бедная женщина начала сомневаться в истинной ценности своих добрых порывов и выискивать разные грехи, которые якобы были у нее на совести. Прилив набожности столкнулся с ее настоящими чувствами.
Тем временем у Байрона были другие занятия. Мадам де Сталь прислала ему экземпляр романа Каролины Лэм «Гленарвон». Байрона не обеспокоил его собственный портрет в книге. Позже он писал Муру: «Мне кажется, что если автор написал правду и ничего, кроме правды, то приключения от этого станут еще более романтическими и захватывающими. А что до сходства, то оно не может быть полным, потому что я никогда не мог долго высидеть для портрета».
Шелли вернулись из Шамуни 27 июля. Следующие две недели они, как прежде, вместе катались на лодке и по вечерам собирались на вилле Диодати. Однако кое-что изменилось. Если раньше Шелли и Мэри ни о чем не подозревали, то теперь они знали о беременности Клер. Шелли был готов помочь ей всем, чем возможно, однако по своим принципам – он уехал от жены, которую не любил, и остался с Мэри – не мог осуждать Байрона за нежелание жениться на Клер. Шелли вместе с ней направился на виллу, чтобы все откровенно обсудить. По словам Клер, Байрон «предложил отдать ребенка под опеку миссис Ли. Я возразила против этого по той причине, что ребенку по крайней мере до семи лет нужна родительская забота… Он согласился и сказал, что тогда ребенку лучше жить с ним… Меня будут называть тетей, и я смогу видеться с ребенком, не причиняя вреда ничьей репутации».
Байрон тщательно избегал встречи с Клер наедине, и она всегда приходила на виллу с Шелли. 14 августа приехал Мэттью Грегори (Монах) Льюис, а 16-го Байрон отправился с ним в Ферне для осмотра дома Вольтера. С этого времени по вечерам на вилле собирались одни мужчины. Шелли приходил один, но Байрон отдавал дань уважения дамам, изредка заглядывая в дом Шелли.
В своей добродушной и откровенной, но совершенно бестактной манере мадам де Сталь вновь наступила на старую рану Байрона, заметив, что примирение с женой еще возможно. Байрон согласился написать письмо с выражением любви к Аннабелле, но не надеялся, что эта попытка будет успешной. Насколько изменчивы были его чувства к жене, может подтвердить тот факт, что он начал писать повесть, плохо прикрытую аллегорию на свой неудавшийся брак, а когда услышал о болезни леди Байрон, бросил повесть в огонь. И как всегда в тяжелые дни, он обратился за утешением к сестре. В конце августа он получил ее письмо, полное тревоги и сомнения, хотя и довольно поверхностное, потому что Августа не могла поведать брату, в какую зависимость от Аннабеллы она попала. В ответном письме он обвинил ее в том, что она «боится несуществующей опасности», и просил ее «успокоиться и не испытывать ненависти к себе. Если ты хочешь кого-нибудь ненавидеть, то пусть это буду я, но лучше не надо – это убьет меня. Мы единственные люди в мире, которые не должны и не могут разлюбить друг друга».
Джон Кем Хобхаус и Скроуп Дэвис, которых Байрон ожидал увидеть в середине лета, приехали только 26 августа. Заходил Шелли, но Мэри и Клер не встречались с циничными друзьями Байрона. Клер была горько разочарована оттого, что при расставании Байрон не сказал ей ни одного ласкового слова. Но ее прощальное письмо только укрепило его решимость и убедило не поддаваться на ее уловки. Клер писала: «Прощай, мой милый лорд Байрон. Не смейся и не улыбайся с гордостью, потому что это письмо написано мною в слезах… Милый, я буду любить тебя всю жизнь и никого, кроме тебя, помни, что моя любовь всегда рядом…» Но Клер больше не получила ответа от Байрона. Вся переписка проходила через Шелли.
Шелли, Мэри и Клер уехали в Англию 29 августа. Байрон вручил Шелли рукописи (переписанные Клер) третьей песни «Чайльд Гарольда», «Шильонского узника» и других коротких поэм, сочиненных летом. В тот же день Байрон, Дэвис, Хобхаус и Полидори отправились в Шамуни. На одном из постоялых дворов Байрон заметил, что Шелли, останавливавшийся здесь в прошлый раз, написал под своим именем по-гречески слово «атеист». Понимая, что это могут увидеть другие англичане, Байрон сказал Хобхаусу: «Как ты думаешь, я окажу Шелли услугу, если сотру это?» И он стал тщательно стирать написанное. Однако Шелли написал то же самое по меньшей мере на трех постоялых дворах, и английские путешественники, включая Саути, все видели и устроили скандал. После этой поездки Скроуп Дэвис направился в Англию, увезя с собой Роберта Раштона и несколько рукописей.
От своих гостей Байрон узнал несколько сплетен о себе, которые ходили на родине, и написал Августе письмо, чтобы успокоить ее: «…что до всех этих «любовниц», то, да поможет мне Бог, у меня была только одна. Не сердись, что я мог поделать? Глупая девчонка, несмотря ни на что, ездила за мной. Я исчерпал все доводы, пытаясь убедить ее вернуться домой, но наконец она уехала». Однако тоска Байрона была вызвана другими причинами: «…она (леди Байрон), а точнее, расставание с ней разбили мое сердце. Такое чувство, словно на него наступил слон». Если бы Байрон знал, на каких условиях его сестра переписывается с его женой, то ему стало бы еще тяжелее.
Несмотря на внешнюю податливость и данное леди Байрон обещание, Августа продолжала переписываться с братом. Она вела себя так неопределенно, что Аннабелла хотела встретиться с ней и услышать всю правду. 31 августа она ездила в Лондон и несколько раз виделась с Августой. Аннабелла добилась того, чего хотела. Она восторженно писала миссис Вилльерс: «Я увидела все, о чем могла только мечтать: ее покорность и вину. Она сама показала мне его письма к ней, которые она до этого скрывала только из-за обиды на меня. Это настоящие любовные письма, и она хочет знать, как заставить его прекратить писать…»
Миссис Вилльерс продолжила увещевать Августу. «Я сказала ей, – писала она леди Байрон, – что она не должна обмениваться с ним ни единым письмом, запиской или словом, не сообщив об этом вам, потому что вы будете ее ангелом-хранителем…» Августа, верная своему слову, писала Аннабелле: «…я горю желанием загладить все последствия… Буду писать Б. по вашему совету, мой ангел-хранитель!»
Байрон почувствовал, что кто-то или что-то удручает Августу, но полагал, что это происки Каролины Лэм, и даже и помыслить не мог, что его письма читает женщина, обладающая «непреклонными моральными принципами». Вероятно, в это время Байрон понял, что переговоры о примирении через мадам де Сталь ни к чему не привели, потому что печаль при известии о болезни жены сменилась злостью, и он сочинил горькие «Строки, написанные после известия о болезни леди Байрон», обвиняя Аннабеллу в «непреклонности» и называя ее «моральной Клитемнестрой своего супруга».
Перед отъездом в Бернские Альпы вместе с Хобхаусом Байрон решился дать отставку доктору Полидори. Они расстались друзьями. Байрон говорил Меррею: «Он безвредный малый, но постоянно попадает в переделки и слишком молод и беспечен…» Позднее он сказал: «Мне было жаль расставаться с ним, потому что я быстро привязываюсь к людям…»
17 сентября Байрон и Хобхаус тронулись в путь. Байрон решил вести путевой журнал для сестры. Ее уверения в неизменной доброте леди Байрон терзали его, и он написал: «О ней ты суди сама, но не забывай, что она погубила твоего брата… Каким дураком я был, когда женился, да и ты поступила не очень мудро, моя милая, мы могли бы счастливо прожить вместе, подобно старым девам и холостякам. Я никогда не найду никого, похожего на тебя, а ты, как ни тщеславно это звучит, не найдешь никого лучше меня. Мы созданы друг для друга, и все же мы, по крайней мере я, волею обстоятельств разлучен с единственным существом, которое любило меня и к которому я чувствовал сильнейшую привязанность».
Горный пейзаж поразил воображение Байрона, в точности соответствуя его мрачному настроению. Пастухи, извлекавшие скорбные звуки из своих свирелей, звон коровьих колокольчиков, шумящие водопады были словно бальзам для его души. Байрон записал в путевом журнале: «Прибыли к подножию горы (Юнгфрау, что значит «Дева». – Л.М.); ледники, водопады, один из них высотой 900 футов, они вьются по скалам, словно хвост белой лошади, развевающийся на ветру. Наверное, именно так выглядит «конь блед», на котором едет смерть».
Исполинские горы вознесли дух Байрона на восторженные, но мрачные высоты. «Слышал сход лавин почти каждые пять минут, словно Бог изгонял дьявола из рая снежными потоками». В этот день Байрон закончил описание путешествия такими словами: «Видели целые леса высохших сосен; стволы без коры, искореженные, ветви безжизненные. Все это сделала одна зима; они напомнили обо мне и моей семье».
Байрон и Хобхаус поднялись на вершины Венгенских Альп и осмотрели Юнгфрау, пик Аржент, «сияющий, словно откровение», Большой и Малый Эйгер и Веттерхорн. Во время спуска восторг Байрона утих, и он заключил дневник словами: «…ни музыка пастушьей свирели, ни грохот лавин, ни горный поток, ни ледник, ни лес, ни облако не сумели ни на минуту снять тяжесть с моего сердца и позволить позабыть о своем проклятом существовании…»
Вести из Англии лишь на время обрадовали Байрона. Шелли доставил рукопись «Чайльд Гарольда» Меррею, который, «дрожа от предвкушения», немедленно отнес ее своему литературному советнику. Гиффорд хотя и был болен, но сел в постели и прочел каждую строчку. «У него даже началась лихорадка, так он был взволнован…» Дуглас Киннэрд, бывший до этого времени агентом Байрона, получил от Меррея 2000 фунтов за право издания «Чайльд Гарольда» и «Шильонского узника». И Меррей никогда не пожалел об этой сделке.
Шелли немедленно выразил уверенность в ярком литературном будущем своего друга. «…Вы избраны среди других, чтобы вознестись на вершины мысли… Как это будет, я не могу сказать». Как-то Шелли порекомендовал взять в качестве темы Французскую революцию. «Однако эта тема не вяжется с духом, с которым вы должны посвятить себя вашей великой судьбе, поэтому вы не должны использовать никаких суждений, кроме ваших собственных…»
Это был хороший совет, потому что Байрон мог следовать только своему внутреннему голосу. Но сначала он должен был пройти через поэтическое очищение, отличное от всего, что было раньше. Все несчастья, ощущение вины, разочарование и бесплодные мысли, терзавшие его летом после размышлений об отношениях с Августой, браке и расставании, нашли выход в поэтической драме, начатой еще в Альпах и рвавшейся из души на бумагу. Образ Манфреда, появившийся после прочтения отрывков из «Фауста» Гете, которые перевел Льюис, в понимании Байрона стал больше похож на Прометея, нежели на самого Фауста.
Но настоящая драма развертывалась в душе героя. Конфликт был одновременно личностным и вселенским. Когда Манфред вызывает духов, включая духа звезды, которая повелевает его судьбой, то просит у них не власти и наслаждения, как Фауст, а «забвения». Причина страданий Манфреда заключается в том, что человек
Смешенье праха с божеством…
…к поставленным природою пределам…
Спасенный охотником за сернами от гибели Манфред поражает спасителя странными речами. Он завидует жизни простого крестьянина, но сам он другой и должен стремиться к тому, что «находится за гранью разумного бытия». После этого Манфред вызывает Фею Альп. На вопрос о том, каких благ он желает, Манфред отвечает:
Душа таить устала
Свою тоску. От самых юных лет
Ни в чем с людьми я сердцем не сходился
И не смотрел на землю их очами…
Манфред признается, что была одна, которая разделяла его мысли:
Она была похожа на меня.
Черты лица, цвет глаз, волос и даже
Тон голоса – все родственно в нас было,
Хотя она была прекрасна. Нас
Сближали одинаковые думы,
Любовь к уединению, стремленья
К таинственным познаниям и жажда
Обнять умом Вселенную, весь мир;
Но ей не чуждо было и другое:
Участье к людям, слезы и улыбки, —
Которых я не ведаю, – смиренье, —
Моей душе не сродное, – и нежность,
Что только к ней имел я; недостатки
Ее натуры были и моими,
Достоинства лишь ей принадлежали.
Я полюбил и погубил ее!
На вершине Юнгфрау Манфред встречает парок и Немезиду. Однако его неукротимый дух отказывается склониться перед самым могущественным из всех духов, Ариманом, и все духи признают в нем равного. Это неизбежно, потому что духи, с которыми общался Манфред, созданы силой его воображения. Он заставляет их вызвать призрак Астарты, женщины, которую любил. Призрак не может простить его, потому что она тоже творение Манфреда, а он сам не желает прощать себя. Один из духов говорит:
Он потрясен. Кто смертен, тот не должен
Искать того, что за пределом смерти.
Поэма достигла главной цели: Байрон сумел излить в ней свою вину и отчаяние. Он понял, что причиной ссоры с женой было то, что он не сумел бороться с земными узами: «божество» не справилось с «прахом».
В половине двенадцатого утра 5 октября Байрон и Хобхаус отправились в Милан, в последний раз взглянув на озеро, которое четыре месяца воодушевляло Байрона. Он не радовался путешествию, потому что сейчас у него не было ни цели, ни места назначения. Он опять подумывал о возвращении в Грецию, но судьба уготовила ему поездку в Венецию.
В тяжелом наполеоновском экипаже Байрон, Хобхаус и их итальянский проводник Анжело Спрингетти ехали по Симплонской дороге, по которой шел Наполеон. Их первым впечатлением от Милана были грязные номера в гостинице «Сан Марко». Однако неприятные воспоминания скоро сгладились замечательным обществом. Путешественники взяли ложу в театре «Ла Скала», культурном центре Милана, и в тот же вечер к ним присоединились Полидори, который путешествовал через Альпы, и монсиньор Лудовико ди Бреме, которого Байрон встретил в Коппе. Бреме поведал им сплетни о театральных ложах и сожалел о состоянии итальянской литературы, среди серьезных поэтов называя лишь Фосколо, Монти и Пиндемонте.
На следующий день Байрон с восторгом обнаружил собрание рукописей в библиотеке Амброзиано. Больше всего его увлекли письма, «настоящая любовная переписка между Лукрецией Борджиа и кардиналом Бембо… Я размышлял над ними и над локоном ее волос, самым прекрасным из того, что я видел…». Байрон безуспешно пытался получить копии писем, однако ему удалось забрать волосок из локона и завернуть его в бумагу со словами Поупа, примерно звучащими так:
И красота влечет нас тонким волоском.
17 октября Байрон и Хобхаус обедали с ди Бреме и его братом, маркизом, в его дворце. Хобхаус был поражен уважением, оказываемым его другу. Бреме сравнивал Байрона с Петраркой. Среди гостей были Сильвио Пеллико, автор «Франчески да Римини», поэт Монти и Анри Мари Бейль, позднее известный под псевдонимом Стендаль. В тот вечер Байрон не беседовал с ними, но, по словам Стендаля, пришел в восторг, когда Монти прочитал свою поэму «Машерониана», восхваляющую Наполеона.
Среди других гостей Милана был ирландский полковник Фитцджеральд. По словам Байрона, Фитцджеральд, будучи юным знаменосцем, влюбился в маркизу Кастильоне, которая была старше его на двадцать лет. После заключения мира он вновь появился и бросился к ногам маркизы, бормоча «на итальянском с ирландским акцентом вечные клятвы в постоянстве. Леди закричала: «Кто вы?», а полковник ответил: «Что?! Вы не узнаете меня? Я такой-то и такой-то» и т. д., пока наконец маркиза после долгого перебирания любовников, которые были у нее за четверть века, не вспомнила своего бедного младшего лейтенанта. Тогда она сказала: «Существовала ли когда-нибудь подобная добродетель?» (это были ее точные слова) – и, будучи уже вдовой, отвела ему комнаты в своем дворце и показывала его восхищенному обществу как образец непоколебимой верности».
Соратник Наполеона во время русской кампании Анри Мари Бейль вызвал особенный интерес Байрона. Бейль, в свою очередь, был очарован личностью знаменитого поэта и восхищен его литературным талантом. Он наблюдал за Байроном, но из-за незнания языка мало разговаривал с ним. Тем не менее в своих воспоминаниях Бейль передал впечатления о краткой встрече, которые так изумили Хобхауса.
Байрон уже месяц ничего не знал о Августе, когда наконец 28 октября пришло ее письмо. Она осторожно сообщала весть о том, что если он вернется в Англию, то уже не сможет видеться с ней наедине. Байрон ответил: «Я не понимаю и не могу понять всех загадок и волнений в твоих письмах, в особенности в последнем. Я лишь знаю, что ничто на земле не сможет помешать мне повидать тебя тогда, где и как я захочу, в зависимости от времени и обстоятельств. Ты мое единственное утешение, если не считать моей дочери в ближайшем будущем, и я могу жить, пока ты рядом… Мисс Милбэнк, по-видимому, была создана мне на погибель…
Я чувствую себя хорошо, но порой случаются приступы головокружения, во время которых я начинаю думать, что я стану таким, как Свифт, как он и как высохшее дерево, которое он видел. Мои волосы седеют и редеют, а зубы шатаются, хотя еще здоровые и белые. Не подумают ли окружающие, что мне шестьдесят, а не почти двадцать девять?»
Письмо Клер Клермонт не принесло радости Байрону. Он надеялся, что эта страница его жизни закрыта, но Клер по-прежнему была увлечена им. «Мой милый Альбе, я знаю, что ты скажешь. «Я же тебя предупреждал. Я советовал тебе. Я делал все возможное, чтобы остановить тебя, и вот теперь ты жалуешься». Я не жалуюсь на тебя, милый, и не сделала бы этого, будь ты вдвойне злее. Иногда я немного сержусь, что ты проклинаешь меня за мое желание, чтобы ты посвятил мне немного времени и написал, как ты живешь и что хоть немного любишь меня…»
Получив это откровенное послание, Байрон еще больше укрепился в намерении никогда не писать глупой девушке, которая любое проявление доброты расценивала как доказательство любви, Байроном не испытываемой. Хотя он всегда чувствовал себя нехорошо, причиняя другим боль, и любил, чтобы у людей складывалось о нем благоприятное впечатление, он понимал, что молчание – единственный выход, ведущий к наименее болезненным последствиям.
Вечером 28 октября, когда Байрон был в ложе Бреме в театре «Ла Скала», ему сообщили, что доктор Полидори повздорил с австрийским офицером и угодил под арест. Бреме и Байрон немедленно спустились вниз, но австрийцы были непреклонны и хотя приняли визитную карточку Байрона как залог за освобождение, но потребовали, чтобы доктор покинул Милан в течение двадцати четырех часов. Впервые Байрон напрямую столкнулся с тиранией австрийцев, представление о которой получил из уст Пеллегрино Росси и других итальянцев в Швейцарии. Теперь его презрение к австрийцам в Италии еще больше окрепло и впоследствии руководило всеми его действиями и словами. Австрийские власти узнали о взглядах Байрона, и с этой минуты за всеми его передвижениями стала следить тайная полиция. Хотя австрийцы отдавали дань уважения титулу и славе поэта, но держали его под постоянным контролем.
2 ноября Байрон простился с друзьями. На следующее утро вместе с Хобхаусом он выехал из Милана. Спрингетти отправился вперед с двумя экипажами Байрона и багажом по направлению к Венеции. Заехав по пути в Горгонцолу, Караваджио, Брешию и Десенцано, друзья б ноября добрались до Вероны, где осмотрели амфитеатр и предполагаемую могилу Капулетти. В Виченце путешественники видели здания, возведенные великим Палладио или под его влиянием.
Байрон так стремился в Венецию, что остановился в Падуе только для ужина, к большому сожалению неутомимого любителя достопримечательностей Хобхауса. 10 ноября на пути вдоль канала Брента в Местре они оставили экипажи и лошадей на постоялом дворе и в ливень отправились на гондоле в знаменитый город. Им почти ничего не удалось разглядеть из похожей на гроб черной коробки гондолы, пока они не оказались среди огней Венеции. Хобхаус записал: «Плеск весел подсказал нам, что мы под мостом, а лодочник крикнул нам: «Риальто!» (знаменитый мост. – Л.М.). Вскоре мы причалили около гостиницы «Великобритания» на большом канале и увидели великолепные лестницы, ведущие в комнаты, где роскошные шелковые портьеры указывали на то, что в лучшие времена здесь жила знать…»
Венеция сразу же пришлась Байрону по душе. Это был волшебный мир, настоящая театральная сцена с печальными реквизитами давно минувших лет, которые так трогали сердце поэта. Прежнего великолепия в светском обществе Венеции уже не было. Осталось только два или три литературных салона. Ночью работали всего две кофейни. Разноцветные костюмы почти исчезли. И все же Венеция не потеряла своего очарования. Байрон ощутил это, когда они пересекли лагуну, ведущую в Лидо, проплыли мимо палладианской церкви Сан Джорджио Маджоре и оглянулись на волшебные башни. Тогда впервые Байрон увидел Адриатику и на фоне далеких Альп – Венецию, золотую в лучах заходящего солнца.
Решив сменить гостиницу на частный дом, Байрон нашел подходящее жилище на Фреццерии, маленькой улочке неподалеку от площади Сан-Марко. Комнаты располагались над лавкой торговца мануфактурными товарами по имени Сегати. Три дня спустя Байрон написал Муру: «Я собираюсь остаться в Венеции на зиму, вероятно, потому, что она наравне с Востоком всегда была зеленым островом моего воображения. Город не разочаровал меня, хотя его запустение произвело бы противоположный эффект на других. Но я слишком давно знаком с развалинами, чтобы бояться их. Кроме того, я влюбился, а это самое лучшее или худшее из того, на что я способен. У меня очень хорошие комнаты в доме «венецианского купца», который всегда занят и у которого есть двадцатидвухлетняя жена. Марианна, так ее зовут, похожа на газель. У нее большие черные восточные глаза с совершенно особенным выражением, которое редко встретишь среди европейцев, даже итальянцев… Не могу описать впечатление, которое такие глаза производят на меня».
Так начались любовные приключения Байрона под небом Италии, и они добавили еще больше очарования сказочному городу, который он так любил. Через несколько дней Байрона представили графине Альбрицци, чей литературный салон был центром культурной жизни Венеции. Хобхаус говорил, что ее называют итальянской мадам де Сталь, но добавлял, что она бледная копия, хотя и очень достойная женщина. Среди своих друзей она называла Уго Фосколо и известного скульптора Антонио Канову.
Байрон писал Меррею: «Венеция оправдала мои ожидания, а ожидал я многого. Это одно из тех мест, которые я знаю, еще не увидев их, и оно постоянно преследовало меня после возвращения с Востока. Мне нравится мрачная красота их гондол и тишина каналов… У меня тоже есть гондола, я мало читаю и, к счастью, могу говорить по-итальянски свободно, но не очень правильно. Из любопытства я изучаю венецианский диалект, очень нежный и мягкий, хотя его отнюдь нельзя назвать классическим; часто выхожу в свет и очень доволен». Байрон признался Меррею, что «страстно влюблен» в черноглазую жену хозяина дома. «…Ее достоинство заключается в нахождении моих. Нет ничего более приятного, чем такое изучение».
Байрон быстро привык к обыденной жизни города, которая особенно пришлась ему по душе. 27 ноября он сообщал о своем счастье Дугласу Киннэрду: «У меня есть книги, скромное собрание. Я нахожусь в чудесной стране, мне нравится язык, светские развлечения и общество. У меня есть красивая женщина, с которой не скучно и которая не раздражает меня, как раздражал бы дурак, надевший маску мудреца». Байрон заключал письмо словами о том, что если бы были улажены финансовые дела в Англии, «то ты мог бы считать меня умершим, потому что я больше не ступлю на этот жестокий маленький островок».
Хобхаус отправился в путешествие по Италии, но Байрон не захотел сопровождать его. «Чтобы развлечься, – писал он Муру, – я каждый день учу армянский язык в монастыре на острове Сан-Лаццаро, недалеко от Лидо. Мне кажется, моему уму нужно что-нибудь сложное, а этот язык – одно из самых сложных развлечений, найденных мною в Венеции, и я выбрал его для собственного самоистязания. Не собираюсь бросать, но не могу сейчас отвечать ни за свои дальнейшие намерения, ни за успехи». Байрон написал Меррею, что любовное увлечение и занятия должны продлиться всю зиму. «К счастью для меня, дама не столь упряма, как язык, а не то, разрываясь между ними, я потерял бы последние остатки рассудка».
Байрон чувствовал, что в настоящее время не напишет ничего серьезного. Он быстро забывал Англию и страсти, которые бушевали на родине, а новых впечатлений было еще недостаточно, чтобы писать о них. В прошлом его стремление писать возникало под воздействием страданий и разочарований, а теперь, когда он достиг состояния спокойного довольства, это стремление поутихло.
18 декабря Байрон с восторгом писал Августе о своей новой возлюбленной: «Она не досаждает мне, что удивительно, и я по-настоящему верю, что мы одна из счастливейших не связанных узами брака пар по эту сторону Альп… Это увлечение началось очень вовремя и пришло как утешение… Я влюблен, спокоен и уже не часто вспоминаю о мучениях прошедших двух лет и об этом добродетельном чудовище мисс Милбэнк, которая чуть не свела меня с ума… Сейчас мне гораздо лучше, благодаря Богу на небесах и женщине на земле…»
На следующий день Байрон получил письмо от Августы и, изумленный и уязвленный ее благочестием, написал ей снова: «Я получил твое письмо и, кажется, у тебя еще есть «надежда» на мой счет. Какая надежда, милое дитя? Моя дорогая сестра, я помню одного методистского священника, который, заметив бесстыдные ухмылки на лицах некоторых людей из паствы, воскликнул: «Нет надежды для смеющихся!» Так и с нами: мы слишком много смеемся, чтобы надеяться, так что не думай об этом».
Байрон продолжал изучение армянского языка и, чтобы отблагодарить своего учителя, отца Паскаля Окера, предложил взять на себя расходы по изданию учебника английской и армянской грамматики. Хотя имя Байрона появилось на титульном листе рядом с именем отца Окера, участие поэта в издании учебника заключалось лишь в исправлении и разъяснении английских правил, поскольку, по его признанию, он по-прежнему плохо владел армянским языком. Однако умственный труд, прелестный, скрытый от посторонних глаз город-остров, где Байрона никто не беспокоил в библиотеке и где он мог спокойно гулять по тихим монастырям, сидеть на террасе, наслаждаясь видом Венеции, или в тени оливковых деревьев, – все это доставляло ему огромное наслаждение. Монахи, в свою очередь, привязались к Байрону. Отец Окер вспоминал о нем как о «молодом человеке, энергичном, общительном, с горящими глазами». И оставшиеся монахи Сан Лаццаро продолжают чтить его память: печатают буклеты с рассказом о пребывании Байрона в монастыре.
18 ноября Меррей издал третью песнь «Чайльд Гарольда», а 5 декабря в свет вышли «Шильонский узник» и другие поэмы. Третья песнь «Чайльд Гарольда» еще больше поразила воображение английской публики. Каролина Лэм умоляла Меррея показать ей текст до издания. Она метко заметила: «Говоря о себе, лорд Байрон добивается успеха, он может превосходно описывать свои чувства…» Леди Байрон с интересом прочитала песнь. Она писала своей подруге, леди Анне Барнард: «Он совершенный повелитель слов и использует их, как Бонапарт жизни, для завоевания, не заботясь об их внутренней ценности… Его намеки на меня в «Чайльд Гарольде» жестоки и холодны, чтобы вызвать участие к нему самому. Он говорит, что ненависть к отцу будет, как урок, прививаться его ребенку… Мой долг – не поддаваться безнадежной и неразделенной любви, и, пока я жива, моей главной целью будет не вспоминать о нем слишком тепло».
Джон Меррей был доволен публикацией. За один вечер он продал семь тысяч экземпляров «Чайльд Гарольда» и такое же количество «Шильонского узника». Самому Байрону пришлась по душе третья песнь, в чем он и признался Муру: «Я рад, что тебе понравилось. Это прекрасный образец поэтического одиночества, мой любимый. Я чуть не сошел с ума, сочиняя его, разрываясь между метафизикой, горами, озерами, необъяснимой любовью, непроизносимыми словами и ночными кошмарами. Я бы уже давно прострелил себе голову, если бы не мысль о том, какое удовольствие это доставит моей теще…»
12 января 1817 года в Бате Клер Клермонт родила дочь, которую назвала Альба, хотя выбор имени предоставила Байрону, наивно полагая, что это будет повод написать ей. Байрон бесцеремонно писал Киннэрду о Клер: «Думаю, ты знаешь и даже видел эту странную девушку, которая предстала передо мной, как только я покинул Англию, и ты знаешь, что я опять встретил ее с Шелли и его женой в Женеве. Я никогда не любил и не притворялся, что люблю ее, но таковы мужчины, и, если восемнадцати летняя девушка постоянно заходит к тебе домой, остается только один выход. В результате у нее ребенок, и она вернулась в Англию, чтобы помочь заселению этого пустынного острова… Так люди приходят в этот мир и расселяются в нем, как говорит Джексон».
Венеция по-прежнему очаровывала Байрона. Было что-то завораживающее в ее жителях, которые так много времени отдавали развлечениям. «Начался карнавал, – писал 2 января Байрон Меррею, – повсюду царит веселье, потому что все жители заняты интригами и развлечениями… Мне очень хорошо с Марианной… Я провел с ней много времени со дня прибытия в Венецию, и ни одни сутки не пролетали без того, чтобы не получить от одного до трех, а иногда и больше, доказательств ее любви ко мне».
Непосредственность итальянцев в любви изумляла и слегка поражала Байрона. Полное отсутствие лицемерия не вязалось с привычными нормами английского общества, но в то же время кодекс внебрачных связей был намного жестче. «Согласно этому кодексу, женщина считается добродетельной, если у нее есть муж и один любовник; если же любовников у нее два, три или больше, то она несколько необузданна…»
Но Байрон не все время проводил в развлечениях, как можно понять из его переписки. Во время карнавала он закончил поэму «Манфред», начатую им в Швейцарии. Празднества завершились 18 февраля, но Байрон задержался в городе, несмотря на приглашение Хобхауса присоединиться к нему в Риме, поскольку ночные развлечения и упорный труд подорвали здоровье Байрона. Именно в минуту душевной усталости он создал одно из самых своих замечательных стихотворений, которое вложил в письмо Муру:
Не бродить нам вечер целый
Под луной вдвоем,
Хоть любовь не оскудела
И в полях светло как днем.
Переживет ножны клинок,
Душа живая – грудь.
Самой любви приходит срок
От счастья отдохнуть.
В это время Байрона охватило растущее недовольство своей бесцельной жизнью. Критика в «Эдинбургском обозрении» напомнила ему о его шаткой литературной репутации. Такой удар по самолюбию подорвал его уверенность и укрепил в убеждении, что сам Байрон и все его современники находятся на неверном пути по сравнению с великим Поупом. Самокритика Байрона дошла до того, что он начал осознавать «посредственность» своих творений и соглашаться с «отсутствием» воображения в избранном жанре. В такие минуты в нем крепло желание попробовать свои силы на политическом или военном поприще.
«Если я проживу еще десять лет, – писал он Муру, – то вы увидите, что не все еще потеряно. Я не говорю о литературе – ведь это ничто, и вам может показаться странным, что я не считаю ее своим призванием. Вы увидите, что я совершу нечто, если позволят время и обстоятельства…
Однако сомневаюсь, что мое здоровье выдержит. Я уже успел нещадно подорвать его».
Хотя Байрон поговаривал о возвращении весной в Англию, мысль о последних месяцах, проведенных на родине, вызывала в нем горечь. На пространные набожные намеки Августы он отвечал совсем в другом ключе. «Не знаю, в чем заключается твоя «надежда», но если ты имеешь в виду воссоединение между леди Б. и мною, то теперь слишком поздно. Прошел уже год, к тому же я неоднократно предлагал ей примирение, сама знаешь, с каким результатом. Если бы она завтра вернулась ко мне, я бы не принял ее. Мне недостает духу ненавидеть ее, однако я слишком чувствителен, чтобы забыть нанесенные оскорбления, и слишком горд, чтобы мстить. Она глупа, и это большее, что может быть сказано о ней». Мысль о том, что у него могут отнять дочь, мешала Байрону в душе примириться с женой и ее родственниками.
Жизнь Байрона по-прежнему проходила бессмысленно и бесцельно. Венецианское общество уже успело ему надоесть. Он посетил два или три литературных вечера у губернатора, но, встретив там только некрасивых женщин и заурядных гостей, больше не заглядывал. Однако, придя в себя после суматохи карнавала, Байрон вновь ощутил прилив сил. Он приобрел полное собрание сочинений Вольтера в девяноста двух томах и развлекался, читая произведения старого насмешника. В это же время Байрон начал подумывать об исторической драме или драматической поэме. История Марино Фальеро пришлась ему по душе. Байрон писал Меррею: «Во Дворце дожей по-прежнему висит портрет Фальеро с черным покрывалом на лице, сохранилась также лестничная площадка, где его короновали дожем и где потом обезглавили. Его история поразила меня больше всего в Венеции, больше чем мост Риальто, который я осматривал из-за Шейлока… Но я ненавижу вымыслы, поэтому «Венецианский купец» и «Отелло» не находят в моей душе отклика. У самой смелой фантазии всегда должно быть историческое основание, чистый же вымысел является талантом лжеца».
9 апреля Байрон все еще находился в Венеции и поговаривал о поездке в Рим. Нерешительность действовала ему на нервы, и он написал Меррею, что в прошлом году подумывал о самоубийстве. Но теперь у него появился смысл в жизни. «Когда мне исполнится тридцать лет, я стану набожным. Чувствую призвание к труду католического священника, особенно когда слышу звуки органа». Одновременно он шутливо писал Муру: «Мой последний врач, доктор Полидори, находится здесь на пути в Англию с лордом Гилфордом и вдовой покойного графа. Сейчас у доктора Полидори нет пациентов, потому что они все умерли. Недавно у него было трое, но все мертвы, один даже забальзамирован. Предыдущий лорд Гилфорд скончался от воспаления внутренностей, поэтому их вытащили и отправили в Англию отдельно от тела по причине их плохого состояния. Представь себе, человек идет в одну сторону, его внутренности – в другую, а душа – в третью! Разве подобное когда-нибудь встречалось? Конечно, у нас есть душа, но как она могла позволить заключить себя в теле, я не могу представить».
Наконец Байрону удалось получить согласие Марианны на свою поездку в Рим, и 17 апреля он отправился в путь. Путешествие и новые впечатления вывели его из апатии. Он ненадолго остановился в местечке Аркуа, чтобы осмотреть дом и могилу Петрарки, но больше его потрясли тюремная камера Тассо и могила Ариосто в Ферраре. Когда Байрон добрался до Флоренции, то сочинил пронзительные строки «Жалобы Тассо». И неизбежно он отождествлял себя с «орлиным духом Сына Песни», который испытывал муки, но нашел спасение в своей душе.
Целый день Байрон провел в двух галереях Флоренции и отправился дальше со скупой похвалой нескольким картинам и скульптурам. «Венера (де Медичи. – Л.М.) создана для восхищения, а не для любви; однако есть скульптуры и картины, которые впервые дали мне понять, что люди имеют в виду под «общим впечатлением», а мистер Брейем называет «воодушевлением» в этих двух самых искусственных из всех искусств». В капелле Медичи Байрон увидел «лишь красивую мишуру в обрамлении кусков различных дорогих камней в память о пятидесяти истлевших и позабытых телах». По его мнению, в церкви Санта Кроче «много никчемного великолепия».
29 апреля Байрон прибыл в Рим, где его встретил Хобхаус, который неделями прилежно изучал памятники старины и был готов служить другу проводником. Байрон снял комнаты, вероятно в пансионе на Пьяцца ди Спанья, 66, почти напротив дома, в котором Ките провел последние дни четыре года назад[22].
Увидев исторические развалины и окружающий пейзаж римской весной, Байрон мысленно вернулся к приятным верховым прогулкам, которые совершал с Хобхаусом в окрестностях Афин. К счастью, он привез с собой верховую лошадь, потому что ходить пешком по знаменитым римским холмам ему было тяжело. В письме к Меррею от 9 мая Байрон с радостью сообщал: «Рим, древний и современный, лучше Греции, Константинополя и многих других городов, по крайней мере та часть, которую я видел. Но сейчас не могу описывать, потому что мои первые впечатления всегда сильные и запутанные, а память извлекает лучшее и приводит их в порядок, перемешивая их, хотя от этого они могут становиться менее яркими». Ошеломленный древним великолепием, Байрон все видел и запоминал, чтобы несколько недель спустя начать четвертую песнь «Чайльд Гарольда».
В Риме было полно англичан, и Байрон старался избегать их. Однако за ним наблюдали англичане, собравшиеся у собора Святого Петра. Среди них была леди Лидделл, подруга леди Байрон. Ее объял ужас, и она приказала дочери опустить глаза. «Не смотри на него, на него опасно смотреть».
По просьбе Хобхауса Байрон в Риме позировал датскому скульптору Бертелю Торвальдсену. Увидев готовый бюст, Байрон произнес: «Совсем не похож на меня: мое выражение лица более несчастливое». Позднее Хобхаус написал Меррею: «Я предложил, чтобы на голове у него был венок, но поэт испугался, что его примут за короля или императора…» Байрон сказал: «Не хочу, чтобы мою голову украшали, как рождественский пирог, остролистом, тресковой головой и укропом или какими-то чертовыми водорослями, которые слепил скульптор. Похоже, вы хотите, чтобы я стал похож на шута». Байрону казалось, что бюст выглядит неловко и в нем есть что-то «посмертное», но в то же время он гордился тем, что еще при жизни его увековечили в мраморе[23].
В 1812 году Байрон стал свидетелем публичного повешения убийцы премьер-министра Спенсера Персиваля, а теперь, за день до отъезда из Рима, он увидел чудовищную и жуткую сцену казни трех грабителей с помощью гильотины. «Увидев казнь первого преступника, я покрылся холодным потом и так задрожал, что едва мог держать бинокль (я был близко, но, как и все, хотел видеть происходящее во всех подробностях); казнь двух других – как быстро человек становится равнодушным! – не произвела на меня, даже стыдно признаться, такого впечатления, хотя, если бы мог, я спас бы их всех».
Перед отъездом Байрон получил письмо от Шелли, в котором говорилось о «маленьком существе, которое мы, поскольку не имеем права окрестить по-христиански, называем Альба, что значит «рассвет»… Как ты собираешься поступить в отношении этой маленькой девочки?». Но у Байрона не было никаких планов, и он написал Августе: «Я несколько озадачен, как мне теперь поступить с этим новым творением… Но вероятно, я пошлю за ней и помещу ее в венецианский монастырь, чтобы она стала хорошей католичкой и, возможно, монахиней, что так необходимо в нашей семье. Говорят, она очень хорошенькая, с голубыми глазами и темными волосами, и хотя я никогда не любил и не притворялся, что люблю ее мать, но в случае вечной войны и вражды со стороны моей законнорожденной дочери Ады мне необходимо существо, на которое я смогу возлагать свои надежды. Я должен кого-нибудь любить в старости, и, возможно, волею судьбы это несчастное маленькое существо станет великим и единственным утешением, в отличие от отпрыска этой дурной и лицемерной женщины, носящей и позорящей мое имя».
28 мая Байрон вернулся в Венецию, где его с восторгом встретила Марианна. Поездка по Италии и события, произошедшие в Риме, а также только что полученные вести из Англии еще больше укрепили Байрона в мысли о том, что ему не суждено вернуться на родину. Его судьба – быть изгнанником.
По возвращении в Венецию Байрон прежде всего начал заботиться о том, чтобы уладить финансовые дела в Англии, уплатить долги и спокойно жить за границей. Только «неотложная и срочная» необходимость, говорил он Киннэрду, заставит его вернуться на родину. Байрон говорил об «обязанности срочно избавиться от Ньюстеда без дальнейшего промедления именно этим летом и любой ценой…». Стремление продать поместье не было продиктовано недостатком в деньгах, потому что теперь литературная деятельность приносила Байрону стабильный доход. Меррей заплатил ему 2000 фунтов за третью песнь «Чайльд Гарольда», «Шильонского узника» и другие поэмы, а впоследствии еще шестьсот гиней за «Манфреда» и «Жалобу Тассо».
Двусмысленные письма Августы ослабили желание Байрона вернуться на родину. Она казалась испуганной, или, возможно, чье-то зловещее влияние бросало тень на ее любовь к брату. Он написал: «Я получил все твои письма, полные горя, загадок и уныния, однако, несмотря на это, мои чувства остаются прежними, хотя я никак не могу понять, что является причиной твоего настроения: разбитое сердце или боль в ухе, и чему обязаны твои грустные и загадочные предчувствия: романам Каролины Лэм, свидетельствам миссис Клермонт, великодушию леди Байрон или чему-либо другому…»
Чтобы избежать жары и испарений каналов, Байрон на полгода взял в аренду виллу Фоскарини на левом берегу канала Брента в Ла-Мире, деревне, расположенной примерно в семи милях от устья реки, в Фузине, на берегу Венецианской лагуны. Вилла, стоящая на пыльной дороге в Падую, представляла собой большой квадратный дворец, бывший монастырь, превращенный в палладианский особняк семьи патриция Фоскарини в начале XVII века. Марианна Сегати также приехала сюда, поскольку поблизости жили ее друзья. К 14 июня Байрон поселился в огромном дворце. Больше всего его привлекало то, что он мог держать там лошадей и ездить верхом, когда ему захочется.
Свободный от городских развлечений, Байрон вновь вернулся к литературе. Меррей тянул с изданием «Манфреда», опасаясь общественной реакции на еретические и смелые взгляды и слишком очевидное сходство героини Астарты с сестрой Байрона. Байрон тоже беспокоился об этой поэме, хотя и по другой причине. Он излил в ней всю душу, отдал все внутренние силы, хотя и не пришел к какому-либо определенному философскому заключению относительно метафизических проблем, давно волновавших его. Худшие опасения Меррея подтвердились, когда 16 июня в лондонской газете «Дэй энд нью тайме» появились критические статьи по поводу «Манфреда» с указанием на автобиографичность поэмы. К счастью, большинство критиков воздерживались от комментариев на запрещенную тему инцеста и в основном высказывались о религиозных взглядах автора.
Тем временем в часы досуга в пустом дворце Байрон начал описание своих римских приключений. К 1 июля он подготовил набросок четвертой песни «Чайльд Гарольда», состоящей примерно из тридцати строф. Его герой начал свое странствие по Италии не с Рима, а с Венеции, чьи скорбные развалины как нельзя лучше гармонировали с общим духом поэмы. Песнь начиналась знаменитой строчкой: «Я был в Венеции, на мосту Вздохов». От письма Байрона отвлек приезд Льюиса, с которым он на неделю отправился в Венецию. Их беседа пробудила в душе Байрона ностальгию по веселому лондонскому обществу, и он написал Муру: «Ах, мы слышали полуночный бой часов!»
Несмотря на поездку в Венецию, 20 июля Байрон завершил песнь, состоящую из ста двадцати шести строф. Поэма представляла собой не только панораму итальянских впечатлений и путешествия в Рим, но и, как обычно, историю чувств и внутренней борьбы автора. Когда наконец на семьдесят восьмой строфе герой вернулся в Рим, то Байрон дал волю своему воображению и красноречию:
Рим! Родина! Земля моей мечты!
Кто сердцем сир, чьи дни обузой стали,
Взгляни на мать погибших царств – и ты
Поймешь, как жалки все твои печали.
Однако больше всего его тронул рассказ о легендарном фонтане Эгерии, где разыгрывалось действие драмы о Нуме и нимфе. Это был фонтан любимого римского поэта Байрона, Ювенала. Бессмертные мечты, пробужденные легендой о любви человека к богине, поправшей жалкие рамки бренного человеческого бытия, вызвали из-под пера Байрона пронзительные строчки «Чайльд Гарольда»:
Любовь! Не для земли ты рождена,
Но верим мы в земного серафима,
И мучеников веры имена —
Сердец разбитых рать неисчислима.
Ты не была и ты не будешь зрима,
Но, к опыту скептическому глух,
Какие формы той, кто им любима,
Какую власть, закрыв и взор и слух,
Дает измученный, усталый, скорбный дух!
Но после полета на небеса пегас Байрона вновь спустился на землю:
Так будем смело мыслить! Отстоим
Последний форт средь общего паденья.
Пускай хоть ты останешься моим,
Святое право мысли и сужденья…
Для Байрона было типично после смелых и безумных мечтаний возвращаться к логике и здравому смыслу. Нельзя сказать, что это приносило ему удовлетворение: просто этот внутренний порыв всегда был сильнее его. Ночные встречи с поэзией, поскольку лучше всего ему писалось перед рассветом, составляли тайную жизнь Байрона, приносили ему величайшее наслаждение и наполняли счастьем тот прекрасный июль, проведенный на вилле. Байрон вставал поздно, иногда отправлялся в Венецию, на своей гондоле плыл в Лидо, чтобы искупаться в Адриатическом море, а вечерами ездил верхом вдоль канала Брента. В конце июля в Ла-Миру приехал погостить Льюис, а 31-го прибыл Хобхаус и стал сопровождать Байрона в его вечерних верховых прогулках.
В один из таких вечеров они встретили двух красивых крестьянских девушек и заговорили с ними. Байрон вскоре условился о встрече с одной из них, которая была замужем, а другая бежала от Хобхауса, поскольку не была замужем, потому что, по словам Байрона, «здесь ни одна женщина не пойдет на любовную связь, не будучи замужем». Девушка Байрона откровенно сказала, что «не возражает против встреч со мной, поскольку она замужем, а все замужние женщины делают это. Но ее муж, булочник, обладает свирепым нравом и может причинить ей вред. Короче говоря, за несколько вечеров мы устроили все наши дела…».
Животная страстность и дерзость этой девушки по имени Маргарита Коньи делала ее еще более очаровательной в глазах Байрона, который вскоре не мог без нее жить. Он был удивлен и поражен ее самоуверенностью и напористостью. Ее не волновала его связь с Марианной и с другими женщинами, и она открыто хвасталась, что он всегда вернется к ней. Байрон говорил Меррею, что причиной его выбора была «прежде всего ее внешность: очень высокая, темноволосая, венецианское лицо, очень красивые черные глаза и другие качества, о которых не стоит упоминать. Ей было двадцать два года, и у нее никогда не было детей, поэтому она не испортила ни свою фигуру, ни что-либо другое, что является, уверяю тебя, неизбежным в здешнем жарком климате, где женщины становятся вялыми, рыхлыми и отупевшими вскоре после рождения детей. Кроме того, она говорит, думает и выглядит как настоящая венецианка с их наивностью и крестьянским юмором. Она не умеет ни читать, ни писать и не может изводить меня письмами…». Когда однажды вечером Марианна увидела ее, Маргарита «отбросила свою вуаль (fazziolo) и ответила на четком венецианском диалекте: «Ты не его жена, и я не его жена. Ты его донна, и я его донна. Твой муж рогоносец, и мой тоже. А что касается остального, то какое право ты имеешь упрекать меня? Если он предпочитает меня, то разве это моя вина?»
После отъезда Льюиса в августе Байрон вновь вернулся к работе над «Чайльд Гарольдом». Обнаружив, что последняя песнь понравилась Хобхаусу больше, чем предыдущая, написанная в Швейцарии под влиянием бесед с Шелли, Байрон даже добавил к ней несколько строф по совету друга. Вскоре Хобхаус начал писать исторические заметки для поэмы.
Просьба Меррея, чтобы Байрон написал для него «тактичное и вежливое отклонение» трагедии, присланной издателю доктором Полидори, была услышана, и Байрон сочинил шутливые стихи, в которых упражнялся в остроумии насчет своего издателя и напыщенного Полидори:
Милый доктор, я прочел ваше произведение
И считаю, что это в общем-то неплохое творение,
Прельщает взор и душу бередит,
И слезы выжимает и манит…
Но мне прискорбно говорить об этом,
Но пьесы лишь лекарства на свете этом…
Когда-то даже Байрон писал лучше,
Но целый год уже пишет он все хуже,
Наверное, растерял свой дар в Венеции,
С какой-нибудь прелестной юной женщиной…
Несомненно, Байрон не забыл о том, как Меррей был не уверен в успехе «Манфреда».
Весь август прошел в развлечениях в Ла-Мире. По выходным регулярно появлялся синьор Сегати, но не для того, чтобы устраивать сцены любовнику жены, а чтобы поухаживать за дамой, живущей по соседству, а порой сообщить Байрону и его друзьям последние сплетни из Венеции. 29 августа он поведал одну историю, которая понравилась Байрону, так как в ней отражались венецианский образ жизни и моральные устои. Муж одной женщины погиб в море, по крайней мере, так она думала и завела любовника, «вице-мужа», как шутливо назвал его Байрон. Через несколько лет ей встретился турок, который назвал себя ее мужем и, по словам Хобхауса, сделал ей три предложения: «бросить любовника и пойти со мной, остаться с любовником или принять денежное содержание и жить одной». Далее Хобхаус добавил: «Дама еще не дала ответ, но мистер Загати заметил, глядя на Б., что уверен, что она не оставит любовника ради мужа. Это слишком грубо даже для меня».
Байрон решил, что этот случай может лечь в основу произведения, в котором он отразит все свои венецианские приключения. Через несколько дней он уже начал работу над комическо-героической поэмой, которая открыла новый литературный период его творчества. Форму поэмы подсказало произведение Джона Хукэма Фрира, остроумная сатирическая поэма, созданная по образцу Луиджи Пульчи, жившего в XV веке предшественника Касти и использовавшего итальянскую октаву. Поэма Фрира, основанная на произведении Пульчи «Моргайте Маджоре», комическо-героических приключениях монахов и гигантов, в свободном разговорном стиле повествовала о совершенно различных предметах, случаях и характерах. Отсутствие единства, лирические отступления, остроумные эпиграммы, ироническое принижение сентиментального, подчеркнутое в кульминационных строках куплетов в конце восьмистрочных строф, разговорный язык, совсем не героическое изображение персонажей и обезоруживающая откровенность описаний делали поэму идеальным образцом для Байрона. Она особенно пришлась ему по вкусу потому, что он всегда презирал обобщенные описания и помпезность английской поэзии.
Одним росчерком пера Байрон скинул с себя оковы британского стиля и манеры «Чайльд Гарольда», и в новых строках появились беззаботность и откровенность, свойственные его письмам. Пусть критики выискивают недостатки, он все равно будет собой:
С натуги я до прозы пасть готов,
Но вот беда: все требуют стихов.
Красота стиля была так же естественна, как красота страны. Все, что рождало воображение, будь это описание, циничный комментарий, чувство, различные отступления, расписывалось во всех подробностях, как в эпистолярном жанре, а дальнейший рассказ мог немного подождать. Описав карнавал, Байрон обратился к женщинам:
Мы знаем, добродетель Дездемоны
От клеветы бедняжку не спасла,
До наших дней от Рима до Вероны
Случаются подобные дела.
Но изменились нравы и законы,
Не станет муж душить со зла
(Тем более – красотку), коль за нею
Ходить, как тень, угодно чичисбею.
Гондола, как нельзя лучше подходящая для тайных свиданий, описывается Байроном так: «…и мнится, лодка с гробом проплывает…» Только с двадцать первой строфы он представил свою героиню Лауру. Вероятно, имя было выбрано специально, как пародия на платоническую и верную любовь Петрарки, поскольку героиня Байрона скорее воодушевляла на страстные взгляды, чем на написание сонетов. После этого следует отступление, повествующее о чарах замужних дам, которые «везде желанными быть хотели», в то время как «хоть мисс, как роза, свежестью сверкает, но неловка, дрожит за каждый шаг…», «все отдает в ней нянькиным уходом, она и пахнет как-то бутербродом».
Свободный от английских предрассудков и условностей английского стиля стихосложения, Байрон почувствовал, что должен воздать хвалу итальянскому солнцу и образу жизни:
Но пусть грешит Италия по моде!
Прощаю все пленительной стране,
Где солнце каждый день на небосводе…
…где восход
Не в мути, не в тумане возгорится,
не мокрым глазом пьяницы блеснет…
Люблю язык! Латыни гордый внук,
Как нежен он в прощаньях сладострастных…
В сравнениях с Англией прослеживалось давнее злорадное чувство Байрона по отношению к родному острову, «нашему облачному климату и холодным женщинам».
Тем временем история подошла к ироническому завершению: Лаура и граф пригласили мужа Лауры для разговора; она поступила плохо по отношению к нему, но спокойно приняла его, и муж с графом, любовником Лауры, остались добрыми друзьями.
10 октября Байрон закончил поэму, названную им «Беппо», и вновь обратился к «Чайльд Гарольду». Даже во время работы его не оставляло убеждение в том, что он и все современные поэты пошли по ложному пути. Байрон написал Меррею: «Я еще больше убедился в этом после того, как недавно перечитал наших классиков, особенно Поупа… Я был изумлен неизмеримой разницей в смысле, гармонии, восприятии и даже воображении, страстях и изобретательности между маленьким поэтом времен королевы Анны и нами, поэтами нашей империи… Если бы мне выпала доля начать заново, я стал бы следовать достойному образцу».
Как обычно, литературные труды Байрона не мешали его светской жизни. Уильям Стюарт Роуз и братья Киннэрд, видевшиеся с ним в сентябре и принесшие ему произведение Фрира, уехали, но в течение всей осени Байрон виделся с другими англичанами. Он познакомился с Ричардом Белгрейвом Хоппнером, британским советником в Венеции, и был очарован его манерами и тактом. Советник был сыном известного портретиста Джона Хоппнера, контрадмирала. Сам он тоже изучал живопись, но был скорее любителем, к тому же пробовал силы в литературе. Он был женат на швейцарке. Хоппнеры гордились дружбой с поэтом и окружили его заботой и вниманием. Вскоре Байрон стал давать Хоппнеру книги, а тот, в свою очередь, много занимался делами Байрона, особенно когда поэт не жил в Венеции. Мечтая о спокойной жизни, Байрон снял виллу Хоппнера в Эсте на Эвганейских холмах, но был там только один раз.
С Хобхаусом Байрон прожил в Ла-Мире до ноября, когда холодные ночи в насквозь продуваемых ветром комнатах старого дворца вынудили их вернуться в Венецию. В день отъезда они отправились на гондоле к Лидо, чтобы подышать воздухом Адриатики и полюбоваться закатом над лагуной. 21 ноября лошади Байрона и сено для них из Ла-Миры были паромом переправлены в Лидо. После этого Байрон с Хобхаусом наслаждались бешеной скачкой по песку.
10 декабря Байрон получил долгожданные вести о том, что Ньюстед был продан его товарищу по Хэрроу, майору, а впоследствии полковнику Томасу Уайлдману за девяносто четыре с половиной тысячи фунтов[24]. Мысль о возможности наконец-то уплатить долги, которые составляли более тридцати тысяч фунтов, и о появлении устойчивого источника дохода принесла облегчение, и Байрону стало легче думать о других обязательствах. Он написал Шелли, что желает принять участие в воспитании дочери и просит прислать девочку в Италию. Шелли собирался провести зиму в Пизе и сам хотел привезти девочку, но обстоятельства помешали ему. Он сообщал, что Клер подумывала назвать дочь своим именем, но «откладывает эту важную церемонию, пока не узнает, нет ли у вас склонности к другому имени». У Байрона она и в самом деле была. Он написал Киннэрду: «Шелли написал мне из Марлоу о моей дочери, последней незаконнорожденной, которая, кажется, уже красавица. Не придумаешь ли, куда поместить ее здесь или в Англии? Я признаю и буду сам воспитывать ее, дам ей свою фамилию, но в другом написании (Biron, а не Byron), чтобы отличать от законной дочери, и назову ее Аллегра, венецианское имя».
Во время последних недель пребывания Хобхауса в Венеции Байрон вел более насыщенную светскую жизнь, чем обычно. Со своим другом он посещал литературный салон графини Альбрицци. Они часто ужинали на постоялом дворе Пеллегрино или у Хоппнеров, ходили в театр или в оперу в Сан-Бенедетто, большей частью смотреть комедии или фарсы, и их излюбленным драматургом был Гольдони. 20-го числа они были в Сан-Лукке и слушали Сгриччи, импровизатора. 29 декабря в ложе Хоппнера они слушали оперу Россини.
7 января Хобхаус последний раз отправился с Байроном в Лидо. В своем дневнике он писал: «Провел вечер с Байроном, который завершил «Чайльд Гарольда», и расстался с моим милым другом в полночь. Незадолго до ухода он сказал мне, что всегда жил чувствами, но скрывал их, думаю, первая часть этого утверждения истинна. Да хранит его Бог!» На следующее утро Хобхаус отправился в Англию, забрав с собой рукопись Байрона.
Карнавал начался в январе, вскоре после отъезда Хобхауса из Венеции. В прошлом году Байрон был слишком увлечен Марианной Сегати, чтобы принимать участие в маскарадах или вечерах музыки и танцев. Но теперь, хотя он по-прежнему жил в комнатах торговца мануфактурными изделиями на Фреццерии, капризы его темноволосой возлюбленной, ее вспышки ревности и ярости и желание заставить его ревновать начали надоедать Байрону. По словам Мура, больше всего Байрона разочаровало то, что Марианна продала некоторые драгоценности, подаренные им ей.
Байрон начал искать утешения в карнавальных приключениях. Хотя он скучал без Хобхауса, но зато исчезла скованность, имевшаяся в обществе его благоразумного друга. Уже захваченный весельем карнавала, Байрон 8 января послал Меррею остроумное и смелое стихотворение, смысл которого можно передать так:
Мой дорогой Меррей,
Вы слишком уверены,
Что издадите последнюю песню…
Но если нас не ограбят,
Вы увидите, что мистер Хобхаус
Доставит ее благополучно в своем портмоне.
А далее Байрон насмешливо писал:
Сейчас я задую свечу…
Рядом со мной красавица,
Потому что мне ночью писать нравится,
Когда поблизости чернильницы кровать.
Магомет учил, что веселие
Усиливает к молитве рвение.
Если пророку удавалось это,
То так же удастся и поэту.
Однако в разгар маскарада и веселья Байрон нашел время, чтобы закончить переписывать поэму «Беппо», и 19 января отправил ее Меррею. Но на следующей неделе он написал, что карнавал по-прежнему продолжается, «и я опять под властью очередной интриги, не знаю точно, с кем или с чем, кроме того, что она страстна и не хочет брать денег, у нее светлые волосы и голубые глаза, что здесь встретишь нечасто, и что я увидел ее на маскараде. Когда она снимет маску, я опять вернусь к нормальной жизни. Хочу наслаждаться своей молодостью до конца и, подобно Августу, умереть стоя».
Неудивительно, что к середине февраля, как только закончился карнавал, Байрон, к своей досаде, обнаружил у себя древнюю болезнь служителей Венеры, которая не беспокоила его со времени пребывания в Греции в 1811 году, когда она перемежалась кровотечениями и лихорадкой, делая переход через Гибралтар мучительным. Байрон писал Хобхаусу, что «Елена да Моста, светская дама, тоже заразилась, но, к счастью для меня, это была первая гонорея, за которую не пришлось платить».
Из-за болезни Байрону пришлось прервать конные поездки, но не светские развлечения. В Сан-Бенедетто звучали оратории Гайдна и Генделя, и время от времени в начале года Байрон регулярно посещал литературный салон графини Марины Бенцони, стареющей красавицы, которая не желала распрощаться с развлечениями юности и иллюзией того, что даже в шестьдесят лет она обладала очарованием, которому не могла противиться вся Венеция и которое делало ее всеобщей любимицей. Когда-то она танцевала с Уго Фосколо вокруг дерева свободы на празднике в честь Французской революции. Она было одета в афинскую юбку с разрезами по бокам и накидку, которая оставляла обнаженной левую грудь. Ламберти сделал ее героиней известной баллады «Биондина из Гондолетты». Кавалер Джузеппе Рангоне отказался от дипломатической карьеры, чтобы служить своей даме, был ее поклонником тридцать лет и наконец женился на ней, когда ей было почти семьдесят.
Когда как-то утром Байрон спросил кавалера о его супруге, тот ответил одним великолепным словом «Rugiadosa» («Свежая»).
Салон Марины был более свободным, чем салон графини Альбрицци, которая тщательно отбирала только служителей литературы. Возможно, поэтому Байрон постепенно перестал посещать графиню. Он разочаровался в Пиндемонте и многих других поэтах, встреченных им.
Вскоре Байрон с новой силой возобновил свои связи с венецианками. Больше всего его восхищали представительницы среднего и низшего классов – их блестящие глаза, бурные страсти, крестьянский юмор. Предаваясь с этими женщинами плотским утехам, он хотел отомстить холодной и расчетливой Аннабелле. Байрон находил удовольствие в естественных утехах, которые некоторым его друзьям и даже Хобхаусу казались слишком примитивными и грубыми. Его любовь к боксу и дружба с «Джентльменом» Джексоном, учителем фехтования Генри Анжело и его приятелями по кабаку, вероятно, проистекала из того же источника, что и пристрастие Байрона к «красивым животным», которых он искал среди итальянок. Но что бы он потом ни рассказывал своим английским друзьям, большинство его связей и даже мимолетные знакомства окрашены в романтические тона. Женщиной, которая больше других поразила его воображение в то время из-за своей жизнерадостности, страстности и красоты, была Маргарита Коньи, жена булочника. Байрон описывал ее как высокую женщину ростом около пяти футов десяти дюймов, с прекрасным телом, «достойным произвести на свет гладиаторов».
Возможно, разрыв с Марианной побудил Байрона искать другое место жительства. Он любил просторные дома, и только привязанность к Сегати могла так долго удерживать его в узких кварталах Фреццерии. По сравнению с Англией дворцы в Венеции были относительно дешевы. Байрон начал переговоры с графом Гритти, но не пришел к соглашению и согласился на палаццо семьи Мосениго, куда и переехал в начале июня[25].
Дворец Мосениго, который Байрон взял в трехгодичную аренду за 4800 франков (200 луидоров, или около 190 фунтов) в год, представлял собой мощное серое здание, реликт времен богатых купцов, расположенное за первым поворотом Большого канала в форме буквы «S», если смотреть со стороны Академии, поблизости от моста Риальто и в нескольких сотнях ярдов от площади Сан-Марко. Третий дворец (все три здания выходили на Большой канал) был построен после 1600 года. У него было три этажа. Первый, сырой и холодный, этаж выходил на пристань для гондол. На втором этаже располагалась огромная гостиная с высоким потолком. Балконы каждого этажа также выходили на канал. Дюжина больших и маленьких комнат давала возможность Байрону принимать гостей и размещать большое количество слуг.
Дополнительной причиной для выбора такого большого дворца было то, что Шелли должны были привезти из Англии незаконнорожденную дочь Байрона. Хотя он и пытался скрыть свои отцовские чувства под циничной бравадой, но сам с нетерпением ожидал прибытия ребенка. До приезда Шелли он весело написал Хобхаусу: «Чиновник может доставить бумаги, которые надо подписать в связи с продажей Ньюстеда, и одновременно может прибыть мой ребенок от Клер. Молю тебя, накажи Шелли хорошенько его упаковать и снабдить зубным порошком, обязательно красным, магнезией, содой, зубными щетками, свинцовым пластырем и какими-нибудь новыми романами».
11 марта Шелли отправились в Италию вместе с Клер и дочерью Байрона, английской служанкой и Элизой, няней-швейцаркой. За два дня до отъезда Клер отнесла ребенка в приходскую церковь Сент Гайлсин де Филдс и окрестила «Кларой Аллегрой Байрон, рожденной от благородного Джорджа Гордона лорда Байрона, ее законного отца, Кларой Мэри Джейн Клермонт». Таким образом она прибавила свое имя к имени, выбранному Байроном, и оставила потомкам запись о своих отношениях с ним.
4 апреля Шелли прибыли в Милан в надежде, что Байрон присоединится к ним, но он не хотел уезжать из Венеции. Шелли, возможно по подсказке Клер, написал Байрону письмо, приглашая его присоединиться к ним на озере Комо, где они искали дом на лето. Однако у Байрона не было желания на берегах озера возобновлять связь, которая омрачала его воспоминания о Женеве. Он попросил прислать ребенка в Венецию вместе с няней. Шелли вновь написал ему с повторным приглашением, чтобы «уменьшить горе Клер, когда она увидит своего ребенка, отданного вам… Вы не настолько слабовольны, чтобы доброе отношение и несколько ласковых слов могли бы окончательно смягчить вас».
Из этой просьбы видно, как мало Шелли знал Байрона и Клер. Шелли всегда ошибочно полагал, что человеческая натура более подвержена разуму и что чувства можно легко контролировать. Другое письмо Байрона с обещанием, что Клер вновь увидит ребенка, настолько ее успокоило, что 28 апреля она отправила к нему Аллегру вместе с Элизой и гонцом, привезшим письмо. Клер воспользовалась возможностью, чтобы послать Байрону письмо: «Молю тебя лишь об одном. Пришли мне маленькую прядь твоих драгоценных волос, чтобы вместе с волосами Аллегры я могла положить ее в медальон… Мой дорогой лорд Байрон, ты самый лучший на свете и отец моего ребенка, и я не могу забыть тебя».
Бедная Клер опять призналась в своей любви к Байрону и была слишком ослеплена чувствами, чтобы понять, какое впечатление произведет униженная мольба хотя бы о крупице доброты. Если бы она написала, что заинтересована лишь в благополучии девочки и равнодушна к Байрону, он бы смог обходиться с ней со всей добротой и справедливостью. Мысль о том, что Клер использует Аллегру как оружие в борьбе за него, мешала Байрону относиться к ней по-дружески.
Когда 2 мая в город прибыли няня с Аллегрой, Байрон еще не успел переехать во дворец, и, возможно, девочка в это время жила у Хоппнеров. Обосновавшись во дворце Мосениго, Байрон перевез туда ребенка. Он очень любил дочь. После того как она побыла с ним три месяца, он написал Августе: «…она очень красива, очень умна и всеобщая любимица. Но что удивительно, она больше напоминает леди Байрон, чем свою собственную мать, да настолько, что изумляет ученого Флетчера и меня. У нее очень голубые глаза, высокий лоб, светлые вьющиеся волосы и несносный характер – это от отца».
28 февраля Меррей анонимно издал поэму «Беппо», и вскоре она стала предметом всеобщего обсуждения. Добродушный юмор завоевал расположение критиков. Байрон был доволен и разрешил Меррею издать поэму с указанием имени автора. «В любом случае она покажет им, что я могу писать весело и ненавижу уныние и манерность». Что касается четвертой песни «Чайльд Гарольда», то Меррей был «заворожен», по словам Хобхауса, но издатель оказался не столь доволен комментариями Хобхауса к поэме. Тем не менее Байрон остался верен другу и настаивал на том, чтобы комментарии были сохранены.
Байрон по-прежнему наслаждался обществом Хоппнеров и избранных гостей англичан и иностранцев, которые посещали этот гостеприимный кров. У Хоппнера Байрон встретил Александра Скотта, молодого англичанина независимых взглядов, который позднее сопровождал его в поездках в Лидо. Там же он познакомился с заслуживающим внимания участником наполеоновских войн, кавалером Анжело Менгальдо. Преданность кавалера былой славе падшего Наполеона, республиканские взгляды, интерес к поэзии и собственные попытки писать привлекли английского поэта. Однако его несдержанное самолюбие, напоминавшее самолюбие Байрона, было причиной постоянных ссор между ними. В июне Менгальдо и Байрон устроили соревнование по плаванию. Они оба хвастались своими способностями: Байрон переплыл реку Тахо и Геллеспонт, Менгальдо – Дунай и Березину под огнем. Байрон часто практиковался в плавании в Адриатическом море и на Большом канале. Графиня Альбрицци вспоминала, что однажды видели, «как он, выйдя из дворца на Большом канале, вместо того чтобы сесть в гондолу, бросился в воду в одежде и поплыл к дому». Чтобы не столкнуться с веслами гребцов, он держал в левой руке фонарь, плавая в канале по ночам.
Состязание состоялось 25 июня. Байрон с легкостью выиграл, оставив Менгальдо в пятистах ярдах позади и успев из Лидо переплыть в Большой канал. «Я находился в море с половины пятого до четверти девятого без отдыха, – рассказывал он Хобхаусу и прибавлял: – Я не чувствовал усталости, потому что позавтракал после полудня, а потом поужинал вечером в десять часов».
Весной и летом Байрон продолжал развлекаться с венецианками. Особенно он увлекся оперной певицей. Он с восторгом писал Хобхаусу: «Она самая прелестная вакханка в мире, и за нее можно умереть. С Сегати мы расстались месяца два или три назад. У меня полно других девиц. Благодаря Арпалис Тару счел ли, вышеупомянутой сумасбродке, между нами нет прочных отношений, только обмен любезностями и всякие несерьезные шутки». Как бы легко Байрон ни отзывался об этой связи, он не мог плохо обращаться с девушкой, потому что и в последующие годы она сохраняла к нему теплое благодарное чувство.
Стимулируя себя беседами или любовными играми, Байрон обычно завершал ночь стихосложением. 1 июня он закончил длинное письмо к Муру следующими словами: «Доброй ночи или, скорее, доброе утро. Уже четыре утра, над Большим каналом встает солнце и освещает Риальто. Я должен идти спать: не спал всю ночь, но, как говорит Джордж Филпот: «Это жизнь, черт побери, это жизнь!»
Во дворце Мосениго тишина воцарялась только поздней ночью. В большом дворце Байрон мог позволить себе содержать животных и слуг, которых теперь было четырнадцать, все итальянцы, кроме Флетчера. Байрон писал Дугласу Киннэрду: «У меня две обезьянки, лисица и два мастифа… Обезьянки просто очаровательны». Животных держали на первом этаже, где Байрон мог любоваться или играть с ними по пути в свою гондолу. Кроме мелких краж и ссор, Байрон не мог пожаловаться на слуг, которые были преданны ему. Среди самых верных был Джованни Баггиста Фалчери, или просто Тита, который служил у Байрона гондольером. Он был добрым и мягким и, как собака, повсюду следовал за своим хозяином, но огромная черная борода придавала ему свирепый вид.
Весной и летом Байрон испытывал раздражение, считая, что друзья в Англии позабыли его. Меррей не отвечал на его письма, хотя Байрон писал много и интересно и знал, что издатель с удовольствием будет показывать или зачитывать описания Венеции гостям на Элбемарл-стрит, 50. Байрон жаловался на то, что Меррей не написал удовлетворительного ответа насчет того, как приняли поэму. Ньюстед уже продали, но Хэнсон, как обычно, тянул с бумагами для подписания. Когда Байрон написал Хобхаусу и Киннэрду, которые теперь занимались политикой, то не получил ответа.
Раздражение Байрона видно и в его письмах. 1 июня в письме к Муру он зло и язвительно отзывался о своих английских современниках. Что-то, рассказанное Муром о Ханте, вызвало негодование Байрона, которое он пытался скрыть. «Он хороший человек, в его хаотических произведениях есть элементы поэзии. Но его испортили госпиталь Крайст-Черч и воскресные газеты, не говоря уже о суррейской тюрьме, которая сделала его мучеником. И все же он хороший человек. Когда я увидел рукопись «Римини», то сказал ему, что считаю это хорошей поэзией, испорченной только странным стилем. Он ответил, что его стиль – это система, или нечто выше системы, или что-то в этом духе, а когда человек говорит о системе, то он безнадежен…»
Наконец Байрон пригрозил далее иметь дела с Лонгманом, но умиротворяющее письмо Меррея смягчило его гнев, а тысяча гиней, приложенных к письму, развеяла его опасения. Байрон объявил о завершении «Оды Венеции» и добавил, что у него есть два сюжета, «один серьезный и один смешной (а-ля «Беппо»), еще незаконченные, и которые он не спешит закончить». Это первый намек на то, что Байрон уже работал над «Дон Жуаном», первую песнь которого поэт завершит в сентябре. Он также объявил о своем намерении написать мемуары в прозе, «без всякого желания разоблачить или сделать какие-то замечания о ныне живущих людей, которые могли бы быть им неприятны…».
Меррей переслал полную копию последней песни «Чайльд Гарольда» леди Байрон, и, несмотря на всю ее решимость казаться равнодушной, она была тронута. Она прочитала строчки:
Но нечто есть во мне, что не умрет,
Чего ни смерть, ни времени полет,
Ни клевета врагов не уничтожит…
Леди Байрон написала: «Вероятно, это было написано, чтобы произвести впечатление на меня». На самом деле так и было, несколько дней спустя она «почувствовала себя лучше, хотя и была очень слаба… Новая песнь и правда очень красивая». Аннабеллу расстроили письма от семьи Монтгомери, которые видели Байрона в Венеции и со злобой сообщили, что «он чрезвычайно толстый, раздутый и тяжелый». В отчаянии Аннабелла отправилась в аббатство, откуда Байрон написал ей письмо с предложением в те дни, когда вся ее жизнь была наполнена романтическими мечтами о нем.
Оторванный от родины и друзей, Байрон старался получать простые удовольствия от жизни, которые преподносили ему во множестве темноглазые красавицы, искавшие встречи с ним: некоторые ради выгоды, поскольку он слыл щедрым, другие же ради обаяния его личности, потому что, несмотря на полноту Байрона, женщины по-прежнему находили его привлекательным. Более того, он выказывал удивительное преклонение перед слабым полом: в нем была утонченная, почти женственная нежность, о которой никак нельзя догадаться из его циничных писем английским друзьям. Дж. Корди Джеффресон метко заметил: «Было бы меньше неприятностей от постоянно меняющегося гарема во дворце Мосениго, обладай Байрон циничной жесткостью и грубостью, думай он обо всех этих женщинах как о животных, отличающихся от последних только видом и речью… Несмотря на всю ее распущенность, женщина, которой он страстно увлекался, становилась на миг объектом любви, хотя и преходящей, но нежной».
Но Байрон не обращал внимания на обиды своих возлюбленных, и шумные крики эхом раздавались над водой каналов, приводя к тому, что даже гондольеры начинали говорить о «странностях» английского лорда. Англичан одолевало нездоровое любопытство увидеть его, и они даже подкупали слуг, чтобы проникнуть в дом. Неудивительно, что в литературных салонах Байрон избегал встреч с соотечественниками. Несмотря на это, он был доволен жизнью в Венеции. Продажа Ньюстеда принесла ему материальную независимость, даже большую, чем если бы он остался в Англии. «За два года, проведенные мною в Венеции, – писал Байрон Уэддерберну Уэбстеру, – я потратил около пяти тысяч фунтов. Я не потратил бы и третьей части этих денег, если бы не страсть к женщинам, которая всегда дорого обходится, а в Венеции особенно… Более половины было потрачено на любовные утехи. Будь уверен, я получил много за эти деньги, потратив по меньшей мере на каждую по две сотни, а возможно, и больше, потому что не вел учета». Однако расточительность Байрона распространялась не только на женщин. Хоппнер вспоминал, что Байрон «послал пятьдесят луидоров бедному издателю, чей дом сгорел и который лишился всей собственности».
Как бы ни было хорошо Байрону во дворце, он понимал, что это неподходящее место для его дочери. Элиза, няня-швейцарка маленькой Аллегры, писала встревоженные письма матери девочки относительно ссор слуг и любовниц во дворце Мосениго. В начале августа Хоппнеры взяли к себе Аллегру с няней. Узнав, что ее дочь живет у незнакомых людей, Клер так расстроилась, что упросила Шелли отправиться с ней в Венецию 17 августа. Они приехали 22-го и пошли прямо к Хоппнерам, которые согласились держать приезд Клер в тайне.
На следующий день Шелли зашел во дворец Мосениго, где его сердечно принял Байрон, согласившийся на просьбу Клер повидаться с дочерью. Поверив, что Клер в Падуе, Байрон настаивал, чтобы Шелли сопровождал его во время верховой прогулки в Лидо. Он был в превосходном расположении духа, потому что Шелли всегда поднимал ему настроение. Хотя Байрон любил подшутить над его атеистическими взглядами, Шелли тоже был рад беседе с ним и прогулке, о которых позднее упомянул в поэме «Юлиан и Маддало». В предисловии он говорил о графе Маддало (Байроне) как о «человеке поразительного таланта, способного, если он сумеет направить свои силы в нужное русло, поднять низко павший дух страны. Однако его слабость заключается в гордости… В жизни нет более мягкого, терпеливого и неприхотливого человека, чем Маддало. Он весел, открыт и остроумен. Серьезная же его беседа подобна приворотному зелью: люди слушают, точно очарованные».
Когда Байрон и Шелли вернулись во дворец, то продолжили беседу до утра. Байрон великодушно предложил Шелли и его семье воспользоваться виллой, снятой им у Хоппнера в Эсте, где Аллегра могла бы видеться с матерью. Вновь разговор, как и на песках Лидо, зашел о свободе воли и предназначении, и Юлиан (Шелли) отважно заявил:
Со злом мы слиты собственною волей,
Согласье мы же дали на него.
Иною жизнь нам улыбнется долей,
Раз захотим добиться своего.
Мы можем быть всем тем, что сердцу снится
О счастье, о величье, высоте.
Где, как не в наших помыслах, таится
Все, что нам говорит о красоте,
Что к правде нас влечет, к любви, к мечте?
Мы можем быть иными. И когда бы
Столь слабыми мы не были, дела
Мечта бы никогда не превзошла…
О да, беда лишь в том, что так мы слабы, —
Промолвил Маддало: «Замкнутый круг.
Из пут своих бессильный тщетно рвется.
Как сильным стать? Утопия, мой друг…»
В первой половине сентября Байрон был погружен в работу над первой песней поэмы, начатой в июле. 19 сентября он написал Муру: «Я закончил первую песнь, очень длинную, около ста восьмидесяти октав. Это поэма в стиле «Беппо», которую я написал, окрыленный успехом. Она называется «Дон Жуан» и будет высмеивать почти все. Но сомневаюсь, не слишком ли она откровенна для нашего пуританского общества». Байрон строил грандиозные планы в отношении своей поэмы и писал о своем намерении более серьезно, чем хотел, вначале желая узнать, как примет его произведение читатель. Был какой-то вызов в выборе Дон Жуана, легендарного ученика дьявола и беззаботного повесы, героем ироническо-героической эпопеи, и Байрон находил особенное удовольствие в изменении характера традиционного героя, делая его невинным существом, наивным, подобно Кандиду, и ставшим жертвой обстоятельств.
Наблюдения Байрона над откровенными, свободными нравами итальянского общества и его собственные связи с венецианками снабдили его достаточным материалом для веселого альковного фарса, являющегося кульминацией первой песни; однако с большим наслаждением Байрон описывал мать Дон Жуана, донну Инессу, очевидный намек на леди Байрон. Хотя она изображена как забавная пародия, можно уловить и нотку горечи:
Она имела ум математический,
Держалась величаво до жеманности…
Ее ученость и чопорное совершенство стали темой нескольких строк. Но поскольку «она была, бесспорно, совершенна, но к совершенству свет и глух и нем», ее супруг, дон Хосе, «прямой потомок Евы, любил срывать плоды с любого древа». Сатира достигла высшей точки в куплете:
Мне очень, очень жаль, что за повес
Выходят замуж умные девицы.
Ну что же делать, если бедный бес
Ученым разговором тяготится?
Описание ранних опытов Жуана подготовило читателя к забавной и правдивой сцене невинного обольщения шестнадцатилетнего юноши донной Юлией, двадцатитрехлетней замужней дамой. Однако здесь заключалось полушутливое-полусерьезное пуританское сожаление, любопытное и нечастое исключение из свободолюбивого цинизма автора. Это восклицание о том, что Платон своими идеями вымостил дорогу к аморальному поведению и поэтому сам не лучше сводника. А что касается Юлии, то она:
Она вздохнула, вспыхнула, смутилась,
Шепнула: «Ни за что!» – и… согласилась!
Посвящение современным поэтам родилось после того, как Байрон от своего соотечественника узнал, что лауреат (то есть придворный поэт. – Л.М.) Роберт Саути распространяет о нем слухи. Чувствительный и подозрительный ко всему, что говорилось о нем в Англии, Байрон с негодованием написал Хобхаусу:
«Два года назад, вернувшись из Швейцарии, этот сукин сын заявил, что мы с Шелли создали Общество инцеста и всячески проповедовали свои принципы. Этот негодяй лгал, потому что они не были сестрами… И он солгал еще в одном: между нами не было никакой связи, я всего лишь был едва знаком с мисс К.».
Оттого что посвящение было написано остроумно и весело, оно не становилось менее горьким. Байрон фамильярно отзывался о «Бобе Саути» как об «эпическом отступнике» и клеймил всех представителей «озерной школы» за их верность идеалам тори. Байрон насмехался над «Литературной биографией» Кольриджа, который «объяснял народу метафизику, но лучше бы объяснил свою теорию».
Саути был для Байрона еретиком, защитником королей и тиранов, достойным стать наравне с «интеллектуальным евнухом Каслреем». Звание Саути «лауреат» Байрон зарифмовал с «продажным и презренным Искариотом». Поэт добавил: «Сомневаюсь, что «лауреат» и «Искариот» – хорошая рифма…»
Тем временем Маргарита Коньи, «La Fornarina» или жена булочника, поселилась в качестве домоправительницы во дворце Мосениго, где железной рукой управляла слугами и уменьшила расходы вдвое. Хвастаясь Муру своей свирепой венецианской возлюбленной, с «лицом как у Фаустины и фигурой Юноны, высокой и деятельной, как пифия, со сверкающими глазами и рассыпавшимися по плечам в лунном свете волосами, одной из тех женщин, которые способны на все», Байрон писал: «Уверен, если я вложу ей в руку кинжал, она вонзит его туда, куда я ей скажу, и даже в меня, если я нанесу ей оскорбление. Мне нравятся такие животные, и могу с уверенностью сказать, что всем другим женщинам предпочитаю Медею».
Но через некоторое время Маргарита стала неуправляемой. Байрон писал Меррею: «…если я начинаю сердиться, она всегда рассмешит меня какой-нибудь деревенской шуткой. Цыганка знает об этом и осознает свою способность убеждать, причем все ей удается успешно, как и всем женщинам…» Байрон говорил, что Маргарита была красива «в своем фацциоло, платье, которое носят представительницы низших классов, но, увы, мечтала о шляпке и перьях… Я бросил шляпку в огонь, однако мне надоело сжигать ее наряды, с такой быстротой она их покупала, поэтому она вскоре добилась своего». Однажды когда Байрон направился в Лидо и попал в шторм, то по возвращении обнаружил Маргариту «на ступенях дворца Мосениго на Большом канале. В ее больших черных глазах сверкали слезы, а черные мокрые волосы разметались по плечам… Ее радость при виде меня была смешана с яростью и напомнила мне о тигрице над своими детенышами».
Когда наконец Байрон сказал Маргарите, что она должна вернуться домой, она угрожала ему кинжалом и страшной местью и, вернувшись на следующий день, слегка порезала ему руку. Он приказал своим гребцам доставить ее домой, но она бросилась в воду, так что пришлось спасать ее и нести в дом. Наконец она поняла, что Байрон хочет избавиться от нее, и ушла сама.
Байрон надолго сохранил воспоминания о Маргарите и думал о ней больше, чем о других своих венецианских возлюбленных. «Забыл сказать, – писал он Меррею на следующий год, – что она была очень набожна и всегда крестилась, заслышав колокольный звон. Порой это совсем не вязалось с тем, чем она была занята в данный миг… Однажды, когда она побила кого-то из слуг и очень рассердила меня, я назвал ее коровой (в Италии это страшное оскорбление). Итак, я назвал ее «vacca». Она обернулась, сделала реверанс и ответила: «Vacca tua, Celenza (Eccelenza)», то есть «Ваша корова, если так будет угодно вашей светлости». Она была, как я уже упоминал, очень хорошим существом со многими прекрасными и забавными качествами, но свирепая и дикая, словно демон. Она часто хвасталась своим воздействием на меня и приписывала это своим физическим и нравственным качествам, которые отдавали должное ее личности, но никак не скромности».
В октябре Мэри и Шелли вернулись в Венецию и с тяжелым сердцем оставили Аллегру у Хоппнеров, которые удостоили их отборными сплетнями о поведении Байрона и подробностями его скандальных любовных похождений. Шелли написал своему другу Пикоку, что Байрон знается с самыми презренными женщинами, «которых гондольеры подбирают на улицах. Он позволяет отцам и матерям предлагать ему своих дочерей… Говорит, что не одобряет этого, но мирится».
Раздражение Байрона медлительностью Хэнсона достигло апогея, когда адвокат, его сын Ньютон и агент майора Уайлдмана 11 ноября наконец-то прибыли в Венецию с бумагами на Ньюстед. Байрон сердечно встретил Хэнсона, и его глаза наполнились слезами, потому что на него нахлынули воспоминания о юношеских днях, проведенных с Хэнсонами, несмотря на то что они привезли всего один ящик из трех, отправленных Мерреем, и ни одной книги. Хэнсоны же были несколько разочарованы. Ньютон заметил: «Лорду Байрону было не более тридцати, но выглядел он на сорок. Лицо у него было бледное, обрюзгшее и какое-то землистое. Он очень растолстел, плечи у него были широкие и округлые, а костяшек пальцев не было видно из-за жира».
17 ноября Байрон подписал дополнение к завещанию, в котором оставлял своей дочери Аллегре 5000 фунтов. Хэнсон отвез в Англию запечатанное письмо Хобхаусу и Киннэрду, в котором Байрон просил их уплатить его долги и вложить долю, предусмотренную брачным соглашением, в недвижимость или другую сделку. Дуглас Киннэрд немедленно занялся делом и написал письмо, разъясняющее финансовое положение Байрона. «Вы получите 94 с половиной тысячи фунтов, из которых 66 200 будут выплачены мистеру Блэнду и мне, чтобы приобрести на них государственные ценные бумаги, а проценты от этой сделки вместе с 200 фунтами в год от сэра Р. Ноэля будут выплачиваться вам ежегодно. Оставшиеся 28 300 фунтов мы с Хобхаусом пустим на оплату ваших долгов, которые, согласно предъявленному мне счету, составляют около 34 162 фунтов, следовательно, не хватает около 5860 фунтов». Хэнсон предложил Байрону оплатить прежде небольшие долги, но сам не хотел сокращать сумму своего долга, доходившую до двенадцати тысяч фунтов. Агенты Байрона, Хобхаус и Киннэрд, отклонили предложение и решили, что Хэнсон может подождать уплаты долга, по крайней мере пока он не составит подробный счет. Байрон будет получать пожизненные проценты (3300 фунтов) из доверительной собственности, а кроме того, начиная с апреля еще три тысячи, когда будет подписано соглашение о продаже Ньюстеда.
Байрон отправил в Англию рукопись первой песни «Дон Жуана» и с нетерпением ожидал приговора своих друзей. У него были опасения, потому что поэма «свободна, словно струи фонтана, и содержит горькие политические речи. Описание проклятых тори может остановить Меррея… Когда я говорю «свободна», то имею в виду не ту свободу, которую позволяли себе Ариосто, Боярдо, Вольтер, Пульчи, Берии и лучшие итальянские и французские мыслители, а среди англичан Поуп и Прайор. Я имею в виду отсутствие ненужных слов и фраз и просто ситуации, взятые из жизни».
За завтраком Скроуп Дэвис и Хобхаус читали и обсуждали поэму Байрона. В письме другу Хобхаус со всей тактичностью, на которую только был способен, сообщил, что они оба время от времени восклицали: «Это невозможно издать!» – но потом добавлял: «Не стоит и упоминать, что эти восклицания перемежались восторженными возгласами и восхищением талантом автора, остроумием, поэзией, сатирой и тому подобным…» Хобхаус боялся, что все слухи о жизни Байрона в Венеции будут подтверждены, а то и преувеличены. А что касается сатиры, то «мы со Скроупом пришли к выводу, что более удались нападки на Каслрея, чем на Саути. Здесь, кстати, присутствует оскорбительная фраза, поэтому мы решили, что лучше не издавать эту вещь, пока ты сам не приедешь в Англию и не будешь готов к открытой борьбе с Саути». Хобхаус признал, что не знает, насколько поможет сокращение отдельных частей, потому что «двусмысленные отрывки превосходят все остальное в остроумии, иронии и поэтичности». Даже Дуглас Киннэрд, такой же несдержанный в речи, как и Байрон, согласился, что поэму публиковать нельзя.
Друзья Байрона полагали, что из-за его долгого отсутствия на родине он не знает о растущем негодовании читателей, обязанном своим появлением распутству двора в правление принца-регента и представителей высших классов, с которыми Байрон нередко сталкивался, живя в Лондоне. Но Байрон не мог с этим согласиться и не желал сокращать поэму, хотя и понимал, что лучше бы убрать строки вызывающего характера, посвященные Каслрею и Саути. «Я обращаюсь к Меррею и читателю: «Дон Жуан» выйдет полностью или никак. Если есть возражения насчет излишней распущенности, то люди, приветствующие поэзию Томаса Мура и читающие Филдинга и Смоллетта, могут с этим мириться. Если же дело в поэзии, то я все-таки рискну. Ни за что не уступлю дорогу ханжеству». На возражение Хобхауса о том, что поэма слишком автобиографична, Байрон ответил: «Приключение с Юлией (альковный фарс с донной Юлией) не имеет ко мне никакого отношения, а скорее, связано с одним моим знакомым по имени Паролини. Это случилось, когда он был мальчиком, в Бассано, с женой префекта…»
Наконец Байрон обратился к Меррею, надеясь заинтересовать его скандальным успехом и убедить не обращать внимания на мнение «пуританского комитета». «…Я возражаю. Если в поэме есть поэзия, она выдержит суд публики, а если нет, то провалится. Остальное же чепуха и не может помешать изданию…» Байрон попросил Меррея напечатать пятьдесят экземпляров для распространения в кругу друзей. Но вскоре стал настаивать на настоящей публикации. «Если бы мне сказали, что стихи плохие, я бы согласился; но мне говорят обратное, а потом начинают рассуждать о нравственности: впервые я слышу это слово не от негодяя, употребленное по назначению. Я заявляю, что это самая нравственная из всех поэм, но если читатели так не решат, то это их вина, а не моя».
Байрона раздражало, что лорд Лодердейл, который отвез рукопись в Лондон, начал распространять слухи о его венецианских увлечениях. Байрон хвастливо писал Хобхаусу и Киннэрду:
«Что именно он имеет в виду? С прошлого года у меня их было полно: Тарручелли, да Мости, Спинеда, Лотти, Риццато, Элеонора, Карлотта, Джульетта, Альвизи, Замбьери, Элеонора де Бецци, любовница по крайней мере одного короля Неаполя, Терезина Маццурати, Глеттенхайм и ее сестра, Луиджия и ее мать, Форнаретта, Сайта, Калигара, Портьера Бедова, артистка кордебалета из Болоньи, Тентора и ее сестра и так далее. Некоторые из них графини, некоторые жены сапожников; некоторые благородные, другие из среднего класса, третьи – из низшего, и все распутницы. Кого из них имеет в виду проклятый старик? С 1817 года я был с ними со всеми и еще со многими другими». В приписке Байрон сообщал, что не собирается менять своего образа жизни: «Какие бы деньги ни заплатил Меррей, пожалуйста, перешлите мне. Ни за что не соглашусь тратить свои, а то, что зарабатываю с помощью своих мозгов, буду тратить на девок, пока у меня еще есть порох в пороховницах. Я не проживу долго и поэтому должен брать от жизни все…»
Несмотря на свои возражения, Байрон постепенно признал, что необходимо воздержаться от издания «Дон Жуана», и написал Киннэрду: «Это обойдется мне в несколько тысяч фунтов, и на глаза наворачиваются слезы. Я так полюбил деньги, что храню в ящике цехины и раз в неделю пересчитываю их и плачу…»
До конца карнавала, решил Байрон, осторожные друзья его не отступятся. И все же он верил, что Меррей хочет издать поэму, хотя и надеется убедить Байрона исключить некоторые «пикантные подробности», как он отозвался о слишком откровенных эпизодах в льстивом письме. Ответ Байрона был красноречивым и колким. Он обнаружил свой дар в едких сатирических строчках «Дон Жуана» и не хотел поддаваться на льстивые увещевания издателя или проповеди друзей. «Из моей песни вам не удастся сделать песенок, – возражал он. – Веселая поэма понравится, а глупая провалится, но мне не нужны эти чертовы редакции и цензура».
Меррей сообщил о том, что Фосколо «заявил, что человеку вашего таланта потребуется не больше шести – восьми лет, чтобы найти достойную тему». «Не сделаю ничего подобного, – отрезал Байрон. – Ненавижу задания. «Семь-восемь лет»! Бог посылает нам только один день или месяц, а вы говорите о годах… «Произведения»! А разве «Чайльд Гарольд» ничто? У нас так много божественных поэм, почему бы не написать человеческую без старых и надоевших условностей? Я мог бы растянуть четыре песни в двадцать, если бы хотел издавать книги, а страсти превратил бы в такое же количество современных трагедий. Если вам нужен объем, то вы получите «Дон Жуана», в котором будет пятьдесят песен».
Невзирая на хвастливые письма друзьям, в личной жизни Байрон оказался в тупике. Хотя он в этом и не признавался, но прелести венецианской жизни стали ему приедаться. Частые оргии подорвали его здоровье и душевное равновесие. Байрон уже не находил удовольствия в подсчитывании количества своих побед. И все же во время праздников, когда маскарад призывал к новым интригам, он, чтобы развеяться, тайно увлекся незамужней восемнадцатилетней девушкой. Любовь к невинным созданиям, которую он питал с юности, когда его идеалами были Маргарет Паркер, а позднее одиннадцатилетняя дочь леди Оксфорд, подтолкнула Байрона на поиски менее искушенной женщины, чем замужние дамы, с которыми он развлекался в последние годы. Однако привычка к раскованности и знание слабостей женщин препятствовали чистым романтическим отношениям, даже если они сопровождались строжайшей секретностью и необходимостью взбираться на балкон, чтобы встретиться с возлюбленной. Рассказывая об этом, Байрон представал скорее Дон Жуаном, нежели Ромео. Девушка Анжелина хотела выйти за него замуж, а когда узнала, что он «уже женат», настаивала, чтобы он как можно скорее избавился от жены. Ее «твердолобый» отец, предупрежденный соседом, отправил к Байрону священника и комиссара полиции и запер дочь. Позднее Байрон говорил Медвину, что ему было совершенно все равно, застрелит ли его комиссар или потащит под венец.
Творческие способности Байрона никогда еще не были так сильны, но физически и эмоционально он чувствовал себя изнуренным. Острый меч поистине источил ножны, как говорилось в стихотворении. В таком подавленном настроении он как-то вечером в начале апреля в сопровождении своего друга Александра Скотта направился в салон графини Бенцони. После окончания представления в театре здесь начали собираться гости, и в дверях салона появилась изящная девушка с густыми золотисто-каштановыми локонами, падавшими на красивые плечи. Ее грудь и руки были полные, но изящной формы, кожа лица очень светлая и свежая. У нее было чувственное и одновременно наивное лицо, красивый нос, рот и подбородок и большие нежные глаза. Если бы Байрон пригляделся, то вспомнил бы, что раньше уже встречал ее, потому что это была графиня Тереза Гвичьоли, которую он год назад сопровождал в салон графини Альбрицци посмотреть на «Елену» Кановы. Терезе было девятнадцать лет, и около года назад она вышла замуж. Ее пятидесятивосьмилетний супруг, граф Алессандро Гвичьоли, который уже был дважды женат, настаивал, чтобы она отправилась с ним в салон, несмотря на усталость.
Однако усталость Терезы исчезла, едва она заметила прекрасное классическое лицо Байрона. Когда графиня Бенцони предложила Байрону подойти к Терезе, он сначала отказался. «Вы очень хорошо знаете, что я не хочу знакомиться с безобразными женщинами, потому что они безобразны, и с красивыми – потому что они красивы». Однако потом он согласился. Графиня Бенцони представила его как «пэра Англии и величайшего поэта». Его обаятельная улыбка и «незабываемый звук голоса» обворожили Терезу. Ее глаза засияли при виде этого «небесного существа».
Когда Тереза сообщила, что только что приехала из Равенны, Байрон сказал, что хотел бы побывать в этом городе и увидеть могилы Данте и Франчески да Римини. Они заговорили о Данте, поскольку благодаря чуткому руководству аббатисы монастыря Санта Кьяра в Фаэнце, где Тереза ходила в школу, она искренне полюбила великих итальянских поэтов прошлого, чем тут же завоевала расположение Байрона. Он не привык, чтобы подобные рассуждения слетали с прелестных уст в литературном салоне. Тереза говорила о Данте и Петрарке с восторгом и знанием дела. В середине вечера к ней подошел супруг, и Тереза отправилась домой. «Она поднялась, словно отходя ото сна, и когда переступила порог, то уже не была такой бестелесной, как прежде. Внезапно возникшее чувство слишком ошеломляет и пугает».
Однако более искушенный Байрон не был так сильно взволнован. Но он верил в судьбу и мог бы позднее согласиться со словами Терезы о том, что «эта встреча стала печатью судьбы на наших сердцах».
Когда в тот апрельский вечер Байрон ушел из салона Бенцони после встречи с графиней Гвичьоли, его душевный покой был нарушен. Привлекательность Терезы, ее хорошее воспитание и наивная увлеченность, свободная от притворных манер «синих чулков», произвели на Байрона большое впечатление. Ее благоговейное отношение к нему как к поэту и человеку льстило ему больше, чем страстная привязанность «красивых животных», с которыми он общался в последние месяцы. Вся решимость Байрона не заводить новых знакомств с женщинами рассеялась, и, расставаясь с Терезой, он выразил желание увидеть ее наедине. Это было несложно устроить. Вспоминая о первой встрече с Байроном в своем «признании» мужу, странном документе, очевидно исчезнувшем после смерти поэта, она писала: «Я почувствовала неодолимое влечение к нему. Он понял это и просил встречи со мной на следующий день. У меня хватило наглости согласиться при условии, что он будет уважать мое решение. Он обещал, и мы уговорились встретиться после ужина, когда ты (граф Гвичьоли. – Л.M.) отдыхал. В неизвестной гондоле появился старый лодочник с запиской и отвез меня на гондолу милорда, где он уже ждал меня. Вместе мы отправились в его дом. В ту первую встречу у меня хватило силы устоять перед ним, но на следующий день я вновь согласилась встретиться с ним, и моя решимость исчезла, поскольку Байрон не был человеком, способным любить только романтически».
Оптимистическое воссоздание событий первых дней носит двойственный характер: Тереза колеблется между желанием поведать всему миру о том, что Байрон любит ее, и одновременно стремлением описать их отношения как платонические и дружеские. В разговоре с Хобхаусом Байрон был более правдивым: «Я влюбился в романскую графиню из Равенны, которой девятнадцать лет, а ее мужу – пятьдесят. Кажется, она готова от него избавиться после первого года совместной жизни, и я полон надежд, сэр… Она красива, но совершенно бесцеремонна: отвечает громко, когда должна шептать, говорит о возрасте с пожилыми дамами, желающими сойти за молодых, а этой благословенной ночью ужаснула всех гостей в салоне Бенцони, громко назвав меня «мой Байрон» среди гробовой тишины. Что мне делать? Я влюблен, мне надоели плотские связи, и у меня появилась возможность наладить свою жизнь».
Однако Байрона беспокоило то, что, несмотря на всю нескромность, Тереза мечтала, чтобы он стал ее преданным чичисбеем. Хотя в разговоре с лицемерными англичанами он всегда защищал итальянские нравы, но как англичанин понимал, что это положение не лучше, чем роль светского жиголо. В «Беппо» он добродушно высмеивал эту традицию, и хотя понимал, что итальянцы воспринимают ее серьезно, как неотъемлемое дополнение к браку, но не мог не насмехаться над этим культом подавания шали и веера. Больше всего его раздражало притворство, с которым отношения выдавались за чисто платонические, и требование, чтобы кавалер исполнял рыцарские обязанности. Джентльмена принимали в обществе как «друга» мужа и жены, и муж не должен был ревновать.
Эта традиция подчинялась более жестким правилам, чем сам брак. Неподобающее поведение дамы и ее кавалера могло шокировать общество больше, чем обманутый муж. Вскоре начались сплетни, но Тереза была слишком счастлива, чтобы обращать на них внимание. Байрон вел себя настойчиво, поскольку он не был человеком, способным питать долгие иллюзии. Его тайные встречи с Терезой, вскоре ставшие известными всем, кроме ее мужа, сделались проще благодаря преданному и понимающему союзнику, гувернантке в доме Гвичьоли по имени Фанни Силвестрини, с которой Тереза отправлялась в долгие путешествия на гондоле под предлогом изучения французского. По пути они встречали Байрона. Любовники вскоре стали уединяться на Лидо или других островах, чтобы полюбоваться великолепными закатами. Вскоре, по словам Терезы, такая жизнь стала привычной и необходимой.
Десять дней блаженства подошли к концу, когда дела графа призвали его вернуться в Равенну. Однако влюбленные уже успели многое. Байрон, слегка смущенный пренебрежением Терезы к традиции, стал еще больше гордиться своей победой и хвастался Киннэрду: «…она прекрасна, как восход, тепла, как полдень, и за десять дней мы успели так много. Я исполнил свой долг, став «законным» любовником».
Известие об отъезде пришло неожиданно, и Тереза с подругой ворвалась в театр, прошла прямо в ложу Байрона, игнорируя все правила, и там, перед лицом венецианских сплетников, сообщила ему о своей досаде. Началась опера Россини «Отелло». «В разгар страстной мелодии и гармонии, – вспоминала Тереза, – я сообщила ему о том, что должна покинуть Венецию». На следующий день им удалось обменяться лишь несколькими словами, когда Байрон посадил Терезу в гондолу рядом с графом Гвичьоли.
Поведение графа оставалось загадкой. Говорили, что он – один из самых богатых и просвещенных людей в Романье. Он был другом Альфьери и меценатом театра в Равенне. Однако поговаривали, что он вспыльчив и своеволен. В политике и семейной жизни он вел себя проницательно и расчетливо. Во время французской оккупации провинции Романья он, по его циничному выражению, предпочел стать главой каналий, чем лишиться из-за них головы. С падением Наполеона и установлением папского режима он вошел в доверие к кардиналу и придворным папы. Однако оставались сомнения в его преданности, поскольку своим третьим браком он связал себя с семьей самых высокопоставленных «патриотов» Италии. Отец Терезы, граф Ружжеро Гамба Гиселли, и ее брат Пьетро были одними из самых пылких сторонников свободолюбивого движения в Равенне и вскоре стали лидерами революционного общества карбонариев.
Гвичьоли получил состояние, женившись по расчету на графине Пласидии Зинанни, которая была старше его, но обладала огромным приданым. Служанка Анжелика Галлиани родила ему шестерых детей, а когда жена начала возмущаться, он отослал ее, а не любовницу в заброшенный сельский дом, откуда она вернулась, только чтобы написать завещание в его пользу, после чего умерла при странных обстоятельствах. Враги Гвичьоли начали распускать слухи об «убийстве» и «отравлении». После этого Гвичьоли женился на Анжелике, и, когда кардинал Мальвазия увидел кольцо – доказательство их законных отношений, некоторые из детей графа были признаны. Однако в ночь смерти жены он, как обычно, отправился в театр и уже через год начал искать себе новую супругу. Хотя приданое Терезы было скромным, всего четыре с половиной тысячи скудо, граф согласился жениться на ней из-за ее молодости и красоты. Разница в возрасте составляла почти сорок лет, но, несмотря на это, Тереза какое-то время была влюблена в своего мужа, но через год почувствовала разочарование. Когда она встретила Байрона, молодая жена уже была готова завести любовника и могла поддаться чарам менее «небесного создания», чем он.
Хотя при расставании Байрон не был столь сентиментален, как Тереза, но испытывал такое же безутешное горе. Она сообщила ему имя надежного человека, священника. Это был дон Гаспаре Перелли, которому Байрон мог передавать свои письма к ней. До того как Тереза и ее супруг прибыли в Равенну, им пришлось останавливаться в двух сельских имениях. Верная Фанни Силвестрини осталась в Венеции, чтобы передавать письма и сообщать новости о Байроне. 18 апреля из местечка Кья-Чен на реке По прибыло письмо. Тереза писала в лучшем стиле монастыря Сайта Кьяра, в стиле нежной грусти, но Байрон был настолько влюблен, что не стал критиковать письмо, а был только благодарен за него. Он отвечал довольно свободно по-итальянски, но в риторических выражениях, совсем не как в своих английских письмах: «Моя бесценная Любовь… Если бы я любил тебя меньше, мне не было бы так трудно выражать свои чувства, но теперь мне придется подыскивать слова, чтобы передать невыносимое страдание на чуждом языке… Иногда ты говоришь мне, что я твоя первая настоящая любовь, а я уверяю тебя, что будешь моей последней страстью… Прежде чем я узнал тебя, я интересовался многими женщинами, но никогда единственной. Теперь, когда я люблю тебя, в мире не существует других женщин».
Влюбленный, словно подросток, впервые испытавший мучительное чувство, и изнывающий от разлуки и ожидания, 25 апреля Байрон написал вновь: «Моя Тереза, где ты? Здесь все напоминает о тебе… Когда я хожу в салон, то предаюсь скуке, чтобы забыть безутешное горе. Равнодушно я слышу, как открывается дверь, через которую ты входила, а я с волнением следил за тобой. Не стану говорить о других, более дорогих сердцу местах, потому что пока ты не вернешься, не пойду туда… Я больше не мечтал о любви и не надеялся, что меня полюбят. Ты развеяла всю мою решимость, теперь я твой… Ты была моей, и, что бы ни случилось, я вечно буду любить тебя. Целую тебя тысячу раз…»
Тем временем Гвичьоли переехали в очередное имение графа, где у Терезы началась лихорадка, и прежде, чем они добрались до Равенны, у нее случился выкидыш и ей пришлось надолго лечь в постель. Когда она смогла писать, то отправила с Фанни весточку о том, что больна, но не знает почему, и не упомянула о двух письмах Байрона, отправленных через отца Перелли. Байрон начал волноваться и испытывать недоумение. Он начал писать «Стансы к реке По», где изливал свои чувства, которые могли бы обрадовать даму:
Наш разобщитель – не простор земной,
Не твой поток, глубокий, многоводный:
Сам Рок ее разъединил со мной.
Мы, словно наши родины, несходны.
В первой половине мая беспокойство Байрона усилилось, а отсутствие писем от возлюбленной он приписывал ее нежеланию писать ему. Тем временем Хобхаус предупреждал его об опасностях этого увлечения. Байрон отвечал с обычной откровенностью и некоторым хвастовством: «Пока наше приключение не закончилось: мы скрепляли наш незаконный союз в течение четырех дней, прежде чем она уехала из Венеции. Она была беременна еще до нашей встречи, и в Помпозе по дороге в Равенну у нее случился выкидыш, сейчас она поправляется. Насколько я знаю, это увлечение может закончиться таким образом, как ты намекаешь, потому что в Равенне свободно владеют кинжалом, а кавалер граф Г., ее достойный супруг, уже подозревается в двух убийствах… Однако я готов рискнуть ради любимой женщины».
И вновь Байрон обратился за утешением к любви всей своей жизни. Ничего не скрывая, он открыл Августе свое желание вернуть то, что вернуть нельзя.
«Моя любовь… Я никогда не переставал и не перестану ни на минуту испытывать то совершенное и безграничное чувство, которое связывало и связывает меня с тобой, которое не дает мне по-настоящему любить какое-либо другое существо на земле. Разве они могут заменить мне тебя? Мы могли ошибаться, но я не сожалею ни о чем, кроме этого проклятого брака и твоего отказа любить меня так, как ты любила прежде, никогда не забуду и не прощу тебя за это. Однако я не могу измениться, и кого бы я ни любил, то это только потому, что он или она напоминает о тебе… У меня разрывается сердце при мысли о нашей долгой разлуке, которая, я уверен, достаточное наказание за наши грехи. В своем «Аде» Данте более человечен, потому что помещает обоих несчастных возлюбленных, Франческу Римини и Паоло, – чья связь не похожа на нашу, хотя и наделала много шуму в свое время, – вместе, и если они страдают, то хотя бы не поодиночке… Говорят, разлука убивает слабое чувство и укрепляет сильное, увы! Мое чувство к тебе объединяет все страсти, какие только существуют на свете…»
Несомненно справедливо, как заметила маркиза Ориго, что Тереза напоминала Байрону об Августе. «К обеим он относился с одинаковой полушутливой-полунасмешливой нежностью, в обществе обеих отдыхал душою и был весел и спокоен. Байрон не хотел, чтобы женщины понимали его: Аннабелла понимала его, но к чему это привело?»
Байрон с легкостью, хотя и был расстроен, вернулся к прежним привычкам. Благодаря отсутствию строгого родительского надзора, он сумел возобновить связь с Анжелиной, хотя как-то поскользнулся и упал в Большой канал, а потом, словно вымокший Ромео, продолжал свидание, целый час сидя на ее балконе. Однако его искреннее чувство к Терезе от этого не уменьшилось, он только все чаще недоумевал, может ли он вечно любить одну и ту же женщину.
Неудивительно, что Байрон обиделся на замечание Хобхауса о «Дон Жуане». «Мистер Хобхаус снова говорит о приличиях, – писал он Меррею, – в поэме нет ничего непристойного. Если он хочет непристойностей, то пусть почитает Свифта, своего кумира…» Но в письме к Меррею в ответ на просьбу избегать всяческих «неприличных намеков» Байрон перестал делать вид, что его поэма высоконравственна, и заявил: «…это напоминает мне о ссоре Джорджа Лэма со Скроупом Дэвисом в Кембридже. «Сэр, сказал Джордж, – он намекнул на то, что я незаконнорожденный». «Да, – ответил Скроуп, – я назвал его чертовым ублюдком». Предположение, недалекое от истины».
Тяготясь разлукой с Терезой и ее молчанием, Байрон до 1 июня откладывал свой отъезд в Равенну. В смятении он покинул город-остров и отправился туда, куда его звала двойственная натура: смесь слабости и верности. Перед отъездом он написал еще один набросок стихотворения «Стансы к реке По». Последние строки выразили борьбу его чувств:
Горячий южный пыл – в моей крови.
И вот, не исцелясь от прежней боли,
Я снова раб, послушный раб любви,
И снова стражду – у тебя в неволе.
Можно сказать, что Байрон был одним из самых постоянных людей. Какое-то чувство удерживало его от того, чтобы отказаться от данных обязательств. И его удивляло, насколько сильна «первая страсть» («худшая из страстей?»).
Байрон задержался в Ферраре, где увидел надписи на памятниках на кладбище Кертоза, вернувшие его в дни написания «Чайльд Гарольда»:
Martini Luigi
Implora расе;
и
Lucrezia Picini
Implora eterna quiete,
что в переводе с итальянского означает: «Вечный мир покоящимся здесь жителям Феррары».
«И это все, – писал Байрон Хоппнеру. – Но кажется, что эти несколько слов охватывают все, что может быть сказано. А на итальянском они звучат как музыка».
В Болонье мрачное настроение вновь посетило Байрона после того, как он побывал на красивом городском кладбище. Хотя там не было надписей, так поразивших его в Ферраре, он нашел «хранителя, напомнившего мне могильщика из «Гамлета». А затем, повинуясь нахлынувшему чувству, он отправился в Равенну. 10 июня он въехал в город в тяжелом наполеоновском экипаже во время праздника тела Христова и вызвал оживление в захудалой гостинице с впечатляющим названием «Альберго империале» на Виади-Порта-Сизи, в нескольких шагах от могилы Данте.
У Байрона было письмо к графу Альборгетти, секретарю папского легата, которое он тут же и отправил и вечером получил приглашение в театр, в ложу графа. Когда Альборгетти сообщил ему, что графиня Гвичьоли при смерти, Байрон не смог сдерживать свои чувства и выдал себя, воскликнув, что надеется не пережить ее. Затем в ложу вошел граф Гвичьоли и сообщил более приятные новости. Той ночью, раскаиваясь, что сомневался в ее любви и преданности, Байрон написал Терезе пылкое письмо: «Моя прекрасная любовь, поверь, что я живу для тебя одной, и не сомневайся во мне. Я останусь здесь, пока ты того пожелаешь. Я пожертвую всем на свете и даже нашим счастьем, лишь бы ты одна была счастлива. Не могу думать о твоей болезни без сожаления и слез». По приглашению мужа на следующий день Байрон зашел к Терезе. Они были очень взволнованы и обменялись лишь немногими словами. Вернувшись в гостиницу, Байрон написал: «Ты живешь в постоянном окружении… Я больше не могу выносить это мучительное состояние неопределенности, я пишу тебе в слезах, а я не такой человек, которого легко растрогать. Когда я плачу, мои кровавые слезы идут из самого сердца». Пока Тереза оставалась в постели, у Байрона не было возможности увидеться с ней наедине. Однако, когда он приходил, ей становилось намного лучше, и она стала выздоравливать.
Истощив весь запас развлечений, которые можно было найти в сонном городишке, – Байрон был равнодушен к достопримечательностям, даже в приятном обществе, – он часами просиживал в душной комнате, размышляя и сочиняя длинные страстные письма к Терезе. Он уже не мог выносить сложившейся ситуации. Он предпочел бы побег, «приключение в англосаксонском духе». Байрон действительно предложил это средство, но знал, что у Терезы не хватит смелости. Он писал: «Уже предвижу твой ответ. Он будет длинным и проникновенным, но закончится отказом. Целую тебя тысячу раз». Тереза хранила это письмо, как «образец страсти, преданности и великодушия». Но Байрон был прав: она ответила отказом.
Напряжение уменьшилось, когда Терезе стало лучше и она смогла путешествовать в своем экипаже. И конечно, она брала с собой Байрона. Они ехали в сосновый лес, который начинался сразу за городом и тянулся до самого берега моря, до южной части Римини. Заходящее солнце окрашивало небосвод золотыми и опаловыми бликами. Тереза вспоминала: «…когда издалека донесся колокольный звон, на ум сразу пришли стихи Данте, начинающие восьмую песнь «Чистилища». Именно тогда она попросила Байрона написать что-нибудь о Данте, и на следующий день он начал «Пророчество Данте», посвященное Терезе.
Лесной воздух и прогулки наедине с Байроном благотворно действовали на Терезу. Однажды он увидел на ее столе экземпляр «Ада» Данте, и они вместе читали любимый отрывок Байрона и рассказ о Паоло и Франческе, который был так похож на их историю. Позднее Байрон написал перевод.
Вскоре все сомнения рассеялись, и любовники возобновили прежние отношения, начатые в Венеции. Их связь сопровождалась риском, что делало ее еще более желанной. Тереза успокаивала своего возлюбленного, найдя способ обманывать мужа в его собственном доме. Байрон писал Хоппнеру: «Ей все удается, хотя обстановка не самая подходящая: никаких засовов… Мы уединяемся в большой гостиной его дворца, так что я не удивлюсь, если когда-нибудь окажусь с кинжалом в животе. Не могу его понять: он часто приходит ко мне, приглашает с собой, и мы ездим в карете, запряженной шестеркой лошадей. Кажется, что он, как и я, находится полностью в ее власти… С помощью священника, служанки, негритенка и подруги нам удается скрывать нашу нечестивую связь…»
Байрон был слишком влюблен в Терезу, чтобы обращать внимание на графа Джузеппе Альборгетти, генерального секретаря правительства провинции Романья. Второй по значению после кардинала-легата, Альборгетти обладал большой властью и влиянием и должен был сыграть значительную роль в жизни Байрона в Равенне. Любовь к поэзии и знание английского языка подтолкнули его к знакомству со знаменитым поэтом, и в конце концов Байрон согласился встретиться с кардиналом Алессандро Мальвазией. Кардинал ему понравился. «Симпатичный старик, – писал Байрон лорду Киннэрду, – в молодости вел бурную жизнь и не успокоился под старость». Кардинал также остался доволен Байроном, устроил для него специальный вечер и был очень изумлен и рассержен, когда поэт под каким-то незначительным предлогом отказался.
Настоящей причиной отказа было то, что Байрон всерьез обеспокоился здоровьем своей возлюбленной. Он испросил согласия графа Гвичьоли на встречу с доктором Аглиетти из Венеции, профессором и главой медицинской школы, который специально приехал в Равенну, чтобы осмотреть Терезу. «Боюсь, что она постепенно угасает, – писал Байрон Хоппнеру. – И так со всем и со всеми, к кому я привязан. Даже собака, которую я любил и которая любила меня, не жила долго». Кашель и лихорадка продолжались, и все же Тереза не желала отказываться от любовных свиданий с Байроном ради своего здоровья. Байрон с обычной откровенностью писал: «Она ведет себя храбро во всех смыслах, но иногда я боюсь, что наши ежедневные встречи могут принести ей вред (меня-то они точно не укрепляют), но я не могу намекнуть ей на это…» И дальше он с чувством прибавлял: «Если с моей возлюбленной что-нибудь случится, с любовью для меня все кончено: это моя последняя страсть».
Байрон ощущал, что, подобно своему второму «я», Чайльд Гарольду, он преждевременно постарел душой и телом, испытал все в жизни, но по привычке продолжал искать новых ощущений, чтобы пробудить свои уснувшие чувства. Он признавался Уэддерберну Уэбстеру: «В тридцать лет мне уже не на что надеяться… Мои волосы наполовину поседели, а скрюченная нога действует все хуже и хуже. Почти все волосы выпали, а зубы остаются только из вежливости…»
Болезнь Терезы взволновала Байрона, доказав ему, что он может одновременно испытывать страсть и искренние чувства и не слишком циничен, чтобы не ответить на сердечное расположение. Однако двусмысленное положение угнетало его, и он по-прежнему не мог избавиться от сомнений в верности Терезы. Возможно, в отместку он начал ухаживать за ее подругой Гельтрудой Викари. Байрон признавался лорду Киннэрду: «Гельтруда уехала в Болонью, повредив левое бедро… Мне запретили когда-либо видеться с ней».
Здоровье Терезы постепенно улучшалось, в то время как она нежилась в лучах любви Байрона. В радостной самоуверенности она иногда вызывала у своего возлюбленного взрывы ревности. Стоило ей только поговорить с кем-нибудь в театре, и он испытывал мучительную боль. В один из таких дней Байрон писал из гостиничного номера: «Я заметил, что стоило мне глянуть на сцену, как она обращала взор к этому мужчине, и это после того, что произошло сегодня! Отпусти меня, лучше умереть от разлуки, чем от предательства…»
Годы спустя, разбирая послания своего бывшего возлюбленного, Тереза сказала об этом письме: «Он страшно ревновал и несправедливо обвинял меня со всей страстностью».
Байрон несколько успокоился после того, как его возлюбленной стало лучше и он смог чаще видеться с ней наедине, особенно во время верховых прогулок в Пинете. Тереза вспоминала об этих мгновениях как об идиллии. Но вскоре тихие радости наскучили сердцу Байрона. Его мысли вновь обратились к сестре и жене, и теперь ревновать была очередь Терезы.
Тереза была бы более раздосадована, если бы увидела его письмо к Августе, касающееся ее: «Она красива, ужасная кокетка, чрезвычайно тщеславна, жеманна, достаточно умна, но без всяких принципов, обладает воображением и страстна… Она ездит верхом, но с ней скучно, потому что она не умеет управляться с лошадью, которая наскакивает на мою и пытается укусить. После этого Тереза в своей высокой шляпе и небесно-голубой амазонке начинает визжать – нелепое зрелище…»
Ошибочно было бы судить о чувствах Байрона к Терезе по его равнодушным и язвительным письмам, в которых он давал волю своему внутреннему голосу и которые не могут служить мерой его любви и преданности. В конце июля он наконец-то решился покинуть Венецию. Однако он не знал, как поступить с Аллегрой. Байрон любил ее и был бы рад остаться с ней, но понимал, что его бурный образ жизни и отсутствие уверенности в будущем – неподходящие условия для его дочери.
Некая миссис Вавассур, богатая вдова из Северной Англии, видела Аллегру в доме Хоппнеров и предложила удочерить ее, однако Байрон не желал расстаться с дочерью, хотя и подумывал о том, что миссис Вавассур могла бы дать ей образование. Из этого ничего не вышло, и, когда летом Хоппнеры уехали в Швейцарию, Аллегра стала жить у миссис Мартене, жены датского консула в Ла-Мире. Элиза, няня-швейцарка, была уволена, после того как Шелли уехали из Венеции.
Тем временем к Байрону стали приходить тревожные вести из Англии. Меррей тянул с изданием «Дон Жуана». 15 июля с некоторым трепетом он показал своим консультантам пробный оттиск двух песен форматом в четверть листа. Страхи Меррея не были беспочвенными. Гиффорд, который когда-то благосклонно относился к Байрону, написал: «Этим утром я прочитал вторую песнь и совершенно потерял терпение, увидев, в каком извращенном и непотребном виде изображена потрясающая красота». Даже Дуглас Киннэрд сообщил, что публика не приняла «Дон Жуана».
Меррей попросил Байрона прислать наброски других песен. Байрон ответил: «У меня нет никакого плана и не было, но был материал. Хотя если я «намерен уколоть, потому что мне так хочется», то поэма будет скандальной, а сегодня все поэты опять становятся серьезными. Если она не найдет отклика, я брошу ее писать, отнесясь с уважением к мнению публики, но продолжать буду только так, как сочту нужным… Неужели вы не понимаете, что вся суть подобных произведений заключается в их вольности, по крайней мере некоторой свободе… Вы слишком суровы к поэме, которая не должна быть серьезной. Неужто вы думаете, что у меня было другое намерение, кроме как посмеяться самому и заставить смеяться других?»
За этим последовал другой удар. Тереза показала Байрону сатирические стихи, которые декламировали на улицах и которые касались их связи. Она убеждала его, что граф испытывает лишь презрение к анонимному сочинителю, но Байрон чувствовал себя не в своей тарелке, хотя поведение мужа Терезы было по-прежнему отменно вежливым и дружелюбным. Неужели он так наивен, или просто закрывает глаза, или ждет своего часа? Внезапно граф объявил, что отправляется в Болонью, в свое поместье, и Тереза должна сопровождать его. Она настаивала, чтобы Байрон последовал с ними. Байрон повиновался, но из письма видно его тревогу: «Прощай, моя милая злодейка, прощай, моя мучительница, прощай, моя всё, но не вся моя! Целую тебя тысячу раз, больше, чем когда-либо целовал, а это, если память не изменяет мне, случалось много раз, считая с самого начала. Можешь быть уверена во мне, в моей любви и в своих чарах».
Байрон послушно последовал за ними и 10 августа прибыл на постоялый двор Пеллегрино в Болонье. На следующий вечер он сопровождал Гвичьоли в «Арену дель Соле» на трагедию Альфьери «Мирра». Произведение на тему инцеста глубоко поразило Байрона. На следующий день он написал Меррею: «…два последних акта глубоко впечатлили меня. Со мной не случилось истерики, как с женщинами, но из глаз хлынули слезы, и все тело сотрясла жестокая дрожь, что бывает не часто». От страха и жалости у Терезы началась истерика, и Байрон завершил письмо такими словами: «Сейчас мы слабы и жалки и извели огромное количество нюхательной соли».
После этого случая они очень редко выходили в свет. Байрон навещал возлюбленную в палаццо Савиоли на Виа-Галлерия, величественном здании с высокими потолками, изысканно украшенной галереей и множеством балконов. Они вместе проводили вечера, когда граф уходил в театр или салон, сидели под прохладной сенью деревьев или у фонтанов в саду. Расчетливый граф, казалось, решился терпеть любовника своей жены. Возможно, все страсти уже остыли в нем, и он не испытывал ревности. Возможно, Байрон ему даже нравился, хотя некоторый мотив его поведения выяснился, когда он попросил английского лорда попытаться через друзей найти ему место в британском консульстве или вице-консульстве в Равенне. Граф Гвичьоли осознавал, что его двусмысленное поведение и богатство стали предметом интереса австрийцев, и будет нелишним заручиться могущественной иностранной поддержкой в случае политических волнений.
Шпионы следили и за Байроном. Они видели, как он переехал в палаццо Мерендони на Виа-Галлерия, в нескольких шагах от дворца Гвичьоли, и сообщали: «Байрон – поэт, и его талант привлечет к нему самых образованных и известных людей в Болонье. Такие люди не уважают правительство». Шпионы докладывали о просьбе Байрона выдать паспорт слуге, чтобы он мог доставить в Венецию неотложное письмо. В письме не содержалось ничего губительного для властей, и было оно адресовано Александру Скотту с просьбой прислать Аллегру в Болонью вместе с гувернанткой и чиновником Эджкомом.
В перерывах между свиданиями с возлюбленной, которые не могли полностью удовлетворить ненасытный дух Байрона, он начал подумывать о каком-либо серьезном занятии. Он писал Хобхаусу: «Я весело проводил время: когда тебе тридцать один, то не так много лет, месяцев, дней остается, так что нельзя довольствоваться выражением «лови момент». Мне пришлось довольствоваться даже секундами, потому что кто может доверять завтрашнему дню? Не могу заставить себя, хотя и стараюсь, пожалеть о свершенном и о том, чего совершить не удалось». Байрон подумывал о возвращении весной в Англию, но потом переключился на Южную Америку. «Европа загнивает, а там люди молоды, как и их родина, и свирепы, как их землетрясения».
Пока Терезы с мужем не было, у Байрона появилось время для грустных размышлений, от которых он даже заболел. «Я такой раздражительный, – писал он Хобхаусу, – что почти не могу сдерживать себя и плачу по пустякам… У меня нет особенной причины для горя, кроме как обычное сопровождение всех греховных страстей… Я с горечью ощущаю, что человек не должен проводить дни в объятиях незнакомой женщины, даже мимолетное удовольствие не оправдывает этого, а существование чичисбея унизительно. Однако у меня никогда не было силы воли, чтобы разорвать эти путы, и бесчувственности, которая смягчила бы этот груз».
Любовь к Терезе вызывала в душе Байрона отвращение, боль и радость одновременно и вынуждала его к постоянству, подавляющему все попытки бунта мужского самолюбия и всякую логику. Блуждая по палаццо Савиоли – Тереза оставила ему ключ, – Байрон наткнулся на ее любимую книгу, толстый маленький томик «Корины» мадам де Сталь, напечатанный мелким шрифтом и переплетенный алым бархатом. Байрон подшучивал над любовью Терезы к этому сентиментальному роману, но теперь он сам стал сентиментальным и написал на полях:
«Моя дорогая Тереза, я прочел эту книгу в твоем саду, моя любовь, пока ты была в отъезде, а иначе я не смог бы читать ее. Это твоя любимая книга, а писательница была моим другом. Ты не поймешь этих английских слов, но узнаешь почерк того, кто страстно тебя любит, и догадаешься, что над твоей книгой он мог думать только о любви. В этом слове, которое красиво звучит на всех языках, но лучше всего на твоем, amor mio, заключена вся моя жизнь в этом мире и в том… Моя судьба в твоих руках, а ты женщина, прожившая семнадцать лет в миру и два года в монастыре. Я всем сердцем желаю, чтобы ты оставалась со мной или по крайней мере чтобы я никогда не встречал тебя замужней. Но теперь уже слишком поздно. Я люблю тебя, а ты любишь меня, по меньшей мере говоришь, что любишь, и поступки твои могут служить мне немалым утешением. Но я больше чем просто люблю и не могу перестать любить тебя. Думай обо мне иногда, когда Альпы и океан разделяют нас, но им никогда не удастся разлучить нас, пока ты этого не пожелаешь».
В конце августа привезли Аллегру. «Она англичанка, – писал Байрон Августе, – но говорит только по-венециански. «Bon di, рара» и т. д. и т. п., она очень забавная, и в ней много байроновского: совсем не выговаривает букву «р», хмурится и надувает губки, как мы. У нее голубые глаза, светлые волосы, которые становятся все темнее, и ямочка на подбородке. Она часто хмурит брови. У нее светлая кожа, нежный голос и особенная любовь к музыке, а также желание, чтобы все было так, как она захочет. Разве это не похоже на Байронов?»
После возвращения Гвичьоли Байрон вновь обрел спокойствие. Граф Гвичьоли вел себя дружелюбно по отношению к любовнику жены, пригласил его переехать в пустые комнаты на первом этаже дворца и выглядел вполне безмятежно. Затем граф пожелал занять у своего гостя денег. Когда Байрон вежливо отказал, граф рассердился на Терезу. У Терезы опять началось обострение болезни, ей была нужна забота доктора Аглиетти и необходимо было вернуться в Венецию. Она даже добилась разрешения графа, чтобы Байрон сопровождал ее. Проворный начальник полиции доложил в Рим, что Байрон и графиня выехали из Болоньи 12 сентября.
Однако пара занималась отнюдь не политическими, а любовными играми. Байрон путешествовал во все том же наполеоновском экипаже, с которого уже начала облупливаться зеленая краска. Там были походная койка, книги, слуги и его голубоглазая дочь. Экипаж следовал по грязи за каретой графа, запряженной шестеркой лошадей, в которой ехали Тереза, ее служанка и старый слуга. Тереза вспоминала об этой поездке как о счастливейшей в ее жизни. Наконец она была одна со своим возлюбленным. «Мы вместе останавливались в одних и тех же гостиницах», – с удовольствием вспоминала она. По пути они посетили дом и могилу Петрарки в Аркуа.
Хотя Байрон предпочитал Петрарке Данте и, по словам Терезы, подписался бы под мнением Сисмонди: «Я устал от этой постоянной маски», все же он не хотел разрушать иллюзий Терезы и с удовольствием слушал, когда она цитировала стихи Петрарки. Они вписали свои имена в книге для посетителей, и Тереза была счастлива, когда Байрон сказал, что их имена всегда будут рядом.
Байрон и Тереза знали, что ожидает их в Венеции, кишащей сплетнями. Тереза даже лучше понимала, насколько они нарушили итальянскую традицию, но не могла оставить своего возлюбленного и в душевном порыве предложила бежать на край света. В этот раз Байрон проявил благоразумие по причинам столь же сложным, как и все человеческие мотивы.
В Венеции Тереза решила, что палаццо Малипьеро на одном из маленьких каналов им не подходит «из-за водных испарений», и через два дня поселилась в палаццо Мосениго. Она дерзко писала мужу, что Аглиетти посоветовал перемену климата, и просила позволения, чтобы Байрон сопровождал ее на озера Гарда и Комо. Перед тем как получить ответ, она отправилась с Байроном на его виллу в Ла-Мире. В своих поздних подробных письмах Тереза сообщала, что взяла с собой Фанни Силвестрини и что Байрон лишь изредка наведывался в Ла-Миру и жил в отдельном крыле. Однако на самом деле все обстояло не столь невинно. Фанни была в Венеции, передавала письма и учила слугу графа, Легу Замбелли, как отвечать на вопросы того жене. Это было несложно устроить, поскольку Фанни была любовницей Леги, и постепенно он перешел в услужение к Байрону.
Спокойствие графа изумляло Байрона. Но Тереза была счастлива в Ла-Мире и не спешила ехать к озерам. В то время она страдала от двух недомоганий, не могла много двигаться, и, не будь она такое наивное дитя природы, ей было бы неудобно развлекаться с возлюбленным. Она писала мужу, что у нее геморрой и она опасалась выпадения матки, но доктор Аглиетти разубедил ее.
Если граф Гвичьоли сохранял присутствие духа и хладнокровие, то отец Терезы – совсем наоборот. Граф Гамба не одобрял, что его зять позволяет жене оставаться наедине с таким человеком, как лорд Байрон, «слишком искушенным, слишком привлекательным, чтобы не заставить забиться сильнее сердце молодой женщины и не вызвать сплетен в обществе».
Байрон вновь подумывал о побеге, но не с Терезой. Хобхаусу он писал о Южной Америке. Он хотел отправиться туда с Аллегрой. «Италия мне не надоела, но здесь человек должен быть чичисбеем, певцом в дуэте, любителем оперы или никем. И я добился некоторого успеха во всех этих начинаниях, но не могу не ощущать пустоты. Лучше быть неграмотным фермером, бедным поселенцем, охотником, кем угодно, только не льстить певцам и не носить веер для женщины. Бог видит, я люблю женщин, но чем больше на меня влияют здешние нравы, тем хуже мне становится, особенно после Турции. Здесь полигамия на стороне женщин. Я был интриганом, мужем, охотником за девками, а теперь я чичисбей, черт побери! Какое странное чувство».
В течение нескольких месяцев Байрон подумывал о возвращении в Англию, но понял, что это возможно, если каким-то героическим поступком он мог бы оправдать свое возвращение и вернуть утраченную репутацию и восхищение своих соотечественников. Он много раз поговаривал о том, чтобы на родине принять участие в революции, потому что в 1819 году недовольства и беспорядки усугубились после жестоких действий тори в резне в Питерлоо. Байрону было недостаточно принимать участие в реформах вместе с Киннэрдом и Хобхаусом. Он понимал, что «революцию нельзя свершить розовой водой. Мой интерес к революции угас вместе с другими страстями».
А пока Байрон наслаждался жизнью в Ла-Мире. После поездок верхом с Терезой вдоль канала Брента на закате, беседы или любовных игр вечером он на рассвете садился за написание новых стихов «Дон Жуана». Возможно, Байрон думал о своем браке и о браке Терезы или о том, что произойдет с ними, если они совершат побег и будут жить вместе:
Будь Лаура повенчана с Петраркой – видит Бог,
Сонетов написать бы он не мог!
7 октября Томас Мур наконец-то приехал в Венецию. Байрон был в восторге, ведь Мур воскресил в его памяти счастливейшие холостяцкие годы жизни в Лондоне. Мур писал: «Он поправился, и лицо особенно изменилось: оно утратило то выражение одухотворенности и изящества, которое всегда отличало его». Бакенбарды и длинные волосы на затылке, а также иностранное пальто и шляпа придавали Байрону чуждое и странное выражение. «Однако он по-прежнему был очень красив, и если его черты утратили романтический ореол, то в них появились лукавая мудрость и эпикурейская ирония…»
Байрон получил разрешение Терезы сопровождать Мура в Венецию и там поселил его в палаццо Мосениго, но сам ночью вернулся в Ла-Миру. В последний день пребывания Мура в Венеции Байрон остался там на ночь и не возвращался до рассвета. Когда на следующий день Мур заехал в Ла-Миру, Байрон подарил ему экземпляр своих мемуаров, начатых в Венеции год назад. Они не были предназначены для немедленного издания, но Мур получил разрешение напечатать их после смерти автора. Меррею Байрон говорил, что «это воспоминания, а не признания. Я не стал упоминать о большинстве своих любовных историй и других важных событиях, потому что не хочу компрометировать других людей, так что мои мемуары похожи на «Гамлета», где роль самого Гамлета отсутствует по желанию автора. Зато вы найдете там множество рассуждений и немного юмора, подробное описание моего брака и его последствий, настолько правдивое, насколько это возможно, потому что мы все не без предрассудков».
Хотя Байрон не получил согласия Меррея, но продолжил написание третьей песни «Дон Жуана». На описание Мерреем восприятия английской публикой первых двух песен Байрон откликнулся с преувеличенным красноречием, основанным на уверенности в успехе своего детища. Один критик возражал против смешения серьезного и смешного в поэме: «Мы не можем одновременно мокнуть под дождем и загорать на солнце». Байрон ответил: «Да будет благословен его опыт! Неужели никогда он не разливал чай на свои интимные места, подавая чашку возлюбленной, к великому стыду для своих нанковых штанов? Неужели он никогда не купался в море в полдень, когда солнце светит в глаза и на голову и все океанские волны не могут его остудить? Неужели он ни разу не лечился от гонореи? Не мочился через силу? Не был никогда в турецкой бане, этом мраморном раю щербета и мужеложства?»
Хоппнеру Байрон писал: «Одиннадцатая заповедь запрещает женщинам читать мое произведение, и, что удивительно, они не нарушают ее. Однако им, бедняжкам, это не так уж важно, потому что, читай они или не читай эту книгу, ни одну женщину это не изменит…» Однако под хвастовством и шутливым тоном письма к Киннэрду чувствуется уверенность Байрона в достоинствах своей поэмы, изображающей настоящую жизнь. Он писал: «А что касается «Дон Жуана», то признайся честно, это высший образец поэзии, возможно, он циничен, но разве не хорош? Возможно, он распутен, но разве это не есть жизнь? Мог бы такое написать человек, не знавший света и не предававшийся любви в почтовой карете, в наемном экипаже, в гондоле, у стены, в придворной карете, в легкой коляске, на столе или под ним? Я написал около сотни строф третьей песни, но они чертовски целомудренны: возмущение публики испугало меня. У меня были такие планы насчет Дона, но сегодня общественное мнение сильнее, и человеческому опыту не суждено дойти до грядущих поколений».
А пока Байрон оставался героем-любовником. «Я по-прежнему верен графине Гвичьоли и уверяю тебя, что она никогда не стоила мне и шести пенсов… Я предложил ей всего лишь один подарок – бриллиантовую брошь, но она прислала ее мне с прядью своих волос (не буду говорить откуда, но это итальянская традиция)… За полгода у меня не было ни одной девки, потому что я строго придерживаюсь нашей незаконной связи». В ответ на письмо Хоппнера, в котором рассказывалась невероятная история похищения графини Байроном, он отвечал: «Хотел бы я знать, кто это сделал, но только не я. Я сам был взят в плен – такого не было со времен Троянской войны».
В конце октября Байрон поехал в Венецию и заболел там жестокой лихорадкой. Тереза поспешила к нему. Пока он лежал в забытьи, прибыл граф Гвичьоли в гондоле со своим сыном и несколькими слугами. Он надеялся, что, остановившись во дворце Байрона, развеет все сплетни в Венеции. Однако все оказалось не так просто. Между графом и его молодой женой вышел конфликт, и они сильно поругались. Байрон сообщил Киннэрду, что «он предоставил ей выбор: он или я. Она тут же выбрала меня, поскольку ей не разрешили выбрать обоих, а любовник обычно имеет предпочтение… В двадцать я бы увез ее, а в тридцать, после десяти таких бурных лет, мог только пожертвовать собой. Я с трудом убедил ее вернуться с мужем в Равенну, пообещав, что приеду туда, иначе она отказывалась ехать».
Произошло несколько ужасных сцен, и Гвичьоли даже со слезами пришел к Байрону: и наконец любовнику, а не мужу удалось убедить Терезу вернуться. Байрон чувствовал себя несчастным и одиноким и опять подумал о возвращении в Англию. «Я уеду из этой страны, но очень неохотно, – писал он Хобхаусу, – но сделаю это. В противном случае, если я заведу новую возлюбленную, она станет играть роль брошенной женщины, а я не хочу ранить ее чувства».
Но теперь желание вернуться на родину было уже не так велико. Байрон понимал, что сперва ему придется вызвать на дуэль Генри Брума, человека, который оклеветал его перед отъездом и вмешивался в попытки мадам де Сталь примирить Байрона с женой. Двусмысленные письма Августы не давали ему уверенности в теплом приеме. Затем Аллегра и ее няня заболели, и путешествие пришлось отложить. В конце ноября доктор Аглиетти объявил, что Аллегра готова к поездке, но Байрон вновь нашел предлог, чтобы задержаться. Приняв решение порвать с Терезой, он не мог не признать, что есть некоторое облегчение в том, чтобы освободиться от жгучих страстей, и, возможно, уверял себя, что лучше расстаться сейчас, чем позволить привычке убить любовь. Как обычно, он выразил свои чувства в стихах:
Простясь с любимой, мы нелюдимы,
Тоской томимы, зовем исход.
Боль стрелы мечет, нутро увечит,
Но время лечит, покой несет.
В минуту счастья своею властью
Мы рвем на части любви плюмаж.
Плюмаж утрачен – мы горько плачем,
И сколь безрадостен жребий наш!
В хитросплетениях чувств, вынудивших Байрона остаться в Италии, не последнее место играла лень. Фанни Силвестрини сообщала Терезе: «Он уже оделся для путешествия, надел перчатки и шляпу, взял в руки трость… И в этот момент милорд заявляет, что если до отъезда пробьет один час, то он никуда не уедет. Пробил час, и он остался!»
На следующий день письмо из Равенны решило его судьбу. Оно пришло не от Терезы, а от ее отца. Граф Гамба, который до этого дня противился связи, умолял Байрона увидеться с его дочерью. Находясь в депрессии, Тереза страдала душевным расстройством. Болезнь смирила упорство ее мужа и отца. Со смешанным чувством облегчения и отчаяния Байрон написал Терезе: «Ф. (Фанни. – Л.М.) уже сообщила тебе со своей привычной изысканностью, что любовь одержала победу. Я не мог набраться смелости и покинуть страну, где живешь ты, по крайней мере не увидев тебя вновь. Возможно, от тебя зависит, увижу ли я тебя снова».
Тереза стала быстро поправляться, когда причина болезни была устранена. Но теперь Байрон медлил ехать в Равенну. 23 декабря он написал Августе из Болоньи, вложив в письмо свои длинные волосы: «Ты увидишь, что они не так уж длинны. Я постригся вчера, потому что моя голова и волосы ослабли после лихорадки». В канун Рождества Байрон прибыл в Равенну, где его радостно встретили улыбающаяся Тереза, ее отец и друзья в атмосфере веселого праздника. Теперь все было хорошо, потому что возлюбленный вернулся.
Байрон, не знавший, что его ждет по приезде в Равенну, был растроган, польщен и несколько смущен приемом. Он был окружен всеобщим вниманием, но понимал, на каких условиях вернулся, потому что было очевидно, что теперь Тереза считала его своим законным «кавалером-любовником». Она гордилась своей победой не столько над мужем и отцом, сколько над самим Байроном. Она верно поняла, что это его нежелание узаконить их отношения, а отнюдь не возмущение графа Гвичьоли было причиной их ссоры в Венеции и попыток Байрона разорвать опутывавшие его узы.
Граф принял Байрона ласково и дружелюбно, как всегда, хотя впоследствии вел себя отчужденно, бесцеремонно и резко, если не сказать – зловеще. Однако радости других жителей Равенны не было предела, не исключая и отца Терезы. Вечером после приезда Байрона дядя Терезы, маркиз Кавалли, устроил в своем доме прием и бал, куда Байрон получил специальное приглашение. «Г. поставила себе целью, – писал Байрон Хоппнеру, – хвастать перед всеми своим возлюбленным, и поверьте, если она наслаждалась своим скандальным поведением, то мне нечего было стыдиться».
После Нового года должен был начаться карнавал, и Байрон стал центром внимания в провинциальном городке. Но через пару недель старые раны вновь дали о себе знать. Он вспоминал, как пять лет назад женился. В канун Нового года Байрон написал Аннабелле печальное письмо с просьбой прислать портрет Ады, чтобы «напомнить мне о нашем прошлом». Вскоре отношения с Терезой стали портиться. Он не мог видеться с ней наедине каждый день и стал воображать себе обман, отсутствие искренности и даже заигрывание при нем с мужем и друзьями, чтобы помучить его. Байрон не мог выносить неопределенности и писал Терезе длинные письма, выплескивая все свои чувства. Ей всегда удавалось разубедить его, потому что он легко поддавался влиянию любой любящей его женщины. В конце концов он сделал то, чего желала Тереза, хотя часто осуждал традиции чичисбейства. Погода по-прежнему стояла плохая, Байрон не мог ежедневно выезжать верхом и постоянно был дома, лишь изредка навещая свою возлюбленную.
Вскоре Терезе удалось убедить графа предложить Байрону верхний этаж дворца Гвичьоли. Его мебель еще не прибыла из Болоньи. Нежелание Байрона соглашаться на это жилье можно объяснить несколькими мотивами, кроме его двусмысленного положения и сплетен. Одним из этих мотивов было подозрение, что Тереза перешла на сторону мужа или предпринимает попытки убедить возлюбленного пойти на поводу у причуд графа. Главной причиной было решение Байрона не появляться в доме Гвичьоли, пока там живет служанка, которую Байрон подозревал в наушничестве. Но тут Тереза соглашалась с мужем, который не желал выгнать служанку. Раздражение Байрона вылилось в письме к Хоппнеру: «Я упорно учусь, как складывать шаль, и давно бы преуспел, если бы каждый раз не складывал ее наизнанку…»
Но через несколько дней, несмотря на гордость, Байрон принял предложение графа, чтобы иметь возможность видеться с Терезой. Поселившись во дворце Гвичьоли с его просторными комнатами и поставив своих лошадей в конюшню, Байрон сразу успокоился и почувствовал себя лучше. Близость возлюбленной тоже усиливала волнение Байрона, потому что им приходилось встречаться в отсутствие графа или когда он спал. Байрон вскоре приобрел верного помощника в лице слуги-негра, работавшего у Гвичьоли. Этот выходец из Восточной Африки был предан Терезе; был и другой, с побережья Гвинеи, который служил графу, и ему нельзя было доверять. Африканец передавал письма Терезы и ответы Байрона и следил за лестницей во время их свиданий.
Время карнавала закончилось, и Байрон вновь стал жить обычной жизнью, которая ему нравилась больше всего: поздно поднимался, ездил верхом на прогулку в лес, вечер проводил с Терезой дома или в театре, а предрассветные часы посвящал творчеству. 19 февраля он отправил в Англию третью и четвертую песни «Дон Жуана».
А тем временем отголоски шума, поднятого первыми двумя песнями, все не затихали. Гарриетта Уилсон, знаменитая куртизанка английского двора, которая видела Байрона на балу в 1814 году и не могла забыть его, прочла поэму и написала автору письмо с упреком: «Обожаемый лорд Байрон, не делайте из себя обычного грубого циника… Когда вам не хватает благожелательности, отложите перо и возьмите немного яду».
За пределами Англии тоже интересовались «Дон Жуаном». Клер Клермонт, находившаяся во Флоренции, вынашивала мысль написать на поэму сатиру, разоблачающую характер Байрона, о чем и поведала в своем дневнике. Поэма Байрона казалась ей «монологом на тему его собственных неудач, неизящным и эгоистичным, словно нищий, показывающий всем свои язвы и вызывающий отвращение вместо жалости». В Лондоне Каролина Лэм отправилась на маскарад в костюме Дон Жуана, и на следующее утро «Морнинг кроникл» сообщила о ее выходке.
Байрону не хотелось возвращаться в Англию, потому что Хобхаус сидел в тюрьме за памфлет, а реформистское движение, которое поэт когда-то мечтал возглавить, влачило жалкое существование, и его героями были ораторы-демагоги Хаит и Коббетт. Арест Хобхауса выявил противоречивость симпатий Байрона. Он рано усвоил либерализм XVIII века, подразумевающий выступление против тирании, которое могло вести к республиканским взглядам, но представляло собой власть аристократии. Такие взгляды вызывали недоверие толпы и отсутствие сочувствия со стороны демократов, рабочего и среднего класса. Но за этими философскими изысканиями крылась гордость своим происхождением, усиливающаяся благодаря социальной нестабильности, часто беспокоившей Байрона, а еще более благодаря предрассудкам, бытовавшим в частной школе и колледже, которые подчеркивали важность титула и классовое чувство и были слишком глубоко запечатлены в душе, чтобы их можно было стереть отстраненному наблюдателю за событиями в Англии, каким Байрон стал за границей.
У Байрона была и другая причина не спешить с возвращением на родину. Хобхаус сообщал ему о последнем поражении их друга Скроупа Дэвиса, который скрывался от долгов, как до него скрывался в Кале Бруммель. Байрон писал: «Итак, Скроуп бежал, совершенно разоренный… Бежал туда, где будет пить допьяна голландское пиво и застрелится первым же туманным утром. Бруммель в Кале, Скроуп в Брюгге, Буонапарт на острове Святой Елены, ты в своей квартире, а я в Равенне. Только представь, как много великих людей! Ничего подобного не было со времен Фемистокла в Магнезии и Мария в Карфагене».
Байрон закончил свое письмо Хобхаусу 3 марта на слегка хвастливой ноте: «Я стал постоянным чичисбеем. Это самое счастливое состояние…» Байрон был предан Терезе. Она по-прежнему была для него восхитительной женщиной, но, разочарованный некоторыми чертами ее характера, он потерял надежду, питавшую его в первые месяцы их связи, – найти в ней идеального спутника по мыслям и духу. Хотя по привычке он пользовался словами, которые говорил ей в начале их романа, его письма и записки дают понять, что теперь он считал ее очаровательным, но своевольным и беспечным ребенком.
Байрон по-прежнему гордился своей дочерью, которую баловали Тереза и слуги. Но Хоппнеру он писал: «Аллегра стала еще красивее, но она упряма, как мул, и тщеславна. Чувствует себя хорошо, судя по цвету лица, ведет себя сносно, если бы не тщеславие и упрямство. Она считает себя красивой и поступает так, как пожелает…»
Несмотря на переезд и размолвки, Байрон продолжал трудиться на литературном поприще. Кроме двух новых песен «Дон Жуана» он отправил Меррею переводы первой песни «Моргайте Маджоре» Пульчи и «Франчески да Римини» из «Ада», а также свою поэму «Пророчество Данте» и длинный ответ на критическую статью в «Блэквудс магазин», в котором высмеял поэтов «озерной школы» и показал превосходство Поупа и Драйдена над современными поэтами. Он извинялся за свой провал следовать примеру Поупа, потому что его попытки писать не являлись серьезной поэзией. «…Почти все, что я написал, – просто страсть… Мое равнодушие – тоже своего рода страсть, результат опыта, а не философия. Поэзия превращается в привычку, как женское кокетство…» В конце Байрон осудил Джона Китса, «озерного головастика», который в своей поэме «Сон и поэзия» (показательное название! – Л.М.) осмелился заявить, что легко подражать Поупу, следуя «жалким правилам и гнусным традициям».
Байрон сочинил балладу, обвиняя Хобхауса в отходе от вигов и слиянии с чернью. Хобхауса особенно уязвила несправедливая по отношению к нему решимость Байрона игнорировать истинные причины его ареста и жертвы, на которые он пошел ради свободы и конституционного правительства. Баллада была написана с вдохновением, которое в другое время Хобхаус бы оценил:
Как вы попали под арест,
Мой мальчик Гоббинька пригожий?
«Я гнать велел палату с мест:
им хорошо, мол, и в прихожей».
Прежде чем Хобхаус получил балладу, его освободили из тюрьмы, и он получил место в парламенте, но все же баллада нанесла ему тяжкий удар, потому что Меррей свободно издал ее, и искаженный экземпляр также был опубликован в «Морнинг кроникл», газете тори. Хобхаус с грустью отмечал в своем дневнике: «…если человек дает волю своим нездоровым желаниям, направленным против того, кто стоял с ним рядом плечом к плечу во всех неурядицах и никогда не отказывал в дружеской услуге, то это печальное доказательство недостатка чувств и, боюсь, принципов». Но 29 марта Байрон прислал ему шутливое и добродушное письмо, и решимость Хобхауса порвать с ним отношения рассеялась.
Весна шла своим чередом, и Байрон начал живо интересоваться итальянской политикой, даже играя роль постороннего наблюдателя. В письмо от 9 апреля Меррею он для забавы вложил программку вечера в литературном салоне кардинала-легата и едко заметил: «Сам кардинал – добродушный старичок, епископ Имолы и легат, ревностный последователь церковных доктрин. Сорок лет у него жила домоправительница для удовлетворения его плотских желаний, но все равно его считают набожным и высоконравственным человеком».
В 1817 году Байрон говорил Муру, что не считает литературу своим призванием. «Но вот увидишь, я в чем-нибудь преуспею, если позволят время и обстоятельства…» А теперь в середине апреля в Равенне время и обстоятельства предоставили ему это нечто. Беседы Байрона с графом Ружжеро Гамбой, отцом Терезы, страстным патриотом Италии и либералом, дали ему понять растущую мощь карбонариев. 16 апреля Байрон писал Меррею: «На сегодняшний день это самое занимательное зрелище – увидеть, как итальянцы прогонят варваров всех наций в их берлоги. Я достаточно долго прожил среди них, чтобы понять, что они – один из самых сплоченных народов в мире, но им нужен союз и принципы, и я сомневаюсь в их успехе. Однако они будут пытаться, а это хорошее дело».
Новые взгляды Байрона охладили его отношения с кардиналом, этим ярым последователем церковного учения, чья власть укреплялась и поддерживалась австрийцами. 23-го Байрон сообщал Меррею: «Прошлой ночью они исписали весь город лозунгами: «Да здравствует республика!», «Смерть папе!» и т. д. В Лондоне этого бы не произошло, потому что стены там неприкосновенны. Но здесь совсем другое дело… Полиция настороже, а кардинал побледнел под своей пурпурной мантией».
Политические и литературные увлечения Байрона теперь занимали его больше, чем общество возлюбленной. Он начал писать трагедию, основанную на истории жизни дожа Марино Фальеро, патриция, который вместе с народом выступал против тирании Сорока, правивших Венецией. «Я так и не написал ни одной полной сцены этой поэмы, – позднее сообщал Байрон Меррею, – без того, чтобы не прерваться: нарушить заповедь Господа и повиноваться женщине… Дама всегда извинялась за вторжение, но вы знаете, какой ответ должен всегда давать мужчина. Таковы обязанности героя-любовника».
От тяжелых раздумий Байрона отвлекали лишь мысли о дочери и ее образовании. Аллегре было уже больше трех лет, и он понимал, что она не получала должного внимания и воспитания. Однако Байрон решительно восставал против назойливости Клер, которая забрасывала его письмами с просьбой разрешить увидеть ребенка. Она просила, чтобы Аллегру привезли к Шелли в Пизу, а потом угрожала приехать в Равенну. Когда Хоппнеры с опозданием передали Байрону первую просьбу Клер, он резко ответил: «…я настолько не согласен с детским воспитанием в их семье, что мне кажется, будто ребенка везут в госпиталь. Разве не так? Разве у них был хоть один ребенок? Здоровье Аллегры отменное, а характер не так уж плох, иногда она ведет себя тщеславно и упрямо, но всегда весела и жизнерадостна, и поскольку через год или два я либо отправлю ее в Англию, либо в монастырь, чтобы она получила образование, то эти недостатки будут должным образом исправлены. Но моя дочь не покинет меня, чтобы умереть от голода и зеленых фруктов или вырасти с убеждением, что Бога нет. При любом удобном случае ее мать сможет увидеться с ней. Так, и только так».
В середине мая отношения Байрона с Терезой и ее мужем накалились. Гвичьоли уже не скрывал своего негодования. То, что он ищет доказательств неверности жены, стало ясно, когда Тереза взволнованно написала, что граф вскрыл ее стол и обыскал его. Тереза полагала, что графа подстрекали насмешки друзей из церковных кругов, которые, подозревая Байрона в приверженности к карбонариям, хотели выслать его из Равенны. Развязка наступила, когда вечером граф застал Байрона с Терезой и раздраженно попросил его прекратить визиты. Тереза в своих воспоминаниях написала, что «они, как обычно, беседовали», но Байрон был более откровенен. Он писал Меррею, что все началось «из-за того, что нас застали вдвоем и, что еще хуже, она ничего не отрицала».
Первым порывом Байрона было уйти и «пожертвовать» собой, а не идти на компромисс и не смущать покой семьи Терезы. Она рыдала и обвиняла его в холодности. Но Байрон с чистой совестью мог сказать, что она неправильно истолковала его стремление уехать. Настоящая причина, возможно, крылась в приверженности Байрона к условностям, как писала маркиза Ориго. Он много лет играл роль бунтовщика. «Но он никогда не оспаривал, как Шелли, ценности социальных норм». Байрон искренне называл себя и Терезу «заблуждающимися». У него было врожденное отвращение к открытой демонстрации излишней вольности в женщине.
Тереза была готова немедленно бросить графа и просить о разводе, но Байрон посоветовал ей «поговорить с папой». И в конце концов ее отец обратился к папе римскому с просьбой дать дочери развод. Решимость Байрона остаться с Терезой, несомненно, окрепла благодаря поддержке графа Гамбы и его друзьям в Равенне. 20 мая он написал Меррею: «…итальянцы на нашей стороне, особенно женщины, да и мужчины тоже, потому что говорят, что он не имел права затевать скандал после целого года снисходительного отношения. Закон против него, потому что он жил с женой после ее признания. Все ее многочисленные родственники, высокородные и могущественные, в гневе на его поведение и нежелание признать себя рогоносцем после нескольких измен, в то время как другие признают после одной».
На отношение графа Гамбы к этому делу повлияла не только Тереза, но и его любовь и уважение к Байрону. Похоже, он тоже был очарован молодым английским лордом и предпочел бы, чтобы именно он был его зятем вместо расчетливого старика, который плохо относился к его дочери. Байрон советовался с отцом Терезы по всем вопросам и предлагал наилучшие действия в борьбе за счастье и репутацию Терезы. Его расположение к Байрону подкреплялось их одинаковыми политическими взглядами.
Байрон с самого начала подозревал, что церковные круги используют любую возможность, чтобы выслать его из Романьи, хотя они и не смели прямо выступить против английского лорда. Можно было досаждать ему, затевая ссоры с его слугами-итальянцами. Самыми его преданными слугами были Лега Замбелли, бывший слуга Гвичьоли, сопровождавший его из Венеции в качестве секретаря, и внешне свирепый, но добродушный гондольер Тита Фальсиери. Байрону повезло, поскольку среди множества врагов из окружения кардинала-легата у него был друг, граф Альборгетти, который, возможно из корыстных побуждений, потому что уже был знаком с щедростью Байрона, но также из восхищения и преклонения перед ним, стал его посредником и агентом. Кажется бесспорным, что Альборгетти пользовался своим влиянием на кардинала, чтобы помочь Байрону и Терезе.
В мае и июне Байрон, как прежде, жил на втором этаже дворца Гвичьоли, играя с животными, тайно встречаясь с Терезой, пока Морелли и негритенок стояли на страже, и поздно ночью сочиняя стихи. Порой его беспокоила кажущаяся слабость Терезы по отношению к мужу, с которым ей посоветовал остаться отец, пока она не получит законного разрешения покинуть его. Может быть, в отношениях графа с женой было что-то более глубинное? Но Байрон решил быть верным Терезе до конца. Одно из писем больше всего поразило ее. Именно в этом она никогда не было уверена. Он написал: «…моя любовь, мой долг, моя честь обязуют меня вечно оставаться тем, кем я сейчас являюсь, – твоим возлюбленным, другом и, если позволят обстоятельства, твоим мужем».
6 июля папа своим указом позволил Терезе расстаться с графом Гвичьоли, потому что «далее ей было невозможно жить в мире и согласии с мужем», но официальное сообщение пришло только 14-го. Граф должен был выплачивать Терезе содержание в размере ста скудо в месяц, равное тысяче английских фунтов в год, писал Байрон Киннэрду. Кардинал согласился не сообщать графу о решении папы, пока Тереза не уедет, чтобы избежать «жестокости и скандала». Последний день во дворце Гвичьоли она провела «в слезах и горе», а граф вел себя недоверчиво. Одной из причин ее волнения была мысль о возможности расставания с Байроном, хотя бы и временно. 15 июля Тереза со слугами покинула дворец и вернулась к отцу, который отвез ее в сельский дом в Филетто, примерно в 15 милях к юго-западу от Равенны. Для возлюбленных это был конец главы. Из чичисбея Байрон превратился не в мужа, как мечтала Тереза, а в нечто более странное: «возлюбленного уважаемой и знатной дамы, разошедшейся с мужем».
Граф Гвичьоли, живущий на первом этаже дворца, оставался по-прежнему загадкой, и молва поговаривала о том, что он строит козни против Терезы и Байрона. После вечерней верховой прогулки в день отъезда Терезы (15 июля. – Л.М.) Байрон отправил своего повара Валериано охранять ее вместе с Луиджи Морелли. С поваром он передал письмо: «В моей любви можешь не сомневаться, а твоя пусть продолжается. Передай от меня наилучшие пожелания своему отцу… P.S. Говорят, что А. (Алессандро Гвичьоли. – Л.М.) в жалком положении. Напиши мне в лучшем стиле Сайта Кьяры. Будь очень осторожна!»
Нежность, смешанная с поддразниванием и иногда легким недовольством, так характерная для писем Байрона, показывает, насколько хорошо он знал Терезу. В его письмах больше нет эмоциональной напряженности тех дней, когда они жили под одной крышей во дворце Гвичьоли и когда Байрон понял, что его возлюбленная выполняет все прихоти своего супруга. Байрон уже почти привык к роли любящего мужа. Страсть не умерла, поскольку Тереза всегда привлекала его, но терпеливая нежность не мешала ему замечать все ее недостатки и жеманство. Вскоре после ее отъезда Байрон начал поиски летнего дома неподалеку от Филетто, где можно было бы поселить Аллегру с няней и спокойно посещать дом семьи Гамба.
Одновременно Байрон с облегчением вернулся к литературной работе и переписке. Он завершил поэтическую драму «Марино Фальеро». Эта тема позволяла воплотить фантастический миф о героическом прошлом пришедшего в упадок города. «Все в Венеции, – писал Байрон в предисловии, – невероятно. Она подобна мечте, а ее история подобна легенде».
Байрона все больше стал занимать процесс над королевой Каролиной, начатый Георгом IV и его министрами-тори, с целью лишить ее прав и привилегий венценосной особы и узаконить развод на основании ее увлечения посыльным Бергами в Италии. Симпатии народа были на стороне королевы, и процесс стал судом над самим королем и его министрами. Помня с благодарностью доброту королевы, когда он посещал ее в 1813 году с леди Оксфорд, Байрон также выступил в ее защиту, хотя и не верил в ее невиновность. С помощью Хоппнера и других знакомых он пытался найти достойных доверия свидетелей и разоблачить тех, кто приехал в Италию, чтобы свидетельствовать против нее.
Байрон так же остро, как Тереза, ощущал одиночество. Ему доставляло удовольствие вспоминать о грубых подробностях их близости, которые она прятала за намеками. Он писал: «Разлука с тобой причиняет мне неудобства, ты понимаешь, о чем я» (все слова подчеркнуты. – Л.М.). Граф Гамба привел к Байрону своего сына Пьетро, только что вернувшегося с учебы в Риме. «Мне очень нравится твой юный братец – в нем чувствуется одаренность и сила духа. Широкие брови! И фигура, которая, я думаю, раздалась, как и у тебя, по крайней мере в… Понимаешь меня? Он, однако, слишком горяч для революции, не следует слишком увлекаться».
Наивность Пьетро, его искренность, верность, юношеский идеализм и даже житейская непрактичность, которая то потешала, то раздражала Байрона, а также его чувство юмора, более яркое, чем у сестры, привлекли поэта, и вскоре они стали друзьями. Пьетро принес свежие вести о неудавшейся и нелепой попытке восстания против тирании Бурбонов в Неаполе. Байрон писал Меррею: «Неаполитанцы не стоят даже проклятия и потерпят поражение, если речь зайдет о драке. Остальная Италия, думаю, выстоит. Кардинал не знает, что делать».
Отец и сын Гамба летом и осенью вводили Байрона в тайные общества Романьи. Романтические названия этих тайных обществ, ночные собрания в охраняемой комнате или в лесу, пароли и мистические ритуалы одновременно привлекали Байрона и вызывали негодование непрактичностью восставших. Однако его симпатии к их делу заставляли его мириться с раздражающей внешней мишурой. Байрон причислял себя к «Turba» – толпе, состоявшей большей частью из рабочих, потому что она казалась наиболее подготовленной к борьбе. Он стал ее почетным «Саро», или вождем. Рабочие называли себя «Cacciatore Americani» («Американские охотники». – Л.М.). Странно, что Байрон, высмеивавший Хобхауса за его симпатии к английской черни, сам присоединился к этой группе и гордился этим. Однако в чужой стране люди из народа выглядели более привлекательно, а их уважение к Байрону как вождю, а позднее поставщику оружия натолкнуло его на мысль, что даже революционеры признавали лидерство джентльмена. Но еще больше сближал его с борцами за свободу тот факт, что все его лучшие друзья, просвещенные аристократы Равенны, являлись движущей силой карбонариев.
Наконец Байрон нашел для Аллегры виллу примерно в шести милях от Равенны. Под предлогом встречи с дочерью он мог совершать поездки в Филетто. Его первый визит туда 16 августа не остался незамеченным для шпионов Гвичьоли. Вилла Гамба была просторным семейным особняком, построенным еще в XVII веке. Она стояла на плодородной равнине, орошаемой каналами, берущими начало в Пинете и Адриатике. Приятные поездки в Филетто летом и осенью напоминали Байрону о поездках в кругу семьи, которой он никогда прежде не знал. Постепенно он полюбил всех членов семьи Гамба, их отменные манеры, бережное отношение друг к другу, распространившееся и на него. Тереза вспоминает, что он очень привязался к ее маленьким сестрам. «Он нежно ласкал их и говорил, что ему нравится, что в их семье все красивые. Он чувствовал себя членом семьи». Однако Байрону нравилась и мужская половина семьи.
В письме к Муру в конце августа Байрон сообщает: «Что бы я узнал или написал, будь я тихим меркантильным политиком или придворным? Человек должен путешествовать, жить полной жизнью, а иначе разве это существование? Кроме того, я просто хотел быть кавалером-любовником и не подозревал, что это превратится в настоящее чувство в духе англосаксонских романов… Теперь я жил в их домах, в уголках Италии, меньше всего посещаемых чужеземцами, многое видел и стал частью их надежд, страхов, страстей и почти превратился в члена семьи. Вот что значит видеть и узнавать людей».
Чтобы развеять грусть Терезы, Байрон посылал ей книги, в основном французские. Одна из них задела ее за живое, потому что ситуация, описанная в ней, была слишком схожа с ее жизнью. Это был роман Бенжамена Констана «Адольф», изображающий мучения неравной любовной связи Констана и мадам де Сталь. Позднее Байрон говорил леди Блессингтон, что это «самая истинная картина несчастья, которое является следствием неосвященного союза». Тереза была опечалена. «Байрон, зачем ты прислал мне эту книгу?.. Чтобы оценить ее и получить наслаждение, надо быть совсем непохожей на Элеонору. А чтобы дать ее прочесть возлюбленной, надо быть либо очень похожим на Адольфа, либо совсем непохожим на него!» Байрон отказался всерьез воспринять ее опасения. Он решил, что лучше всего будет не обращать внимания на капризы Терезы. А следующий его визит в Филетто развеял ее опасения.
Байрону самому пришлось пережить немало волнующих минут, когда появилась весть о том, что его видели в Лондоне по делу королевы, едущим в парном двухколесном экипаже. «…Вы считаете меня шутом или безумцем, – писал он Меррею, – способным на такое предприятие?.. С равным успехом вы могли бы изобразить меня на «коне бледном», на котором едет смерть в Апокалипсисе».
В одиночестве во дворце Гвичьоли Байрон с нетерпением ожидал писем из Англии. Его мнение об английских поэтах не изменилось после прочтения «Питера Белла» Вордсворта. На полях первой страницы Байрон написал на поэму блестящую пародию. Упрекнув Меррея в том, что он не прислал «Монастырь» Скотта среди других книг, Байрон далее написал: «Вместо этого стишки Джонни Китса и три романа бог знает кого…» Нелюбовь к Китсу не стала меньше после появления его нового томика стихов («Ламия», «Изабелла», «Канун Святой Агнессы» и другие поэмы). Кажется, Байрон отбросил его в сторону, не читая.
Пылая гневом и отвращением к английской поэзии, Байрон подумывал о возобновлении и издании «Подражаний Горацию» – продолжения «Английских бардов…», написанных им в 1811 году в Афинах. Байрон считал поэму своей «Дунсиадой», изобличающей пошлость его времени. «Тогда я писал лучше, чем теперь, – говорил он Меррею, – но причиной тому частично то, что я поддался жестокому велению времени. Я вынашивал эту мысль девять лет, никто сейчас этого не делает, кроме разве что Дугласа К.: он выждал свои девять лет, а затем опубликовал поэму».
В течение всего лета Байрона изводили умоляющие и угрожающие письма от Клер, касающиеся Аллегры. Наконец он обратился к Шелли: «Я предпочел бы получить письмо от тебя, поскольку не желаю читать письма Клер, которая ведет себя возмутительно и назойливо…» Шелли ответил, что она несчастна и плохо себя чувствует и к ней следует относиться со всем возможным терпением. «Слабые и глупые подобны королям: они не могут причинить вреда».
Хоппнер, который, как и его жена, обожал сплетни, намекнул на какие-то неслыханные поступки Шелли, но Байрон выступил в его защиту: «Сожалею, что у вас сложилось плохое мнение о Шилохе (прозвище Шелли. – Л.М.), когда-то вы думали по-другому. Несомненно, он талантлив и честен, но как безумный борется против религии и морали… Если Клер считает, что ей удастся повлиять на нравственное и религиозное воспитание ребенка, то она заблуждается: этого никогда не будет. Девочка станет христианкой и выйдет замуж, если возможно… Сказать честно, я считаю, что мадам Клер – дрянь. А вы как думаете?»
Хоппнер немедленно воспользовался отвращением Байрона к Клер, чтобы выложить ему сплетни, услышанные от Элизы, бывшей няни Аллегры, которая вышла замуж за слугу, уволенного из дома Шелли за неподобающее поведение. Согласно этим слухам, Клер была беременна от Шелли, они отправились в Неаполь, а когда ребенок родился, поместили его в приют. Исходя из своих циничных взглядов на человеческую натуру и зная об отрицании условностей в этой семье, Байрон был склонен поверить этой истории, хотя и понимал, что честность рассказчика весьма сомнительна. «История Шилоха, несомненно, правдива, – писал он, – хотя Элиза вряд ли относится к тому типу, который изобличает своих работодателей. Вы помните, как рьяно она стремилась вернуться к ним, а теперь уходит и оскорбляет их. Однако сомневаться не приходится, это на них очень похоже».
Тайные общества Романьи находились в состоянии брожения, ожидая больших событий после восстания в Неаполе. 31 августа Байрон написал Меррею: «Мы здесь собираемся немного подраться в следующем месяце, если гунны не перейдут По, а также, вероятно, если перейдут; больше пока ничего не могу сказать. Поверьте, нам предстоит жаркое дельце, если только итальянцы начнут. Храбрость французов проистекает от тщеславия, немцев – от их вялости, турок – от фанатизма и опия, испанцев – от гордости, англичан – от спокойствия, голландцев – от упрямства, русских – от неразумности, а итальянцев – от гнева. Так что они не пожалеют ничего».
Байрона подозревали в снабжении восставших деньгами и оружием. Кардинал Рускони, заменивший добродушного Мальвазию, располагал достаточной информацией своих шпионов, чтобы оправдать арест дюжин заговорщиков, но боялся, что в состоянии волнения не сумеет собрать нужного количества свидетелей. Рускони написал кардиналу Спина в Болонье: «А также подразумевается участие в этом дерзком заговоре хорошо известного лорда Байрона… По этому вопросу я сообщил все его преосвященству, кардиналу и первому министру иностранных дел (Консалви. – Л.М.), но до настоящего времени правительство не приняло против него никаких мер».
Многие молодые аристократы из организаций карбонариев, такие, как Пьетро Гамба, «рвались в бой», но, хотя Байрон в своих письмах в Англию выражал гнев и нетерпение, по большому счету соглашался со старшим Гамбой и советовал быть благоразумным. Вести, доходившие из Неаполя, не сулили ничего хорошего. Конгресс в Троппау, в котором принимали участие представители высшей власти европейских стран, принял секретный протокол, подтверждающий право единой Европы подавлять опасные внутренние выступления. Англия и Франция не согласились с общим принципом, но остались нейтральными и выразили согласие относительно особого права Австрии защищать свои интересы в Италии, подавляя неаполитанскую революцию. После этого короля Фердинанда пригласили принять участие в совместном конгрессе в Лайбахе будущей весной. Не зная об этих тайных правительственных сношениях, итальянские патриоты продолжали питать надежду на восстание в Неаполе.
Тереза не владела английским и могла читать стихи Байрона лишь во французском переводе. «Дон Жуан» неприятно поразил ее. Байрон писал Меррею: «Как ты думаешь, что мне сказала на днях одна очень красивая итальянка? «Я бы предпочла наслаждаться три года славой «Чайльд Гарольда», чем бессмертием «Дон Жуана»!» (все слова подчеркнуты. – Л.М.) Правда в том, что поэма слишком правдива, а женщины ненавидят все, что лишено чувства, и они правы, поскольку это лишит их оружия».
Тем не менее Байрон чувствовал, что поэма выразила его самые искренние чувства и в конце концов найдет своих читателей. Сочиняя для удовольствия и с удовольствием, он завершил сто сорок девять строф пятой песни и к 9 декабря закончил переписывать их. Как обычно, он излил весь свой талант и остроумие в лирических отступлениях, отражающих его сиюминутное настроение. Ответ критикам и Терезе на ее обвинение в отсутствии чувств он начинал так:
Когда, тоскуя нежно и красиво,
Поют поэты о любви своей
И спаривают рифмы прихотливо,
Как лентами Киприда – голубей, —
Не спорю я, они красноречивы:
Но чем творенье лучше, тем вредней.
Назон и сам Петрарка, без сомнений,
Ввели в соблазн десятки поколений.
Но я и не хочу изображать
Любовные дела в приятном свете…
Чтобы еще больше уколоть своих читателей-моралистов и заставить содрогнуться друзей-англичан, Байрон прибавил к поэме строфу, намекающую на королеву и ее любовника Бергами. Он писал: «Историки царицу упрекали в неблаговидной нежности к коню. Конечно, чудеса всегда бывали, но все же я историков виню; не конюха ль они предполагали?» По просьбе Хобхауса он выкинул из поэмы эти строки, но пришел в ярость, когда в первом издании Меррей также опустил еще одну «неблаговидную» строфу:
Закон Востока мрачен и суров:
Законы брака он не отличает
От рабских унизительных оков;
И все-таки в гаремах возникает
Немало преступлений и грешков.
Красавиц многоженство развращает;
Когда живут кентавром муж с женой,
У них на вещи взгляд совсем иной.
В Равенне, наедине со своими воспоминаниями, Байрон продолжил писать мемуары в прозе. В декабре он отослал еще восемнадцать листов Муру, который был тогда в Париже, предложив ему опубликовать мемуары после смерти автора. Мур, живший за границей, чтобы избавиться от кредиторов, был рад этому предложению. Впоследствии он продал мемуары Меррею за две тысячи гиней, а пока демонстрировал их всем парижским знакомым[26].
Меррей прислал Байрону «Ежеквартальное обозрение» и «Эдинбургское обозрение» со статьями, вызвавшими гнев поэта. Статья в «Ежеквартальнике» была посвящена нападками Боулза на Поупа. «Мистер Боулз не останется без ответа, – писал Байрон Меррею, – эти ничтожные современные шарлатаны и поэты позорят себя и Бога, отрицая достоинства Поупа, самого безупречного из поэтов и людей». Статья в «Эдинбургском обозрении» еще больше разъярила Байрона, потому что в ней восхвалялась бессодержательная поэзия Китса, посмевшего критиковать Поупа. Байрон писал: «Статья хвалит Джека Китса, Китча или как его там… Но у него не поэзия, а бессмыслица…» В следующем письме Байрон опять вернулся к этой теме: «Такие стихи подобны умственному онанизму: он постоянно возбуждает свое воображение. Не хочу сказать, что поэзия Китса непристойна, однако он выплескивает свои мысли в таком виде, который нельзя считать поэзией и ничем другим, а лишь бредом, рожденным употреблением сырой свинины и опия».
Меррей предложил пересмотреть некоторые песни «Дон Жуана». Но у поэта никогда не хватало решимости на хладнокровные исправления. Странно, но человек, так восхищавшийся отточенным стилем Поупа, полагал, что литературное произведение лучше всего, когда выходит из горячей «печи» воображения. На предложение Меррея Байрон ответил: «Я похож на тигра. Если пропущу свою первую весну, то, рыча, уползу назад в джунгли. Второй весны не будет. Не могу ничего изменять, не могу и не буду».
Байрон постоянно откладывал поездку в Филетто, и Тереза начала испытывать скуку, а в середине ноября уговорила отца отвезти ее в Равенну. Байрон понимал, что Терезу может подстерегать опасность, потому что одним из условий развода было то, что она будет продолжать жить в доме отца. Байрон знал, что встречи с Терезой должны быть тайными и осторожными. Он также знал о намерениях правительства, потому что располагал секретной информацией от графа Альборгетти, который за деньги, услуги и дружбу, а возможно, и за все вместе почти совершил государственную измену, сообщая Байрону о намерениях кардинала не только в отношении планов австрийцев, но и о том, что непосредственно относилось к поэту и его возлюбленной. «Они пытаются затевать ссоры с моими слугами, – писал Байрон Киннэрду, – учинять мне неприятности, что несложно сделать, и, наконец, они (правящая клика. – Л.М.) угрожают запереть мадам Гвичьоли в монастыре». При этой угрозе негодование Байрона достигало предела: «Если им удастся поместить бедняжку в монастырь за то, что она совершала со мной то, что другие итальянские графини совершают уже тысячи лет, естественно, я скорее соглашусь исчезнуть сам, чем позволить им запереть ее в тюрьму, потому что именно этого они и добиваются».
Поскольку угроз в отношении Терезы больше не было, можно догадаться, что графу Альборгетти удалось добиться смягчения позиции кардинала. Напряжение в городе достигло предела 9 декабря. Байрон готовился ехать к Терезе, когда услышал за окном выстрелы. Выбежав с Титой на улицу, он увидел, что командир войск, Луиджи Даль Пинто, умирает от пяти ран. Вечером Байрон описал это событие в послании к Муру:
«Поскольку никто не мог или не хотел ничего предпринимать, кроме как стенать и молиться, и никто не пошевелил пальцем, чтобы помочь ему, боясь последствий, я потерял терпение: заставил слуг и нескольких человек из толпы поднять тело, отправил нескольких солдат за полицией, отправил Диего с вестями к кардиналу и приказал отнести командира в свой дом. Но было слишком поздно, он уже скончался… Бедняга! Он был храбрым солдатом, но настроил против себя многих людей. Я лично знал его и часто встречал в литературных салонах и других местах».
Байрон был странным революционером. Прирожденный гуманизм всегда мешал ему ясно видеть цель, которой должны придерживаться истинные борцы. Если Байрон мог использовать свое влияние, чтобы избежать жестокости и кровопролития с обеих сторон, то он не мешкал ни минуты. Милосердие к погибшему командиру поставило под удар его нахождение в рядах карбонариев, если бы не схожие взгляды и понимание семьи Гамба. Байрона могли бы также заподозрить в связях с врагом из-за его странной дружбы с графом Альборгетти, который, являясь одним из правителей провинции Романья, был связан в понимании народа с ненавистным правительством, несмотря на его либеральные взгляды. Однако в переписке с Альборгетти Байрон делал все возможное, чтобы не скомпрометировать своих друзей-карбонариев.
В конце года Байрон продолжал навещать Терезу, но почти столько же времени проводил в беседах с Пьетро и графом Гамбой. Время от времени он мечтал о побеге: о возвращении в Англию или совершении какого-нибудь геройского поступка. Но Байрон знал, что не может вернуться, потому что сам слишком переменился. 28 декабря он отправил Киннэрду пятую песнь «Дон Жуана». Интуиция подсказывала ему, что только в этой поэме он мог наиболее полно выразить себя.
Начало нового года ознаменовалось плохой погодой и политическими волнениями, когда стало ясно, что австрийцы подготовились к нападению на Неаполь. Испытывая тревожное ожидание, которое пришло на смену скуке и подогревало творческие способности, Байрон вновь обратился к стихам. Но Муру он признавался, что, хотя писал по велению своего внутреннего демона, сам процесс созидания давался ему с трудом. «Я точно так же, как ты, отношусь к нашему «ремеслу»[27], но только желание обуревает меня постоянно, и если я не предам мысли бумаге, то сойду с ума. А что до обыденной скучной любви к сочинительству, которое ты описываешь в своем друге, то я этого не понимаю. Для меня это мучение, от которого нужно избавиться, но никак не удовольствие».
Единственной отдушиной для Байрона были вечерние визиты к Терезе и ее семье. Из-за ее пошатнувшейся репутации они не осмеливались ходить в театры, на балы или на карнавал, как было прошлой зимой, когда Байрон был признанным чичисбеем. В хорошую погоду Байрон ездил верхом около четырех часов вечера, иногда один, но чаще с Пьетро Гамбой.
Стремление писать воплотилось в дневнике Байрона, который он начал 4 января. Этот дневник он завел во время путешествия в Бернские Альпы в 1816 году, и он был хроникой мыслей и событий, написанных в прозе, которые иногда звучали забавно, а порой откровенно драматично. 6 января Байрон написал:
«В чем причина того, что я всю свою жизнь томился? И почему теперь я томлюсь меньше, чем в двадцать лет, если мне не изменяет память? Полагаю, что это связано с индивидуальными особенностями, так же как просыпаться в дурном настроении, что и происходило со мной много лет. Умеренность и упражнения, которыми я иногда занимался, порой энергично и долго, почти ничего не меняли. Бурные страсти же наоборот: странно, но под их влиянием я ощущал прилив бодрости и не был удручен. Приключения действуют как легкое шампанское. Но вино и алкоголь делали меня хмурым и жестоким, но в то же время неразговорчивым и не склонным к ссорам, если меня не задевали. Плавание также возбуждает меня, но все эти стимулы временные и с каждым днем действуют все слабее».
На следующий день скука Байрона несколько развеялась. Поползли слухи, что правительство готовилось нанести удар, и кардинал Рускони приказал арестовать нескольких человек. Байрон советовал «бороться, а не поддаваться» и предложил революционерам укрываться в его доме в случае нужды. В восторге он писал в своем журнале: «Все, что нужно, так это дождливая полночь… Если сражение не начнется сейчас, то скоро… Каждую минуту ожидаю услышать гром барабана и стрельбу из мушкетов, потому что революционеры клянутся сражаться, и они правы, но пока все тихо, кроме легкого шороха дождя и порывов ветра».
Стояла дождливая погода, дороги были непроходимы, и Байрон вновь вернулся к чтению и письму. Он сделал набросок трагедии о жизни Сарданапала, ассирийского царя, изнеженного, ленивого, окруженного роскошью и развратом, но вынужденного действовать после того, как он узнает о готовящемся против него заговоре. Когда Байрон обсуждал драму с Терезой, то заметил, что центральной темой не должна быть любовь. Тереза надеялась прочитать о «благородной страсти», с чем Байрон не хотел соглашаться. Но, придя домой, он написал в дневнике: «Я должен сосредоточиться на любовной теме больше, чем предполагал». Тереза с гордостью вспоминала: «В тот вечер победила всепоглощающая любовь Мирры».
Мало радости принесли Байрону вести, что, несмотря на его протесты, «Марино Фальеро», который не был написан для сцены, должен был вскоре появиться на лондонских подмостках. Когда-то Байрон мечтал о славе драматурга, но, столкнувшись с «пренебрежением» публики в театре «Друри-Лейн», перестал ее уважать. Байрон чувствовал свою беспомощность и боялся, что друзья не принимают достаточных мер, чтобы предотвратить постановку.
Байрон разочаровался в своих надеждах на революционные выступления, которые, казалось, были обречены на поражение. 23 января, вернувшись из дома Гамба, он написал в журнале: «У карбонариев нет плана, они не знают, что, где и когда предпринять». Тем временем карнавал был в разгаре. «…Немцы стоят на По, – писал Байрон, – варвары у ворот, но подумать только! Итальянцы танцуют, поют и веселятся…» Пьетро, его отец и другие карбонарии отправились на охоту.
Байрон вновь начал подумывать о побеге на Ионические острова (лорд Сидни Осборн, пасынок матери Августы, пригласил его на Корфу) или к Хоппнерам весной. Но он также знал, что, если Тереза захочет, чтобы он остался, он не сможет устоять. В голове у него появились странные мысли, которые он доверил дневнику: «…что лучше, жизнь или смерть, известно лишь богам» – так сказал судьям Сократ… Говорят, что бессмертие души – большая глупость, но все же каждый – глупейший, скучнейший, ничтожнейший из человеческих существ – верит в то, что бессмертен».
Байрон не мог продолжать начатую драму, но начал вынашивать более честолюбивые планы: «…«Каин» с рассуждениями о метафизике, нечто в духе «Манфреда», но в пяти актах и, возможно, с хором; «Франческа да Римини» в пяти актах и трагедия о жизни Тиберия». Байрон записал несколько мыслей, пришедших ему на ум: «Почему даже к самым страстным желаниям и человеческим удовольствиям, светским, любовным, честолюбивым или властолюбивым, примешивается сомнение и печаль? Я думаю, каждому из этих чувств отведено по крайней мере шестнадцать минут, хотя я никогда не считал».
Несмотря на убеждение, что признания в литературе можно добиться, следуя только образцам классического искусства, и несмотря на свой интерес к Поупу, заставивший его по многу раз переделывать «Подражания Горацию» и писать ответ Боулзу, Байрона по-прежнему тянуло к «Дон Жуану». Он писал Меррею:
«Пятая песнь еще далеко не конец «Дон Жуана», поэтому нельзя сказать, что я написал пока только начало. Я хотел, чтобы он путешествовал по всей Европе, хотел смешать осаду, битвы и приключения и покончить с Жуаном как с Анахарсисом Клотсом[28] времен Французской революции. Не знаю, сколько песен на это потребуется, и не знаю, даже если доживу, когда закончу поэму. Но это моя цель, я хотел сделать его чичисбеем в Италии, причиной развода в Англии и сентиментальным Вертером в Германии, чтобы высмеять светское общество во всех этих странах, и постепенно изобразить его разочарованным и искушенным по мере старения, что вполне естественно. Но еще не решил – покончить ли с ним в аду или остановиться на несчастливом браке, не знаю, что хуже. Испанская традиция говорит: «ад», но, возможно, это только аллегория на брак».
Байрон по-прежнему надеялся совершить какой-нибудь подвиг, сражаясь на стороне итальянцев. Его надежды и порывы не удалось охладить друзьям-патриотам, которые внезапно вернули его ружья и амуницию, потому что правительство грозило арестовать каждого, кто скрывает оружие. 18-го Байрон записал в дневнике: «Полагаю, они считают мой дом хранилищем, которым можно пожертвовать в случае боев. Это не столь уж важно, если Италия будет свободна. Поэзия политики великолепна. Только подумать – свободная Италия! Ничего подобного не было со времен Августа».
Но оптимизма поубавилось, когда неаполитанская революция была задушена, план освобождения Романьи провалился, вожди предали движение, а все усилия карбонариев потерпели фиаско. На это Байрон сказал: «Вот так всегда в этом мире, и так итальянцам всегда не хватает единства». Разочарованный, Байрон не стал винить своих друзей-карбонариев. Его способность к дружбе зиждилась на терпимости к человеческим слабостям и даре полунасмешливо-полуцинично обозревать далеко не благородные характеры тех, к кому он был привязан. Позднее Байрон писал Муру: «Как сказала мне несколько дней назад одна очень красивая женщина со слезами на глазах, сидя за клавесином: «Увы! Итальянцы опять должны вернуться к сочинению опер». Боюсь, что именно оперы и макароны являются их сильной стороной, а «единственный их наряд – шутовской». Однако среди них все же можно найти сильных духом людей».
1 марта Байрон отправил свою дочь Аллегру в монастырь Сан Джованни Баттиста в Баньякавалло, в нескольких милях от Равенны, из-за политических волнений в стране и неуверенности в будущем. Монахини устроили школу для девочек, куда знатнейшие семьи стремились отдать своих дочерей. Байрон разрешил банковскому служащему Пеллегрино Гиги, чья дочь была в монастыре, отвезти туда Аллегру, потому что сам уже не мог с ней справляться из-за «ее испорченного нрава». Он говорил Хоппнеру, что не собирается давать «незаконнорожденному ребенку английское образование, потому что из-за ее рождения ей будет вдвойне нелегко обосноваться на родине. За границей же с хорошим образованием и приданым в пять-шесть тысяч фунтов она сможет удачно выйти замуж… Кроме того, я желаю, чтобы она приняла римско-католическую веру, которую я считаю лучшей и старейшей на земле религией».
Когда вероятность военных действий ослабла, Байрон вновь вернулся к драме, наиболее полно отражавшей его недовольство бездеятельной, праздной жизнью. Но в то время как повествование развертывалось под его быстрым пером, Сарданапал из ленивого сластолюбца превращался в мыслящего героя, чье бездействие объяснялось неприятием войны и жестокости и презрением к честолюбивым замашкам и жажде власти. Интерес Байрона к событиям тысячелетней давности, который не угасал ни на мгновение, был вызван тем, что, как и все другие произведения, написанные им con amore, или с любовью, история Сарданапала была историей его собственной жизни и возможностью убежать от самобичевания.
За внешним фасадом спокойной жизни в Равенне разворачивались интриги, полные ненависти и отвращения. Байрону повезло, потому что его щедрость и симпатия к простым людям завоевали ему популярность в городе, и кардинал, по крайней мере внешне, выказывал ему уважение, а генеральный секретарь был его преданным другом. Через несколько дней у Альборгетти появилась возможность доказать Байрону свою благодарность за его доброту. Слуга-итальянец Байрона, Тита, поссорился с офицером по имени Писточчи. Оба выхватили кинжалы и пистолеты, но до драки дело не дошло. Слуга был арестован, и Байрон пожаловался Альборгетти, который сообщил ему о намерении кардинала выслать Титу. Байрон негодовал: «Если человека хотят отправить за границу, лишить куска хлеба и оставить на его репутации несмываемое пятно, то нижайше прошу сообщить кардиналу, что не могу прогнать Титу… Должны быть наказаны оба».
Дело продолжалось, кардинал оставался непреклонен. Байрон, всегда бывший снисходителен и порядочен по отношению к своим слугам, написал кардиналу прошение в таких резких выражениях, что смутил более робкого Альборгетти. Терпение Байрона было на пределе, когда он писал секретарю: «Мне кажется, что вокруг кардинала низшие церковные чины плетут какие-то интриги, чтобы раздуть дело из простой уличной ссоры солдата и слуги… Если они хотят избавиться от меня, то у них ничего не выйдет, потому что я не совершил ничего противозаконного и не позволю проявлять насилие, а уеду только по своей доброй воле, когда мне этого захочется».
Дело продолжалось три недели. Тем временем Байрона отвлекали другие происшествия. Он был вдохновлен анонимным памфлетом «Джон Буль», который ему прислал Меррей. Автор, которым оказался Джон Гибсон Локхарт, позднее зять сэра Вальтера Скотта и издатель «Ежеквартального обозрения», указывал Байрону на отрывок в письме к Боулзу, где Байрон преуменьшает свое значение в сравнении с Поупом. Автор давал ему совет, который отвечал всем представлениям Байрона: «Придерживайтесь «Дон Жуана»: это единственное искреннее произведение, написанное вами… Это самое вдохновенное, самое честное, самое интересное и самое поэтичное творение. И каждый согласится со мной, хотя и не осмелится сказать… Думаю, очарование его стиля кроется в том, что он не похож на стиль ни одной поэмы в мире… Ваш «Дон Жуан» написан сильно, сладострастно, пламенно, смешно; так не мог написать никто, кроме человека, стоящего выше других по мастерству и пороку, истинного властелина своих дарований, распутного, губящего самого себя, непревзойденного, обаятельного демона…»
Байрон и в самом деле собирался продолжать «Дон Жуана», но, в то время как автор памфлета убеждал его не отказываться от задуманного, Тереза уговорила его бросить поэму. В миланской «Газете» она увидела статьи о неприятии английскими критиками творения Байрона и прочитала две первые песни во французском переводе. Байрон сдался и пообещал больше не писать, пока Тереза не позволит. Об этом вырванном у него обещании он писал Меррею: «Причина кроется в желании всех женщин верить в возвышенность страстей и сохранять иллюзию, в которой заключается их сила. «Дон Жуан» развенчивает эту иллюзию и насмехается над многими вещами».
В июле самолюбию Байрона польстил приезд молодого американца, друга Вашингтона Ирвинга, который поведал ему о том, какой восторг вызывает его поэзия по ту сторону Атлантики. Молодой человек, писал Байрон Муру, «оказался очень приятным собеседником. Это был некий мистер Кулидж из Бостона, правда полный пыла и энтузиазма. Я был очень вежлив с ним и много говорил об Ирвинге, чьими произведениями восхищаюсь. Но подозреваю, что я ему не очень понравился, потому что он, по всей видимости, ожидал встретить эдакого мизантропа в штанах из волчьей кожи, говорящего односложными словами, а не светского человека. Никак не могу заставить людей понять, что поэзия – выражение возвышенной страсти и нет такой вещи, как жизнь, полная страсти, как нет постоянного землетрясения или вечной лихорадки. Кроме того, кто бы стал тогда бриться?».
10 июля в семье Гамба произошла беда. Возвращаясь вечером из театра, Пьетро был арестован и отправлен на границу в постоянную ссылку. То, что его, подобно многим, не бросили в подземную темницу, произошло благодаря заступничеству Байрона и графа Альборгетти. Байрон стал понимать, что изгнание Пьетро и впоследствии его отца было частью плана избавиться от него самого. Власти были уверены, что Тереза последует за отцом и Байрон покинет Романью.
Но Тереза и слышать не хотела о том, чтобы оставить Байрона в Равенне, где его жизнь, как она думала, была в опасности. С большим трудом Байрону удалось убедить ее последовать за братом и отцом, которых отправили во Флоренцию. Ему удалось уговорить Терезу лишь после того, как он сказал ей – а его предупредил Альборгетти, – что ее угрожают запереть в монастырь. Байрону самому не хотелось уезжать из Равенны, к которой так привык, и по настоянию Терезы он попытался, хотя и понимал тщетность попыток, вернуть изгнанников. Между тем Альборгетти сообщил, что ему удалось освободить слугу Байрона. Возможно, кардинал понял, что, достигнув своей главной цели, мог проявить великодушие. Он был уверен, что Байрон последует за возлюбленной.
После бурных сцен с Терезой Байрон с облегчением вернулся к повседневным делам, наслаждаясь временной свободой от связи, продолжавшейся уже более двух лет. Но несмотря на почти семейные узы, соединявшие его с Терезой после ее разрыва с Гвичьоли, эти отношения не были благотворны для Байрона. Шло лето, а он оставался в Равенне в надежде, что изгнанников простят и они вернутся, но в основном потому, что не мог расстаться с привычной жизнью. Он вновь стал подумывать о возвращении в Англию. Но у него были обязательства, и, хотя в глубине души он мог лелеять надежду на освобождение от самой «ранней из страстей», к которой никогда не мог относиться так же легко, как на словах, он все же хотел оставаться верным тем, кто его любил и доверял. Несмотря ни на что, он вернется к Терезе, но в свое время.
В тихом дворце Гвичьоли Байрон начал писать очередную драму. Он назвал ее «Каин». Хотя сюжет был почерпнут из Библии, целью Байрона был не пересказ легенды, а более глубокие рассуждения на тему предопределенности, судьбы, свободной воли и проблемы зла. Вначале он намеревался написать «метафизическую драму в духе «Манфреда», только в ином ключе. «Манфред» появился на свет под воздействием сожаления и разочарования в прошлом, заставившем Байрона творить зло. Когда устами своего героя он пожаловался, что «мы – смешенье праха с божеством», то выразил романтический бунт против самой жизни человека. Ничто в реальном мире не может удовлетворить того, кто стремился к свободе духа и познанию Бога. В «Каине» Байрон совершил еще один шаг в мир отчаяния.
Когда Люцифер взял Каина в путешествие в мир духов и показал ему недосягаемое:
Чувствую, что в мире ничтожен я,
Меж тем как мысль моя сильна, как Бог! —
Каин пришел к горькому выводу, что даже могущественные духи могут быть несчастливы. Знание не приносит счастья. Не остается ничего, кроме отчаянного стоицизма, веры в свою собственную несгибаемую волю и силу, рожденные осознанием безнадежности всяких стремлений.
Несмотря на то что в предисловии Байрон заявил, что слова Люцифера принадлежат именно ему, а не автору и что немыслимо заставить его «говорить как священника о тех же предметах», Байрон вложил в слова Люцифера свои собственные размышления, возникшие как сопротивление в век разума. Через Люцифера он восхищается непокорными:
Мы существа, дерзнувшие сознать свое бессмертье,
Взглянуть в лицо всесильному тирану,
Сказать ему, что зло не есть добро.
Байрон знал, что эти слова вызовут негодование если не всесильного тирана, то по крайней мере набожной британской публики.
Нежелание Меррея печатать «Дон Жуана» ставило под сомнение его восторг по поводу новой иконоборческой поэмы. Байрон сердился на Меррея за то, что тот тянул с изданием и избегал прямых разговоров. Но когда Дуглас Киннэрд назвал его «торговцем», Байрон встал на защиту издателя. «Мне кажется, М. хороший человек, с симпатией относящийся ко мне. Однако любая сделка является основой враждебных отношений даже между братьями, словно объявление войны… Не сомневаюсь, что он сделает то, что отказывался сделать. Так что не думай о нем слишком плохо». Хотя Байрон продолжал уязвлять и ругать Меррея, но в основном его письма к издателю были открытыми и дружелюбными, как и большинство его самых интересных писем из Италии.
Шелли прислал экземпляр «Адониса», элегию на смерть Китса, и Байрон попросил Меррея «убрать все, что я сказал о нем (Китсе) в своих рукописях». К статье, атакующей злосчастного поэта, посмевшего критиковать Поупа, Байрон сделал приписку: «Мое негодование по поводу отношения мистера Китса к Поупу не давало мне повода судить его собственный талант, который, если отбросить в сторону все фантастичное щегольство его стиля, был, несомненно, велик. Его отрывок из «Гипериона» вдохновлен титанами и так же изящен, как творения Эсхила». После смерти Шелли Байрон вставил в «Дон Жуана» колкое замечание о Китсе, смягченное, однако, добродушной похвалой и жалостью, проистекавшими из уверенности Шелли в том, что Китса убила критика на «Эндимиона» в «Ежеквартальном обозрении»:
Как странно, что огонь души тревожной
Потушен был одной статьей ничтожной.
Зная о скором отъезде Байрона из Равенны, Шелли, беспокоящийся об Аллегре и Клер, поспешил нанести ему визит. Он прибыл в десять часов вечера б августа и вместе с Байроном просидел до пяти утра, беседуя. Они не виделись с момента визита Шелли в палаццо Мосениго в 1818 году. Байрон был вдвойне рад встрече, потому что после отъезда из Венеции почти не виделся со своими английскими друзьями. Шелли писал Мэри: «Он совсем поправился и живет совершенно по-другому, не так, как в Венеции». Он закончил письмо пересказом отвратительной сплетни, переданной Хоппнерами в отношении Шелли и Клер. Почему Байрон сообщил Шелли эту скандальную весть в ночь его приезда? Потому что ему не терпелось узнать его реакцию? Или, как всегда во время встреч с Шелли, Байрон был не склонен сомневаться в его честности и считал своим долгом сообщить ему о слухах, затрагивающих его доброе имя? Возможно, и то и другое. Шелли попросил Мэри написать Хоппнерам опровержение и отправить в Равенну, чтобы он мог показать Байрону.
Отложив разговор с Байроном и посещение в монастыре Аллегры, Шелли в сопровождении Титы отправился посмотреть памятники и церкви Равенны. 10-го он снова написал Мэри: «Наш распорядок дня следующий: лорд Б. встает в два, завтракает, потом мы беседуем, читаем до шести, а потом ездим верхом, ужинаем в восемь, а после ужина беседуем до пяти утра». Блуждая по дворцу Гвичьоли Шелли повстречал на своем пути необычный зверинец. «В доме лорда Б., – писал он Пикоку, – проживают, кроме слуг, десять лошадей, восемь огромных собак, три обезьяны, пять кошек, орел, ворона и сокол. Все они, кроме лошадей, бродят по дому, наполняя его шумом и ссорами, словно они тут хозяева». Позже он сообщал из этого «дворца Цирцеи»: «Я только что повстречал на лестнице пять павлинов, двух цесарок и египетского журавля».
Новые песни «Дон Жуана» наполнили Шелли священным трепетом. Он говорил своему другу Пикоку, которому в 1818 году писал о неодобрительном отношении к «Чайльд Гарольду» и разгульном образе жизни Байрона в Венеции: «Он живет с одной женщиной и выглядит совсем другим человеком. Он написал еще три песни «Дон Жуана»… Думаю, каждая строчка этого произведения дышит бессмертием».
Шелли убедил Байрона отказаться от мысли отправиться с семьей Гамба и Терезой в Швейцарию, а вместо этого приехать в Пизу и попросил Мэри найти для него «большой, роскошный дом». Шелли сам написал письмо Терезе, которая с братом и отцом находилась во Флоренции, убеждая ее принять приглашение. Тереза была готова согласиться, если только Байрон поедет с ней, и умоляла Шелли не покидать Равенну без него. Однако это было нелегко сделать, потому что Байрон неохотно срывался с места и страшился изменений, которые повлечет за собой переезд.
Между тем Шелли 14-го навестил Аллегру в монастыре. Байрон, жаловавшийся на несносный характер дочери, был рад, что вместо него поехал спокойный Шелли. Тот пробыл в монастыре три часа. После этого он писал Мэри: «…в ней сочетаются задумчивая серьезность и жизнерадостность, которая еще не покинула ее. Правила в монастыре очень жесткие, что становится ясно из немедленного повиновения ее наставникам. Кажется, что это противоречит ее натуре, но не думаю, что этого удалось добиться излишней жестокостью… Ее слабостью являются тщеславие и стремление выделиться…» Сначала Аллегра стеснялась, но, когда Шелли подарил ей золотую цепочку, стала более раскованной. Когда он спросил, что передать папе, она ответила: «Che venga farmi un visitino, e che porta seco la mammina» («Пусть он приедет ко мне с мамой»). Шелли передал ее пожелание Байрону, хотя она, по-видимому, имела в виду Терезу, потому что не видела свою мать с августа 1818 года, когда ей не было еще и двух лет.
16-го Шелли получил взволнованное письмо от Мэри к миссис Хоппнер, где говорилось о нелепости всех обвинений: «Шелли так же не способен на жесткость, как самая мягкая женщина. Для тех, кто его знает, его доброта стала почти нарицательной». Шелли передал письмо Байрону, чтобы тот отдал его Хоппнеру. Для Байрона это было неудобно, поскольку он, вероятно, обещал не рассказывать Шелли о слухах. Неизвестно, отправил ли он письмо Мэри Хоппнеру или просто объяснил ему, почему не поверил этой истории, но он больше никогда не упоминал о скандале, связанном с Шелли и Клер.
Когда Шелли вернулся в Пизу, то нашел дом для семьи Гамба, а для Байрона – просторный дворец XVI века на Лунгарне, дворец Ланфранки. Шелли с нетерпением ждал приезда Байрона. Он сказал Мэри, что «надеется создать общество людей, близких нам по духу и интеллекту, и трудиться на благо этого общества. Никогда еще наши корни не были так глубоки, как в Пизе, а пересаженное дерево не цветет». Шелли давно надеялся уговорить Ли Ханта приехать в Италию и присоединиться к их компании. Байрон уже упоминал о возможности вызвать Ханта из Англии и сделать его соиздателем периодического журнала, и теперь Шелли вновь заговорил об этом, рассчитывая, что Байрон будет так же благожелателен к Хаиту, как к Муру, которому отдал свои мемуары. Однако Шелли не хотел прямо просить Байрона дать Ханту денег на путешествие, хотя Хаит был не настолько щепетилен, и Шелли знал, что он сочтет за честь принять от своих друзей деньги, будучи не в состоянии их потом вернуть.
Как только дом в Пизе был готов, Байрон обнаружил, что перед отъездом из Равенны необходимо сделать еще сотню дел, и только через два месяца он смог отправиться в путь. Сборы он возложил на плечи Леги Замбелли, своего слуги, и, когда Тереза жаловалась на задержку, сваливал всю вину на него. Байрон писал ей: «Не отрицаю, что очень не хочу уезжать, и предвижу серьезные неприятности для всех вас, особенно для тебя. Больше ничего не скажу, сама увидишь».
Тем временем Байрон не сидел без дела в Равенне. Он закончил «Синие» – сатиру на притворных англичанок, именуемых «синими чулками», которые вращались в литературных кругах, а к 9 сентября завершил «Каина». Перечитывая только что напечатанные песни «Дон Жуана», Байрон понимал, что это лучшее из его произведений, и сожалел, что обещал Терезе бросить писать продолжение. После этого он занялся другими делами. Он написал второе письмо Меррею с ответом на нападки Боулза на Поупа и отправил посвящения к драмам. Он посвятил «Каина» Скотту, а «Сарданапала» Гете. После этого Байрон сочинил яростную и дерзкую сатиру на Георга IV и раболепие угнетенных ирландцев, которые приветствовали и развлекали его, едва успев похоронить королеву. Это произведение, названное «Ирландской аватарой», родилось, когда Байрон перечитывал сообщения о похоронах королевы и радостной встрече короля в Дублине, напечатанные в «Морнинг кроникл». Он знал, что это не самое лучшее произведение, и написал Меррею с просьбой не присылать ему провокационных статей, «никаких периодических изданий, чтобы я был свободен от омерзительных выражений похвалы или порицания… Когда я был в Швейцарии и Греции, никто обо мне не слышал, но как я там писал!».
Байрон был вновь расстроен, когда из Пизы прибыли телеги за его поклажей. Он писал Муру: «Я из сил выбиваюсь, вожусь с проклятиями, упаковывая вещи, мебель и тому подобное для переезда в Пизу, где останусь на зиму… Это ужасная вещь – любовь – мешает человеку воплотить все надежды на славу и триумф. Я хотел отправиться в Грецию с ее братом. Он очень хороший, смелый парень и бредит свободой. Но слезы женщины, которая оставила мужа ради другого, и слабость собственного сердца оказались сильнее, и вряд ли мне удастся воплотить задуманное».
Сборы продолжались до тех пор, пока в доме не осталось даже кровати, но Байрон все медлил, ссылаясь на легкую лихорадку. «Под молодой луной» он слез с коня, чтобы пройтись пешком с синьорой. «Но это была не романтическая прогулка, но все же это была новая женщина, которую надо было любить. Однако я произнес лишь несколько ничего не значащих речей». Байрон признавался, что «на сердце у меня лежит свинцовая гора».
Находясь в подавленном состоянии, Байрон работал над одной из самых жизнерадостных сатир – совершенным выражением остроумия и иронии, вершиной его литературного мастерства. Весной он видел хвалебное произведение Саути в честь Георга III под названием «Видение суда» и начал размышлять над шутливо-героической пародией. Враждебность Байрона к Саути росла год от года. Вычеркнув ссылку на Саути в посвящении к «Дон Жуану», он вернулся к ней в третьей песне с едкими насмешками над трусливой натурой лауреата. Но третья песнь еще не была опубликована, когда «Видение» Саути появилось с предисловием, в котором упоминался Байрон, хотя его имени и не было названо, как глава сатанинской школы писателей, чьи произведения «дышат дьявольской злобой и сладострастием» и полны «сатанинской гордости и неслыханной дерзости».
Дав волю своему гневу в ответной атаке в длинном примечании к своей драме «Двое Фоскари», Байрон в отдельном эпизоде с восторгом излил свои мысли и чувства. Он назвал новую поэму – как и его соперник – «Видение суда». Торжественный гекзаметр Саути с изображением суровых наказаний и наград, а в особенности – дифирамбы безумному старому королю стали материалом для сатирического ответа Байрона. Он с юмором изобразил реалистическую картину прибытия Георга к небесным вратам и ожесточенную борьбу за его душу между архангелом Михаилом и дьяволом:
В изысканной учтивости, казалось,
С их Светлостью их Мрачность состязалась.
Комическая ситуация достигла предела, когда, таща Саути, появился демон Асмодей с жалобами:
Ведь как тяжел, проклятый ренегат,
Его таща, чуть не свихнул крыла я!
Как гири из свинца на нем висят
Его труды – вся писанина злая!
Тут Саути разражается тирадой, испугавшей как ангелов, так и демонов:
Писал он обо всем – писал немало,
Он хлеб насущный добывал всегда,
И лакомство ему перепадало…
Он пел цареубийц и пел царей,
Но он напоминал и проходимцев,
Всегда способных в нужный срок линять
И убежденья с легкостью менять.
Когда Саути попытался прочесть свое «Видение» всем собравшимся, то у святого Петра мурашки по коже забегали, а демоны с воем убрались прямо в ад. Святой Петр оттолкнул поэта, и тот упал в свое любимое озеро. Во время всеобщего смятения король Георг проскользнул в рай:
Пробрался в рай: выводит он с друзьями
(Для этого не надобно ума!)
Теперь рулады сотого псалма!
Не успел Байрон завершить свою сатиру, как на него опять нахлынула меланхолия. Его мысли с грустью вернулись к Августе. Он упрекал ее за то, что «она была так холодна», а потом обратился к своей связи с Терезой, длившейся почти три года: «Могу сказать, что теперь, хотя я уже не так влюблен, как вначале, я привязался к ней больше, чем считал возможным по отношению к любой другой женщине после трех лет, кроме одной, а кто она, можно догадаться… Если леди Б. и муж графини Гвичьоли соизволят умереть, мы, вероятно, поженимся, хотя я бы не стал этого делать, потому что это прямой путь к ненависти для всех людей».
Байрон так не хотел покидать Равенну, что с радостью пользовался любым предлогом, чтобы остаться. Громоздкую мебель давно увезли, но он все еще оставался в пустом дворце. В хорошую погоду он ежедневно ездил верхом, купался в Адриатике, продолжал писать и ждал писем из Англии.
Когда первая часть груза прибыла в дворец Ланфранки в Пизе, встревоженные власти города, правительство Тосканы и австрийские шпионы заговорили о прибытии неблагонадежного англичанина. Президент правительства написал великому герцогу и предупредил его о сеньоре англичанине, который «обладает титулом, неким наследством, литературной славой и серьезно намерен поддерживать изменения в государстве».
Шпионы еще больше бы утвердились в своих подозрениях насчет этого опасного радикала, если бы прочитали его письмо Хобхаусу от 12 октября: «Ваше бессовестное правительство вынудит всех честных людей свергнуть его… Я поддерживаю республику. Исторический опыт подтверждает мои предпочтения…»
Зная, что его приезд в Англию пока невозможен, Байрон в мыслях, однако, все чаще и чаще возвращался туда, потому что не видел впереди никакого просвета. Он искал утешения в воспоминаниях о счастливейших днях своей жизни, детских годах в Абердине, школьных годах в Хэрроу, кембриджских друзьях и холостяцкой жизни в Лондоне.
Чтобы увековечить эти воспоминания, 15 октября он начал писать «Отдельные записки».
«Ни один человек не может заново прожить свою жизнь – это старое и справедливое утверждение… Но в то же время, вероятно, в жизни каждого найдутся моменты, которые хотелось бы пережить вновь». На следующей странице Байрон заметил: «Я написал мемуары, но опустил все действительно важные события из почтения к мертвым, и живым, и тем, кто и жив и мертв одновременно. Иногда мне кажется, что мне следовало бы написать их как урок, но это оказался бы урок, который придется усвоить, а не избежать, потому что страсть подобна водовороту, за которым нельзя наблюдать на расстоянии. Не следует предаваться этим размышлениям, а то я выдам какую-нибудь тайну, которая вызовет недоумение у грядущих поколений».
Если возвращение в прошлое вызывало грусть, то взгляд в будущее наводил на мрачные размышления. «В бессмертии души, – писал Байрон, – по-моему, нет никаких сомнений, если мы на минуту обратимся к плодам нашего Разума. Он находится в непрерывном действии. Когда-то я сомневался, но жизнь научила меня… Другой вопрос, какова будет наша будущая жизнь и как близко она будет напоминать наше земное существование. Но то, что Разум вечен, кажется таким же безусловным, как и бренность тела… Человек рожден с плотскими страстями, но с внутренней способностью к добру и созиданию. Да поможет нам Бог! Сейчас мы всего лишь жалкое скопление атомов».
В своих записках Байрон выразил непреодолимое стремление к земному раю и реалистичный взгляд на тщетность этих попыток. «Отец Паскуале Окер, священник, учивший меня армянскому в монастыре Сан Лаззаро, убеждал меня, что «земной рай, несомненно, в Армении». Я пытался найти его повсюду, но не нашел. Мне казалось, что я близок к цели, но только на минуту или две».
Шелли с Терезой с волнением ожидали приезда Байрона. Шелли был расстроен, узнав, что Аллегра на время останется в монастыре. Мать настоятельница, памятуя о предстоящем отъезде Байрона, пригласила его навестить дочь в Баньякавалло, вложив в конверт и письмо Аллегры, написанное крупным почерком по-итальянски: «Дорогой папа, я так хочу тебя увидеть и так много тебе сказать. Пожалуйста, приезжай к своей Аллегрине, которая тебя так любит». На это Байрон ответил: «Искренне, но не очень приятно: она хочет увидеть меня потому, что пора получить какой-нибудь отцовский подарок». Если Байрон и собирался навестить дочь перед отъездом, то в суматохе сборов упустил эту возможность. Он понимал, что для дочери он чужой, и не хотел пережить неловкую сцену расставания или выказать перед монахинями свое смущение.
Наконец 29 октября рано утром наполеоновский экипаж Байрона прогремел по тихим мостовым средневекового города, в который он триумфально въехал в роли чичисбея почти два года назад. О его отъезде сожалели граф Альборгетти и многие другие, к кому Байрон был щедр. Позднее Тереза говорила Муру: «О его прибытии в город говорили как об удаче, а его отъезд предвещал неприятности…»
На попечении Пеллегрино Гиги, многострадального агента Байрона, остались «коза со сломанной ногой, безобразная крестьянская собака, птица вроде цапли, питающаяся исключительно рыбой, барсук на цепи, две уродливые старые обезьяны и его дочь Аллегра в монастыре в Баньякавалло».
На пути между Имолой и Болоньей Байрон встрепенулся от вида знакомого лица в проезжающем экипаже. Это был лорд Клер, любимец Байрона в Хэрроу, которого он не видел семь или восемь лет. Перед глазами поэта встало прошлое. «На мгновение наша встреча уничтожила все прошедшие годы… Это было новое и необъяснимое чувство, словно я пробудился от смертного сна. Клер тоже был взволнован… Мы были вместе всего пять минут, но я не припомню, чтобы я когда-либо был так потрясен».
На постоялом дворе Пеллегрино в Болонье Байрон встретил Сэмюэла Роджерса, путешествовавшего по Италии. Это была не очень радостная встреча. Байрон написал Меррею, что слышал о приезде Роджерса: «…в нем есть какая-то скрупулезность и любовь к злословию, которые мне не нравятся, к тому же он не очень хороший человек. Почему бы ему не лечь в постель? Зачем он путешествует?» Однако в личном общении Байрон был более дружелюбен, хотя Роджерс вспоминал, что во время их поездки через Апеннины «он настаивал, чтобы мы проезжали мимо какого-нибудь очень привлекательного пейзажа в темноте». Во Флоренции было полно англичан. Утром 1 ноября, когда Байрон был уже на пути в Пизу, Роджерс проводил его и написал своей сестре: «Жаль, что ты не видела, как он уезжал: все окна гостиницы были открыты и жильцы глазели на него».
Неподалеку от Эмполи, в тридцати милях от Флоренции, экипаж Байрона повстречался с дилижансом из Пизы. Из окна, оставаясь незамеченной, на него глядела темноволосая молодая женщина. Клер Клермонт возвращалась во Флоренцию и в последний раз увидела отца своего ребенка.
Не сохранилось никаких воспоминаний о встрече Байрона в Пизе, но, несомнено, прием был оказан самый теплый. Тереза с отчаянием ждала этого дня в течение двух месяцев. Приезд Байрона был желанным для Пьетро и его отца, а также для Шелли, который собирал вокруг себя людей, сходных по духу и чувствам, скоро ставших частью приятного пребывания Байрона в Пизе.
Байрон был доволен своим новым жилищем и обществом, собравшимся вокруг Шелли. Дворец Ланфранки был светлее дворца Гвичьоли в Равенне. Зимняя погода в Пизе тоже оказалась приятной после снега и слякоти Романьи. В защищенной холмами от холодных ветров Пизе преобладал мягкий средиземноморский климат, напоминающий зимы в Греции. Сад был маленьким, но красивым, солнечным и уединенным, окруженным высокими стенами. Нужно было только спуститься вниз по широким ступеням, открыть заднюю дверь, и можно срывать спелые апельсины.
Через месяц Байрон написал Меррею: «Я живу в знаменитом старом дворце феодала на Арно». Но в этом дворце не было ничего готического или средневекового: построили его в XVI веке из прекрасного каррарского мрамора в простом стиле эпохи Возрождения. Старый мрамор приобрел золотистый оттенок. Старая, но ничем не обоснованная легенда, которой легко поверил Байрон, гласит, что лестница была построена Микеланджело. Семья Ланфранки выступала на стороне гибеллинов во время гражданской войны, и Данте упомянул о ней в своем «Аде». Эти рассказы еще больше пробудили интерес Байрона к старому дому, который казался ему населенным неясными призраками прошлого.
После долгого общения в Равенне исключительно с итальянцами Байрон с радостью вошел в английский кружок, члены которого ценили его как поэта и с равным остроумием могли вести с ним светские беседы. Байрону не хотелось заводить новых знакомых среди итальянцев. Тереза была отрезана от своих соотечественников и виделась лишь с несколькими друзьями, которые были отправлены в ссылку вместе с ее братом и отцом. Семье Гамба тосканское правительство позволило временно обосноваться в городе. Тереза общалась только с Мэри Шелли и ее подругой Джейн Уильяме.
За несколько дней до приезда Байрона в город Шелли вернулись из водолечебницы в Сан-Джулиано и сняли квартиру на верхнем этаже Тре палаццо ди Чиеза, окна которого выходили на реку Арно прямо напротив дворца Ланфранки. Восхищение Шелли литературным гением Байрона возросло после прочтения «Каина». Мэри уже давно была очарована Байроном и писала своей подруге Марии Гисборн: «Итак, Пиза стала маленьким гнездышком певчих птичек».
К Шелли заходило много интересных людей, которых он представлял Байрону. Эдвард и Джейн Уильяме, ближайшие друзья Шелли, приехали в Пизу в январе по приглашению кузена Шелли, Томаса Медвина, который служил с Уильямсом в 8-м драгунском полку в Индии и приехал в Италию в октябре прошлого года, чтобы быть поближе к своему одаренному родственнику. Уильяме, лейтенант с половинным жалованьем, с литературными склонностями и либеральными взглядами, сбежав с женой другого офицера, решил, что дешевле и удобнее будет жить за границей. Узнав от Шелли об «аристократической червоточине» в характере Байрона, находясь под влиянием популярного мифа о «печальном мизантропе», Уильяме был удивлен, когда Шелли привел его во дворец Ланфранки. «Его манеры отнюдь не надменны, – писал Уильяме в своем журнале, – он ведет себя непритворно и как истинный джентльмен. Несмотря на то что молва представляет его хмурым меланхоликом, он весь излучает улыбку и остроумие, которые вместе с изысканной манерой выражаться и насмешливым складом ума не могут не воодушевить тех, кто с ним знаком».
На следующий день Байрон вместе с Терезой и Пьетро отправился к Шелли, но впоследствии именно дом Байрона стал местом встречи мужской половины кружка. Тереза продолжала верховые прогулки с Мэри и вместе с Пьетро заходила к Шелли. Но Байрон виделся с Терезой только у нее дома, хотя иногда встречал ее и Мэри на прогулке. Он словно магнит притягивал к себе Шелли и его друзей, вовлекая их в мир развлечений и светских бесед. В этот кружок вошел и еще один друг Шелли, Джон Тааффе-младший, ирландский эмигрант, проживший несколько лет в Италии, которого вынудили покинуть родину после злополучной любовной связи в Эдинбурге. Он гордился своим умением ездить верхом, хотя на самом деле не был хорошим наездником, и занимался литературой и гуманитарными науками. Тааффе работал над крупным литературным произведением, «Записки о Данте», которое должно было быть опубликовано вместе с его переводом «Божественной комедии». Байрон немедленно проникся к нему симпатией и даже написал о его намерении Меррею.
Томас Медвин уехал из Пизы в феврале, но 14 ноября вернулся, возможно, с надеждой через Шелли встретиться со знаменитым лордом Байроном. Байрон принял Медви-на, как он потом сказал Тааффе, со слегка циничной сдержанностью, как спутника, который мог вести с ним светскую беседу, чего чуждался Шелли, и как человека, который относился к нему с почитанием и служил мишенью для остроумия. Вскоре Медвин, как Тааффе и Уильяме, стал завсегдатаем в доме Байрона.
После того как губернатор Пизы запретил стрелять из пистолета в саду дома Ланфранки, Байрон стал назначать встречи некоторым друзьям в доме приятелей доктора Вакки[29] – Кастинелли, которые жили за городом. Почти каждый день в хорошую погоду Байрон с друзьями ехали на виллу ла Подера и стреляли из пистолетов по мишеням. Согласно местной традиции, в этот сельский дом Байрона влекло и присутствие Марии, красивой темноволосой крестьянской девушки. Тереза и Мэри часто посещали место сборов. Для Мэри, очарованной интеллектом и обаянием Байрона, это была единственная возможность войти в мужской кружок, где она могла бы занять достойное место благодаря своему характеру и интересам. Она с ностальгией вспоминала вечера на вилле Диодати и поездки в лодке по Женевскому озеру.
Позднее в своем журнале Мэри пыталась объяснить себе, «почему Альбе своим присутствием и голосом пробуждал в моей душе такие глубокие чувства и эмоции». Мэри не могла не признать, насколько сильно ее тянуло к Байрону и физически и духовно. Как она могла, даже когда рядом был Шелли, остаться равнодушной к очарованию Байрона, которому не могла противиться ни одна женщина? Герои ее поздних романов были очень похожи на Байрона.
В декабре Байрон начал устраивать еженедельные обеды во дворце Ланфранки для своих друзей-мужчин (женщин не приглашали). Тааффе, Медвин, Уильяме и Шелли были частыми гостями. Шелли наслаждался беседой о литературе и философских предметах, пока она не переходила в светский разговор, который он не любил. Остальные за бутылкой вина беседовали до двух или трех часов утра. Байрон никогда не был близок с другими друзьями Шелли. Князь Маврокордатос, греческий патриот, обучавший Мэри греческому языку, в июне отправился на родину, чтобы принять участие в освободительной борьбе, но его кузен князь Аргирополи остался в Пизе, и Шелли познакомил его с Байроном, вновь пробудив в том надежду на успех греческого освободительного движения.
Осознавая, что своим присутствием досаждает властям, Байрон тем не менее был равнодушен к этому, потому что ранее уже вызвал возмущение властей Романьи, где фанатики даже призывали убить его. Привыкнув к мягкому климату и приятному обществу Пизы, Байрон ощущал удовлетворение, которого не испытывал уже многие месяцы. Новые знакомые были очарованы им. Медвин, вскоре начавший делать заметки о своем знаменитом современнике, полностью попал под дружеские чары поэта. Байрон, осознавая, что о нем станут писать мемуары, все же не воздерживался от разговоров о своей жизни и любовных увлечениях, хотя иногда с удовольствием морочил Медвину голову.
Медвин писал: «Никогда не встречал человека, который блистал бы в обществе больше его. Возможно, это оттого, что он не стремится блистать. Он свободно выражает свои мысли, даже не задумываясь. Как и в письмах, он не подыскивает изящных слов и выражений: он ничего не скрывает, не делает из ничего тайн. Он свободно рассказывает обо всем, что сказал или сделал, словно хочет, чтобы весь мир узнал об этом, и не стремится скрыть свои ошибки… Он ненавидит споры и никогда не стремится победить в них. Он дает каждому возможность высказаться и обладает умением повернуть разговор в такую сторону, какая особенно по вкусу его собеседнику. Он никогда не хвалится своей литературной славой, гордится тем, что он светский человек и денди, а его забавные рассказы неистощимы. Во всем он впадает в крайности».
Шелли был также потрясен личностью человека, чей литературный гений настолько превосходил его собственный, что в первые месяцы пребывания Байрона в Пизе молодой поэт писал мало. В августе он написал из Равенны: «Я в отчаянии оттого, что не могу соперничать с лордом Байроном, но нет другого такого человека, с которым стоило бы состязаться». Позднее он говорил Горацию Смиту: «Я не пишу, потому что прожил слишком долго рядом с лордом Байроном, и свет солнца ослепил светлячка…» Относительно «Каина» Шелли писал: «Бесконечность не дивилась так прекрасным творениям Бога, уставшего от пустоты во Вселенной, как я дивлюсь последним произведениям этого ангельского духа, заключенного в бренную оболочку стареющего тела. Пусть весь мир завидует ему и восхищается». Байрон же, который не испытывал особенного восхищения поэзией Шелли и иногда подтрунивал над ним, как и над другими своими друзьями, по-человечески искренне был привязан к нему и уважал его за ум и честность.
Литературная деятельность Байрона не прекратилась с переездом в Пизу, хотя Медвин и удивлялся, откуда он берет время писать. Поэта раздражало отношение Меррея к «Дон Жуану» как к «неродному ребенку» и его нерешительность по отношению к «Каину». Байрон не желал изменять «нечестивые» строки, чтобы заставить Люцифера «говорить как епископ Линкольна… Неужели эти люди более нечестивы, чем сатана Мильтона или Прометей Эсхила?». Но все же, как и надеялся Байрон, Меррей делал свое дело по отношению к «Дон Жуану». Биограф Меррея, Сэмуэл Смайлз, вспоминал: «Агенты книготорговцев заполонили улицу перед домом на Элбемарл-стрит, и из окон в ответ на их шумные требования подавали пачки книг». Байрон немного успокоился, когда Меррей наконец предложил ему двадцать пять тысяч гиней за последние три песни «Дон Жуана» и три пьесы, «Сарданапал», «Двое Фоскари» и «Каин», которые были изданы 19 декабря.
Мысли об Аде постоянно пробуждали в душе Байрона ностальгические воспоминания о прошлом. 10 декабря, в день ее рождения, он написал Меррею: «Хотелось бы знать, когда я вновь увижу ее. Я заметил любопытное совпадение, похожее на перст судьбы. Моя мать, моя жена, моя дочь, единокровная сестра, мать моей сестры, незаконнорожденная дочь и я были единственными детьми в семье». Локон волос Ады, присланный Августой, побудил Байрона написать письмо Аннабелле, которое он так и не отослал. Он благодарил ее за надпись и имя, вложенные в письмо вместе с локоном, потому что на память ему не осталось никаких слов, написанных ее рукой, кроме слов «домашнее хозяйство» в старой хозяйственной книге. Но после этого Байрон вновь спустился на землю: «Я сжег твою последнюю записку по двум причинам: во-первых, она была написана не в очень приятном духе, а во-вторых, я хотел бы услышать слова, сказанные лично тобой… Мы оба совершили большую ошибку, но теперь все позади… Я говорю все это, потому что, несмотря ни на что, считал, что мы сможем вновь быть вместе даже через год после нашего расставания, но потом я совсем потерял надежду. Но именно эта невозможность начать все сначала и должна стать причиной наших дружественных отношений…»
Байрон и Шелли во многом расходились в своих взглядах на религию, потому что у Шелли было устоявшееся мнение, а Байрон оставался неуверенным скептиком, иногда сомневающимся в своем собственном скептицизме, что однажды и произошло во время обсуждения «Каина». По словам Трелони, Шелли воскликнул: «Думаю, Мэри, что он немного лучше, чем христианин!» Как ни было Байрону неприятно обсуждать религиозные воззрения других людей, он, так же как и Шелли, сурово восставал против жестокости и актов фанатизма, совершаемых во имя веры. Когда Медвин поведал о человеке, обвиненном в ереси и приговоренном к сожжению заживо, Байрон воскликнул: «Мы должны попытаться остановить это аутодафе!» Шелли был в ужасе и хотел седлать лошадей и немедленно отправиться в Лукку, чтобы освободить несчастного. Байрон оказался более осторожным и практичным. Он написал письмо Фредерику Норту, графу Гилфорду, который «обладал влиянием на этих великих герцогов и королей, которые способны сжигать других людей». Он отправил Тааффе в Лукку, чтобы разузнать обо всем поподробнее и добиваться у властей обжалования приговора. Когда Байрон узнал, что приговоренный бежал во Флоренцию и сдался там властям, которые не собирались сжигать его, он успокоился.
В конце года Байрон согласился позировать талантливому скульптору Лоренцо Бартолини. Однако сходство с оригиналом еще больше убедило его в том, что на тридцать четвертом году жизни он уже испытал все и молодость была позади. Свидетельством этого было то, что Байрон уже не стремился ко всепоглощающей страсти и довольствовался спокойными отношениями с Терезой. Осознание этого сделало его жизнь в Пизе легкой и приятной. Чего нельзя сказать о Терезе, которая, будучи оторванной от дома и друзей, опасалась того, что Байрон отдаляется от нее, и пыталась вновь завоевать его. Она восхищалась начитанностью Мэри Шелли и ее интеллектом и наивно полагала, что Байрон будет любить ее больше, если она станет подражать этому образцу. Но Байрон уже высказал свои взгляды на «умных девиц». В Терезе его привлекали ее молодость, красота и наивное обаяние.
В начале января Байрон получил письмо, вернувшее его в то время, когда жизнь его была полна любовных увлечений. Гарриэтта Уилсон, встретившая его однажды на маскараде в 1814 году, продолжала присылать ему письма. Находясь в затруднительном положении в Париже, она попросила его выслать ей пятьдесят фунтов. Байрон с радостью откликался на подобные просьбы. Теперь она вернулась в Англию и вновь оказалась в тяжелом положении, покинутая всеми своими любовниками. «Вам нужна английская девушка, которая на самом деле уже не девушка? – спрашивала она. – О которой вам не нужно вспоминать месяцами, которая может развлекаться одна, убирать вашу комнату, искать вам девушек в французском стиле, но не в итальянском, делать вам английский чай, делать все, что вы пожелаете, кроме штопанья рубашек, потому что я не умею шить? Если да, то, умоляю, соглашайтесь на меня, и я лучше всю жизнь буду вашей служанкой и буду жить в кухне, чем выйду замуж за кого-нибудь другого». Вероятно, письмо изумило Байрона, но неизвестно, какой он дал ответ.
14 января в Пизе появился новый интересный гость. Эдвард Джон Трелони, странное сочетание просоленного морского волка и тонкого эстета, стремящегося к общению с людьми искусства, специально приехал в Италию, чтобы встретиться с Шелли и Байроном, получив заманчивые письма Уильямса, которого прошлой зимой встретил в Женеве. Его пригласили в Тре палаццо, и все, особенно Мэри, были поражены его внешностью и манерами. В своем дневнике она отзывается о нем как об «экстравагантном человеке, чьи манеры частично естественные, а частично надуманные, но ему они подходят вполне. Его несколькое резковатое, но не лишенное обаяния поведение вяжется с его внешностью мавра: он похож на выходца с востока, но не на азиата. Его темные волосы, богатырское сложение и добродушное выражение лица, особенно когда он улыбается, убеждают меня в его доброте. Он рассказывает о себе страшные и причудливые истории…».
Позднее Трелони поведал о некоторых своих приключениях в книге «Приключения младшего сына», которую представил как свою автобиографию. Однако действительные факты его жизни, которые удалось узнать сравнительно недавно, отличаются от описанных в книге. Мальчиком он пошел служить во флот, но никогда не был пиратом и не дезертировал с корабля, а в 1812 году вернулся в Англию на британском фрегате. Насколько известно, он никогда не был женат на арабской девушке и не сжигал ее тело на берегу. Многие из его подвигов были, вне всякого сомнения, плодами воображения.
На следующий день после приезда Трелони Уильяме и Шелли отправились с ним к Байрону. Их встретил хмурый бульдог Байрона по прозвищу Моретто. «Было очевидно, что Байрон хромал, но тем не менее передвигался он проворно и, несмотря на бледность, выглядел бодрым, энергичным и оживленным, как любой нормальный человек… Первая встреча с незнакомцем смутила его, но он пытался скрыть смущение наигранной уверенностью».
Трелони заметил, что «речь Байрона не отличалась изысканностью, кроме тех моментов, когда рядом был Шелли. Байрон производил впечатление легкого и простого человека, такого, каким он был в Лондоне. Свою речь он перемежал анекдотами о великих современных и старых актерах, боксерах, игроках, дуэлянтах, пьяницах и т. п., приправленных непристойными словечками и сплетнями. Все это было тогда в моде и считалось непременным достоинством истинного джентльмена… Долгое пребывание Байрона за границей не сделало его иностранцем: как только вы его видели, то сразу понимали, что это истинный англичанин… Казалось, ему доставляло особое удовольствие рассказывать все про себя каждому новому знакомцу, словно для того, чтобы разрушить прежние представления о себе». Но когда Трелони узнал Байрона поближе, то заметил: «Об интеллекте лорда Байрона ничего нельзя было сказать, пока вы не оказывались с ним наедине, и тогда он представал во всей красе. Он был подобен золотоносной жиле: в какую бы сторону вы ни копали, везде находили благородный металл».
Вначале Байрон был озадачен поведением Трелони, словно увидел в нем пародию на героев своих восточных поэм. После первой встречи с ним он говорил Терезе: «Сегодня я встретил своего Корсара. Он спит с моей поэмой под подушкой, а все его приключения и манеры подтверждают мое предположение». Но через несколько дней Байрон привык к обществу своего нового знакомца, который стал приходить к нему почти каждый день.
Прежде всего Трелони вновь воодушевил Уильямса и Шелли на воплощение в жизнь плана, который они давно вынашивали: построить лодку и провести лето в заливе Специя. Байрон настолько заинтересовался этим планом, что попросил Трелони связаться с его другом Робертсом в Генуе и нанять его для строительства лодки с просторной каютой, не жалея средств, чтобы создать «шедевр красоты». Позднее Байрон сожалел о последнем замечании, потому что лодка обошлась им в десять раз дороже, чем первоначально намеченные сто фунтов. Шелли остановился на лодке размером семнадцать или восемнадцать фунтов, но «которая бойко бы шла под парусом и на веслах».
Отношения Байрона с Мерреем настолько раздражали его, что поэт решил отказаться от услуг своего издателя, если возможно, не ссорясь с ним. По словам Медвина, Байрон так охарактеризовал Меррея, рассказывая о рукописи «Небо и земля», очередной «богохульственной» драме о любви ангелов к дочерям земли: «Дуглас Киннэрд говорит, что не может найти издателя, который согласился бы напечатать ее. Ее предложили Меррею: но это самый робкий издатель на земле, который пугается даже названия».
Однако известия о том, что Меррея могут привлечь к уголовной ответственности за публикацию «Каина», вынудили Байрона написать ему в суровой и одновременно успокаивающей манере: «Молю только, чтобы любые санкции, направленные против вас, обрушились лучше на мою голову… Если вы лишитесь доходов от публикации, я передам вам часть или весь свой гонорар… Если приговор будет приведен в исполнение, я вернусь в Англию…» Сложившаяся ситуация послужила оправданием для возобновления отношений с Мерреем. Предав всю тоску бумаге («Вся моя злоба испаряется от прикосновения пера к бумаге…» – говорил он леди Блессингтон), Байрон полюбовался из окна кабинета лунной ночью и завершил письмо такими словами: «Я пишу вам обо всех неудачах и неприятностях при летней луне – здесь у нас зимой светлее, чем у вас в самые жаркие дни, – которая освещает извилистую Арно, здания и мосты, такие тихие и спокойные. Насколько мы ничтожны перед самой малой из звезд!»
В феврале Байрон узнал, что 28 января умерла леди Ноэль. Он давно ждал этого часа, но когда это наконец произошло, он, невзирая на частые шутливые замечания о живучести и отменном здоровье этой дамы, с состраданием вернулся мыслями к прошлому и к Аннабелле. Когда к нему зашел Медвин, все слуги были в трауре, и Байрон сказал ему: «Мне жаль бедную леди Байрон! Должно быть, она сильно горюет, потому что обожала свою мать. Все подумают, что я рад ее смерти, но они сильно ошибаются».
По условиям развода доход от поместий Уэнтворта, составляющий примерно десять тысяч фунтов в год, должен был быть разделен судебными исполнителями после смерти леди Ноэль между двумя сторонами. Байрон немедленно написал Киннэрду, назначив своим судебным исполнителем сэра Фрэнсиса Бердетта, близкого друга-политика Хобхауса, и попросив застраховать жизнь леди Байрон на десять тысяч фунтов, поскольку после ее смерти доход от поместий Уэнтворта перейдет к другим наследникам. Согласно условиям завещания, Байрон должен был принять титул Ноэлей и впервые подписался «Ноэль Байрон». Часто встречающееся утверждение о том, что он гордился совпадением своих инициалов «Н. Б.» с именем Наполеона Бонапарта, основано на единственном свидетельстве Стендаля, который встречался с Байроном в 1816 году.
Хэнсон сообщил, что «общая сумма арендной платы за земли Уэнтворта, по нашим данным, составляет шесть тысяч триста тридцать шесть фунтов в год…». Исключая плату за содержание поместий и другие расходы, доля Байрона составляет около двух с половиной тысяч фунтов. Его общий доход приближался к шести тысячам фунтов из фондовых запасов и от поместий. В дополнение к этому он зарабатывал в год больше двух тысяч фунтов своим писательским трудом, но этот источник доходов стал оскудевать.
Байрон мог позволить себе щедрость в отношении Ли Ханта, который через Шелли постоянно требовал денег. Живя зимой в Плимуте в стесненных обстоятельствах с больной женой и детьми, Хант уже потратил все наличные сбережения своего брата Джона и в отчаянии обратился к Шелли, который прислал ему сто пятьдесят фунтов. В то же время Хант постоянно докучал Байрону просьбами выслать ему денег на выезд за границу. Оскорбительная фамильярность его тона делала просьбу еще более нахальной. Письма Ханта к Байрону полны наглости и подхалимства, что еще больше раздражало последнего, когда их отношения ухудшились. 27 января Хант писал из Плимута:
«Мой дорогой Байрон. Я обращаюсь к вам так потому, что не собираюсь отказываться от дружественного тона в письмах, особенно в этом. Шелли как-то сказал мне, что вы были бы не прочь, чтобы я составил вам компанию в Италии, и что вы могли бы прислать мне денег, чтобы я отправился туда… В то время я стеснялся обратиться к вам с этой просьбой, потому что с первого дня нашего знакомства вы были окружены в моем воображении романтическим ореолом, возможно нелепым, и я надеялся пробудить в вас воспоминания о юношеской дружбе и показать, что вами можно восхищаться, преклоняясь перед вашим интеллектом и щедростью… Должен предоставить вам более веское доказательство моих представлений о юношеской дружбе и попросить вас о помощи. Если возможно, я взял бы у вас взаймы на другие дела, помимо путешествия, двести пятьдесят фунтов, только вы должны дать мне два года на оплату долга…»
Шелли, знавший о манерах Ханта, чувствуя неловкость, предупреждал Байрона: «Не думаю, что обещание бедняги Ханта вернуть деньги стоит многого, однако мое обещание более твердо, и я с радостью бы оплатил все расходы». Но Байрон считал себя обязанным Ханту и был настолько заинтересован в создании совместного периодического журнала, что предоставил Ханту деньги, несмотря на дерзкий тон его просьбы и собственное нежелание бросаться деньгами. Байрон не знал, что Шелли неосторожно сказал Ханту: «Знаешь, леди Ноэль умерла, а лорд Б. еще больше разбогател».
Однако полученное наследство сделало Байрона еще более сосредоточенным на мысли о его сохранении. Превращение юного мота в бережливого человека, возможно, объяснялось тем, что в возрасте тридцати четырех лет он начал ощущать стремление к обеспеченной старости в век волнений и тревог. Он постоянно думал о том времени, когда ему придется заботиться не только о себе, но и о своем ребенке, возможно, о Терезе и ее семье и даже об Августе и ее детях.
Но беда подстерегала Байрона с другой стороны. Недовольство Клер провалом попытки Байрона привезти Аллегру с собой или взять ее из монастыря после отъезда из Равенны подвигло ее на безумные планы спасения дочери. Шелли и Мэри, по ее мнению, были слишком близки с Байроном, чтобы им можно было доверять, но ее поддерживали миссис Мэйсон (леди Маунткэшелл) и другие ее друзья в Пизе. Байрон оставил без внимания два письма Клер, в одном из которых она просила поместить Аллегру в уважаемой семье в Пизе, а в другом умоляла позволить ей повидаться с дочерью перед отъездом в Вену, куда она направлялась, чтобы найти там работу и встретиться со своим братом. Байрон, в котором мольбы Клер пробуждали сопротивление и презрение, отвечал упорным отказом. Между тем Клер приехала в Пизу.
Шелли сочувствовали ей, но хранили нейтралитет и считали, что Клер преувеличивает опасность, которой подвергается Аллегра в монастыре. Шелли, смягченный жалобными мольбами Клер до возвращения во Флоренцию, завел с Байроном разговор о причине ее тревог и попросил его сделать что-нибудь, чтобы успокоить ее. По словам Клер, ответом Байрона «было пожимание плечами и восклицание, что женщины жить не могут без сцен». Шелли был рассержен и говорил Мэйсонам, что в тот момент мог бы ударить Байрона, но впоследствии сказал: «Глупо сердиться на него: он не может перестать быть собой, как дверь не может перестать быть дверью».
Однако с того дня Шелли испытывал непреодолимое желание воздерживаться от встреч с Байроном. Но ради Ханта он не мог разорвать с ним отношений, пока не выйдет в свет новый журнал. И несмотря на все, Шелли, как и Мэри, не мог не испытывать восхищения перед Байроном, когда был рядом с ним, и продолжал преклоняться перед его стихами. Прочитав в 1830 году «Письма и дневники Байрона», изданные Муром, Мэри написала Джону Меррею: «Больше всего меня завораживает то, что лорд Байрон, описанный здесь, является настоящим лордом Байроном, очаровательным, грешным, ребяческим, философствующим существом, бросающим вызов всему свету, верным друзьям, порывистым и праздным, хмурым и одновременно жизнерадостным. Читая эти страницы, я снова вижу себя рядом с ним, примиряясь, как и раньше, с его странностями, которые меня так раздражали, вновь слышу его восторженные и порывистые речи…»
Байрон, в свою очередь, защищал Шелли от порицания друзей в Англии, которые выражали недовольство по поводу его общения с этим изгнанником и атеистом. Байрон писал Муру: «Что касается бедняги Шелли, который для вас и всего света словно пугало, то он, насколько я знаю, самый бескорыстный и мягкий из всех людей, человек, который больше всех на свете жертвовал ради других своими чувствами и сбережениями. У меня нет ничего общего, да и не будет никогда, с его задумчивым складом ума».
В другом письме к Муру, о религии (а Байрон не любил обсуждать эту тему после обвинения поэмы «Каин» в богохульстве), он заявлял, что католицизм – «самая изящная религия после греческой мифологии. Есть что-то возвышенное в ладане, изображениях святых, статуях, алтарях, усыпальницах, реликвиях – какое-то Божественное присутствие, признание, прощение. Кроме того, религия не оставляет и тени сомнения: потому что те, кто сливается в единое целое со своим божеством, не могут сомневаться в его существовании».
8 марта Байрон дал прощальный обед в честь Медвина, который на следующий день уезжал в Рим. Это был радостный праздник, но Трелони поразила умеренность Байрона в еде и питье. «Он выпивал стакан или два кларета или белого рейнвейна, а ночью, чтобы подкрепить силы, – один стакан грога… Байрон не разрушал свой организм крепкими напитками, но он так страшился поправиться, что доводил свой дневной рацион до минимума, а попросту – голодал… Когда он набирал вес, то ему было больно даже стоять, поэтому он решил похудеть до 11 стоунов (154 фунтов) или застрелиться. Он жил на сухих бисквитах и содовой воде целыми днями, а чтобы заглушить гложущее чувство голода, иногда готовил жуткую смесь из холодного картофеля, риса, рыбы или зелени, сбрызнутой уксусом, и пожирал это блюдо, как изголодавшийся пес».
Капитан Джон Хей, старый друг Байрона по Лондону и Брайтону, в январе приехал в Пизу и после возвращения с охоты занял место Медвина в каждодневных верховых прогулках. Во время одной из таких воскресных прогулок, 24 марта, произошло событие, нарушившее мирную жизнь пизанского кружка. Хотя сам по себе это был пустяк, но он имел далеко идущие последствия в судьбе Байрона и его знакомых. Компания не спеша возвращалась по дороге к городским воротам. Шелли, Байрон, Трелони, капитан Хей и Пьетро Гамба ехали рядом, Тереза и Мэри Шелли – впереди в карете. Всадники остановились поговорить с Тааффе, который только что присоединился к ним, когда мимо на бешеной скорости проскакал солдат, напугав лошадь Тааффе. Они бросились за солдатом и настигли его у городских ворот. Шелли вежливо спросил по-итальянски, что означает поведение солдата, но тот не удосужился объяснить, и Байрон, приняв его за офицера, вызвал его на дуэль. Это оказался Стефани Маси, сержант Тосканской королевской легкой кавалерии, спешивший в Пизу, чтобы успеть на сбор. Англичание обступили его, ситуация становилась напряженной, и кто-то, возможно вспыльчивый Пьетро Гамба, ударил его хлыстом и назвал невежей.
Маси крикнул стражникам у ворот, чтобы они всех арестовали, но англичане успели ускакать, кроме Шелли, которого сбили с лошади, так что он на какое-то время лишился чувств, и Хея, получившего удар саблей по носу. Тааффе предпочел не вмешиваться в перепалку. Байрон поехал во дворец Ланфранки и отправил Легу в полицию с сообщением о происшествии, а сам вернулся, неся трость с вкладной шпагой. Он встретился с Маси и впервые услышал его имя. После перепалки Маси вырвался и помчался мимо дворца, где уже собралась порядочная толпа. Во время всеобщего смятения кто-то сбежал по ступеням дворца, нанес сержанту удар шпагой и скрылся в толпе. Маси закачался в седле, лошадь рванулась в сторону, но вскоре сержант упал на землю перед кафе. Он попытался встать, но потерял сознание и был доставлен в госпиталь.
Когда Байрон вернулся домой вместе с Трелони, Шелли и раненым Хеем, его встретила взволнованная Тереза, находившаяся почти на грани истерики. Примерно через час, перевязав Хея и успокоив Терезу, друзья отвезли ее в дом Шелли. Волнение еще больше усилилось, когда стало известно, что Маси был ранен. На следующий день Байрон отправил в госпиталь английского врача, чтобы тот за его счет лечил сержанта. Врач сообщил, что рана неглубокая, но продолжали распространяться слухи, что сержант умирает, что усиливало недовольство английским кружком. Байрон перед своим дворцом раздал пожертвования, чтобы умилостивить толпу, и вместе со своими спутниками отправился на обычную прогулку.
Двое слуг Байрона, Тита и Винченцо Папи, кучер, подозревались в попытке убийства и были арестованы. Байрон отправил Тите, который был ему предан и которого он считал невиновным, обед из двенадцати блюд, чтобы он разделил его с другими узниками. Зная, что в Англии появятся самые невероятные слухи, Байрон послал письмо Эдварду Докинзу, британскому поверенному в делах во Флоренции, вместе с копиями показаний англичан, участвовавших в инциденте. Байрон покривил душой, сообщив Докинзу, что не знает нападавшего на Маси, потому что не только Байрон, но и некоторые другие люди знали, что его кучер Папи сбросил сержанта на землю. Однако Байрон собирался защищать слуг любой ценой. Самое нелепое, что Папи допросили и отпустили, а Тита с его устрашающей черной бородой, который имел глупость принести в суд нож и связку пистолетов, был задержан.
Происшествие вызвало еще больший ажиотаж в Пизе, когда Тааффе, который не хотел ввязываться, сказал, что сержант не наносил ему оскорбления, и отправил Докинзу показания, расходившиеся с показаниями других участников. Уильямсу почти удалось добиться примирения, но многие участники кружка отошли от Тааффе и дали ему прозвище Лживый Тааффе или Фальстаф. К концу недели Маси стало значительно лучше, но во дворце Ланфранки уже не было прежнего веселья. Медвин уехал, а Хей 3 апреля отправился в Англию. Шелли и Уильямсы подумывали остаться на лето. Байрон арендовал на летний период, с мая по октябрь, виллу Дюпьи примерно в семи километрах от Ливорно, на холме у залива.
Все это время Байрон не переставал писать. Он убедил Терезу позволить ему продолжить «Дон Жуана». Когда 14 апреля к нему зашли Уильямсы, он признался, что начал шестую песнь. 20-го Сэмюэл Роджерс остановился у Байрона на пути из Рима. Во дворце Ланфранки в это время был Трелони, который спас его от бульдога Байрона, свирепо охранявшего лестницу. Байрон злорадно наслаждался испугом своего гостя и с восторгом подкалывал Роджерса, живописуя ему во всех подробностях свои похождения.
Новости из Равенны о болезни Аллегры охладили пыл Байрона. Гиги отправил к ней доктора Раси. Примерно в то же самое время Клер Клермонт прибыла в Пизу, полная планов вырвать Аллегру из монастыря. Ужаснувшись ее дерзости, Шелли пытался успокоить ее, скрывая присутствие Клер в городе от Байрона. Через три дня Гиги написал, что лихорадка продолжается, и у Аллегры было, по-видимому, легочное кровотечение. Получив первые известия о болезни дочери, Байрон пришел в «страшное волнение», но никто, кроме Терезы, этого не замечал. Он отправил в Баньякавалло письмо с просьбой сообщить ему все подробности. 18-го Аллегре стало лучше, но два дня спустя ее состояние вновь ухудшилось. 20-го она умерла. Монахини были «чрезвычайно удручены», писал Гиги Леге. 22 апреля сообщение о смерти Аллегры пришло в Пизу. Лега предоставил Терезе сообщить новости Байрону.
Тереза попыталась сказать как можно мягче. «Я все понимаю, – ответил он, – больше ничего не говори». «Он смертельно побледнел, и на его лице появилось такое выражение, что я начала опасаться за его рассудок, но он не пролил и слезинки… Целый час он просидел в одной и той же позе, и никакие мои утешения не достигали его слуха… Он хотел остаться один, и я была вынуждена уйти».
Какое бы раскаяние Байрон ни испытывал по поводу того, что не уделял Аллегре должного внимания или отказался последовать совету Шелли и забрать ее из монастыря, – его заслоняло воспоминание о собственных детских страданиях. Байрон желал, чтобы дочь захоронили в месте, так часто ассоциировавшемся у него со «сладостной печалью», в церкви Хэрроу, «где я когда-то мечтал покоиться сам», – писал он Меррею с просьбой все устроить[30].
Всю жизнь чувства Байрона к Аллегре были двойственными. Когда она умерла, ей было всего пять лет и три месяца. Порой он видел в ней продолжение себя, восхищался ее умом и красотой и был польщен, что все вокруг обожали ее. Но Байрона охватывало отвращение, когда поведение и нрав Аллегры отражали его собственные, менее приятные черты, и тогда он хотел, чтобы она была подальше от него. Он пришел еще в больший ужас, когда узнал в ней ее мать. Как метко заметила маркиза Ориго, «…он постоянно испытывал чувство обиды, несправедливое, но вполне естественное, по отношению к своей другой дочери, с которой не мог видеться. Маленькая Аллегра ехала в его экипаже и сидела у него на коленях, но лишь день рождения Ады был записан в его дневнике, портрет Ады стоял на его письменном столе, и он постоянно говорил об образовании и будущем Ады».
Оставалась неприятная обязанность сообщить о смерти Аллегры Шелли. На следующий день Байрон написал: «Этот удар был сильным и неожиданным… Не знаю, есть ли мне в чем упрекнуть себя относительно моего поведения, намерений и чувств к дочери». Байрон еще не знал, что Клер уже в городе. Шелли поспешил отправить ее в Леричи, где его семья и семья Уильяме искали летний дом. Они устроились во дворце Магии у залива и только потом сообщили Клер о смерти Аллегры. Она приняла это известие спокойнее, чем они предполагали, но дала волю своим чувствам в гневном письме Байрону, обвиняя его в плохом отношении к себе и ребенку. Байрон отправил письмо Шелли. Больше всего на свете он мечтал забыть обо всем. Он согласился на просьбу Клер прислать ей портрет Аллегры и позволить ей увидеть гроб с телом в Ливорно, прежде чем его переправят в Англию, но от этого ее отговорил Шелли.
Байрон нашел забвение в заботах о судьбе Титы, потому что в ночь смерти Аллегры к нему пришло известие о намерении сослать его слугу. Байрон через Докинза использовал все свое влияние, но тщетно. Во флорентийской тюрьме Титу вынудили сбрить подозрительную бороду. Шпион Торелли записал в своем дневнике: «…когда ему приказали побриться, он решил, что бороду отдадут его хозяину, лорду Байрону, но, когда его разубедили, он бережно завернул ее в бумагу». Тите, который перестал быть устрашающей фигурой, разрешили вместо ссылки в Болонье отправиться в Лукку, откуда он пробрался к Шелли во дворец Магии.
Байрон понимал, что наказание Титы и семьи Гамба направлено против него самого. Хотя он знал, что для Гамбы будет лучше уехать из Пизы и поселиться в его летнем доме неподалеку от Ливорно, пока не утихнет шумиха вокруг истории с Маси, он все же до середины мая оставался во дворце Ланфранки. Лень и уныние, охватившие его после смерти Аллегры, мешали ему уехать.
Шелли и Уильямсы уехали, а Трелони отправился в Геную, чтобы наблюдать за строительством лодок. Дело Маси еще не закончилось, потому что правительственные чиновники питали подозрение и недоверие к Байрону, а его слуги и друзья способствовали развалу пизанского кружка, начавшемуся после отъезда Шелли. В конце мая Байрон отправил большую часть своих вещей и вещей графа Гамбы на виллу в Ливорно.
Вилла Дюпьи представляла собой низкий приземистый сельский дом, расположенный на склоне холма в четырех милях от Ливорно. Летом тонкие розовые стены, казалось, пропускали солнечные лучи. Главным преимуществом виллы была ее уединенность, близость к морю и прекрасный вид с террасы на оливковые деревья, белые домики Ливорно и ослепительный простор Средиземного моря. С балкона открывался вид на Эльбу и Корсику.
Приехав в предместье Монтенеро, где находилась вилла, Байрон обнаружил, что в гавани причалила средиземноморская эскадра Соединенных Штатов. Байрону много лет льстило восхищение американцев его творчеством, он часто подумывал о путешествии в эту молодую страну, где, по его мнению, он обретет «посмертную славу», и он выразил желание осмотреть американский фрегат, после чего получил сердечное приглашение командира конвоя Джейкоба Джоунса осмотреть корабль «Конституция». Молодой выпускник Гарварда двадцатидвухлетний Джордж Бэнкрофт, возвращавшийся из Германии и ставший впоследствии известным американским историком, оказался проездом в Ливорно и стал свидетелем встречи Байрона с экипажем корабля. Он вспоминал, что, поднявшись на палубу, Байрон был взволнован и скован, возможно, из-за своей хромоты, но, когда его восторженно приветствовали молодые американцы, он стал «смелее, откровеннее и радостнее». После этого он посетил корабль «Онтарио», где с удовольствием обнаружил нью-йоркское издание своих поэм. Это польстило его самолюбию и подкрепило уверенность в своей всемирной славе. Байрон говорил Муру, что «лучше бы получил приветственный кивок от американца, чем табакерку от императора».
На следующий день молодой Бэнкрофт зашел в Монтенеро, и Байрон забросал его вопросами о Вашингтоне Ирвинге, чьей «Историей Нью-Йорка до конца голландской династии» он восхищался. Бэнкрофт также общался с Гете и передал Байрону, что этот корифей литературы был в восторге от «Манфреда» и «Дон Жуана», которые он считал «полными жизни и гениальности». Байрон представил Бэнкрофта Терезе и сказал, что только что заказал для нее в Вене фортепиано. «Мы говорили по-итальянски, и, судя по всему, лорд Байрон прекрасно владел этим языком».
Однако беспокойство не оставляло Байрона. Несмотря на вид Средиземного моря, приятные вечера с Терезой среди роз, жасмина, гелиотропа и тубероз, когда они любовались рыбачьими лодками в заливе и мерцающими огнями на воде, переезд в сельский дом не решил проблем, связанных с делом Маси. Семья Гамба жила в постоянном страхе быть высланными из Тосканы, а малая вероятность найти убежище в каком-нибудь уголке Италии, томящейся под австрийским владычеством, заставляла Байрона подумать о Южной Америке. Его так вдохновил успех патриота Симона Боливара в деле освобождения Колумбии и Венесуэлы от испанского ига, что, осознав невозможность назвать свою шхуну в честь Терезы, он, бросая вызов тиранам Италии, назвал ее «Боливар».
12 мая в Леричи доставили лодку Шелли. «Она ходит как в сказке», – писал Шелли Робертсу. Однако Шелли и Мэри были раздосадованы, когда увидели на гроте название «Дон Жуан». На это имя они согласились по предложению Трелони, но потом Шелли передумал и по желанию Мэри хотел назвать лодку «Ариэль». Но тут пришел черед Байрона обижаться, и он упросил Робертса назвать лодку в честь своей поэмы. В конце концов Шелли и Уильяме стерли название. «Не знаю, что скажет лорд Байрон, – писала Мэри, – но, хотя он лорд и поэт, это не дает ему права превращать нашу лодку в угольную баржу». Несмотря на желание Шелли держаться подальше от Байрона, становится очевидным, что он не очень возражал против названия «Дон Жуан», которым Мэри, Шелли и остальные продолжали именовать эту лодку.
Чиновники во Флоренции, Пизе и Ливорно немедленно узнали, что Байрон построил в Генуе лодку и установил на ней пушку. Президент Пуччини, глава правительства во Флоренции, поторопился подписать приказ, запрещающий Байрону плавать вдоль побережья и предписывающий поставить лодку на якорь в Ливорно и строго выполнять установленные законы. Итак, правительство было готово к прибытию этого опасного судна. 18 мая Трелони привел «Боливара» к берегам Ливорно и жаждал поскорее показать лодку поэту. Но когда Байрон взошел на борт, Трелони понял, что он уже потерял к ней интерес, и не мог уговорить его выйти из гавани. Правительство установило настолько жесткий запрет – Байрону не разрешалось курсировать даже вблизи Ливорно, – что плавание казалось бессмысленным. Поэтому шхуна осталась под присмотром Трелони и матросов у причала, а мрачный Байрон уединился в Монтенеро и не желал воспользоваться своей новой и дорогой игрушкой.
20 июня Шелли узнал о приезде Ханта в Геную и был готов отправиться в Ливорно, если бы не болезнь Мэри, задержавшая его до 1 июля. Шелли беспокоился об отношениях Ханта с Байроном и издании нового журнала. «Между нами говоря, – писал он Горацию Смиту, – я боюсь, что из нашей затеи ничего не выйдет, потому что я, так долго бывший промежуточным звеном между молотом и наковальней, скоро перестану быть и им и не могу представить, как долго продлится союз орла и вьюрка».
Однако Шелли было не суждено присутствовать при встрече орла и вьюрка, поскольку Ли Хант прибыл в Ливорно в конце июня или 1 июля и был препровожден Трелони в летний дом Байрона. «День был очень жаркий, – вспоминал Хант, – и когда я добрался до дома, то оказалось, что это самый жаркий и неуютный дом на свете». Конец тяжелого пути увенчался для Ханта сценой из итальянской трагикомедии на вилле Дюпьи. Ссора слуг Байрона и Гамбы окончилась тем, что Пьетро получил ножевую рану руки, а преступник, слуга Байрона Папи, был схвачен и «озирался на всех, как тигр». Байрон, привыкший к итальянским страстям, принялся за дело. Когда они отправились на верховую прогулку, слуга с рыданиями бросился к хозяину и молил его о прощении, но Байрон оставался непреклонен и выгнал его. Полиция, за которой он послал, все равно заставила бы его уйти.
«Увидев лорда Байрона, – писал Хант, – я едва узнал его, так он растолстел, и думаю, он не узнал меня также, потому что я очень похудел». Далее Хант продолжает: «Все было новым, чуждым, но больше всего изменился мой английский друг, полный, во фраке, пытающийся унять ссору своим бесстрастным тоном с ленивым и томным видом».
Несмотря на показное равнодушие, Байрон был взволнован не меньше других. Было очевидно, что тосканское правительство жаждало устранить семью Гамба и всех их домашних. Граф Ружжеро и Пьетро Гамба получили приказ 2 июля предстать перед трибуналом в Ливорно. Цель этого становится ясна из отчета шпиона Торелли: «Эта ссора и тот факт, что просьба Байрона о том, что его шхуна «Боливар» может спокойно курсировать вдоль побережья и принимать на борт людей, была удовлетворена английским законодательством, вызвали решение нашего правительства попытаться избавить Тоскану от этого революционера, не изгоняя его открыто».
Байрон был слишком занят своими делами, чтобы обращать внимание на беднягу Ханта и его семью, чье существование зависело от него. Возможно, семейство Ханта раздражало его именно по этой причине. К счастью, рядом был Шелли и мог присматривать за ними: на следующий день он сопровождал их в Пизу и поселил на первом этаже дома Байрона. Вскоре прибыли Байрон, Тереза и оставшиеся слуги, чтобы произвести последние приготовления к отъезду. Семья Гамба временно оставалась в Монтенеро. Им позволили остаться до 8 июля, но планы Байрона по-прежнему были нечеткими. Шелли пришлось заботиться о финансах Ханта и спасать его от неминуемого краха. Хант рассчитывал на издание журнала. Он уже потратил 400 фунтов, одолженные ему Байроном и Шелли, и наделал долгов. Поскольку у Шелли не было денег, весь груз лег на плечи Байрона, занятого переездом из Пизы. Шелли сумел лишь уговорить Байрона предложить Ханту авторское право на «Видение суда», которое могло стать удачным началом для будущего журнала.
Предложение Байрона было искренним, хотя и не основывалось на любви к Хаиту. Ему так долго не удавалось найти издателя, который бы рискнул опубликовать поэму, чья политическая подоплека была еще более опасной, чем вольное обращение со святыми. В день возвращения в Пизу (3 июля) Байрон написал записку Меррею с просьбой передать брату Ханта Джону, который должен был издавать новый журнал, рукопись «Видения».
Среди всеобщей суеты Байрона еще больше раздражало присутствие во дворце Ханта, его больной жены и многочисленных буйных детей. Но он не питал зла к дружелюбному Ханту и, когда раздражение прошло, был готов вести с ним приятную беседу на литературные темы. Хант был доволен своей новой жизнью и стремился угодить Байрону.
Напротив, миссис Хант не нравился итальянский образ жизни, и она не хотела оказывать почтения Байрону, выбрав вместо этого высокомерное отношение к нему и его возлюбленной, продиктованное английской мещанской моралью. Байрон угадал ее снобизм и отвечал ей тем же. Хант вспоминал: «Моя жена не знала итальянского и не хотела учить его. Мадам Гвичьоли не говорила по-английски». Марианна Хант притворялась, что презирает титулы. Хант вспоминал, как однажды «Байрон сказал ей: «Что вы думаете, миссис Хант? Трелони как-то упрекнул меня за мои моральные устои! Как вам это нравится!» – «Я впервые слышу о них», – ответила миссис Хант». Как-то Байрону передали слова жены Ханта, сказанные об его портрете, сделанном Харлоу: «Он был похож на великовозрастного школьника, которому вместо булочки с изюмом дали простую». Неудивительно, что после этого Байрон отзывался о миссис Хант как о «ничтожной женщине».
7 июля, получив обещание Байрона помогать Ханту с изданием нового журнала, Шелли отправился в Ливорно, чтобы сопровождать Уильямса в Леричи в новой лодке. Намерения Байрона ясны из письма Меррею, в котором он просит передать Джону Ханту не только «Видение», но и перевод Пульчи и другие произведения в прозе. Важно заметить, что, объявив о продолжении «Дон Жуана», Байрон не упомянул, что собирается передать новые песни Ханту для публикации в журнале. Байрон откровенно высказывал свои подозрения в письме Муру и в то же время просил его о помощи: «Он (Хант) с энтузиазмом относится к новому делу, а я, между нами, не разделяю его пыла. Однако мне не хочется расстраивать его…»
8-го семья Гамба отправилась на временное поселение в Лукку. Просьба о постоянном жилище была удовлетворена, и Тереза со слугами вернулась во дворец Байрона. Прежде Байрон скрупулезно следил, чтобы Тереза соблюдала все тонкости папского указа и жила под крышей своего отца, но теперь ему было все равно. Граф Гвичьоли уже неоднократно сообщал, что бывшая жена живет в доме Байрона в Монтенеро, и через адвоката ему удалось отменить папский указ и добиться помилования для Терезы, чтобы «уговорить неопытную молодую женщину отказаться от жизни, которая, по ее словам, составляет ее счастье».
Существование во дворце Ланфранки вошло в привычную колею. Хотя Байрону не нравилась затея с Хантом, он не мог оставаться равнодушным к вежливому и покладистому гостю, а его стремление к общению с понимающим в литературе человеком заставляло игнорировать уколы и пренебрежение миссис Хант и проделки ее бесчисленного потомства.
Хант вспоминал: «Лорд Байрон, который обычно засиживался допоздна, сочиняя «Дон Жуана» при поддержке джина с водой, вставал поздно. Он завтракал, читал, прогуливался, напевая арии из опер Россини тихим и глухим голосом, затем принимал ванну, одевался, спускался вниз, выходил, напевая, во двор и сад… Мой кабинет, маленькая комната в углу с апельсиновым деревом, заглядывающим в окно, выходила во внутренний дворик Байрона. Я обычно писал, когда он сходил вниз, и выказывал ему уважение, вставая и приветствуя его, или же он кричал «Леонтий!», хромая подходил к окну, шутил и призывал меня начать разговор… Потом мы гуляли вместе или сидели и беседовали, а мадам Гвичьоли с блестящими локонами спускалась к нам». Хант был слишком прямолинейным, чтобы легко отвечать на расспросы Байрона или его добродушное подтрунивание. Но они вместе с Трелони совершали днем верховые прогулки. Хант считал, что Байрон «хороший наездник, изящно и твердо держится в седле… На нас были синие сюртуки, белые жилетки и брюки и бархатные кепи в стиле Рафаэля: мы представляли собой великолепное зрелище».
Вернувшись к «Дон Жуану», Байрон легко скрывался от назойливой действительности среди творений своей фантазии. Теперь он мог со спокойным изумлением или мягким грустным сожалением взирать на слабости этого мира и свои собственные. Он как раз описывал сцену в гареме из шестой песни. Ему доставляло наслаждение разделять плоды своего воображения с Терезой, для чего он переводил отдельные строки. По ее словам, Байрон обычно писал на счетах или случайных клочках бумаги, а рядом «стоял постоянно наполнявшийся стакан джина». Он выбегал из комнаты, чтобы почитать Терезе свои стихи, на ходу делая изменения и громко хохоча.
11-го числа эта идиллия была прервана приездом из Ливорно Трелони, который доставил тревожные вести о Шелли и Уильямсе. Они отправились в Леричи на своей маленькой лодке под парусом с английским мальчиком Чарльзом Вивиеном после полудня 8-го числа. Около трех часов с залива налетел внезапный ветер, принеся с собой жестокий шторм. Роберте, наблюдавший за лодкой с мола, увидел их примерно в десяти милях от Виареджио с поднятыми марселями. Затем они исчезли в тумане. Когда шторм утих, Роберте и Трелони не увидели лодки. Они спрашивали рыбаков, но ничего не узнали. Тогда Трелони поскакал в Пизу, надеясь найти письмо с виллы Магни. «Я поведал о своих опасениях Ханту, – писал Трелони, – а потом пошел наверх к Байрону. Когда я сообщил ему вести, его губы задрожали, и он задавал мне вопросы дрогнувшим голосом».
Хант написал отчаянное письмо на виллу Магни. Мэри и Джейн Уильяме прочли его на следующий день и немедленно отправились в Ливорно со страхом в сердце. Они остановились во дворце Ланфранки, чтобы расспросить Байрона, но он ничего не знал. В два часа утра они разбудили Робертса и услышали его рассказ. Трелони сопровождал дам на виллу Магни, расспрашивая рыбаков на побережье. Нашли маленькую шлюпку и фляжку для воды, но их могло выбросить штормом. Байрон предоставил Робертсу свой «Боливар» и вместе с Хаитом отправился на поиски.
16 июля близ Виареджио на берег выбросило два тела. 18-го нашли еще один труп, и Трелони едва успел опознать его, потому что власти хотели закопать его в песке. «Я знал, что это Шелли, потому что в кармане сюртука лежали поэмы «Ламия» и «Изабелла»…» Трелони сообщил трагическую весть на виллу Магии, а затем отвез вдов в Пизу.
Смерть Шелли была ударом для Байрона. Это печальное событие подействовало еще сильнее потому, что Байрон ощущал раскаяние, осознав, что не оценил дружбу Шелли по достоинству и был раздражен во время его последнего приезда в Пизу. Хотя он никогда не испытывал особенной симпатии к Мэри, теперь он пытался загладить вину, помогая ей. Мэри говорила Марии Гисборн: «Лорд Байрон очень добр ко мне и вместе с Гвичьоли часто навещает меня».
Сообщая о трагедии Меррею, Байрон писал: «Вы все жестоко ошибались насчет Шелли, который был самым лучшим и бескорыстным человеком в мире. Все остальные по сравнению с ним просто животные». Муру он писал: «Ушел еще один человек, насчет которого весь свет невежественно и грубо ошибался. Возможно, теперь он воздаст ему по заслугам».
Хант понимал, что будущее журнала и его собственное находятся под вопросом после смерти Шелли, который был инициатором издания. Байрон обратился к Ханту с просьбой считать себя «человеком, занявшим место мистера Шелли», но Хант знал, что их затея обречена. «Мое сердце будто остановилось», – писал он. Несмотря на намерение быть добрее к Ханту из-за обещания, данного Шелли, и потому, что Хант всегда был рядом во время развода с женой, Байрон не мог не чувствовать раздражения зависимостью Ханта именно в то время, когда он жаждал уехать из Тосканы. Это чувство усиливалось благодаря полуугоднической-полупрезрительной манере поведения Ханта и осознанием того, что его друзья в Англии не одобряют этого общения. Обладающий обостренной гордостью Хант ощущал холодок под маской дружелюбия Байрона. Но даже и в этом случае их отношения были бы менее натянутыми, если бы не семья Ханта. Когда к ним впервые зашел Трелони, он увидел детей в возрасте от тринадцати лет до грудного младенца, которые «были повсюду, играя на мраморных ступенях и в зале. Хант считал, что детей нельзя сдерживать до достижения ими разумного возраста». Когда Трелони уходил, Байрон провожал его и, «поглаживая своего бульдога по голове, приказал: «Не пускай сюда детей».
Позднее Байрон называл детей Ханта маленькими йеху (герои Свифта. – Л.М.). Но когда он пожаловался, что дети пачкают стены своими грязными пальцами, миссис Хант оскорбилась и в своем дневнике вспоминала: «Мистер Хант рассердился, потому что лорд Байрон так недостойно отзывался о детях, якобы портящих дворец, который его светлость всегда содержал в идеальной чистоте… Разве может быть что-нибудь нелепее, чем пэр Англии и поэт, так волнующийся из-за того, что трое или четверо детей испортят стены в нескольких комнатах. Да самим детям будет стыдно: фи, лорд Байрон».
Несмотря на неустойчивый мир во дворце Ланфранки и неуверенность в будущем, Байрон в июле и августе продолжал сочинять новые песни «Дон Жуана». О своих стихах он теперь писал так:
Вот и мое капризное созданье,
Игривое и странное на вид,
Как яркое полярное сиянье
В холодном нашем климате горит.
Конечно, все достойно порицанья,
И не шутить, а плакать надлежит,
Но и смеяться допустимо тоже —
Все в нашей жизни на спектакль похоже!
Трелони по желанию Мэри Шелли начал переговоры с властями об отправке тела Шелли в Рим, чтобы похоронить его на протестантском кладбище рядом с сыном Уильямом. Ему удалось получить разрешение на кремацию тел Шелли и Уильямса на пляже и перевозку праха. Трелони испытывал мрачное удовлетворение, готовясь к этому языческому обряду. Когда Байрон и Хант в полдень 15 августа прибыли в Виареджио, как раз начался неприятный процесс извлечения тела Уильямса. Изуродованный труп лодка вытащила на песок. Трелони вспоминал, что Байрон опознал Уильямса по зубам. «Глядя на тело, лорд Байрон произнес: «Неужели это должно остаться в нашей памяти? Это мог бы с таким же успехом быть труп овцы». Указав на черный платок, сказал: «Обрывок ткани прослужил дольше, чем его владелец. Какое отвратительное и тошнотворное зрелище!»
После этого Байрон отплыл на милю от берега, где с ним случился приступ жестокой тошноты. Когда он вернулся, Трелони, взявший на память часть челюстной кости, которая не сгорела, сложил пепел в ящик и отдал Байрону, чтобы отвезти в Пизу.
На следующий день та же самая участь постигла Шелли. Трелони хотел сохранить томик «Ламии» Китса, похороненный вместе с телом, но от него ничего не осталось, кроме кожаного переплета. Когда разожгли костер, Трелони бросил в пламя благовонные травы и подлил масла, бормоча заклинания. Позже Трелони писал: «Байрон, стоявший рядом со мной, сказал: «Я думал, что вы язычник, а не языческий жрец. У вас получается очень хорошо».
Хант, у которого не хватило смелости наблюдать за этой отвратительной сценой, остался в карете, а Байрон скоро отошел от погребального костра и поплыл к «Боливару». Когда он вернулся, тело уже было охвачено огнем, кроме сердца, которое не горело. Трелони сохранил его среди других сокровищ, позже передал его Ханту, а тот после некоторых препирательств – Мэри. Трелони сложил пепел в ящик и запечатал его. Затем они отправились в Виареджио, где, очевидно под впечатлением двух ужасных дней, обильно ели и пили перед возвращением в Пизу. Хант вспоминал: «Ландо быстро катилось по лесу к Пизе. Мы пели, смеялись, кричали. Веселье казалось еще более ошеломляющим, потому что оно было неподдельным». Неудивительно, что Байрон заболел. Но очевидно, он больше пострадал от долгого пребывания на солнце, чем от неумеренного потребления вина. Он сильно обгорел. Тереза сохранила облупившуюся кожу с его рук и плеча, и она была обнаружена после ее смерти среди других «сокровищ», напоминавших о Байроне.
Тем временем продолжалась работа над новым журналом. Несмотря на недовольство Ханта, отношения обоих партнеров были вполне приятельские, а порой даже сердечные. Сначала Байрон предложил название «Геспериды», но, когда вышел первый номер, изменил название на «Либерал». Если не считать вклада Байрона – «Видение суда», «Письма издателю «Обозрения моей бабушки» и «Эпиграммы на лорда Каслрея», Хант писал большую часть материала. Байрон пытался добиться вклада от Мура, но тот и другие английские друзья Байрона считали, что он подрывает свою репутацию «бесстыдным союзом».
Возможно, рассердившись из-за отказа, Байрон предложил Ханту превратить произведение Мура «Любовь ангелов» в шутливый пример в его статье «О ритме и смысле», насмешливое предположение о том, что современные поэты отказываются от всего, кроме ритма. Поняв, что Хант с удовольствием принял это предложение, Байрон с восторгом развивал его. «Он делал несколько шагов назад, сгибаясь пополам и безумно хохоча, задыхаясь и ухмыляясь, словно вместо его красивого рта появился огромный рот великана от уха до уха. Потом он добавлял: «Имей в виду, ты не должен этого печатать. Я ведь его друг». Говоря о снобизме Мура, Байрон восклицал: «Дайте Тому хороший ужин и слово Господа, и он полностью счастлив… Да, Томми любит нашего Господа!» Однако Байрон так же откровенно отзывался о других своих друзьях. В письмах на родину он не щадил Ханта, когда тот начинал ему докучать.
Несмотря на внешне благополучное существование во дворце Ланфранки, в жизни Байрона было немало причин для недовольства. Гамба сняли большой дом в Генуе и ожидали Байрона с Терезой, потому что так правительство могло наконец оставить их в покое. Естественно, Байрон согласился бы на переезд, но не хотел постоянно жить там. Он понимал, что только бегство из Италии может спасти его от однообразного рутинного существования. Он по-прежнему любил Терезу, хотя тихая семейная жизнь с ней уже стала ему надоедать. Мыслями о побеге объясняется его озабоченность финансовыми делами в Англии и бережливость. Однако Байрон уверял своего финансового агента Киннэрда, что «моя жадность и скупость не объясняются личным интересом, поскольку в день я трачу не более четырех шиллингов, и, кроме лошадей и помощи пламенным патриотам (я давно отказался от дорогих услуг проституток), у меня нет больших расходов, но мне нужно собрать сумму денег, чтобы отправиться к грекам или американцам и помогать им…».
Но Байрон мог позволить себе быть щедрым. Он хотел обеспечить Терезу, потому что бывший муж перестал ее содержать. Байрон также собирался составить приписку к завещанию, оставляя ей солидную сумму, но она разрыдалась и наотрез отказалась, не желая думать о его смерти и, вне всякого сомнения, подозревая, что им движет желание покинуть Италию и ее.
11 сентября Мэри Шелли отправилась в Геную. Байрон, Тереза и Ханты должны были последовать за ней. Почти все члены пизанского кружка уже разъехались. Трелони был в Ливорно, готовясь отправиться в Геную на «Боливаре». Медвин вернулся в Пизу и пробыл там десять дней. Он встретил Байрона с Терезой в саду Ланфранки среди апельсиновых деревьев. «Он зовет ее малюткой и награждает бесчисленными уменьшительными именами, которые так ласково звучат на итальянском… Эта трехлетняя связь доказывает, что разумная женщина может найти к нему подход… Он в хорошем настроении, когда не говорит о Шелли и Уильямсе».
Медвин писал: «Байрон почти прекратил прогулки верхом и чрезвычайно похудел…» Чтобы заглушить чувство голода, он каждую ночь выпивал пинту джина и пил вина больше, чем обычно.
15 сентября, в то время как Байрон делал последние приготовления, в Италию приехал Хобхаус. Он не виделся с другом с января 1818 года, когда они расстались в Венеции. Тереза, которую Хобхаус снисходительно описал как «вполне красивую женщину», заметила, как был взволнован Байрон этой встречей. «Ужасающая бледность разлилась по его лицу, и глаза наполнились слезами, когда он обнял своего друга. Он так разнервничался, что был вынужден сесть». И все же им было трудно возобновить прежние отношения. Присутствие в доме Ханта усиливало скованность Хобхауса, потому что он не одобрял дружбы Байрона с Хаитом, которого считал «наследием» Шелли. «Он очень переменился, – заметил Хобхаус, – лицо стало полнее, а выражение его какое-то болезненное. Что до остального, то я не заметил большой разницы. Мы беседовали очень формально». Вероятно, во время этого визита Байрон внезапно обернулся к Хобхаусу и сказал: «Знаю, ты смотришь на мою ногу». Хобхаус, знавший про обостренную чувствительность своего друга, ответил: «Мой дорогой Байрон, никто не думает и не смотрит ни на что, кроме твоей головы».
Через день-два они оба оттаяли и к ним вернулись прежнее дружелюбие и искренность. Байрон признался, что письмо Хобхауса о «Каине» чуть не свело его с ума. Во время беседы Хобхаус отметил остроумное высказывание Байрона о том, что «Каин поступил правильно, убив Авеля, и тем спас себя от ужасно скучных двух сотен лет с ним». Перед отъездом Хобхауса Байрон снова стал серьезен. «Он сказал, что почти все чувства юности умерли в нем». Хобхаус, который теперь занимался политикой, предупредил друга, чтобы он не печатал эпиграмм на смерть Каслрея. Байрон сердечно расстался с Хобхаусом.
Когда пришло время отъезда, Байрон был подавлен. Все шло не так, как хотелось, к тому же он чувствовал себя старым. Бюст, изготовленный Бартолини, вконец разочаровал его. Байрон говорил Меррею: «…по моему мнению, он напоминает престарелого иезуита».
Байрон уехал в своем наполеоновском экипаже, который в 1816 году доставил его в Италию, в сопровождении двух других карет. Хант с семьей ехали с ним вместе до Леричи, а слуги Байрона с багажом отправились на фелюге из Ливорно. Трелони на «Боливаре» прибыл в Леричи с книгами, бумагами и столовым серебром Байрона. Зверинец Байрона состоял из трех больших гусей, которых он собирался съесть на Михайлов день, но они ему так понравились, что он сохранил им жизнь и вез в клетке, прикрепленной позади экипажа.
Отец и брат Терезы присоединились к каравану в Лукке и встретились с Хаитом и Трелони в Леричи. Байрон с Трелони проплыли три мили к «Боливару», стоящему на якоре в заливе. Им пришлось повернуть обратно, но у Байрона начались жестокие судороги. Однако он не желал сдаваться и, отдохнув несколько минут у трапа шхуны, поплыл обратно под палящими лучами солнца. После этого он четыре дня провел в постели в «самом худшем номере самого ужасного постоялого двора в Леричи, испытывая сильнейшие приступы ревматизма и разлития желчи, страдая от запора и от черт знает чего еще…».
Когда Трелони спросил о его самочувствии, Байрон воскликнул: «Как я себя чувствую! Да как тот несчастный, прикованный к скале, словно ястребы клюют мою диафрагму и внутренности, – печени-то у меня уже нет». Когда начался приступ, он закричал громовым голосом: «Мне не жалко умереть, но не могу выносить этого! Я не шучу, позовите Флетчера, дайте мне что-нибудь, чтобы прекратить боль или жизнь!» Флетчер принес эфир и опий, которые облегчили боль. На пятый день Байрон был еще слаб, но мог продолжать путь.
Чтобы избежать путешествия по земле через Апеннины, они отправились морем, Байрон с Терезой в одной лодке, Ханты в другой, а Трелони на «Боливаре». Экипажи погрузили на фелюги. «Море вернуло меня к жизни, – писал Байрон, – я съел холодную рыбу-парусника и выпил галлон вина и той же ночью добрался до Генуи, высадившись в Сестри…»
Поздно ночью экипаж с клеткой с гогочущими гусями въехал во двор виллы Салуццо на холме в Альбаро, над гаванью Генуи. Усталый и ослабленный болезнью Байрон начинал новую жизнь в своем четвертом и последнем доме. После отъезда Байрона из Пизы шпион Торелли заметил с некоторым облегчением: «Лорд Байрон наконец-то решился отправиться в Геную. Говорят, что он уже устал от своей любимицы Гвичьоли. Однако он выразил намерение не оставаться в Генуе, а отправиться в Афины, чтобы завоевать расположение греков…»
Окна задних комнат дворца Салуццо выходили на огороженный стеной сад. Высокое квадратное каменное здание с четырехскатной французской крышей и гостиной с высоким потолком было достаточно просторным и позволяло семье Гамба жить отдельно от Байрона. За дом он платил всего 24 фунта в год – основная причина, по которой он выбрал это жилище. К счастью, семья Хаитов жила с Мэри Шелли во дворце Негрото, в миле от Салуццо, поэтому Байрон и Тереза были избавлены от неодобрительных взглядов добродетельной Марианны и от ее потомства.
Вскоре после приезда Байрон написал Мэри, что купил диван, принадлежавший Шелли в Пизе. «Мне противно, что вещи Шелли находятся под одной крышей с детьми миссис Хант. Они грязнее и шумливее, чем йеху. Все, к чему они прикасаются своими грязными руками, приходит в негодность… Если будут какие-нибудь денежные затруднения, я готов быть вашим финансовым агентом, пока все не уладится и вы не решите, что предпринять» (Мэри обратилась к отцу Шелли с просьбой помочь в воспитании ребенка. – Л.М.).
Не прошло и недели, как Байрон смог объявить Меррею о завершении десятой песни «Дон Жуана» и начале работы над одиннадцатой. В ней действие происходило в Англии, и Байрон с новыми силами взялся за поэму. Несмотря на ссору с Мерреем, он все еще надеялся опубликовать произведение. Но Меррей был обижен тем, что Байрон передавал рукописи Джону Ханту. Старший брат Ли, издатель «Либерала», очевидно, допускал пренебрежительное отношение к Меррею на правах нового союзника Байрона.
Теперь Байрон реже виделся с Хантом, и это происходило только во дворце Салуццо. Хант никогда не мог найти общий язык с Байроном. То он пытался предстать независимым, изображая наигранную веселость, то был раболепен и держался слишком натянуто. Когда он просил денег, то пытался прикрыть смущение насмешливым пренебрежением. 24 октября он написал: «Должен побеспокоить вас насчет очередной сотни ваших крон и, боюсь, очень скоро повторю свою просьбу…» Когда Байрон случайно обратился к нему «дорогой Ли», Хант снизошел до панибратства: «Я прихожу в восторг, когда ты называешь меня Ли, чувствую себя как женщина и приглашаю тебя в свой дом».
Первый номер «Либерала» вышел 15 октября. «Видение суда», ставшее первой ласточкой в новом журнале, было опубликовано с предисловием, в котором Байрон объяснял причину своих нападок на Саути. Ханты убедили Байрона, что Меррей отказался печатать предисловие из ревности или злобы, и он намеревался порвать все отношения с издателем и забрать все рукописи. Байрон писал Киннэрду: «Мне совсем не жалко расстаться с ним, потому что он бессовестный ловкач». Ли Хант радостно сообщал брату: «Бедняга Меррей в жалком положении… Он пишет лорду Б. о том, как будет счастлив, если его светлость «соблаговолит» позволить ему издать его «прежние великолепные произведения» (какая наглая самоуверенность таится за этими строками). Далее он добавляет, что утром часами сидит и смотрит на портрет его светлости! Представь себе чахнущего издателя!»
Меррей не заставил долго ждать и сообщил Байрону, что думают в Англии о его журнале и деловых партнерах, и умолял его прекратить отношения с «изгоями общества». Далее он продолжал: «Мистер Киннэрд прислал мне три песни «Дон Жуана»… Должен сообщить, что они оказались настолько дерзкими, что я не стал бы их печатать, даже если бы вы даровали мне свое поместье, титул и гений. Ради бога, пересмотрите их, они так же великолепны, как все написанное вами, но необходимо удалить все, что может задеть чувства читателей и нанести вам непоправимый вред. Мои друзья раньше почитали за честь беседовать о вас, теперь же все наоборот, и даже ваши прежние сочинения менее популярны. Невозможно найти более преданного друга, чем я, мое имя связано с вашей славой, и я умоляю вас подумать об этом хотя бы ради вашей сестры, потому что мы опасаемся, что она может лишиться прежнего положения при дворе. Дайте нам вновь насладиться вашей иронией и придайте «Жуану» тон «Беппо».
Байрон ответил с твердостью: «Я в любом случае откажусь от ваших издательских услуг и желаю вам всяческих благ…» Новые сложности возникли, когда Меррей сообщил, что Байрон сказал о Ханте, и эта сплетня достигла ушей Ли. Байрон почти во всем признался Ханту, и тому пришлось сделать вид, будто ничего не произошло, потому что он зависел от Байрона в издании журнала. Но Байрон так и не научился сдержанности. Он продолжал писать Меррею о Ханте, потому что привычка к откровенности стала еще сильнее за время пребывания в Италии, и, несмотря на ссору с Мерреем и недовольство робостью и пренебрежением издателя к его произведениям, Байрон не мог не осознавать, что Меррей понимает его лучше Ханта.
Байрон упрекал Меррея за то, что тот показал письмо Ханту, но тут же прибавлял: «Честное слово, я не думал, что что-нибудь в этом письме может задеть его, кроме того, что я назвал его «занудой»… Что касается общности чувств, мыслей и взглядов Л. X. и моих, то она или очень мала или ее вовсе нет… Однако я считаю его человеком способным и обладающим принципами. Увы! Бедный Шелли! Будь он жив, как бы он смеялся и как мы смеялись оба над разными вещами, которые кажутся такими серьезными!»
Несомненно, память о Шелли заставляла Байрона быть добрым к Мэри, хотя у него с ней было мало общего. Он помогал ей тем, что просил ее переписывать некоторые новые песни «Дон Жуана», что ей очень нравилось делать, и обращался к Хэнсону через адвоката сэра Тимоти Шелли с просьбой финансово обеспечить Мэри и ее сына. Голос Байрона очаровывал Мэри, пробуждая в ее душе воспоминания о другом голосе, который замолчал навсегда. Она писала в своем дневнике: «Не думаю, что какой-нибудь другой голос может вызвать в моей душе столько грусти, как голос Альбе, и я слушаю его с невыразимой тоской, но не с болью».
Не успел Байрон обустроиться в Генуе, как начал подумывать о побеге. Трелони писал: «Его мысли всегда были устремлены на Восток… Он постоянно возвращался к своей первой любви, греческим островам и революции в этой стране…» Именно по этой причине Байрон копил деньги. Он надеялся, что к началу нового года в его распоряжении окажутся девять или десять тысяч фунтов. Он досадовал на приобретение дорогого «Боливара», поэтому Трелони решил на зиму избавиться от лодки. Байрон поговаривал о покупке одного из островов греческого архипелага или земельного владения в Чили или Перу. По словам Трелони, «он изводил себя планами, проектами, начинаниями, мечтами, намерениями, откладыванием на потом, сожалениями и бездельем…».
Осенью два гостя напомнили Байрону об Англии. Одним из них был глупый и эксцентричный Джеймс Уэддерберн Уэбстер, чья жена, леди Фрэнсис, с которой он к этому времени расстался, в 1813 году была предметом полусерьезного-полушутливого увлечения Байрона, когда «платонические чувства» были под угрозой, но еще не потеряны. Теперь Уэбстер настойчиво и постоянно добивался расположения леди Харди, жены адмирала Харди. Леди Харди, встречавшая Байрона в Лондоне в 1814 году, навестила его в Генуе и поведала об этом нелепом ухажере. Байрону было приятно встретить умную и дружелюбную англичанку, которой не нужно оказывать знаки внимания. Он шутливо писал ей о Уэбстере, добавляя более серьезно: «Для меня всегда было правилом, и мой опыт его подтвердил, что отношения между мужчиной и женщиной могут быть намного лучше, чем между двумя представителями одного пола, но при условии, что они никогда не станут любовниками… На самом деле я считаю любовь неким враждебным проявлением, которое необходимо осуществить или разрушить, чтобы земля продолжала вертеться, но ни в коем случае не приятным времяпрепровождением».
Некоторые несдержанные замечания Уэбстера о его внешности вынудили Байрона сесть на диету, которой он строго придерживался зимой и летом. Ему пришлось соблюдать режим после перенесенной в Леричи болезни. В хорошую погоду он ездил верхом, но зимой в каменном доме с холодными полами и высокими потолками было холодно. Байрон редко ужинал вне дома, обычно с мистером Хиллом, британским послом, или с близким ему по духу банкиром Чарльзом Ф. Барри, генуэзским партнером «Уэбба и Ко», который вел дела Байрона в Ливорно.
Отношения Байрона с Терезой оставались прежними, но она ощущала, что он отдаляется от нее, и это причиняло ей душевную боль. Она навещала его только по приглашению, а в остальное время Байрон предпочитал обедать и ужинать один, особенно когда был на диете. В хорошую погоду они вместе гуляли в саду. Возможно, иногда Терезе хотелось более ярких впечатлений. Ей было всего двадцать три года, а Байрону почти тридцать пять, но он чувствовал себя семидесятилетним стариком. Однако Тереза уже сделала свой выбор и не жалела о нем. Она привыкла к жизни Байрона и приходила к нему, когда он желал.
Несмотря на испортившиеся отношения с Байроном, Ли Хант в начале декабря отослал в Англию второй номер «Либерала». Байрон просил Меррея передать все рукописи Ханту, но тот уже напечатал две тысячи экземпляров «Вернера» и «Неба и земли». Опасаясь, что последняя поэма повторит судьбу «Каина», Меррей пожертвовал выгодной публикацией и поспешил издать «Вернера», предоставив Ханту право издать более опасную поэму. «Вернер», основанный на сюжете немецкой мелодрамы, но с байроновскими героями, был вскоре продан в количестве шести тысяч экземпляров. Байрону было все равно, и Хант с радостью поместил во втором номере журнала поэму «Небо и земля».
Когда появилась весть о том, что Джон Хант должен предстать перед судом за публикацию «Видения суда», Байрон предложил ему свои услуги и даже выразил желание, если понадобится, ехать в Англию и выступить на суде. Но Хобхаусу он написал: «…случилось то, что ты предсказывал. Из-за самых лучших побуждений я попал в переделку, а ведь хотел угодить этим ханжам».
У Байрона случились еще большие неприятности. Миссис Мэйсон (леди Маунткашелл), знакомая Шелли из Пизы, которая подстрекала Клер спасти Аллегру из монастыря, теперь обращалась к Байрону с просьбой оказать помощь Клер, потерявшей место в Вене из-за слухов о ее прошлом. Хотя это письмо произвело на Байрона обратное впечатление из-за того, что взывало к его «лучшим чувствам» и намекало на его обязанности, он был бы готов помочь Клер, если бы это можно было сделать, не переписываясь с ней. В конце концов Байрон сказал Мэри, что если она пошлет Клер денег, не упоминая его имени, то в дальнейшем всегда сможет рассчитывать на его помощь. Мэри была оскорблена. Она писала Джейн Уильяме в Англию: «…он часто предлагал мне денег, но только крайняя необходимость может заставить меня принять их. Он дает мне взаймы, а К. дарит…»
Вероятно, Байрон думал, что Мэри будет сама общаться с Клер, не упоминая о нем. Его готовность помогать Клер служит достаточным доказательством его щедрости. Что касается Мэри, то он знал, что после смерти сэра Тимоти Шелли она получит в наследство большое состояние. Байрон не хотел навязывать Мэри денег в дар. Он давал взаймы многим друзьям, не ожидая возвращения долга.
Возможно, причиной досады Мэри, основанием для того, чтобы считать Байрона «бессердечным», было ее подсознательное желание стать для него кем-то большим, чем просто другом. Об этом можно судить по той снисходительной жалости, которую она испытывала к Байрону, находившемуся в рабстве у Терезы. Мэри писала Джейн Уильяме: «Его держат в узде, ссорятся с ним и вертят им, как хотят». Вероятно, если бы Мэри не испытывала никаких чувств к Байрону, то сама бы обратилась к нему за помощью и не обращала бы внимания на то, в какой форме эта помощь будет предложена.
В день рождения Байрона посетили грустные раздумья, особенно острые после болезни и длительного поста. Размышляя порой о былых удовольствиях, он испытывал скорее радость, чем сожаление. 18 января, за четыре дня до своего тридцатипятилетия, Байрон написал Киннэрду: «Тридцать лет мне всегда казались точкой, когда должны прекратиться все развлечения и увлечения юности, и я надеялся покончить с ними. Теперь могу похвастаться, что мне это в основном удалось. Жизнь проходит, и я начинаю любить деньги, ведь мы должны что-то любить».
Доктор Джеймс Александр, англичанин, проживающий в Генуе, часто навещал Байрона и обращал внимание на его депрессию, начавшуюся с приходом зимы. Обостренная чувствительность к своей хромоте не исчезла с возрастом. Байрон покрывался румянцем, когда доктор смотрел на его ногу, но на другой день он откровенно рассуждал на эту тему: «Эта нога была проклятием всей моей жизни». Байрон признался, что однажды, вероятно во время учебы в Хэрроу, он отправился в Лондон, чтобы ампутировать ногу, но врач отказался это делать. Доктор Александр заметил глубокое разочарование Байрона в жизни. Он говорил, что «человек должен делать что-то большее, чем просто писать стихи».
И все же Байрон продолжал творить. Поэма «Бронзовый век» была попыткой описать мир после смерти Наполеона в манере Ювенала, а поэма «Остров», сюжет которой основан на реальных событиях мятежа на корабле «Баунти», представляла собой описание путешествия в Южные моря и мир благородных дикарей. Байрон отдал обе поэмы Джону Ханту, но не для «Либерала», от издания которого он хотел отказаться, не нанося ущерба Хантам. Байрон пытался убедить себя и издателя, что из-за его уменьшающейся популярности тираж журнала будет падать. Но Джон Хант понимал, что упоминание о Байроне, наоборот, увеличит престиж издания: если его будут критиковать, значит, читают. Теперь он видел, что журнал обречен, и пытался выжать как можно больше из новых рукописей, данных ему Байроном. Ли был в отчаянии, потому что полностью зависел от журнала. Байрон мечтал покончить с этой затеей, хотя и ощущал свою ответственность перед Хантом и его семьей. Он писал Муру: «Не могу описать тебе того чувства смятения, которое испытываешь, пытаясь сделать что-нибудь для человека, который не может или не хочет сам помочь себе. Словно вытягиваешь человека из болота, которое все глубже засасывает его».
Повседневную жизнь Байрона лишь изредка нарушали попойки, о которых он обычно сожалел, поскольку здоровье не позволяло ему предаваться излишествам. Ему было достаточно проводить вечера за письменным столом. В конце марта он закончил и отправил Киннэрду пятнадцатую песнь «Дон Жуана», сочинив десять новых песен за один присест. Он еще не нашел издателя, но его отношения с Джоном Хантом приносили выгоду им обоим.
В начале апреля, с приездом в Геную англичан, жизнь Байрона изменилась. Одним из них был Генри Фокс, сын лорда Холланда, который ему всегда нравился, возможно, потому, что тоже хромал. Однако другие его соотечественники еще больше поразили его воображение. Это были «великолепная леди Блессингтон», урожденная Маргарет Пауэр, и ее свита, состоявшая из ее супруга, богатого графа Блессингтона, сестры Мэри Энн Пауэр и их красивого молодого друга и спутника, графа Альфреда Д'Орсея.
Графиня, на год моложе Байрона, была в самом расцвете жизненных сил. Без всякого ущерба для себя она сумела восторжествовать над бедностью и грубой обстановкой, сопутствовавшей ей в детстве и юности, и своей красотой, изяществом и умом завоевала подобающее место в лондонском обществе, сделавшее ее дом на Сент-Джеймс-сквер, 10, соперником дома Холландов, привлекая туда способных и умных людей. Художник Лоуренс получил известность, написав ее портрет, который стал откровением на Королевской выставке в 1821 году и обладал поразительным сходством с оригиналом, давшим основание для появления такого эпитета, как «великолепная», которым впервые наделил графиню известный доктор Парр.
Возможно, ужасный опыт семейной жизни с ирландским капитаном Фармером, которому отец леди Блессингтон фактически продал ее в возрасте пятнадцати лет, «направил все ее сексуальные импульсы в другое русло», как писал ее биограф. Это утверждение можно оспорить, потому что ее женственность и чувственность были обострены, в то время как вся энергия, которую другие женщины тратили на кокетство, направлялась ею на интеллектуальное развитие и отстраненное, но не равнодушное наблюдение за жизнью и характерами людей. Возможно также, что ее успех у мужчин объяснялся не только духовными причинами, поскольку сама графиня признавалась, что несколько лет была «содержанкой».
Неудивительно, что леди Блессингтон произвела на Байрона большое впечатление, в чем он сам не хотел признаться. Она со спокойным достоинством носила свой аристократический титул. Байрон, в свою очередь, мог спокойно беседовать с ней, хотя его всегда привлекала красота. Вскоре он привязался и к лорду Блессингтону. Байрон не считал его дилетантом в искусстве, потому что тот обладал обостренной чувствительностью, вкусом и суждением.
Граф Д'Орсей имел репутацию красавца (Байрон как-то назвал его купидоном. – Л.М.) и щеголя. Несмотря на этот явный тройственный союз, вполне возможно, что отношения леди Блессингтон и графа носили вполне платонический характер. Важно отметить, что Байрон, за свою жизнь сделавший рогоносцами многих мужей и знавший в этом толк, не заметил ничего предосудительного в их отношениях.
«Кружок Блессингтон» прибыл на Альберго-делла-Вилла в Генуе вечером 31 марта. За день до этого леди Блессингтон записала в своем дневнике: «Как бы мне ни хотелось скорей увидеть «великолепную Геную», должна признать, что присутствие в ней лорда Байрона придает городу еще большую привлекательность для меня». Но как многие другие, графиня ожидала встретить Чайльд Гарольда и была разочарована. «Он остроумен, ироничен и жизнерадостен, но совсем не похож на меланхоличного поэта, как я его себе представляла… Среди его темно-каштановых кудрей уже заметна седина, волосы у него шелковистые, и хотя редеют у висков, почти не закрывая лба, но по-прежнему очень густы на затылке… Он очень худой, похож на юношу, и все же в нем есть нечто поразительное, и его нельзя признать за обычного человека… Не думаю, что заметила бы его хромоту, если бы он сам не привлек мое внимание… Его голос очень ясный и певучий, но несколько женственный… Смех звучит точно музыка…»
Когда на следующий день Байрон зашел в их гостиницу, его откровенные высказывания поразили и уязвили графиню. Ее изумило «полное самозабвение, с которым он ведет беседу с недавними знакомыми на темы, которых избегают даже друзья». Графиня со свойственной ей проницательностью заметила, что суждения Байрона об Англии и англичанах указывали на его ностальгию по родине. Она с восторгом вспоминала его суровую критику их общего друга Мура и с еще большим восторгом сказанное о леди Холланд. Графиня слишком хорошо знала о лицемерии высших политических кругов, чтобы не выслушать с наслаждением рассуждений Байрона об английском ханжестве: «…он говорит, что единственным способом победить ханжество является высмеивание, то исключительное оружие, которого не испортит английский климат».
Интерес Байрона к греческой революции вновь возрос после визита капитана Эдварда Блэкиера, представителя Лондонского греческого комитета, членом которого был и Хобхаус. Капитан сопровождал Андреаса Луриоттиса, делегата греческого правительства, который направлялся в Лондон, чтобы просить у англичан помощи. Байрон немедленно предложил в июле войти в новое греческое правительство, если его участие принесет пользу. Однако он понимал, что этому могут помешать обстоятельства: «…можете представить, что «нелепый женский род», как называет женщин Монкбарнс в романе Скотта «Хранитель древностей», выступит против моей затеи. Мадам Гвичьоли, естественно, не желает, чтобы я оставлял ее хотя бы на несколько месяцев, и, поскольку ей удалось помешать мне уехать в Англию в 1819 году, ей может удастся отговорить меня от поездки в Грецию в 1823 году». Несмотря на это, мысли о Греции все больше и больше занимали Байрона. Он начал переговоры со своим агентом Чарльзом Барри насчет судна и просил Киннэрда выслать ему денег на путешествие. Но пока у него недоставало смелости сообщить Терезе о своих планах, потому что он боялся возможных сцен.
Чета Блессингтон и граф Д'Орсей вначале вызывали у Байрона чрезмерное уважение, потому что могли легко и непринужденно вести себя в обществе. Леди Блессингтон все еще критически наблюдала за ним и пресекала все его слишком вольные высказывания, которыми он одарил всех отсутствующих друзей. Он «с большим уважением отзывался о талантах и достижениях мистера Хобхауса, но в его словах чувствовалась уязвленность, потому что он, очевидно, считал, что Хобхаус недооценивает его»; «открытость и неизменная честность» его друга вызывали бурные похвалы Байрона, однако эта дружба не приносила ему такой радости, как дружба с другими людьми, потому что, по словам Байрона, «он постоянно указывал мне на мои недостатки, но к его чести должен отметить, что он говорил о них именно мне, а не другим».
Графиня, как и Трелони, обнаружила, что лучше всего Байрону удавалась беседа с глазу на глаз, когда он мог как бы «думать вслух». Он говорил: «Оживленный разговор воздействует на меня подобно шампанскому: бодрит и кружит голову…» Когда графиня сделала какое-то замечание о скандале, Байрон ответил: «Все темы хороши своим разнообразием, но скандал настолько пикантен, что действует на человека подобно кайенскому перцу. Должен признать, мне это нравится, особенно если участниками скандала являются чьи-то друзья».
Несмотря на свою осторожность, леди Блессингтон была очарована добротой и вниманием Байрона. Она заметила его щедрость и участие к людям, которых он встречал во время верховых прогулок. Они «все знают и любят его, многие предаются общим воспоминаниям, уверенные в его благосклонности». Графиня понимала, что ключом к непоследовательности Байрона является его необычайное «непостоянство», его стремление произвести впечатление, поступки, совершенные под воздействием порывов, и привычка говорить свободно. Он делился с графиней своими суждениями о женщинах с той же откровенностью, с какой беседовал на другие темы. «Он говорил, что худые женщины, если они молодые и привлекательные, напоминают ему засушенных бабочек, а если наоборот, то пауков, в чьи сети он никогда бы не попался, если бы был мухой, потому что в них нет ничего соблазнительного». Такая точка зрения не уязвляла графиню, потому что она обладала пышными формами. В другой раз Байрон сказал: «Теперь моим идеалом красоты будет женщина, способная понять и оценить меня, но неспособная блистать сама».
Как и многие другие, леди Блессингтон была озадачена двойственностью натуры Байрона. Возможно, сама она была слишком идеальной натурой, чтобы поверить в правдоподобность единовременного существования его сентиментальных и циничных высказываний и в то, что его неутолимое стремление к идеалу и разочарование в несовершенном мире и самом себе являются двумя сторонами одной медали. «Стоит ему пробудить к себе глубокий интерес, как на следующий день он погубит его постоянным подтруниванием над собой и другими, – жаловалась графиня, – и человеку кажется, что у него вызвали симпатию, чтобы потом посмеяться над ним».
Байрон предупреждал ее: «Люди принимают мои высказывания за чистую монету и создают обо мне неверное впечатление… Сам бы я сказал, что у меня нет никакого характера… Но шутки в сторону. На самом деле я думаю так: я слишком изменчив, будучи всем по очереди и ничем надолго, я такая странная смесь добра и зла, что меня трудно описать. Есть только два постоянных чувства: сильная любовь к свободе и ненависть к лицемерию, но ни одно из этих чувств не может привлечь ко мне друзей».
Частые поездки Байрона с леди Блессингтон вскоре заставили Терезу поверить, что ее возлюбленный влюбился в английскую аристократку. Байрон писал леди Харди, что Тереза «охвачена припадком свирепой итальянской ревности и ведет себя ужасно неразумно и нелепо. Бог свидетель, она льстит мне, поскольку я действительно испытывал лишь платонические чувства к этой богине раздора, к тому же с годами мои чувства успели остыть, и я скорее брошусь в море, чем влюблюсь».
Тем временем от Блэкиера и Луриотти Байрон узнал, что они оба мечтают, чтобы он поехал в Грецию. Хобхаус написал, что Байрона избрали членом Лондонского греческого комитета: «Твое предложение было принято с единодушной благодарностью и восторгом». Пьетро Гамба, по словам Мэри Шелли, «чуть с ума не сошел от радости», но Байрон не спешил уезжать.
Байрону нравилась устоявшаяся жизнь и раздражали любые попытки что-то изменить. И все же Мэри Шелли понимала, что ради поставленной цели он готов пойти на жертвы, хотя Гвичьоли будет в этом преградой. «Однако он не собирается идти у нее на поводу и готов решительно возражать мнениям тех, кто его окружает». Байрон откладывал тот день, когда придется обо всем рассказать Терезе. Он чувствовал одновременно гнев и печаль из-за того, что боится откровенно поговорить с ней. Из прошлого опыта он знал, что слезы могут растопить его решимость. В конце концов он предоставил Пьетро сообщить Терезе новости, но это не смягчило удар. «Смертельный приговор был бы для нее менее ужасен». Байрон только усугубил ситуацию, сказав Терезе, что ее бывший муж простит ее. Хобхаусу он написал: «В случае если я, что вполне разумно, перестану быть его заместителем…»
В том же ключе Байрон написал Киннэрду: «Она тоже хочет ехать в Грецию! Великолепное место для путешествий!.. Еще не было мужчины, который так во всем уступалженщинам и заслужил после этого репутацию жестокого человека». Печаль Байрона от расставания с Терезой была неподдельной. Он излил Хобхаусу и Киннэрду лишь часть своих чувств. С другой стороны, ему наскучила привычная жизнь, и он стремился уехать. Единственным выходом было разорвать узы привычки, привязывающие его к женщине, чьи эмоциональные запросы он мог теперь удовлетворять лишь с добродушным отцовским терпением.
Байрон ощущал сожаление, смешанное с чувством потери любви, которая так долго жила в его сердце, и осознанием преданности Терезы и боли, причиненной ей. Справиться с этими чувствами он мог, только ведя себя весело и непринужденно, хотя ни одно из этих настроений не отвечало его состоянию. Делясь мыслями с леди Блессингтон, Байрон открыл ей свои чувства и дал понять, какое зло причиняет Терезе, не в силах его избежать: «…я сильно привязан к ней, но правда в том, что мои привычки не могут принести счастья ни одной женщине: мои чувства умерли, и, хотя мне только тридцать шесть, я чувствую себя на шестьдесят и не способен оказывать те мелкие знаки внимания, которых требуют все женщины, а пуще всего итальянки. Мне нравится одиночество, оно стало мне необходимо… Мне кажется, в характере поэта есть нечто, мешающее счастью не только его собственному, но и тех, кто его окружает». И одновременно он говорил леди Блессингтон: «Если бы мы с графиней Гвичьоли были женаты, то, уверен, были бы образцом супружеского счастья…»
Чувство вины заставило Байрона предпринять попытку оставить Терезе память о себе, хотя ей были нужны всего лишь эмоциональные доказательства его любви. Однажды, дав ей целую кипу рукописей, которые ему прислал Меррей, Байрон сказал: «Возможно, когда-нибудь их оценят по достоинству!» Байрон был прав: через несколько лет рукописи были проданы по баснословной цене[31].
Двойственное отношение Байрона к своим греческим планам удивляло леди Блессингтон. Сначала он говорил о них возвышенно, потом смеялся над собственным героическим жестом… И часто он упоминал о том, что умрет в Греции. «Надеюсь, это случится в бою, потому что это будет достойным концом печального существования, и я испытываю ужас перед сценами смерти в постели…»
Байрон был раздосадован, когда семья Блессингтон объявила о своем намерении в конце мая уехать из Генуи. Их совместные верховые прогулки стали для Байрона необходимостью. Они оживляли в его душе воспоминания о беззаботных днях в Англии. Байрон даже выражал желание побывать на родине перед поездкой в Грецию, но его удержали мысли о неприятных обстоятельствах его возвращения, включая одну или две дуэли, на которые он сам себе обещал вызвать своих врагов вроде Саути и Брума.
Прежде чем чета Блессингтон отправилась в Неаполь, состоялось трогательное прощание. Графиня подарила Байрону свою любимую арабскую лошадь по кличке Мамелюк, чтобы он взял ее с собой в Грецию, хотя и была изумлена тем, что Байрон начал торговаться, и убедила графа купить яхту Байрона «Боливар», за которую он долго не платил. При расставании графиня плакала, по словам Терезы, хотя сама леди Блессингтон в своем дневнике писала, что плакал Байрон.
После отъезда Блессингтон Байрон начал серьезные приготовления к путешествию. В конце мая он получил от Киннэрда письмо с сообщением о выданном ему кредите в размере четырех тысяч фунтов, которых вместе с двумя тысячами Байрона вполне хватило бы для его целей. Байрон уже начал делать покупки, необходимые для путешествия. Через доктора Александра он приобрел лекарства, которых хватило бы «на два года на тысячу человек». Из Занта пришло письмо Блэкиера с приглашением приехать. Байрону был необходим старый авантюрист Трелони, который провел годы юности в Восточных морях и знал толк в кораблях. Установив надгробный памятник над прахом Шелли на протестантском кладбище в Риме, Трелони отправился во Флоренцию и начал готовиться к новым авантюрам. Он мечтал сопровождать Байрона.
Его доверенное лицо в Генуе, Барри нашел корабль под названием «Геркулес», который можно было зафрахтовать после плавания в Ливорно. По рекомендации доктора Александра Байрон решил взять в плавание молодого врача Франческо Бруно, только что закончившего университет. Трелони с нетерпением ожидал путешествия в Грецию. Однако по прибытии в Геную его рвения поубавилось. Ему совсем не понравился «Геркулес»: «Посудина вроде угольщика, вместимостью сто двадцать тонн, круглодонная и с крутой кормой…» Тем не менее Трелони начал приготовления с помощью неловкого, но увлеченного Пьетро.
В минуты, когда предстоящее путешествие виделось Байрону героическим паломничеством, он заказал специальную форму для себя и всего экипажа, чтобы в подобающем виде высадиться на греческих островах в великолепных одеяниях из пурпура и золота. Джакомо Аспе сделал три шлема: один для Пьетро из зеленой материи в форме уланского кивера с фигурой богини Афины на маленьком постаменте из меди и черной кожи; а для Байрона и Трелони два шлема времен Гомера, позолоченных и украшенных перьями, под которыми на шлеме Байрона располагался его герб и девиз «Верь Байрону». Пьетро, романтический «борец за свободу», был в восторге, но, когда Трелони не одобрил этой затеи, Байрон с неохотой отказался от мысли надеть шлем. Однако он взял все три шлема в Грецию.
В разгар приготовлений к отъезду и грустного прощания с Терезой Байрон был раздосадован дерзкими напоминаниями Ханта об обещаниях помочь Мэри Шелли и ему самому. Вероятно, Байрон собирался выполнить свое обещание, но Хант обладал даром раздражать его, как сейчас, перечислив то, что он должен Шелли и его вдове, и распространяя слухи об обещаниях Байрона. В конце концов Байрону пришлось пойти на уловки, чтобы заставить Мэри принять деньги, несмотря на ее обиду. Было 28 июня, а Байрон уезжал в начале июля. Он написал Ханту: «Я получил письмо от миссис Ш., в котором она в пятый или шестой раз меняет свои планы, а именно совсем не хочет никуда уезжать, по крайней мере с моей помощью, называя все происходящее «разрывом» и т. п. На это мне нечего сказать. Я передам деньги тебе, тогда сможешь сказать, что взял их взаймы…» Одновременно Байрон заявил Ханту, что отказывается быть душеприказчиком Шелли и не примет двух тысяч фунтов, указанных в его завещании.
Хант сообщил, что Мэри отказалась взять деньги и обратилась за помощью к Трелони. Возражение Байрона на кажущуюся холодность Ханта, к сожалению, не сохранилось, но о нем можно догадаться по длинному и оскорбленному ответу Ханта. Он упрекал Байрона за сердитые слова, сказанные в адрес Шелли, и откровенное упоминание о взглядах Шелли на поэзию Ханта. Затем он вернулся к своей прежней ситуации и просил пятьдесят фунтов, чтобы перебраться с семьей во Флоренцию. Он также просил простить его долг в двести пятьдесят фунтов, потраченный на переезд из Англии. Байрон не мог долго сердиться и, когда вновь обрел душевное равновесие, послал Ханту успокоительное письмо с обещанием обеспечить его всем необходимым для поездки во Флоренцию или Англию.
Тереза, которой нравилась Мэри, была огорчена их ссорой, виновником которой считала Ханта, «потому что он сказал ей (Мэри), что она не нравится лорду Байрону, несмотря на воспоминания о Шелли, и что ее приходы докучают ему, что он мечтает отправить ее в путешествие и предпочтет никогда не видеть ее снова». Если бы Мэри была равнодушна к Байрону, примирение могло бы состояться быстрее. То, что любой жест доброй воли с его стороны мог смягчить ее сердце, видно из ответа Мэри Терезе на попытку уладить их отношения: «…если он изъявит хоть малейший знак дружбы и вновь будет рад помочь мне, я с готовностью соглашусь и буду очень благодарна». Но дело зашло слишком далеко, и Байрон, мечтавший избежать истеричного прощания и слез Терезы, не желал удовлетворять эмоциональные требования другой женщины. Но перед отплытием он отправил Мэри примирительное письмо и наказал Барри приготовить деньги для ее поездки.
Торжественные обещания Байрона вернуться к Терезе были не просто пустыми словами, потому что он и сам надеялся на возвращение. Она хотела ему верить, но у нее были предчувствия, что они больше никогда не увидятся. Вначале Байрон намеревался совершить увеселительную прогулку на Ионические острова и, возможно, на материк и вернуться через пару месяцев. Пока он еще не думал о возможности остаться дольше, если его приезд будет радостно встречен греками и он сможет помочь им в их деле. Хобхаус хотел, чтобы Байрон собрал сведения для Лондонского комитета и своим присутствием морально поддержал борцов за освобождение.
В последние дни перед отъездом Байрон был очень благодарен своим агентам, Дугласу Киннэрду в Англии и Барри в Генуе. Киннэрду удалось собрать почти девять тысяч фунтов наличными и в кредит. Он сообщил, что суд над Джоном Хантом за издание «Видения суда» будет отложен, а публикация остальных песен «Дон Жуана» идет полным ходом. Барри, который не только занимался снаряжением «Геркулеса» для плавания, но и служил необходимым барьером между Байроном и греческими изгнанниками в Генуе и Ливорно, которые относились к Байрону как к сказочному волшебнику, понял, как нужно оберегаться от хищных инстинктов греков, особенно изгнанников, которые были еще более жадными и своекорыстными, чем их соотечественники на родине. Они были готовы наложить руки на все деньги, предназначенные для помощи патриотам.
В последние часы перед отъездом Байрон и его спутники взошли на борт «Геркулеса». Тереза, обезумевшая от тоски и отчаяния, намеревалась терпеливо ожидать в своем доме возвращения возлюбленного. Граф Гамба, ее отец, получил разрешение на возвращение в Равенну и хотел, чтобы дочь поехала с ним. Тереза пыталась найти какой-нибудь предлог, чтобы остаться в Генуе, пока не вернется Байрон, но в конце концов согласилась поехать с отцом.
13 июля Байрон был готов покинуть дворец Салуццо. «Роковой день настал, – вспоминала Тереза. – Он решил спать на борту, чтобы отплыть на следующее утро. В пять часов он должен оставить Альбаро. С трех до пяти он не отходил от мадам Гвичьоли. Он не хотел оставлять ее одну в момент отъезда и просил миссис Шелли побыть с ней». Мэри пыталась утешить Терезу и ободрить ее, но понимала, что это бесполезно. Когда Мэри ушла, Тереза сидела одна и пыталась найти успокоение в маленькой записной книжке, в которой Байрон записывал свои дела с момента их встречи в 1819 году. «Слышу флейту, – написала Тереза, – какая грусть наполняет меня! Да поможет мне Бог!» На следующий день на рассвете Барри помог ей дойти до экипажа отца, и только тогда ей хватило смелости взглянуть на небо и заметить направление ветра.
Байрон взошел на борт с Трелони, графом Пьетро Гамбой, молодым доктором Бруно и Константином Скилитци, которого обещал доставить в Грецию. Кроме домашней живности они взяли четырех лошадей Байрона и одну лошадь Трелони, верного бульдога Моретто и огромного ньюфаундленда по кличке Лев, которого подарил Байрону морской лейтенант в отставке Эдвард Ле Месурье. В довершение к этому на борт взошли пятеро или более слуг.
К десяти часам 14 июля «Геркулес» был готов к отплытию, но на море стоял штиль. Команда снова сошла на берег и направилась к Альбаро. Когда Барри встретил Байрона и сообщил ему, что Тереза уехала, Байрону не хватило смелости вернуться в пустой дом, и вместо этого они отправились в Сестри, на виллу Ломеллина, где так часто ездили верхом с леди Блессингтон. В саду они пообедали сыром и фруктами, а потом вернулись на корабль.
На следующий день они вышли из гавани, но из-за штиля не могли плыть. Ночью ветер окреп, и старая посудина пошла с такой скоростью, что лошади проломили тонкие перегородки и оказались на палубе. Байрон оставался на палубе всю ночь. Пока Трелони следил за ремонтом разрушенных перегородок, остальные вновь сошли на берег. На этот раз Байрон хотел увидеть дворец Салуццо. Его охватила тоска, когда он вместе с Пьетро взбирался по холму. «…Он много говорил о своем прошлом и неуверенности в будущем. «Где мы будем через год?» – вопрошал он». Позднее Барри говорил Хобхаусу, что, когда их задержал шторм, Байрон «признался, что не отправился бы в Грецию, если бы не знал, что Хобхаус и другие будут смеяться над ним».
Но жребий был брошен. Установилась хорошая погода. Чайльд Гарольд вновь отправился в путь. Через пять дней они были в Ливорно. Барри тяжело переживал разлуку с другом, который всегда относился к нему по-доброму, как к равному. Вечером, после отъезда Байрона, он написал: «Вы сказали, что я вздохну с облегчением, когда вы уедете, но надеюсь, что на самом деле вы так не думаете. Поверьте мне, милорд, я слишком горжусь знакомством с вами, чтобы горько не сожалеть о нашей разлуке. Я не могу рыдать, но ощущаю потерю друга так же сильно, как сильно надеюсь, что вы скоро вернетесь в Геную…» Подобно леди Блессингтон, купившей «Боливар», потому что он принадлежал Байрону, Барри приобрел мебель и книги своего друга. Байрон подарил ему несколько ценных автографов и рукописей, написанных в порыве гнева и не предназначенных для публикации.
…По мере приближения к Равенне печаль Терезы все усиливалась. Она продолжала делать пометки в маленькой записной книжке. Последние строки были самыми отчаянными: «Я надеялась найти в себе силы и перенести этот удар, но с каждой минутой боль становится все сильнее, и мне кажется, что я умираю. Пришлите ко мне Байрона, если застанете меня живой. О, если бы я могла последовать за ним любой ценой…» Но Байрон уже принял решение и не мог вернуться.
Когда «Геркулес» плавно вошел в порт Ливорно днем 21 июля, Байрона приветствовал салют тринадцати орудий с ионийского судна. Его командир, капитан Георг Витали, уже получил согласие Байрона на свою просьбу отправиться вместе на родину. Джеймс Гамильтон Браун, шотландец, уволенный со службы в Греции из-за его сочувствия восставшим, также просил взять его на борт. Он говорил по-итальянски и по-новогречески и много знал об английских правителях на островах. По его совету Байрон решил переменить место назначения своей экспедиции с Занта, рекомендованного Блэкиером, на Кефалонию, находившуюся под командованием полковника Чарльза Джеймса Нейпира, единственного англичанина, сочувственно относящегося к освободительной борьбе греков.
Переполненное судно вышло из гавани 24 июля и направилось на юг, к Мессинскому проливу. Погода стояла хорошая, и все собрались на палубе. Это было прощанием Байрона с Италией, где, невзирая на бесцельные скитания, он провел одни из самых счастливых и плодотворных лет своей жизни. Теперь судьба вела его к Греции и неясной цели, отчасти по причине неудовлетворенности жизнью, но большей частью по велению обстоятельств и славы Байрона и сложности его характера, не дающей ему возможности поступать так, как ожидают окружающие. И все-таки он еще не сжег за собой все мосты. Он писал Барри: «Я очень прошу вас позаботиться о моей дорожной карете, с которой я ни за что не расстанусь».
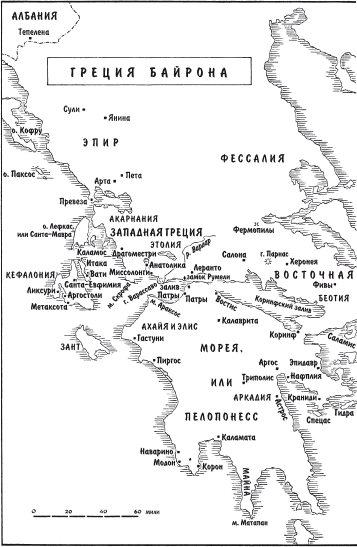
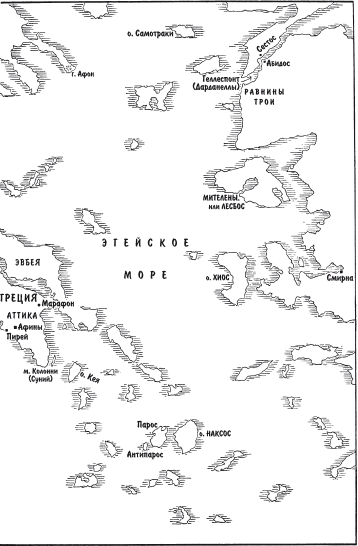
Ясной ночью судно подошло к Стромболи. Байрон находился на палубе до утра, обмениваясь жуткими историями с Трелони и Брауном и глядя на вулкан. Сойдя в каюту, Байрон сказал Трелони: «Если я проживу еще год, то опишу эту сцену в пятой песне «Чайльд Гарольда». Браун заметил, что во время плавания Байрон в основном читал произведения Свифта, и полагал, что он намеревается написать очередную песню «Дон Жуана». Но Байрон ничего не писал, кроме нескольких писем. Браун также заметил, что он читал Монтеня, Вольтера, «Переписку» Гримма и Ларошфуко.
К тому времени как «Геркулес» вышел в Ионическое море, настроение Байрона значительно улучшилось. Он легко сошелся с товарищами по кораблю. Трелони вспоминал: «Я никогда не плавал с лучшим спутником, чем Байрон. Он был почти всегда весел, никого не беспокоил, никем не командовал, не жаловался и не вмешивался в работу команды. Когда у него что-нибудь спрашивали, он отвечал: «Делайте как сочтете нужным».
Каждый полдень в хорошую погоду Байрон и Трелони плавали в море, не боясь акул, которых и вправду не водилось в этих водах. Иногда они давали выход веселью в мальчишеских шумных играх. Однажды, по словам Трелони, они выпустили из клеток уток и гусей и вместе с ними и собаками прыгнули в воду, обрядив одну из собак в новый алый жилет капитана Скотта.
Байрон взял с собой трех особенно верных слуг. Это были венецианский гондольер Тита, испугавший доктора Бруно, слуга-англичанин Флетчер, сопровождавший Байрона в первое путешествие в Грецию, и Лега Замбелли. Браун говорил, что Байрон «иногда очень хвалил своего аккуратного и скрупулезного старика Легу, мажордома». Байрон также взял у Трелони чернокожего слугу-американца, который хорошо готовил.
Флетчер, помнивший о неудобствах проживания в Греции, считал, что его хозяин сошел с ума, решив вернуться туда. Трелони вспоминал его бурный протест и ответ Байрона: «Это правда для тех, кто привык узко смотреть на вещи!» Трелони заметил: «После долгого молчания он продолжал: «Я был счастлив в Греции, счастливей, чем прежде или после, и если, по словам публики, в чем я несколько сомневаюсь, я писал хорошо, то это было или в Греции, или о Греции».
2 августа они заметили острова Кефалонию и Зант. Судно взяло курс на Кефалонию. Когда Байрон увидел в отдалении горы Морей, то произнес: «Не знаю почему, но я чувствую себя так, словно одиннадцать горьких лет упали с моих плеч и я вновь несусь по морю со стариной Бэтхерстом на его фрегате». Ночью корабль встал на рейд, а на следующее утро бросил якорь недалеко от Аргостоли, столицы острова.
Капитан Джон Питт Кеннеди, секретарь английского управляющего, полковника Нейпира, которого в то время не было на острове, взошел на борт и приветствовал Байрона и его спутников. Он сообщил, что полковник готов служить им всеми возможными способами, которые не будут нарушать его строгий нейтралитет в войне между турками и греками.
Остаться на Кефалонии Байрона вынудили вести о том, что среди греков начался политический раскол, что бездействие обеих сторон почти прекратило войну и что турки контролировали моря, окружающие острова, в то время как греческий флот, состоявший большей частью из вооруженных купеческих судов, концентрировался у восточного побережья. Сообщения были противоречивыми и сбивающими с толку, поэтому Байрон не видел оснований для продвижения вперед.
Первым президентом Греции избран был Александр Маврокордатос, согласно конституции Эпидавра, начавшей действовать в канун 1822 года по восточному календарю и 13 января 1823 года по западному после первых успехов греческих воинов. С самого начала правительство было слабым, и дальше национальный дух все более слабел из-за поражений и междоусобной борьбы лидеров восставших, стремившихся сохранить власть. Когда в феврале 1823 года собралась вторая Национальная ассамблея, ее участники образовали два фронта: военный под предводительством Колокотрониса, Ипсиланти и Одиссея (Улисса) и фронт церковнослужителей и гражданских лидеров, Петробея из Майны, Заимеса, Андреаса Лондоса, которого Байрон встретил в 1809 году, и Маврокордатоса. Петробей стал президентом исполнительного совета, а Маврокордатос – государственным секретарем. Когда в мае ассамблея перестала существовать, казалось, что победил гражданский фронт. Исполнительный совет и сенат решили, что правительство будет заседать в Триполице (современный Трипо-лис), на центральном плато Пелопоннеса. Но когда в июле Маврокордатос был избран главой законодательного совета, то испугался угроз Колокотрониса и бежал в Гидру.
Чтобы лучше разобраться в происходящем, Байрон написал Марко Боцарису, связаться с которым ему в Ливорно рекомендовал митрополит Игнатий из Арты. Боцарис командовал греческими войсками в Акарнании и воевал с турками к северу от Миссолонги. Ожидая ответа, Байрон со спутниками оставались на борту «Геркулеса» в гавани Аргостоли, чтобы не доставлять хлопот англичанам, управляющим греческими владениями. Прибытие на Кефалонию известного поэта, чьи стихи читали почти все английские офицеры, наделало много шума. Байрон стал объектом сильного любопытства англичан и местных жителей. Вскоре он высадил на берег лошадей и каждый день совершал верховые прогулки; выглядел он при этом, по словам одного свидетеля, как татарин «с высоким пером на голове, возможно, в своем греческом шлеме, и с серебряными эполетами».
Спустя два дня после прибытия «Геркулеса» полковник Нейпир, британский губернатор, вернулся на остров. Это был способный правитель и пылкий поклонник дела греческого освобождения, обладавший, подобно Байрону, «страстной верой» в победу греков и людей, с которыми Байрону предстояло связать свою судьбу. Он хорошо знал греков и их недостатки и был предан делу освободительной борьбы. Полковнику Нейпиру выпала нелегкая задача управлять свирепыми племенами сулиотов, которые вместе со своими семьями искали прибежища на Кефалонии в 1822 году после изгнания из родных мест, с утесов Южной Албании. Байрон слышал о героической обороне этих скалистых бастионов и отдал сулиотам дань уважения в «Чайльд Гарольде». Сулиоты были разбросаны по всем островам, но некоторые сражались под началом Марко Боцариса в войне против турок.
Байрон был готов выразить симпатию сулиотам, которых он считал самыми храбрыми и верными племенами, потому что судил о них по характеру двух албанцев, которых взял к себе на службу во время первой поездки на Восток. Вид их суровых, закаленных лиц и необычных костюмов вернул его в счастливые дни, когда он беззаботно путешествовал по Эпиру в 1809 году. Байрон был бы горд повести в бой этих отважных воинов. Он поверил их льстивым речам и нанял целую толпу сулиотов в качестве охраны и слуг.
Однако Трелони не был столь оптимистичен: «На следующее утро после нашего прибытия толпа свирепых сулиотов появилась на палубе, привлеченная деньгами Байрона. Слуга Лега, истинный скряга, охранял ящик с деньгами, как пес. Наш коренастый шкипер предложил вышвырнуть сулиотов за борт. Байрон с радостным лицом появился на палубе, довольный дикарскими повадками сулиотов и их дикими одеяниями, и пообещал им больше, чем следовало бы. Днем и ночью они ходили за ним по пятам, как стая шакалов, пока он не попал в ловушку, как загнанный лев…»
Среди англичан, с которыми Байрон завязал дружбу, был доктор Генри Мьюр, санитарный врач в Аргостоли. Мьюр познакомил его с серьезным врачом Джеймсом Кеннеди, который долгие часы пытался обратить в христианство почитателя Вольтера и мнимого главу «сатанинской школы» поэзии. Кеннеди пригласил в свой дом других англичан и намеревался продемонстрировать перед ними истинность христианской веры.
Байрон почти со священным трепетом преклонялся перед истинно верующим человеком. Хотя он был достаточно упрям, чтобы отвергнуть религиозное ханжество и слабые убеждения ученых богословов, он не был прожженным скептиком. Он слишком глубоко верил в тайный смысл жизни и Вселенной, чтобы спокойно существовать с полным отрицанием в душе. Он пытался разрешить богословские и философские проблемы в «Каине», «Небе и земле» и «Дон Жуане» с любопытством исследователя скрытых тайн и пришел к выводу, что с трепетом разрешать тайны Вселенной намного увлекательнее, чем просто опровергать их. Хотя Байрон не хотел отказаться от размышлений на запретные темы и продолжал язвительно смеяться над лицемерием, его слегка задевал тот факт, что соотечественники считают его безбожником. Позднее он говорил Кеннеди, что ему не нравится название «безбожник»: «Это холодное и жестокое слово».
Байрон целый час терпеливо выслушивал доказательства Кеннеди, а потом стал прерывать его замечаниями и вопросами. Поэт продемонстрировал знание Библии, что удивило Кеннеди и его гостей. «Его светлость спросил меня, – вспоминал Кеннеди, – не думаю ли я, что в мире до принятия христианства было меньше войн и казней, убийств, несчастий и зла». Взятое Кеннеди из Писания упоминание о сходстве гончара и глины заставило Байрона сказать, что «он бы обязательно заметил гончару, если бы был разбитым горшком: «Почему ты так обращаешься со мной?»
В ожидании писем с материка Байрон решил посетить Итаку, соседний остров, который он связывал с Одиссеем Гомера. Со времени своего прибытия он не получал вестей из Англии и Италии. Накануне отъезда Байрон написал Барри: «О греках не буду говорить ничего, пока не появится возможность сказать лучше, и добавлю, что я по-прежнему полон надежд…»
Компания, состоящая из Байрона, Трелони, графа Гамбы, доктора Бруно, Брауна и нескольких слуг, поднялась на рассвете 11 августа и под палящими лучами солнца совершила девятичасовой переезд на мулах. Это было утомительное путешествие, но Байрон был рад, потому что трудности напомнили ему о юношеских скитаниях по Греции. Они вышли из Санта-Евфимии в узкий пролив, разделяющий острова, в открытой четырехвесельной лодке и к вечеру причалили на скалистом берегу маленькой Итаки, чьи две гористые части соединены перешейком. На острове им никто не встретился, и Байрон весело предложил провести ночь в пещерах на берегу, однако Гамба нашел дом купца из Триеста, который гостеприимно предложил им ночлег. На следующий день их встретил капитан Нокс, английский губернатор Вати, столицы острова.
Байрон был в прекрасном настроении. После обеда в доме губернатора он завязал разговор с незнакомым англичанином Томасом Смитом и без всякого смущения обсуждал свои произведения, леди Байрон и Аду. Насчет греков, говорил он, его мнение осталось неизменным. «Я знаю их так же хорошо, как другие, но не стоит быть слишком суровыми к людям, которые с нашей помощью сделают благое дело, потому что, видит Бог, мы делаем так мало добра в этом мире».
На следующий день путешественники направились к так называемому источнику Аретузы, гроту и ручью в нескольких милях к югу от Вати, а еще через день в «Школу Гомера» в северной части острова. На четвертый день они отправились в обратный путь на Кефалонию. Перед отъездом Байрон, пораженный бедственным положением многих беженцев, которых война вырвала из родных мест, стал членом фонда помощи этим людям. Позднее он переправил на Кефалонию семью мореотов, прежде богатых людей из города Патры, а теперь испытывающих сильную нужду, и обеспечил их жильем и всем необходимым. Это была семья Халандрицанос.
В ожидании лодки Байрон демонстрировал перед собравшимися свое умение плавать. Путешествие в лодке под палящим солнцем и знатный ужин в Санта-Евфимии после приезда пагубно повлияли на слабое здоровье Байрона. Когда с наступлением темноты они приехали в монастырь на вершине горы недалеко от Самоса, где должны были провести ночь, с Байроном случился припадок, и он почти лишился рассудка. Когда аббат произносил приветственную речь, Байрон схватил лампу и крикнул: «Моя голова горит! Неужели никто не избавит меня от этого безумца?» – и бросился вон. Доктор Бруно и Трелони пытались успокоить его. Он отказался от лекарств, угрожал всякому подходившему к нему и рвал постельное белье и одежду, как безумный. Наконец Гамильтон Браун убедил его принять «успокоительные пилюли» доктора Бруно. После этого с «каким-то младенческим глупым лепетом» он лег и уснул.
Поздно утром Байрон проснулся вполне спокойным и при расставании был отменно вежлив с аббатом. Во время путешествия через горы к Аргостоли Смит заметил, что «Байрон был в превосходном настроении, громко напевал мелодии Мура и обрывки известных песен…».
Из Англии и Италии по-прежнему не было вестей. Будущее Байрона оставалось неясным, и он с легкостью вернулся к прежним привычкам: ездил верхом, плавал и обедал с полковником Нейпиром и другими жителями Аргостоли. Пьетро написал сестре письмо, чтобы успокоить ее и рассказать о приятном путешествии на Итаку. Байрон добавил свою обычную приписку на английском. Он уже позабыл о своей жизни в Италии, и ему было нелегко и странно вспоминать о своей возлюбленной.
От веселой жизни на острове Байрона временно отвлекло 22 августа письмо от Марко Боцариса, вождя сулиотов, который со своим маленьким отрядом помогал сдерживать наступление турок в горных долинах близ Миссолонги. «Пусть ничто не помешает вам приехать в эту область Греции, – писал он. Бесчисленные враги угрожают нам, но с Божьей помощью и помощью вашей светлости мы окажем им достойное сопротивление». Но пришедшее через несколько дней сообщение о смерти Боцариса, одного из самых честных греческих патриотов, положило конец намерениям Байрона немедленно направиться на материк.
Вскоре к поэту полетели прошения от всевозможных греческих партий, преследующие своекорыстные цели, и от отдельных людей, надеявшихся заполучить часть денег Байрона. Только здоровый цинизм в отношении человеческого характера в целом и греческого национального характера в частности, а также конечная цель – освобождение страны – удерживали Байрона от ненависти и презрения ко всей затее. В беседе со своими помощниками он отпускал сатирические замечания в адрес греков, но когда бывал трезв, то, как и полковник Нейпир, с большой терпимостью относился к людям, долго выносившим гнет рабства. Граф Гамба сказал, что «во время своих путешествий в юности он приобрел большее уважение к туркам, нежели к их рабам». Байрон понимал, что греческий характер сложился под влиянием привычки к обману, чему способствовало рабство. Приучившись во всем потакать своим хозяевам, люди не могли расстаться с этой чертой и в повседневной жизни.
Джордж Финлей, который встречал Байрона на Кефалонии и был с ним в Миссолонги, заметил, что «ни с кем греки не вели себя так откровенно дерзко и эгоистично. Почти каждый известный государственный деятель и генерал посылал ему письма с просьбами услуг, протекции или денег… Лорд Байрон делал много мудрых и критических замечаний относительно этих посланий… Он так хорошо знал себя, что некоторое время оставался на Кефалонии, не осмеливаясь показаться среди лживого и расчетливого сброда и опасаясь, что недостойные люди обретут над ним излишнюю власть».
Байрон откровенно высказывал свои впечатления о греках: «Тот, кто сейчас едет в Грецию, должен вести себя так, как миссис Фрай в Ньюгейте: не ожидая встретить признаки честности, но в надежде, что время и лучшая жизнь исправят прежние воровские и низкие привычки… Хуже всего, что они лгуны: не было еще таких лукавых людей с тех пор, как Адам и Ева были изгнаны из рая».
Разочарование Байрона в греках было, несомненно, подкреплено растущим недовольством и попытками к мятежу сулиотов, которых он взял под свое покровительство. Чтобы избавиться от них, он предложил им месячный заработок и переезд в Акарнанию на материке. Опасаясь, что вновь поддастся их льстивым уговорам, Байрон предоставил решение этого вопроса графу Гамбе. Он решил, что не может действовать без дальнейшей информации и помощи. Байрон хотел бы остаться на «Геркулесе», но капитан Скотт хотел вернуться в Англию, поэтому обстоятельства вынудили Байрона переехать в дом на берегу.
Трелони и Браун, не разделяя стремления Байрона к осторожности и благоразумию в качестве члена греческого комитета и человека, чьи деньги и влияние должны быть пущены на самое благое дело, испытывали нетерпение и решили отправиться в Морею, где находилось правительство. Браун считал, что Байрон остается на Кефалонии в основном из-за «нерешительности» или «нежелания переезжать». Однако на самом деле все было не так просто[32].
6 сентября Браун и Трелони отправились в Пиргос, сердечно расставшись с Байроном. Байрон больше никогда не увидел Трелони. Несомненно, он любил старого «пирата», хотя чрезмерная напыщенность Трелони нередко становилась предметом шуток Байрона. Говорят, однажды он сказал, что если Трелони научится говорить правду и мыть руки, то из него еще можно сделать джентльмена.
Байрон, Пьетро Гамба и доктор Бруно удобно устроились на маленькой вилле, самой крошечной из тех, в которых жил Байрон после того, как оставил дом своей матери в Саутвелле. На этой вилле в Метаксате был балкон, с которого в ясное утро Байрон видел очертания Морен и четкий зеленый силуэт острова Зант на юге. Вилла стояла среди виноградников и оливковых рощ в прелестной деревеньке примерно в полумиле от побережья и голубых волн Ионического моря и примерно в четырех милях от Аргостоли. За деревней возвышались замок Сан-Гиоргио и голые камни Черной Горы[33].
Поселившись в Метаксате, Байрон подолгу думал о своем положении, и чем дальше, тем меньше ему хотелось активно включаться в борьбу. В его душе появилась ностальгия по Италии. Когда наконец он получил письмо от Терезы, к нему вновь вернулось прежнее чувство шутливой нежности. Чтобы поддержать Терезу, он писал: «Я исполню задание комитета и потом, возможно, вернусь в Италию, потому что вряд ли один смогу принести здесь пользу… Будь уверена, ничто не радует меня тут, кроме желания вновь увидеть тебя… Целую твои глаза… Твой самый верный друг и возлюбленный».
Понимая, что сам он не сможет разобраться в хитросплетениях греческой политики, Байрон обратился за советом к полковнику Нейпиру, этому закаленному солдату и губернатору. Байрон верил ему из-за непреклонной уверенности того в конечной победе греков. Нейпир считал, что единственным решением будет собрать отряд обученных солдат, англичан и немцев, и найти несколько разумных лидеров, таких, как Трикупи и Маврокордатос, которые будут платить только солдатам, а не вождям племен.
Но как бы ни был проницателен Нейпир, Байрон чувствовал, что в своих надеждах на греков и на автора «Чайльд Гарольда» Нейпир был слишком оптимистичен и наивен. Байрон хорошо знал свои слабости, а слабости греков даже лучше. Финлей метко заметил: «Гений лорда Байрона никогда не смог бы развернуться на политическом или военном поприще… Он считал политику искусством обмана людей, сокрытием части правды и неверным представлением другой части. Какой бы восторг он ни испытывал при мысли о военной славе, он не мог не чувствовать отвращения перед войной. Его характер и поведение были полны сложных противоречий. Казалось, в его теле поочередно гостили две разные души. Одна была женской, полной сострадания, а другая – мужской, способной трезво оценивать ситуацию и анализировать только те факты, которые нужны для принятия решения».
Начатый в сентябре дневник Байрон резко прервал 30 сентября, когда получил письмо от Августы с сообщением о болезни его дочери Ады. В ответном письме Байрон в основном интересовался здоровьем дочери. Укоризненные намеки, которыми были полны его прежние письма к Августе, теперь исчезли. Огонь страсти догорел, осталась лишь братская нежность.
Пьетро сообщил Терезе, что Байрон вернулся к отшельнической жизни и был ею доволен. Однако это не совсем так. Большинство английских управляющих и офицеров гарнизона часто наведывались в дом Байрона, а иногда и он ездил верхом в Аргостоли. Набожный доктор Кеннеди был одним из частых гостей. Он обнаружил, что Байрон с радостью поддерживает разговоры о религии из интереса к этому предмету и, несомненно, из желания оспорить доводы Кеннеди.
Байрон никогда не был груб или откровенно насмешлив, но Кеннеди чувствовал себя неуютно, понимая, что остряки из гарнизона потешаются над его попытками обратить Байрона в истинную веру, а тот, по всей видимости, не принимает доктора всерьез, хотя и не хочет уязвить его. Байрон высказал только часть того, что он думает по данному предмету, в шутливом разговоре с доктором Мьюром: «Дело в том, Мьюр, что Кеннеди с нами пришлось нелегко, и жаль, если он напрасно потеряет время». После этого он сжал руки в насмешливо-набожном жесте и, подняв глаза ввысь, воскликнул: «Я начну семнадцатую песнь «Чайльд Гарольда» новым человеком!»
Всю осень продолжали прибывать противоречивые сообщения с материка, а Байрон налаживал связь со сторонниками. Одним из них был молодой Джордж Финлей, приехавший в Грецию, чтобы участвовать в освободительной борьбе. Байрон заметил, что его новый знакомый «был слишком увлечен, потому что совсем недавно приехал из Германии», но это не уменьшило симпатии Байрона.
Граф Делладесима, главный советник Байрона на Кефалонии, передал ему сообщение от друга Маврокордатоса в Триполице, Жана Баптиста Теотоки. Это сообщение было не столь жизнерадостным, как отчеты Трелони и Брауна. Больше всего от решительных действий Байрона удерживало длинное письмо от Фрэнка Гастингса, британского военного офицера, который поступил на службу к грекам в прошлом году и имел массу возможностей наблюдать за достоинствами и недостатками греческих правителей, особенно капитанов-купцов, командующих кораблями греческого флота. Он надеялся, что Байрон сможет убедить Лондонский греческий комитет прислать военный корабль, который поможет грекам стать хозяевами морей и удержит турок от нападения на крепости. Гастингс писал, что капитаны и матросы «лучше погибнут из-за своей собственной глупости, чем последуют совету европейцев». Он предупреждал Байрона о сложности формирования регулярных войск из числа греков, которые не желают пользоваться артиллерией вообще и ничем иным, кроме своих мушкетов, и лучше всего сражаются под предводительством вождей.
Между тем Трелони стал доверенным лицом и закадычным другом греческого вождя в Аттике, называвшего себя Улиссом и обладавшего хитрым и изворотливым характером, как и его тезка. Трелони пренебрежительно писал о Байроне Мэри Шелли, изображая себя человеком действия, а поэта – человеком, который боится рисковать своей жизнью и деньгами ради победы. Трелони также сообщал о некоторых подробностях своих героических подвигов. «Я решил сопровождать Улисса в Негропонт (Эвбея. – Л.М.), чтобы провести там зиму: прекрасный отдых в промежутках между драками с турками и охотой на вальдшнепов. Я буду чем-то вроде личного адъютанта. Генерал предоставляет мне сколько угодно людей, и я всегда буду поблизости от него. Мое снаряжение готово: две лошади, два слуги-сулиота, я облачен и вооружен, в точности как Улисс, в алую и золотую накидку и овечий плащ, у меня ружье, пистолеты, сабля, красный колпак и несколько долларов или дублонов…» Итак, Трелони нашел то, к чему стремился: настоящее приключение, алый и золотой плащ, двух слуг, общество генерала и охоту на вальдшнепов!
То, что Байрон не вел праздную жизнь, а готовил помощь грекам, когда наступит подходящий момент, очевидно из его писем Киннэрду, Хобхаусу и Барри. Он писал Барри: «Я предложил выделить тысячу долларов в месяц для помощи Миссолонги и сулиотам под предводительством Боцариса (он к тому времени уже был убит), но правительство ответило, что желает со мной посовещаться, то есть я должен потратить деньги на другое дело».
В начале ноября Юлий Миллинген, молодой английский доктор, в сопровождении трех немцев приехал в Грецию с рекомендательными письмами от Лондонского комитета. Миллинген заметил, что перед незнакомцами Байрон пытался представить свое путешествие в Грецию как благоразумный поступок, но тем, кого он хорошо знал, он сообщал «о своей склонности к риску и авантюрным предприятиям». Байрону понравился Миллинген, и он предложил нанять его в качестве врача в войско сулиотов, которое он собирался создать на материке.
Доктору Миллингену была не по душе аскетическая диета Байрона, но поэт утверждал, что она стимулирует его умственные возможности, хотя доктор считал, что она продиктована страхом поправиться. Байрон не только избегал питательной пищи, но «почти ежедневно принимал сильнодействующие лекарства, основными составляющими которых были экстракт колоцинта, гуммигут, вьюнок и тому подобное; если он замечал, что объем его запястий или талии чуть увеличивался, он немедленно принимал огромную дозу горькой соли…»
Наконец в первой неделе ноября Байрон решился отправиться на Пелопоннес, где заседало правительство, хотя и не был уверен в правильности будущих действий. Но в тот момент в Аргостоли прибыли Браун и два греческих посла, отправлявшиеся в Англию за займом в 800 000 фунтов, поэтому Байрон еще немного задержался на вилле. Послы, Жан Орландо и Андре Луриоттис, были уполномочены просить у Байрона 300 000 пиастров (6000 фунтов) на развитие греческого флота. Байрон согласился дать 4000 фунтов.
Чарльз Хэнкок, английский торговец на Кефалонии и партнер Сэмуэля Барффа с Занта, пожелал обменять наличные деньги Байрона. С этих пор Барфф и Хэнкок, с которым Байрон успел подружиться, вели все его дела в Греции. Хэнкок, как и многие англичане, встречавшиеся Байрону на островах, был немедленно очарован «любезностью его манер, остроумием и живостью его бесед, глубиной и блеском его ума». Байрон был счастлив, что наконец-то помогает благому делу. Он подписал согласие на заем, поскольку «они отклонили его как дар», говорил он Киннэрду. Бауэрингу он писал: «По правде говоря, теперь, когда они вновь начали сражаться, я уже не отношусь к ним так строго…»
Джордж Финлей и некоторые немецкие офицеры отправились на Пелопоннес, а Браун и послы – в Англию. Вскоре после этого полковник Лестер Стэнхоуп прибыл на Кефалонию в качестве агента Лондонского греческого комитета. Стэнхоуп (позднее пятый граф Харрингтон) служил в Индии, но, в отличие от опытного солдата и администратора полковника Нейпира, был схоластом-утилитаристом, который верил, что жизнь греков наладится, стоит только установить в стране республиканские институты власти и дать им печатный станок. Стэнхоуп сразу разошелся с Байроном во взглядах, заговорив при первой встрече о Бентаме, потому что Байрон находил философов-радикалов самыми худшими из ученых, считавшими, что познали все человечество. Когда Байрон спросил у Стэнхоупа, не привез ли он новых книг, тот упомянул «Источники действия» Бентама. Нейпир вспоминал, что Байрон «только глянул на книгу и сказал: «Источники действия! Черт бы побрал его источники! Я знаю о них побольше его», после чего в ярости швырнул книгу на пол». По словам Хобхауса, Байрон также сказал: «Что этот старый дурак знает об источниках действия!»
Хотя Байрона постоянно раздражали теоретические разглагольствования «полковника-книгопечатника», как он называл Стэнхоупа, очевидно, он был рад разделить с кем-нибудь обязанности руководителя комитета. Байрон чувствовал облегчение оттого, что кто-то прежде него поедет в осиное гнездо на материке. Он дал Стэнхоупу письмо к «Генеральному правительству Греции»: «…должен честно признать, что, пока не воцарятся единство и порядок, все надежды получить заем будут тщетны и помощь из-за границы, необходимая грекам, не будет предоставлена вовремя. Что еще хуже, правящие круги Европы будут убеждены, что греки неспособны к самостоятельности, и, возможно, сами предпримут попытку уладить противоречия в вашей стране таким способом, который развеет в дым все ваши надежды и надежды ваших друзей. Позвольте мне напомнить, что я мечтаю о процветании Греции и ни о чем больше. Я сделаю для этого все возможное, но не могу согласиться и никогда не соглашусь, чтобы англичане в Греции или у себя на родине получали недостоверную информацию о происходящем в этой стране».
Вести о том, что флот был на пути в Миссолонги и уже достиг Каламаты на юго-восточном побережье Морей, были подтверждены в начале декабря. Через несколько дней стало известно, что на борту одного из кораблей находился Маврокордатос. Чувствуя ответственность за доставку денег, обещанных им флоту, и не видя возможности быть чем-нибудь полезным в Восточной Греции, пока политические партии ведут междоусобную войну, Байрон отправил временному правительству письмо с сообщением о том, что он изменил свои планы и собирается помочь жителям Миссолонги. Стэнхоуп уехал с письмами к правительству и Маврокордатосу.
Терзаемый сомнениями в правильности выбранного пути, Байрон должен был расстаться с одним из самых верных советников. Полковник Нейпир собирался в Англию, надеясь договориться с Лондонским комитетом насчет поддержки в формировании регулярной греческой армии. Вскоре после его отъезда в заливе появился греческий флот, и состоялась неравная битва с четырьмя турецкими кораблями (у греков было четырнадцать), причем один был выброшен на берег Итаки. Байрон еще не знал, что, презрев закон о нейтралитете Ионических островов, приютивших множество греческих беженцев, жадные моряки преследовали и убили всю команду турецкого корабля из-за сокровищ на борту. В ореоле этой бесстыдной победы 11 декабря в Миссолонги прибыл Маврокордатос, этот «Вашингтон Греции», как его называл Байрон.
Вскоре туда приехал Стэнхоуп и прислал Байрону пламенный отчет о событиях вместе с письмом Маврокордатоса, где говорилось следующее: «По прибытии в Миссолонги я настолько убедился в правдивости слухов, что могу с уверенностью сказать: вы будете приняты здесь как спаситель. Будьте уверены, милорд, что судьба Греции зависит от вас… Я приказал одному из лучших кораблей своей эскадрильи взять курс на Кефалонию…» Однако Байрон не был склонен верить льстивым речам Маврокордатоса, и его скептическое отношение еще более окрепло после длинного письма от Фрэнка Гастингса, повествовавшего о событиях на материке. Однако Байрон понимал, что пришло время действовать, но до отъезда нужно было еще много сделать.
Теперь Байрон был в Метаксате один, если не считать графа Гамбы и доктора Бруно, которого он называл «превосходным малым». Не изменяя своим привычкам, Байрон стал задумываться над жизнью. Забросив поэзию после приезда в Грецию, он вновь обратился к дневнику, поверяя ему свои мысли. Сулиоты жаждали встать под его знамя. Это была заманчивая мечта: стать вождем в борьбе за свободу. В письме Киннэрду от 23 декабря Байрон еще не отказался от нее: «На три сотни фунтов, а это больше, чем самая полная оплата временного правительства, я могу три месяца содержать в Греции сотню вооруженных человек, включая паек». Байрон вновь просил Киннэрда дать ему неограниченный кредит, потому что «лучше делать ставку на целые народы, чем играть в Альмаке или Ньюмаркете…». Возможно, он еще не забыл, что грек Скилици «лестью», по словам Брауна, уговорил Байрона взять его с собой из Генуи на «Геркулесе» и часто упоминал, что «его соотечественники могут выбрать лорда Байрона своим королем».
Греческое судно Маврокордатоса было вынуждено вернуться без Байрона, потому что английские власти, опасаясь нарушения нейтралитета, не позволили ему причалить к острову. Байрон сам начал готовиться к отъезду. На следующий день после Рождества он покинул Метаксату и остановился с Чарльзом Хэнкоком в Аргостоли в ожидании попутного ветра. Он нанял два судна – легкое, быстроходное, называемое здесь «мистико» и большое судно для багажа, лошадей, провизии и других грузов, основная часть которых была доставлена из Лондонского комитета, включая печатный станок, отправленный по просьбе полковника Стэнхоупа.
В канун отплытия Байрон писал Бауэрингу: «Вещи, предоставленные комитетом, полезные и превосходные, но не очень нужные при настоящем положении вещей. К примеру, математические инструменты выбрасываются, потому что греки не могут отличить задачник от кочерги: сначала надо победить, а потом строить. В пользе труб тоже можно сомневаться, если только Константинополь не Иерихон…»
Но в приписке Байрон заверил секретаря в своей преданности делу и желании сотрудничать с полковником Стэнхоупом, несмотря на его педантизм: «Он приехал сюда, подобно тем, кто не был прежде в этой стране, с восторженными взглядами ученика Хэрроу или Итона, но полковник Нейпир и я научили его уму-разуму, что совершенно необходимо, чтобы препятствовать отвращению и даже возвращению домой…»
Байрон написал последнее письмо Киннэрду: «…Я должен сделать все возможное, отдать последнюю рубашку и, если надо, пожертвовать жизнью… Черт возьми! Если бы у нас не было на руках всего ста тысяч фунтов стерлингов, мы были бы сейчас на полпути к городу Константина». Письмо к Хобхаусу Байрон заключил на шутливой ноте, чему способствовала мысль о двойственности новой жизни: «В письме Маврокордатоса говорится, что мое присутствие «потрясет войска», поэтому я отправляюсь туда, чтобы «потрясти» сулиотов, подобно Джорджу Примрозу, который отправился в Голландию, чтобы «учить голландцев английскому языку, который они любят до безумия».
29 декабря Байрон был готов к отъезду. Когда доктор Кеннеди пришел попрощаться с ним, то застал Байрона за чтением «Квентина Дорварда». Байрон пообещал Кеннеди взять несколько религиозных брошюр, чтобы раздавать их в Миссолонги. Хэнкок и Мьюр сопровождали Байрона в маленькой лодке, пока он не добрался до мистико. Он был в отличном настроении и сказал что-то о «поэтическом вдохновении, которое ему всегда дает море».
Кроме доктора Бруно, Флетчера и ньюфаундленда по кличке Лев, Байрон взял с собой мореота Лукаса Халандрицаноса. С августа Байрон помогал матери и сестрам мальчика, после того как привез их с Итаки. Лукас, красивый пятнадцатилетний юноша, который сражался в отряде Колокотрониса, услышав о процветании своей семьи, приехал на Кефалонию, где стал любимцем Байрона. Лошади, большая часть багажа, запасы комитета и бульдог Моретто были на судне с Гамбой, Легой Замбелли и другими слугами. На острове Зант Байрон взял на борт еще 8000 левантов[34] (1600 фунтов), полученных им от партнера Хэнкока, Сэмуэля Барффа. Суда получили разрешение двигаться к Каламо, крошечному Ионическому острову недалеко от материка.
Около шести часов суда взяли курс на Миссолонги: путь должен был занять ночь при хорошем ветре. Гамба писал: «Мы плыли до десяти часов вечера, ветер был благоприятный, ясное небо, свежий, но не холодный воздух. Наши матросы по очереди пели патриотические песни… Мы все были, а лорд Байрон особенно, в отличном настроении. Мистико шел быстрее всего. Когда нас разделили волны и наших голосов не стало слышно, мы сигналили друг другу выстрелами из пистолетов и карабинов. Завтра мы встретимся в Миссо лонги. Полные уверенности и радости, мы плыли вперед. В полночь мы потеряли друг друга из виду».
Радость охватила Миссолонги, когда с Занта принесли весть о том, что 30 декабря Байрон отплыл на материк. Стэнхоуп написал Бауэрингу: «Все ожидают приезда лорда Байрона, словно пришествия Мессии». Жители знали, что «мессия» везет с собой много денег. Солдаты, особенно сулиоты, получавшие жалованье с опозданием в несколько месяцев, и матросы угрожали мятежом. Даже обещание Байрона не могло удержать их днем 30 декабря, когда из залива вышло несколько турецких судов. Греческие корабли, стоявшие на якоре в Миссолонги, немедленно снялись с якоря и обратились в бегство, отдав туркам порт.
Мечтая на палубе и не зная, что турки в море, Байрон оказался в гуще событий, даже не подозревая об этом, когда в два часа утра 31 декабря перед мистико неожиданно возник большой корабль. Сначала Байрон принял его за греческое судно, но капитан мистико узнал турецкий корабль. Охваченная ужасом команда замерла на борту, и даже собаки, по воспоминаниям Флетчера, «хотя беспрерывно лаяли всю ночь, ни разу не тявкнули, пока турецкий фрегат был поблизости». Капитан резко повернул руль и изменил курс. К трем часам ветер посвежел, и быстроходный мистико оставил далеко позади в тумане турецкий корабль и до самого рассвета держался у берега. На рассвете путешественники увидели два больших корабля: один из них вдалеке явно преследовал грузовое судно, а другой находился между мистико и портом Миссолонги. Мистико зашел в пролив между скалами Скрофес, и Байрон отправил Лукаса и еще одного матроса с посланием к Стэнхоупу. Он писал: «Мне здесь не по себе: я не столько боюсь за себя, сколько за греческого мальчика, ведь вы знаете, какова будет его судьба, и я скорее убью себя и его, чем позволю этим варварам взять его».
Когда турецкий корабль приблизился, мистико стремительно вышел из пролива и поплыл по мелководью вдоль побережья к северу, найдя безопасную гавань в Драгоместри (современный Астакос. – Л.М.) до наступления темноты. Примасы и офицеры взошли на борт и предложили Байрону гостеприимный кров, но он предпочел остаться на борту, где было много денег и других ценностей.
Маврокордатос желал спасти Байрона и его ценный груз. Он отправил три корабля обыскать побережье. Очевидно, канонерские лодки обнаружили Байрона в Драгоместри 2 января, но из-за ветра и неподходящей погоды они отправились в Миссолонги только 3-го. В проливе Скрофес лодку дважды выбрасывало на скалы. С Байроном были Тита, Флетчер, доктор Бруно и Лукас, вернувшийся из Миссолонги на одном из кораблей. Турки повернули в Патры, но по-прежнему дул встречный ветер, и мистико до утра простоял на якоре возле одного из островов.
Тем временем Пьетро Гамба испытал приключение. Судно преследовали, и оно было захвачено турецким кораблем, а капитана подняли на борт для допроса. Гамба подумал о своем подозрительном грузе: слуги, лошади, ружья, деньги, печатный станок, пушки и шлемы с гербом Байрона. Но опасней всего были его собственный дневник и переписка Байрона с греческими вождями. Турецкая лодка направилась к Гамбе, но прежде, чем он осознал, что она движется совсем в другом направлении, он бросил за борт связку писем Байрона, утяжеленных пятьюдесятью фунтами дроби. К счастью, когда капитан турецкого корабля приказал обезглавить капитана лодки и потопить его судно, он узнал в нем человека, спасшего его, когда он потерпел кораблекрушение в Черном море. Турок обнял капитана и повел в свою каюту. Когда корабль пришел в Патры, турецкий капитан позвал Гамбу на борт и с охотой принял от него в качестве подарков телескоп и бутылки рома и портвейна. Он представил его Юссуф-паше, командиру крепости. После долгого восточного обмена любезностями лодка была освобождена и 4 января продолжила путь в Миссолонги. Гамба был удивлен, узнав, что Байрон еще не появился.
Той ночью мистико также причалил в порту. На следующее утро Байрон надел красную военную форму и в одиннадцать часов встретился с ликующими жителями города. Каждый корабль греческой эскадры, вернувшийся в гавань после ухода турок, приветствовал его салютом. Растроганный Гамба встретил Байрона на пристани: «Я не мог сдержать слез…»
Маврокордатос, полковник Стэнхоуп и шеренга иностранных и греческих офицеров встретили Байрона у дверей приготовленного для него дома. Это была его первая встреча с князем Александром Маврокордатосом, приземистым, незаметным человечком, чьи темные добродушные глаза, поблескивающие сквозь маленькие круглые стекла очков, делали его больше похожим на ученого, нежели на военного, каковым он себя считал. Доктор Миллинген описал его как «умного, честолюбивого, проницательного человека. Его большие южные глаза, полные задора и огня, выдавали в нем доброго человека».
Байрон заранее проникся симпатией и доверием к князю, потому что тот был воспитан и образован, но большей частью потому, что люди, подобные полковнику Нейпиру и графу Делладесиме, уверяли его, что Маврокордатос единственный человек, обладающий влиянием, на которого можно рассчитывать как на бескорыстного патриота. Князь получил образование в Константинополе и происходил из древнего рода греков-фанариотов, которые были господарями (греческими правителями под властью турок) в Валахии и Молдавии, посты, обеспечившие им титул князя. Годы юности он посвятил изучению восточных языков и, по словам Миллингена, был «прекрасным греческим ученым, говорил и писал по-французски как уроженец Франции и сносно владел английским и итальянским».
Как бы то ни было, Байрон положился на помощь Маврокордатоса и властей Западной Греции. Хотя он по-прежнему не желал примыкать ни к одной из политических партий, он вскоре убедился, что здесь обстоятельства располагали к более активным действиям, чем в любом другом уголке Греции.
Четыре или пять тысяч солдат из разных провинций последовали за своими «капитанами» в Миссолонги, где по приезде Маврокордатоса собирались на встречи и были готовы к военным действиям. Маврокордатос надеялся на захват оставшихся турецких крепостей на северном и южном побережье Коринфского залива. Захват Лепанто (обычное греческое название – Наупактос. – Л.М.), единственной турецкой крепости на северном берегу, по мнению князя, приведет к легкой победе над Патрами и замком Морея с помощью пяти судов и двух военных кораблей из Миссолонги.
Сначала Байрон с жаром занялся этими приготовлениями, особенно когда Маврокордатос, увидев его энтузиазм и желание создать армию из числа сулиотов, предложил ему повести войска к Лепанто. 13-го Байрон сказал Хэнкоку, что собирается на целый год нанять сулиотов. После смерти Марко Боцариса в августе его оставшаяся армия присоединилась к грекам в Миссолонги, помогая оборонять город. Байрон согласился обеспечивать армию из пятисот человек, а правительство – еще сто человек под командованием Байрона. Дух патриотизма, охвативший весь город, коснулся и Байрона. Его мечта о боевой славе наконец-то стала реальностью. Миллинген писал: «Его дом был полон солдат, гостиная напоминала военный арсенал, а не жилище поэта. Стены были увешаны мечами, пистолетами, турецкими саблями, ружьями, кортиками, винтовками, байонетами, шлемами, короткоствольными ружьями и трубами… Атаки, внезапные нападения, осады, засады, битвы были единственными темами бесед Байрона с различными «капитанами».
Жалкий заболоченный городишко и убогий дом не смутили Байрона. Присутствие солдат в грязных мундирах с серебряной мишурой амуниции напоминало ему о счастливейших годах юности, проведенных в Греции. Он прежде был в Миссолонги почти в то же время года, когда вместе с Хобхаусом путешествовал по Греции в 1809 году. Он узнавал крохотные домишки, сгрудившиеся на плоском мысе с нездоровым воздухом, который тянулся из болот материка в мелкую лагуну.
В трех милях от берега лагуна отделена от сверкающих вод залива узкой полосой песка и грязи, протянувшейся от скал Скрофес почти до подножия отвесной и затянутой облаками горы Варассова (древняя Халкида. – Л.М.), которая на 3000 футов поднимается над водой напротив Патр. У конца мыса, над илистой лагуной, стоял дом, в котором жил Байрон, один из самых больших частных домов в городе, с двумя высокими этажами над сырым полуподвалом. Дом, принадлежавший Апостоли Капсали, одному из чиновников Миссолонги, был окружен пристройками вокруг внутреннего дворика, а за ним была открытая площадка, где Байрон обучал свою стражу из числа сулиотов, живших на первом этаже дома и в пристройках вместе с лошадьми.
Во время прилива или дождей земля вокруг дома превращалась в трясину, и к нему можно было добраться только на лодке. Единственным утешением был южный вид на воды залива за лагуной. К счастью, Байрон мог видеть залив из окна второго этажа. В ясный день он видел горы Морен и иногда смутные очертания Ионических островов.
Полковник Стэнхоуп поселился на первом этаже, где Капсали также сдавал комнаты. В распоряжение Байрона был предоставлен весь второй этаж, включающий спальню и гостиную с видом на лагуну, и две или три комнаты для слуг. Мебели было очень мало. По турецкому обычаю Байрон сидел на подушке, положенной на нечто вроде матраца. Гамба занимал дом в другой части города.
Здесь не было холодных зимних дождей, и Байрон легко приспособился к суровой жизни, которую, не жалуясь, принимал, когда молодым человеком впервые путешествовал по Греции. Все необходимые удобства были предоставлены внимательным слугой Флетчером, который все еще ворчал из-за нехватки привычного английского комфорта, но был неизменно верен и готов услужить хозяину, и Титой, всегда помогавшим в нужную минуту. Черный слуга, взятый у Трелони, оказался прекрасным поваром и кучером, а красивый греческий юноша Лукас в одежде пажа был постоянно рядом с Байроном.
Но Байрону недоставало времени думать об удобствах. Прежде всего надо было заниматься формированием артиллерийского полка, который можно было послать на захват Лепанто. Для этого бы подошли иностранные офицеры: немцы, англичане, швейцарцы, шведы. Но самые большие надежды возлагались на Уильяма Пэрри, которого в любую минуту ожидали на корабле «Анна» с людьми и материалами для производства пороховых ракет Конгрива и других современных орудий. В дополнение к прочим расходам Байрон охотно пожертвовал 100 фунтов на поддержку артиллерийских войск и, чтобы доставить удовольствие Стэнхоупу, хотя не был уверен в пользе этой затеи, пятьдесят фунтов на печатный станок, переданный Стэнхоупом доктору Дж. Дж. Майеру, такому же бюрократичному швейцарцу, как сам Стэнхоуп.
Первый номер «Эллинской хроники» («ELLHNIKA CRONIKA») вышел в свет 14 января (2 января по греческому календарю. – Л.М.). В газете был девиз Бентама: «Наибольшее благо – наибольшему числу людей». Возможно, Байрон переоценил вред, который может причинить газета и без того несплоченным рядам греков, потому что во всей стране на нее подписалось не более сорока человек. В основном газета распространялась на Ионических островах и в Англии, и заметки ее большей частью были адресованы английским читателям.
В середине января Байрон был сильнее раздражен неумением и расточительностью графа Гамбы, чем странностями полковника Стэнхоупа. Пьетро неразумно заказал материал стоимостью 500 долларов, что превосходило затраты Байрона на красную и непромокаемую ткань. Больше всего его рассердило то, что это произошло в то время, когда он пытался экономно вести хозяйство, несмотря на требования, связанные с захватом Лепанто.
Бедный Пьетро был неизменен: горячий, верный Байрону и испытывающий тоску по дому. После приезда в Миссолонги он написал Терезе, что Байрона там приняли как «ангела-спасителя». Кроме страха потратить лишние деньги, Байрона занимали и более возвышенные цели. Он мечтал потратить все состояние на дело, которому посвятил жизнь. Теперь он мог рассчитывать на деньги от продажи поместья в Ланкастере, Рочдейла, которое, по словам Кин-нэрда, было продано после долгих лет судебной тяжбы Джеймсу Дирдену за 11 225 фунтов.
Из вестей, приходивших из Морей, было ясно, что правительство благосклонно относится к созданию армии. Законодательные и исполнительные власти слали Байрону письма, в которых объявляли его благодетелем нации и извинялись за междоусобные войны. Они выражали надежду, что с помощью Англии он окажет им всяческую поддержку, и просили его одолжить еще 20 000 долларов в дополнение к 30 000 на освобождение Кандии (Крита). Однако у Байрона было и без того много дел в Миссолонги. Он предпочитал тратить деньги и время на стоящее дело, чем заниматься рутиной, что и предоставил Гамбе и Стэнхоупу.
Атмосфера в Миссолонги была предгрозовой. Жители начали роптать на солдат. Единственной надеждой было сообщение о том, что Пэрри наконец прибыл на Корфу и готовился к приезду в Миссолонги. Оставалось надеяться, что поход на Лепанто произойдет раньше, чем между солдатами и местными жителями начнутся стычки.
В ночь на 18 января Байрон и его спутники услышали на улице громкие выстрелы мушкетов – частое происшествие, поскольку греки привыкли тратить порох по поводу и без повода. Но на этот раз случилось нечто серьезное. Житель города пожаловался, что в его отсутствие дом заняли сулиоты. Пока он рассказывал свою историю доктору Майеру, рядом появился сулиот и застрелил грека. Маврокордатосу удалось заставить военные власти найти виновника, но в городе начались беспорядки.
В дополнение к этому в заливе вновь появился турецкий флот, а пять кораблей, которые должны были охранять Миссолонги, снялись с якоря и обратились в бегство. Байрон пришел в страшное раздражение из-за беспорядков в городе и отступления греческого флота, потому что теперь прибытие Пэрри с людьми и запасами для артиллерийских войск было отягощено опасностями. Утром 21-го числа уже десять турецких военных кораблей появились перед Миссолонги. Город был полностью осажден.
Был разработан план нападения на турок ночью, в маленьких лодках, чтобы повредить их такелаж и, возможно, направить корабли на скалы. Все европейцы выразили желание принять участие в операции, и Байрон мечтал быть в первых рядах. «Он был так серьезно настроен, – писал Гамба, – что мы скоро поняли, сколь опасно использовать такого человека в столь рискованном предприятии, и мы сделали все возможное, чтобы отговорить его, поскольку он мечтал подвергнуться опасности и не хотел, чтобы кто-нибудь опередил его».
Однако на столь отчаянный поступок Байрона подталкивали более личные переживания. Мечта о славе и героическом подвиге, жившая в нем с юношеских лет в Хэрроу и Кембридже, смешивалась с мечтой об идеальной любви, которую он постоянно искал и не мог найти, а если и находил, то прекрасная мечта рушилась при первом соприкосновении с реальностью. Пределом этих блестящих мечтаний было воспоминание о преданном кембриджском хористе Эдлстоне, чью прядь волос Байрон по-прежнему носил в медальоне. Некоторым образом рано умерший Эдлстон приблизился к мечте об идеальной любви больше, чем все женщины, которых знал Байрон. Вероятно, об Эдлстоне ему напомнил темноглазый красивый паж Лукас. Но теперь увлечение Байрона сопровождалось совершенно новым разочарованием: очевидным равнодушием к его чувству. Это был горький упрек, напомнивший ему о том, что он действительно «долгий срок в земной юдоли прожил», и теперь классическая красота бледного лица, перед которой не могли устоять женщины и мужчины, перестала привлекать. Волосы седели и выпадали, зубы шатались, лицо стало рыхлым и дряблым. Было грустно и горько осознавать, что мальчик, которого он осыпал дорогими подарками, не отвечал ему привязанностью или благодарностью[35].
Байрон не мог обсуждать эту тему в кругу друзей и не поверял своего разочарования письмам и самым близким знакомым. В канун своего тридцатишестилетия он вновь обратился к стихам, изливая в них свою боль:
Должно бы сердце стать глухим
И чувства прежние забыть,
Но, пусть никем я не любим,
Хочу любить!
Байрон сумел переправить четырех турецких пленников на турецкий корабль с помощью нейтрального (британского. – Л.М.) судна и одновременно послал письмо Юссуф-паше, турецкому командиру в Патрах, умоляя его «обращаться с греками, которые могут попасть в его руки, со всей гуманностью, в особенности потому, что ужасы войны и без того велики, чтобы еще усугублять их человеческой жестокостью».
26 января капитан Йорк с английского брига «Стремительный» сошел на берег с двумя офицерами, чтобы потребовать от греков объяснений по поводу захвата нейтральной ионической шлюпки. Байрон сердечно встретил британских офицеров, которые нашли его веселым и энергичным. Корабельный хирург Джеймс Форрестер обратил внимание на скудную обстановку и странных жителей дома Байрона. Коридор был полон «майнотами (сулиотами? – Л.М.) и другими солдатами, вооруженными до зубов». Тита с кустистой бородой и при полном параде проводил гостей в дом. Им прислуживал паж Байрона Лукас, «молодой грек в одежде албанца или майота с красивыми пистолетами за поясом». Байрон «так беззаботно болтал, что было трудно представить, что он когда-то писал о серьезных вещах». После обеда гости развлекались стрельбой по бутылкам. С двадцати шагов Байрон сбивал горлышко бутылки размером не больше обручального кольца. «Такая меткость была поразительна, – заметил Форрестер, – если учесть, что его рука тряслась, словно в приступе лихорадки…» После каждого выстрела ньюфаундленд Лев приносил бутылку. Форрестер заметил, что у Байрона были усы «льняного цвета». И в этот последний год жизни поэта он также обратил внимание на «его легкий шотландский акцент».
29-го числа турецкая эскадрилья вернулась в залив, но греческие суда бесследно исчезли, отправившись домой, вместо своего обещания охранять Миссолонги после того, как солдатам заплатят. Возникли новые неприятности. Сулиоты не хотели подчиняться единому командованию. Байрон скоро понял, что под его началом находится целая армия. Пока у него были деньги и желание их тратить, ни Маврокордатос, ни губернатор города, ни глава племени, ни даже богачи вроде Сторнариса, с его пятью тысячами голов скота, не хотели помогать общему делу.
Байрон также узнал, что, хотя он должен был собрать пять сотен сулиотов, но по турецкому обычаю от него ожидали обеспечения двадцати сотен человек, потому что сюда входили члены семей сулиотов, а также их домашний скот. Сулиоты не выполняли обещания покинуть дворец, отведенный для нужд Пэрри. Он и военные запасы могли прибыть в любую минуту, и Байрон пошел на отчаянный шаг. Он использовал самый эффективный довод. По словам Стэнхоупа, «он сказал им, что, если они немедленно не покинут дворец, он не возьмет их на службу. Сулиоты уважают лорда Байрона и его деньги, поэтому они согласились».
Среди тревог и волнений Байрон находил время для ежедневных прогулок верхом. Из-за постоянных дождей улицы стали почти непроходимыми, а ворота среди укреплений, ведущие на материк, были залеплены грязью. Байрон нанял мальчика с лодкой, чтобы переправляться через лагуну туда, где были лошади. В миле от города Байрон мог скакать галопом.
В ожидании приезда Пэрри Байрон принял приглашение примасов Анатолико посетить этот город, героически отразивший прошлым летом турецкую армию. Компания в составе Маврокордатоса, Байрона, Гамбы и Лукаса отправилась в путь на лодке в воскресное утро 1 февраля. У побережья города, расположенного на укрепленном острове, они были встречены салютом мушкетов и артиллерии. Женщины в своих лучших платьях махали им с балконов. Все хотели, чтобы Байрон остался ночевать, но он вместе с Гамбой и Лукасом вернулся в Миссолонги, совершив трехчасовое плавание в лодке под проливным дождем. Гамба и Лукас простудились и заболели. Байрон особенно волновался за Лукаса, уступил ему свою постель, а сам спал на полу. И вновь его чувства нашли отражение в отчаянных стихах:
Что мне твои все почести и слава,
Народ-младенец, прежде или впредь?
Хотя за них отдать я мог бы, право,
Все, кроме лавров, – мог бы умереть.
У Байрона были и другие причины для беспокойства. Прибывающие каждый день из Драгоместри грузы должны были доставляться с берега во дворец, но гордые сулиоты не желали опускаться до роли носильщиков, и Байрону приходилось нанимать жителей города, чтобы переносить вещи. Но даже городские жители отказывались работать по праздникам, пока Байрон не пристыдил их, начав переносить грузы, вымокшие под сильным дождем.
Стэнхоупа больше всего беспокоила безопасная доставка литографских прессов, высланных комитетом. Хотя Байрон сомневался в их необходимости, но мирился с этой затеей так же, как и с «самым лучшим кузнецом», отправленным вместе с Пэрри и «везущим триста двадцать два греческих Евангелия». Но вскоре выяснилось, что многое из того, что ожидалось, не доставили. Не было пороховых ракет, а на их создание требовалось два месяца. Это был настоящий удар для иностранных офицеров и греков, которые с нетерпением ожидали чудесных орудий.
Приехавший Пэрри был полон энергии, но немного сник при виде захудалого городишки и сообщения о том, что ни Стэнхоуп, ни правительство города не обладали финансовыми возможностями для того, чтобы платить людям, приехавшим с Пэрри. Во время пути ему пришлось потратить немало своих денег. Он с некоторым трепетом обратился к Байрону за помощью, но вскоре уже чувствовал себя как дома.
С самого начала Пэрри пришелся Байрону по душе, и вскоре он уже поверял ему свои разочарования и негодование. Было облегчением столкнуться с человеком, полным здравого смысла, после общения с нерешительным Маврокордатосом и «полковником-книгопечатником». Скоро стало очевидно, что вся финансовая ответственность и командование походом на Лепанто лягут на плечи Байрона. План создания трехтысячной армии оказался мифом, основанным на возможности Байрона обеспечить такое количество людей.
Сулиоты были готовы служить Байрону, пока могли тянуть из него деньги, хотя не удавалось преодолеть столкновений между ними. Скоро Байрон решился выступить в поход, как только Пэрри подготовит артиллерийские части. Байрона охватила надежда после сообщений двух греков, бежавших из Патр, которые рассказали о размолвках между европейскими и азиатскими турками. В Лепанто были созданы все условия для благополучного захвата гарнизона. Преувеличенные слухи о колоссальной подготовке, ведущейся в Миссолонги, и средствах Байрона подорвали уверенность турецких солдат. Албанский вождь убедил греческого шпиона, что солдаты окажут лишь символическое сопротивление и сдадутся, как только Байрон со своими войсками появится у стен крепости. Пришло время действовать.
В этих обстоятельствах Байрон решил создать сплоченные ряды артиллерийских частей и сулиотов. Но когда он попросил Пэрри использовать свою власть и ускорить приготовления к походу, тому пришлось признаться, что он не может добиться желаемого результата, в который уже вынудил поверить греков Стэнхоуп через свою газету. Байрон успокоил его, приободрил рабочих арсенала и передал необходимую сумму денег.
Байрон подолгу беседовал с Пэрри, который быстро понял, что, несмотря на показной оптимизм, Байрон был сильно удручен. «Вне стен своего дома, где он получал наслаждение от книг и общения со своей собакой Львом, от любви слуг, особенно внимания Титы, он не находил ни уверенности, ни покоя. Ему надо было контролировать и умиротворять непокорных сулиотов… Для меня стало очевидным, что он чувствовал себя обманутым и покинутым, я бы сказал, даже преданным. В разговоре с другими он притворялся веселым, потому что иначе его перестали бы считать бескорыстным энтузиастом… Но в глубине души он чувствовал себя одиноким и забытым».
В становящихся день ото дня все более откровенными беседах с Пэрри Байрон рассказывал о своей главной тревоге: он просил Пэрри передать все отложенные деньги на греческое дело. Начиная с 14 февраля Пэрри стал заниматься и этим, помимо других многочисленных дел. К этому времени Байрон каждую неделю тратил на пайки солдатам две тысячи долларов. Когда Гамба увидел списки сулиотов, то понял, что их количество было преувеличенным. Вожди вернулись к своему старому ремеслу: получать деньги за несуществующие войска. Более того, по словам Гамбы, вожди «требовали, чтобы правительство назначило из их рядов двух генералов, двух полковников, двух капитанов и низших офицеров в таком же количестве. Короче говоря, из трех или четырех сотен всех сулиотов должны выделиться около ста пятидесяти человек с высшими военным званиями. Естественно, их целью было увеличение платы… Байрон пришел в бешенство и заявил, что больше не хочет иметь никаких дел с этими людьми».
Вспышка гнева Байрона была серьезной и в его теперешнем состоянии неблагоприятно отразилась на его здоровье, едва не приведя его к болезни. Гнев скоро прошел, но решимость отказаться от услуг сулиотов осталась. Байрон написал поспешное письмо Маврокордатосу: «15 февраля 1824 года. После тщетных усилий, ценой невероятных трат, беспокойств и некоторого риска объединить сулиотов на благо Греции и для их собственного блага, я пришел к следующему решению.
Я больше не хочу иметь дела с сулиотами. Они могут отправляться к туркам или к черту, они могут разрубить меня на большее количество кусочков, чем существует размолвок между ними, но они не заставят меня изменить решение. Я по-прежнему готов пожертвовать собой и своими деньгами на благо греческого народа и правительства».
Сулиоты поняли, что зашли слишком далеко, и согласились вступить в новое войско, три сотни человек которого будут действовать под непосредственным командованием Байрона и его лейтенанта Гамбы. Однако Байрона раздражало, что пришлось отложить захват Лепанто. Теперь он был спокоен, но разочарован. Вечером 15 февраля, во время беседы с Пэрри и другими гостями, у него начался жестокий припадок, и он рухнул на руки Пэрри: «Его лицо было искажено, рот перекосило». Доктор Миллинген вспоминал, что во время припадка «у него на губах появилась пена, он скрежетал зубами и закатывал глаза, как эпилептик. Примерно через две минуты он пришел в себя…».
Когда приехали Гамба и врачи, Байрон был спокоен, но бледен и слаб. «Как только он мог говорить, – писал Гамба, – он повел себя как человек, не испытывающий ни малейшей тревоги, а спокойно спросил, мог бы этот приступ быть смертельным. «Скажите мне. Не думайте, что я боюсь смерти». Байрона отнесли на второй этаж в постель. Гамба решил, что приступ произошел из-за недавнего раздражения и скудной диеты.
На следующий день Байрон был по-прежнему слаб, но проснулся в полдень. Пэрри посоветовал ему лучше питаться и принимать лекарства. Доктор Бруно считал, что необходимо пустить кровь. Байрон не соглашался, чтобы ему вскрыли вену, но наконец позволил Бруно положить ему на виски восемь пиявок. Началось обильное кровотечение, и когда пиявок убрали, то кровь продолжала идти. Позже Байрон писал Меррею, что «они слишком близко подошли к височной артерии ради обеспечения моей временной безопасности» и что «ни кровоостанавливающее средство, ни прижигание не могли остановить кровь даже после сотни попыток». Полностью кровь удалось остановить после одиннадцати часов ночи. Пока это происходило, Байрон потерял сознание и позже подшучивал насчет своей слабости, говоря, что упал в обморок при виде собственной крови, словно дама.
Он проснулся на следующее утро, но не выходил на улицу. Он был раздражен, потому что болезнь помешала ему принять участие в операции по захвату турецкого военного корабля, выброшенного на берег недалеко от города, но он предложил оплатить расходы. Но у него был и другой повод для беспокойства. Вдохновляя в Равенне карбонариев на борьбу, Байрон с вызовом произнес слова Мармонтеля о том, что «революции не делаются с розовой водой». Но теперь, когда он оказался в гуще военных действий, то начал понимать, что, возможно, важнее всего потушить пламя ненависти и насилия. Милосердие всегда производило на него большее впечатление, чем самые великие принципы.
Среди турецких женщин и детей, ставших рабами богатых греков, после того как мужчины были убиты во время первого восстания в Миссолонги, были жена и дочь Хуссейна Аги. Они обратились к доктору Миллингену, чтобы он помог им скрыться от жестокости греков. Маленькой девочке по имени Хатадже было всего девять лет, столько же, сколько дочери Байрона Аде. Ему пришлись по душе ее темные глаза и величественные манеры, и он взял ее под свою опеку, как Дон Жуан, который защищал девочку-турчанку, спасенную им при осаде Измаила. Байрон заказал для нее и ее матери дорогие платья. Байрон подумывал отправить девочку в Англию, чтобы она стала подругой его дочери, или к Терезе в Италию. Но после раздумий понял, что леди Байрон не будет в восторге от маленькой мусульманки, говорящей об Аллахе и об отце Ады. В конце концов Байрон отправил девочку с матерью на Кефалонию под защиту доктора Кеннеди и его жены, пока бывшие пленницы не переправились к Хуссейну Are в Патры. В это же время остальных турчанок Байрон отправил в Превезу, находившуюся под турецким игом.
Севший на мель турецкий бриг был разграблен и сожжен самими турками прежде, чем греки успели захватить его; Байрон был слишком слаб, чтобы принять участие в этой экспедиции. Иностранные офицеры и рабочие арсенала были на грани нервного срыва, потому что обстановка в городе приближалась к бунту. 19 февраля произошел серьезный случай, ставший решающим. Сулиот по имени Йиотес взял маленького сына Боцариса посмотреть на фейерверки и механизмы во дворце. Когда их остановила стража, завязалась борьба, окончившаяся гибелью лейтенанта Caeca, шведа, и ранением Ииотеса. Поползли слухи, что его убил иноземец. Появились другие сулиоты, и была опасность нападения на арсенал и захвата города. Байрон приказал выкатить к воротам пушку. Взволнованные сулиоты собрались вокруг, угрожая напасть на дом и убить всех иностранцев. Постепенно ярость утихла, возможно, из-за продолжавшихся как ни в чем не бывало приготовлений и сообщения о том, что Йиотес жив.
Между тем Байрон послал за вождями сулиотов. Стэнхоуп был поражен хладнокровием Байрона, когда, все еще ослабленный от припадка и кровопускания, с «совершенно измотанными нервами», он встретился лицом к лицу с «взбешенными сулиотами в великолепных одеяниях, заляпанных грязью… Лорд Байрон оживился и, казалось, совсем оправился от болезни. Чем больше бесновались сулиоты, тем он становился спокойнее».
В последние дни февраля Байрон постепенно оправился от болезни, но надежда, озарявшая первые недели пребывания в Миссолонги, угасала. Доктор Миллинген отмечал медленное ухудшение физического состояния и уныние, постоянно владевшее больным. Однажды, когда Миллинген пытался доказать Байрону, что полный отказ от прежних привычек вернет его к жизни, Байрон нетерпеливо перебил: «Вы думаете, я хочу жить? Я ужасно устал от жизни и не дождусь часа, когда умру… Но сейчас меня преследуют два ужасных видения. Я представляю себя медленно угасающим на смертном одре или заканчивающим свои дни как Свифт – ухмыляющимся идиотом!»
Депрессия Байрона была обусловлена страшным разочарованием: несмотря на все сделанное для колоритных горных воинов – сулиотов, он не мог доверять им. Сулиоты открыто поговаривали о том, чтобы осуществить более заманчивое и легкое предприятие, чем захват Лепанто. Гамба вспоминает: «Они хотели идти к Арте, где надеялись захватить много трофеев. Они решили, что не стоит сражаться с каменными стенами. Лорд Байрон предложил им месячную плату, если они согласятся». Байрона ожидало новое разочарование, когда Пэрри сообщил ему, что шесть механиков, напуганных недавними событиями, бросили свою работу и просили отправить их домой после двухнедельной службы в арсенале. Пэрри был в гневе, потому что ему вновь пришлось обращаться к Байрону с просьбой оплатить их возвращение на родину.
Полковник Стэнхоуп отправился в Афины 21 февраля, твердо веря в то, что ему удастся сплотить греков и дать им конституционное правительство с помощью своего печатного станка. После крушения надежд относительно захвата Лепанто Байрон начал подумывать об отъезде, но не мог заставить себя сняться с места. Когда в ярости на сулиотов он сообщил о своем намерении уехать, жители города и солдаты начали роптать, и он остался.
Припадок, приключившийся с ним 15 февраля, какова бы ни была его природа, еще больше усугубил состояние Байрона, потому что теперь он постоянно боялся его повторения, хотя говорил о своем здоровье вполне беспечно. Он то испытывал глубокую депрессию, то пускался в почти истерическое веселье и шутки, по воспоминаниям Пэрри, когда пытался уговорить своего бедного слугу Флетчера развлечься с солдатом, одетым в женский наряд.
В довершение к череде трагических случайностей и неприятностей в восемь часов вечера 21 февраля сильное землетрясение потрясло ветхие строения города и вызвало панику не только среди греков, но и англичан и других иностранцев, которые бросились вон из домов. Описывая происшествие Меррею на следующей неделе, Байрон добавлял: «…целая армия сложила оружие, подобно дикарям, которые во время затмения солнца бьют в барабаны или воют…» Хотя Байрон и смеялся над Пэрри и остальными, которых «слегка помяло в домах» и которые стремились выбежать на улицу через окна и двери, на самом деле он не был столь спокоен. Больше всего он волновался за своего слугу Лукаса, которого искал «среди пустого зала».
Байрон не хотел полностью признать своего поражения ни перед друзьями в Англии, ни перед самим собой. К своему удовольствию и смущению, он узнал от Хобхауса и Киннэрда, что события в Греции сделали его героем на родине именно тогда, когда все было против него. Но близким друзьям Байрон открыл глубину своего разочарования. Стэнхоуп говорил Хобхаусу: «Байрон то и дело жалел, что приехал в Грецию… Иногда он говорил, что рад этому, и с энтузиазмом рассуждал о происходящих событиях. Он говорил, что лучше быть в Миссолонги, чем болтать на балах в Лондоне, когда тебе уже за сорок, как Тому Муру».
После роспуска основной армии сулиотов Байрон оставил себе личных телохранителей в составе пятидесяти шести человек под предводительством Драко и еще пары вождей, которым он доверял больше всего. Они проживали в большой комнате, там же вели оживленные беседы или играли в карты на полу, а карабины ставили у стены.
По словам Пэрри, Байрон много времени проводил в комнате с солдатами, особенно в сырую погоду. «В эти дни его почти всегда сопровождал его любимый пес Лев, который, возможно, был его самым верным и преданным другом». Байрон говорил с собакой словно с человеком. «Чаще всего он говорил: «Лев, ты не мошенник, Лев»… Глаза собаки блестели, она виляла хвостом. «Ты честнее людей, Лев, я тебе верю». Лев вскакивал, лаял и вился вокруг хозяина… «Лев, я люблю тебя, ты мой верный пес!» Лев прыгал и лизал руку своего господина…»
В конце февраля погода улучшилась, и Байрон стал чаще ездить верхом. Он делал это, чтобы, во-первых, его стража могла размяться, а во-вторых, чтобы воспользоваться возможностью предстать при полном параде с собственной армией, для чего он часто выезжал на болотистую равнину за городом.
Чтобы поддержать боевой дух приезжих иностранцев, Байрон приказал Пэрри провести реорганизацию артиллерийских частей и привлечь в их ряды греков. Но он сознавал, что просто топчется на месте. Унизительней всего было то, что албанцы в турецком гарнизоне в Лепанто, которые сначала хотели перейти на его сторону за сорок тысяч долларов, теперь соглашались сделать это даже за двадцать пять тысяч. Но сулиоты, прекрасные воины-горцы, не привыкли к осаде, даже если она не сулила сложностей.
К концу февраля Джордж Финлей прибыл из Афин с письмами от Трелони и Одиссея (Улисса). Байрон встретил его как человека, с которым мог поговорить о вещах, непонятных для практического ума Пэрри. Порой Пэрри забавлял его и являлся отличным противоядием против полковника-теоретика. Но Финлей вращался в более близких Байрону кругах, бывал в Ньюстедском аббатстве, мог говорить о Гете и «Манфреде» и одновременно с юношеским восторгом слушал воспоминания Байрона и его остроумные замечания о современниках. Во время этих бесед Байрон оживал, сыпал анекдотами и рассказами о своей прежней жизни. Давая волю своим воспоминаниям, он свободно говорил о своих проделках с Хобхаусом и Скроупом Дэвисом, даже об Абердине и первой любви к Мэри Дафф.
Однако Финлей приехал с серьезной миссией. Он привез приглашение Одиссея Байрону и Маврокордатосу на конгресс в Салоне (Амфиссе. – Л.М.), где, возможно, различные греческие партии и фракции придут к согласию, осознав необходимость защиты страны. Просил его об этом и Трелони. Среди всех неурядиц Байрон по-прежнему с ностальгией вспоминал Трелони, который всегда мог навести порядок в его беспокойном хозяйстве. Хотя, как и Маврокордатос, Байрон не очень-то доверял Одиссею, но после размышлений они решили через две недели встретиться с хитрым вождем в Салоне.
В марте самочувствие Байрона было не очень хорошим, но он продолжал обычные поездки верхом и занятия, словно решился не позволять болезни одержать над собой верх. Часто у него случались головокружения, а иногда неприятные нервические припадки, похожие на приступы страха. Тоску развеивали письма из Англии. Но одно, от Томаса Мура, расстроило его. Обыкновенно письма Мура пробуждали в нем приятные воспоминания о днях славы в Лондоне, но Байрон обиделся на слова Мура о том, что «вместо участия в героических и военных действиях Байрон, подобно Дон Жуану, отдыхает на роскошной вилле». Байрона раздражало, что такие слухи циркулировали в Англии, где, по словам Хобхауса, он был уже народным героем. Байрон довольно резко ответил на письмо.
Неудивительно, что постоянная жизнь на грани болезни и временного улучшения привела к частым вспышкам раздражения. Байрон приходил в ярость совершенно непредсказуемо. Даже вежливый и учтивый Маврокордатос вызывал у него гнев. Особенно теперь, когда появился шанс объединения греков, Байрона раздражало, что князь продолжал выказывать недоверие другим вождям. Желая оставаться независимым и не примыкать ни к каким фракциям, Байрон намеренно пытался уклониться от близких отношений с Маврокордатосом, не поощряя его вечерние визиты вежливости и говоря только о деле.
17 марта Байрон отправил радостное письмо Терезе. Он давно перестал делиться с ней своими сокровенными мыслями и обращался к ней со снисходительной веселостью, как к шаловливому ребенку: «Моя милая Т.! Пришла весна, сегодня я видел ласточку – давно пора, потому что зима здесь была сырая, что необычно для Греции… Я не буду писать тебе о политике, это тебя утомит, но, кроме этого, мне почти не о чем писать, кроме, пожалуй, забавных анекдотов, которые я приберегу для нашей встречи, чтобы развлечь тебя за счет Пьетро и некоторых других… Пишу тебе по-английски безо всяких извинений, потому что ты говоришь, что достигла больших успехов в этом языке птиц. Англичанам и грекам я обычно пишу по-итальянски из духа противоречия, думаю, и чтобы показать, что я почти превратился в итальянца после долгого пребывания в твоей стране».
Видя, как Одиссей стремится завоевать расположение Байрона, греческое правительство в Краниди на полуострове Пелопоннес пригласило его туда прибыть лично и принять пост генерал-губернатора Греции, за исключением Морен и островов. Возможно, это предложение возникло после того, как власти узнали, что Байрон должен будет стать одним из распорядителей английского кредита. Несомненно, их целью было отвлечь его от союза с Одиссеем и подорвать влияние и власть Маврокордатоса в Северной Греции. Байрон ответил, что сначала отправится в Салону, а потом подумает об их предложении.
Новость о получении кредита возродила надежды Байрона, хотя он по-прежнему осознавал препятствия, мешающие победе греков. Как и Финлей, он понимал, что главными добродетелями обладают простые люди, а не их лидеры. Пэрри вспоминал, что Байрон как-то вернулся с ежедневной прогулки верхом необычно радостный. «Милая деревенская женщина из хорошей семьи вышла из своего дома и дала ему брынзы и немного меда и не желала взять за них денег». «В тот день я был счастливее обычного», – сказал Байрон.
У Байрона были свои представления о том, каким должно быть греческое правительство. Он считал, что лучше всего подойдет швейцарская или американская система. «Из того, что я уже сказал о различных течениях и фракциях в Греции, – говорил он Пэрри, – мне очевидно, что никакая другая форма правления, кроме федерации, не подойдет им». Однако Байрон не навязывал свою точку зрения, а предоставлял грекам самим решить, что для них лучше. «Нет такого правительства, которое можно считать идеальным».
Во время откровенных бесед с Пэрри, когда после дождя улицы Миссолонги становились непроходимыми, Байрон поверял ему свои планы и надежды на будущее. Но у этих планов была короткая жизнь. Сулиоты, обнаружив, что их ожидания от похода на Арту не оправдались, вернулись в Миссолонги. Маврокордатос, чтобы обеспечить армию сулиотов, был вынужден просить у Байрона очередной кредит. К концу марта к нему обратились с просьбой выплачивать пятьдесят тысяч долларов в день.
На 27 марта был запланирован отъезд в Салону на встречу с главами Северной Греции, но дороги и реки были непроходимыми. 30 марта примасы объявили Байрона гражданином города. Это было зафиксировано в официальном документе на самом торжественном языке и подписано всеми чиновниками. Но документ предвещал лишь новые финансовые запросы. Байрон был раздражен, но вынужден был смириться, потому что намеревался остаться в Греции и делать все возможное для победы греков. Когда к нему обращались лично, он не мог отказаться.
Сейчас кажется очевидным, что Байрон скрывал под маской оптимизма самые горькие разочарования, постигшие его в Миссолонги. Близкие к нему люди, однако, знали, что его сильно беспокоили положение дел и его собственные неудачи. Дождь, заливающий лагуну и грязные улицы, череда неблагоприятных событий, постоянное опустошение кошелька и нервное напряжение, переменчивость греков, отсутствие сплоченности соратников-иностранцев, хрупкое здоровье и постоянный страх возвращения непонятных припадков угнетали Байрона и лишали его обычной веселости.
Пэрри заметил, что в начале апреля Байрон стал более раздражительным. Больше всего его тяготило сознание того, что его самая честолюбивая и конечная цель – объединение всех греческих лидеров – растаяла, как и его стремление вести сулиотов на осаду Лепанто. Финлей писал о воздействии на Байрона этого удара: «Глаза лорда Байрона открылись. Он потерял всякое хладнокровие и надежду возглавить греков или помочь им в установлении власти… Он начал выражать сомнение, имел ли он право рекомендовать своим друзьям в Англии предоставлять грекам кредит… Он боялся, что деньги может потратить одна фракция, а другая будет винить его за это».
Ко всем неприятностям и тяготам добавилось еще одно разочарование, заставившее его искать утешение в поэзии. Неразделенная любовь к Лукасу Халандрицаносу вдохновила его последнее стихотворение:
Я на тебя взирал, когда наш враг шел мимо,
Готов его сразить иль пасть с тобой в крови,
И если б пробил час – делить с тобой, любимый,
Все, верность сохранив свободе и любви.
Я на тебя взирал в морях, когда о скалы
Ударился корабль в хаосе бурных волн,
И я молил тебя, чтоб ты мне доверял;
Гробница – грудь моя, рука – спасенья челн.
Я взор мой устремлял в больной и мутный взор твой
И ложе уступил и, бденьем истомлен,
Прильнул к ногам, готов земле отдаться мертвой,
Когда б ты перешел так рано в смертный сон.
Землетрясенье шло и стены сотрясало,
И все, как от вина, качалось предо мной.
Кого я так искал среди пустого зала?
Тебя. Кому спасал я жизнь? Тебе лишь одному.
И судорожный вздох спирало мне страданье,
Уж погасала мысль, уже язык немел,
Тебе, тебе даря последнее дыханье,
Ах, чаще, чем должно, мой дух к тебе летел.
О, многое прошло; но ты не полюбил,
Ты не полюбишь, нет! Всегда вольна любовь.
Я не виню тебя, но мне судьба судила —
Преступно, без надежд, – любить все вновь и вновь[36].
Сгибаясь под тяжестью этого мучительного чувства, Байрон должен был пережить еще одно разочарование. Пошли слухи, что турки собираются высадиться в деревне Крионери недалеко от Миссолонги. В тот же день племянник Георга Караискакиса, лидера греков в Анатолико, был ранен в ссоре с лодочником из Миссолонги. На следующий день сто пятьдесят солдат Караискакиса пришли искать отмщения, захватили двух примасов и завладели крепостью Василади в устье гавани.
По словам Миллингена, только энергия и хладнокровие Байрона положили конец осаде 5 апреля. «Против Василади были посланы корабли, чтобы подавить восстание мятежников. Их приближение так напугало солдат, что они покинули остров». Солдаты Караискакиса отпустили примасов, и им позволили вернуться в Анатолико.
Это происшествие не произвело на Байрона большого впечатления, пока не подошло к концу. Волнующие события всегда воодушевляли его. Но, размышляя о подобных последствиях, Байрон пришел в уныние. Он боялся, что, если вести о восстании дойдут до Англии, это поставит под угрозу английский кредит. «Но больше всего его приводили в ярость слабость и нерешительность Маврокордатоса…» – вспоминал Миллинген.
Почва уходила из-под ног. Близкие друзья Байрона заметили перемены, произошедшие в нем в течение последних нескольких недель. Пьетро Гамба заметил, как сильно на Байрона влияло измение погоды, мешавшее ему ездить верхом и отправиться в Салону. «В это время, – писал Гамба, – милорд, продолжая придерживаться обычного распорядка дня, очень похудел. Но он был этому рад, потому что всегда боялся поправиться. Он стал более раздражительным, часто гневался по пустякам, а не из-за важных дел, но гнев его быстро проходил».
В пятницу 9 апреля с Ионических островов и из Англии пришли письма. В письме от сестры сообщались хорошие новости о здоровье дочери Байрона, что привело его в хорошее настроение, к которому, впрочем, примешивалась легкая грусть. Он вышел из комнаты с портретом Ады в руках. Хобхаус писал: «Ничто не может лучше помочь греческому делу, чем то, что сделал ты. Все очень довольны и рады. Что касается меня, то хочется верить, что великие жертвы, на которые ты пошел, помогут, в чем я не сомневаюсь, победе греков. Действительно, ради этого стоит жить, и благодаря этому твое имя будет всегда сиять на фоне имен других современников».
По словам Гамбы, в течение одного или двух дней здоровье Байрона видимо ухудшилось. Но хотя погода стояла плохая, он настоял на верховой прогулке, которую не мог совершить несколько дней из-за дождей. «В трех милях от города, – писал Гамба, – мы попали под сильный дождь и вернулись в город вымокшие до нитки и ужасно замерзшие». Обычно они спешивались с коней у городских стен и возвращались на лодке, но сегодня Гамба убеждал Байрона остаться на лошади, чтобы разгоряченным не попадать под холодный дождь в открытой лодке. Но Байрон не хотел ничего слушать и говорил: «Хороший солдат бы из меня получился, если бы я стал обращать внимание на такие пустяки».
«Два часа спустя после возвращения домой, – продолжал Гамба, – у него началась лихорадка, он жаловался на жар и боли во всем теле. В восемь вечера я вошел в его комнату: он лежал на диване, грустный и обеспокоенный. Он сказал: «Я испытываю ужасную боль. Я не боюсь смерти, но эту боль не могу выносить».
Но Байрон не счел свою болезнь серьезной, потому что на следующее утро отправился на прогулку раньше обычного, опасаясь дождя. Всю ночь у него был жар, но он спал хорошо, хотя утром у него болели все кости и голова. Он долго ездил верхом в оливковой роще с Гамбой и стражником-сулиотом, оживленно и весело болтая. Однако по возвращении он отчитал своего кучера за то, что тот надел на лошадь мокрое седло.
Финлей, собиравшийся в Афины, вечером вместе с доктором Миллингеном зашел к Байрону. Поэт лежал на диване, жалуясь на легкую лихорадку и боли. Миллинген вспоминал, что «после нескольких минут молчания он сказал, что целый день вспоминал о пророчестве, сделанном ему в детстве известной гадалкой в Шотландии. «Будь осторожен в тридцать седьмой год жизни». Байрон говорил об этом с таким волнением, что стало очевидно, что предсказание произвело на него глубокое впечатление. Когда гости упрекнули его в предрассудках, он ответил: «По правде говоря, я не знаю, чему можно, а чему нельзя верить в этом мире».
Испытывая панический ужас перед лечением, Байрон позвал к себе доктора Бруно только поздно ночью. Он жаловался на боли во всем теле и приступы озноба и жара. Всю ночь он плохо и мало спал, а утром Бруно, как обычно, посоветовал кровопускание, но, когда Байрон наотрез отказался, врач заставил пациента уснуть, дав ему касторовое масло и прописав горячую ванну.
Пэрри пришел в субботу 11 апреля, на второй день болезни Байрона, и, встревоженный, получил его неохотное согласие готовить лодку для отплытия на Зант. Однако пока шли приготовления, болезнь обострилась, а 13-го числа, когда лодка была готова, подул сирокко и перешел в сильный ураган. Ни одно судно не могло выйти из порта. Тем временем доктор Бруно прописал порошок сурьмы, чтобы уменьшить лихорадку, поскольку Байрон твердо отказался от кровопускания и пиявок.
Доктора Миллингена позвали лишь на четвертый день болезни. Он согласился с Бруно, что кровопускание необходимо, но был вынужден смириться с отказом Байрона и решил отложить процедуру.
14 апреля Байрон встал в полдень, что делал каждый день до болезни. Он был еще слаб и страдал от головной боли. Он хотел ехать верхом, но его уговорили вернуться в постель. К нему были допущены только оба врача, граф Гамба, слуги Тита и Флетчер и Пэрри. Порой, по подозрениям Пэрри, врачи шли на ухищрения, чтобы удалить его из комнаты, говоря, что больной спит. Они знали, что Пэрри поддерживает Байрона в отказе от кровопускания, которое они каждый день ему рекомендовали. Пэрри заметил, что больной часто бредил.
В тот же день доктор Бруно пришел к Байрону вместе с Миллингеном, чтобы убедить его согласиться на кровопускание, но Байрон пришел в раздражение, «говоря, что знает, что ланцет убил больше людей, чем копье». Врачи продолжали прописывать пилюли и слабительное, а на следующий день опять вернулись со своим предложением, но Байрон вновь отказался. «Высасывать кровь из нервного больного, – сказал Байрон, – все равно что ослаблять струны музыкального инструмента, который из без того сломан без достаточного напряжения».
Доктор Бруно вновь со слезами на глазах умолял Байрона «позволить ему сделать кровопускание ради всего дорогого для него в этом мире», но Байрон ответил, что не желает этого и что «все мои мольбы и просьбы других бесполезны». Неизвестно, то ли Байрон бредил, то ли говорил серьезно, а то ли пытался подшутить над врачами, когда 15 апреля просил доктора Миллингена найти в городе старую и безобразную колдунью, «чтобы она сказала, не стал ли сглаз причиной моей внезапной болезни. Она может сделать что-нибудь, чтобы снять порчу». Миллинген был готов покориться, но Байрон больше не заговаривал на эту тему.
Пэрри, занятый целый день, пришел в семь часов вечера и тут же понял, что Байрон «серьезно и опасно болен». Но продолжал дуть сирокко, и не могло быть и речи о том, чтобы отправить его на Зант. Пэрри был сильно встревожен. Несмотря на множество людей в доме, он считал, что Байрону не на кого положиться. Флетчер, казалось, «потерял доверие своего хозяина». И Флетчер и граф Гамба «были так встревожены и настолько потеряли мужество, что нуждались в таком же внимании и помощи, как сам лорд Байрон». То же самое можно было сказать и о докторе Бруно, который был так взволнован, что «не мог воспользоваться своими медицинскими познаниями. Тита был благожелателен и внимателен и являлся самым надежным и полезным из всех обитателей дома. Поскольку никто не занимался хозяйством вследствие болезни лорда Байрона, в доме не было ни порядка, ни покоя, ни тишины… Байрон нуждался во многих условиях, которые для больного являются необходимостью, а в доме царило ужасное замешательство».
Пэрри обладал умиротворяющим воздействием на Байрона, который просил его взять стул и сесть рядом. Он говорил Пэрри о себе и своей семье, о своих планах в Греции. «Он с великим спокойствием говорил о смерти, и, хотя не верил, что его конец близок, в нем было что-то такое серьезное и твердое, такое сдержанное и спокойное, такое непохожее на прежнего лорда Байрона, что я потерял рассудок и мог с уверенностью предвидеть, что он умрет». Любопытно, но в свои последние дни Байрон говорил о религии только со старым закаленным солдатом Пэрри. Доктор Миллинген вспоминал: «Я не слышал, чтобы он даже упоминал о религии. Как-то он сказал: «Надо ли взывать о милости?» После долгого молчания он ответил: «Нет-нет, никакой слабости! Быть мужчиной до конца».
Пэрри покинул Байрона около десяти часов вечера, и к нему опять вернулись врачи. У Байрона начался приступ судорожного кашля, приведший к рвоте. Доктор Бруно угрожал ему воспалением легких, если он не согласится на кровопускание. Наконец слезные мольбы врача, выражение его искренней преданности и слабость Байрона вынудили того сдаться и согласиться на кровопускание на следующий день. Но когда на следующее утро врачи пришли за своим фунтом крови, Байрон заявил, что спал лучше обычного и не станет их беспокоить. Миллинген напомнил ему о его обещании и в ответ получил трогательный довод: «Болезнь могла так затронуть мою нервную и мозговую систему, что я совершенно лишился рассудка». Затем, «бросив на нас свирепый и раздраженный взгляд, он протянул руку и сердито произнес: «Идите, вы, проклятая шайка мясников. Возьмите столько крови, сколько захотите, но только побыстрее». Врачи взяли целый фунт крови. «Однако облегчение было не настолько сильным, чтобы оправдать наши надежды», – заметил Миллинген.
Два часа спустя взяли еще фунт крови, «и на этот раз она была такой же жидкой и с малым количеством сыворотки. После этого он немного успокоился и заснул». Но это было спокойствие человека, чьи жизненные силы истощились. Пэрри заметил, что в этот день, 16 апреля, Байрон «чувствовал себя очень плохо и почти постоянно бредил. Он говорил безумные речи то по-английски, то по-итальянски». Пэрри умолял врачей не давать Байрону лекарств и не делать кровопусканий, но они успокоили его, и он ушел. После ухода Пэрри некому было защитить Байрона, потому что даже слуги уверовали в могущество кровопускания. Пульс больного оставался прежним, и, по воспоминаниям Бруно, «врачи предложили третье кровопускание, которое, по нашему мнению, было более необходимо, потому что у больного было окаменевшее выражение лица, и он время от времени жаловался на онемение пальцев – признак того, что воспаление охватило мозг».
Когда сознание возвращалось к нему, Байрон отказывался от кровопускания, и врачи вновь пичкали его слабительным. Но на следующий день они взяли несколько унций крови под предлогом того, что это поможет больному заснуть. Безумный бред Байрона вынудил доктора Бруно приказать Тите убрать кинжал и пистолеты, висевшие над кроватью. Неудивительно, что в смятении этих последних дней все свидетели оставили разные воспоминания. Пэрри принял все последние слова Байрона в течение пяти дней за бред.
Врачи начали впервые испытывать серьезные опасения днем 17 апреля и, чтобы получить побольше доводов в пользу кровопускания, вызвали для консультации еще двух врачей: доктора Лукаса Вайю, самого доверенного врача Али-Паши и хирурга в армии сулиотов, и доктора Энрико Трайбера, немца, служившего в артиллерийских частях. Байрон согласился увидеться с ними только при условии, что они не станут ничего советовать. После совещания один только Бруно по-прежнему выступал за кровопускание. Пока врачи были в доме, у больного, по-видимому, начался какой-то странный шок: «…пульс был очень слабый, прерывистый, а руки и ноги очень холодные». Больному дали хинной корки, воды и вина, чтобы утолить жажду, и наложили на бедра два пузыря с водой – Байрон не желал, чтобы «кто-нибудь видел мою хромую ногу».
Когда утром 18 апреля зашел Пэрри, Байрон был очень слаб и бредил. Была Пасха, и, согласно традиции, это событие отмечалось огнем из мушкетов, поэтому, по словам Пэрри, Маврокордатос сказал, «чтобы я с артиллерией и сулиотами отошел на некоторое расстояние от города и открыл стрельбу, чтобы привлечь жителей города». Городские стражники патрулировали улицы, сообщая людям о тяжелом состоянии их благодетеля и прося их соблюдать тишину. План сработал, и в свои последние часы Байрону не пришлось услышать оглушительных мушкетных выстрелов.
Увидев быстро надвигающиеся признаки смерти, доктор Бруно опять вернулся к единственному известному ему средству, и, получив согласие других врачей, прикрепил к вискам больного двенадцать пиявок и взял два фунта крови. На некоторое время больной успокоился и, когда Гамба принес ему письма, настаивал, что сам их прочтет. Одно письмо Гамба утаил. Оно было от архиепископа Игнатия, и в нем говорилось, что на государственном совете султан объявил Байрона врагом Порты. В другом письме от Луриоттиса Маврокордатосу упоминалось, что кредит будет выдан и что Байрон должен возглавить комиссию по его распределению. Это письмо обрадовало Байрона, потому что он знал, что его имя и деятельность очень помогли получению кредита.
Примерно около полудня Байрон, возможно по рыданиям слуг и замешательству врачей, понял, что находится в смертельной опасности. Он говорил Миллингену: «Ваши усилия сохранить мне жизнь окажутся тщетными. Я должен умереть, я чувствую приближение смерти. Я не сожалею об этом, потому что приехал в Грецию, чтобы покончить со своим бренным существованием. Я отдал Греции свои силы, свое богатство, а теперь отдаю жизнь. Прошу вас об одном. Не позволяйте вскрывать мой труп или везти его в Англию. Пусть мои кости тлеют здесь, положите меня в скромном углу без почестей и всякой чепухи».
Гамба писал: «Доктор Миллинген, Флетчер и Тита собрались вокруг его постели. Первые двое не могли сдержать слез и вышли из комнаты. Тита тоже рыдал, но не мог уйти, потому что Байрон держал его руку, но он отвернулся. Байрон пристально смотрел на него и сказал с полуулыбкой по-итальянски: «Какая прекрасная сцена». Вскоре после этого он начал бредить, словно за ним кто-то гнался. Он кричал то по-английски, то по-итальянски: «Вперед, вперед! Смелее! Следуйте за мной, не бойтесь!» – и тому подобное».
Когда вернулся Пэрри, все в доме были в смятении. Пэрри заставил Байрона принять немного хинной корки, прописанной врачами. Руки больного были ледяными. «С помощью Титы, – писал он, – я начал согревать их и также ослабил повязку на его голове. Пока я это проделывал, он, по-видимому, испытывал сильную боль, то и дело сжимал кулаки, скрипел зубами и бормотал по-итальянски: «О господи!» Когда я ослабил повязку, он зарыдал. Я просил его плакать и говорил: «Милорд, благодарю Бога, надеюсь, вам будет лучше. Плачьте и усните спокойно». Он ответил слабым голосом: «Да, боль ушла, теперь я усну». Он снова взял мою руку, слабо пожелал мне спокойной ночи и погрузился в неспокойный сон. Мое сердце ныло, но я решил, что его страдания позади и он больше не проснется».
Но Байрон вновь проснулся и продолжал говорить с окружавшими его людьми то впадая в безумие, то спокойно. «Я хотел пойти к нему, – писал Гамба, – но не мог решиться. Мистер Пэрри пошел, и Байрон узнал его, пожал ему руку и пытался выразить свои последние пожелания. Он называл какие-то имена и суммы денег, говорил иногда по-английски, иногда по-итальянски. Я понял, что он сказал: «Бедная Греция! Бедный город! Мои бедные слуги!», а также: «Почему я не понял этого раньше?» и «Мой час настал, я не боюсь смерти, но почему я не поехал на родину прежде, чем вернуться сюда?». Как-то он сказал: «Есть в этом мире нечто дорогое для меня (Iо lascio qualche cosa di саго nel mondo), иначе мне было бы не жаль умереть!»[37]
Когда Байрон понял, что врачи бессильны помочь ему, он очень рассердился на них. Но, растроганный слезами Флетчера, он, по словам Хобхауса, «взял его руку и начал ласково говорить с ним, сказал, что ему жаль, что он не оставил ему ничего в своем завещании, но мистер Хобхаус будет его другом и позаботится о том, чтобы он ни в чем не нуждался. Он стал беспокоиться о своем любимом лакее Тите и греческом паже Луке, но Флетчер просил его подумать о более важных вещах». Очевидно, Байрон успел позаботиться о Лукасе, дав ему чек на три тысячи долларов, который он прежде даровал городу Миссолонги, но, по опыту зная, что эти деньги будет нелегко получить, приказал, чтобы Лукасу выдали мешок с долларами Марии Терезы, который он обычно хранил в своей комнате.
Байрон попытался передать Флетчеру свои последние пожелания: «Моя бедная милая дочь! Моя дорогая Ада! Боже мой, если бы я только мог увидеть ее… Передай ей мое благословение, а также моей дорогой сестре Августе и ее детям. Иди к леди Байрон и расскажи ей все, вы с ней друзья». Его голос стал тише, и он начал шептать что-то, чего Флетчер не смог разобрать, но потом Байрон снова заговорил громко: «Флетчер, если ты не выполнишь моей воли, я буду преследовать тебя после смерти».
После этого у Байрона начался бред, и в редкие минуты, когда его разум не блуждал, он отдавал последние приказы Флетчеру, который не мог понять из них ни слова. Неудивительно, что силы быстро оставляли Байрона. Кроме кровопускания врачи дали ему еще слабительного, на этот раз из «александрийского листа, трех унций горькой соли и трех унций касторового масла». Около шести вечера Байрон ненадолго встал, чтобы облегчиться, а вернувшись в постель, сказал: «Чертовы врачи так выжали меня, что я еле стою».
И после этого Байрон больше уже не вставал. Около шести часов вечера в воскресенье 18 апреля Флетчер услышал, как он произнес: «А теперь я усну», лег на спину и закрыл глаза. Это были его последние слова, и он почти не двигался. Теперь Байрон был во власти врачей, и они вновь поставили пиявок ему на виски. Всю ночь из и без того обескровленных вен текла кровь.
Незадолго до того как Байрон впал в беспамятство, из Англии пришли письма от Хобхауса и Киннэрда с самыми обнадеживающими известиями. Хобхаус писал: «Киннэрд подтвердил, что твои денежные дела идут успешно, у тебя появился значительный капитал, и, если ты поправишься, думаю, тебе больше нечего будет желать на земле. Твои теперешние дела, несомненно, самые славные из всех человеческих дел. Вчера Кэмпбелл сказал мне, что завидует тому, что ты делаешь, – и ты можешь ему верить, потому что он очень завистливый человек, – даже больше, чем лавровому венку твоей славы».
Но зависть уже не могла коснуться Байрона. В течение следующих суток он не приходил в сознание. Тита и Флетчер дежурили у постели. В шесть часов вечера 19 апреля (Пасхальный понедельник. – Л.М.) Флетчер записал: «Я видел, как мой господин открыл глаза, а затем тут же закрыл, но на его лице не было видно признаков страдания, и он не пошевелился. «О боже! – воскликнул я. – Боюсь, его светлость скончался». Врачи пощупали пульс и подтвердили: «Вы правы, он скончался».
Вечером в понедельник Пэрри записал: «В тот самый час, когда скончался лорд Байрон, разразилась самая ужасная гроза, которую я когда-либо видел. Страшно сверкала молния. Греки, суеверный народ, верят, что такое случается, когда умирает великий человек. Они воскликнули: «Великий человек умер!» Этот шторм мог бы растрогать самого Байрона. Его дух мог обрадовать вид суетящихся врачей и рыдающих слуг у постели, изображающих сцену, достойную «Дон Жуана». Однако горе не было притворным. У этих слуг никогда не было лучшего господина, и они никогда не нашли бы никого добрее и щедрее. Флетчер, служивший Байрону дольше других, оплакивал его смерть сильнее, чем может показаться из его письма сестре Байрона. Слуга-негр, секретарь Байрона Лега Замбелли и Тита Фальсиери были безутешны. Тита, который был любимцем Байрона и в последние дни почти не оставлял его, писал своим родителям: «Со слезами на глазах я пишу о смерти моего доброго господина и второго отца».
Все врачи плакали, а Пьетро Гамба был безутешен. С момента его первой встречи с Байроном в Равенне в 1820 году он был его постоянным спутником, другом, почитателем и учеником. Пэрри, знавший Байрона совсем недолго, не менее горько оплакивал его смерть. Он также заметил, как искренне было горе греков. «Никто, кроме, возможно, его слуг и друзей, не сожалел о его смерти так тяжело, как бедные жители Миссолонги. Его пребывание в городе давало им пищу и безопасность», – писал Пэрри.
Несомненно, что Маврокордатос также искренне горевал по Байрону, но с этим горем смешивалось беспокойство за себя и дело, которому он посвятил жизнь. Маврокордатос понимал, какой всплеск жадности и соперничества случится после смерти Байрона. Он немедленно от имени временного правительства Западной Греции объявил о том, что пышные похороны должны сопровождаться залпами орудий. На рассвете 20 апреля люди, измученные горем и долгим бодрствованием, были разбужены пушкой крепости, которая скорбно грохотала над тихой лагуной.
Было уже решено набальзамировать тело и отправить его в Англию. В девять часов врачи собрались для этого тяжелого занятия. Но они приступили к нему не сразу, остановившись, по словам Миллингена, «в молчаливом раздумье над этим жалким прахом, еще недавно носившим черты физической красоты, которая так привлекала женщин и мужчин». Далее Миллинген продолжает: «…единственным пороком его тела, которое могло поспорить красотой с самим Аполлоном, была врожденная деформация его левой ноги и ступни[38]. Ступня были изуродована и скрючена внутрь, а нога была меньше и короче здоровой… Почти нет сомнения, что он родился косолапым». В Миссолонги сохраняется легенда, что греческая женщина, нанятая обмывать тело, вернувшись из дома у лагуны, говорила своей дочери, что тело милорда «было белым, как крыло молодого цыпленка».
Но вскоре благоговение врачей отступило перед профессиональной заинтересованностью. Процесс бальзамирования требовал удаления внутренних органов, кроме того, возможно желая узнать истинную причину смерти, врачи приступили к вскрытию. В своем дневнике доктор Бруно, в частности, писал: «Кости черепа были очень твердыми, без малейших следов швов, словно кости восьмидесятилетнего человека…»
Опытный диагностик нашего времени, доктор Нолан Д.К. Льюис из Института психоневрологии штата Нью-Джерси, после изучения записей доктора Бруно и других медицинских свидетельств последней болезни и смерти Байрона, заявил, что «вскрытие, так же как и лечение в свете современных технологий и методов могут показаться грубыми и непрофессиональными… Однако вполне вероятно, что мы навсегда останемся в неведении относительно точного диагноза…» Однако после детальных исследований доктор Льюис сделал заявление, что «непосредственной причиной смерти стало отравление продуктами распада, процесс которого начался в последние дни болезни Байрона, а летальный исход был приближен многочисленными кровопусканиями и применением сильных слабительных средств»[39].
Был приготовлен гроб из прочного дерева с обитыми жестью стенками. Сердце, мозг и внутренности поместили в разные контейнеры. 22 апреля горожане и солдаты отдали последнюю дань уважения поэту в церкви, в которой был похоронен Марко Боцарис. Гроб был накрыт черным покрывалом, а сверху лежали шлем Байрона, его меч и лавровый венок. Надгробная речь, произнесенная Спиридионом Трикупи, сыном примаса Миссолонги, представляла собой прекрасный образец греческого ораторского искусства. Но если слова были излишни, то чувства греков, кумиром которых являлся Байрон, были искренни. Одна из многочисленных баллад, сложенных о нем солдатами, была сочинена вскоре после его смерти и звучит примерно так:
Миссолонги стенали и сулиоты рыдали
О лорде Байроне, приехавшем из Лондона.
Он собирал солдат в армию…
Солдаты называли Байрона отцом,
Потому что он любил их…
Плачут деревья, плачут леса,
Плачут городские стены,
Потому что Байрон лежит мертвый в Миссолонги.
Весть о смерти Байрона распространилась по всей Греции, и почти каждый город устроил поминальную службу по поэту. В Анатолико, в Салоне, в Аргосе, в Науплии и на островах имя Байрона стало синонимом бескорыстного патриотизма. В каждом городе звучали пафосные речи, но чувства людей были сильнее, чем слова ораторов. Возможно, смерть Байрона сделала больше для объединения Греции, чем его жизнь. Когда греки наконец добились независимости, его имя засияло еще ярче. Почти в каждом греческом городе есть «улица Байрона», а его величественная статуя возведена в саду Героев в Миссолонги.
Законодательный совет Аргоса объявил 5 мая днем всенародного траура. Исполнительный совет в Науплии также призвал ко дню скорби, «потому что Байрон больше не ступает по греческой земле, которую он так любил много лет назад, и потому что греки всегда будут благодарны ему, и весь народ должен называть его отцом и благодетелем…». В сообщении Греческому комитету в Лондоне об этом событии говорилось, что «лорд Байрон, к несчастью греков, отошел в мир иной».
Трелони узнал о смерти Байрона на пути в Миссолонги. 24-го или 25 апреля он въехал в тихий, мрачный город. Его воспоминания о том, как он увидел тело Байрона, пока Флетчера не было в комнате, очень ненадежны. Но они так часто цитировались непритязательными биографами, исходя из его «Воспоминаний», написанных много лет спустя после этого события, что приобрели статус легенды, которую невозможно оспорить. Трелони писал, что «для того, чтобы укрепить или развеять свои сомнения относительно причины его хромоты, я снял покрывало с ног этого скитальца и получил ответ – великая тайна была разрешена. Обе его ступни были скрючены, а ноги усохли до колен: тело и черты лица Аполлона, а ноги – лесного сатира». Сам факт того, что Трелони вообще видел ногу Байрона, сомнителен, и он сам позднее противоречит себе, говоря, что Байрон хромал на правую ногу.
Греки были бы рады успокоить тело Байрона в земле, на которой он стал почетным гражданином. Несколько раз он сам выражал желание быть похороненным на чужбине, на острове Лидо в Венеции или в Греции. Однажды он сказал, что «мои кости не будут гнить в английской могиле». Но позднее он стал испытывать ностальгию по родине и говорил Флетчеру, Пэрри, Стэнхоупу и другим, что если он умрет в Греции, то хотел бы быть похороненным дома. Стэнхоуп хотел поместить его останки в храме Тесея или в афинском Парфеноне, но прибыли уже несколько лодок для перевозки гроба и домашней утвари Байрона на Зант. Однако жители Миссолонги просили оставить им часть «этого благородного тела», и их желание было удовлетворено. Сосуд с легкими Байрона был помещен в церкви Святого Спиридиона. Таким образом, грекам удалось сохранить часть смертных останков поэта.
Гроб, помещенный в большой ящик со ста восемьюдесятью галлонами спирта, был погружен на острове Зант на борт корабля «Флорида» в сопровождении полковника Стэнхоупа, слуг и собак Байрона. Он отплыл 24 мая, а 29 июня вошел в устье Темзы, бросив якорь у известковых холмов.
Пьетро Гамба желал сопровождать останки человека, который был ему дороже брата, но отправился в Англию на другом корабле, чтобы не смущать друзей и родных Байрона из-за его известной связи с сестрой Пьетро. Он не решился сообщить печальную весть Терезе, когда останавливался у друзей в Болонье, и предоставил сделать это своему отцу. Тереза «достойно перенесла этот тяжкий удар».
Первые известия о смерти Байрона достигли Англии 14 мая в письмах и посылках Дугласу Киннэрду. Он немедленно написал Хобхаусу, который «вскрыл письма и, полный ужаса и скорби, прочел страшное известие». Несмотря на годы разлуки, Хобхаус остро ощущал эту потерю, потому что Байрон был связан в его памяти с лучшими днями юности. Напротив отрывка из книги Мура о жизни Байрона он позднее написал: «Из всех особенностей Байрона его смех пробуждал во мне самые дорогие воспоминания».
Хобхаус послал за Киннэрдом и сэром Фрэнсисом Бердеттом. Они оба были сильно опечалены. Сэр Фрэнсис согласился сообщить весть миссис Ли и передать ей письмо Флетчера. Но, несмотря на свою скорбь, ближайшие друзья Байрона прежде всего занялись защитой его имени. Хобхаус вспоминал: «Когда первый шок прошел, я решил не терять ни минуты в исполнении моего долга и сохранить все, что будет напоминать мне о дорогом друге, его славе. Я сразу подумал о его мемуарах, переданных Томасу Муру и, в свою очередь, переданных мистеру Меррею».
Весть о смерти Байрона появилась в газетах. Среди тех, кто больше всего был поражен этим сообщением, была Мэри Шелли. 15-го числа она написала в своем дневнике: «Альбе, милый, причудливый, очаровательный Альбе покинул этот бесприютный мир! Если бы я могла умереть молодой!» Капитан Джордж Байрон, кузен поэта, унаследовавший титул, отправился за город к леди Байрон. Он сообщил, что «она была очень опечалена… Она хотела знать все подробности о его последних часах».
Внимание Хобхауса было приковано к мемуарам и их уничтожению. Странно, но он нашел преданного союзника в лице Джона Меррея, который уже заплатил за рукопись Муру две тысячи гиней. Мур сопротивлялся, но столкнулся с упорными противниками. Его даже убедили отказаться от намерения сохранить часть мемуаров. Утверждение Мура, что уничтожить мемуары без предварительного прочтения или всякой цели (Хобхаус их никогда не читал) – значит «бросить тень на эту работу, которая ничего подобного не заслуживает», вызвало опасение Хобхауса и Меррея относительно репутации Байрона. Попытка Мура спасти рукопись, передав ее миссис Ли, провалилась, потому что Хобхаус уже воспользовался ее страхами. Леди Байрон, которая не хотела, чтобы в скандале было замешано ее имя, жаждала уничтожить мемуары, где присутствовала версия Байрона о причинах их развода. На ее стороне выступали Уилмот Хортой и полковник Дойл.
В огромной гостиной с высоким потолком в доме Меррея, которая была также его рабочим кабинетом, проходили тихие препирательства по поводу судьбы мемуаров, начатых Байроном в Венеции, чтобы поразить публику и открыть ей глаза после его смерти. Его позабавил бы тот факт, что главными защитниками его чести и славы были Хобхаус, тот самый человек, который назойливо убеждал его бросить «Дон Жуана», и Джон Меррей, «самый робкий из всех издателей», в то время как его добрый друг Мур, возможно по эгоистическим причинам, защищал право Байрона быть узнанным после своей смерти. Невозможно не увидеть искренности и не восхититься бескорыстной преданностью Хобхауса и Меррея, но также невозможно после многих лет не желать, чтобы их щепетильность не восторжествовала над здравыми доводами Мура. Если бы рукопись была спрятана или потеряна из виду на сотню лет, как бумаги Босвелла! Мур протестовал до последнего, а Уилмот и Дойл торжественно разорвали рукопись и копию, сделанную для Мура, и сожгли их.
В перерывах между бурной деятельностью Хобхауса, в которую он погрузился после смерти Байрона, он предавался воспоминаниям о своем дорогом друге. «По письмам я вижу, что скорбь поистине всенародна, – писал он, – ни у одного живого человека не было столь преданных друзей. Никогда я не встречал человека, который так бы притягивал к себе окружающих, каждый знакомый с ним не мог не осознать волшебной силы, исходившей от него. В нем было что-то властное, но в то же время не внушавшее трепет. Он никогда не был чересчур серьезен или весел не к месту и, казалось, всегда чувствовал себя уютно в любом обществе».
Весть о смерти Байрона, писал Аллан Каннингхэм в «Лондон мэгэзин», «разошлась по городу, словно землетрясение». Вероятно, те, кто не был знаком с Байроном лично, особенно остро ощущали потерю: серьезное молодое поколение, знающее и ценящее поэзию. Впечатление, оставленное Байроном, которое Суинберн, а позднее Мэттью Арнольд назвали «искренностью и силой», видно из реакции тех, кто, подобно этим известным викторианцам, отрекся от его влияния. Альфред Теннисон, тогда четырнадцатилетний мальчик из Соммерсби, графство Линкольншир, скитался в отчаянии и написал на скале: «Байрон умер». Джейн Уэлш, за которой тогда ухаживал Томас Карлайл, написала ему: «…Байрон умер! Мне сообщили об этом в комнате, полной народу. Боже, если бы они сказали, что солнце или луна закатились на небе, это не поразило бы меня так сильно, как повисшая внезапная пустота в мире…» Карлайл писал, что Байрон «был благороднейшей душой в Европе» и он чувствовал себя так, словно «потерял брата».
2 июля Хобхаус взошел на борт «Флориды», стоявшей в устье Темзы, и сопровождал тело Байрона вверх по реке, предаваясь печальным раздумьям: «Я был последним, кто пожал руку лорду Байрону в Дувре в 1816 году, когда он покидал Англию. Помню, он махал шапкой, когда пакетбот уходил в бушующее море…» Когда на борт поднялся сотрудник похоронного бюро и извлек гроб из ящика со спиртом, Хобхаус не мог заставить себя взглянуть на когда-то красивое лицо своего друга. Он просто склонился к гробу, а ньюфаундленд Байрона сидел у его ног.
Тело несколько дней находилось в доме сэра Эдварда Нэтчбулла, на Грейт Джордж-стрит, 20, и его видели только самые близкие друзья и родственники Байрона. Зрелище произвело на Хобхауса меньшее впечатление, чем он ожидал, потому что лицо покойного «совершенно не было похоже на лицо моего дорогого друга: рот был искажен и полуоткрыт, обнажая зубы, которыми бедняга когда-то так гордился и которые теперь от спирта потеряли свой красивый цвет, верхнюю губу затеняли рыжие усы, придававшие его лицу совершенно новое выражение. Щеки были впалые и набрякшие у губ, нос глубоко запал между глазами, брови кустистые и нависшие, кожа цветом напоминала старый желтый пергамент… Казалось, это был не Байрон: я не был тронут так, как при виде его почерка или какой-нибудь вещи, принадлежащей ему…».
Несколько человек, включая Стэнхоупа, настаивали на похоронах в соборе Святого Павла или Вестминстерском аббатстве. Но Хобхаус посоветовался с миссис Ли и согласился с ее желанием похоронить брата в семейном склепе в церкви Хакнелл Торкард неподалеку от Ньюстеда. Дело в том, что Меррей – хотя на самом деле это был Киннэрд – по своей инициативе, но от имени Хобхауса обратился к доктору Айрленду, ректору Вестминстера, и таким образом дал тому возможность отказать в просьбе похоронить поэта в аббатстве.
Флетчер, несмотря на искреннее горе после потери своего господина, наслаждался ролью главного скорбящего и вниманием, которое ему уделяли как человеку, слышавшему последние слова и желания поэта. Кажется, он хотел припомнить или, по крайней мере, намекнуть на вещи, которые пробудят интерес тех, кто был связан с Байроном. Когда в июле он пришел к леди Байрон с рассказом о смерти ее бывшего мужа, она слушала и ходила по комнате, «рыдая так, что все ее тело сотрясалось, и умоляла его в течение почти двадцати минут припоминать слова, произнесенные ее бывшим супругом в ясной памяти или в бреду».
Хобхаус сделал все возможное, чтобы устроить подобающие похороны, и 12 июля похоронная процессия двинулась из Лондона в Ноттингем. Но знатные семьи, особенно связанные с правительством, не хотели, чтобы их заметили на похоронах, хотя из почтения к Хобхаусу и его друзьям отправили вместо себя несколько пустых экипажей. Несмотря на хвалебные отзывы газет об умершем, знатные люди опасались выразить свои чувства, возможно, потому, что, хотя в частной обстановке можно было восхищаться делами Байрона в Греции, британское правительство по-прежнему хранило нейтралитет и не должно было официально поддерживать зачинщиков бунта. Более того, греческий комитет, представителем которого являлся Байрон, состоял в основном, кроме придерживающихся традиционных взглядов сторонников революции в Греции, из радикалов и вигов. Но еще больше опасались потому, что помнили об общественном остракизме, которому подверглось имя Байрона в дни его разрыва с женой и ставшем еще сильнее после сообщений о его жизни в Италии. Не то, что он делал, а то, о чем открыто возвещал миру, давно лишило его права называться истинным англичанином или джентльменом. И даже тот факт, что миссис Ли была его ближайшей родственницей и больше всех оплакивала его, не заставил высший свет появиться на похоронах.
Когда по городу двигалась процессия из сорока семи экипажей, на улицах было полно людей. День выдался ясный, и толпа все собиралась по мере того, как экипажи свернули на Оксфорд-стрит и выехали на Тоттенхэм-Корт-роуд. В экипажах не было дам, хотя многие смотрели из окон. У Августы не хватило ни сил, ни мужества сесть в похоронный экипаж, и она отправила вместо себя своего супруга. Хобхаус писал: «Джордж Ли, капитан Ричард Байрон (по слухам, новый лорд, молодой Джордж Байрон, был болен и находился в Бате), Хэнсон и я ехали в первом экипаже. Бердетт, Киннэрд, Брюс, Эллис, Стэнхоуп и Треваньон (один из членов семьи) – во втором. Мур, Роджерс, Кэмпбелл и депутат Орландо – в последнем». Следом ехали пустые экипажи. Хобхаус с пафосом заключил: «Покойному были оказаны такие почести, какие позволили обстоятельства. Он был похоронен как благородный человек, потому что мы не могли похоронить его как поэта».
Мэри Шелли наблюдала за процессией из своего дома. Позже она писала Трелони: «…пробудив многочисленные мысли о нем, восхищение его гением и любовь ко всем его недостаткам, проехал мимо моих окон по направлению к Хайгейту катафалк с его безжизненным телом, прекрасным телом, которым при жизни я так часто мечтала обладать…»
На окраине города пустые экипажи повернули назад, и только представители похоронной компании сопровождали кортеж на север. Процессия была в пути четыре дня. В каждом городе она собирала толпы людей, которых становилось все больше по мере приближения к постоялому двору Блэкмурс-Хэд в Ноттингеме. Черные балдахины карет были покрыты пылью, и народ в молчании смотрел, как процессия вкатилась во двор. Зазвонил колокол церкви Святой Марии.
Хобхаус вспоминал, как навещал Байрона в Ньюстеде в 1809 году. За этим последовали другие воспоминания: «Из пяти человек, часто ужинавших у Байрона на вилле Диодати близ Женевы: Полидори, Шелли, сам лорд Байрон, Скроуп Дэвис и я – первый покончил с собой, второй утонул, третий был погублен врачами, четвертый в ссылке!!!»
Старый друг Байрона Фрэнсис Ходжсон и полковник Уайлдман, владелец Ньюстедского аббатства, 16 июля присоединились к похоронной процессии на пути к церкви Хакнелл. Когда они выехали с постоялого двора, из церкви раздался печальный колокольный звон. Напыщенность процессии: пажи, богатые бархатные покрывала, наемные участники похоронной процессии, черные кони с перьями на головах – все это было приятно глазу Джона Кема Хобхауса, члена парламента, но его мысли постоянно уносились к другим, беззаботным временам, когда он гулял в этих местах вместе с Байроном.
Когда гроб внесли в семейный склеп поэта, его поместили на гробницу пятого лорда Байрона. Какая-то частица многоликой души Байрона была бы довольна таким концом: его прах смешался с прахом одного из предков. А другая частица его души увидела бы «…смех под обликом печали, как в тех каретах скорбных утаен, в которых гости едут с похорон» в торжественной службе, завершившейся чтением молитвы над бренными останками поэта.
Но в «Чайльд Гарольде» Байрон сам себе написал эпитафию более искреннюю и трогательную, чем все слова, произнесенные над его гробом в Англии и Греции:
Зато я жил, и жил я не напрасно!
Хоть, может быть, под бурею невзгод,
Борьбою сломлен, рано я угасну,
Но нечто есть во мне, что не умрет,
Чего ни смерть, ни времени полет,
Ни клевета врагов не уничтожит,
Что в эхе многократном оживет
И поздним сожалением, быть может,
Само бездушие холодное встревожит.
Какая-то часть души Байрона осталась на земле после его смерти, и именно она побудила его близких друзей и знакомых верно хранить память о нем и не забывать его. Немногим людям после смерти удавалось сохранить такое влияние на других людей. Хобхаус скоро понял это. Он писал: «Бедный Байрон! Он всегда вдохновлял своих друзей при жизни, и, кажется, после смерти им будет нелегко забыть его».
Не успели вести о его кончине появиться в газетах, как несколько женщин, близко знавших Байрона и достаточно нескромных для того, чтобы поведать в переписке о своих отношениях с ним, стали осаждать Хобхауса с просьбой вернуть им письма поэта. Среди них была Каролина Лэм. Но когда нужно было вернуть ее письма Байрону, она не нашла в себе сил расстаться с ними, и Хобхаус оставил у себя письма поэта в залог того, что она не опубликует свои в каком-нибудь очередном романе. Каролина писала Меррею с просьбой рассказать ей обо всех подробностях смерти Байрона: «Мне очень жаль, что я была несправедлива к нему». Она хотела видеть Флетчера, возможно, чтобы узнать, не упомянул ли ее Байрон на смертном одре. «Это красивое бледное лицо» воистину преследовало Каролину Лэм до самого последнего вздоха.
Леди Фрэнсис Уэбстер просила уничтожить ее письма Байрону. Но Хобхаус, чтобы возместить ущерб от уничтожения мемуаров, не стал ни уничтожать, ни возвращать письма дюжины женщин, жаждавших вернуть свидетельства своего давнего увлечения. Решительно противостоя натискам многочисленных биографий и воспоминаний о Байроне, включая воспоминания Мура, Хобхаус столь же верно продолжал хранить письма и бумаги Байрона, в то время как Мур, который прежде один выступал за сохранение мемуаров, напечатал в своей книге о жизни Байрона только избранные места из его писем, а остальные либо уничтожил, либо предоставил это дело своему редактору, поскольку все письма исчезли.
В течение всей своей долгой жизни Хобхаус считал себя самым близким другом Байрона и защитником его репутации. Он оспаривал утверждения Далласа и Медвина и других биографов и не давал в руки Муру писем и других документов, потому что Меррей предоставил Муру право написать официальную биографию Байрона. Позднее Хобхаус женился на леди Джулии Хей и от радикализма, которым увлекался в юности, обратился к тихой респектабельной жизни. Он участвовал в общественных и политических делах, был в разные годы членом кабинета министров и в 1851 году получил от королевы Виктории звание пэра, как барон Браутон де Гиффорд[40].
Томас Мур компенсировал утрату мемуаров изданием «Писем и дневников лорда Байрона с замечаниями о его жизни» (1830), которые, несмотря на вольные и невольные пропуски, рисовали панорамную картину характера и личности Байрона намного шире, чем это удавалось биографам до Мура. Главное достоинство работы заключается в том, что автор не искажает слов Байрона в его самых интересных письмах к Муру, Меррею и в его дневниках.
Пьетро Гамба, сопроводив останки Байрона в Лондон, написал и опубликовал свое «Повествование» о последних днях Байрона, а затем, по-прежнему будучи изгнанным из своей родной Романьи, вернулся в Грецию. Он умер от тифа в 1827 году на перешейке Метана и был похоронен в крепости Диамантопулос, впоследствии уничтоженной. От одного из самых пылких почитателей Байрона остались только его книга и несколько писем.
Джон Меррей, кроме издания «Жизни Байрона» Мура, продолжал издавать произведения Байрона, выкупая авторские права, и оставался всю жизнь верным почитателем поэта, как и все его потомки. Современный глава издательства, мистер Джон Грей Меррей, по-прежнему трудится на Элбемарл-стрит, 50, и владеет огромной коллекцией рукописей, писем и памятных вещей поэта.
Слуга Байрона, Флетчер, который счел ежегодную выплату, предоставленную ему Хэнсоном и Хоюхаусом, недостаточной, вместе с Легой Замбелли основал макаронную фабрику. Когда в 1835 году дело прогорело, он обратился к Хобхаусу за помощью. Флетчер часто посылал подобные просьбы Августе Ли, а иногда и Меррею. Позднее сын Флетчера женился на дочери Замбелли. Тита Фалсиери некоторое время служил у Бенджамина Дизраэли, который в юности был искренним почитателем Байрона.
Лукас Халандрицанос, любимец Байрона, причинивший ему в последние месяцы жизни столько душевных страданий, после смерти своего покровителя не приобрел счастья, несмотря на все благодеяния Байрона, сделанные во время роковой болезни. Лукас также умер молодым, вероятно не успев получить обещанных денег, потому что его сестры в 1832 году обратились за помощью к дочери Байрона, надеясь, что дочь поэта «поможет нашему горю». Они говорили о щедрости Байрона ко всем угнетенным грекам: «Среди них был один из наших братьев по имени Лукас, которого очень любил незабвенный лорд Байрон, но который умер в разгар войны, не успев воспользоваться благами, подготовленными для него…»
Трелони после безуспешных попыток передать своему любимцу Одиссею деньги и оружие греческого комитета, которые получил Байрон, вернулся на службу к этому вождю. Он то пытался поразить свет своим близким знакомством с Байроном, то выражал свое превосходство над поэтом. Он напыщенно писал Мэри Шелли: «…я опять, милая Мэри, в своей родной стихии и занимаю не последнее место в Греции… Но мне больно при мысли о том, что я потерял моего дорогого друга лорда Байрона, поскольку я по-прежнему называю его так, несмотря на все его недостатки, вы знаете, что я любил его». Но свое письмо Трелони завершал следующими словами: «Я больше не безвестный человек, а греческий вождь, который может и хочет защитить вас…»
Однако несколько месяцев спустя, когда слава Байрона в Греции еще больше окрепла, Трелони вновь написал: «Хорошо, если бы он (Байрон. – Л.М.) прожил дольше и увидел, как я возвысился над ним, как восторжествовал над его низким духом». Джозеф Северн, друг Китса, который видел Трелони в Риме в 1823 году, называл его «шакалом лорда Байрона».
Трелони женился на сестре Одиссея и, когда положение в стране обострилось, бежал в секретный грот своего повелителя в горе Парнас. Там в него выстрелил предатель, но через продолжительное время Трелони обнаружили и спасли англичане, после чего он вернулся в Англию, где прожил до глубокой старости, окруженный славой своих подвигов и в ореоле великих имен поэтов и героев греческой революции. В своих «Воспоминаниях» он воспевал Шелли и себя за счет Байрона и описал немало забавных случаев с обоими, которые часто цитировали другие биографы, не удосуживаясь оценить их трезво. Трелони умер в 1881 году в возрасте восьмидесяти девяти лет – долгожитель среди романтиков.
Августа Ли унаследовала состояние Байрона (большая его часть, шестьдесят тысяч фунтов, согласно брачному договору, отошла к леди Байрон по условиям развода), но постоянно испытывала финансовые трудности из-за своей расточительности и пристрастия супруга к азартным играм. Несмотря на безжалостные попытки леди Байрон заставить Августу раскаяться, она продолжала лелеять добрые воспоминания о своем милом брате. Иногда она подделывала его подпись для восхищенных друзей, но не могла заставить себя расстаться с его письмами. Наконец она поссорилась с Аннабеллой, но не из-за Байрона, а из-за денег. Безжалостная «доброта» леди Байрон распространялась и на ее попытки подружиться с дочерью Августы, Медорой, которую она убеждала поверить в то, что Байрон ее отец. Медора родила двоих детей мужу своей сестры, Генри Треваньону, и уехала во Францию, вышла замуж за француза и создала семью, которая гордилась родством со знаменитым поэтом. Перед смертью Августы в 1851 году леди Байрон снизошла до последней встречи с ней, во время которой ожидала услышать другое признание: что Августа настраивала брата против жены. Но Аннабелла была разочарована: Августа не призналась по той простой причине, что это было неправдой.
Последние годы жизни леди Байрон посвятила добрым делам и делала «признания» относительно своей жизни с мужем, которые разделяла с удивительно большим количеством людей, в то же время поддерживая впечатление, что переносит свое горе молча. Среди тех, кому она исповедовалась, была Гарриет Бичер-Стоу, через несколько лет после смерти леди Байрон опубликовавшая ее сенсационный рассказ об инцесте, почерпнутый из ее бесед с Аннабеллой. Воспоминания самой леди Байрон можно найти в многочисленных «повествованиях», написанных в конце жизни, когда ее преследовала навязчивая идея оправдать себя. Она хранила все свои письма и письма, связанные с ее разводом.
Дочь Байрона Ада, «рожденная в раздоре», как он и предсказывал, полюбила его. В детстве ей не рассказывали об отце и не показывали его портрета, но ее муж, лорд Кинг (позднее лорд Лавлейс), вырвал ее из-под влияния матери, и Ада полюбила отца и его поэзию. Однако Байрон был бы несколько уязвлен, если бы узнал, что дочь стала еще более известным математиком, чем мать, хотя ее уверенность в том, что знание чисел поможет ей выигрывать на скачках, развеялась. Когда Ада умерла в возрасте тридцати семи лет, ее похоронили по ее желанию в семейном склепе в церкви Хакнелл Торкард рядом с отцом.
В конце жизни Клер Клермонт вернулась во Флоренцию, превратив свою ненависть к Байрону в навязчивую идею. Забавно, но она приняла католическую веру, что, однако, не смягчило ее нападок против Байрона в переписке со стареющим Трелони, который обвинял Клер в «помешательстве». В старости она стала своего рода легендой из-за связи с Байроном и Шелли и слухов о том, что у нее хранятся бесценные письма и бумаги, – на самом деле у нее не могло быть никаких писем, потому что Байрон старательно избегал ей писать. Но именно потому Генри Джеймс сделал ее главной героиней своих «Писем Асперна». Клер умерла в 1879 году в возрасте восьмидесяти одного года, придумав себе такую оригинальную эпитафию: «В страданиях она провела дни, искупая не только свои грехи, но и добродетели».
Тереза Гвичьоли пережила удар, нанесенный ей смертью Байрона, но воспоминания о нем не оставляли ее всю долгую жизнь. В 1826 году она вернулась к мужу, но скоро оставила его вновь. Тереза провела несколько зим в Риме, где ненадолго увлеклась красивым хромым Генри Фоксом, сыном лорда Холланда. Также она была увлечена французским поэтом Ламартином, который привлек ее своим преклонением перед поэзией Байрона. Таким же образом Тереза флиртовала с другими англичанами в Италии, в том числе с графом Малмсбери, который включил воспоминания Терезы о Байроне в свои мемуары.
Тереза давно мечтала поехать в Англию и весной 1832 года совершила паломничество на родину Байрона. Там она встретилась с леди Блессингтон, к которой так ревновала в Генуе, Джоном Мерреем, Августой Ли и другими близкими друзьями Байрона и совершила поездку в Ньюстедское аббатство. Позднее она с восторгом отзывалась о миссис Ли, «его ближайшей и самой любимой родственнице, которую я бы скорее боготворила, чем любила…».
В последние годы Тереза в основном жила в Париже. Граф Гвичьоли умер в 1840 году и после долгого ухаживания сорокасемилетнюю невесту к алтарю повел маркиз де Бойс в часовне Люксембурга. Она была по-прежнему красива, но простота ее манер, так изумлявшая Байрона, переросла в деланость. Многие гости вспоминали нелепости, с которыми она предавалась своему обожествлению Байрона. В ее салоне висел портрет ее поэта-возлюбленного, а она стояла перед ним и выкрикивала: «Какой красавец! Бог мой, какой красавец!» Маркиз со свойственной французам безмятежностью гордился связью своей жены со знаменитым поэтом, и, когда его спрашивали, имеет ли она отношение к той графине Гвичьоли, которая когда-то была любовницей Байрона, он утвердительно отвечал с сияющей улыбкой. Говорят, что он представлял свою жену следующим образом: «Маркиза де Бойс, моя жена, бывшая возлюбленная Байрона».
После смерти маркиза в 1866 году Тереза увлеклась спиритизмом и беседовала с духом Байрона и своего мужа. Она радостно сообщала: «Теперь они вместе и очень дружат».
В тридцатых годах, после публикации произведения Мура о Байроне, родилась мысль установить поэту памятник в Вестминстерском аббатстве. Это вызвало ажиотаж в прессе, но церковные власти вновь ответили отказом. Когда наконец собрали деньги на установление статуи Байрона, изваянной Торвальдсеном, какое-то время она была бесприютной, пока ее не поместили в 1843 году в библиотеке Тринити-колледжа в Кембридже. Сначала ее предложили поместить в Вестминстере, но разрешение не было получено. В течение ста сорока пяти лет аббатство не хотело даже вспоминать о существовании Байрона. В 1954 году там открыли мемориальную доску в память Китса и Шелли. И только в 1968 году ректор Вестминстера, преподобный Эрик Эббот, согласился с воззванием Общества поэзии и позволил открыть памятную доску в честь Байрона в аббатстве. 8 мая 1969 года в аббатстве торжественно прошла «Церемония открытия мемориала в память лорда Байрона» под эгидой Общества поэзии. Уильям Пломер, президент общества, метко заметил: «Если бы тень Байрона сегодня присутствовала здесь, то на его губах блуждала бы слегка язвительная улыбка».