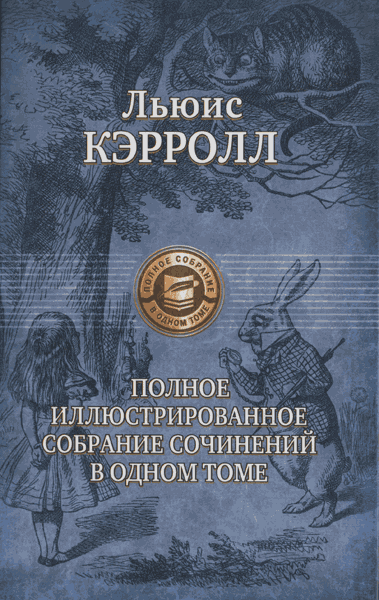
Льюис Кэрролл
ТРИ ЗАКАТА И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
Три заката

Ее увидел он, и взгляд
Ответный сердце бросил в сон,
Волненьем сладостным объят,
Он замер, в грезу погружен.
Вся в свете меркнущем, она
Как совершенная жена.
В тот летний вечер свет владел душой,
И каждый легкий шаг дарил простор,
И мир казался сказочной страной,
И музыкой был полон кругозор,
Тогда благословил он мир, где в снах
Могло быть явлено такое чудо, как она.
Когда же в небе звезды первые зажглись
И солнце замерло у западной черты,
Два сердца любящих в прощании слились,
Где луч последний, луч его мечты,
В багряном облаке скрываясь, трепетал,
И, погребальным саваном окутан, улетал.
Той ночи отблеск памятью храним —
Руки изгиб, касанье теплых губ,
И образ, исчезающий пред ним,
Безмолвно канувший в сырую мглу, —
Все это проносилось там, в тиши,
В чертогах сумрачных его души.
Вернулся он спустя немало лет —
Усталый путник с дальних берегов, —
Все та же улица и тот же ряд домов,
Но тех, кого искал он, больше нет.
Его надежды, страстные слова,
Бесцельно падали, впустую речь лилась,
Лишь дети, игры резвые прервав,
Выслушивали горестный рассказ,
То разбегаясь для своих забав,
То ближе с осторожностью теснясь
И прикасаясь робкою рукой
К пришельцу странному из стороны иной.
У шумной улицы сидел он, как тогда,
Там, где последний раз смотрел в ее лицо,
Воспоминаний долгих череда
Смыкалась в неразрывное кольцо:
И отзвуки шагов, что где-то здесь живут,
И голос ласковый как будто наяву.
Поэтому порой, на склоне дня,
Когда на город наползал туман,
Он сетовал, судьбу свою кляня,
На веру в соблазнительный обман
И раздувал с жестокою тоской
Угли́ отчаянья, покрытые золой.
Уж лето минуло, а он не уходил,
Как будто близился последний срок,
Все ждал чего-то из последних сил,
Все вглядывался в лиц живой поток,
Потом со вздохом отводил глаза
И думал: «Больше нет пути назад».
И дух его измученный искал
Спасения в насмешке над собой,
Когда в ночной тиши изобретал
Все новых пыток сладостную боль
И множил без начала и конца
Фантом ее прекрасного лица.
Но как-то вдруг, в звенящей тишине
Он ощутил присутствие её —
Явленье ангела, сошедшего извне,
Свет, вторгшийся в глухое забытьё, —
И тут же ее образ неземной
Поблек, и мир покрылся пеленой.
Тогда, собрав осколки прежних дней
Меж бездной боли и круженьем снов,
Он насладился горечью своей,
Замкнул уста для бесполезных слов
И навсегда отрекся от пути
К тому, чего не смог он обрести.
Как сумасброд, что от людей таясь,
Свой дикий нрав не в силах превозмочь,
К безвестной гибели отчаянно стремясь,
Весь мир живой отбрасывает прочь, —
Так его жизни драгоценный дар
Один кошмар отбросил в никуда.
Как лист увядший, брошен он в пыли,
Но лишь вчера, в веселии своем,
Дивились мы на строгий его лик,
Совсем несхожий с нищенским тряпьем,
Не ведая, что каждый обречен
Таким же стать калекою, как он.
Ведь мы, отвергнув жизни благодать,
Презрели дух смиренного труда
И предпочли в гордыне тосковать
О мире, что потерян навсегда,
Оплакивая круг своих руин
Среди пройденных выжженных равнин.
И вот судьбы свершилось торжество:
В последний раз, с мечтою о былом,
Та, что была всей жизнью для него,
Пришла к нему, но он не знал о том,
Снедаемый корыстною тоской,
Когда до счастья мог достать рукой.
И жалости исполнилась она
К тому, кто был недвижным и немым;
Небес закатных дивная страна
Багряную волну гнала над ним
И проливала сумеречный свет
На двух созданий зыбкий силуэт.
О, пусть проснется он! Мгновений слитный хор
Не прерывается, но нить уже тонка,
Слеза, туманившая ее взор,
Упала на него издалека, —
Она ушла: затмился окоем,
Надежда отлетела вслед за днем.
Вершится дней круговорот,
В лучах зари, в сияньи глаз,
И жизнь вступает в свой черед,
Но для него огонь погас.
Последняя закрыта дверь:
Причислен к мертвым он теперь.
Путь шипов и тропа роз

В старинном зале, сумрачном и тихом
С окном высоким, обращенным на закат,
Где за узорной вязью дикого плюща
Вечерняя заря сменялась ночью,
Сидела дама бледная, устало опершись
На том громадный и лицо укрыв в ладонях.
Но не для отдыха ее склонилась голова —
Капелью слезы по щекам сбегали,
И тихого рыданья скорбный звук
С ночными отголосками сливался.
Вот она снова распахнула том,
И голос, полный муки, зазвучал под сводом:
«Увенчан славою отцов,
Покинул он родимый кров —
Лицом к лицу встречать врагов.
Принять последний смертный бой,
За правду биться, как герой,
И сгинуть в сече роковой.
Там, где сердца друзей верны,
Где руки латные сильны,
Где льется кровь его страны.
Пусть в миг предсмертный слышит он
Оружия победный звон
И ратный клич со всех сторон.
Он обретет земной покой
Среди дружины боевой,
Где тисы шелестят листвой.
Где из церковного окна
В вечернем воздухе слышна
Хорала светлая струна.
Суровый воин, пусть он спит
Там, где кичливый мрамор плит
Его покой не осквернит,
Лишь дети иногда придут
И тихим шепотом прочтут
Имя того, кто дремлет тут».
Печальный голос стих; прервался краткий сон.
«Увы! — со вздохом молвила она. — В чем женщины удел?
Ведь жизнь ее бесцельна, смерть отъемлет все,
Печали ее тщетны, жалобы смешны,
Ей в клетке суждено лишь коротать свой век;
Мужья живут в трудах, но горек жребий наш».
И прозвучал ответ из мрачной пустоты,
Где ночь сгустила скопище теней бесплотных:
«Не сетуй! Каждому назначен свой удел,
Мужчина следует путем шипов: он рубит их,
Он борется с отчаяньем, мечом встречает смерть,
А ты идешь тропою роз; ты скрашивать должна
Его нелегкий труд, и укрывать шипы цветами».
Но с горечью она заговорила вновь:
«О да — служить игрушкой, куклой для забав,
Иль быть букетиком красивым, собранным с утра,
Что к вечеру завянет и отправится в канаву».
И прозвучал ответ из мрачной пустоты,
Где ночь рождала сонм теней неверных:
«Ты — светоч, озаряющий его далекий путь,
Надежды луч, рассеивающий скорбь и муку!»
Но тут почудилось ей вдруг, что грозный свет
Пронзает мрак, как яркий шар, и медленно растет,
Пока не исчезает все: старинный зал,
Зари вечерней гаснущие блики,
Высокое окно — все пропадает вдруг.
И вот она стоит среди холмов огромных,
Вокруг — повсюду, сколько видит глаз, —
Ряды солдат, построенных для битвы,
Немые и недвижные, стоят друг против друга.
Но чу! Вот дальний гром сотряс холмы,
То всадников отряд в порыве слитном
Вперед помчался сквозь живое море,
Помчался к гибели; лишь горстка прорвалась
За строй противника, отчаянно сражаясь,
Но формы их внезапно расплылись,
Поблекли, словно духи в час рассветный,
Когда горит восточная заря; рожков призывный звук
Внезапно стих — рассеялось виденье,
Сменившись образом больничного шатра,
Где Страх и Боль витали над рядами
Больных и умирающих людей.
Там правил мрак, струившийся от крыльев Азраила,
Но в нем сновал без устали живой огонь:
Та, что явила милосердье к падшим,
Спокойно проходила между них,
И ясный взор ее звездою путеводной
Был для людей, и каждому она
Дарила свет, дарила утешенье,
Смягчала жар предсмертный губ касаньем
Или, склонясь, шептала пару слов
На ухо умирающему воину,
Который, уходя в обитель грез,
Благословлял ее. И да пребудет с ней
Благословенье прежних поколений!
Так умоляла дама, грустно наблюдая
За той, что проходила меж людьми,
Пока ее не поглотила ночь, —
Все замерло, и кончилось виденье.
Тогда опять раздался тихий шепот:
«Во мгле отчаянья и неизбывной тьме,
Где Ужас и Война терзают землю,
Заключено призвание твое.
Бесстрашно озираешь ты картины,
Бросающие в дрожь бойцов; ведь для тебя
Священно все, и все они равны:
Нет низости, не стоящей заботы,
И нет величия превыше благ твоих,
Любая жизнь важна, у каждого есть место,
Верши свой труд, а прочее рассудит Бог».
Умолкнул голос, но она не отвечала,
Лишь с уст ее слетело тихое «аминь»,
И поднялась она, и встала перед книгой,
Спокойная и гордая в сгустившейся ночи,
И взор свой устремила к небу; по ее лицу
Струились слезы, но покой царил в душе,
Покой, который мир вовек отнять не сможет!
Долина тени смертной

Он издает предсмертный стон,
И жалобно, и страстно,
Как эльф, который осужден
Жить одиноко, странствуя.
Когда на землю сходит тьма,
Я ощущаю, как с холма
Клубится хладом смерть сама
И тает вдруг в пространстве.
Мой сын, я помню горький день, —
Он там, в зените жизни, —
Хочу, чтоб он исчез, как тень,
Исчез, как горечь тризны.
Но память мучит меня ядом,
Когда здесь никого нет рядом,
И вздохом ветра с тяжким градом,
Что полон укоризны.
Пред смертью ты, мой дух, цветешь,
Все рассказав про ужас,
Что скрыт в груди, впитавшей ложь,
Года шли тьмой недужной,
Когда молчал я о коварстве
Сил зла — они нас держат в рабстве,
Ведут сквозь новые мытарства,
Их знать, мой сын, не нужно.
Сковали чары цепью — что ж,
Греху служил я требы,
Здесь Наслажденья не найдешь,
Тяжки, как камень, хлебы.
Мой глаз духовный полон сора,
И, кажется, лечу я скоро
Сквозь мрачный лес, что стал опорой
Тем горным кряжам неба.
Нашел долину без росы,
Где солнца свет запретен,
И звезд, и лунной полосы, —
Не проникает ветер
В сей мир лесной, — и здесь на ухо,
Когда от ужаса и слуха
Я замер, чей-то голос глухо
Изрек: врата здесь Смерти.
О как невыносимо жить,
Когда плоть отцвела,
Ночь на заре слезой омыть
И день, ведь он дотла
Сгорел под вечер: солнце село,
И все ушло и отшумело.
Помедли, жизнь, застынь несмело,
Пока, как жизнь, тепла.
«За озером, — мне смерть сулила, —
В пещерной глубине,
Мозг упокоится в могиле,
Без плача, в тишине.
В бокале вод, что зачарован,
Глоток целебный уготован
Для тех, кто слеп и болью скован,
Кто молит лишь о сне!»
Как плакальщица, причитая,
Выл ветр в день похорон,
Листву вершин перебирая
И издавая стон.
Мой ангел тоже тихо плачет,
Что жест его безмолвный значит? —
Внезапным ужасом охвачен,
Бегу отсюда вон!
Через врата спешу я садом —
Вот мягкий луч угас,
Упав на двух детей, что рядом,
Устав от игр и ласк,
Склоняясь вечности под иго
И предаваясь бегу мига,
Читают слово ветхой Книги:
Вернись ко мне сейчас.
Два водопада, кто быстрей,
Мчат с крутизны, не труся:
Вот волны золотых кудрей,
Вот волны — темно-русых.
Через шелка густых туманов
Их синий взор дороги манят,
Он, как звезда, затмил все камни
В коронах или в бусах.
Когда придет час смертной муки,
Душа не горделива,
Став аистом, смерть сводит руки
Бессилием тоскливым.
Лишь храбрым словом можно воинов
Спасти от бегства недостойного
И жизнь, что отступает с волнами
Вечернего отлива.
Слепой от слез, не мог взглянуть,
Как Слава разлилась,
Небесный мир наполнил грудь,
А слух — небесный глас:
Пусть притекают все ко Мне —
Трудящиеся все — ко Мне,
Обремененные — ко Мне,
Я успокою вас.
Ночь вьется пряжей голубой,
И песня воспаряет,
Чтоб землю напоить росой,
Восток — сияньем рая.
Над тихим полем в этот час
Из глубины небес на нас
Не хмуро смотрит, а светясь,
Глаз ангельская стая.
Благословен тот день, когда
Впервые, так отрадно
Я слышал голос, ведь беда
Не мучит больше ядом.
Мой мальчик, ты не знаешь мать,
Она оставила стонать
Меня и, плача, воспитать
Единственное чадо.
Ее душа парит голубкой,
Что, радуясь о крове
Извечном, тает в дивном, чутком,
Сиянье, полном новью;
Мы близнецы с ней, а в груди
Печаль разлук, ведь я один.
Любовь, хоть лето позади,
Пребудет ввек любовью.
Я встречу смерть, как встретил сны,
И в сердце нет уж ран.
Потоки, что разлучены,
Поглотит океан.
А я хочу благословить
Любовь, что смела подарить
Мне друга — он помог мне жить,
Он сладок, как дурман.
Ах, если б то не анекдот,
Не ложь, что говорун
Расскажет: ангел нас ведет
Сквозь лабиринт в миру.
Но здесь ты — в этом нет обмана,
Теперь со мной ты постоянно.
Прозрачнее к утру туманы,
А в полдень я умру.
Уединенье

Люблю лесов густой покой,
Ручьев прозрачное журчанье
И на холме лежать порой,
Задумчиво, в молчанье.
Под сводом крон листов дрожанье;
И кудри волн — в седой оправе,
А ветер книгу подражаний
Нашепчет разнотравью.
Я здесь свободен, мне здесь лучше,
Ведь тут ни грубость, ни презренье
Не губят тишины, не рушат
Восторг уединенья.
Беззвучно слезы лью на грудь,
Дух страстно жаждет благодати,
Реву, как дети, чтоб уснуть
У матери в объятьях.
Когда минует горький час,
Утихнет пульс беды бессонной,
Что может слаще быть для нас,
Чем холм уединённый!
На нем минувшее воскреснет,
Холодный дол отодвигая,
И край земной, как мир небесный,
Украсит бликом рая.
Зачем в груди посев дыханья?
Он скоро будет смертью собран.
Восток, где радость полыхает,
Затянут тучи скорби.
Как нам на лодочку улыбки
Года страданья погрузить
И розы ароматом зыбким
Пустыню напоить?
Весна надежд и нежных лоз,
Поверь любви — поверь фортуне,
Ведь драгоценней всяких грез —
Лишь ты — невинность юных.
А я б отдал свою котомку
Со всем пожизненным добром
За радость вновь побыть ребенком
Однажды летним днем.
Беатрис

Ее глаза пылают светом,
Бредущим по земле,
Неба ласковым приветом.
Лишь пять лет ее жизнь длится,
Лишь пять лет, как время птицей
Сошло в туман ночей запретный
На ангельском крыле.
Так ангел смотрит, присмирев,
А вдруг и он растает
На огнедышащей заре?
Беатрис! Благой слыви!
Беатрис! Благослови
Виденье двух прелестных дев,
Они уж под крестами.
У Беатрис взор строг и влажен,
А ротик молчалив,
Взгляд невинен, полон жажды —
Жажды сладких юных дней
Без печалей, без скорбей;
Дни те не приходят дважды,
Хоть мир и справедлив.
Кто краше Беатрис, святей?
Она чиста, безбрачна!
Очи неба голубей
Дарят мне в уединенье
Долгожданное веселье,
Лунный свет льют средь теней,
Безмолвствующих мрачно.
Виденья, расплываясь, меркнут,
Виденья исчезают,
Мечта терзает, словно беркут:
Ты со мною, ты живая,
Вся взлохмачена, пылая.
Тебя не уведут, как жертву
На казнь, хоть ты святая.
А если б вышел лютый зверь
С востока, из берлоги,
Из джунглей смерти и потерь,
Крадучись, тая дыханье,
В оке смерти полыханье,
Он о еде забыл бы, верь,
Лизал бы рабски ноги.
Она бы обхватила гриву,
Мир смехом огласила
Звонким, словно дождь счастливый,
Спрашивая глаз весельем,
Спрашивая с удивлением,
Водится ль в очах тоскливых
Любовь, что ей светила.
А если сердце злом объято,
Но в человечьей маске,
Вышло б, словно зверь косматый,
Насмерть связанное с тьмой
Диким бегом и гоньбой,
Оно б забилось виновато
Под взглядом, полным ласки.
А если б серафим полету
Предавшись, не грустя
Помедлил, глядя на кого-то,
То он глядел бы на тебя,
Глядел бы, радуясь, любя,
С участьем братским и заботой,
На чистое дитя.
Украденные воды

А свет чуть брезжил — мягок воздух,
Овеявший округу,
Она ж прекрасней гибкой лозы,
Капризная подруга,
С головкой грациозной.
Пылали щечки, взгляд блистал,
Она мне шла навстречу,
И дух мой волшебство впитал
Улыбки лгущей вечно.
Зачем я шел за ней — не знаю.
Деревья толстые — в плодах,
Трава в цветах для нас;
Но дух мой мертв, язык в устах
Стал нем в проклятый час.
Реально ли в воображенье
Она дала совет:
«Пусть юность будет наслажденьем».
Я не сказал ей: «Нет».
Я встал — вот весь ответ.
Она сломила ветвь любезно —
Ах, нет числа плодам! —
Сказав: «Пей, рыцарь, сок полезный
Для рыцарей и дам».
Не созерцать глазам слепца,
Не внять оглохшему — с отрадой
Усмешку дивного лица
И смех до жизни жадный.
Я выпил сок и ощущаю:
Огонь жжет мозг мой бедный,
И дух мой, кажется, уж тает
От сладостного бреда.
Сказала: «Что украдкой — сладко:
Где мера наслажденью?
А счастье — сокровенность клада.
Так что ж мы в отдаленье?»
«Так насладимся, пока можем, —
Сказал я безучастно, —
Там, на закате, в бездорожье,
Жизнь умерла для счастья.
Печально сердце, голос — тоже».
Нежданно — я и сам не ждал —
Я этот пальчик хрупкий,
И лоб ее поцеловал,
И лгавшие мне губки —
Но поцелуй лишь обжигал!
«От верности любовь верней, —
Я крикнул, — мое сердце — вот —
Трепещет, из груди моей
Для вас я вырвал этот плод!»
Она свое мне отдает.
Но запад каждый миг темней.
В поблекшем свете ее лик
Вдруг сморщился, поблек,
Средь вялых трав главой поник
Увядший вмиг цветок.
От этой девы, как олень, я
Сквозь ужас ночи убежал.
Но по пятам — подобье тени,
Так что от страха я дрожал, —
Она гналась за мной без лени.
Мне показалось очень странным,
Что сердце спит в груди, не бьется,
Легло тихонько — я ль в дурмане —
Оно ль не встрепенется.
«Мое отныне, — говорила, —
То сердце, что когда-то вашим
В груди живой и теплой было,
Теперь там камень — так ведь краше».
Но солнце в этот миг всходило.
Сияло солнце сквозь деревья,
Как в древности, но нежно.
Извечно ветра дуновенье
С холмов, с лугов безбрежных.
Лишь мне не быть уж прежним.
«Безумец», — слышу позади,
Смеюсь и плачу впредь.
Коль сердце спит в моей груди,
Не лучше ль умереть?
Умру! Умру? Ну а пока
Уж слишком жадно, может,
Пью из фонтана — как сладка
Та влага для прохожих.
Печален голос, сердце — тоже.
Когда вчерашний вечер к ночи
Клонился, чистый голос пел —
Так сладко летний дождь лопочет,
Он слезы мне вернуть сумел
И сердце, что в груди клокочет.
Дитя все в розах тут:
Поет в саду — его нет краше,
И слушать мне отрадно,
Здесь просто быть — награда,
Увиты розами кудряшки
И волны вольно льют.
Вот бледное дитя
Печально смотрит на закат
И ожидает Вечность. —
Она придет беспечно,
Разбивши цепи из преград
И дав пожить шутя.
Дитя, как ангел зыбкий,
Глядит на мертвый лик живущим взглядом,
Покинутой не жить —
Ее не разбудить.
Она лежит недвижно рядом,
И мертвенна улыбка.
Ребенком станьте прежде,
Чтоб, радуясь и песне, и дыханью,
Ведь умирать не жалко,
В священном катафалке
Пройти вратами смерти и страданья,
Не замарав одежды.
Скажи, что за виденье? Знаю
Лишь то, что дух воскрес.
Безумство? — Пусть! Я восславляю
Безумство до небес,
Смеясь или рыдая.
Пусть я рыдаю — это знак,
Как велики потери.
Корона разрывает мрак
Сияньем — свято верю
Ненарушимости присяг.
Пусть я смеюсь — ведь это знак
Того, что жизнь продлится,
Венец страданий вспорет мрак,
Все плачем обновится
Сквозь смерть. Не все ль равно мне как!
Ива

На свадьбе музыка слышна,
Веселье бьет ключом,
Лишь Элен все стоит одна
У ивы над ручьем.
Она не смотрит на гостей,
Слеза туманит взор,
И только ива внемлет ей,
Когда звучит укор:
«О Робин, ты любил меня,
Но леди Изабель
Украла свет моего дня
И жизни моей цель.
Напрасны слезы: я живу
Мечтою прежних дней,
Где ты приходишь наяву
Под сень густых ветвей.
О ива, я не стану ждать,
Когда придет весна, —
Уйду и буду горевать,
Одна, совсем одна.
Оставлю радость для других,
Исчезну без следа,
Он не увидит слез моих,
Когда придет сюда.
Но после смерти я хочу
Лежать в твоей тени,
Пусть я навеки замолчу,
Но ты ему шепни,
Коли вернется он домой
И мимо поспешит:
Та, что любила голос твой,
Под ивою лежит».
Всего лишь женский волос
«Всего лишь женский волос! Брось его!
Частица мелкая в стремительном потоке;
Смотри — вершится жизни торжество,
И свет зари алеет на востоке».
Нет! В этой речи слышен отзвук прежних лет,
И длится эхо сдавленных рыданий,
То гордый дух напрасно ищет свет
В темнице причиненных им страданий.
Касанье локона буди́т в душе моей
Чреду благих и трепетных видений,
Воспетых от начала наших дней
Поэтами всех стран и поколений.
Вот кудри девочки целует ветерок,
Когда она играет на поляне,
Как блеск веселых глаз, румянец щек
Они скрывают в золотом тумане!
Иль черных локонов ажурный строй,
Изящных черт лепное украшенье,
Или откинутая смуглою рукой
Копна волос, цыганки утешенье,
Или седой венец на голове ее
Под звуки похоронной литани́и,
Иль сонное видение мое
На площади старинной Вифани́и, —
Я видел праздник: злато и шелка,
И фарисеев каменные лица,
Презрением клеймивших свысока
Коленопреклоненную блудницу.
Она одна явилась средь толпы
Ведомая святыми голосами,
Омыв слезами светлые стопы,
И утерев своими волосами.
И Он не осудил простой любви порыв,
Или ее, нижайшую из смертных, —
Так не суди и ты, о времени забыв,
Что сохранило прядь волос заветных.
Взор любящий уже не поманит,
Навеки стих любимый голос,
Но ты его с почтением храни —
Бесценный дар, всего лишь женский волос.
Жена моряка

Смотри, ее лицо блестит от слез,
Недавно пролитых; они не высыхают,
Не отвечая на немой вопрос,
Она к себе ребенка прижимает.
Мечтательно-спокоен детский взгляд,
Глаза ребенка — как преддверье рая,
На сердце ни забот и ни тревог,
Он грезит, мир небесный озирая.
Но матерью владеет тяжкий сон
О непогоде в стороне далекой:
С дрожащих губ слетает слабый стон,
Черты искажены в тоске жестокой,
Там ветер разгулялся в облаках,
И скорбный тон звучит в его стенаньях,
Пронзительных, как крики моряка,
Что борется со смертью в океане,
Там за валами катятся валы,
Рассудок подчиняя чуждой воле;
Знакомый голос шепчет ей из мглы
Историю отчаянья и боли.
«Корабль-призрак движется вперед,
На гребнях волн качаясь монотонно,
Под ним сердитый океан ревет,
Над ним ярится буря исступленно.
Большая мачта гнется и скрипит,
Вокруг нее стоят в оцепененьи
Фигуры темные, чей обреченный вид
Терзает сердце страшным подозреньем.
Смотри! Корабль прекратил борьбу,
Он уступил напору грозовому, —
Могучий вихрь вершит его судьбу,
Влечет его к пределу роковому.
Ты слышишь грома тягостный раскат,
То в пене уходящего прибоя,
Когда над морем догорел закат,
Столкнулся барк с подводною скалою.
Его лицо мелькнуло пред тобой,
Как бледный дух, пугающий и странный,
Почудилось, что он глядит с мольбой
Куда-то вдаль, за горизонт туманный.
Что видит он — иной земли порог
И мановение руки бесплотной
Туда, где виден тусклый огонек,
Едва мерцающий в ночи холодной?
Или он видит в этот смертный час
Свой дом, жену и дочь, родимый берег,
Кольцо любимых рук, сиянье глаз —
Все, что хранил в душе и во что верил?
Корабль тонет; скоро он уйдет
Туда, где только холод и забвенье,
Ужели сгинет он в пучине вод
И нет руки, протянутой к спасенью?
Смотри, собралась призраков толпа,
Их взор пылает радостью коварной!
Уж волны хлещут…» — Голос вдруг пропал,
И крик ее развеял сон кошмарный.
Утихла буря, снова даль ясна
Пропало наважденье роковое,
Лишь ветра в снасти чистая струна,
Лишь мерный рокот близкого прибоя.
Она проснулась; сгинул ночи мрак,
В окрестных рощах крепнет птичье пенье,
И слышен лай сторожевых собак,
Веселый лай, предвестник возвращенья!
Спустя три дня
[Написано после созерцаний картины Ханта Хольмана «Обретение Христа в Храме»]

И толкотня и гам
В потоке богомольцев. Во вратах
Стою: народом переполнен храм,
Сложившийся в мечтах.
Каменья здесь бесценны,
И мрамор пола рассыпает блики
По всей округе — перед нами сцена
Знамений превеликих.
Но дикой красоты
Пророчество о смерти полно силы;
И сорваны все лучшие цветы
Для той, что ждет могила.
Поговорить, поспорить
Мудрейшие сошлись со всей земли
На три святые дня. Их речь о Торе
Послушать все пришли.
Их старческие брови
Досадой сведены, надсадной мыслью:
Разрушил мальчик умственных сокровищ
И кладези, и выси.
Презренье лишь и строгость
Я в лицах наблюдал, пока мой взгляд
Не обратился на Того, Кто был в восторге
Немом — в толпе и над…
И мысль в конце концов
Созрела в сердце, полном опасений:
Способны ли слепцы вести слепцов,
Разрушив царство тленьем.
Предчувствие беды
И смерти, грозной, но пока далекой…
Кровавый свет пророческой звезды
Привел волхвов с Востока.
Как светятся махины
Зеркальных скал, венчая глубь огнем,
Моя душа во сне творит картины,
Увиденные днем.
Приходят и уходят
Лишь созерцатели. В толпе гудящей
Хватает недовольного народа,
Невесть что говорящих:
«О, где тот идеал,
И совершенный камертон для скерцо
И гимна красоте, что Он являл?»
О вы! Медлительные сердцем!
Вглядитесь в эти очи —
В них Божество любовью излилось:
Таинственней могил, бездонней ночи,
Они вас зрят насквозь.
Вглядитесь в эти очи:
Они ведут борьбу без укоризны,
Пока воскреснуть каждый не захочет —
И не захочет жизни:
Вам Бога не найти,
Склонившись, поцелуйте Его след,
Молитву изливая: «Посети,
Дозволь идти вослед!»
Среди толпы бредя,
Родитель с матерью шептали кротко,
Невольно укорив, но не судя:
«О, что ж ты, милый отрок,
Излив печаль сердец,
Что сделал с нами Ты, наш дорогой?
Три дня искали я и Твой отец
Тебя в тоске большой».
А я стоял и слушал
Слова любви: «Меня искать не надо!» —
Зарюя, лечит жаворонок душу
И мысли от разлада.
Отныне воцаряются
Покой и тишина; а с грезой слитый
Из кельи колдуна дух испаряется
С прочтением молитвы.
Уже светлеет дол,
Глаза прикрыл — зачем мне пробужденье?
Любя вцепился я в ночной подол —
Продлить свое виденье.
Лица в пламени

Когда угли в ночи сырой
Слегка подернутся золой,
Рождается видений строй.
Вот ферма посреди жнивья,
Хор птиц, журчание ручья, —
То место, где родился я.
Далекий образ миновал,
И гений мой нарисовал
Знакомого лица овал,
Когда узрел впервые ты
Ребенка милые черты
И кудри, эльфом завиты?
Теперь же девушка она,
Красой своей устрашена
И в омут чувств погружена.
О, как дыхание зашлось,
Когда увидеть довелось
Мне темный шелк ее волос!
Как пульс мой быстро трепетал,
Когда ее я повстречал
И нежно за руку держал!
Теперь те локоны седы,
Затеряны ее следы,
Увяли вешние сады.
Прервалась трепетная нить,
И никогда не возвратить
Ту, что могла моею быть.
Тех кратких встреч восторг забыт:
Звучит в часах моей судьбы
Рефрен печальный «если бы…»
Высот, что я не покорил,
Тех дел, что я не совершил,
И тех венков, что не носил.
Видение ушедших дней
Тускнеет в отсветах углей,
И гаснет свет в душе моей.
Вокруг покой; весь мир молчит,
Лишь прах и пепел ветер мчит,
И снова я один в ночи.
Урок латыни

Латинских книжек пестрый ряд
Урок нам дать готов.
Как много книги слов хранят!
Но есть глагол один, в сто крат
Важней всех прочих слов.
И все, что надо изучить —
«Amare» igitur «любить»[1]
Мы жизни сладостный нектар
Вкушаем каждый день —
Блеск глаз, румянец щек, пока
На них внезапно облака
Свою не бросят тень.
И скажем мы, любви вкусив,
Что горек сей инфинитив.
«Amare» с горечью глагол
Вчера во власти мрачных снов
Мы думали всерьез:
Роз не бывает без шипов,
А утром мир опять таков,
Что нет шипов без роз.
Урок латыни — на века:
Любовь пленительно-горька.
Все то, что я вообразил
Я счет не вел ее годам,
Когда писал портрет,
В смятенье чувств набросив ей
Десяток с лишним лет.
Я взял лазурный цвет для глаз
И медный — для волос,
Но вышел медный слишком рыж,
Лазурный — чуть белес.
Она пощечину дала,
А я считал, что ей
Отныне надо бы меня
Касаться понежней.
Когда б меня спросили, как
Ее улучшить стать,
Я б отвечал: «Добавить? Нет!
Лишь кое-что убрать».
Есть у нее медвежий стан,
Гиений кроткий нрав,
Такая шейка, что умрет
От зависти жираф.
Поверьте, я ее люблю!
И это существо —
Все то, что я вообразил,
Плюс что-то сверх того.
Пак утраченный и обретенный

Пак укрылся от людей,
Смотрит он на них с опаской,
И теперь уже нигде
Нам не встретить сказку!
Жадный гоблин сливки пьет,
В шкаф залазит для острастки,
Ложки чайные крадет,
Но мы ищем сказку!
Кто же в дверь мою стучит,
Чьи глаза взывают к ласке,
Чей волшебный смех звенит?
Ах, дитя мое, твой вид
Даже лучше сказки!
Пак вернулся в мир людей,
Он их больше не страшится,
Посреди их площадей
Он ликует и резвится,
Скачет вольно взад-вперед,
Ищет новые забавы.
Бах! Хлопушки быстрый взлет!
Плюх! Вот это нам по нраву!
Слишком скоро ты, дитя,
Станешь с детством расставаться,
Дни короткие летят,
Но ведь эльфы не грустят, —
Будем же смеяться!