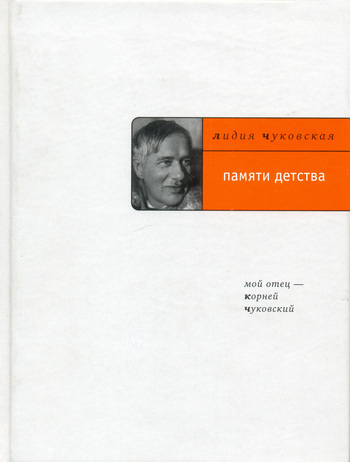
Лидия Чуковская
Памяти детства: Мой отец – Корней Чуковский
«Я, впрочем, вовсе не бегу отступлений и эпизодов, – так идет всякий разговор, так идет самая жизнь».
1
Тогда, в нашем детстве, в Куоккале, он казался нам самым высоким человеком на свете. Идет к себе в комнату – в дверях голову непременно наклонит: не ушибиться б о притолоку! Посадит к себе на плечо – с высоты сразу откроется глазам среди редких сосновых стволов дальняя даль залива. В оттепель подпрыгнет и лыжною палкой легко собьет сосульки с балкона второго этажа, а с теми, что свисают с крыши дровяного сарая, и без палки управится: протянет руку и обломает рукой. Он длиннорукий, длинноногий, узкий, длинный. Кто выше его? Нет такого! Им, его длиною, можно измерять заборы, ели, сосны, волны, людей, сараи, деревья, высь и глубь. Рост его был нам выдан судьбой как некий аршин, как естественная мера длины. Сидя в лодке и потрагивая через борт прозрачную серую воду, мы прикидывали, бывало, на глаз: а если считать до глубины, до самого-самого бездонного дна – сколько тут окажется пап: шесть или больше? «Да что ты! Какие шесть! Не меньше двенадцати будет!»
Это в море.
В лесу же, задрав головы перед высоченной сосной:
– В этой-то уж наверняка десять пап! Если от земли до макушки!
Ноги у него великанские; какие сапоги ни купит себе в Выборге или в Петербурге – все не впору: малы. Узки. Коротки. Жмут. Натирают мозоли. Опять отдавать на растяжку сапожнику! Хоть примеряй тот, огромный, рыжий, что висит для рекламы под вывеской обувного магазина на станции. Да вот беда: тот, если бы сгодился, рассчитан на какого-то одноногого великана, а у нашего, слава тебе, Господи, две ноги, не одна.
И походка, и повадки у него великанские. Не только дети – взрослые едва равняются с ним. Шагает по песку вдоль моря, а я рысцой бегу рядышком. На один его шаг – пять моих мелких шажков. И с вещами обращается по-великански: норовит утащить их к себе в высоту. Молоток ли в доме пропадет или щетка – подставляй стул, ищи на крыше буфета или платяного шкафа: он, мимо идучи, там оставил. Ему на высоте сподручнее. А чих у него какой! Не люди – дача вздрагивает! А фырканье какое, когда умывается! Намылит щеки, грудь, шею и фыркает. Будто в фырканье главное мытье и есть.
Узкий, длинноногий и длиннорукий, подбрасывающий к потолку и ловящий без промаха палку, тарелку, кого-нибудь из нас. Тощий, но сильный; любит веселье и любит и занозистой насмешкой поддеть. Непоседлив, беспечен, всегда готов затесаться в нашу игру или изобрести для нас новую.
До первой детской книги Корнея Чуковского оставалось в ту пору года три, до второй – около десяти, им не была написана еще ни единая строка для детей, но сам он, во всем своем физическом и душевном обличье, был словно нарочно изготовлен природой по чьему-то специальному заказу «для детей младшего возраста» и выпущен в свет тиражом в один экземпляр.
Нам повезло. Мы этот единственный экземпляр получили в собственность. И, словно угадывая его назначение, играли не только с ним, но и им и в него: лазили по нему, когда он лежал на песке, как по дереву поваленному, прыгали с его плеча на диван, как с крыльца на траву, проходили или проползали между расставленных ног, когда он объявлял их воротами. Он был нашим предводителем, нашим командиром в игре, в ученье, в работе, капитаном на морских прогулках и в то же время нашей любимой игрушкой. Не заводной – живой.
Впрочем, хотя детских книг он тогда еще не писал, веселые стихотворные строчки, обращенные к детям, сочинялись им уже и в те времена, однако всего лишь для домашнего употребления, играючи, походя. Он тогда еще не записывал их в толстые тетради, как впоследствии, не соединял в стихотворения и поэмы, не обрабатывал месяцами, а то и годами, прежде чем передать редакции, не читал ни в школах, ни в детских садах, ни в больницах, ни в многолюдных залах среди белых колонн. Это были импровизации, домашние экспромты, однодневки – всего лишь.
…Лидо-очек,
Лучшая из до-очек! —
говорил он мне вкрадчивым, певучим, тоже каким-то длинным голосом. (Я же была так мала и глупа, что не могла догадаться, почему это я называюсь «ездочек»? Разве я на чем-нибудь езжу?)
Или весело рычал, топая на меня великанскими ножищами:
– Ах ты, скверная девчонка!
Ка-ак болит моя печенка!
– Папа, – говорю я, переминаясь от нетерпения с ноги на ногу, понимая, что ему хочется поиграть со мной не менее, чем мне с ним, – папа! Посади меня на шкаф.
Он отступает на шаг. Грозно глядит со своей высоты. Наклоняется. Перед моим носом назидательно закачался длинный палец.
– Учишь вас, учишь! Проси как следует.
Игра началась. Я жажду испытаний и ужасов: по-страшней, поужасней, а кончилось чтобы все хорошо. Более всего на свете я боюсь высоты. Потому и прошусь не куда-нибудь, а на вершину высоты, под самый потолок, на шкаф.
– Глу-бо-ко-у-ва-жа-е-мый папаша! – говорю я по складам, как положено в этой игре. – По-са-ди меня, пожалуйста, на шкаф!
– То-то же! – Палец исчезает. – А вниз не запросишься?
– Нет.
– Так и будешь теперь всю жизнь жить на шкафу?
– Жить на шкафу.
Он берет меня под мышки, минуту раскачивает, потом сажает на шкаф и сразу большими шагами уходит из комнаты прочь. И закрывает за собой дверь, чтобы страшнее.
Я сижу. Мне страшно. Как чужие, болтаются над пропастью мои бедные ноги. Я решаюсь одним глазом заглянуть туда, вниз, в пропасть. Там, на полу, желтый линолеум с черным узором. Вот упаду и разобьюсь вдребезги, как чайная чашка. И зачем это я попросилась на шкаф! Никогда мне уже больше не пробежаться по песку, не сесть вместе со всеми обедать… Все купаются, играют в пятнашки, и он вместе с ними… а я? Я живу на шкафу. И никогда, никогда не буду больше вместе с другими бросать плоские камни в море и подсчитывать, сколько раз камень подскочит, и никогда уже больше он не позовет меня устраивать плотину на нашем ручье!
– Папа!
Молчит.
– Папа!
Не отвечает. Ушел, позабыл обо мне и оставил меня здесь на всю жизнь…
Глядеть вниз – страх пробирает. Вверх – тоже, там потолок, там самая и есть высота высоты. Он нас отучает бояться, меня и Колю. Велит лазить по раскидистым соснам. Выше. Еще. Еще выше! Но тогда он сам стоит под сосной и командует, и можно держаться за его голос.
Сижу, скованная страхом, поглядывая на свои никчемные ноги. Одна.
– Глубокоуважаемый папаша, – пробую я, ни на что не надеясь, – сними меня, пожалуйста, со шкафа. Мне здесь не понравилось жить. Пожалуйста!
Его шаги! Он тут! Он только притворялся, что ушел далеко! Он входит, берет меня под мышки, раскачивает, подбрасывает и опускает на пол. Какое счастье! Я опять на полу, где все люди, и могу бежать куда хочу.
Рукам его довериться можно вполне. Вовремя подхватят, никогда не уронят, не сделают больно. Правда, завязать мне капор под подбородком, или всунуть в свои манжеты запонки, или изжарить яичницу, выгладить рубашку, упаковать чемодан – руки эти никогда не умели. Такие длинные, гибкие пальцы – а этого они не умели. Но вот подбросить чуть не до потолка меня или нашего младшего, Бобу, швырнуть нас обоих на диван, чтобы посмотреть, высоко ли нас подкинут пружины, – это для них нипочем. Взлетай, падай, не бойся: вовремя подхватят и удержат. А мучительства! Любимая наша игра. Уше-вывертывание. Голово-отрубание. Пополам-перепиливание (ребром руки поперек живота). Шлепс-по-попс. Волосо-выдергивание… Надежные руки, большие, полные затей, с чисто-начисто промытыми круглыми ногтями. И всегда, даже на морозе, горячие.
…Вот, по Большой Дороге мы возвращаемся с ним вместе со станции. Ходили вдвоем на почту. Мороз градусов тридцать. По обеим сторонам пустые дачи, стреляющие промерзшими досками; заваленные снегом клумбы; утонувшие в снегу колья заборов. Снега, снега по обочинам Большой Дороги, а посредине бежит, сверкая слюдяным блеском, твердый, накатанный санями, утоптанный лошадиными копытами бесконечный путь. Мороз незримой плотиной в воздухе. Почему это снег называется белый, когда на самом деле он синий, розовый, цветной, искрящийся? Но сегодня мне и снег не в радость. Я стыну. Замерзли губы, брови, лоб. Даже зубы. А ноги? – ног у меня просто нет. А ему мороз нипочем. Для него и сейчас жара. Пальто распахнуто, руки без перчаток, уши барашковой шапки развязаны. Я, укутанная, плачу от холода. Меня пробирает дрожь, словно я не в шубе, не в капоре, не в платке, не в гамашах, а в летнем платьишке. Плачу сначала потихоньку, потом все громче и громче, и от горячих слез мне становится еще холоднее. Он берет меня на руки, стягивает с меня промерзшие боты, засовывает боты в один свой карман, обе мои ноги в другой и опускает туда свою горячую руку.
Тесно. Счастливая теснота.
Через минуту, зажатые в его ладони, мои пальцы и пятки оживают, заражаясь его неистощимым теплом, прогреваются насквозь, горячеют, словно мы уже дома и я уже примостилась в столовой у белой кафельной печки, где в квадратной пасти пышно тлеют березовые уголья.
Так он и несет меня сквозь мороз по дороге: обе мои ноги в тесноте его кармана, под его огромной жаркой рукой.
2
В Куоккальские времена всю черную мужскую работу по дому он делал сам. Сам воду носил, колол дрова, топил печи. Сам был за кухонного мужика и за дворника; разметал метлой лужи, или ломом скалывал с крыльца лед, или деревянной квадратной лопатой прокладывал дорогу от крыльца до калитки: узкую яму среди сугробов. И мы, с маленькими лопатками, следом за ним. Идешь по этой глубокой канаве, уравниваешь лопаткой бока; тронешь боковой вал рукою и сквозь шерстяную перчатку почувствуешь, как колется снег. Когда-то, одесской полуголодной юностью, случалось ему работать в артели маляров, и он навсегда сохранил пристрастие к превращению старого, обшарпанного забора в новенький, молодой, только что обласканный кистью. В этой работе было что-то праздничное. Аппетиту, с которым он красил забор или ящик, помешивая кистью густую зеленую кашу, могли бы позавидовать сподвижники Тома Сойера. И уж разумеется, неистово завидовали мы. А он – по-том-сойеровски! – снисходительно предоставлял нам это редкостное счастье: мазнуть! Зеленой краской мазнуть разок по калитке.
– Стань передо мной, как лист перед травой!
Он вручает мне кисть с торжественностью, словно монарх, передающий наследнику скипетр.
– Держи ровно! Не капай! Не капай! О-о-о, как я страшен в гневе!
Руки его, никогда не умевшие повязать галстук или пришить пуговицу, прекрасно справлялись с грубой, простой работой – сбросить ли с крыши снег, распилить ли бревно – и, как это ни странно, не умея вдеть нитку в иглу, с истинно жонглерской ловкостью показывали фокусы. Да, вот вдеть запонки в манжеты было для него делом непостижимым, а солонкой жонглировать – пожалуйста. Поставит на ладонь полную соли солонку, круто наклоненной ладонью совершит полукруг в воздухе; и не только сама она, словно гвоздями приколоченная, не падает на пол, но даже и соль каким-то чудом не сыпется.
Да что солонка! Его слушались стулья.
Стул покорно стоял минуты две на указательном пальце – и не падал. Жонглер извивался, приплясывал, гнулся, удерживая стул от падения, а стул благодаря этим извивам не падал, стоял. Ножкой на указательном пальце.
Еще была палка. Короткая толстая дубина. Он подбрасывал ее и ловил, бросал и ловил, все быстрее, быстрее, быстрее; она кружилась в воздухе как толстенная спица, а потом он внезапно бросал ее в грудь Коле, моему старшему брату, или ошеломленному гостю, требуя, чтобы они не отклонялись от палки, а ловили ее на лету и кидали обратно. Сам же стоял в ожидании удара, расправив узкие плечи и выпятив грудь. «Вот грудь моя – рази!» Но сразить не удавалось никому: длинная рука перехватывала палку на аршин от груди и снова запускала в противника.
Греб, плавал, нырял, ходил на лыжах… Бурно двигался на воздухе, в игре и в работе, среди волн, песков, детей и сосен.
Игру он любил и уважал чрезвычайно, не проводя при этом отчетливой грани между игрой и трудом. И во всякий труд норовил втянуть ребятишек, превращая для нас в игру всякий труд. На воле и дома.
Скромные наши владения лишь условно могли быть названы садом; скорее это был елово-сосновый перелесок, каких так много в Куоккале. С двух сторон наше поместье отделено было от соседей забором, с третьей стороны – водою ручья, с четвертой, от берега моря, его не отделяло ничто. Наши сосны свободно выбегали на желтый прибрежный песок, за которым – гряда корявых и округлых камней, то скрываемых пеной, то сухих, надежно прогретых солнцем. Летом, в жару, земля наша была скользкой от хвои; иглы елей да сосен, пни, да шишки, да змеящиеся ползучие корни, о которые мы в кровь разбивали босые ноги. Лесок как лесок; а сад, собственно, только возле крыльца: одна клумба, да две посыпанные песком дорожки, да грядка настурций вдоль веранды.
Лесок как лесок, но хоть и был он скромен, а доставлял Корнею Ивановичу немало хлопот.
Оборонять его приходилось от двойных набегов: медленных, коварных – ручья и бурных – морских.
В обороне принимали участие и мы.
Ручей имел обычай исподтишка, постепенно отмывать из-под сосен нашу беззащитную землю. Корней
Иванович, обнаружив убыток, начинал с неистовством залечивать нанесенную рану, таская с берега моря песок, мешок за мешком, на спине, не хуже заправского грузчика, а мы на бегу поспевали за ним, кто с лейкой, кто с ведром, кто с кастрюлей. Команда – и весь песок: «Раз, два, три, глаза закрой, с-сыпь!» – мигом ссыпается в воду.
Чтобы обороняться от ручья, достаточно было песчаной запруды; от моря не спасали и камни.
Каждую осень, в ожидании предстоящих бурь, выловив багром из моря штук десять принесенных из Кронштадта плетеных корзин (такой ширины и такой вышины, что Коля, Боба и я, все трое, забирались в одну), он расставлял их на берегу вдоль сосен, рядком, надеясь защитить участок от неминуемого набега волн; и каждую корзину доверху собственноручно наполнял камнями, что было отнюдь не легко: десятки раз надо было проделать путь с берега к корзине и обратно.
Так и вижу его: идет по песку, в закатанных штанах, босиком, руки над опущенной головой и в каждой руке по увесистому камню. Глядит себе под ноги, боясь споткнуться: камень однажды, сорвавшись, чуть не перебил ему стопу.
Мы за ним, тоже с камнями, все, даже маленький Боба. Тоже – глазами в землю.
Он остановится возле корзины, подождет нас – камни над головой – мы станем кругом.
– Бросай! – скомандует он, и с каким веселым грохотом грянутся камни в корзину! Ради этого грохота мы и трудились – несли… Игра это была или труд?
Таких слов, как «спорт», «соревнование», мы из его уст никогда не слыхали, но он научил нас и на лыжах, и на финских санях – «поткукелке», – и грести, и плавать. К лыжам мы привыкли не менее, чем к валенкам или рукавицам: выйдешь на крыльцо – и сразу ноги в ремни.
Сам он отлично играл в эти древние игры: лодка, лыжи, сани. И зимний парус.
Помнится, единственный во всей округе, умел он летать под парусом по замерзшему морскому простору в те зимние тревожные дни, когда залив, дочиста подметенный ветром, светится зелеными проплешинами льда. Ветер гнал эту беззаконную бабочку по льду залива, на страх лошадям, волочившим тяжелые возы со льдом, только что вырубленным из проруби. Лошади шарахались в стороны, рискуя опрокинуть свой зеленоватый хрусталь, а возчики долго еще грозили собранными в кулак вожжами этому внезапному парусу, невесть откуда принесенному ветром.
В самом деле, диковинка: человек стоит на особенных каких-то лыжах, со стальными короткими полозьями под каждой ступней; стоит, ухватившись за скрещенные у него за спиною палки, на которые натянут квадратный холст. Стоит – и летит.
В те дни, когда ветер был особенно мощен, Корней Иванович пристраивал парус не к лыжам, а к «поткукелке». Мы садились в сани: Коля, а я ему на колени. Или я и Боба. Когда, нахлебавшись колючей стужи, мы возвращались с открытого берега в наш прикрытый деревьями сад, – здесь, под защитой елей и сосен, в двадцатиградусный мороз нам казалось не только тепло, но душно. Насквозь каждая жилочка промыта была и обновлена стужей. А среди сосен духота. Мы поспешно развязывали тесемки под подбородками, расстегивали крючки на воротах, рассовывали по карманам рукавицы. Как и он, в эту минуту мы испытывали презрение к морозу: кто это выдумал, будто сегодня мороз? Жарища! Все он умел для нас – даже играючи обратить мороз в жару.
3
Летом нашей любимой работой были постоянные походы к Репину в «Пенаты» за водой.
Вода в колодце на нашем участке годилась для стирки, для поливки цветов, для умывания, но для питья не годилась. За питьевой мы и ходили в «Пенаты». Там был артезианский колодец.
«Айда!» – и работа (или игра?) – начиналась.
Я бежала в сарай за палкой. Коля, позванивая, уже нес ведро. Боба, который давно уже понимал каждое наше слово, но сам не удостаивал никого ни одним, первый хватался за конец палки, боясь, как бы не ушли без него. Мгновенно оказывались возле нас наши приятели финны: Матти, Павка, Ида.
Эти походы к Репину за водой были через много лет описаны Корнеем Чуковским в книге «От двух до пяти». А тогда он сам шагал по дороге рядом – долговязый, дочерна небритый, в старых штанах, худой и веселый, взрывая босыми ногами клубы теплой пыли с таким же удовольствием, как мы.
Вот и резные ворота «Пенатов». Он открывал их без скрипа и, вытянув губы трубочкой, громким свистящим шепотом требовал, чтобы мы замолчали. Репин работал, тишину мы обязаны были соблюдать полную. Еще и до ворот, едва достигнув репинского забора, он шикал не только на нас – на прохожих. А уж в саду! Чуть не на цыпочках выступал перед нами, гневно оборачиваясь на каждый шорох. Мог и за плечо тряхануть ослушника.
Молчание давалось нам нелегко, но от напряженности этой тишины нам становилось еще веселее: выходило, будто мы не брали воду у Репина, а крали ее.
Без звука вешал он ведро на округлую шею крана, а потом снимал и ставил на крупный гравий. Теперь наша очередь. Мы надевали тяжелое ведро на палку и, не спуская глаз с качающейся – вот-вот выплеснется! – воды, благоговейно несли ее.
– Тише, тише, тише, тише! – свистящим шепотом требовал наш командир.
Но вот он снова отворял перед нами резные ворота и снова затворял их. Вот наконец мы миновали забор, и тут накопившийся в нас шум победоносно вырывался на волю.
Все мы разного роста, палка больно бьет по ногам и бокам, вода норовит расплескаться, но нам это нипочем. Отойдя от «Пенатов», мы привольно выкрикиваем давно уже сочиненную, привычную и каждый раз заново веселящую песню:
Два пня,
Два корня,
У забора,
У плетня, —
Чтобы не было разбито,
Чтобы не было пролито…
Мы в ожидании смолкаем. Ожидание кажется долгим, хотя оно длится мгновение.
– Блямс! – выкрикивает он.
Мы по команде опускаем ведро на землю и плюхаемся рядом.
Он вместе с нами.
Боба смотрит в воду, с удивлением разглядывая, как комкает и корежит вода его лицо.
– Марш! – выкрикивает наш повелитель. – Одна нога здесь, другая там!
И снова мы затягиваем наш водяной гимн, ожидая блаженного «блямс!».
От него мы всегда ожидали веселого чародейства.
Если с ним, значит уж так завлекательно – не оторвешься. Особенно: «идем путешествовать».
На почту ли, рукопись отправить, на берег ли моря, за водой ли в «Пенаты», в лавку ли на станцию, или шагать на край света, или отправиться в плаванье – это уже все равно: лишь бы с ним.
Серьезной угрозой из его уст считали мы в детстве одну: «Не возьму с собой». «Завтра не возьму с собой». Куда не возьмет? Это уже и не важно. С собой не возьмет, вот куда. Оставит дома. Расстанется. Все будут с ним, все возле, вместе – а я одна. Без его шагов, голоса, рук, насмешек. Сиди в саду и делай вид, что читаешь. Гляди на калитку и прислушивайся: жди, когда с Большой Дороги в переулочек поворотят голоса, и вот ближе и ближе его голос, покрывающий все, высокий, с примесью свиста и шепота, командующий и насмешливый вместе.
К счастью, был он хоть и горяч, но отходчив. И устрашающая угроза «завтра не возьму» не исполнялась почти никогда. Он забывал ее, и мы снова оказывались вместе, в путешествии или труде.
Когда домашние припасы кончались (а родители наши ездили в город нечасто), мы всей оравой шли по
Большой Дороге то на станцию Куоккала, то в сторону противоположную – к станции Оллила, в лавочку Кильстрем, и хотя дорога была самая обыкновенная, но если шли мы не с няней Тоней, а с ним, чего только не случалось во время этих двухверстных путешествий! Чего только он не изобретал!
Заметив, например, что Боба, молча принудивший нас взять его с собой, изнемогает под гнетом жары, усталости и фунта орехов:
– Несчастье! – вскрикивал вдруг Корней Иванович высоким голосом. – У меня приклеился нос! Я не могу сдвинуться с места! Я пропал! Помогите! Спасите!
Согнувшись в три погибели, он ерзает носом по стволу придорожного дерева. Руки растопырены, пальцы беспомощно шевелятся в воздухе. А вот нос – нос уже неподвижен. Он накрепко прилип к стволу. И ноги вросли в землю. Кончено. Отец наш останется тут навсегда.
– Хватайте меня и тяните меня! Бобочка! На твою помощь вся моя надежда!
Мгновенно позабыв об усталости, Боба вцепляется ему в колено. Тянем и мы с Колей за болтающиеся длинные руки, за полы его пиджака, за Бобин кушачок. Тянем-потянем, вытянуть не можем. Нос прочно приклеен к дереву, ноги стоят как столбы. Долго мы еще тянем-по-тянем. Бобе иногда удается сдвинуть одну огромную ногу, и он не теряет надежды. Но где там! Нога вросла в землю опять. И вдруг, от внезапного толчка, все мы летим на траву: великан освобожден, он распрямился, закинул голову и с высоты протягивает каждому из нас по очереди свою благодарную руку. Особенно горячая благодарность выпадает на Бобину долю:
– Спасибо тебе, Бобочка, ты тянул сильнее всех. Если бы не ты, не видать бы мне родного дома!
И Боба радостно бежит вперед.
Когда начинала хныкать и отставать на дороге я, он возобновлял мои силы по-другому. Он пускался в рассказы о том, как я была маленькая. Как меня однажды купали в корыте, поставленном на две табуретки, а корыто возьми и опрокинься вместе со мной. Я сначала вскрикнула, а потом замолчала. Лежу под корытом, и оттуда ни звука. Все думали, что я умерла. Боязно было приподнять корыто, взглянуть.
– Что я там лежу мертвая? – спрашиваю я. – И ты боялся?
– И я. «Ведь я вам несколько сродни».
– А потом?
– А потом я поднял корыто…
– И я была живая! – кричу я в восторге. – Лежала живая и не плакала!
Мне хотелось, чтобы он рассказал, как мама прижала меня к груди, как все радовались, обнимали меня и целовали, но его насмешливый ум не позволял размазывать умиление.
– Я была маленькая, но не плакала, – вымогала я. – Я сильно ушиблась, но не плакала.
– Зато плакали мы, – обрубал он. – До того ты нам всем на-сто-чер-те-ла. – И клал мне руку на плечо. – Голову мыть – рев! мыло, видите ли, попало в глаза… А сама толстая, красная, безбровая – фу!.. Колечка, кстати, скажи нам, как по-английски брови?
Я понимала, конечно, что он шутит, но все-таки больше, чем о корыте, любила другой его рассказ: о том, как при моем появлении на свет меня воспевали поэты.
Папа, мама и Коля жили тогда в Петербурге на Коломенской улице. Маму увезли в больницу неподалеку, на этой же улице, а оттуда она вернулась уже вместе со мной. Пришел поздравить родителей поэт Сергей Городецкий и написал на дверях маминой спальни:
О, сколь теперь прославлен род Чуковских,
Родив девицу, краше всех девиц.
(По этому случаю, чтобы я не слишком много воображала о себе, Корней Иванович называл меня попросту «Краше». «А скажи-ка нам, Краше, как по-англий-ски всадник?», «Сбегай, Краше, приведи Бобу обедать».)
Кроме Городецкого воздавал мне хвалы, оказывается, еще и сам Валерий Брюсов.
Я слушала с восторгом, и отнюдь не единожды, что вскоре после того, как я родилась, Валерий Яковлевич Брюсов прислал Корнею Ивановичу письмо с приложением стихов, которые просил пристроить в один из петербургских журналов. Если же стихотворение не понравится редакции, добавлял поэт, дарю его в приданое Вашей новорожденной дочери[1].
– Это я! – кричала я, – это мне! – А Корней Иванович, отозвавшись обычно «ты у меня не бесприданница», произносил, торжественно выпевая звук «и»:
Близ медлительного Нила, там, где озеро Мерида,
в царстве пламенного Ра,
Ты давно меня любила, как Озириса Изида,
друг, царица и сестра!
И клонила пирамида тень на наши вечера.
– Лидка-пирамидка! – кричал Коля.
– И клонила, пирамида тень на ваши вечера! – ехидно повторял Корней Иванович.
…Сегодня нам везет: после приклеенного носа – новое происшествие: автомобиль. Не из-за забора, не издали, как мы видели его обыкновенно, а, можно сказать, лицом к лицу. Стекла, черный глянец, ослепительные шары солнц и оглушительные гудки. Во всем своем блеске, который не в силах притушить даже пыль, мчится нам навстречу черно-стеклянное диво. Пролетело. Обычно, сидя дома и услыхав его приближение по Большой Дороге, мы успевали перелезть через забор и полем выбежать на дорогу только тогда, когда его уже и в помине не было: клубы пыли впереди да следы шин под ногами. А сегодня повезло: он вылетел нам навстречу, когда мы шли по дороге, и с ревом пролетел мимо нас, совсем близко, хоть пальцем потрогай; и пока соседские ребятишки еще неслись через заборы или выбегали из калиток, мы уже сидели на корточках, рассматривая «елочку»: два длинные следа шин, оставленные им за собою.
– Не дыши, елочку сдуваешь! – говорит мне Коля.
И я стараюсь не дышать.
Но тут на нас надвигается опасность. Такая грозная, что мы немедленно забываем о «елочке».
Собачища. Бегает взад и вперед вдоль забора и рвется на волю.
Разумеется, мы хорошо знаем всех окрестных собак, финских и русских, включая репинского одноглазого пуделя Мика, но этого пса видим впервые. Наверное, чей-нибудь дачный, а дачников мы вообще не терпим. Сами-то мы причисляем себя к местным. Мы не бежим в Петербург, чуть только начинается осень, дожди, бури. Мы все умеем, что и здешние ребята: и в ножички, и в камешки, и зимою на лыжах, и летом грести, и плавать, и ходить босиком; мы и по-фински понимаем немного и можем сказать: «идемте купаться!» или «дождь», а дачники не понимают ни слова – и, главное, они всего пугаются. Босиком? Нельзя, простудишься. В ножички? Нельзя, руку порежешь. Купаться – утонешь, ай-ай-ай, нельзя! Моря боятся так, что когда наш капитан пригласил одну дачную девчонку с нами на лодку и сказал ей: «Ты сядешь на дно», она вообразила: на морское дно! И ревела до тех пор, пока мы не повернули к берегу и он не отнес ее на руках к гувернантке. И все у них неприлично. В одних трусиках купаться – неприлично. Надо в костюме. По заборам или деревьям лазить – неприлично. С финскими детьми – неприлично… А это прилично: привезти собачищу, которая так усердно сторожит их дачу, что норовит кинуться на ни в чем не повинных прохожих?
Дачники – трусы. Всего боятся, а более всего, чтобы их не обокрали. Вот и привезли сторожа.
Но на этот раз струсили мы, не они.
Мимо пышного цветника возле трехэтажной дачи, вдоль только что окрашенною забора, туда и назад носится со злобным лаем собака. Ищет лазейку, чтобы вырваться на улицу и искусать нас. Как будто мы воры какие-нибудь и собираемся украсть ее цветы! Мы торопливо идем вдоль забора со своими кульками. Он впереди. Хочется не идти, а бежать. Но он не велит. Главное, говорит он нам тихим голосом, не бежать. И делать точно то самое, что станет делать он. Чуть только скомандует: раз, два, три!
А собачища, глядите-ка, не нашла лаза и быстрыми лапами роет его себе сама. Земля летит из-под лап, словно брызги.
Проклятый забор! Как долго он тянется. Так бы и побежал со всех ног, но – нельзя. Вырвалась!
– Бросайте кульки! – командует он.
Бросаем. В сухую канаву летят конфеты, печенье, сахар, мыло…
А она со всех ног несется навстречу большими прыжками. Не собака, тигр какой-то!..
Ох, как меня тянет бежать! Я вцепляюсь ему в одну руку, Боба в другую.
– Раз, два, три! Делайте то же, что я!
Он отталкивает наши руки и опускается на четвереньки в пыль.
И мы рядом с ним.
Все семеро на четвереньках: он, да Боба, да Коля, да я, Матти, Ида, Павка.
– Гав, гав, гав! – лает он.
Мы не удивляемся. Удивляется насмерть собака.
– Гав, гав, гав, – подхватываем мы.
Собака, словно в нее запустили камнем, поджав хвост, бежит прочь. Наверное, впервые в своей собачьей жизни она увидела четвероногих людей. Мы долго еще продолжаем лаять – долго еще после того, как он поднялся, отряхивая ладонями штаны, а собака на брюхе уползла в сад и забилась под зеленое крыльцо.
Ему не сразу удается унять нас. Оказывается, это такое наслаждение – лаять на собак!
4
«Сухопарая экономка знаменитого лысого путешественника, заболев скарлатиной, съела яичницу, изжаренную ею для своего кудрявого племянника. Вскочив на гнедого скакуна, долгожданный гость, подгоняя лошадь кочергой, помчался в конюшню…»
Это мне задано. Это я должна к завтрему перевести на английский. Чушь эту сочинил для меня он сам; для Коли – другую, столь же несусветную; он составил эти интересные сочинения из тех английских слов, которые накануне дал нам выучить.
Мне лет шесть или семь; Коле – девять или десять. Мы переводим подобную ахинею верстами и от нее в восторге. Радостный визг и хохот! «Подгоняя лошадь кочергой!»
Наш учитель пытался и уроки превратить в игру. Отчасти это ему удавалось.
«Пестрая бабочка, вылупившись из куриного яйца, угодила прямо в тарелку старому холостяку…»
Бабочка из куриного яйца! Переводить мы любили. А вот слова зазубривать – не очень-то. Ими он преследовал нас постоянно и по-нашему – невпопад. В лодке ли, по дороге ли на почту или в «Пенаты» он внезапно швырял в нас вопросами: как по-английски фонарь? Или аптека? «А скажи-ка, мне, Колечка, – спрашивал он ласковым и чуть-чуть угрожающим голосом, – как по-английски солома? Так. Верно… А ты, Лидо-очек, не скажешь ли, что значит the star? А много звезд? Громче! Не слышу!.. А как будет счастливый? А как хворост? А что такое the spoon?»
С русского на английский и с английского на русский.
Совал нам в руки палку, заставляя писать английские слова на снегу, на песке. Спрашивал заданные слова, вызвав пораньше утром наверх в кабинет. Вразбивку. Подряд. Через одно. Старые. Новые.
В молодости был он горяч и несдержан – и из-за плохо выученных слов случалось ему и по столу кулаком стукнуть, и выгнать из комнаты вон или даже – высшая мера наказания! – запереть виноватого в чулан.
Тут уже не пахло игрой. Тут уж было искреннее отвращение.
– Убирайся! – кричал он мне, когда я отвечала с запинкою, не сразу. – Только б лентяйничать и в постели валяться! Я сегодня с пяти часов утра за столом!
(Ему действительно нередко случалось ночи и дни напролет просиживать за письменным столом, и чужое безделье вызывало в нем презрительный гнев. Увидев, что мы слоняемся без толку, он мигом находил нам занятие: обертывать учебники разноцветной бумагой, ставить по росту книги на полках у него в кабинете, полоть клумбы или, открыв окно, выхлопывать пыль из тяжелых томов. Чтобы не валандались, не лоботрясничали.)
Отсутствие в нас аппетита к английскому ставило его в тупик и раздражало безмерно. Он воспринимал это как личную обиду.
Когда он кричал на меня за дурно выученное английское слово, я скрывалась в любимом своем убежище, в кустах за ледником, – плакать и учить слова заново. Боба, вздыхая, протягивал мне на ладони три ягодки черники и одну брусничину.
Однажды Коля просидел наказанным в чулане целый час – все из-за тех же английских слов. Не то чтобы Коля совсем их не выучил – нет, выучил, но недостаточно твердо. Это-то и было в глазах нашего учителя преступлением. Вчера Коля не мог ответить, как по-английски ложка, а сегодня ответить – ответил, но написал с ошибкой.
Сам он не терпел полузнайства, да и полуделанья – ни в чем.
В одной английской книжке, сохранившейся до сего дня на полке подмосковной дачи, красным карандашом его рукою подчеркнуто: «Какое бы дело ему ни приходилось тащить, он тащил, как четверо коней в одной упряжке». Так было всю жизнь. Того же он ожидал и от нас. А мы… Где там! Выученным английское слово он считал лишь в том случае, если мы знали его во всякую минуту, в любом контексте, во всех видах и формах. А мы! Сегодня знаем, завтра нет, в единственном знаем, во множественном – с запинкой. Неполный волевой напор, тление вместо горения. Вялость вместо благородной охотничьей страсти. «Отлыниваешь!»
Собственное его детство и отрочество прошло в одесской мещанской бескнижной среде. Каждую книгу ему приходилось самому добывать и самому, без чужой помощи, добиваться ее понимания.
А мы… Дом наш полон книг, русских и английских, а мы валяемся допоздна в постелях и норовим улизнуть, пока он не спросит слова. Его-то некому было учить. К нам и учительница ходит, Колю готовит в гимназию, и сам он рад обучать нас каждую свободную минуту. Мы же что-то там такое наспех вызубриваем, нет того, чтобы радоваться каждому новому английскому слову и накидываться на книги со страстью, как накидывался он.
Выгнанный из пятого класса гимназии по деляновскому указу о «кухаркиных детях» (за незаконнорожденность, а главное, за то, что его мать, наша бабушка, Екатерина Осиповна, вынуждена была зарабатывать себе на жизнь стиркой), он все, что знал, узнал из книг, и притом сам, без учителей и наставников, постоянным напряжением ума и воли; он сам переступил порог, быть может, один из труднейших на свете: шагнул из мещанства в интеллигенцию. Всю жизнь владело им смирение и гордость самоучки: преувеличенное смирение перед людьми более образованными, чем он, и смиренная гордость за собственные, добытые вопреки помехам, познания.
Семья Бориса Житкова, товарища его по гимназии, была первой интеллигентной семьей, с которой он встретился в жизни. Было ему тогда двенадцать-тринадцать лет. Там играли на фортепьяно и на скрипке. Там множество книг, атласов, карт; там у детей даже собственный микроскоп… Как рассказывает Корней Иванович в своих воспоминаниях, глава семьи и все ее члены обладали необыкновенным свойством: мало того, что они сами любили книги, они любили давать их другим. В первый же раз дали ему «Дон Кихота».
«Я не знал ничего ни о чем»[2], – сообщает он, рассказывая про свое отрочество.
Но узнавать он хотел! Как можно больше, скорее, прочнее.
В юности по дрянному самоучителю он выучился английскому сам и испытывал счастливое изумление, переводя Уолта Уитмена или свободно читая «Vanity Fair» Текке-рея. В двадцать один год он отправился в Лондон корреспондентом одесской газеты; просиживал там с утра до вечера в библиотеке Британского музея – учился, наверстывал упущенное.
«Я с остервенением сажусь за свои книги, – писал он в 1904 году из Лондона в Одессу своей молодой жене. – Я бесконечно учу слова (их уж очень немного), я читаю в постели, за обедом, на улице. В музей я прихожу в 9—10, а ухожу после звонка. <… > Все я делаю для тебя, для того, что когда мы свидимся, я мог бы тебе рассказать, тебя научить».
И посылал ей слова к книге Карлейля: «Выучи их раньше, а потом берись за чтение».
И целый словарь к «Ярмарке тщеславия» Теккерея: «Боже мой <…> как бы мне хотелось, чтобы ты знала английский, чтобы ты могла с такой же легкостью, с таким же наслаждением читать эту «Vanity Fair»»[3].
Теперь метод, применявшийся им когда-то к себе: каждый день выучивать десятки слов, – метод, каким он когда-то обучал нашу мать, он применял к нам, детям.
И в нас он хотел возбудить задор, азарт, привить нам вкус к узнаванию. А мы! Нет того чтобы, как он, читать «в постели, за обедом, на улице». Не горенье, а тленье.
По-чиновничьи: ровно столько слов, сколько задано. Ни словечка больше.
– Вон отсюда! – кричал он, когда выяснилось, что Коля знает слово, но не помнит, как оно пишется. – Ничтожество! (Это было одно из его любимых ругательств.) В чулан! И сиди там, копти потолок, чтобы я не видел тебя! Так и умрешь лоботрясом.
Нам-то не приходилось ничего разыскивать. Ничего добывать. Нам не приходилось впроголодь чертить английские слова на раскаленной крыше – пока не пришли маляры, для которых он шпаклевал эту крышу, или изучать английскую литературу в библиотеке, не имея маковой росинки во рту, от утра до закрытия. Все к нашим услугам: руку протяни – книга тут. В нашем доме, у него в кабинете (который казался маленьким, потому что одну половину занимал огромный диван, а вторую – письменный стол), у двух стен, от пола до потолка, и на письменном столе, и на подоконнике стояли и лежали книги.
Русские и английские.
(Они стояли в порядке, но не в омертвелом, а живом – рабочем: они были опрятны, ни сальных пятен, ни загнутых страниц, ни пыли, но пометки – во множестве; читать для него означало усваивать, оценивать и спорить с автором; и вот – внутренняя сторона переплета испещрена столбиками цифр – нумерацией страниц, – а самые страницы – пометками и подчеркиваниями.
Кроме того, как истый редактор, он к каждой книге, к своей или чужой, относился точно к рукописи, еще не оконченной и подлежащей усовершенствованию: не мог удержаться, чтобы не исправить типографскую опечатку, неуклюжий оборот или ошибку автора.)
Окна кабинета выходили на соседний крестьянский луг за забором: летом колокольчики, ромашки, клевер, зимою ровная пелена снега. Книги стояли на полках классические и современные. Русские (кроме классических) по преимуществу с автографами или штампом «на отзыв»: их посылали критику Корнею Чуковскому прозаики и поэты или редакции современных газет. Английские же он вывез и постоянно выписывал из Лондона. С раннего детства помню Уолта Уитмена во многих изданиях, и Мильтона, и Шекспира, и Китса, и Суинберна, и Грея, и Броунинга, и Байрона, и Шелли, и Бернса рядом с Жуковским, Пушкиным, Батюшковым, Баратынским, Некрасовым, Полонским, Лермонтовым, Фетом, Тютчевым, Блоком.
Но царицей кабинета, где бы мы ни жили, всегда представлялась мне «Encyclopedia Britannica». В Куокка-ле она зеленела рядом с серым Венгеровским Пушкиным.
«Энциклопедия Британника» – пожизненный его самоучитель. Библиотека Британского музея, как бы спрессованная в этих томах и взятая с собою в дорогу.
Никогда не сетовал он на свой путь – трудный путь самоучки – и утверждал, напротив, что, если человек в самом деле жаждет знания, он своего добьется – были бы книги! – и воля. Более того, он был убежден, что знания, приобретенные собственными усилиями и выбором, прочнее и плодотворнее тех, которые нам произвольно сообщают другие. Вот почему он так ликовал, что переводили мы весело, с охотой, и так печалился, что зазубривать слова мы ленились. Он учил нас английскому элементарнейшим способом в соответствии с элементарнейшей целью: скорее научить нас читать и понимать прочитанное. Конечно, он учил нас английскому потому, что любил английскую литературу, и потому, что когда-то завоевал его сам, но главное, для того, чтобы дать нам еще один ключ к узнаванию. Произношением нашим и умением свободно говорить по-английски он не интересовался нисколько: если приведется жить среди англичан, объяснял он, научимся в две недели. Читать, читать и читать! Учить слова! Вот слова к «Счастливому принцу» Уайльда, а вот к одной странице из «Оливера Твиста» Диккенса. Вот веселая игра – переводы.
К гимназическому нашему учению он относился с полным равнодушием. Подмахивал еженедельные дневники, почти не глядя, считая и отметки и подпись одной формальностью. Не верил, что гимназические казенные преподаватели способны увлечь детей, а учиться без увлеченности дело никчемное. Зато, приметив, что Коля с малых лет интересуется географией, он чуть ли не из каждой поездки в Петербург привозил ему новый атлас, а из поездки в Лондон (в 1916 году) навез столько карт, что для них не хватало стен. И, заражаясь Колиным энтузиазмом, ползал вместе с ним по полу, по разостланной карте… Я была горестно лишена малейших способностей к арифметике. Убедившись, что математическое мышление мне чуждо, что, сколько я ни трачу сил на задачи и примеры, дело оканчивается слезами, а не ответами, он начал решать задачи за меня и бесстыдно давал их мне переписывать, к превеликому ужасу нашей домашней учительницы.
– Знает таблицу умножения, четыре правила – и хватит с нее! – говорил он. – Восемь лет случаются раз в жизни. Нечего загружать голову тем, чему голова сопротивляется. Такая свежесть восприятия, такая память больше не повторится… А ну-ка, Краше, почитай мне «Песнь о вещем Олеге»…
Я читала. Стихам моя голова не сопротивлялась. Мне было труднее позабыть их, чем помнить.
…И английские уроки, в сущности, мы любили. Только бы не слова! Зато, когда управишься со словами, начинаются радости:
«Старая дева, объевшись замазкой, упала в пруд. Бурный южный ветер гнал ее прямо на скалы. Но в эту минуту прилетела ласточка и клювом вцепилась в ее волосы».
Объевшись замазкой! Какая радость! Мы были неприхотливы и смеялись взапуски.
Когда же после ахинеи, белиберды, чуши откроешь, бывало, книгу Диккенса на той странице, к которой он нас готовил, и сама, без его помощи, узнаешь, что случилось дальше с Оливером Твистом, – о! ради этого стоило зубрить слова и даже терпеть его немилость.
Это был фокус почище солонки.
5
Он научил нас играть в шахматы и шашки (он сам одно время, в Лондоне, сильно увлекался шахматами), разыгрывать шарады, ставить пьесы (одну написал специально для нас: «Царь Пузан»), строить из песка крепости и запруды, решать шахматные задачи; он поощрял игры – кто выше прыгнет, кто дальше пройдет по забору или по рельсу, кто лучше спрячет мяч или спрячется сам; играл с нами в городки, скакал на одной ноге до калитки и обратно. Он превратил для нас в любимую игру уборку письменного стола; какая это была радость: выковыривать кнопки особой раздвоенной лопаточкой, постилать на стол новую зеленую бумагу и ровненько закалывать ее кнопками; протирать ящики особой тряпкой, которую он хранил в потайном месте, и потом, по его поручению, мчаться к ручью – стирать ее серым, тоже извлеченным из особого тайника мылом! А сушить эту тряпку на сосновом суку и проверять – высохла ли! А трогать вопреки запрету маленькую мохнатую тряпочку, всю в синих чернильных пятнах, которой он протирал перо! (Она была дочкой большой пыльной тряпки…) Он охотно играл с нами и в самые распространенные, общепринятые, незамысловатые игры: в палочку-выручалочку, перегонки, снежки, даже в кучу малу: ни с того ни с сего хохот, толкотня, клубок тел на полу, визг… Он задавал нам загадки, заставлял нас выдумывать свои и загадывать их Бобе.
Одна только была игра, столь же немыслимая у нас в доме, как, скажем, вспарывание животов: игра в карты.
Ему было ведомо: и Пушкин, и Толстой, и Некрасов играли в карты, но это ровно ничего не меняло.
Смотрел он на карты, как на чуму. Нет, у него в доме карт не будет! Бедная няня Тоня, любившая погадать, прятала колоду на самое дно сундучка.
Боялся ли он пробудить в нас азарт? Вряд ли: сам-то он вносил азартность во все. Да ведь, в сущности, какой-нибудь «Черный Петька» или домино мало чем в этом смысле уступают картам. В эти игры он с нами играл. Но карты – это было табу; наверное, за карточной колодой ему мерещились зеленые столы, мелки, смятые трехрублевки и рубли и понтирующий, ни к чему не способный, томный бездельник Коля. Не воспитал! Не внушил тяги к умственной жизни, к труду! Карты в его восприятии были знаменем враждебного лагеря. Хотя в карты играли во все времена и во всех городах, но ему-то за ними виделся один лишь город – Одесса; и одно лишь время – время унижений! – отрочество и юность; и тот мещанский круг торгашей и чиновников, на которых работала его мать. Круг, который презирал его мать, и его сестру, и его самого, – мир, где радовались исключению из гимназии «кухаркиных детей»; откуда он («антипат», как прозвала его одна одесская барышня) – мальчик без отца, сгорбленный, неуклюжий, несчастный, в худых башмаках, в искалеченной гимназической фуражке с выломанным гербом, ушел навсегда к труду, к литературе, к стихам, к Тютчеву и Уолту Уитмену.
Сначала он расклеивал афиши, помогал малярам, потом стал писать газетные статьи, переводить стихи, сделался литератором, писателем и, главное, на всю жизнь ненасытным, деятельным читателем – не только «антипат», но, можно сказать, антипод бездельной, бескнижной, невежественной, вульгарной, болоночной и картежной Одессы. Эту Одессу в письме к приятелю он мстительно обозвал однажды «фабрикой пошляков». Праздность, в особенности умственную, он всегда ощущал как великую пошлость, – и вот он, общительнейший человек на земле, он, с любопытством разглядывавший каждого встречного и поперечного, вносящий оживление в любое общество, куда бы ни явился: эпиграммой, вознею с детьми, рассказом о литературном открытии, – возненавидел все, что пахло праздностью, и тот, например, обряд, который именуется в быту «идти в гости», попросту не признавал. Он шел к людям и звал людей к себе, как зовут на спектакль, на лекцию, на выставку, на диспут… Идти же в гости чайку попить и посудачить (подарки, новые туфли, родственники) – к этому он был неспособен. Дом наш был для него прежде всего рабочее место, где он терзался трудом: не удается, не удается, не удается – какие уж тут гости? отчаянье! – показалось наконец, что удалось, вот тебе и именины. Тогда лыжи, или море, или лодка, и дети, и костер на берегу, и люди. Слушатели: проверить, в самом ли деле удалось? и скорее в мастерскую Репина – взглянуть, как продвинулся портрет Короленко, или, по соседству, к Ценскому, или к тому же Короленко: послушать написанное ими, почитать свое. Вот и праздник!
Общепринятых праздников, традиционных, в особенности семейных, не выносил совсем – если нельзя было превратить их в театральное представление, в острое соревнование собеседников, в общую игру. Всякого рода серебряные свадьбы ощущались им как пустейшее препровождение времени: у человека, в самом деле работающего, на такую пустопорожность оставаться времени попросту не может.
Примечательная запись сохранилась в его Дневнике.
Год 1922. Петроград. Куоккала уже позади.
Двухлетие Мурочки (Марии), младшей его дочери, моей сестры. Подарки, родные, знакомые. Все как положено. День рождения. Гости.
Читаем:
«…день для меня светлый, но загрязненный гостями. Отвратительно. Я ненавижу безделье в столь организованной форме».
Если гости и хозяева, благодушно и невинно жующие пирог, загрязняют своей праздностью светлый день, то какую же форму безделья мог он ощущать более организованной и более ненавистной, чем карты?
Ведь в карты играют, чтобы убить время, а времени у человека, поглощенного своим трудом, вообще быть не может. Тут суток мало, это тебе не «фабрика пошляков» – чиновничий тупой круг: отбыл службу, отсидел положенные часы, и времени девать некуда.
(Ходят в гости! Часами играют в карты!)
Разумеется, смысл и причины его лютого презрения к картам стали мне понятны гораздо позднее, когда я выросла и начала понимать его путь.
В Куоккале же причин я не понимала, но он с успехом вбил нам в головы уверенность: тратить время на карточную игру – дело постыдное.
И вдруг, появившись однажды нежданно-негаданно в дверях веранды, когда мы воображали, что он, уехав в город, останется там ночевать, он застал нас за картами. Играли мы не на деньги. Даже не на орехи. Просто так: играли «в пьяницу».
Если бы он застал нас за изготовлением фальшивых ассигнаций, гнев его не мог быть более бурным. Не смягчило его даже то, что мы сами нарисовали всех королей и валетов.
Бешеными пальцами он вырвал у нас карты из рук, разодрал в клочки, скомкал и далеко запустил комок в траву на соседское поле. Потом взглядом поискал на столе, что бы такое разбить, но ничего не нашел. Потом, расхаживая огромными шагами по веранде, взялся за главного преступника – Колю, которого, как старшего, считал всегда в ответе за все.
– На английский времени нет, а на эту мерзость хватает. Пятнадцать английских слов было задано, а он…
– Папа – я выучил слова, – сказал Коля. – Проверь.
– Выучил! Мерзавец! Нашел чем хвастать! Одолжение мне делает! Пятнадцать слов и ни слова более! От сих до сих! А мог бы не пятнадцать – пятьдесят в день выучивать… Уроки для Веры Михайловны не сделаны, а он в картишки перекидывается. И Лиду научил. Негодяй!
– Папа, у меня для Веры Михайловны уроки готовы, – сказал Коля.
– Ну и что, что готовы! Мог бы и сам задавать себе уроки. По истории, например, каждый день на страницу больше. Упражнение для воли… Мог бы книгу почитать: слава Богу, книги, кажется, есть.
– Я только что окончил «Остров сокровищ» и еще не начал другую, – сказал Коля.
– Подумаешь, ему передышка нужна после «Острова сокровищ»! Читает – оказывает мне благодеяние. Читать нет охоты – соблаговолил бы заняться… (он придумывал). Хоть крыльцо бы подмел. Няня Тоня сегодня весь день не присела… А они развалились… Могли бы… (он изобретал), могли бы хоть песку нанести… для чистки кастрюль… Барчуки!
Никогда не забуду ни этого вечера, ни брезгливого движения, каким он выкинул за окно скомканную колоду. Так выкидывают жабу. В его глазах игра в карты была символом праздности, ничтожным развлечением ничтожных тупиц, которые ценят складку на брюках, а не талант и познания.
Он поднялся к себе наверх, хлопнул дверью, но гнев его еще не разрядился вполне, и он снова вышел из своей комнаты, чтобы, перевесившись через перила, крикнуть Коле:
– Акциз-ный чиновник! – и снова изо всех сил хлопнуть дверью – так, что стекла задребезжали внизу и наверху, на обеих верандах.
(В куоккальском доме в заводе не было не только карт, но и папирос и вина. Вино к столу не подавалось ни в какие дни, ни при каких гостях, ни по какому случаю; хозяин не курил, а гостям курить хотя и разрешалось, но после ухода курильщика в доме происходило нечто вроде дезинфекции: спешно выносились в помойную яму окурки, мылись пепельницы и устраивались сквозняки.
В Переделкине, в последние годы, он уступил обычаю и завел в доме вино. Не для себя, для гостей. Но угощать не умел: нарушая обряд, слишком торопился покинуть стол. Его тянуло либо на воздух, пройтись вместе с гостями по саду, либо в кабинет – послушать, показать, почитать… Чувствуя это, гость выпивал свою рюмку, наспех закусывал и вставал. Исполнить обряд – спокойно посидеть за столом, как положено, – не удавалось.)
Свежий воздух, стихи, книги, разнообразное общение с разнообразными людьми, выдумки, россказни, шарады, игры с детьми – вот в чем обретал Корней Иванович веселье и силы.
В Куоккале он не только охотно играл с нами каждый свой свободный час, но и старательно оберегал от посторонних и даже собственных вторжений наши самостоятельные утехи и выдумки – в особенности те, в которых чувствовал ростки одухотворенности, творчества.
Коля любил мечтать. И притом в одиночестве.
– Уходи отсюда, – говорил мне Коля. – Разве ты не видишь, я мечтаю.
Нет, это совсем не означало, что он сидел на камне, подперев щеки руками, и мечтательно глядел на облака. «Мечтать» на его языке означало прыгать с камня на камень вдоль берега у самой воды и то прятаться от невидимых врагов, таившихся в засаде, то самому устраивать засаду на них, то кидаться в гущу преследователей, разя их направо и налево. Он без устали перепрыгивал с камня на камень и, размахивая палкой, которая была по мере надобности и ружьем, и бумерангом, и пикой, и шашкой, быстро негромко и непрерывно выкрикивал:
– И вот они вылетели из густых зарослей. Бах, бах, раздались выстрелы, но ни одна пуля не коснулась его головы! Зато от его пуль не поздоровилось нападавшим! Трах-тах-тах! – неслось из-за скалы, где он залег, прижимая ружье к виску. Убитые падали градом. Лошади поднимались на дыбы и, сбрасывая всадников с седел, в бешеном испуге мчались обратно в прерии.
(– Уходите, – кричал он, заметив меня или Бобу, – разве вы не видите, я тут мечтаю!)
– Десятки тел оставались лежать на земле. Он встал во весь рост и оглядел пустыню. Он знал, что, собравшись с силами, они вернутся. В его распоряжении не более трех минут. Помощи ждать неоткуда. Необходимо укрепить позицию.
И Коля, отбросив палку, начинал, судорожно ползая по песку, стаскивать в одно место песок и камни. Смотреть на него было завидно. Мне тоже хотелось прыгать по камням и прикладывать палку к виску – бах! бах! А он не берет в игру. Ну и не брал бы, пусть, я буду играть сама, но он с берега гонит.
Несправедливо!
И я бежала домой жаловаться. Но жалоба моя не имела успеха. Наш капитан, предводитель и верховный судья, вчера еще так беспощадно накричавший на Колю за карты, сегодня не хотел ему мешать. Он охранял его беготню по камням. Тут деятельно работали воображение, свежий ветер, литературная память. Это была Ее Величество Игра.
Объяснять это все мне в ту пору он, разумеется, не мог, но и обижать ему меня не хотелось.
– Вот что, Лидочек, – говорил он извиняющимся, вкрадчивым голосом. – Давно я тебе ничего не рисовал. Вот, гляди – я буду рисовать, а ты угадывай.
Пером или черным карандашом он рисовал карикатуры – очень меткие. Сразу можно было угадать кто – кто. Впереди носатый булочник в картузе, с черным кругом и плетеной корзиной на голове, – тот самый, что приносит нам по воскресеньям выборгские крендели. Кажется, будто слышишь скрип его корзины. А вот это – репинский дворник, он же кучер. Тот, который позволяет мне заплетать косичками гриву лошади Любы.
А вот и сама Люба. Ее старая добрая морда.
Но сегодня я не радовалась картинкам. Будто я не понимаю! Он просто хочет, чтобы я не мешала Коле. И для этого рисует дворника и лошадь.
А Коля захватил весь берег. Все мои любимые камни. И так чуть не каждый день. Сколько раз я уже слышала:
– Боба, Лида, не ходите в ту сторону! Там Коля мечтает!
Не надо мне картинок. Мне нужна справедливость.
«– И вот кони сшиблись в богатырской схватке. И вот всадники крючьями вцепились друг другу в пояса… И вот Илья уже летит через гриву лошади – наземь…»
6
Игрою игр нашего детства было море. С утра мы бежали на берег взглянуть: виден ли Кронштадт? Хорошо ли виден? Не тает ли он на горизонте, не затягивается ли мглой? Кронштадт – наш барометр. Синяя плотная наклейка на голубом небе и золотой купол собора. Отчетливо видные, они, как стрелка, указывают мореплавателю: «ясно».
Теперь… теперь только бы он до сумерек окончил работу!
Слоняясь возле крыльца веранды, мы прислушиваемся к звукам на втором этаже.
Идет! Веселый! С лестницы через две ступеньки!
Выговаривает громким свистящим полушепотом:
Частию по глупой честности,
Частию по простоте,
Пропадаю в неизвестности,
Пресмыкаюсь в нищете.
Веселый! Едем!
Он не зовет нас, нас не замечает, не подает нам никакого знака. Высоко задрав подбородок, с видом бесстрастным и замкнутым, большими шагами шагает к берегу – будто намерен отправиться в море один… Но мы не пугаемся нисколько; лодочный ритуал давно уже разработан в малейших подробностях, и то, что наш капитан, задрав голову, бесстрастно шагает мимо, тоже входит в игру. Никуда он без нас не уедет! Мы разбегаемся – каждый по своему назначению. У каждого своя морская обязанность. Боба уже мчится в сарай за черпаком. Коля и Павка волочат тяжелые весла, две пары. Ида – уключины. Матти – багор, а я – я именуюсь «хранительницей пресной воды» и несу с ледника заткнутую пробкой холодную бутыль. (Впоследствии в пьесе «Царь Пузан» он написал для меня роль «Хранительницы королевской зубочистки».)
Поджидая нас, он уже успел перевернуть и столкнуть на воду тяжелую широкую рыбачью лодку. Руля на ней нет, вместо якоря – камень, обвязанный канатом. Зато она хоть тяжела, да вместительна. Он быстро нагружает ее всею снастью: уключинами, веслами, якорем-камнем – и приказывает садиться: Коле или Матти на среднюю скамейку, остальным – куда попало, на корму, на нос, на дно; закатывает штаны повыше, спихивает лодку с мели, на которую она плотно уселась, чуть только в нее плюхнулись мы, потом, накренив ее, сам ступает через борт и, выпрямившись во весь свой огромный рост, принимается ловко работать веслом, а то и багром, пока не выводит судно на глубокую воду. Тут уключины в гнезда, весла в уключины – пошли! Минуту дело не ладится, весла бултыхаются не враз, он покрикивает на Колю, но вот ритм ухвачен, и четыре весла, со стекающими с лопастей каплями солнца, мерно взлетают и снова опускаются в воду.
Гладь почти безветренная. Мелкие волнишки мирно толкаются о борт. Широкий след за кормой. Простор, вода и небо. Воздух такой чистый, что каждый вздох ощущаешь как глоток свежей воды. Лодка идет легко, спокойно, устойчиво, чуть-чуть пожурчивает вода за бортом.
Хочется не говорить, а молчать.
Мы и молчим, глядя, как удаляется берег.
Молчим, покорные этому щедрому бескрайнему свету, этому подрагиванию и покачиванию. Вот уже и первая чайка. Вот уже не видно камней на нашем берегу. Вот уже и людей не видать. Вот уже слились в одну густую, плотную, черную толпу редкие прибрежные сосны, и за этой колышущейся толпой неразличима наша дача.
Лодка быстро идет вперед, послушная взмахам весел. Глядя, как они оба, он и Коля, без усилий взмахивают веслами, слегка приподнимаясь над скамьями и снова опускаясь на скамьи, мне кажется, что ничего проще гребли и на свете нет. Но когда один раз, вняв моим мольбам, Корней Иванович усадил меня рядом с собой и дал мне в руки весло – всего одно для начала! – я не в силах оказалась не то что закинуть, даже удержать его. Впрочем, мне не было тогда и шести. Через несколько лет, покидая Куоккалу навсегда, я уже свободно справлялась с лодкой.
Как осваивал море наш капитан, рассказано им впоследствии в тех же воспоминаниях о Борисе Житкове.
«Никогда не забуду, как ранней весной он стал учить меня гребле – не в порту, а на Ланжероне, у пустынного берега, взяв для этого шаланду у знакомого грека-Требовательность его не имела границ. Когда у меня срывалось весло, он смотрел на меня с такой безмерной гадливостью, что я чувствовал себя негодяем. Он требовал бесперебойной, квалифицированной, отчетливой гребли, я же в первое время так сумбурно и немощно орудовал тяжелыми веслами, что он то и дело с возмущением кричал:
– Перед берегом стыдно!..
Вскоре я настолько освоился с греблей, что Житков счел возможным выйти со мною из гавани в открытое море, где на крохотное наше суденышко сразу накинулись буйные, очень веселые волны.
До знакомства с Житковым я и не подозревал, что на свете существует такое веселье. Едва только в лицо нам ударило свежим ветром черноморского простора, я не мог не прокричать во весь голос широких, размашистых строк, словно созданных для этой минуты.
Зыбь ты великая! Зыбь ты морская!
Чей это праздник так празднуешь ты?»
И здесь, на Финском заливе, ясный солнечный день, мерные взмахи весел, ожидающие лица детей рождали в нем жажду читать стихи. Жажда эта жила в нем неутолимо: поэзия смолоду и до последнего дня была для него неиссякаемым источником наслаждения. Стихи он читал постоянно и всегда вслух: себе самому, один на один, у себя в кабинете, Репину в мастерской и репинским гостям в беседке; захожим студентам на песке у моря; друзьям-соседям: Николаю Федоровичу Анненскому, Татьяне Александровне Богданович и Короленко, нам по дороге на почту. И уж конечно в море. Тут, в море, он давал себе полную волю. Ритм волн и ритм гребли естественно выманивали в ответ ритмический отклик.
Никогда я не слышала чтения более пленительного. Как будто все черты его личности собирались в эти минуты в голосе, в интонациях, в губах, которые льнули к звукам, в звуках, которые льнули к губам. Однажды в море, маленькой девочкой, слушая его голос, произносящий стихи, я впервые заметила красоту его рук. Таких особенных рук я потом в жизни ни у кого не видала. Сильные, хваткие, но не искаженные ни веслом, ни пилой, ни ведрами, ни камнями, ни лопатой; кончики длинных пальцев отгибались назад.
Лирическая основа его естества, скрываемая обычно иронией, насмешкой, язвительностью, задором полемики, явственнее всего проступала наружу, когда он читал стихи.
В голосе его, когда он читал великую лирику, появлялось некое колдовство, захватывавшее и его и нас. На страницах своих сочинений он не раз говорит, что смолоду привык «упиваться стихами». Упоение заразительно. Наверное, потому мы и упивались, слушая, что он упивался, произнося. И все стихи, которые я узнала потом, одна, сама, без него, звучание всех на свете стихотворных строчек, кто бы их ни произносил, навсегда связаны для меня с моим детством и его голосом.
– Зыбь ты великая! Зыбь ты морская! – начинал он, закидывая весла и чуть-чуть раскачиваясь. – Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звезды глядят с высоты, —
читал он широким, певучим, страстным, словно молящимся голосом, и мне казалось, что теперь уже лодка покоряется не волнам и веслам, а весла и волны – и все вокруг – звучанию голоса.
Читая нам стихи на морских прогулках, был ли он занят тем стиховым воспитанием, о котором впоследствии так много писал и на отсутствие которого с такой горечью сетовал? И нет и да. Нет, потому что приемы и способы стихового воспитания, подробно изложенные в его послереволюционных статьях, не были еще разработаны им; он тогда еще только наблюдал эту встречу: стихи и ребенок, стихи и возраст, ступени восприятия. Нет, обдуманно, сознательно еще не занимался; пожалуй, если бы тогда, в лодке, он был наедине с морем, без слушателей, один, он читал бы те же стихи, что и при нас. И да, конечно, был занят стиховым воспитанием! Если не воспитывал в прямом смысле, осознанно и методически, то, как бы поточнее это сказать, – влюблял. На страницах своих книг он постоянно утверждает, что первое дело учителя литературы – влюбить детей в поэзию. На морских прогулках он и внушал нам влюбленность.
И конечно же он понимал: такого обостренного чувства ритма, как в детстве, у взрослых не будет уже никогда. Читая нам в те годы в изобилии стихи, он если и предавался стиховой педагогике, то лишь самой первоначальной, первичной, да зато такой, без которой всякая дальнейшая немыслима: очаровывал нас поэзией, вовлекал нас в нее, как других детей в детстве вовлекают в музыку.
(Он уже тогда понимал, что давать слушателям какие бы то ни было сведения о поэзии – исторические или формальные – до того, как она сама по себе стала их душевной потребностью, – занятие бессмысленное, схоластическое и даже вредное. Зачем, в самом деле, забивать взрослым и детям головы сведениями о том, когда и каким размером был написан «Медный всадник», почему так долго не печатался, когда наконец напечатан и как его встретила критика, если слушатели не испытывали наслаждения, произнося вслух и про себя, ложась спать и вставая:
Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова.)
«…Я принадлежу к числу тех чудаков, которые любят поэзию больше, чем всякое другое искусство, – писал Корней Иванович в книге «От двух до пяти», – и знают на опыте несравненные радости, которые дает она тем, кто умеет наслаждаться ею».
Говоря о неумелых педагогах, по невежеству и неумелости убивающих в детях чувство стихотворного ритма и тем лишающих детей возможности принять наследие великих поэтов, он продолжал:
«Неужели никому из них (новым поколениям детей. – Л. Ч.) не суждена величайшая радость: читать, например, «Медного всадника», восхищаясь каждым ритмическим ходом, каждой паузой, каждым пиррихием? Неужели это счастье, столь услаждавшее нас, будет для них уже недоступно? Вправе ли мы эгоистически пользоваться этим счастьем одни, ни с кем не разделяя его? Не обязаны ли мы передать его детям?»[4]
Счастье, счастье, счастье… Нет, он не пользовался им эгоистически. На куоккальских морских прогулках он от щедрот своих передавал эти радости нам:
Дикою, грозною ласкою полны,
Бьют в наш корабль средиземные волны.
Вот над кормою стал капитан:
Визгнул свисток его. Братствуя с паром,
Ветру наш парус раздался не даром:
Пенясь, глубоко вздохнул океан!
Мчимся. Колеса могучей машины
Роют волнистое лоно пучины.
Парус надулся. Берег исчез.
Наедине мы с морскими волнами;
Только что чайка вьется за нами
Белая, рея меж вод и небес.
……………………………………..
Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде, чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды симво́л!
……………………………………..
Нужды нет, близко ль, далеко ль до брега!
В сердце к нему приготовлена нега.
Вижу Фетиду: мне жребий благой
Емлет она из лазоревой урны.
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной.
Сколько тут непонятных слов и названий! Фетида, емлет, Элизий, Ливурна! А он не объяснял ничего, ровнехонько ни единого слова, только торжественно возглашал: «Баратынский». И мы вместе с ним отдавались энергии ритма, наверное, не менее мощной в этих стихах, чем энергия ветра.
«Парус надулся. Берег исчез».
Думаю, если бы кто-нибудь из нас – я, шестилетняя, или Коля, девятилетний, сами попробовали бы прочесть эти стихи, мы споткнулись бы на первой Фетиде и отложили в сторону книгу. Но читал нам он. И в его чтении, хотя он и не объяснял ничего, мы понимали не только красоту великого произведения искусства, красоту звуков, ритмических ходов, но и общий смысл, то, что можно условно назвать содержанием. Не смысл отдельных слов или строк, а то, что содержится в причудливом сплетении их, в строках и в строфах, в которые они сплавлены силою ритма.
Ритм – лучший толкователь содержания. И этот толкователь, отчетливо выведенный наружу голосом чтеца, растолковывал нам, что речь тут идет о воле человека, радостно пересекающего океан, о счастливой победоносной воле, противоборствующей бурным волнам, о том, что человек этот скоро увидит нечто еще более прекрасное, что зовется дивным и непостижимым именем: Элизий.
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной.
Где это – Ливурна? Что это – Элизий? Не знаю. Что-то золотое в этих многочисленных «з»: лазоревый, завтра, Элизий, завтра, земной. Нет, знаю: «земной Элизий» – что-то блаженное из чистого золота, к чему он стремился, – и вот он достиг его.
…Наедине мы с морскими волнами;
Только что чайка вьется за нами
Белая, рея меж вод и небес.
Сколько уж раз видела я и слышала чаек! Но то, на какую высоту вознесено в стихе Баратынского слово «белая», и то, как подчеркивал эту ритмическую высоту голос, произносящий строку с крошечной паузой после первого слова: «Белая (пауза), рея меж вод и небес», – заставило меня впервые ощутить пространство между волнами и небом и чайку, играющую этим пространством.
Мне шесть лет. Через два года я пойду в гимназию и там, с годами, на уроках географии, я узнаю, где находится город Ливорно, и на уроках истории – что такое Элизиум. А быть может, и сам он, в какой-нибудь зимний вечер, раскроет том «Энциклопедии Британника» и покажет нам карту Италии и Средиземного моря. Но сейчас, из этого голоса, из этих стихов, я узнаю нечто такое, что невозможно узнать ни из какого учебника географии, ни из какой энциклопедии, – могущество волн, могущество воли, огромность мира, заманчивость чужбины и путешествия. Эти познания, кроме как из произведений искусства, нельзя извлечь ниоткуда, – разве что проделав в действительности тот же путь через Средиземное море. Впрочем, и тогда не узнаешь, что «башни Ливурны» не просто башни итальянского города, а исполненный сон.
На моем веку мне довелось множество раз слышать чтение стихов. Читали актеры и читали поэты. Я слышала Яхонтова, Антона Шварца, Качалова, Журавлева. Каждый из них исполнял стихи в своей, одному ему присущей манере. Слышала поэтов – Маяковского, Блока, Ахматову, Цветаеву, Кузмина, Мандельштама, Гумилева, Ходасевича, Пастернака, Клюева, Есенина, Заболоцкого, Твардовского, Берггольц, Маршака, Петровых, Введенского, Хармса, Квитко, Корнилова, Самойлова, Межирова, Иосифа Бродского, Кушнера, Слуцкого, Все они тоже, разумеется, читали каждый по-своему. То разговорная, то патетическая интонация Маяковского нисколько не напоминала скрыто страстное, а внешне сдержанное чтение Блока (казалось, своим глуховатым голосом он печально перечисляет слова – и только); слышала открытое, настежь распахнутое чтение Пастернака, ничем не напоминающее суровость, серьезность и замкнутость чтения Ахматовой (да, открывая себя, она оставалась замкнутой) – и все-таки чтение поэтов, самое разное, чем-то неуловимо родственно одно другому и противоположно актерскому; поэты не своевольничают со своими стихами, хотя, казалось бы, им, хозяевам, все можно; они читают, повинуясь невидимым нотам, заложенным в каждой строке, движению ритма, которое, совпадая с движением мыслей и чувств, совпадая с дыханием, и создает властность, всемогущество стиха. Актеры же вольничают, стремясь один – создать «настроение», другой – «образ героя», третий – «образ автора», – вообще проиллюстрировать стих, обогатить его, кто жестом, кто голосом, не доверяя власти его самого.
(Никогда не забуду, как Качалов, читая блоковские строки:
Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо, —
делал такое движение рукой, будто выбрасывал заветное кольцо в форточку, а произнося в «Скифах» строку «Ломать коням тяжелые крестцы», – показывал, будто ломает палку.
Слово и ритмический строй казались ему здесь недостаточно выразительными. Он приходил им на помощь.)
Корней Иванович читал стихи не по-актерски, а так, как читают поэты. Читал, стараясь не вносить ни в интонации, ни в ритм никакой отсебятины, а напротив, и голос, и все свое естество подчинять движению ритма, что делает внятным смысл даже самых сложных стихов даже для малолетних детей. Вот почему в его чтении нам становились понятными и те стихи, в которых во множестве встречались непонятные слова или изображались происшествия, недоступные нашему опыту.
Слов на этих морских прогулках, прогулках в поэзию, он не объяснял нам почти никогда, провозглашая только имя поэта, желая, чтобы мы научились узнавать единственную в мире интонацию, не смешивая ее ни с чьей чужой, так, как в детстве без труда привыкли отличать ель от сосны, осину от березы. Вот это Баратынский. «Парус надулся. Берег исчез». Слышите? А вот это Некрасов. «Горе горькое по свету шлялося». Немыслимо спутать одного с другим.
Он часто играл с нами в такую игру: читал нам какие-нибудь неизвестные дотоле стихи, предлагая угадать автора, а когда моему брату было уже лет десять, а мне семь, объяснил нам основные размеры, показал их обозначения и затеял игру: кто скорее на слух определит размер. А еще позже он стал рассказывать нам биографии поэтов: Шевченко или Байрона, Пушкина или Лермонтова. А еще позже – демонстрировать соотношения между размером и ритмом.
Но все это наступило потом.
Тогда же, в Куоккале, в лодке, он не ставил себе целью обогащать нас познаниями, а всего лишь счастьем.
И счастье это исподволь учило нас познавать мир. И Россию.
Круглый год мы проводили в Финляндии. Россией был для меня в ту пору всего лишь Суворовский проспект в Петербурге, да еще Таврический сад, куда нас водили гулять, когда я была совсем маленькая. В настоящую Россию, в деревню под Порховым, я попала уже тринадцати лет. Москву увидела впервые – шестнадцати, а просторы России, пролетающие мимо вагонного окна, – семнадцати, по дороге в Крым. Но уже пяти или шести годов от роду я узнала что-то главное о России из некрасовских ритмов, передаваемых чтением Корнея Ивановича.
О подневольности изб. Об их беззащитности. О разлуке. О встрече. О смерти.
Все рожь кругом, как степь живая,
Ни замков, ни морей, ни гор…
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор!
Тут и «спасибо» звучит как стон, и простор не только врачует, но и ранит, и сторона родная сродни рыданию. Это и было мое первое, полученное в дар от Некрасова, ощущение России.
А «Мороз, Красный нос»?
Сурово метелица выла
И снегом кидала в окно,
Невесело солнце всходило:
В то утро свидетелем было
Печальной картины оно.
Эта третья рифма в его произношении была третьим приступом боли. Кажется, «выла», «всходило» достаточно, чтобы изнемочь, и голос изнемогал, а это третье добавочное «было» – этого уже почти и перенести невозможно:
Сурово метелица выла
И снегом кидала в окно,
Невесело солнце всходило:
В то утро свидетелем было
Печальной картины оно.
Савраска, запряженный в сани,
Понуро стоял у ворот,
Без лишних речей, без рыданий,
Покойника вынес народ.
– Ну, трогай, саврасушка! трогай!
Натягивай крепче гужи!
Служил ты хозяину много,
В последний разок послужи!..
Без рыданий? Самые эти стихи – рыдание. Над беззащитностью родного простора. Над тщетностью труженичества. Рыдание слышно здесь с не меньшей явственностью, чем в строках, где названо открыто:
Сентябрь шумел, земля моя родная
Вся под дождем рыдала без конца,
И черных птиц за мной летела стая,
Как будто бы почуяв мертвеца!
…Коля и Матти, утомясь, сменялись на веслах, а он продолжал бессменно грести и читать. Читал нам Пушкина, Полонского, Фета, Лермонтова.
Помню, как впервые я услышала звуки поэзии Фета совсем особенным образом: не сами по себе, а в сгущенном воспроизведении Полонского. Полонский поздравлял Фета с пятидесятилетием и, поздравляя, в первых строках первой строфы создал как бы концентрацию поэзии друга, заговорил не своим, полонским, а его, фетовским, языком.
Ночи текли – звезды трепетно в бездну
лучи свои сеяли…
Капали слезы, – рыдала любовь; и алел
Жаркий рассвет, и те грезы, что в сердце мы
тайно лелеяли,
Трель соловья разносила – и бурей шумел
Моря сердитого вал – думы зрели, и – реяли
Серые чайки…
Игру эту боги затеяли;
В их мировую игру Фет замешался и пел…
(В этом стихотворении Полонский говорит о поэте и о поэзии нечто похожее на то, что впоследствии высказано было Блоком в пушкинской речи: говорит о поэзии как о явлении не только культуры – но и природы, стихии.
Это сопоставление мысли Полонского и мысли Блока пришло мне на ум, конечно, не в Куоккале, а позднее, в Петрограде, в 1921 году, когда я слушала в «Доме литераторов» речь Блока о Пушкине. А в шесть-семь лет – какие уж сопоставления! Но зато в детстве, на море, голос, крики чаек, волны и слова – природа и поэзия – слиты были воедино самой действительностью. И я воображала, будто Фет – это птица, тоже, может быть, чайка, только певчая.)
Первую строфу – ту, где Полонский был Фетом – чего мы, конечно, не понимали тогда, – Корней Иванович читал не переводя дыхания, быстро, все быстрей и быстрей, как бы стараясь голосом взлететь поскорей в высоту, чтобы оттуда, с этой высоты, ринуться на две последние медленные, устойчивые строки, ради которых и написаны все предыдущие.
Скорее, скорее, вверх – почти скороговоркой и не переводя дыхания:
…и те грезы, что в сердце мы тайно лелеяли,
Трель соловья разносила – и бурей шумел
Моря сердитого вал – думы зрели, и – реяли
Серые чайки…
Пауза. Медленно. Почти по складам. Слово «боги» он тянул, точно было в нем по крайности три «о», в «мировой игре» подчеркивал «р», а имя Фет выговаривал надежно, устойчиво:
Игру эту бо-о-оги затеяли;
В их мировую игр́у
Фет
3 амешался и пел…
Наверное, для того, чтобы мы тут же услышали звуки, издаваемые этой таинственной птицей, Фетом, соревнующимся своей песней с богами и бурей, он следом читал нам свои любимые дактили Фета, раскачивающие ветром деревья:
Ель рукавом мне тропинку завесила
Ветер. В лесу одному
Шумно, и жутко, и грустно, и весело…
Я ничего не пойму.
…Опомнившись от Фета, мы обыкновенно обнаруживали себя уже так далеко в море, что берег казался еле приметной чертой. Пора было купаться.
(Не мне и не Бобе – мы еще не умели плавать, купались только у берега, здесь же мы – хранители штанов, рубах и весел. Всего лишь.)
Мореходы, припеченные солнцем, начинали сдирать с себя рубахи с такою поспешностью, будто, не успей они раздеться, море может внезапно высохнуть или утечь и им просто не хватит воды для купания. Они с азартом бултыхались в воду – он, волосатый, огромный, – раньше всех.
Сначала он плавает неподалеку вокруг лодки, окатывая меня и Бобу, и бедные штаны и рубахи тучами брызг. Потом вымахивает далеко. Потом возвращается и, скомандовав себе самому: «Раз, два, три!» – на наших глазах исчезает.
Это главная минута купанья. И не высказываемый мною самый мучительный страх моей детской жизни.
Его больше нет. Я смотрю на то место, где скрылась его голова, и шепчу про себя: «Вынырни, вынырни, вынырни». Я не понимаю, как Боба в эту минуту может возиться со своим черпаком, а Коля и Матти хохотать, шлепая друг дружку по спинам. Его больше нет. Сколько раз на наших глазах он нырял, исчезая, но всегда возвращался обратно. А что, если теперь не вернется – никогда? Только что были его глаза, его руки, ноги, голос, волосы – и – никогда. Останется одна рубаха. Я смотрю и смотрю. Вынырни, вынырни, вынырни! И вот наконец – голова. Всегда она является не там, где скрылась и куда я изо всех сил гляжу, – а поодаль, в другом неожиданном месте, плечи и голова с облизанными водой волосами, голова сама какая-то струящаяся, потому что с нее струями льется вода. Мощное фырканье. Он побывал, наверное, не менее чем на глубине десяти пап.
Длинные пальцы обнимают, отирают лицо. Он отплевывается. Он посинел. Вцепившись синими пальцами в борт, накренив лодку так, что мы с Бобой чуть-чуть не кувыркаемся в воду, он перекидывает ноги внутрь, натягивает, весь дрожа, штаны и рубаху и требует, чтобы Матти и Коля возвращались немедленно.
Я спасена. Он здесь.
Согревшись греблей, он снова начинает читать стихи, на этот раз веселые, подмигивающие, озорные, пляшущие:
Фонарики, сударики
Горят себе, горят.
А видели ль, не видели ль —
Того не говорят.
Или:
Как яблочко румян,
Одет весьма беспечно,
Не то чтоб очень пьян —
А весел бесконечно.
Есть деньги – прокутит,
Нет денег – обойдется,
Да как еще смеется!
«Да ну их!» – говорит,
«Да ну их!» – говорит,
«Вот, говорит, потеха!
Ей-ей, умру…
Ей-ей, умру…
Ей-ей, умру от смеха!»
Или:
Я был престранных правил,
Поругивал балет.
Но раз бинокль подставил
Мне генерал-сосед.
……………………………………
Не все ж читать вам Бокля!
Не стоит этот Бокль
Хорошего бинокля…
Купите-ка бинокль!..
Как мы радовались этой находке – этой счастливой рифме: «Бинокль – Бокль»! (Разумеется, ведать не ведая ничегошеньки о Бокле.) Сгибались пополам, валились вперед от смеха. Повторяли: «Купите-ка бинокль», напирая на расслышанные три к. А он уже заводил новое:
У царя, у нашего,
Все так политично,
Что и без Тимашева
Высекут отлично.
И к чему тут здание
У Цепного моста?
Выйдет приказание —
Отдерут и просто.
Кто такой Тимашев? Что за мост? Что за здание? О каком царе идет речь? Ничего этого пока он нам не объяснил. Объяснит, объяснит, расскажет, когда настанет пора. Исторического мышления у детей до десяти лет еще нету; в этом он, по-видимому, был вполне согласен с Толстым, зачем же рассказывать; а вот ритмический слух и чувство юмора повышены, и он использовал эти детские свойства, чтобы одарить нас не только лирикой, но и сатирой
«Фонарики-сударики» мы превратили в считалку «Становись в круг – кому водить? Фонарики-судари-ки-горят-себе-горят». «Цепной мост» – в дразнилку. Мы понимали в этих стихах главное: кто-то удалой и смелый весело издевается над кем-то смешным и подлым.
Выйдет приказание —
Отдерут и просто!
Очень полюбился нам также веселый пушкинский «Делибаш».
Перестрелка за холмами;
Смотрит лагерь их и наш;
На холме пред казаками
Вьется красный делибаш.
Пушкин предостерегает казака от делибаша и делибаша от казака; но напрасно.
Мчатся, сшиблись в общем крике…
Посмотрите! Каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.
Ритм – лучший толкователь содержания. Хотя речь идет тут о войне, о двойном убийстве, – ритм говорит об игре. Недаром в другом четверостишии Пушкин называет кровавую стычку «лихой забавой». Никакого ужаса эти стихи не внушают, напротив, веселье. И мы, подчиняясь истине ритма, при всякой удаче: соскочишь ли с забора, вывернешь ли тяжелый камень, отгонишь ли осу, собьешь ли сосульку, орали:
Посмотрите! Каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы!
7
Однако далеко не всегда наши морские прогулки отличались такой идилличностью.
Тот, кто живет на берегу Финского залива только летом, в июне, в июле, – тот не знает его. Летом Финский залив прямо по Пастернаку притворяется игрушечным, детским:
Ты в гостях у детей, —
говорит Пастернак не о Финском море, о Черном —
Но какою неслыханной бурей
Отзываешься ты,
Когда даль тебя кличет домой!
В этом невсамделишном, будто бы детском море, в Финском заливе, каждую осень неизменно погибали малоопытные дачники и многоопытные рыбаки. Лет семи от роду я впервые увидела на берегу, на гряде гнилого камыша, выброшенное волнами раздувшееся мертвое тело. Я не могла поверить, что это – человек. При мне его накрыли рогожей… Финский залив – трудный, коварный залив, летом напоминающий теплый бульон, по ошибке налитый в мелкую, вместо глубокой, тарелку, он таит в себе большие опасности: мель и камни у берегов, переменчивые ветры, а осенью мощные шквалы и бури.
Даль Балтийского моря окликает свой залив чуть не еженедельно каждую осень, и на каждый оклик он отзывается бурей, выворачивающей с корнями и бросающей на землю могучие сосны; бурей, гонящей вспять Неву и затопляющей гавань, острова, порою и главные улицы Петербурга; и в наши куоккальские времена разметывавшей, между прочим и походя, как пустые спичечные коробки, те корзины, набитые песком и камнями, над которыми мы столько трудились.
Страшно было просыпаться ночью от грохота волн и воя ветра, который, казалось, пробовал: прочно ли держится крыша? Еще страшнее, выйдя утром на крыльцо, увидеть клочья пены и какие-то обрывки водорослей, повисшие на пнях и кустах: тут ночью побывали волны! – увидеть и чудовищную, словно могила, яму, в которой медленно и неотвратимо скоплялась вода и над которой толстыми паучьими лапами топырились вырванные корни. А упавшие ели! Одна лежала на земле, другая, сломанная, держалась вкось, полулежа на уцелевших деревьях. Повезло: дерево рухнуло не на крышу. И ночью – никого не было возле.
Корней Иванович любил говорить о себе, что он – человек легкомысленный. В самом деле, вместе с упорством и волей беспечность была присуща ему во все времена жизни. И какая-то детская вера в счастливое окончание беды.
Одна молодая поэтесса, никогда не видавшая его вместе с детьми, писала ему в 1912 году, что, наверное, он очень «нежный» и «ребячливый отец».
Это была правда.
Из-за его беспечной ребячливости однажды мы чуть не погибли. Он отправился на морскую прогулку в предосенний, мутный, сомнительный, ветреный день, посадив в лодку пятерых ребятишек, мал мала меньше, своих и чужих, и не потрудившись дождаться нашего третьего гребца – Колиного сверстника, Павки.
Он окончил какую-то статью или главу из статьи, которая долго не давалась ему. Необходимо отпраздновать! (А в горизонт не вглядывался.)
Когда мы были уже далеко от берега, небо почернело, поднялся ветер. Часа три дня, а море и небо окутаны тьмой. Только волны белеют. Кронштадт сгинул, словно его никогда не бывало, берег тоже. Чайки то взлетают, то падают и все резче кричат. И вот она – гроза; первая молния в черном небе, первый гром – и самое страшное: ливень. Лодка и так перегружена, сидит низко, а хлынул ливень – она опускается все ниже и ниже, наполняясь льющейся с неба водой. Коля и капитан отчаянно гребут к берегу, но ветер оттуда, и суденышко наше движется еле-еле. Мы мокрым-мокры, мы продуты насквозь, я впервые в жизни слышу, как мелко и дробно стучат зубы. У меня и у других.
Нас трясет. Нет, и зимою не бывает так холодно. Ветер и ливень лютее мороза.
Я вычерпываю воду черпаком, а малыши – Боба и еще поменьше его! – руками. Но где уж нам состязаться с ливнем!
Лодка все ниже. Вот-вот ее начнут заливать, перекатываясь через борта, волны.
Ветер вырвал из Колиной руки одно весло. Коля нагнулся, чтобы схватить его, и уронил уключину.
И заплакал.
Теперь капитан единственный наш гребец и единственная наша надежда.
Я не знаю, спасся ли бы он в этот день, если бы с ним не было детей. Я думаю, чувство вины перед нами делало его бесстрашным и сильным. И взрослым. На наших глазах он действительно превратился в того всемогущего великана, каким казался нам в играх.
Тогда – казался. Теперь – стал.
Он, никогда не певший, вдруг запел, или, точнее, заорал, перекрикивая мощным голосом ветер. И велел нам подхватывать. Он ни разу не попрекнул Колю. Он греб, выпячивая грудь напоказ, как в те минуты, когда в него швыряли палку. Он делал вид, что от души веселится. Он стянул с себя пиджак, будто страдал от жары, и накинул его на головы мне, Бобе, Матти, притиснувшимся друг к дружке на одной скамье.
– Здорово! – кричал он. – Ты теперь как наседка с цыплятами. Потеха! Ей-ей, умру, ей-ей, умру, ей-ей, умру от смеха!
Через полчаса мы увидели берег. Не наш, чужой, неизвестный, неведомый, но берег. Однако нечего было и думать пристать. Ветер гнал лодку обратно в море. Казалось, наш капитан и гребец напрасно машет веслами: мы стоим на месте.
Но это только казалось.
Берег, черный в темноте, приближался.
Уже стала видна избушка на берегу. Пусть маленькая, пусть кособокая. Но черное небо, белые волны, и молнии, и ливень сразу потеряли свою неодолимую грозность.
Избушка! Человечье жилье! Тепло.
Ложная радость. Словно мы не могли погибнуть у самого берега! Теперь предстояло труднейшее: пристать.
Капитан, в штанах и в рубахе, прыгнул в воду, когда вода была ему по плечи. Одна голова торчала над волнами. И повел лодку к берегу, рискуя каждую секунду попасть в невидимую яму или расколоть лодку о скалу. Волны перекатывались через его голову.
Когда, ближе к берегу, стало мельче и безопасней, он велел выпрыгнуть Коле. Они вдвоем подтащили лодку еще ближе. Капитан кое-как укрепил камень-якорь и стал на руках по очереди выносить нас на берег. И каждому кричал:
– Бегай! Бегай! Не стой! Бегай!
Потом выволок лодку на берег и помчался к избе. Мы за ним.
Старуха финка, не говоря ни слова, кинулась разбирать свою широкую постель. Через минуту мы, пятеро, вытертые, сухие, укутанные в старые, но чистые тряпки, рядком, как поленья, лежали поперек кровати под тяжелым одеялом.
Капитан вопрошающе показал пальцем на тканую дорожку. Старуха кивнула. Он сгреб коврик в охапку, ушел в сени и вернулся оттуда, похожий на чешуйчатую змею: голый и завернутый по горло в шершавый половик.
Для нас и теплая, сухая постель оказалась недостаточной, чтобы отогреться. Согрелись мы только тогда, когда выпили два самовара.
Наконец зубы наши перестали стучать, платье просохло, мы поездом вернулись в Куоккалу, оставив лодку на попечение старухи.
Подошли к дому. Дом заперт. Никого. Не светится ни одно окошко.
Никто не отозвался на стук.
Ни мамы, ни няни Тони.
Мы побежали на берег. Ливень уже не хлестал, гроза давно кончилась, но волны еще бушевали. В полной тьме, сбившись в кучу, на берегу стояли женщины. Это были матери увезенных в море ребятишек, и наша мама, и наша няня Тоня. Они вглядывались в шумные волны. И плакали. Одни молча, другие со всхлипами и причитаниями.
Вот какую беду натворил наш ребячливый отец!
Эти женщины, сбившиеся на берегу и плачущие в темноте, наша плачущая мама – это было гораздо страшнее, чем только что пережитый нами шторм.
– Дети дома! – сказал капитан. Сказал тихим, унылым, побитым голосом, совсем не тем, победительным, каким приносят счастливые вести или каким он сам три часа назад, перед лицом опасности, выкрикивал:
Ей-ей, умру…
Ей-ей, умру…
Ей-ей, умру от смеха!
Понурый, жалкий голос виноватого.
Наверное, он только сейчас понял, что он натворил.
Чуть-чуть не утопил нас. Мало того. Не схватит ли кто-нибудь воспаление легких? И самое главное: чуть только мы вышли на берег, он должен был, обязан, перепоручив нас заботам старухи, сам мчаться домой, чтобы ни единой минуты не длить пытку, переживаемую матерями.
Но томился раскаянием он недолго. Он был мало способен к продолжительной грусти.
Когда на следующий день за обедом мы с Колей наперебой стали припоминать подробности вчерашнего происшествия:
– Нечего, нечего! – прикрикнул он. (Терпеть не мог углубляться в плохое.) – Промокли, размокли… Долго еще вы будете тратить время на разговоры об этой чепухенции? Живы? Здоровы? Радуйтесь!
8
Однажды в разговоре о застенчивости приятельница моих родителей, только что вернувшаяся из Москвы в Питер, имела неосторожность признаться, что в четырехместном купе она, по робости характера, не познакомилась ни с одним из своих попутчиков. Произнесла она за все время пути всего два слова: «спасибо!» (когда кто-то помог ей поднять чемодан) и «до свиданья» – при выходе.
Выслушав этот рассказ, Корней Иванович впал в преувеличенный гнев:
– Как это бездарно с вашей стороны! Я бы на вашем месте знал уже полные их биографии… В Одессе жила-была барышня, дочка одного ювелира, она говорила: «Я с незнакомыми не знакомлюсь». А вот я, если бы в дороге не перезнакомился со всеми людьми, да не в своем купе, а в целом вагоне, да не в одном вагоне, а в целом поезде, со всеми пассажирами, сколько их есть, да еще с машинистом, кочегаром и кондукторами в придачу, – я был бы не я. Я непоседлив, вертляв, болтлив и любопытен.
У него и вправду в те минуты, часы или дни, когда он не был сверх головы занят, на людей разбегались глаза. На каждое новое знакомство он смотрел как на лакомство. Еще человек, и еще человек, и еще. Новый, неизведанный… Однажды, уже в переделкинские времена, я сказала ему: «Как это ты выносишь вечную толчею? Такое множество каждый день посторонних?»
Он ответил:
– Множество? По-моему, мало. Мне бы хотелось, когда я не работаю, чтобы каждую минуту открывалась дверь и на пороге показывался новый человек.
Это был ответ простодушный и точный. Если гость приходил не в пору – отрывал от работы, – Корней Иванович сердился на домашних, что мы худо его бережем. Случалось, прятался. А мечта о ежеминутно новом человеке оставалась искренней. Чуть только он откладывал в сторону перо или книгу, он жаждал впечатлений от людей, и притом новых. Взрослый или ребенок, еще не виданный вовсе или недорассмотренный до конца, были для него бесконечно заманчивы. Нас, своих детей, он любил, отдавал нам заботы, внимание, силы; однако чужие имели перед нами хоть и временное, но безусловное преимущество: незнаемости. Мы же были известны ему наизусть.
Незнаю я предпочитаю
Всем тем, которых знаю я.
Ему хотелось рассмотреть каждого нового человека снаружи и изнутри; рассмотреть, растормошить, или, точнее, распотрошить, как хочется детям распотрошить новую игрушку: что за пружины заставляют медведя рявкать, а солдата отдавать честь?
Когда, уже в поздние годы, он ехал, бывало, из Переделкина на собственной машине в Москву, он не только, само собой разумеется, прихватывал по дороге каждого, кто поднимал руку, но и сам зазывал пешеходов в машину, – увидит старика с мешком на спине или женщину с ребенком на руках и щелкнет дверцей: «Садитесь – подвезу!» Делал он это из естественного желания облегчить путь нагруженному пешеходу, но также и из любознательности. Проехать мимо человека он не мог.
Какие пружины движут новым – невиданным доселе – человеком? Что делает этот человек на земле? Чем одержим, чем несчастлив и счастлив?
В молодости – путешествия, в старости – медленные прогулки по Переделкину не были пусты. Примечательны у него в Дневнике описания случайных встреч на пути.
Он идет по шоссе. Женщины мостят дорогу. Возле них – дети. Почему делают тяжелую работу не машины и не мужчины, а женщины? Почему нет детского сада? Сегодня прогуливался с пожилой дамой, в прошлом учительницей, ныне писательницей, автором многих книг. Оказалось, она не знает Жуковского. Ни «Кубка», ни «Ивиковых журавлей». Может ли она считаться учительницей? Или писательницей, да и вообще – интеллигентным человеком? «Этакая лень! Этакая скука! – с гневом говорил он. – Сторож, дремучий малограмотный человек, мне интересен. Мне есть чему у него поучиться: он обладает множеством сведений, мне неизвестных, и множеством умений. Нам есть о чем поговорить. А писатель, не знающий литературы, – это выдумка, чепуха, мнимость».
Иногда же ворочался он с прогулки словно одаренный. Вот запись от 13 октября 1953 года.
«Подошел башкир, студент, без шляпы, разговорились. Крепкие белые зубы, милая улыбка. Душевная чистота, благородство, пытливость. Знает Пушкина, переводит на башкирский язык Лермонтова. Простой, спокойный, вдумчивый – он очень меня утешил – и как-то был в гармонии с этим солнечным добрым днем. Учится он в литинституте, слушает лекции Бонди. Почему-то встречу с ним я ощущаю как событие».
(Когда я наблюдала жизнь Корнея Ивановича в Переделкине, мне порою приходило на ум, что переделкинский Дом творчества писателей, выстроенный во второй половине пятидесятых годов на той же улице, где стоит его дача, велением доброго рока был выстроен нарочно для него. Люди, судьбы – и притом не те, соседские, которые он уже знал наизусть, а постоянно сменяющиеся, новые. В свободные от работы часы, совмещая прогулку со знакомствами, он приходил в Дом творчества чуть не ежедневно: иногда к друзьям, а чаще – к незнакомым, ко всем вместе, к кому угодно: в холл, в столовую. И желающие шли его провожать, и он знакомился по дороге со всеми вместе и с каждым в отдельности и зазывал к себе. Так утолялась потребность в общении с людьми, преимущественно новыми, еще не рассмотренными.
Такую же тягу он испытывал к письмам. Ведь письма – это те же люди. Приедешь в Переделкино, привезешь пачку писем, полученных по его московскому адресу. Пачка мирно лежит на столе. Но он не в силах продолжать начатый разговор: письма влекут к себе. Не то чтобы он ожидал определенного письма от определенного корреспондента. Нет. Он всегда находился в ожидании письма от неизвестного. А вдруг – словцо для «От двух до пяти»? Или для «Живого как жизнь»? А вдруг кого-то он заразил своей любовью к писателю, чью душу почитал прекраснейшей из всех ведомых ему человеческих душ? Чей путь он понял как подвижнический – в художестве и в жизни? Заразил любовью к Чехову, чьему жизненному пути и отношению к людям втайне пытался подражать?
Разговаривая, Корней Иванович жадно глядел на письма. Наконец хватал ножницы. Шевелил над пачкой длинными пальцами, выбирая, как ребенок над коробкой конфет. Приговаривал:
– И бо-о-оги не ведают – что он возьмет![5] И хищно кидался с ножницами на какой-нибудь конверт, надписанный незнакомым графоманским почерком… А вдруг там великое чудо: стихи? Не графоманские, которые ему присылали пудами, а настоящие?
Но все это было позднее – в его старости, в моей взрослости. Возвращаюсь в мое детство, в его молодость. Там, в детстве, в Куоккале, он всегда брал нас с собой глядеть – как строят дом, чинят дорогу, роют колодец, прокладывают железнодорожный путь. Техника, впрочем, его не занимала, хотя он и бурно восхищался человеческим гением, запечатленным в ней. Ничего технического он не понимал – хотя и звал дивиться телеграфу, а потом полету на Луну. Его изначально, всегда, смолоду до восьмидесяти семи лет, интересовали люди. Который из них работник, мастер, а который так себе, тяп-ляп? Мастерство – всякое – уважал чрезвычайно. И любил вслушиваться в живую речь.
Но как бы ни занимал его всякий труд и всякий человек, самым интересным явлением в мире было для него создание искусства и самым интересным человеком – создатель, творец, человек-художник. Человек, создающий художественные ценности. В особенности – литературные.
(По внешним следам стиля проникнуть внутрь создателя – не из этой ли потребности явились на свет все критические работы Корнея Чуковского?)
Труд в искусстве. Кисть, карандаш, перо. В особенности перо.
Человек, творящий литературу. Талант.
С этим интересом в его жизни не мог сравниться никакой другой. С благоговением, культом, воздухом которого мы дышали сызмальства.
В молодости, в 1905 году, Корней Иванович писал жене:
«На меня искусство так действует, что я у художника руки готов целовать».
В 1908 году он написал статью: «Толстой как художественный гений». Через полстолетия, снова готовя ту же статью к печати, он назвал ее во вступительных строчках «юношеским гимном» Толстому.
Статья была разбором, как всякая статья Корнея Чуковского, но в то же время и в самом деле своего рода гимном.
Оканчивалась она такими словами:
«…вдруг поражаешься мыслью…: это нигде, нигде… в мире не могло создаться, как только у нас, и… умиляешься до слез, и чувствуешь, что не было бы большего счастья, как припасть к этой старческой руке, осчастливившей нас, оправдавшей нас, благословившей нас… и покрывать ее благодарными слезами».
Это будто бы из того же письма, написанного тремя годами ранее:
«…я у художника руки готов целовать».
В центре его духовного мира более шести десятилетий стояло искусство. Человек искусства. Единственность, неповторимость этого таланта, несхожесть его ни с чьим другим.
В последней своей статье, напечатанной посмертно[6], он называл себя «смиренно-восторженным слушателем» великих лирических поэтов начала века. Действительно «смиренным», потому что за собою таланта он не признавал никогда. (Вот цитаты из писем и дневников разного времени: «Какой же я писатель? Чернорабочий, фельетонист, газетчик», «Никогда я не считал себя талантливым…», «О своем писательстве я невысокого мнения, но я грамотен и работящ».) И действительно «восторженным»: над головою человека талантливого загорался и сиял перед его глазами некий нимб (к его удивлению, не всегда доступный зрению других), зажигалось некое солнце, в лучах которого, особенно в первую пору влюбленности, тонули, даже для его насмешливого и зоркого глаза, все человеческие недостатки талантовладетеля.
Однако восторг перед творениями таланта вызывал в Корнее Чуковском отнюдь не одно лишь желание славословить и воспевать.
Он «упивался стихами», но и пародировал их: пушкинские, некрасовские, лермонтовские, радовался чужим пародиям – на Лермонтова, Некрасова, Маяковского, Блока.
«Гимны» среди его критических статей редкость. Напротив, слыл он критиком зубастым, драчливым, задорным. Критические его работы всегда были анализом, разбором, острым, неожиданным, свежим, заставлявшим читателей по-новому взглянуть на, казалось бы, знакомого автора (таковы статьи о Леониде Андрееве, Короленко, Брюсове, Бунине, Блоке); иногда же разборы вели к совершенному уничтожению, к убийству наповал («Третий сорт», статьи о Чарской, об Арцыбашеве, о Вербицкой). И та же его необузданная любовь к искусству, мечта окропить благодарными слезами руку Льва Толстого оборачивались ненавистью, живою ненавистью ко всякой рутине, пошлости, фальши, эпигонству – и просто недобросовестной, корыстной, ремесленно-равнодушной работе.
«Почему изнасиловать восьмилетнюю девочку нельзя и нужно за это идти в каторгу, – спрашивал он, например, в письме к знакомому, – а изнасиловать Тютчева или Баратынского можно, и это вознаграждается хорошим барышом?
Возьмите сборники избранных стихотворений русских поэтов, изданные Сальниковым, Бонч-Бруевичем, П. Я. и др., – что это, как не изнасилование всех русских поэтов сразу и поодиночке. И этих негодяев не только не вешают, но раскупают во множестве изданий».
Вот какие «гимны» являлись иногда результатом его благоговения перед Баратынским и Тютчевым. Почему тех, кто искажает великие стихи, не посылают на каторгу и не вешают?
Шутки шутками, а заряд негодования в этих строках огромен.
Думаю, для самого себя, бессознательно, он всех людей, сколько их живет на белом свете, делил прежде всего не на «плохих» и «хороших», а на талантливых и таланта лишенных. Не только в искусстве, а вообще.
Такое разделение особенно характерно было для него в молодости. Запомнилось оно мне с детства.
Приходил к нему ставить новый забор и крылечко плотник Михайла, мужик Олонецкой губернии, и сколько Корнею Ивановичу ни втолковывали, что Михайла пройдоха и вор – у одного пилу стянул, у другого ведро, – Корней Иванович только рукой махал:
– Да вы вслушайтесь, как он говорит! Что ни слово – подарок, что ни рассказ – былина! (Проведя отрочество и юность в Одессе, Корней Иванович возненавидел тамошнюю южную смесь; все, от словаря до синтаксиса и произношения, представлялось ему не только неправильным, но и пропитанным пошлостью: «Дэ-эмон», «Одэ-эсса», – насмешливо тянул он, изображая одесскую барышню. «Вы идите, а мы подойдем» или даже «надойдем», – так поддразнивал он своих одесских друзей, приезжавших гостить в Куоккалу. Для меня до сих пор остается загадкой, как за три-четыре года сам он, проведший в Одессе детство, отрочество и юность, вытравил из своей речи – раз и навсегда – все одесское и овладел богатым, сильным, безупречным московско-петербургским русским языком. Он чудесно говорил на языке Екатерины Осиповны – украинском, помнил наизусть чуть не всего Шевченко и русский язык, литературный и народный, знал до тонкости. Знал и любил.)
– Михайла тут вчера рассказывал, как ставят северные избы. «Материнская балка» – вы подумайте только, так у них называется основная балка в избе. «Материнская» (он радостно смеялся). А наличники, венцы, резьба? Да у него каждое слово резьба. Вы говорите – прогнать. Он для меня праздник. У него что топорик, что пила, что язык – виртуоз.
Михайла был художником, над ним горел нимб неприкосновенности.
Корней Иванович так привык делить людей на вдохновенно-талантливых и ремесленно-равнодушно-бездарных, что применял эти определения к обстоятельствам и явлениям жизни, казалось бы от всякого таланта далеким.
О погоде: «Здесь сейчас гениально». Дождь не вовремя слыл беспросветной бездарностью.
О ясном солнечном дне он отзывался так: «Погода сегодня боговдохновенная».
Или приятелю:
– Как это неталантливо с вашей стороны, что вы не были у нас в прошлое воскресенье.
О себе:
– Этакая я несчастная бездарность, опоздал сегодня на поезд…
В высшей степени чувствителен был он к таланту и бездарности в педагогике: в воспитании, преподавании. От преподавателя требовал увлеченности предметом и умения приохотить, очаровать. Презирал тех педагогов, которые даже Пушкиным умели не счастливить детей, не одаривать их, а отягощать. Презирал учителей и родителей, прибегавших к муштре. Утверждал, что даже закон такой существует: чем меньше у взрослого за душой, тем большее пристрастие питает он к дрессировке: «Соня, не болтай ногами!» – «Витя, как ты сидишь?» – «Сиди ровно». – «Я что сказал? Руки мыть!»
Дети и сами любят, когда ими командуют (потому что и команда причастна игре), но командуют изобретательно, весело, не по-фельдфебельски.
В бездарности и, гораздо более, в преступности взрослых, которые били детей, не сомневался он ни единой минуты. За искажение Тютчева или Баратынского следовало, выражаясь его гиперболическим стилем, «вешать» и «ссылать на каторгу»… Что же причитается человеку, поднимающему руку на ребенка?
«…побольше благоговения к детям, поменьше заносчивости, – писал он в статье 1911 года, – и вы откроете тут же, подле себя, такие сокровища мудрости, красоты и духовной грации, о которых вам не грезилось и во сне»[7].
«Сокровища мудрости, красоты и духовной грации» – это сказано не о Пушкине или Баратынском – о детях.
«…ведь детская игра и детская шалость – это святее всего»[8].
Нас с Колей он взял из куоккальской гимназии внезапно и очень решительно. Учились мы и так и сяк, ни шатко ни валко, но я сделала внезапное открытие: наш директор, Алексей Николаевич, румяный, белозубый всегда любезный со всеми родителями, – исподтишка колотит детей.
Однажды, возвращаясь из гимназии, я вспомнила, что забыла на вешалке башлык, и с полдороги вернулась. И в раздевальной увидела: Алексей Николаевич под прикрытием вешалок, засунув себе между колен голову Кости Рассадина, порет его ремнем. Бьет размеренно, удар за ударом, методически, даже как бы равнодушно. И самое страшное: зажав Косте рот рукой.
Я пустилась бежать, стараясь не хлопнуть дверью. Вернулась домой без башлыка. Я была испугана так, что дома, рассказывая о виденном, заикалась – и заикалась потом несколько дней. Я рассказывала и рассказывала, меня не могли унять, а я все не могла объяснить, что меня так потрясло. Мне ведь и раньше случалось видеть, как дрались мальчишки, как на пляже матери давали своим чадам шлепки, а отцы – подзатыльники; видела, как извозчик Колляри хлестнул однажды вожжой по босым ногам нашего приятеля Павку и тот подпрыгнул и взвыл от боли.
Но это все в гневе, в раздражении, в задоре. А тут я впервые увидела, как человек методически, спокойно, чуть не посвистывая, бьет человека – да еще большой маленького.
Я была потрясена до болезни.
– Какая жестокость! – выслушав меня, сказал бы один.
– Так и надо мальчишке, – сказал бы другой, – второгодник и хулиган.
– Бить в гимназиях запрещено, – сказал бы третий.
– Какая бездарность! – с отвращением сказал Корней Иванович. – Ничтожество!
И, как я узнала потом, написал директору письмо и одновременно в Министерство просвещения жалобу. Он объяснял, что если директор порет детей, стало быть, он зол и бездарен, а бездарный директор вряд ли способен подобрать себе талантливых сотрудников. Напротив: бездарный человек всегда ненавидит и гонит талантливых.
Взяв нас из гимназии, Корней Иванович начал помимо Веры Михайловны заниматься с нами сам – не только английским языком, но и русской историей. Собственно, не с нами, а с Колей, которому шел двенадцатый год. Я болталась беспрепятственно тут же. Прилипал и Боба – он не любил, когда его не пускали куда-нибудь.
Вера Михайловна занималась с Колей по учебнику, строго придерживаясь гимназической программы, а Корней Иванович «так», «вообще», «вольно».
Это были рассказы о событиях и людях. Он, как я теперь понимаю, выбирал те обстоятельства, эпизоды, события, фигуры тех общественных деятелей (преимущественно девятнадцатого века), те судьбы, которые были наиболее драматическими, давали наиболее богатую пищу воображению и взрыву чувств, те, в которые можно играть. Страницы из Карамзина, Ключевского – пересказанные или прочитанные, монологи из исторических драм и трагедий Пушкина или Алексея Толстого, репродукции исторических картин; отрывки из «Былого и дум» – герценовские патетические или язвительные характеристики: героев 14 декабря, императора Николая, Бенкендорфа, Дубельта, Аракчеева.
Разумеется, на этих уроках в ход шли и стихи. В его исполнении стихи, читаемые с любой целью, всегда оставались стихами; в кабинете они читались не иначе, чем в море, но цель тут была иная. Тут он читал их как иллюстрации к тому или другому событию: вот речь идет о Владимире – читается «Илья Муромец» Алексея Толстого; вот Петр решает выстроить город на Финских болотах – читается «Кто он?» Майкова; вот речь заходит о шведской войне – гремит «Полтава», но гремит она не ранее, чем нам объяснены все имена:
И Шереметев благородный,
И Брюс, и Боур, и Репнин,
И, счастья баловень безродный,
Полудержавный властелин.
Вот речь зашла о Лицее – читается очередное «19 октября», но не раньше, чем мы узнаем, кем стали впоследствии все названные и неназванные лицеисты, товарищи Пушкина: и Матюшкин (потом адмирал), и Горчаков (потом дипломат), и Дельвиг (поэт), и Пущин, и Кюхельбекер (участники декабрьского восстания) – не раньше, чем мы узнаем, к кому обращена каждая строфа.
Слушая, мы радостно догадываемся, что это о Матюшкине сказано:
…С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О волн и бурь любимое дитя!
Узнаем о ссылке Пушкина в Михайловское и как Пущин приехал навестить его – и только потом:
Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
И декабрьское восстание, и ссылка Пущина в Сибирь, и в дороге случайная встреча Пушкина с Кюхельбекером, которого везли в крепость:
Как друг, обнявший молча друга
Перед изгнанием его… —
и слова Пущина в 1837 году, когда известие о гибели Пушкина дошло до Сибири: он, Пущин, заслонил бы поэта своей грудью, если бы в это время был в Петербурге… Тут, повторяю, Корней Иванович читал нам стихи как иллюстрации: к событиям ли на площади Сената или к открытию Лицея, но чаще звучали они на этих уроках последним приговором событию или человеку – приговором, вынесенным историей устами поэта. Заключительное разрешение музыкальной фразы – исторической драмы: Пушкин – декабристам в Сибирь, Лермонтов – на смерть Пушкина, Некрасов – на смерть Шевченко.
Не предавайтесь особой унылости:
Случай предвиденный, чуть не желательный.
Так погибает по Божией милости
Русской земли человек замечательный…
Всюду в его повествовании пробивалась эта трагическая тема, естественная при его отношении к искусству: расправа с гением и талантом, учиняемая сплоченной и могучей бездарностью.
Тут – болевая точка, ощущавшаяся им постоянно.
Надругательство над талантом. Преследование таланта. Борьба безоружного таланта с вооруженной бездарностью.
Прочитал он нам однажды повесть Лескова «Левша» – страшный, хотя и веселый рассказ о том, как английские мастера создали диво дивное – заводную блоху, как русские подковали это дивное диво, – подумать только, словчились подковать еле видные ножки! – а солдафоны загубили мастера из мастеров, гениального Левшу.
(Недавно, уже в семидесятом году, я получила возможность ознакомиться с письмом Корнея Ивановича к художнику Николаю Васильевичу Кузьмину, приславшему ему в подарок новое издание повести Лескова со своими иллюстрациями.
Корнею Ивановичу эти иллюстрации необычайно понравились.
При чтении письма Чуковского к Кузьмину, написанного через столько лет и за столько верст от Куоккалы, ясно всплыли в моей памяти куоккальские книжные полки, залитые зимним морозным солнцем; белее белого сверкающее снежное поле за окном и посреди дивана молодой, худощавый, черноволосый, нервически двигающий длинными руками и острыми коленями Корней Иванович.
Он читает нам «Левшу».
В углу дивана, поджав ноги, спокойно сидит и слушает Коля; я лежу в другом углу, положив голову на круглую качалку, и вздрагиваю от каждого пинка, получаемого Левшой. За столом сидит наша учительница. Она слушает с интересом: ей, конечно, хотелось бы, чтобы, как полагается ученикам на уроке, мы пряменько сидели на стульях, а не валялись на диване, но она уже привыкла, что в этом доме все «не как у людей», и не ропщет.
Вижу этот диван, и сверкающее зимним розового-лубым сиянием окно, и нервные руки и колени чтеца. Он читает нам о гибели человека, гениально-одаренно-го, и обо всех бездарностях и холуях, его загубивших.)
Почему я так ясно вспомнила это чтение и этот зимний давний куоккальский день через века – в 1970 году?
Я прочитала письмо Корнея Ивановича к Николаю Васильевичу Кузьмину. Корней Иванович пишет, что своими иллюстрациями художник обнажил главную тему повести: «Как топчут великих людей сапожищами».
Уроки истории, преподнесенные нам в Куоккале Корнеем Ивановичем, были проникнуты этой родной ему болью.
Убийство Лермонтова. Его убили те же сплоченные бездарности, что и Пушкина, что и Левшу.
– Подумайте, этот кретин Николай мог и Пушкина в 1825 году спокойно упечь в Сибирь! Туда, куда он отправил талантливейших людей России! И мы лишились бы и «Полтавы», и «Евгения Онегина»! А сам он и все его Клейнмихели и Бенкендорфы, – да у них и органа такого не было, каким воспринимают искусство! Они убили Пушкина в 1837-м – представить себе невозможно, что еще мог он написать, что еще завещать нам!
Родилась я в 1907 году. Помнить революцию 1905 года я, стало быть, не могла. Но мне всегда мерещилось, мерещится и по сю пору, будто я помню ее; это оттого, вероятно, что все взрослые, окружавшие нас в детстве, постоянно при нас говорили о ней как свидетели или участники.
Корней Иванович побывал на «Потемкине», когда мятежный корабль стоял в Одессе; потом, в Петербурге, сделался редактором сатирического журнала «Сигнал», высмеивавшего царский режим, министров и самого «августейшего». («Николай Второй – бездарнейший из русских царей», – говорил он.) Он рассказывал нам о лейтенанте Шмидте, о Севастополе, о Пресне, а чаще всего – о 9 января в Петербурге. Чертил план улиц, мостов, проспектов; рабочие с портретами царя и хоругвями идут по этим мостам и проспектам к Зимнему дворцу, а во дворах, в переулках заранее предусмотрительно спрятаны солдаты и казаки. Люди идут, чтобы рассказать царю-батюшке, как злодеи «топчут их сапожищами», их, живущих в подвалах, в нищете и неволе, работающих за гроши по двенадцать часов в сутки, а им навстречу казаки, нагайки, пули, и вот уже на белом снегу (я смотрю на белую, нетронутую пелену за окном) лужи крови и распростертые недвижные тела.
Рассказывая нам на тех же уроках, в ту же памятную зиму, о дуэли и смерти Пушкина (лошади, сани, снег, пистолет в руке у Дантеса), Корней Иванович заключил свой рассказ чтением Лермонтова. После всех поворотов ритма: скорбных, гневных, угрожающих – победоносно и торжественно закончил:
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!
Это была первая кровь, которую я видела в моем воображении: красная, праведная кровь поэта на белом снегу.
Потому ли, что скрытой мыслью нашего учителя, невольно передававшейся нам, было: убийца поэтов не может не быть убийцей народа; потому ли, что оба злодейства – убийство Пушкина и расстрел демонстрантов – совершались в январе, и оба на снегу, и в похожие числа: одно 9-го, другое 29-го, – они раз и навсегда нерасторжимо сочетались в моей памяти. Кровь поэта и тех, кто шел ко дворцу 9 января. До сих пор при мысли об обоих январских днях, отделенных друг от друга десятилетиями, не имеющих будто бы между собой ни прямой, ни косвенной связи, у меня падает сердце с той же внезапностью и остротою боли, с какой упало тогда впервые в детстве.
(Быть может, это потому, что рассказал нам о них один и тот же голос? Не знаю. Но выстрел Дантеса и выстрелы 9 января звучат для меня и по сю пору одним и тем же звуком.)
9
– Моим детям посчастливилось: они с малых лет дышали воздухом искусства, – сказал Корней Иванович в Переделкине одной из своих многочисленных посетительниц, которая привела к нему дочь, пишущую стихи.
Нам посчастливилось, верно. Счастье это выпало нам на долю потому, что Корней Иванович дня не мог прожить без литературы, вне художественного и литературного круга; и мы, пока были маленькие, волей-не-волей вертелись у его друзей под ногами.
Ни в Петербург, ни в Выборг нас не брали почти никогда: так, к зубному врачу или пальто купить. В настоящий театр попала я впервые лет десяти-одиннадцати, уже после Куоккалы (и после революции!), в Петрограде. В Музей Александра III, правда, Корней Иванович возил нас раза два еще с дачи; показал нам Рокотова, Боровиковского, Брюллова, Серова, Репина. В Эрмитаж тоже; но колонны, паркеты и вид на Неву и Петропавловскую крепость заслонили от меня Тицианов и Рубенсов. В Эрмитаже, на первый раз, я запомнила одних лишь египетских скарабеев. Дома были альбомы с репродукциями; летом я их не открывала, зимними вечерами рассматривала.
Но, вероятно, не предметы искусства, которые у нас в доме водились совсем не в изобилии, а действительно самый воздух, вдыхаемый нами, имел в виду Корней Иванович, говоря, что нам посчастливилось.
Жили мы наискосок от «Пенатов», бегали с записочками от Корнея Ивановича к Илье Ефимовичу и обратно чуть не каждый день. Бывали иногда в мастерской, слушали замечания Репина ученикам его, суждения художников и литераторов о репинских полотнах. В «Пенатах», у нас дома, на пляже мы постоянно были окружены радостями, печалями, восторгами людей литературного круга.
О своем общении с людьми искусства – тесном, многолетнем, постоянном или, напротив, мгновенном, беглом – Корней Чуковский рассказал в книге «Современники» и в других своих литературных работах. Его мемуары – галерея портретов, исполненных то во весь рост, обобщенно, то как бы мельком, беглым, быстрым штрихом. Репин, Маяковский, Горький, Тынянов, Анна Ахматова, Бунин, Куприн, Татьяна Щепкина-Купер-ник, Н. Ф. Анненский, Короленко, Иннокентий Анненский, Т. Богданович, Тарле, Кони, Леонид Андреев, Квитко, Житков, Маршак.
Добрая половина перечисленных – те, с кем он общался в Куоккале.
Среди литераторов чувствовал он себя свободно, непринужденно, естественно, однако не на равной ноге, ибо, как я уже говорила, себя самого считал лишенным главного, обожаемого им в людях свойства: художественного дара, таланта. (За собою всю жизнь признавал одно качество: трудолюбие.)
«Какой же я писатель?» – однако жить вне литературного труда и вне литературного и художнического круга не мог и не хотел ни минуты. И радовался: мы, его дети, с малых лет дышали тем же излюбленным воздухом.
В том, что мы не ощущали ни своего отца, ни окружающих какими-то особенными, исключительными, была безусловная заслуга его педагогики.
Если нам и представлялось когда-нибудь, что отец наш и его знакомые отличаются чем-то от дачников, наводнявших Куоккалу летом, то отличие мы наблюдали такое: безделие дачников и напряженная занятость Корнея Ивановича, его друзей и знакомых.
Воздух искусства был прежде всего воздухом труда. Друзьям Корнея Ивановича и ему самому случалось отдыхать, но не случалось бездельничать.
Между отдыхом и безделием сходства нет. В состав воздуха, окружавшего нас, входило и чтение импровизированных лекций в беседке у Репина, и чтение стихов, и разговоры, и споры, и игра в городки, и другие игры, главным образом литературные, но ни грана умственного безделья. В мастерской, в кабинете или на морском берегу (подозреваю, что и во сне) Корней Иванович и люди, его окружавшие, продолжали все ту же, неразлучную с ними, работу души и мысли. Отдых людей, окружавших нас, нисколько не напоминал утехи дачников и в особенности дачниц, дни напролет с полной серьезностью переворачивающих себя на пляже с одного бока на другой, окунающихся в воду в трех шагах от берега с пронзительным визгом (непременно с визгом, а то и купание не всласть!), а вечерами прогуливающихся взад и вперед, в чаянии нечаянной встречи, по станционной платформе.
Общение между «Пенатами» и нашей дачей было постоянным и тесным. Гости из «Пенатов», из парка с затейливыми беседками, клумбами, мостиками, из просторно раскинувшегося дома со стеклянной крышей, с пристройками, лестничками, из столовой со знаменитым круглым столом (большой круг увенчан малым, а малый, вертящийся, уставлен вегетарианскими яствами), – гости из «Пенатов», перейдя Большую Дорогу и побродив по берегу моря, заходили, случалось, на прибрежный участок Чуковского, ничем не примечательный, где если и было что затейливое, так это невырубленные корни, змеившиеся по земле; садились пить чай за самый обыкновенный прямоугольный стол с самыми обыкновенными кушаньями. А случалось и наоборот: Корней Иванович вел кого-нибудь из приехавших к нему прозаиков, поэтов, критиков в «Пенаты» – знакомиться с Репиным. И я, и Коля увязывались за ними.
Был Корней Иванович в «Пенатах» свой человек. Репин сильно привязался к нему за годы близкого соседства. Ни одна репинская «среда», ни один праздник, устраиваемый «для народа» в «Пенатах» или в театре «Прометей», не обходился без участия Чуковского, а если Корней Иванович опаздывал, Репин нетерпеливо посылал к нему одного из внуков или учеников: поторопить! Илья Ефимович любил, чтобы Корней Иванович читал ему вслух – в часы работы или отдыха – пушкинские, некрасовские, шевченковские стихи, гоголевскую или лермонтовскую прозу, а иногда что-нибудь новое, оглушительно-современ-ное; любил, чтобы Чуковский читал и его гостям, в столовой или на вольном воздухе; показывал ему новые варианты своих картин; поручил ему редактировать свои мемуары… Чуковский, естественно, оказался одним из звеньев, соединявших Репина с молодой литературой.
Обстановка в обоих домах была разная, да и вкусы и взгляды не совпадали (хотя бы из-за несовпадения возраста, не говоря уж о других причинах). Быт в обоих домах был разный, а темы разговоров, диктуемые временем, – одни. Говорили о проповеди Толстого, о его отлучении от церкви, об уходе из «Ясной», о смерти… (Сохранилась, висит и сейчас перед моими глазами в переделкинском доме фотография: Репин с Натальей Борисовной и Чуковский вместе с моей матерью в мастерской у Репина; на стене – портрет Толстого, завтракающего с Софьей Андреевной, и неоконченный портрет Чуковского; а в руках у Ильи Ефимовича – раскрытый газетный лист, где лицо Толстого впервые обведено черной рамкой.)
…Странно, что я, тогда трехсполовиноюлетняя девочка, ясно помню этот день, а быть может, не этот, а предыдущий: ту минуту, когда Корней Иванович, узнав, что скончался Толстой, – заплакал, положив голову на стол, на свои большие руки.
Думаю, фотография относится уже к следующему дню.
Вглядываясь в нее теперь, я вижу на лицах собравшихся недоуменное горе; ту непривычку к новой, только что наступившей эпохе, то выражение, какое было, наверное, на лице у Гоголя, когда в письме к Плетневу он воскликнул: «Россия без Пушкина! – Как странно! Боже, как странно. Россия без Пушкина».
За этими словами звучит – да и Россия ли это?
Гибель Пушкина обрушилась на людей внезапно; смерть Толстого можно было ожидать со дня на день; и все равно люди оказались неготовыми.
«Россия без Толстого! Как странно! Боже, как странно!»
Да и Россия ли это?
Корней Иванович уехал на похороны.
…В обоих домах шли толки об эсеровских бомбах, о Ленском расстреле, о других событиях политической и общественной жизни; то собирали деньги, то оказывали тайный приют политическим беглецам, перебиравшимся через финскую границу; с августа 1914 года заговорили о войне, о войне, о войне, о Карпатских горах и Мазурских болотах и чем война кончится; но там ли, здесь ли, никогда не сходили с языка толки о книгах, картинах, актерах, спектаклях, журналах. Шаляпин. Короленко. Врубель. Комиссаржевская. Серов. Блок. Сологуб. Футуристы. Акмеисты. Маяковский. Ахматова. Брюсов. Пуни. Кульбин. Художественный театр. Евреинов. Мейерхольд. Борис Григорьев. Добужинский. Бакст. «Русское богатство». «Мир искусства». «Русская мысль». «Весы». «Аполлон».
Прислушивались ли мы к этим разговорам? Нет. (Сказать правду, по малолетству и умственной лености, мы, случалось, даже тяготились ими. Случалось нам даже презираемым дачникам позавидовать: у них там именины и дни рождения, к ним всегда, в любую минуту, приходят гости, их дома не заколдованы, как наш, двумя словами: «папа занимается».)
Нет, мы далеко не всегда сознавали в ту пору, что нам «посчастливилось».
Однако хотели мы того или нет, а дышали воздухом, наполнявшим наш дом. И благодаря насмешливости Корнея Ивановича, его вкусу и нежеланию умиляться и сюсюкать этот воздух не развивал в нас вундеркиндства и самомнения.
Вундеркиндов Корней Иванович не терпел, а пуще всего не выносил родителей, демонстрирующих таланты своих детей. Девочка в кудряшках и с бантом, которую папа и мама ставят на стул посреди комнаты, чтобы она прочитала на потеху гостям:
Любо василечки
Видеть вдоль межи —
или под всеобщий хохот спела сальный куплетец, смысл которого она не понимает, но понимают они, – эти нравы Дерибасовской улицы были, безусловно, чужды нашему дому. (О самом их существовании я узнала гораздо позднее.) При нас никогда никому не рассказывалось, что Лидочка, когда ей было три года, сочинила многообещающий стишок:
Я вижу сковородку,
В которой варят водку,
а Колечка, оставшись недоволен чеховскими «Мальчиками», свернувшими со своей гордой дороги, в пику им начал писать: «Мои воспоминания о Калифорнии».
Корней Иванович любил детские забавы, но не выносил, когда взрослые сотворяли себе забаву из детей.
Пошлости был лишен воздух, вдыхаемый нами.
Не был он загрязнен не только бездельем, но и чинопочитанием и спесью.
Официальная табель о рангах теряла в нем смысл. Мы ведать не ведали, что, например, Репин имеет чин тайного советника, Кони тоже какой-то там чин, да еще награжден орденами. В артистическом петербургском кругу, который прихватывал и Куоккалу, существовала собственная шкала ценностей. Какие чины тайных или статских советников, какие Анны в петлицу или на шею могли затмить сияние имен: Комиссаржевская, Серов, Репин, Короленко, Горький? Анна Ахматова? Блок?
Удивительно умели эти люди восхищаться друг другом. «Я у художника руки готов целовать», – такая степень восхищения не была в этом кругу исключительной. Историки русской культуры давно уже и подробно исследовали все распри и раздоры между школами, между представителями различных направлений в искусстве начала века. Принципиальные разногласия и личные ссоры. Это хорошо: без такого исследования история была бы смутной, туманной, да и попросту лживой. Но я хочу напомнить сейчас об одной драгоценной черте, свойственной лучшим людям эпохи: об их умении преклоняться перед тем чудом бытия, которое именуется художественным даром.
Возьмем хотя бы репинскую телеграмму Шаляпину, посланную в ответ на известие, что Шаляпин собирается в «Пенаты» (1914 г.):
«Пасхально ликуем, готовы дом, мастерская, холсты, краски, художник, понедельник, вторник, среда. Не сон ли? Репин»[9].
Не сон ли? Таким вопросом могло бы оканчиваться письмо к возлюбленной. Неужели можно еще раз увидеть наяву, вживе, Шаляпина, принимать его у себя в доме, работать над его портретом! Какое счастье! В этой телеграмме действительно слышится перезвон счастливых колоколов.
А вот встретились, возлагая на встречу большие надежды, и разошлись после полной неудачи Блок и Станиславский.
Блок предложил Станиславскому поставить в Художественном театре только что написанную им драму «Роза и Крест». На Станиславского автор возложил все свои надежды.
Вот запись в дневнике:
«20 апреля [1913]
…Если захочет – ставил бы и играл бы сам – Бертрана. Если коснется пьесы его гений, буду спокоен за все остальное. Ошибки Станиславского так же громадны, как и его положительные дела. Если не хочет сам он, – я опять уйду в «мурью», больше никого мне не надо»[10].
Попытка оказалась неудачной.
Станиславский пьесу не воспринял, с горечью почувствовал, после многочисленных разговоров, Блок. Ожидаешь хулы. Но вот какова запись:
«29 апреля
…пришел человек чуткий, которому я верю, который создал великое (Чехов в Художественном театре), и ничего не понял, ничего не «принял» и не почувствовал. Опять, значит, писать «под спудом»»[11].
Горькие строки, но уважения и любви к Станиславскому Блок не утратил.
Это умение горячо восхищаться чужим подвигом, талантом, величием вовсе не всегда утрачивалось после самых резких и даже буйных споров на эстрадах и на журнальных страницах. Люди, далеко расходившиеся во мнениях, ощущали свою принадлежность к общему братству в культуре и продолжали друг друга любить.
Плодом этого единства в многообразии явилась «Чукоккала».
Бродя со своими гостями по вязким прибрежным пескам, сидя с ними у себя на веранде или в мастерской у Репина, Корней Иванович предпринял попытку сохранить следы и голоса. Он завел альбом для автографов и рисунков.
Репин дал этой затее имя: соединил начало фамилии владельца «Чук» с концом названия поселка «оккала».
Мне повезло: я помню «Чукоккалу» не только в ее пышной объемистой зрелости, но и в ту пору, когда она была еще юна и тонка.
Скромная квадратная тетрадь под обложкой, исполненной художником А. Арнштамом. Чуковский, в кепочке, подняв к подбородку худые колени, сидит на берегу залива с заветной тетрадью в руках. К нему вереницей тянутся по берегу лохматые художники, а по воде подплывают корабли: там, по-видимому, гнездятся прозаики и поэты.
Вверху обложки надпись:
«Корнею Чуковскому. Наследник и сомышленник Шевченки, сюда с искусства ты снимаешь пенки. Б. Садовской».
Сколько раз довелось мне видеть, как Корней Иванович демонстрирует свои сокровища. Длинные пальцы раскрывали тетрадь и легчайшими прикосновениями перелистывали страницы. Публичные демонстрации «Чукоккалы» воистину были спектаклями в театре одного актера. С важностью, издали, не выпуская альбома из рук, поворачивая его из стороны в сторону перед сидящими на диване, как в партере, гостями, показывал Корней Иванович новый рисунок Репина, выкликая попутно, будто бы для рекламы, когда и по какому поводу рисунок возник, какими он блещет художественными достоинствами, каковы главнейшие черты натуры.
– Если сейчас отсюда на скатерть закапает жир, это значит, что потечет сама глупость. Тут каждая бровь – дура, а подбородок – вглядитесь – какой дурак! Жирная плоть – щеки, шея, уши – но это не ожирение плоти, а ожирение души! Ожиревшую душу человеческую представил нам здесь художник!
Дав гостям насладиться мастерством творца и жирной глупостью случайной модели, Корней Иванович переходил к какому-нибудь новому достижению в гимнастике стихотворства: вот имена «Мария Чуковская» – «Корней Чуковский» перекрещиваются внутри мадригала, сочиненного Гумилевым; а вот четыре экспромта, из которых во втором высмеивается первый, а в третьем и четвертом – оба предыдущие.
…Сейчас «Чукоккала» – памятник прошедшей эпохи; памятник, в котором время остановилось и каждый штрих, и каждая запятая уже отвердели, сделались историей, застыли словно в бронзе или мраморе, как и подобает памятнику; тогда же это было нечто живое, беглое, неуловимое, хрупкое, непрерывно меняющее свои очертания: папиросный ли дым или звяканье ложечек в чайных стаканах? «Чукоккала» – это, пожалуй, и был в материализованном и сгущенном виде тот «воздух искусства», которым, по словам Корнея Ивановича, нам в детстве посчастливилось дышать
Сохранился он до наших дней не в закупоренной банке, а на открытых страницах альбома. Не улетел. Не выветрился.
Торжествовала в «Чукоккале» «веселость едкая литературной шутки»[12]. Но веселость и едкость, свойственная всякому артистическому общению во все времена, не заглушила иного звука – звука надвигающейся и скоро разразившейся бури. Сколько угодно в «Чукоккале» уморительных выходок, буриме на головоломные рифмы, шуточных перебранок, соревнований в остроумном злоязычии, шаржей – но тем явственнее звучат с ее страниц трагические и серьезные голоса Леонида Андреева, Горького, Репина, Ахматовой, Блока.
Сколько угодно веселых экспромтов:
Передо мною сиг
И вишни.
Но в этот миг
Я – лишний
И тут же – издевательство над экспромтом и над его автором:
Передо мною вишни
И сиг.
Нет, я не лишний
В сей миг.
И тут же – горестное замечание:
В Чукокуоккальском притоне.
О справедливость, ты в загоне.
И тут же – патетический укор режиссеру Евреинову, с издевкой перекроившему первый экспромт. Укор – словесная игра Еврей-нов и Еврей-стар.
Евреи! стар завет: не крадь,
Евре́инову незнакомый. —
О театральности изломы,
Вы честность обратили вспять.
Все это за месяц до начала войны. Перелистываем несколько страниц. 8 августа 1915 года.
«Сейчас только на одном великом театре идет великая трагедия – это война…
А в другую эпоху, совсем другую, новую, уже после войны, во время революции, и не в Куоккале, а в Петрограде, я увижу на странице «Чукоккалы» твердый почерк Блока и прочту, не понимая, несколько строк, написанных им вслед четверостишию, знакомому мне наизусть:
«В жаркое лето и в зиму метельную,
В дни ваших свадеб, торжеств, похорон —
Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную
Легкий, доселе неслышанный звон…
Таков «художник» – и до сих пор это так, ничего с этим не сделаешь, искусство с жизнью помирить нельзя.
Нельзя – или – можно?
Однако запись эта заводит мой рассказ слишком далеко вперед, она сделана уже после того, как куоккальский берег остался позади, а «Чукоккала» начала претерпевать множество приключений и мытарств. Корней
Иванович написал о них сам, а я напомню только одно из последних: осенью 1941 года, то есть через века после «Пенатов» и дачи в Куоккале, собираясь эвакуироваться в Ташкент и мечась между Москвой и Переделкиным, Корней Иванович на своем переделкинском участке наспех закопал «Чукоккалу» в землю. Эта попытка спасти альбом закончилась не очень-то удачно: соседский дворник, в чаянии бриллиантов и золота, вырыл закопанный клад и с досады пустил многие листы на раскурку.
Остальные уцелели благодаря случайному возвращению хозяина.
И быть может, сейчас (тоже благодаря чистой случайности!) я единственный человек на земле, который помнит один погибший (и далеко не единственный!) чукоккальский лист: запись и рисунок, сделанные Репиным в конце февраля 1917 года:
«Сегодня у солдата было такое лицо, словно его взяли живым на небо».
Тут же: плечи, штык и мужицкое, почти детское, счастливое, обращенное к небу лицо.
…Связи нашего дома с «Пенатами», постоянные на протяжении многих лет, были разнообразны: художественные и бытовые. За водою к артезианскому колодцу мы ходили к Репину. Меня и Колю иногда брали туда в мастерскую, а Колю даже и на «среды». (Другой колодец, из которого мы, сами того не ведая, черпали свежую воду.) Репин написал портреты Корнея Ивановича и Марии Борисовны. Начал писать и мой, но забросил. Что бы ни случилось, хорошее или плохое, шли к Репину. Его мастерская была центром духовного притяжения. Умер Толстой: собрались у Репина. Явился Маяковский: надо было непременно познакомить его с Репиным. Стрясется беда – Репин. Помню: на нашей маленькой кухне, у бочки, стоит Коля, весь залитый кровью, а папа поливает ему голову из ковша, ковш за ковшом, ковш за ковшом, холодной водой. Вода окровавлена. «Беги к Репину, – кричит он, завидев меня. – Коле камнем разорвали ухо, проси лошадь – в больницу». Я пускаюсь бежать, и у калитки меня настигает его громогласное наставление: «Если Илья Ефимович работает, не беспокой его, найди Веру Ильиничну». Я несусь во весь дух, моля Бога, чтобы Илья Ефимович не работал, потому что Веру Ильиничну мы боялись. И, о счастье! у самых ворот «Пенатов» встречаю собравшегося на прогулку Илью Ефимовича. Он тотчас поворачивает, спешит в дворницкую, а я – домой. На Большой Дороге меня обгоняет коляска, несущаяся во весь дух, а когда я подхожу к нашей калитке, в коляску уже усажен Коля, голова у него обмотана полотенцем, а рядом с ним, по обеим сторонам, мама и папа.
Вечером Илья Ефимович сам пришел к нам осведомиться, как здоровье больного, благополучно ли зашили ему раненое ухо.
Явлению Репина всегда за несколько минут предшествовало явление Мика, одноглазого, старого, кудлатого пуделя, которого, кажется мне, никогда не стригли: он был круглый.
Мик обнюхивает калитку. Значит, скоро появится Репин.
Вот и он: в сером костюме, суховатый, седой, невысокий. Расспросил о Коле, присел к столу минут на пятнадцать и за эти пятнадцать минут, вынув из кармана маленький серый альбом, быстрыми мелкими штрихами нарисовал нашу гостью, соседку.
Я гляжу из-за его спины. Он не спускает взгляда с натуры.
Быстро ходит рука, покорная взгляду.
На бумагу и на свой карандаш Репин почти не глядит, а только туда, в ее лицо.
Будто от ее лица к его руке протянут невидимый прямой провод.
10
Более полувека миновало с той поры, о которой я сейчас рассказываю. Сколько с того времени написано о девятисотых и десятых годах! И в частности, о репинских «Пенатах»! Два толстых тома «Художественного наследства» сплошь посвящены Репину; многие страницы – «средам»; целые томы – Шаляпину, Горькому, Маяковскому. Давно уже составлены «труды и дни», прокомментированы переписки. Мне стоило бы перелистать эти книги, чтобы вооружиться необходимыми сведениями об убеждениях, привычках, спорах, дружбах и распрях всех писателей, художников, артистов, выходивших из дачного поезда преимущественно по средам и воскресеньям на станции Куоккала Финляндской железной дороги – с 1906 года, когда Корней Иванович впервые там поселился, и по 1917-й, когда весной он уехал в Петроград.
Но я пишу воспоминания, не биографию и уж, во всяком случае, не историю. Я помню себя – обрывочно – с 1910 года, то есть с трехлетнего возраста; что может помнить ребенок от трех до десяти? Немногое; не по порядку; неясно; однако и это немногое, неясное представляет ценность лишь в том случае, если оно в самом деле собственное, незаимствованное, свое.
Тогда оно способно хоть в малой степени пригодиться другим. Как бы оно ни было скудно.
Разбуженная, моя память оказывается на удивление инфантильной. В именитых людях, посещавших наш дом по воскресеньям, а иногда и в другие дни недели, она сохранила черты не основные, а побочные, не главные, а случайные. Не те, какие в прославленном человеке интересны взрослому, а те, какие в каждом прохожем интересны ребенку. Если мимо шагает прохожий, ведя на цепочке собаку, то всякий ребенок заинтересуется сначала собакой, а уж потом – человеком. Лошадь, которую ты гладил в детстве по шелковой шерсти и кормил сахаром с ладони, – она незабвенна. А уж первая белка!
Исключением служит, пожалуй, один Маяковский. Он один памятен мне в главной, а не в побочной своей ипостаси: поэт. Быть может, это потому, что Корней Иванович более всего подготовил нас именно к восприятию стихов. Быть может, потому, что побочного, вторичного, в Маяковском почти ничего и не было.
Помнится мне, он всегда приходил к нам со стороны моря, а на берегу шагал, вслух сочиняя стихи, по той же гряде камней, по какой имел обыкновение прыгать Коля.
В 1915 году Маяковский нарисовал меня: было мне тогда восемь лет; он чувствовал, вероятно, с какой жадностью я его слушаю.
Да, я любила его вызывающе презрительное и всегда громоподобное чтение, – читал ли он многим или Корнею Ивановичу один на один (мы с Колей не в счет).
Каким он мне представлялся тогда, каким я его видела и помню?
Вот тут, чтобы как можно точнее воспроизвести собственное и тогдашнее видение, я вынуждена прибегнуть к чужим строкам, и притом относящимся отнюдь не к Маяковскому. Строки эти написаны Блоком, прочтены мною значительно позднее, никакого отношения к Маяковскому не имели и иметь не могли – строки из блоковских любовных стихов! – но стоит мне прочитать или припомнить их, как я сразу вижу Маяковского, тогдашнего, куоккальского, на зеленом куоккальском диване или на камне у моря, опустившим тяжелый взгляд накануне первого звука.
Вот они, блоковские строчки:
Так на людей из-за ограды
Угрюмо взглядывают львы.
Когда Маяковский читал, взгляд его тяжелых глаз был всегда если не угрожающий, то угрюмый. И всегда из-за незримой ограды. Кругом были люди; он – какая-то иная порода.
А знаете, все-таки жаль перуанца.
Зря ему дали галеру.
Судьи мешают и птице, и танцу,
и мне, и вам, и Перу.
Я испытывала зависть к нему, столь высокомерно судившему судей, и неловкость за себя, будто и я была среди тех, кого он осудил.
А потом эти мои любимые строки:
И вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!
Слова «вылинял моментально» он произносил моментально, а «великолепный» – медленно и важно разворачивая все веерообразное великолепие павлиньего хвоста.
Но мне было восемь лет, и, признаюсь, я и в Маяковском интересовалась не только стихами. Не в меньшей степени, чем слушать его стихи, любила я смотреть, как он играет в крокет. Я увязывалась за ним каждый раз, когда он отправлялся на крокетную площадку к нашим близким друзьям и ближайшим соседям, Богдановичам – Татьяне Александровне, моей крестной, и ее детям: Шуре, Соне, Володе, Тане. Тут никакой львиности, никакой угрюмости, никакой ограды – просто молодой человек играет с девочками-подростками в крокет, но и здесь тот же азарт и та же грозная непобедимость. Все держат молоток двумя руками и наклонясь, а он, хотя и выше всех, шару не кланяется и молоток в одной. Держит его словно тросточку, бьет наверняка, всегда первым выходит в разбойники и уж если разбойничает – любо-дорого смотреть: шары так и летят, так и щелкают! Власть его над молотком и шарами казалась мне волшебной. Меня, разумеется, в игру не брали: я была счастлива, если мне удавалось подать Маяковскому вылетевший за границу площадки шар. Находилась я на таком уровне сознания, что слова Татьяны Александровны, обращенные однажды к Соне: «Ты бы лучше, Сонюша, с Владимиром Владимировичем не играла сегодня, ты сегодня не в ударе», понимала буквально: «Соня сегодня слабенькая, не в силах ударить по шару – не в ударе».
Репин. Мастерская. Помню холсты на мольбертах, много Пушкиных, Шаляпина, помню каких-то черных загорелых людей, размашисто гребущих в широкой лодке среди волн. Помню Репина за письменным столом у Корнея Ивановича, изображающим кого-то в «Чукоккале» папиросным окурком, который он макает в чернильницу. Но мне семь лет, и гораздо более, чем о портретах, картинах, кистях, холстах и таком странном орудии, как окурок, я думаю о том: правда ли рассказывают, будто репинский Мик кинулся недавно во дворе у соседей на живую курицу? и съел ее? Собаки не могут без мяса, а жена Репина, Наталья Борисовна, ни мяса не ест, ни молока не пьет и никому не позволяет – не только гостям, но и Репину самому, а Мика перевела на одни каши… вот с горя он и бросился на курицу. Интересно, съел ли он ее и как? Разорвал в клочки или проглотил живьем? Это ужасно занимает меня и Бобу. И в мастерской у Репина нас не более занимают картины, чем жгучий вопрос: если тут играть в прятки – не будут ли видны ноги из-за пышных занавесей, опущенных над холстами? И еще: позволит ли мне кучер снова заплетать в косички гриву репинской лошади Любы, чтобы волосы не падали ей на глаза? И самое главное: правду ли Репин сказал мне, что к нему в парк каждый день приходит белка? Спросить не решаюсь, а мне смерть как хочется знать.
А дело было так: однажды летом Репин начал писать мой портрет. Шла я утром из лесу через «Пенаты» (нам это было позволено с условием – не подходить слишком близко к дому). Шла я растрепанная, босая, разваренная жарой, с черными от черники зубами, вся в комариных укусах. И вдруг с верхнего балкона меня окликнул Илья Ефимович. Я подошла, испугавшись. Вообще-то мы, дети, перед ним не робели, он всегда был с нами приветлив и к нам как-то пристально вглядчив, мы чувствовали его любовь к Корнею Ивановичу, а заодно и к нам; однако на этот раз я испугалась – внезапности, что ли? Может быть, я на цветок наступила или еще провинилась как-нибудь? Но нет, он поздоровался сверху так же ласково, как всегда, и сверху сказал: «Какие у тебя пестрые волосы… Передай родителям, если ты ничем не занята, пусть пришлют тебя завтра в двенадцать ко мне, я буду тебя писать».
На следующий день, к моему удивлению, Корней Иванович самолично отправился меня провожать в «Пенаты» и всю дорогу втолковывал мне, что Репин писать детей не любит, потому что дети не умеют сидеть смирно; а я должна сидеть не шевелясь – «как посадит, так и сиди, ни рукой, ни ногой, ни плечами, ни коленом».
– А если комар? – спросила я.
– Терпи, – ответил Корней Иванович.
На нижнем балконе я застала уже приготовленный холст, палитру, краски и табуретку. Илья Ефимович сначала глянул хмуро: ему не понравилось, что мне заплели косы, он собственноручно расплел, растрепал, спутал мне волосы по-вчерашнему и велел сесть. Я села, не зная, куда девать ноги, руки, плечи, пальцы, пятки, – и зачем это у человека столько всего? Репин меня не пересаживал: «Сиди, как села, только не вертись и смотри вот хотя бы на этот мостик». Я сидела не шевелясь; комары, к счастью, не летали; вот только моргать человеку почему-то требуется каждую секунду. Репин, вглядываясь в меня, клал мазки на холст. И, чтобы развлечь, рассказывал, будто каждый вечер ставит на перила мостика блюдце с лимонадом и туда с сосны прыгает белка и лакает лимонад, как котенок молоко.
Все бы хорошо, да вот беда: на мостик вместо белки пришло солнце, и мне сделалось больно глядеть, но я глядела, и глядела, и глядела, и, когда Репин отложил кисть и я побежала домой, долго еще какие-то пестрые круги плавали перед глазами.
– Зачем же ты не пожаловалась Илье Ефимовичу, что тебе больно смотреть? – спросил Корней Иванович.
– Говорят люди ртом, – ответила я назидательно. – А вдруг он как раз в эту минуту рисует губы?
После трех сеансов Репин забросил мой портрет. Я обрадовалась: сидеть не шевелясь – это, оказывается, работа тяжелая. Но вот белка! Приходит или нет? Правду он говорил или выдумывал?
Шкловский. Он жил где-то неподалеку (кажется, на станции «Дюны») и приезжал то по железной дороге, то морем. Кудрявый, быстроглазый и быстроговорливый. Войдя в комнату, он мгновенно начинал спорить – не с кем-нибудь одним, а как-то со всеми сразу. Слова выкрикивал скороговоркой; будто не каждое слово в отдельности, а целым слипшимся комом зараз. О чем шел спор, я не понимала и не помню, однако приключение, случившееся со Шкловским у нас, помню очень хорошо. Прибыл он однажды к нам не на поезде, а на лодке – обшарпанной, серой, с белой грязной каймой вдоль борта, с занозистыми веслами и сразу же, ступив на берег, бросился в спор. Заночевал. А к вечеру следующего дня, когда пришло время уезжать, лодки не оказалось. И сам Виктор Борисович, и Корней Иванович, и мы всей оравой бегаем по берегу, ищем среди перевернутых на песке, среди болтающихся на привязи. Нет. Нигде нет серой лодки с белой каймой. Украли. Обегали мы берег чуть ли не на версту в обе стороны. Когда мы вернулись, Боба вдруг вцепился Виктору Борисовичу в штаны и потащил за собой. Ведет. У пристани, возле мостков, бьется на легкой волне лодка-красавица: сама зеленая, скамьи желтые, и ярко-красный руль. Это и была старая, обшарпанная лодчонка. Ее перекрасили. За сутки, что пробыл у нас Виктор Борисович, она успела высохнуть и засверкать. Но Боба узнал ее.
Виктор Борисович открыл было рот – спорить! Но подумал секунду, вгляделся, потом пожал Бобину маленькую руку, вставил в уключины обновленные весла, прыгнул в лодку и пустился в плаванье.
Мошенникам не удалась их затея.
Хлебников. В противоположность Шкловскому, он всегда молчал; и все в нем было неподвижно: лицо, взгляд, руки. Сидел и молчал. Молчание его мне запомнилось как действие, как поступок; если бы тогда меня спросили, что делает Хлебников, я ответила бы: молчит. Мне известно было, что он поэт, – но чтения его я не помню; потому ли, что стихов он у нас не читал, потому ли, что я не умела их слушать? Не знаю.
Помню моторную яхту, которая никак не могла пристать к нашему берегу: мелко! и матроса в бескозырке с золотой ленточкой, и лодку, которая была спущена с яхты и называлась шлюпкой, и человека в белом свитере и с биноклем через плечо, о котором я слышала столько разговоров кругом: Леонид Андреев. Но я на него еле взглянула. Гораздо больше занял меня матрос. Тельняшка. Трепещущая на ветру ленточка с золотыми буквами «Дальний». Первый мотор и первый матрос в жизни. Звук мотора, стучащий, мертвый, чуждый плеску волн, синеве, тишине.
Помню день, когда Корнея Ивановича навестил гостивший в «Пенатах» Шаляпин. Пения его слышать мне не довелось; но, когда он поднимался в кабинет на второй этаж, я в недоумении глянула в окно: мне показалось, там, в саду, зашумели деревья. Это он напевал себе под нос, поднимаясь по лестнице. Поразило меня, что он не только шире в плечах, крупнее, огромнее нашего отца, но и выше его на целую голову. «Полтора папы». В кабинете за ними закрылась дверь, и прямо носом в дверь уткнулась, застыла собака: широкогрудая, зубы наружу и в попоне с бубенчиками. Она ни на секунду не отходила от двери, за которой скрылся хозяин. Я впервые видела собаку в попоне… Она была противная, хрипела, сопела… У Шаляпина был лакей-китаец; первый мой китаец в жизни: с длинной косой, в шароварах. Он обращался со мной изысканно вежливо, как со взрослой дамой, чем очень меня конфузил; а Коле дарил китайские марки для альбома. Мы то и дело бегали к нему в репинскую дворницкую, влекомые желтым лицом, косой, шароварами, поклонами.
В Андрееве более всего поразил меня матрос и моторка, в Шаляпине – китаец и собака с бубенчиками. И матрос, и моторка, и собака – были впервые в жизни. Правда, и Леонид Андреев и Шаляпин были тоже впервые, но в них-то что особенного? Писатель, артист, значит, люди как люди, заурядные, обыкновенные, привычные. А вот матрос! А вот лакей, да еще китаец! Это – невидаль. Что же касается всесветной известности Андреева, Репина или Шаляпина, то, к счастью, «воздух искусства» оставлял нас детьми и не учил пялить глаза на знаменитостей. Понятие славы было невнятно нам. Да и знаменитости умели вести себя так, будто им решительно ничего не ведомо о собственной славе.
Разумеется, Корней Иванович был доволен, что присутствие Леонида Андреева или Шаляпина не заставляло нас чувствовать себя какими-то особенными: «а у нас Шаляпин был!» Он ведь так и хотел: «дети как дети». Для этого, чтобы мы оставались детьми, были и шарады, и лодка, и босоногость, и городки, и лыжи, и путешествия. И в то же время, как я понимаю теперь, он, преклонявшийся перед талантом, был несколько смущен и даже шокирован, убеждаясь, что изобилие знаменитостей, постоянно посещавших наш дом, делало их в наших глазах заурядными. Стирало с них чудесность. Мы утрачивали ощущение счастья в их присутствии – ощущение, какого сам он не терял никогда. Репин? Ну и что с того: Репин. Короленко? «Да, папа, я забыл, – докладывал Коля, – когда тебя не было дома, заезжал Владимир Галактионович… Представь себе, он на велосипеде, прислонил велосипед к забору и пошел к нам… Просил тебе передать… А как ты думаешь, кто быстрее: самый медленный поезд или самый быстрый велосипед?»
Ему иногда казалось: перед нашими глазами пересыпают драгоценные камни, а мы как бы не видим их блеска и предпочитаем играть с мальчишками или девчонками в камешки на берегу.
И хорошо. Это нам по возрасту: в камешки… Но все же…
Беспокоился он напрасно. Помню, через десятилетия, когда мне было уже не семь, а тридцать, я однажды сказала ему, что часто встречаюсь теперь с Анной Ахматовой (когда-то сам же он мельком меня с ней познакомил). В ответ он спросил требовательно-встрево-женным голосом:
– Я надеюсь, ты понимаешь, что следует записывать каждое ее слово?
Я понимала. И этим пониманием обязана я ему, его отношению к поэзии и культуре, его чувству преемственности, «Чукоккале», тому утру, когда я увидела, с какою осторожностью прикасается он к подлинным рукописям Некрасова.
Да, наступил такой день, когда он показал мне и Коле рукописи Некрасова.
В 1914 году, после первых же некрасовских публикаций, осуществленных Чуковским, Анатолий Федорович Кони сделал ему феноменальный подарок: оригиналы «Кому на Руси жить хорошо», «Княгини Волконской» и другие черновики и беловые сокровища. И вот наступил день, когда Корней Иванович торжественно потребовал нас с Колей к себе в кабинет, взял за руки и подвел к своему письменному столу. Так подводят малышей к зажженной елке. На письменном столе у него, после конца работы, всегда был порядок, но сегодня это был уже не стол, а как будто аналой или ковчег. Ни пылинки. Книги, бумаги, карандаши, клей, чернильница, перья перенесены на подоконник, а посредине стола раскрытая папка и в ней…
Должна покаяться: я не помню, были ли это тетради или отдельные листы. Помнится мне, будто листы, но с уверенностью сказать не могу. Большие, пожелтевшие, исписанные блеклыми чернилами. Не помню также, была ли это рукопись «Княгини Волконской» или «Кому на Руси жить хорошо». Но это была рукопись Некрасова. И ощущение свое я помню ясно.
Рукописей к тому времени я уже видела возы: статьи, которые писал, рвал и снова писал Корней Иванович. Но тут странным показалось мне все: и почерк, и желтизна, и та осторожность, торжественность и нежность, с какими прикасались к старым помятым листам длинные загорелые пальцы. А страннее всего – открытие: стихи, знакомые мне и в голосе и в книге, оказывается, были сначала сочинены и написаны! Открытие? Я, конечно, знала это и раньше: Некрасов написал «Кому на Руси жить хорошо», а все-таки на самом деле узнала в ту минуту впервые. Корней Иванович назвал год – какой-то баснословно далекий, и я его мгновенно забыла: дата была вытеснена мыслью, что, стало быть, до названного года стихов этих не было, совсем никогда не бывало, ну вот как, скажем, до июня 1910 года не было Бобы. Они вовсе не всегда присутствовали в мире – стихи эти, – как море, песок, звезды, а их сочинил человек. Николай Алексеевич Некрасов. Ну вот как Маяковский сейчас, шагая по камням, сочиняет свои стихи, которых тоже никогда не было раньше.
Некрасов на этой вот бумаге записал стихи. Раньше их не было.
Коля заметил, что один листок между другими пустой. Совсем пустой, ни строки, ни слова, ни буквы. И – помятый. Наверху загнут угол.
– Этот ненужный, – сказал он голосом примерного мальчика, который самого учителя уличил в недосмотре. – Гляди, папа, тут ничего не написано. Его можно выбросить.
Корней Иванович всем корпусом повернулся к Коле и посмотрел на него с негодующим интересом. Впрочем, сердиться не стал. Задумался на секунду, как объяснить? И ответил очень старательно:
– Пустой, да, но ведь его трогал Некрасов, понимаешь? Ничего на нем не написал, но раз листок лежит здесь, среди других, исписанных, значит, Некрасов трогал его, смотрел на него. Понимаешь? Его нельзя разорвать или выбросить. Он оттуда, из того века, из ящика некрасовского стола.
Из того века. Из того стола. А сейчас лежит вот здесь, перед нами, на этом столе.
Не знаю, что понял Коля, но я – мало. У Некрасова, как у всех людей – руки, и, конечно, он этими руками трогал эти бумаги. Ну и что же? Почему нельзя выбросить измятую, пустую бумажку?
Так я рассуждала, так думала, потому что урок был для меня еще трудноватый. Но какое-то слабое предчувствие понимания: смены десятилетий, и смены времен, и цепи времен – было заронено, заложено тогда – при свете этого ясного детского солнечного дня, ложившегося на старые бумаги.
…Да, Корней Иванович увлекал, втягивал, учил, а иногда и учительствовал. Проповедовал культуру и деятелей ее. Недаром в одном из его писем к Кони обнаружена недавно такая цитата из Карлейля:
«В груди человека не живет никакого более благородного чувства, нежели восхищение тем, кто выше его!»
Иногда, в нетерпении, негодовал и сердился.
Детская память сохранила в ушах эти взрывы.
Вот, на веранде под вечер он читает стихи. Не нам, а гостям, взрослым. Но и мы тут же: нас не оторвать от его голоса:
Под насыпью, во рву некошенном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.
…………………………..
Вагоны шли привычной линией.
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие;
В зеленых плакали и пели.
И тут, в этом плаче и пении вагонов, дороги, одиночества, среди этого горя, обращенного гармонией в счастье, вдруг наступил
…нелепый, безобразный в однообразьи
перерыв… —
на веранду вбежала няня Тоня и запыхавшись спросила:
– Подавать самовар? Вскипел.
Вечер был прохладный, с самоваром ее торопили.
Поглядев на нее с таким удивлением, будто кто-то из них двоих сумасшедший, Корней Иванович в бешенстве разбил тарелку, раскровянил себе палец и крикнул:
– Как вы смеете – смеете – говорить при стихах?!
Тоня заплакала. Он накричал на нее не только при
стихах – при гостях. И это был тот самый человек, который деликатности с прислугой требовал от себя и от нас, детей, безупречной, который уже больным стариком стеснялся попросить домашнюю работницу принести ему грелку: лишний раз подняться на второй этаж! Вспылив тогда, на веранде, в Куоккале, он мгновенно опомнился и побежал за Тоней на кухню просить прощения. Он утешал ее и при этом по складам выговаривал:
– Когда читают стихи, перебивать можно только в одном случае: если загорелся дом! Других причин я не знаю!
(Мы-то уже обученные. Мы-то усвоили давно, накрепко, что перебивать нельзя не только чтение вслух, а иногда и молчание. Притащишь ему зимою на чужую дачу в мороз – он убегал туда кончать статью, – притащишь кастрюлю супу или чайник кипятку, а он сидит с карандашом в руке и молчит – и этого молчания прерывать нельзя. Ставь еду на подоконник и скорей уходи. Молча. Если невпопад заговоришь – он как рявкнет! А уж когда он или кто другой читает стихи…)
Однажды и на меня было рявкнуто – по такому же поводу – и не тише, чем на Тоню.
…Снова Большая Дорога, снова зима, снова возвращаемся мы с ним откуда-то вдвоем. Мороз ненастоящий, градусов пять, не более. Сеется мелкий снежок. Никакого сверкания наста: все мягко, мягко, пухово, беззвучно, бесцветно. Вот когда ничего искристого, си-не-бело-розово-голубого, просто белое.
Мы вынуждены отступить в придорожный сугроб, из переулка на Большую Дорогу медленно вытягивается нам навстречу обоз со льдом.
Лошади, присыпанные снегом, по мягкой дороге шагают натужно, медленно; и финны рядом с возами – в куртках, в валенках, в ватных брюках, заправленных в валенки, и в квадратных кожаных шапках на меху – блестящая кожа делает шапки похожими на шлемы. Медленно, нудно тянется обоз; мне надоедает глядеть на лошадей и на прозрачные прямоугольники только что вырубленного льда; ах, в одном – внутри, как в стакане, – еловая ветка! Как она попала туда и как ее оттуда добудут? Вдребезги разобьют лед?
Наконец обоз проскрипел. Последняя лошадь, последняя глыба льда, последний шлем.
Мы ступили на дорогу. И тогда новая помеха – Репин. Оказалось, он на той стороне. В теплых башмаках, в мягкой меховой шапке, весь припорошенный снежком, пережидает обоз, как и мы.
Мне досадно: теперь они будут разговаривать! Опять стой!
Репин, сняв перчатку, учтиво здоровается с Корнеем Ивановичем, потом протягивает руку мне.
Нет, долго ждать не приходится. Что-то такое условились насчет «среды».
Снова учтивые рукопожатия – и Репин исчезает в снегу.
Мы движемся сквозь снег в одну сторону, он – в другую.
Но не успеваем мы сделать и десяти шагов, как происходит нечто странное. В отца моего словно вселяется бес. Корней Иванович вдруг срывает с моей руки перчатку и бросает ее далеко в сугроб, к кольям чужого забора.
– Тебе Репин протягивает руку без перчатки, – кричит он в неистовстве, – а ты смеешь свою подавать не снявши! Ничтожество! Кому ты под нос суешь рукавицу? Ведь он этой самой рукой написал «Не ждали» и «Мусоргского». Балда!
Я, как няня Тоня, начала реветь.
Я, как няня Тоня, не понимаю, в чем моя вина. Репин со мной поздоровался. Я подала ему руку и ответила «здравствуйте». Откуда мне знать, что в перчатке нельзя? Мне этого раньше не говорили. А это был тот самый, обыкновеннейший Репин, который рассказывал мне про белку, и всегда угощал нас с Колей конфетами, когда мы приносили ему письмо от папы, и позволял бегать по лесенкам у него в доме. Репин, просто Репин. За что же?
Несправедливо!
И чего это они там не ждали! И кто такой Мусоргский?
Наверное, Корней Иванович был в своем гневе несправедлив, не прав, и уж во всяком случае непедагогичен. Гораздо правильней было бы с его стороны просто объяснить мне – спокойно, весело, полунасмешливо, как он это великолепно умел, что дети, здороваясь со взрослыми, должны всегда снимать перчатку. Ведь объяснил же он Коле, раз и навсегда, без всякого крику, что мальчик, переступая порог любого дома или здороваясь на улице с любым человеком, должен прежде всего снять шапку. Зачем же тут надо было на меня кричать? Да еще, проваливаясь в снег по пояс и принеся перчатку от забора, колотить меня ею изо всех сил по плечу, будто бы стряхивая снег, а на самом деле от непрошедшей злости?
Но как я благодарна ему теперь за эту неправоту, за эту несправедливо нанесенную мне обиду!
За этот поучительный гнев, которым он разразился, когда ему почудилось, будто я с недостаточным уважением прикоснулась к руке, протянутой мне искусством!
11
«…человек, не испытавший горячего увлечения литературой, поэзией, музыкой, живописью, не прошедший через эту эмоциональную выучку, навсегда останется душевным уродом, как бы ни преуспевал он в науке и технике. При первом же знакомстве с такими людьми я всегда замечаю их страшный изъян – убожество их психики, их «тупосердие» (по выражению Герцена)».
Так писал Корней Чуковский после опыта целой жизни, в 1965 году, в статье, озаглавленной «О духовной безграмотности»[13].
Встречи с людьми «тупосердыми» вызывали в нем смешанное чувство гнева, презрения и жалости. В конце концов верх брала жалость.
«Душевных уродов» – людей, не прошедших эмоциональной выучки и потому оставшихся «духовно безграмотными», склонен он был не только высмеивать, но и жалеть. «Страшный изъян», «убожество психики» – разве не меньше достоин этот изъян сожаления, чем физическое убожество – глухота, слепота?
О той девушке, которая в 1965 году оказалась неспособной испытать радость, читая Гоголя, уловить переходы от одной тональности к другой, от тихого смеха к хохоту, от хохота к пророчествующей патетике, он написал с жалостью, как о безногой или горбатой:
«Никто не научил ее восхищаться искусством – радоваться Гоголю, Лермонтову, сделать своими верными спутниками Пушкина, Баратынского, Тютчева, и я пожалел ее, как жалеют калеку»[14].
Для духовных калек у него в Дневнике существует и другое наименование: «обокраденные души».
Слово «бедный» – одно из распространенных в его лексиконе. Кроме общепринятого значения оно имело для него и особое.
Л. Ч.
«Бедная, бедная курица!» – написал Корней Иванович в статье, посвященной детскому языку. Речь шла об одной матери, осыпавшей его бранью за то, что он осмелился предложить родителям вслушиваться в детскую речь. Отвечая разгневанной матроне, он повторил свои доводы, сослался на солидные труды ученых и, всласть поиздевавшись над невежеством своей корреспондентки, напоследок воскликнул:
«Бедная, бедная курица!»[15]
Конечно, это издевка, но все-таки смягченная жалостью. Ведь это тоже в своем роде «обокраденная душа». Могла бы стать человеком, думающим, учащимся, воспитывающим – подлинной матерью! – а осталась курицей, кудахтающей без толку над высиженным ею цыпленком… А через несколько десятилетий об одной самоуверенной даме, американке, изуродовавшей его книгу при переводе на английский язык: «Бедная, бедная халтурщица!» Сначала громы и молнии в письмах к ней и о ней, а напоследок: «Бедная, бедная!»
«Завистливый, самовлюбленный мерзавец», – об одном литераторе, постоянно на него нападавшем с высоты собственной учености и гениальности. Казалось бы, характеристика исчерпывающая? Но нет: тут же «бедный»; «…я испытывал жалость к нему… Бедняга, бедняга!»
1926. Ленинград. Опять дневниковая запись. Тут понятие, вкладываемое в слово «бедный», звучит с совершенною ясностью, громкостью, отчетливостью, полнотой и пронзительностью.
Дело растратчиков с карточной фабрики: процесс Батурлина и других. Они из месяца в месяц хапали десятки тысяч рублей и, пока растрата не была обнаружена, жили в свое удовольствие.
Корней Иванович просидел день в зале суда. Вернувшись домой, написал:
«Ничего другого, кроме женщин, вина, ресторанов и прочей тоски – эти бедные растратчики не добыли. Но ведь женщин можно достать и бесплатно. – особенно таким молодым и смазливым, – а вино? Да неужели пойти в Эрмитаж не большее счастье? Неужели никто им ни разу не сказал, что, напр[имер], читать Фета – это слаще всякого вина? Недавно у меня был Добычин, и я стал читать Фета одно стихотворение за другим, и все не мог остановиться, выбирал свои любимые, и испытывал такое блаженство, что, казалось, сердце не выдержит, и не мог представить себе, что есть где-то люди, для которых это мертво и не нужно. Оказывается, мы только в юбилейных статьях говорим, что поэзия Фета это «одно из высших достижений русской лирики», а что эта лирика – есть счастье, которое может доверху наполнить всего человека, этого почти никто не знает: не знал и Батурлин, не знал и Ив. Не знают также ни Энтин, ни судья, ни прокурор».
Вот почему они «бедные». Для них все, чем жил он – «мертво и не нужно». Они никогда не испытали «счастья, которое может доверху наполнить всего человека», «блаженства», которого, кажется, «сердце не выдержит».
И судьи тоже «бедные» – и по той же причине.
Он верил, что искусство не только выковывает новую душу, не только одаряет человека счастьем – оно обновляет и тело.
«…как было бы чудесно нам обоим, – писал он в тридцатые годы С. Я. Маршаку, – уехать куда-нибудь к горячему морю, взять Блейка и Уитмена и прочитать их под небом. У нас у обоих то общее, что поэзия дает нам глубочайший – почти невозможный на земле отдых и сразу обновляет нашу телесную ткань. Помните, как мы, среди всяких «радужных»[16] дрязг, вдруг брали Тютчева или Шевченка – и до слез прояснялись оба. Ни с кем я так очистительно не читал стихов, как с Вами».
Бедные, бедные растратчики! Им неведомы способы очищения души и обновления физической ткани. Его жалость к психически обездоленным была искренней. Он всегда помнил о них и не мог позабыть, потому что, сталкиваясь с ними, испытывал непосредственную живую боль. Он словно жил за другого человека в сослагательном наклонении: ясно видел, каким этот человек мог бы стать – и не стал. Он верил, что счастье, даруемое искусством, заразительно, что этим счастьем можно и должно оделять людей, что горбатый в силах распрямиться. Всегда он кого-нибудь обучал: грамоте, или английскому языку, или подбирал для кого-нибудь книги. Во всемогущество литературы веровал, как другие веруют во всемогущество религии. Вглядываясь однажды (середина двадцатых годов, нэп) в прохожих, сразивших его вульгарностью своих походок, речений, одежды, лиц, он излил свою горечь в письме, а окончил письмо словами надежды:
«…и вдруг во мне сказалось одно тихое слово: книга. Слово глухое: к, г». Эти люди «еще и не знают, что у них есть Пушкин и Блок. Им еще предстоит этот яд. О, как изменится их походка, как облагородятся их профили, какие новые зазвучат в их речах интонации, если эти люди пройдут, напр[имер], через Чехова <…>. После «Войны и мира» не меняется ли у человека самый цвет его глаз, самое строение губ? Книги перерождают самый организм человека, изменяют его кровь, его наружность, – и придите через 10 лет на Загородный, сколько Вы увидите прекрасных, мечтательных, истинно человеческих лиц»[17].
Не раз он цитировал слова Достоевского, тоже подающие надежду:
«…и знаете ли вы, что в общем настроении жизни иная идея, иная забота или тоска, доступная лишь высокообразованному и развитому уму, может вдруг передаться почти малограмотному существу, грубому и ни об чем никогда не заботившемуся, и вдруг заразить его душу своим влиянием?»[18]
Вся работа Корнея Чуковского – портретиста, критика, историка литературы, сказочника, теоретика перевода; вся его работа во всех жанрах – фельетонном, текстологическом, исследовательском – была всегда заразительна, «заражала своим влиянием». Высмеивал ли он пошляческие романы, подыскивал ли ключ к творчеству Короленко или к личности и поэзии Анны Ахматовой и Александра Блока, комментировал ли новонайденные строки Некрасова – как острой иглой вводил он в кровь читателя живительную отраву увлечения искусством. Кроме неожиданных мыслей бурными эмоциями полны все его статьи о литературе. И всегда они направлены по двум адресам сразу: человеку «высокообразованного и развитого ума» и существу «грубому и ни об чем никогда не заботившемуся». Тем, кто теснился в «Пенатах» у Репина, на вернисажах, в редакциях толстых журналов, на премьерах в «Художественном», в театре Комиссаржевской, у Мейерхольда, на диспутах в зале Тенишевского училища и на «башне» Вячеслава Иванова, – и тем малоразвитым, провинциальным, «грубым», которым он читал свои «лекции» в Вильно, в тогдашней Одессе или в убогих залах Житомира, Белостока, Умани. Пусть с ним не соглашались: отрава взволнованности искусством обновляла кровь. Публика была разная: в Петербурге или в Куоккале изысканная, в Белостоке – темная, а результат один. В те годы он говорил о себе, что он «всегда улица», «крик», что пишет он для «галерки». Почему же печатали его статьи утонченные брюсовские «Весы», почему интересовались его статьями и Репин, и Розанов, и Ремизов, и Короленко, и Кони? И футуристы, и акмеисты, и символисты! Помню, в конце тридцатых годов Евгений Викторович Тарле читал мне наизусть полюбившиеся ему страницы из статей молодого Чуковского – Тарле, заслуженный автор ученых трудов по русской и мировой истории. Академик – какая уж тут «галерка»! Но действительно, Чуковского читала и «галерка» и «башня», а особенность его была в том, что он умел не «башню» опускать до улицы, а улицу поднимать до «башни». Популяризатор? Нет, популяризатор в облегченной форме преподносит людям чужое. Популяризацией не заинтересуешь ни Кони, ни Тарле, ни Репина. Чуковский же всегда преподносил свое, до такой степени новое и неожиданное, что многих шокировал парадоксальностью приемов и выводов. Сам говорил о себе: «…умею писать только изобретая… излагать чужое я не мог бы» (1955).
«Писать мне приятно лишь в том случае, если мне кажется, что я открываю нечто новое, чего никто не говорил. Это, конечно, иллюзия, но, пока она длится, мне весело» (1961). Новизною «изобретения» привлекал он и «башню» и «улицу». В «двуадресности» его сочинений, в постоянной памяти об «обокраденных душах» один из секретов его писательства, требующий изучения и разгадки.
С эстрады и с газетного листа достигал он обычно победы: удавалось взволновать, заразить, взбудоражить. Но, сталкиваясь с психическим уродством в быту, он нередко терпел поражения.
В Куоккале, девочкой восьми лет, я видела однажды его беспомощный гнев, через минуту сменившийся столь же беспомощной жалостью, даже не жалостью – совершенным отчаянием.
Все по той же схеме: «Мерзавец! Бедняга. Бедняга».
На этот раз мерзавцев было двое. И это были дети: хулиганы-мальчишки тринадцати-четырнадцати лет.
В жаркий июльский день мы вместе отправились на станцию встречать маму. Вышли слишком рано и оказались на платформе минут за сорок до поезда. Корней Иванович не терпел пустот, перерывов в работе и, раздосадованныи своей нерасчетливостью, перешел рельсы, спрыгнул с платформы на закопченный паровозной гарью грубый крупный песок, согнулся в три погибели на насыпи возле пня и принялся писать, положив бумагу на пень. (Он любил работать не за письменным столом, а пристроившись с дощечкой или книгой где попало: в постели, на пне, на подоконнике, на камне у моря.) Я разлеглась поодаль, лениво выковыривая любимые места из «Оливера Твиста» в переводе Введенского – книги, известной мне почти наизусть, – и не столько читала, сколько дивилась тому, что если прищурить глаза – песчинки, усыпавшие страницы, вырастают в валуны. Я прищуривалась, стряхивала песок, снова щурилась.
Повыше нас, там, где кончалась насыпь и уже начинался лесок, двое мальчиков разжигали костер. Корней Иванович все поглядывал на них, поднимая голову от своего пня. Он любил костры, мастерски разжигал их и прыгал через такое высокое пламя, что душа моя уходила в пятки. Я каждую минуту ждала: вот-вот он отложит работу, встанет и подойдет к костру. Но мальчишки от огня прикурили, закашлялись, и он отвернулся с брезгливостью. Курящие дети всегда оскорбляли его. (Сам он никогда не курил и никогда не пил и через всю жизнь пронес наивнейшее удивление, как эти два занятия могут кому бы то ни было доставлять удовольствие.) Мальчишки затоптали костер, заплевались и побросали окурки. (Пачкать окурками лес! Это тоже его всегда оскорбляло.) Мальчики же изобрели для себя новую забаву. Они спустились на путь и, перепрыгивая рельсы навстречу один другому, начали, соревнуясь, непристойно ругаться.
Корней Иванович вскочил, сунул мне в руку карандаш и листок и в три шага оказался возле мальчишек.
– Вы это что? – заорал он. – Молчать сию же минуту!
Они, нагло глядя ему в лицо, продолжали.
Тогда он схватил за шиворот одного, потом другого и обоих кинул на плотный песок.
Они поползли, потом поднялись, поглядывая на него уже не с вызовом, а с боязнью – не исколотит ли? – потом отряхнулись и побежали наверх. И там, на высоте, среди сосен, почувствовав себя в безопасности, показывая ему нос и приплясывая, снова начали скверно ругаться.
Он помчался наверх за ними. Двоих он не мог бы поймать, но одного, при своей длиннорукости, ухватил бы наверное. Он мчался наверх, а на меня из-под его огромных ног наплывали черные потоки песка.
– Сволочи! – заорал он. («Бездарность» и «сволочь» были самыми сильными ругательствами в собственном его лексиконе.) – Я покажу вам…
И вдруг, пробежав всего полдороги, он остановился. Он стоял неподвижно, понуро, как бы вглядываясь в песок и не делая ни шагу ни вверх, ни ко мне. Мальчишки торжествующе плясали, а один, расхрабрившись, даже швырнул в него шишкой.
– Бедные вы, бедные! – выкрикнул вдруг Корней Иванович тем надрывным, рыдающим голосом, каким читал особенно любимые стихи. И всхлипнул. – Обворовали вас. Никто-то вам ничего не рассказывал, ниче-го-то вы на свете не слышали, кроме этих гнусных слов…
Он махнул рукой и пошел вниз. На обеих его щеках висели слезы. Я потерянно взяла его за руку. Не знаю, нашлась ли бы я что-нибудь сказать, но тут раздался нарастающий грохот.
– Папа, поезд! – крикнула я, и мы, схватив книгу, карандаш и бумагу, побежали к платформе.
12
Выучилась я читать противоестественно рано. Это случайное обстоятельство сыграло большую роль в моей жизни и немаловажную в куоккальскую пору жизни моего отца.
Не только он в Куоккале читал нам, но и я – ему. Постоянно, ежевечерне. Без моего чтения он не засыпал.
Корней Иванович, здоровяк, великан, пловец и лыжник, смолоду и до последнего дня страдал неизлечимым недугом – бессонницей. Расплата за повышенную впечатлительность, за одержимость трудом. Ложась, он гасил на ночь свечу, но угасить работу воображения оказывался не в силах. И в полной тишине, нерушимо охраняемой домом, в темноте задернутых занавесей, колеса размахавшейся мысли продолжали крутиться. Без тормоза. Тщетно проворочавшись часа два, он сдавался бессоннице – и труду. Болезнь нередко превращала целодневный труд в круглосуточный. «Сижу за столом, не зная, день ли, ночь ли» (строка из письма). Ночами обыкновенно он не сидел за столом, а работал лежа: пристроит подсвечник со свечой в углу дивана, дощечку с бумагой на поднятых острых коленях. Вечером, когда он лег, ему мешало уснуть сознание, что статья не окончена, – в мозгу вертелись начала, концовки, переходы, примеры, противопоставления, угадки, звавшие вскочить и схватиться за перо; утром же, когда статья уже казалась ему (правда, ненадолго!) оконченной, он не засыпал от чрезмерной усталости. Он спускался вниз исхудалый, постаревший, весь заросший черной щетиной, ни на что не откликающийся, вялый и раздражительный вместе.
Весь дом жил утренними известиями: «папа спал», «папа не спал». Это были два разных дома и два разных папы.
Единственная его надежда на сон – чтение. Не свое – чужое. Чтобы кто-нибудь вслух почитал ему на ночь. Успокоительный ровный голос. И чтобы книга уводила за тысячи верст от тех мыслей, которыми он жил в тот день. И чтобы она была интересна ему – скучная не уведет! – но не слишком, а то новый интерес захватит и тоже помешает уснуть. Лучше других годна для усыпления книга, уже читанная им, полюбленная и полузабытая. Слушать приятно и не волнуешься. Но для читающего, напротив, книга должна быть нова и неотразимо увлекательна. А то соскучится, начнет клевать носом… и тогда… тогда человеколюбие потребует прогнать чтеца, и в свои права вступит бессонница. «Иди, иди, тебе пора спать» (отчаянная мольба: «останься!»). Читать требовалось без взрывов, без излишней выразительности, усыпительно-убаюкивающе и в то же время с видимым интересом. Вторжение чужого мира – чужих чувств, мыслей, образов – насильственно отвлекало его от очередного пункта помешательства: от очередной статьи, продолжавшей ломиться в мозг помимо воли ее автора… Надо было поставить преграду, барьер – чужим текстом.
Ни бром, ни микстура Бехтерева, ни встречи с самим Бехтеревым, ни гипнотизер, которого специально пригласил к нему Репин, ни физический труд, ни свежий воздух – ничто не приносило спасения от болезни.
Помогало: ложиться как можно раньше и слушать чтение. В Ленинграде, в Москве, в Переделкине он ложился в 9, в 10 часов, в Куоккале – в 8, вместе с маленьким Бобой. Заболев бессонницей и пытаясь одолеть болезнь, двадцатипятилетний человек, молодой, общительный, жадный до всякой новизны, раз и навсегда отрубил от своего дня самое многолюдное время – вечер, а вместе с вечером – всю увлекательную пестроту городской, шумной и разнообразной жизни: театры, диспуты, юбилеи, споры до утренней зари, поездки на острова, рестораны. (Было, было все это: случались и премьеры, и юбилеи, но в виде превеликого исключения… Однажды, в Петрограде, промучившись часа четыре в тщетных попытках уснуть, он встал, оделся и с горя пошел на праздник: на юбилей Екатерины Павловны Летковой-Султановой. Увидев его в половине второго ночи, гости были ошарашены и не верили глазам своим. «Чуковский, идите спать, ради Бога. Видеть Вас в такой час – дико, неестественно и жутко», – записал в «Чукоккале» Алексей Толстой.)
Корней Иванович всю жизнь платил удвоенно, утроенно жестокой бессонницей за каждое свое путешествие в поезде (шум и люди); за ночевку у друзей, даже самых гостеприимных и любящих (ложатся не в 8 вечера); за гостиницу (голоса, шаги в коридоре и некому ему почитать).
Всю жизнь в нашем доме, в Куоккале, в Ленинграде, в Москве, в Переделкине «читали папе», а позднее, когда мы, дети, выросли и, по примеру собственных детей, его внуков, стали именовать его Дедом – «читали Деду».
Всю его жизнь дома читали ему дети, внуки, секретари, родные, друзья, знакомые; в больницах и санаториях, если специально не приезжал кто-нибудь из близких, – соседи по коридору или медицинские сестры.
В начале двадцатых годов в Петрограде Коля сочинил веселые стишки о невообразимом, немыслимом времени: наш шумный, сильный, озорной отец постареет, и даже Боба (сейчас ему двенадцать, а только что в Куоккале он был маленький), наш Боба тоже станет старичком:
Говорит Корней Иваныч,
Почитай мне, Боба, на ночь!
Боба тоже старичок:
Не читает без очок.
Мы хохотали до слез. Боба, зеленоглазый, высокий, плечистый, чернобровый и белолицый, с ресницами в полщеки, Боба – старичок! И понадобятся ему, неведомо зачем, какие-то там очки! О подобной ерундовине только стишки и писать. (Ив самом деле, состариться Бобе не привелось, и до стариковских очков он не дожил: на тридцать втором году жизни, осенью 41-го, возвращаясь из разведки, убит под Можайском, неподалеку от Бородинского поля.)
Но несколько книг прочитать папе вслух, хоть и не старичком, он все-таки успел. (Успел стать инженером-гидрологом, жениться, работать на Нивастрое и на Чирчике и уйти в ополчение солдатом.)
Боба часто читал папе в Петрограде, иногда и в Москве.
В Куоккале же почти что каждый вечер читала я. Каждый вечер с восьми до десяти, до одиннадцати, до хрипоты, до ряби в глазах, до его ровного дыхания и прочного сна либо до взмаха длинной руки, выражавшего отчаяние: «Ступай, Лидочка, ступай. Тебе спать пора. А я все равно не усну». Падает в бессилии длинная рука вдоль длинного тела; он лежит на боку, носом в стену – весь воплощение отчаяния, будто раненый насмерть.
По утрам я первая, раньше братьев, бежала в кабинет на разведку: спал или не спал? Как я помню эту измученную, сотни раз с одной стороны на другую перевернутую подушку, эти закапанные стеарином жалкие листки рукописи, по полу разбросанные книги, это истерзанное одеяло, эти скрученные, свисающие до пола простыни! Словно сонмище бесов или шайка разбойников побывала ночью. «Нет, Лидочек, не спал ни минуты. Ты меня усыпила, а я проснулся, чуть только ты ушла».
Значит, это я виновата! Надо было мне еще почитать! И час, и два. Я делала проверки, в комнате и за дверью: умолкала. Он спал. Но значит, все-таки зря доверилась я этому сну – как иногда зря доверяешься льду возле берега, а лед только кажется прочным. Надо было остаться и еще почитать.
Сердце ныло от раскаяния и жалости. Во второй половине жизни, от пятидесяти до шестидесяти лет, болезнь его начала понемногу смягчаться. Наступила некая компенсация, как это бывает у больных пороком сердца. В Переделкине, если он не спал ночь, то утром, после завтрака, уж непременно засыпал часа на полтора; а то вдруг среди бела дня на дверях его комнаты в самое неожиданное время появлялась приколотая кнопками, начертанная синим карандашом надпись: СПЛЮ!!! – три восклицания: его, как он выражался, внезапно «сморило»; поспав днем, он поднимался освеженный…
На куоккальский же период пришелся самый свирепый период болезни. Редко случалось ему в Куоккале задремывать днем, даже после двух сплошь бессонных ночей. А уж если случалось! Как берегли мы его сон всем домом: не только мама, няня Тоня, Коля, я, но и маленький Боба. Как взглядывали друг на друга со страхом при дальнем лае собак: разбудят папу. Мы охраняли дом со стороны моря и у калитки: от булочника, от точильщика, от «корюшка, свежая корюшка!», от случайного заезжего гостя.
Однажды, когда вот так Корней Иванович случайно уснул, а мама ушла на станцию и мы были дома одни, явился из Петербурга незнакомый господин по срочному делу.
Коля дежурил у калитки.
– Дома Корней Иваныч? – громко спросил господин.
Мы с Бобой уже бежали на помощь.
– Дома, – ответил Боба шепотом.
Приезжий протянул свою визитную карточку. Коля повертел ее в руках.
– Папа спит, – сказал он.
– Так пойди разбуди его! – господин заговорил еще громче. – До моего поезда остался всего час.
– Папу будить нельзя, – сказала я.
– Есть тут кто-нибудь из взрослых? Я приехал по срочному делу.
– Никто его не станет будить! – сказал Коля. – Мама тоже не станет.
Боба, господину ниже пояса, тихонько подталкивал его к калитке.
Пожав плечами, господин повернулся и пошел прочь… Откуда ему было знать, что это такое для нас: «папа уснул», и как это было немыслимо: «разбудить папу»?
– Дур-рак! – сказал Коля вслед ни в чем не повинному гостю и, аккуратно сложив карточку, разорвал ее. Даже не прочел фамилии. Так Корнею Ивановичу и осталось неведомо: кто это приехал к нему по важному делу? Господин обиделся навсегда.
Разбудить папу. Злодейство! Кощунство!
В марте 1922 года Корней Иванович записал в Дневнике:
«Бессонница отравила всю мою жизнь, из-за нее в лучшие годы – между 25 и 35 годами – я вел жизнь инвалида».
Этот период, когда он наиболее остро сознавал себя инвалидом, его бессоннейшая бессонница – это и есть Куоккала, мое детство.
Впрочем, острые приступы болезни не оставляли его никогда.
Никогда – ив пору изобретения снотворных, которые он именовал «усыпиловки»: большая круглая металлическая коробка с наклейкой «сно» стояла в Переделкине возле его тахты с целой россыпью этих отрав, отечественных и иноземных, однако и «сно» не гарантировали ему верного сна. Все едино: требовалась кроме снотворного постоянная помощь – чтобы ему почитали.
И читали по очереди: Марина Николаевна – Колина жена; Клара Израилевна – бессменный секретарь; дети, внуки. Случайные гости.
Строки, посвященные бессоннице в его Дневнике и письмах, напоминают «Записки сумасшедшего»: «Матушка, спаси твоего бедного сына!»
«Бессонница моя дошла до предела. Не только спать, но и лежать я не мог, я бегал по комнате и выл часами» (1946).
Выл… Чем не сумасшедший?
«Ложишься на подушку, задремываешь, но не до конца, еще бы маленький какой-то кусочек – и ты был бы весь в бессознательном, но именно маленького кусочка и не хватает. Обостряется наблюдательность: «сплю я или не сплю? засну или не засну?» – шпионишь за вот этим маленьким кусочком, увеличивается он или уменьшается, и именно из-за этого шпионства не спишь совсем. Сегодня дошло до того, что я бил себя кулаками по черепу! Бил до синяков дурацкий череп, переменить бы – о! о! о!» (1924).
Бил себя по черепу… Чем не сумасшедший?
Книга его «писалась как роман, но после нескольких глав я заболел бессонницей – и больше не могу написать ни строки. Целые дни сижу за столом и вымучиваю какую-то дрянь» (1919).
«Здесь я забыл, что такое сон: некому читать мне. Если бы найти чтеца, я спал бы каждую ночь: главное, нужно отвлечь мысли от работы» (1951).
Волею случая первым его постоянным чтецом, отвлекающим мысли от работы, с моего шестилетнего по мой десятилетний возраст, оказалась я. Наша мама, Мария Борисовна, была слишком нервозною женщиной, чтобы успокаивающе воздействовать на его взбудораженностъ. Коля не умел скрыть зевоты, и Корней Иванович быстро отсылал его спать. Я же любила читать вслух, а во имя его сна готова была хоть всю ночь напролет притворяться бодрой. Это тоже была игра, да еще какая: во-первых, только наша, моя и его, больше ничья; во-вторых, не игра, а самое что ни на есть важное дело на свете: я усыпляю папу! в-третьих, не он надо мной, а я над ним командир. Я укладывала спать родного отца, как другие девочки укладывают спать свою куклу. Я играла с ним в «дочки-матери», причем распоряжалась я, а он меня слушался. Это мне льстило.
Словно угадывая будущее свое почетное назначение – усыплять папу! – выучилась я читать, повторяю, очень рано. Корней Иванович начал учить Колю с семилетнего возраста. Тут же болталась и я – четырех лет от роду. Когда Коля научился складывать слова, Корней Иванович купил нам «Каштанку» Чехова в издании А. Ф. Маркса – большую квадратную книгу с картинками, с очень черными четкими буквами на очень белой бумаге. Была она для нас обоих сложна не по возрасту, и он больше пересказывал нам ее, чем читал. Изредка, отдельные куски читал по книге и кое-что, немногое, предоставлял читать Коле. Было это почему-то не на даче, а в Петербурге; не знаю почему и когда – но ясно помню извозчиков, цоканье подков за окном, говор прохожих, а в кабинете у Корнея Ивановича, в простенке между окнами, один над другим, целых четыре Уолта Уитмена: вот он молодой, вот постарше в заломленной шляпе, а вот уже и бородатый, старый. Помню веселого котенка по имени Оскар Уайльд: тезку статьи Корнея Ивановича, посвященной знаменитому английскому автору. Была я чем-то сильно и долго больна. В самый разгар болезни – и рассказывания про Каштанку – Корней Иванович уехал с лекциями по разным городам: недели на две? дней на десять? Не помню. Когда он уезжал, чеховская Каштанка (Тетка) умела уже прыгать на задних лапах, выть под музыку и стрелять из пистолета. Он уехал. Я начала поправляться. И вот я уже не лежачая, а сидячая, а от него телеграмма: он едет домой. Вот его звонок в передней. Мама бежит открывать. Я хоть и не вижу, но слышу каждое его движение: вот он снимает калоши, вот вешает пальто – и сразу ко мне. Садится на краешек постели, длинный и складывающийся. Острые колени торчат. Я в теплых носках, в теплой кофте и с компрессом на шее. Но жара у меня уже нет. Он говорит, мама писала ему, я уже скоро встану, я уже почти здорова.
На постели, поверх одеяла, «Каштанка». Он рассеянно ее перелистывает. Расспрашивает, ссорились ли мы тут без него с Колей, обещает, когда я встану, повести нас обоих в цирк.
В цирк! Это туда господин в шубе носил Каштанку. Это там она встретила своих настоящих хозяев.
– Ну, что у тебя тут нового? – спрашивает Корней Иванович, вглядываясь в меня: выросла – не выросла – похудела? И длинным пальцем подпихивает вату под повязку на шее.
Нового? Новое у меня то, что я научилась читать. Сама читала Коле «Каштанку» вслух.
Это моя главная новость: пока он там ездил куда-то, я выучилась читать, и сама, своими глазами, прочитала в толстой квадратной книге ужасное известие: гусь, Иван Иваныч, скончался!
«Хозяин взял блюдечко, налил в него из рукомойника воды и опять пошел к гусю.
– Пей, Иван Иваныч! – сказал он нежно, ставя перед ним блюдечко. – Пей, голубчик.
Но Иван Иваныч не шевелился и не открывал глаз. Хозяин пригнул его голову к блюдечку и окунул клюв в воду, но гусь не пил, еще шире растопырил крылья, и голова его так и осталась лежать в блюдечке.
– Нет, ничего уже нельзя сделать! – вздохнул хозяин. – Все кончено. Пропал Иван Иванович!.. Милое животное, хороший мой товарищ, тебя уже нет! Как же я теперь буду обходиться без тебя?»
Помню, я глубоко была потрясена не только смертью милого гуся, но тем, что слова «все кончено» напечатаны в книге не другими, гораздо большими или, например, красными буквами, а точно такими же, как и прочие слова. «Все кончено» – гусь умер, и та же белая бумага, те же ровные черные буквы.
И он молчит, не вскрикивает, а спокойно переворачивает страницы и укрывает мне ноги, как будто ничего не случилось.
– Папа, а ведь гусь-то умер, умер гусь! – говорю я снова, заливаясь слезами.
* * *
И вот уже не городская квартира на Суворовском проспекте 40а, близ Таврического сада, где я выучилась читать, и не дача Анненкова в Куоккале, где мы прожили несколько лет, почти не упомненных мною (смутно помню, что там нас обокрали и что там я впервые увидала новорожденного Бобу), а дача на берегу моря, наискосок от Репина, которую я помню ясно: море, сосны, маму, папу, и приезжавшую бабушку, и братьев, и комнаты, и ручей.
Каждый вечер я читаю папе. Занятие это относительно него медицинское: отвлечь от мыслей о работе и усыпить, – а относительно меня – литературно-педагогическое: читать вслух дает он мне только такие книги, какие полагает интересными и полезными для читательницы моего возраста.
1913–1917. Предреволюционная детская литература к искусству отношения не имела: эта мысль в наше время стала общераспространенным трюизмом, и Корней Иванович своими статьями, до революции и после, много способствовал ее утверждению.
Что же я читала от шести лет до десяти? Какие же книги он выбирал для меня и для Коли; что допускал неохотно, что подсовывал нам?
Припомнить существенно: ведь книги, которые он нам давал, характеризуют его вкус, его мысли о литературе для детей и о стиховом воспитании.
В лодке, на морских прогулках, за чайным столом, по дороге на станцию он не обдумывал чтение специально для такого-то возраста: Бобиного, моего или Колиного. В последней своей статье он написал, что смолоду привык купаться «в океане стихов»[19], вот и нас увлекал за собой, озабоченный лишь тем, чтобы нам с детства открылась и полюбилась глубина, безмерность, бескрайность поэзии.
Другое дело книги, которые мы читали себе сами или ему вслух.
Тут уже не океан и безмерность, тут уж он с интересом вглядывался в соотношение между автором и читателем, книгой и возрастом. Ребенок такого-то возраста и такая-то книга. Башмаки должны быть впору – а где их взять? «Сказки» Пушкина прочитаны, «Конек-Гор-бунок» Ершова – тоже… Что же дальше: между шестью годами и десятью?
«Башмаков впору» в те времена было сшито и выточено считанное количество: два-три стихотворения Саши Черного, Марии Моравской, Поликсены Соловьевой, Натана Венгрова. Стихотворения Блока для детей были прекрасны, но не для детей. До «Крокодила» Корнея Чуковского оставалось несколько лет.
Одна из причин, почему созданные им впоследствии детские книги завоевали всеобщее признание: башмаки сработаны были точно по мерке. Каждая из книг – книга для детей такого-то возраста.
Разумеется, возраст – понятие условное, и в физическом и в духовном смысле. Не все младенцы на одном и том же месяце научаются держать голову или сидеть, не у всех детей в одно время прорезываются, а потом выпадают молочные зубы, не все в одно время начинают ходить, а потом читать.
Многое зависит от особенности социальной среды, климата, наследственности.
А все-таки понятие возраста существует.
Зал полон детьми. Чуковский читает сказку. Взрыв хохота – общий! – всегда на одних и тех же строчках. Внимательность, задумчивость, испуг. Вздох облегчения – общий. Всегда на одних и тех же строчках. А если общий зевок? Если начали перешептываться? Для автора это сигнал бедствия.
Новый зал. Снова сотни детей того же возраста. И снова на тех же двух четверостишиях равнодушие, зевки, шепоток.
Сделавшись профессиональным детским писателем, выступая перед сотнями и тысячами детей с самых разнообразных эстрад, общаясь с ними в школах, больницах, санаториях, детских садах и библиотеках, читая им свое и чужое, Чуковский с большой точностью установил возрастные рамки в восприятии литературы: тому свидетельство хотя бы книга «От двух до пяти» или статья «Литература и школа». Но и в ту начальную, до-крокодильскую пору, когда число детей, попадающих в поле его зрения, ограничивалось малышами, копошащимися на куоккальском пляже, да собственными детьми, он вдумывался в восприятие, вглядывался в возраст, пытаясь прежде всего понять: что детям скучно, а что увлекает их? «Скучно – нескучно» – это было для него одним из основных критериев. Критерием, конечно, не единственным. (Мало ли написано книг с острозакрученной фабулой, «занимательных», но бездушных, бездарных, неодухотворенных и своею неодухотворенностью заглушающих понимание жизни? Заглушающих рост души? А уж пониманию искусства они не только не учат – уводят от него.)
«Скучно – нескучно» – критерий не единственный, но обязательный.
Возраст – ступенька. Каждой возрастной ступени должно соответствовать свое искусство. Корней Иванович мечтал о возведении лестницы, которая приводила бы растущего человека к «Евгению Онегину».
Что и в каком порядке должен читать растущий человек, с какой на какую переходить ступеньку (сам и с помощью взрослых), чтобы, скажем, к четырнадцати, пятнадцати, шестнадцати годам онегинская строфа не затрудняла, не отпугивала, а пленяла его? Чтобы со ступени на ступень росло, наполнялось новым смыслом его понимание Татьяны, Онегина, быта тогдашней деревни и тогдашней Москвы, творчества Пушкина, русской истории, русской поэзии? Что и в каком виде и в какой последовательности надлежит давать растущему человеку в детстве, чтобы защитить его от пошлости, которая всегда, во все времена неизбежно и неистребимо прет изо всех щелей? Чем одаривать, чтобы подрастающий человек свободно и радостно поднимался по лестнице литературной культуры, без которой нет культуры душевной? Конца эта лестница не имеет, но каково должно быть начало и какова последовательность шагов? Корней Иванович ревновал поэзию, литературу к музыке; ему представлялось, будто в обучении музыке, в науке о музыкальном воспитании такая лестница уже возведена. Путь к Бетховену проложен. В поэзии же, в изучении литературы, полагал он, лестница к вершине ее – к Пушкину – не построена… А ведь русская поэзия – одна из сверхмощных держав в поэзии мира. Что же будет, если наследники не окажутся в силах принять наследство?
Опасность представлялась ему грозной.
Он заботился в течение своей жизни обо всех ступенях этой воображаемой лестницы (переводил, сочинял, составлял, редактировал и критиковал книги для детей разных возрастов), но с особою тщательностью о первоначальных шагах и ступенях.
(Его сознательный умысел был сродни бессознательному народному: сколько создал народ колыбельных и послеколыбельных песенок! Для самых маленьких деревнями и селами создано не меньше, а гораздо больше песен, потешек, считалок, чем для последующих детских возрастов. И это – не зря. Усвоение родного языка и родной поэзии совершается одновременно, и притом – во младенчестве.)
Вдоволь, с избытком повидала я на своем веку мамаш и тетушек, приводивших к Корнею Ивановичу обожаемых Петенек или Ниночек, чтобы показать ему превеликое чудо: Петеньке, вы подумайте, всего три года и один месяц, а он уже знает наизусть «Мойдодыра»!
– Петенька, ведь это сам Чуковский, он сам сочинил «Муху-Цокотуху», понимаешь? Петенька, не упрямься, не огорчай маму, прочитай дедушке Корнею «Мойдодыра»… Честное слово, Корней Иванович, он знает все ваши книжонки наизусть…
И Корней Иванович, который только что, совсем позабыв, что он «сам Чуковский», радостно прыгал с Петенькой на одной ноге, кто скорее, от крыльца до ворот, на ходу загадывая ему загадки, с любопытством рассматривая еще один экземпляр трехлетнего человека, сразу сникал, но, не желая обидеть очередную мамашу, покорно присаживался на скамью и, полузакрыв лукавые глаза, слушал, как Петенька – вы подумайте только! наизусть! читает «Мойдодыра».
Дивился он при этом не Петеньке, а мамаше. По ее уходе он говорил, вздыхая:
– У-ди-ви-тель-но! Ей до сих пор ни разу не пришло на ум, что в мире существуют дети определенного возраста. Не один ее Петя, а миллионы трехлетних Петь. Никакой способности к обобщению! Все эти Пети почему-то между тремя и пятью годами знают наизусть «Мойдодыра». Вот и задумалась бы – почему? Но она видит одного своего Петю, единственного в мире, и он представляется ей чудом природы. Да если бы двухлетний ребенок после многократного слушания не запоминал наизусть русские и иноземные народные песенки: «Как у котеньки-кота одеялка хороша» или «Шалтай-Болтай сидел на стене», а в три, в четыре года «Мойдодыра», «Пожар», «Муху-Цокотуху», «Почту», «Рассеянного», – да его надо было бы немедля вести к психиатру!.. «Крокодил» – это роман для шести-вось-милетних, а «Мойдодыр» – повестушка для трехлетних… Но она уперлась глазами в одного своего Петю, другие ей решительно неинтересны, вот у нее и выходит, что Петенька – гений. Она не догадывается: он не исключение среди детей его возраста, а правило.
В статье «Литература и школа» Корней Иванович говорит уже о подъеме на последующие ступеньки воображаемой лестницы. Он упрекает школу в недостаточном внимании к возрасту, в неумении перекинуть мост между восприятием двенадцатилетних и литературой.
Школьники не читают стихи для своего удовольствия, а лишь зазубривают их ради пятерок. Между тем «литература не таблица умножения: ее нужно не зубрить, а любить»[20]. Начал бы, например, учебник открытие Пушкина со стихов, какими дети могли бы зажечься, а то детям навязывают ранние, архаические, отвлеченные пушкинские стихи, отпугивающие их от себя медлительностью, умственностью. Не хронологии пушкинского творчества должен подчиняться учебник до поры до времени, а хронологии ребяческого восприятия.
«Нужно свирепо ненавидеть и Пушкина, и наших детей, – писал Чуковский, – чтобы предлагать двенадцатилетнему школьнику… архаический текст, полный славянизмов и непостижимых метафор». (Он цитировал: «Я здесь, от суетных оков освобожденный, Учуся в истине блаженство находить, Свободною душой закон боготворить, Роптанью не внимать толпы непросвещенной» и т. д.) Конечно, – говорит он далее, – упорно зубря, они могут одолеть этот текст, «но не требуйте, чтобы с именем Пушкина была у них связана радость».
Нам с Колей Пушкина он открывал, вселяя в нас желанную радость. «Песнью о вещем Олеге», «Гусаром», «Женихом», отрывками из «Полтавы» и «Медного всадника».
Как радовались мы строчкам:
Марш! марш! – все в печку поскакало…
или:
Шалит Марусиныса моя…
или:
«А это с чьей руки кольцо?» —
Вдруг молвила невеста…
или:
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром…
(Дети тоже любят дым и гром…)
Как гордились мы черногорцами, которые хитростью и мужеством спровадили из своей страны Бонапарта:
И французы ненавидят
С той поры наш вольный край
И краснеют, коль завидят
Шапку нашу невзначай.
Эти стихи были не только великой пушкинской поэзией, но и попросту веселыми, интересными для чтения стихами, соответствующими потребностям нашего возраста, жаждущего происшествий, событий, эмоциональных бурь.
«…Наркомпрос упорно скрывает от них того Пушкина, которого они могли бы полюбить, – писал в статье «Литература и школа», уже поставивший немало опытов на своих и на чужих детях, Чуковский. – Даже одиннадцатилетним ребятам (в пятом классе) он навязывает «Дубровского» и «Зимнее утро», то есть опять-таки то, что нисколько не соответствует их возрастным интересам.
Они на всю жизнь влюбились бы в Пушкина, если бы им дать, например, «Делибаша»:
Делибаш уже на пике,
А казак без головы!
Но похоже, что Наркомпрос вообще не желает внушать детям любовь к литературе. Пусть зубрят по программе – без всяких эмоций! Вот, например, басни Крылова. В них есть все, что может понравиться детям: и звонкий стих, и забавная фабула, и медведи, и слоны, и обезьяны. Одиннадцатилетние тянутся к этим басням, как к меду. Не потому ли программа дает им всего лишь три басни, то есть почти ничего! Чтоб они не лакомились теми стихами, которые доставляют им радость! Из всего Лермонтова детьми наиболее любима «Песня про купца Калашникова», – и, конечно, Наркомпрос не включил этой песни даже в программу внеклассного чтения. То же самое и с «Детством» Толстого. Дети так любят читать про детей! Но составители школьной программы не сделали им поблажки и тут.
Вообще, если составители программы нарочно стремились представить ребятам художественную нашу словесность в самом невкусном, неудобоваримом и непривлекательном виде, они достигли своей цели блистательно»[21].
Что же считал он «удобоваримым», «вкусным» для меня в восемь, для Коли в одиннадцать лет? Что он выписывал, покупал, подсовывал нам в Куоккале?
Что мы читали? Да все, что и остальные дети того времени. Но одно с его «попущения», а другое, так сказать, «с соизволения».
Он выписывал все детские тогдашние журналы – все, от презираемого им «Задушевного слова» до уважаемого, но, по его мнению, скучного «Маяка». И «Путеводный огонек», и «Родник», и «Светлячок», и «Тропинку». Но это больше для себя, для критической деятельности. Впрочем, и от нас он их не прятал. Да и вообще не мешал нам читать, что нам вздумается, полагая, наверное, что мы прочно защищены от пошлости Баратынским, Тютчевым, Пушкиным, Фетом.
А в общем, читали мы то же, что все мальчики и девочки Колиного и моего возраста в то время. Коля: Купера, Майн Рида, Конан Дойла, Жюля Верна, Стивенсона, Вальтера Скотта, Диккенса, Марка Твена, Гюго. Я плелась за ним: только Жюль Верн, кроме «Двадцати тысяч лье под водой», казался мне непереносимо скучным, в особенности «Дети капитана Гранта». Зато Коля отплевывался от моих девчонских книг: «Маленькая принцесса», «Голубая цапля», «Маленький лорд Фаунтлерой», «Маленькие женщины». Я чувствовала, что и Корней Иванович их не одобряет, над ними подтрунивает, но он не мешал мне читать их. Однако самой про себя, а не вечером ему вслух. Почитать ему на ночь «Голубую цаплю» нельзя было: засмеет. Его раздражали сантименты, слащавость, топорные переводы. Он мечтал для нас об «Алисе», «Гулливере», «Робинзоне Крузо», – но и эти переводы и пересказы сердили его. Для вечернего чтения вслух он выбирал то, что полагал интересным и полезным мне и не коробило собственный его вкус. Плохие переводы вызывали не сон, а злость.
Со своего шестилетнего по свой десятилетний возраст я прочла ему сказки Афанасьева, потом – тут он тоже морщился от переводов – сказки Гауфа, Перро, братьев Гримм; потом – сказки Андерсена; потом «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, «Без семьи» Мало; потом начался Марк Твен: «Принц и нищий», «Том Сойер», «Гекльберри Финн»; потом – роман за романом Диккенса, романы Гюго, и многое множество стихов, главным образом стихов-повествований, потому что он был убежден: дети моего возраста требуют от стихов и от прозы прежде всего смены событий. Стихи он давал мне только самого высокого качества: «Мороз, Красный Нос», «Генерал Топтыгин», «Кому на Руси жить хорошо»; «Песню про купца Калашникова», «Бородино», «Воздушный корабль», «Три пальмы»; русские былины, и «Калевалу», и «Гайавату». И «Ундину», «Наль и Дамаянти», «Одиссею» в переводах Жуковского.
Основой основ, фундаментом всего стихового воспитания детей от восьми до двенадцати и старше почитал он баллады Жуковского. Как и сказка, баллада – в своем далеком изначальном виде – произведение народа; ввели ее из фольклора в литературу величайшие поэты мира. Каждая баллада – стремительное действие; целая цепочка не дающих от себя оторваться поступков и происшествий. Все, к чему тянутся дети, да и подростки. Для подростков баллады он считал такой же необходимостью, как для маленьких – сказки. В балладах, столь счастливо воссозданных Жуковским на русском языке, естественность интонаций такова, что тут и не пахнет переводом, тут совершилось второе рождение Гете, Шиллера, Вальтера Скотта, Уланда, Саути – в России: в стихии русского языка – то архаического, то народного, то литературного, но всегда естественного, живого. Чужеземные имена и названия придают этой речи не чуждость, а лишь дополнительную прелесть загадочности: «Бротерстон», «Боклю», «быстро бегущая Твид», «рыцарь Ричард Кольдингам», «Посидонов пир», «Фракийские горы…». «Рыцарь Ричард Кольдингам» – самое имя звучит, как звон средневековых доспехов.
Корней Иванович считал для нас баллады Жуковского – их гибкий, звонкий, стремительно движущийся, могуче-увлекательный стих – отличной и обязательной школой. И притом – праздничной.
Когда мне исполнилось одиннадцать лет, уже в Петрограде, он подарил мне трехтомник Жуковского. К этому времени я знала уже наизусть и «Суд Божий над епископом Гаттоном», и «Кубок», и «Поликратов перстень». Сколько раз, читая ему на ночь в Куоккале, зажигала я свечу над любимейшими из любимых: «Кубком» или «Замком Смальгольм»!
Но свеча была не нужна мне.
И воет, и свищет, и бьет, и шипит,
Как влага, мешаясь с огнем,
Волна за волною; и к небу летит
Дымящимся пена столбом…
Разве могла я этого не помнить? И не я – а все Петеньки и Ниночки моего тогдашнего возраста?
Юноша дважды бросается в кипящую пену, но лишь один раз – он на своем берегу с драгоценной добычей. Во второй раз бросится и погибнет. Напрасно будет глядеть в кипящие волны королевская дочь.
Каждая девочка – одна в восемь, другая в двенадцать лет – неминуемо повторит вслед за Шиллером-Жуковским, безо всякой зубрежки, с горестным и почему-то счастливым вздохом:
Утихнула бездна… и снова шумит…
И пеною снова полна…
И с трепетом в бездну царевна глядит…
И бьет за волною волна…
Приходит, уходит волна быстротечно…
А юноши нет и не будет уж вечно.
13
Вечер. Он скрывается за дверью кабинета. А я стою за дверью и жду зова.
Внизу, в маленькой прихожей, откуда начинается лестница, висит Мурильо – репродукция «Мальчика с собакой». Прелестная, щедрая и застенчивая улыбка мальчика провожает меня наверх. А наверху, в проходной комнате возле кабинета, где я ожидаю оклика, над лестницей плакат: на зеленом картоне наклеено красное, с длинными красными лучами, круглое солнце и желтыми буквами выклеено:
Веснеянка веснеянная
Веснеянных веснеян.
Песнеянка песнеянная
Песнеянных песнеян.
Это сочинил, наклеил и здесь, над нашей лестницей, повесил поэт Василий Каменский.
– Входи! – голос из кабинета.
Тогда я кричу вниз, перегибаясь через перила под «Веснеянкой»:
– Папа ложится спать!
Просят ему не мешать!
Кричу зря, только чтобы прихвастнуть своей властью: с той минуты, как Корней Иванович поднялся наверх, внизу и так уже наступила полная тишь.
Когда я вхожу, он лежит в ночной рубашке на своем огромном диване. Лежит узкий, длинный, горестно уткнувшись носом в плоскую подушку. Вид несчастный, одеяло наброшено кое-как, голые пятки торчат. Он полон предчувствия бессонницы: он боится, что я захочу спать и уйду раньше, чем он успеет уснуть.
– Спинушка и ноженьки! – говорит он мне жалобным, капризным голосом.
Это значит: поплотнее подоткнуть со всех сторон вокруг него одеяло. Но чуть только я прикасаюсь к одеялу, чтобы укутать ему голые пятки, он, балуясь и шаля, переворачивается на спину и взбрыкивает ногами так высоко, что я не могу дотянуться до них.
Несчастность его как рукой сняло; ему хочется перед сном поиграть.
– Если ты будешь брыкаться, – говорю я наставительным голосом, – ты ни за что не уснешь. Лежи смирно.
В ответ он задирает ноги еще выше и, положив на лицо подушку, начинает громко храпеть: вот, мол, я уже уснул.
– Если ты будешь баловаться, – говорю я, – я сейчас же уйду. Девятый час.
Он с покорностью опускает ноги, снова ложится на бок, а я ползаю вокруг него по дивану, подтыкая толстым одеялом со всех сторон его длинное тело.
– О, блаженство,
Совершенство —
Это ты! —
говорит он нараспев, в последний раз брыкнув уже укутанными ногами.
Развеселился! Значит – надеется. Если же надежды плохи, он страдальческим голосом, с преувеличенной благодарностью бормочет:
– Ох, как хорошо… о-о-о, какое счастье… теперь мне тепло… спаси тебя Бог… Бедный я мальчик! Спаси тя Христос…
Но все это предыстория и представление. Пора приниматься за дело.
На письменном столе уже стоит зажженная свеча в черном, с квадратною ручкой, подсвечнике; Жуковский, открытый на «Замке Смальгольм», а рядом «Домби и сын» Диккенса. Диккенс – это для работы усыпления, а Жуковский – это так, для начала, для счастья.
Спички на всякий случай и вторая свеча наготове. Огонек горящей свечи уже установился: ровный, высокий, желтый, а возле самого фитиля синий. Я отставляю свечу дальше, чтобы не загорелись волосы, когда я нагнусь над книгой.
Он лежит неподвижно, прижавшись щекою к такой низкой подушке, что, посмотрев от стола, кажется, лежит он вниз головой.
Начинаю, глядя в книгу лишь для порядка:
До рассвета поднявшись, коня оседлал
Знаменитый Смальгольмский барон;
И без отдыха гнал, меж утесов и скал,
Он коня, торопясь в Бротерстон.
Не с могучим Боклю совокупно спешил
На военное дело барон;
Не в кровавом бою переведаться мнил
За Шотландию с Англией он;
Но в железной броне он сидит на коне;
Наточил он свой меч боевой;
И покрыт он щитом; и топор за седлом
Укреплен двадцатифунтовой.
Читаю я скверно, проглатывая слова и поспешая к своему любимому месту:
Я в отлучке был три дни, мой паж молодой,
Мне теперь ты всю правду скажи:
Что заметил? Что было с твоей госпожой?
И кто был у твоей госпожи?
Мне так не терпится к этой госпоже, к ее тайным свиданиям с рыцарем Ричардом Кольдингамом у ночного маяка, к тайному убийству на темной дороге.
Нет! Не чудилось мне; я стоял при огне
И увидел, услышал я сам,
Как его обняла, как его назвала:
То был рыцарь Ричард Кольдингам.
Слушателю моему торопливое чтение не по душе. Он перебивает меня и начинает читать первые строфы наизусть – сам – мне в науку. Отчетливо и полновесно выговаривает он каждое слово, возвращая стиху медлительность, важность и плавность. Он подчеркивает внутренние рифмы, проглоченные мною:
И без отдыха гнал, меж утесов и скал…
Но в железной броне он сидит на коне…
делает явными и более скрытые звучания:
За Шотландию с Англией он…
В его чтении становится явной и тяжесть доспехов, и неподвижность коня. Топор у седла укреплен такой тяжелый, что переламывает строку надвое:
…и топор за седлом
Укреплен двадцатифунтовой.
Следуя невидимым нотам, он сильно ударяет на «и»: «двадцати» – затем крохотная пауза и затем «фунтовой».
Укреплен двадцати
фунтовой.
Еще одно и в его произнесении памятно мне. Все загадочно в «Замке Смальгольм»: ночное убийство, свет маяка среди скал, тайное свидание с возлюбленным, который «не властен придти», потому что его нет на свете, и все же приходит; прикосновение мертвой руки к живой: «и по членам огонь пробежал»; все полно тайны, но, не названная ни разу на всем протяжении баллады, тайна сгущена в одном слове одной из завершающих строф:
На руке ж – но таинственно руку она
Закрывала с тех пор полотном.
И сейчас еще звучит у меня в ушах это слово так, как произносил, как тянул его Корней Иванович:
Но таиинственно руку она —
и как выпевал он этот звук, как бы в поддержку таинственности, в последней, заключительной строфе:
То убийца, суровый Смальгольмский барон,
То его молодая жена.
Однако, я вижу, он не заснет никогда. Слишком уж он разошелся. Пора, пора за работу. Я открываю Диккенса, мне в самом деле интересно узнать, неужели мистеру Каркеру удастся жениться на Флоренсе? Неужели ее не выручат верные друзья: мисс Ниппер, капитан Куттль, пес Диоген? Я начинаю, но он не дает читать и заводит какой-то разговор о Диккенсе.
– Вот что, – говорю я решительно, – имей в виду: не стану я тратить чтение на неспящего человека. Молчи и слушай, иначе просто уйду.
«М-р Каркер тихим шагом поехал возле дома, – читаю я под треск свечи, – и пристально смотрел на окна, стараясь разглядеть через гардины задумчивое лицо, обращенное в эту минуту на розовых детей в противоположном доме. Диоген в эту минуту вскарабкался на окно и, выпучив глаза на проезжавшего всадника, залаял немилосердно, как будто хотел изорвать его в клочки, выпрыгнув на улицу с третьего этажа.
Хорошо, Диоген, хорошо. Защищай свою госпожу. Голова твоя всклокочена, глаза сверкают, зубы оскалились. Браво, чуткий пес!»
– Браво! – бормочет в подушку Корней Иванович, стараясь показать, что сна – ни в одном глазу и он принимает самое горячее участие в судьбе Флоренсы.
Читать-то я читала, но иногда поглядывала на диван и, главное, прислушивалась к дыханию. С ним надо держать ухо востро, он способен на всякую каверзу: возьмет и притворится крепко спящим, чтобы проверить, не хочу ли я сама спать и не брошу ли его, чуть только он начнет дышать ровно.
Но пока что он еще не притворяется спящим. Напротив.
– Какой молодец Диоген! – снова говорит он в подушку фальшиво-восторженным голосом: он, мол, и не думает спать, он с интересом слушает Диккенса.
А я читаю, и читаю, и читаю, то борясь с дремотой, то в самом деле захваченная интересом, но упорно следя за собой и за ним: читать не слишком быстро, чуть монотонно, и вглядываться в его лицо, и слушать его дыхание.
– Бедный я мальчик! – говорит он минут через двадцать, перебрасывая подушку на другую сторону и снова горестно утыкаясь в нее лицом: – «Бедный мальчик весь в огне, все ему неловко…» Который час?
Я взглядываю на круглые черные часы, которые обычно он носит в кармане, и говорю на полчаса меньше, чтобы он не пугался.
Неужели и в эту ночь не уснет?
Между тем Флоренса и мисс Ниппер неожиданно явились к капитану Куттлю. Как раз в это время хозяйка моет в комнате у капитана пол.
– «Капитан заседал среди своей комнаты, как на пустом острове, омываемом со всех сторон водами мыльного океана… Никакое перо не опишет изумление капитана, когда он, обратив на дверь отчаянный взор, увидел Флоренсу с Сусанной… Когда Флоренса подошла к прибрежью пустого острова и дружески подала ему руку, он остолбенел и на первых порах почудилось ему, что перед ним фантастический призрак».
С подушки неслось мерное дыхание. Спит? Притворяется? Поверишь, а тут-то он и заговорит. На прошлой неделе, когда я дочитывала «Холодный дом» и он, мне казалось, уже минут пятнадцать спал напропалую, голова внезапно поднялась с подушки и из темноты раздалось:
– Будешь умирать – помни: весёлость, а не вОселость! – и снова раздалось мирное похрапывание.
Он и сквозь сон следил за правильностью ударений!
А сколько раз бывало: уснул; я умолкла – не шелохнулся; я задула свечу – спит; я дошла до двери – похрапывает; я вышла и для порядка стою минуту уже за дверью, уже под «Веснеянкой»… И вдруг:
– Ха-ха-ха! – искусственно-веселый смех, смех отчаяния из-за дверей. – Она воображает, что я сплю. Ну, иди, иди, дурочка, тебе пора, тебе спать хочется…
Я возвратилась и умолила его позволить мне почитать еще немножко, а о сне я и думать не могу – совсем не хочется, как будто день или утро.
Он позволил. Он так боялся остаться один! Я читала еще около часа. Он уснул и спал всю ночь до утра… Такое мне выпало счастье!
Но сегодня что-то не налаживался сон. Спит как будто бы и вдруг подаст голос, засмеется в самом неподходящем месте или, наоборот, с огорчением воскликнет (в подушку): «Какое несчастье!», совсем невпопад, когда Диккенс острит и я еле сдерживаю смех. Нет, не заснет он сегодня!
– «Вы, конечно, удивляетесь, капитан, – читаю я, – видя нас здесь, – сказала Флоренса, улыбаясь.
Очарованный капитан поцеловал свой железный крюк и, сам не зная для чего, проговорил: – «Держись крепче! держись крепче!» Лучшего комплимента не придумал он в эту минуту».
Спокойное, мерное дыхание. Я читаю, и читаю, и читаю. А быть может, он уснул? Попробую, пожалуй, сделать опыт.
Гашу свечу: спит.
Тут начинается операция самая трудная.
Чтобы его не разбудить, надо дойти в темноте до двери и открыть и закрыть ее, не прерывая чтения. Читать, и читать, и читать.
Но как же это читать в темноте?
Если умолкнуть, он сразу проснется, услыхав тишину.
Я научилась читать и в полной тьме. Если стихи, это и не очень-то трудно. Только что два часа читала «Одиссею» и вот в темноте произношу:
– «Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос», – а потом невесть что, лишь бы соблюсти размер: «Тут Телемах застрелил наповал женихов богоравных…»
С прозой труднее. Нету надежной опоры – размера. Говорить же надо без перерыва. Я делаю попытку во всех отношениях держаться на уровне подлинника и, ступая неслышно по комнате, без передышки плету чепуху, больше опасаясь запутаться в собственном вранье, чем натолкнуться на стул.
– «Никакое перо не опишет, – говорю я, в темноте бесшумно пробираясь к дверям, – обрамленное личико Флоренсы. Читатель легко себе представит злобную улыбку мистера Каркера, которая искривила его губы, которые скрывали его зубы, которых, по мнению капитана Куттля, было у него слишком много».
Я за дверью. Теперь так бы и кинуться с лестницы вниз. Но нельзя. Надо постоять для проверки. Лампа в прихожей прикручена, и «Веснеянки» не видно. А там, внизу, в столовой – яркий свет; под лампой Боба и Коля, наверное, еще играют в лото.
Прислушиваюсь. Сердце стучит толчками. Думаю, минут пять уже прошло. Теперь только бы благополучно спуститься, не наступив на те ступеньки, которые скрипят. Я знаю их наперечет и через них перешагиваю.
Ярко сияет висячая лампа над столом в столовой, Боба и Коля уже давно в кроватях.
– Уснул! – отвечаю я на вопрошающий мамин взгляд.
Однако это благополучный конец. А часто бывало, он прогонял меня, не уснув. А иногда лукавил, коварно позволял мне уйти, притворяясь спящим, и подслушивая, что я мелю. И выдавал мальчишкам.
Как-то раз после чтения французской переводной сказки, пробираясь в темноте к дверям, я сказала:
– Я удаляюсь, как фея прекрасная.
Он продолжал похрапывать. Но что было утром! Коля и Боба встретили меня дружным криком: «Фея прекрасная!» Он все слышал и им рассказал. Это прозвище было больнее мне, чем все прозвища, придуманные для издевки Колей: «длинноноска-большеглазка», «щекотунная баба», «Лидка-калитка – тонкая нитка».
«Фея пьет кофОя», – ехидно произнес Корней Иванович, прибегая к помощи Чехова.
Так, девочкой, я читала ему на ночь. Это была любимая моя игра. Так давал он мне дополнительные уроки литературы. А может быть, это было обучение еще чему-нибудь?
Хотя мне и неизвестны еще были тогда слова из его Дневника: «я бегал по комнате и выл часами», никто никогда в жизни не возбуждал во мне такого острого чувства жалости, как – с детства! – мой здоровый, избалованный успехом, удачливый, веселый отец.
14
Маршак говорил об одном горе-методисте, человеке унылом, занудливом, желчном, украшенном к тому же рябинками на щеках и синими очками:
– Он из принципа рябой и по убеждению подслеповатый…
Корней Иванович был по натуре весел, общителен и расположен к людям. Такова была его природа. Таким же был он «по убеждению», «из принципа». Веселье и доброжелательство он ставил высоко и культивировал старательно. В себе и в других. Любил и ценил веселых, щедрых, добрых. В его лексиконе слово «веселый» означало почти такую же высокую похвалу, как и «талантливый», а скука, скучное было равнозначно бездарности.
В своей статье «Матерям о детских журналах» он похвалил журнал «Маяк» с такой оговоркой:
«Есть тайный порок у «Маяка», и шепну вам, что это скука.
Конечно, «выпиливание и вырезывание» – это очень прекрасно, «дети, не мучьте животных!» – и того превосходнее, но ворвалось бы сюда на страницы что-нибудь удалое, лихое, бесшабашное, закружило бы, увлекло детей, – все же было бы легче дышать».
Вот оно и ворвалось, удалое, лихое, бесшабашное, но не на страницы «Маяка», а другого журнальчика: «Для детей».
До тех пор было твердо известно, что крокодил – животное грязно-буро-зеленого цвета, чье местожительство – Африка, речной ил, тина. Ну, может быть, еще и Зоологический сад: бревно бревном, в особой ванне. Но чтобы крокодил оказался пешеходом! Да еще на главной улице Петербурга, на чопорном Невском проспекте! Чтобы он курил папиросы, разговаривал по-немецки и походя глотал городовых! Неслыханно! Было от чего закружиться головам!
И вот живой
Городовой
Явился вмиг перед толпой:
Утроба Крокодила
Ему не повредила.
Только в припадке бесшабашного веселья сочиняются такие стихи.
Есть над чем подумать, разбирая первую детскую книжку Корнея Чуковского: над связью его поэмы с фольклором, английским и русским, над опорой на размеры и ритмы классической русской поэзии; можно заговорить о причудливости фабулы, о победе доброго начала над злодейским, но первое, что хочется сказать: вместе с «Крокодилом» ворвалось в жизнь миллионов детей веселье, которым был заряжен его автор.
Скуки он не терпел ни в книгах, ни в жизни. Не любил хмурых лиц, не одобрял людей, сосредотачивающихся на своей беде. В сказках у него всегда побеждает добро, а с добротой и веселье – и это не придумано, это очень для него органично. Тем более что смолоду присягнул он искусству, а искусство, он верил, побеждает всегда. (Словно тот фонарик, который своим светом спас несчастную муху из лап паука.)
– Бедный простофиля, – говорил он о критике, сделавшем своей профессией постоянное преследование в печати произведений большого поэта, – стихи все равно победят, – не в 61-м, так в 71-м, не в 71-м, так в 81-м, а он войдет в историю как гонитель поэзии. – Корней Иванович делал брезгливую гримасу: – Невкусно!
В 1963 году, в письме к поэту Петру Семынину, разбирая (с большой любовью) стихи из книги «Близость неба», он писал: «…Вы, как и всякий подлинный поэт, – проповедник, глашатай добра», а в разговорах нередко цитировал Уитмена:
В мыслях моих проходя по Вселенной, я
видел, как малое,
что зовется Добром, упорно спешит
к бессмертию.
А большое, что называется Злом, спешит
раствориться,
исчезнуть и сделаться мертвым.
– Мерзавцы, – говорил он, – прежде всего дураки. Быть добрым куда веселее, занятнее и, в конце концов, практичнее.
Он по природе, по натуре обладал отзывчивостью, а кроме того, требовал ее от себя и других. Черствость почитал уродством. Недаром в переделкинские годы он организовал подпольное общество: ОДД – «Общество Добрых Дел». Председатель – К. И. Чуковский, секретарь – Ф. А. Вигдорова.
От имени «Фрида» он изобрел слова «фридизм», «фридисты». Будем «спасать отдельных людей от спасателей человечества, – писал он одной из своих корреспонденток. – Да здравствует фридизм! Будем фридистами!»
С уважением относился он к словам и понятиям: благодарность, благотворительность, благостыня и требовал амнистии для них.
Корней Чуковский огляделся вокруг – в эпоху революций, терроров, войн – и чуть замедленным и, против обыкновения, тихим голосом проговорил:
Добрый доктор Айболит!
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица!
Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит!
Доброта входила в его нравственный и эстетический кодекс. Но с одной своеобразной поправкой. Для того чтобы помочь человеку, он отрывался от работы, отдыха, сна – и не сетовал. Но бывают ведь болезни неизлечимые, беды, которым помочь невозможно. Бывает так: все средства исчерпаны, остается одно: горевать! Вот на это занятие он не соглашался. Прекрасный товарищ в несчастье – деятельно, энергично спешивший на выручку, – с поля проигранного сражения и непоправимого горя он почти всегда норовил дезертировать. Сделав все, что мог или даже больше чем мог, он хотел одного: вернуть себе бодрость и сесть за работу. Разговоров о болезнях – что сказал один профессор, и что еще один, и какой у кого был опасный случай аппендицита – не выносил. «Болезнь, – утверждал он, – самое неинтересное в человеке. Почему это люди так любят часами рассказывать один другому, что у кого болит?» Он не любил пребывать в состоянии уныния, мрака и сопротивлялся, когда его тянули туда. Иногда попросту запрещал окружающим касаться в его присутствии какой-нибудь раны, неудачи, беды, этим требованием защищая свою работу, а работой обороняя веселье… Такая самоохрана в сочетании с деятельной отзывчивостью многих сбивала с толку, ставила в тупик. В самом деле, она граничила иногда с малодушием, а иногда даже – странно выговорить! – с жестокостью. Помню случай, когда в конце тридцатых годов, уже переехав в Москву, он отправился в Ленинград, чтобы попытаться выручить попавшего в беду человека. От волнения не спал накануне отъезда; не спал, как всегда, в поезде; потом, потерпев неудачу, с горя не спал в Ленинграде. Вернулся измученный и, проспав несколько часов у себя на квартире на улице Горького, сразу уехал на дачу. А в Москве его ждали родные того человека, ради которого совершил он свою нелегкую поездку. Рассчитывали часы и минуты, изучали расписание поездов. Он не зашел к ним, не позвонил, никого не послал; уехал на дачу и уткнулся в гранки. Там с глубоким изумлением они его обнаружили и выслушали горькие вести.
Меня, помню, поразил этот случай.
– Ты, наверное, очень устал, – сказала я. – Ну и ехал бы в Переделкино, а к ним послал бы меня.
Ответ я выслушала неожиданный.
– Нет, – сказал он. – Я не устал. Но я привык приносить людям радость-Волшебный дар! Высокое честолюбие! Счастливая привычка! А тут требовалось принести горе. Не желал. Его спасательная экспедиция оказалась напрасной, тогда он засел работать и потребовал, чтобы теперь никто, хоть некоторое время, не напоминал о случившемся.
При осознанном намерении одаривать людей и себя самого одною лишь радостью, Корней Иванович нередко приносил людям – и себе самому – жестокую боль.
Отношения его с людьми складывались далеко не идиллически.
Чаще всего повинны в этом были люди – и, пожалуй, поспешность его доброты. Бог знает что померещится ему на первый, жадный и любопытствующий взгляд в новом человеке; он поспешно осыпет его чрезмерными милостями; а потом схватится за голову: незнакомец или незнакомка оказались обыкновенного дрянью! Да еще цепкой, да еще лживой, да еще обидчивой! И, чтобы вырваться из ложных отношений, необходимо человека обидеть. Но обижать – жалко. Он уклонялся, запутывался сам, сбивал с толку других и причинял боль.
Тут была вина обоюдная.
А нередко случалось: обиды, которые он наносил окружающим, были ими незаслуженны, и повинен в них бывал он один. Отзывчивость – то есть редкостная способность откликаться на каждый призыв, способность драгоценная, – оборачивалась непостоянством.
Потому ли, что он всегда, при всем своем интересе к людям, ощущал непоправимость одиночества? Потому ли, что изначально не верил в любые другие способы глубокого общения с людьми кроме как через искусство? И всего себя подчинял труду? Потому ли, наконец, что униженность, испытанная им в юности, навсегда искривила его доверие к другим и к себе? Отучила от прямоты? Почему бы там ни было, а дружбы его отличались неровностью, взрывчатостью; другом его оставался только тот человек, кто в состоянии оказывался беззлобно переносить отливы. Отливы чего? Не то чтобы симпатии, но пристрастного, сосредоточенного внимания. Ведь пассажир, желающий познакомиться во что бы то ни стало со всеми, сколько их есть, спутниками – не по вагону, а по целому поезду, – вряд ли способен безотрывно и сосредоточенно общаться со спутниками по купе. Общительность и отзывчивость Корнея Ивановича оборачивались, случалось, для его друзей чувством горькой обиды, заброшенности. Вчера, да еще и сегодня утром смотрел он на тебя такими понимающими, такими проникновенными глазами! «а нынче все косится в сторону». Спросить бы! Но Корней Иванович отшутится или отстранится. Человек чувствовал себя несправедливо обойденным и начинал искать причину перемены, отлива; кто поглупее – в чьих-то тайных интригах и кознях, кто поумнее – в себе. Причина же чаще всего крылась в причудливом характере Корнея Ивановича. Сам он говорил и писал, что работает как многостаночник. Таким был он и в жизни, среди людей. Множественность. Многообразие, разнообразие интересов, привязанностей, умение взглянуть на каждый предмет, и на каждую мысль, и на каждого человека, и на каждый человеческим поступок с десяти, с сотни сторон одновременно составляли его жизненную силу, богатство, очарование – и его недостаток. Он словно мерцал и зыбился. Во множественности ощущений, оттенков, чувств, мыслей он, казалось, терял или не имел мужества увидеть одну сторону мысли, явления, предмета, человека: а именно решающую, главную. Он был умственно широк, независим, презирал всякое сектантство, все, что пахло однолинейно-стью, однобокостью, односторонностью, он, как никто, способен был понять – и принять! – каждого и каждое чужое суждение обо всех вместе и о каждом в отдельности – и эта широта представлялась зыбкостью, непостоянством, неустойчивостью, отсутствием прямодушия и причиняла друзьям живую боль.
Он, желавший приносить радость, – ранил.
В особенности тех или того, кто лишен был душевного бескорыстия. Того, кто хотел бы, чтобы это причудливо растущее дерево осеняло своими ветвями одних лишь близких. Не перекидывало бы свои ветви, Боже упаси, через забор, не одаряло случайных прохожих.
А на самом деле при всей раскидистости дерево росло стройно. В литературе и в жизни Корней Чуковский являл собою удивительный образчик непостоянного постоянства. Глядишь поверхностно: о ком он только не писал! В глазах рябит: «Шевченко, Уитмен, воздухо-плаванье», как в шуточной чукоккальской драме сказано – от его имени – Блоком. А глянешь поглубже: целые десятилетия отдал он изучению двух-трех любимейших писателей, разработке постоянных выбранных и полюбленных тем.
То же и в жизни. Проехать мимо нового человека не мог. И сколько их было! А на поверку десятилетиями оказался предан одним и тем же людям. Недаром перед смертью, диктуя свое завещание, твердо и гордо произнес: «Ни у кого не было таких крепких друзей, как у меня».
…Злопамятства в людях он не уважал, боролся с ним в других и в себе. Был памятлив на каждую услугу, ему оказанную; а с обидами запрещал себе возиться: неплодотворно! Выяснять отношения не терпел; разве что в письмах: от устной прямоты – уклонялся. Он словно списывал обиды, свои и чужие, со счету, сбрасывал их в небытие, счищал со стекла, через которое глядел на мир, и ждал того же от других. Как бы это объяснить поточнее? Не выкармливал в себе обид, хотя, конечно, их помнил. Помнил против воли. Старался, чтобы и другие находили для себя иное питание.
– И ты еще злишься? – говорил он мне полужалостливо, полупрезрительно, услышав, что я не хочу встречаться с кем-нибудь, кто меня обидел. – Неужели тебе нечего делать? Я бы на твоем месте давно позабыл.
Пожалуешься на чей-нибудь безобразный поступок, возмутишься, осудишь. Он махнет длинной рукой и процитирует Блока:
– «Я смотрю добрей и безнадежней…»
Увидит, что я чем-то огорчена, озабочена:
– Пошла бы на кинофестиваль… «Иль перечти Женитьбу Фигаро».
(Убрать, убрать огорчение, озабоченность – истребить любым способом!)
Расскажут ему о какой-нибудь пакости, затеваемой против него. Он вдруг распрямится во весь рост и, напуская на себя высокомерие, которого в действительности был начисто лишен, надменно ответит:
– У меня нет микроскопа, чтобы рассмотреть эту вошь!
(В чистом виде театр для себя. Укусы ощущал он очень болезненно. К высокомерию прибегал лишь как к средству внутренней самозащиты.)
Давалось это ему совсем нелегко, потому что никаким равновесием душевным, ровностью характера, спокойствием, именуемым в общежитии мудростью, он не обладал никогда. Напротив, был, вопреки тяге к веселью, неуравновешен, нервен и вспыльчив.
В одной из своих историко-литературных статей Корней Иванович называет Некрасова «гением уныния». О Корнее Ивановиче можно сказать, что в быту был он великим мастером отчаяния. Именно отчаяния – глубокого, бурного, в которое он впадал внезапно, как падают в яму. Гипербола недаром одна из примет его литературного стиля. От веселья к отчаянию – эти резкие смены можно было наблюдать постоянно. Человек, наделенный могучим здоровьем, избалованный им, он, по-видимому, именно от привычки к здоровью каждый свой насморк воспринимал как воспаление легких, каждое желудочное расстройство – как дизентерию, каждый прыщик – как злокачественную опухоль. И, не желая много распространяться о болезнях, мужественно садился писать завещание. Начиная с пятидесяти лет каждый раз, как ему не давалась страница, объявлял, что все кончено, что склероз более не даст ему написать ни строки, что он более не литератор. (А склероз не постиг его и в восемьдесят пять лет!) Он объявлял о внезапном конце своего литературного и жизненного поприща голосом, хватающим за сердце. Зато когда насморк, начавшийся вечером, оказывался к утру всего лишь насморком, – он днем, в двадцатиградусный мороз, выходил проводить очередного гостя от крыльца до ворот в распахнутом пальто и без шапки («Сам хозяин на крыльцо / Вышел величавый») и, если вы настаивали, чтобы он шапку надел, нарочно бросал ее в снег, крича, что не нуждается в опеке; а когда многотрудная страница, о которую он споткнулся, наконец удавалась, доведенная до такой степени легкости, что можно было подумать, она написана одним взмахом пеpa, – и он убеждался, что склероз еще не лишил его литературного дара и он успеет еще сделать несколько портретов для своих «Современников», заново переписать «Живой как жизнь», в сотый раз дополнить «От двух до пяти», в десятый – «Высокое искусство», окончить пожизненную работу над Чеховым и снова переделать переводы из Уитмена, – о, в какое ликование впадал он немедля, сразу позабыв о вчерашнем приступе предсмертного горя!
«Муха-Цокотуха», избегнув опасности, снова праздновала свои именины.
Переделкино. Десять часов утра. Встал он в пять. Работает. А сейчас время завтрака. Мы ждем его внизу, в столовой.
Лестница на второй этаж в Переделкине, совсем как в Куоккале.
– И, содрав гонорар неумеренный,
Восклицал мой присяжный поверенный, —
раздается на лестнице.
Перед вами стоит гражданин,
Чище снега альпийских вершин!..
Веселый! Значит, ему и спалось и работалось. А прыщик – это оказался просто прыщик.
Если он долго не спускается к завтраку, поднимешься и постучишь ему в дверь:
– Завтракать, дед!
– На палочку надет! – отзывается он.
Все хорошо. Отлично. Спал и работал.
Спускаясь по лестнице, выговаривает речитативом:
– Де-ду ско-ро три-ста лет,
А он такой же пистолет!
На другое утро окликаешь его:
– Де-ед!
– Что, баба? – мстительно отзовется он. Войдешь
– он в черном отчаянии. Склероз – надо бросать перо
– он больше не литератор. Он не хочет ни вниз спускаться, ни чтобы ему принесли завтрак наверх. У него не то рак желудка, не то дизентерия. Отчаяние.
Мастер отчаяния… Искреннего, огромного. Я видела своими глазами в Москве, как, получив оскорбительное письмо от одного литератора, он лег на пол и пролежал весь день, с утра до вечера, не соглашаясь ни встать, ни перелечь на диван, ни выйти на улицу, – он уверял нас, что его обидчик прав, он ничтожество, жалкая бездарность и по этому случаю весь остаток жизни он теперь пролежит на полу… Кончилось дело тем, что ночью, когда его никто не видел, он встал и уселся за стол: работать. Работал до утра, не разгибая спины. (Торопился нагнать упущенное. В наказанье себе, что предался отчаянию.)
Принял свое главное лекарство: исписал несколько страниц.
Скажет кто-нибудь при нем, что «работать сегодня не в настроении», он презрительно скривит губы. Никаких «настроений» не признавал. Считал это отговоркой – мещанской, недостойной профессионального литератора.
– Поработал бы часов десять кряду, вот и заработал бы себе настроение.
Работой же лечился не только от литературных нападок, а от всякого, даже самого, казалось бы, неизлечимого горя.
…В 1920 году, в холодную и голодную петроградскую зиму, родилась вторая его дочь – четвертый ребенок в семье. Он привязался к Мурочке с особой нежностью: и потому, что слабенькая – еле выкормленная, и потому, что она получила в наследство несомненный литературный дар. В одиннадцать лет в Крыму, на руках у матери и у него, Мурочка после долгих страданий скончалась от туберкулеза. В пору ее умирания из Крыма приходили отчаянные, рыдающие письма. Помню наизусть начало одного из них, к сожалению, утраченного:
«Глядя на Мурочку, я завидую тем родителям, чьи дети падают с шестого этажа или попадают на улице под трамвай…»
У Мурочки туберкулез сначала отнял ноги, потом глаз, потом перекинулся на почки, потом на легкие и только после этого убил.
Корней Иванович делал все, чтобы спасти, отстоять больную, и в то же время ни на один день не прекращал труда: писал повесть о санатории, в котором несколько месяцев лечили Мурочку. Называлась эта повесть весело: «Солнечная».
Так же и в 1942-м, в Ташкенте, в эвакуации, узнав о гибели Бобы, ни на один день не перестал работать: читал лекции, писал об эвакуированных детях.
Так же и в 1965 году, когда внезапно, во сне, скончался его старший сын, Николай Корнеевич. Прилег после обеда вздремнуть и не встал. За три дня до того чувствовал себя вполне здоровым, ездил навещать отца в санаторий. И вот его больше нет, и эту черную весть родные принесли отцу.
Горестная запись в Дневнике кончается так: «…пришла Облонская, мы редактировали Уолта Уитмена, и это меня спасло. Весь день мы работали над «Листьями травы» – она умница, работяга, и я держу себя в тисках».
Работа задвигала горе, заслоняла его собой, учила «держать себя в тисках». И более того: поднимала сопротивляемость, требуя душевного подъема.
«Я не сомневаюсь, что каждая Ваша статья дается Вам с кровавыми мучениями и что в то же [время] испытывать эти мучения Вам весело. Эти мучения и это веселье чувствуется в каждой Вашей строке».
С такими словами обратился Корней Иванович к молодому критику В. Непомнящему, чьи статьи сильно полюбились ему.
В этих словах – самохарактеристика.
Я никогда не видывала литератора, которому писание давалось бы трудней, чем ему: в молодые годы, равно как и в последние. При тонком и сложном мышлении, к простоте, к ясности, наглядности и силе выражения шел он «кровавыми мучениями», бессонницами, тяжким трудом. Тяжким – но веселым.
«Здесь же меня осеняет такое «счастье работы», – записал он у себя в Дневнике в 1909 году, при переезде на дачу с отдельной вышкой, – какого я не знал уже года три. Я все переделываю Гаршина – свою о нем статью – и с радостью жду завтрашнего дня, чтобы снова приняться за работу. Сейчас лягу спать – и на ночь буду читать «Идиота»… Есть ли кто счастливее меня…»
Не только радость, а градусом выше: счастье. Это в 1909-м. А в 1969-м, через шестьдесят лет, весною его последнего года, я вышла однажды утром на балкон, где он сидел, окутанный пледом, и писал с самого раннего утра, – вышла позвать его завтракать.
– Посмотри, – сказала я, не удержавшись, – какой сегодня день, какое небо, как развернулись листья!
Он встал, откинув плед, поглядел на небо, на березу, где в скворешнике жили не скворцы, а белка с бельчатами, и вдруг настойчиво, торжественно, празднично, без всякой примеси иронии проговорил:
– Надо отблагодарить этот день трудом!
И распрямился, потирая спину, – словно только что пилил дрова.
Но это вечное стремление к веселью духа, к счастью работы не отстраняло его от человеческих бед. (Если они были поправимы.) Как в нем все это сочеталось – не знаю. Но он и в веселье и в горе был не подслеповат, а зорок на чужую беду. (Хотя всем бедам и радостям в мире предпочитал одно счастье – один наркоз – труд.)
Переделкино. Опять мы вдвоем, как бывало в Куоккале, идем по дороге – не по куоккальской ровной Большой Дороге, а по переделкинскому, забирающему вверх шоссе. Траурный день: день смерти моей матери, скончавшейся в 1955 году. Это, пожалуй, самая тяжкая утрата в его жизни. Февраль. Вьюга, как всегда в этот день. Метет. «Вьюга нам слипает очи». В глубоком снегу, пробираясь между оград, надо подняться к той ограде, где рядом с одной могилой оставлено место для второй.
Корней Иванович стоит на том месте, где будет опущен в землю.
Я должна глядеть на него, живого и бодрого, как на будущую его тень.
Иногда стоит он молча, иногда начинает подшучивать. Над своими похоронами. Над своими будущими соседями. Иногда подробно объясняет мне, как я должна поступать, когда здесь его опустят в могилу. И притоптывает валенками: здесь.
(Смерть не страшила его; когда через несколько лет она в упор подошла к его постели и он понял, что на этот раз – смерть, он встретил ее с достоинством. Гораздо спокойнее, чем встречал, бывало, насморк.)
С кладбища мне хочется поскорее бежать, бежать от здешнего своего двойного зрения: вот он, живой, стоит на благополучном снегу, я вижу и слышу его, а в то же время вижу яму у него под ногами, слушаю чужие речи, вижу опускаемый гроб.
Я тяну его вниз. В последние годы он так часто простуживается! А в валенки забрался снег, воротник мокрый и на плечах снег. Сегодня он полон горьких воспоминаний, печальных предчувствий. Смотрит, не отрываясь, на белый бугор.
Наконец мне удается его увести. Мы спускаемся с горы, одной рукой я держусь за его по-прежнему горячую руку, другой – за оледенелые прутья оград. Он идет молчаливый, понурый, постаревший, с сероватым лицом, с синеватыми губами… Скорее бы домой, в тепло, чтобы он переобулся, надел шерстяные носки, выпил чаю с малиной, принял валокордин.
Мы спустились с горы. Тут мостик через Сетунь. До дому пятнадцать минут.
Мы идем по одной стороне моста, а по другую бредет человек. Молодой, но согнут в три погибели. Плетется, тащится, опустив голову в мост.
И вдруг, не разгибаясь, не поворачивая к нам головы, говорит все так же лицом в мост:
– Хоть бы вы мне помогли, Корней Иваныч.
Я сосредоточена на мысли, что срочная помощь требуется сейчас Корнею Ивановичу. Что он слаб. Но я ошибаюсь. Легко и быстро пересекает он мост. Большой, бодрый, сильный, как когда-то в бурю на Финском заливе.
– А что с вами? Что случилось?
Нам по дороге. Мы идем вместе, втроем. Корней Иванович приноравливает свой шаг к медленному, трудному шагу прохожего.
Это – рабочий, слесарь. Болит спина, но «врачи ничего не признают»: «пичкают витаминами». Обещают положить в больницу на исследование, а места все нет и нет.
Корней Иванович поднимается с ним вместе по лестнице общежития для рабочих. Записывает имя, фамилию, адрес… И, вернувшись домой, не переобувшись, не обедая, начинает с помощью Клары Израилевны дозваниваться в ближайшую – солнцевскую – больницу.
Мест нет. Но обещают в ближайшие дни. Через несколько дней звонок из больницы: место есть, но транспорта нет.
Корней Иванович предлагает свою машину.
Через несколько дней известие: у больного не радикулит, как предполагали в поликлинике, а рак. Рак позвоночника. Спасти его нельзя. Можно только уменьшить страдания. Между тем хотя в больнице имеются болеутоляющие, но не такой силы, как требуется.
Новая серия писем, срочно отсылаемых в город с шофером, новая серия звонков. Сильнейшее болеутоляющее добыто.
Такова была его ежедневность.
(Тут необходимо сделать одну оговорку: насчет телефона. Корней Иванович был горячим телефононена-вистником. Им владела во все времена его жизни настоящая телефонофобия. Представить себе его спокойно беседующим с кем-нибудь по телефону – как любил он беседовать с людьми бок о бок – немыслимо. Он до такой степени не выносил этот способ общения, что нередко ставил в тупик тех, кто звонил ему: возьмет трубку, скажет несколько слов и, не договорив и не дослушав, вдруг положит ее на рычаг, без всякой заключительной фразы, не попрощавшись, оставив в своем собеседнике полную уверенность, будто внезапно оборвалась телефонная связь. Средства борьбы с телефоном применял он разнообразные. В
Ленинграде, например, зайдя однажды за книгой в его кабинет, я услыхала, что в письменном столе что-то булькает. Он сидит и пишет, а в ящике булькает. Прислушалась: несомненно, человеческий голос. Оказывается, Корней Иванович снял трубку, поздоровался, но, находясь на разгоне работы, говорить не мог: он засунул трубку в ящик стола, чтобы голоса не было слышно, и продолжал писать. Изредка он вынимал трубку оттуда, произносил обольстительным голосом:
– Чудесно! Я с вами совершенно согласен! – и снова упрятывал чужой голос в ящик, сердясь на шнур, который мешал ему задвинуть ящик поглубже.
Вскоре мы перенесли телефон в другую комнату – от него вдалеке! – и стали подходить сами, стараясь оберечь его от звонков. Но вот седьмой раз звонит дама, не называя себя и настойчиво требуя Корнея Ивановича. Я зову его. Я устала врать, будто его нету дома.
– Неужели ты ничего спасительного неспособна изобрести? – с раздражением отвечает он мне. И вдруг вдохновенно, как счастливую находку, как строчку стиха, великолепным звонким голосом, слышным во всех углах многокомнатной ленинградской квартиры:
– Скажи-и ей, что я уже у-умер и по-хо-ронен на Во-олко-вом кладбище!)
Переделкино заставило его до некоторой степени примириться с телефоном. Все дела его, все издательства, все хлопоты были в Москве. Без телефона не обойдешься. Особенно в самые последние годы, когда ездить в Москву он перестал совсем. Разумеется, Клара Израилевна и все мы, дежурившие при нем поочередно, сортировали звонки и старались не обременять его телефоном. И все-таки дела, собственные и чужие, вынуждали Корнея Ивановича нередко пользоваться ненавистным ему аппаратом. Дождавшись, когда Клара Израилевна или Марина Николаевна раздобудут все необходимые номера, фамилии, названия, имена, отчества, пока они соединят его с городом, он сам брался за трубку.
– Говорит писатель Чуковский… 2-е хирургическое? Старшая сестра? Будьте милостивы, попросите к телефону заведующую отделением. Нина Михайловна? Да, Чуковский… Вы видели Маршака? Очень рад за вас. Вот и на Чуковского не худо бы поглядеть… «Спешите видеть»… (Пауза. Он слушает с нетерпением, но положить трубку нельзя.) Ваш Мишенька знает наизусть всего «Мойдодыра»? У-ди-ви-тельно! У вас подрастает воистину гениальный ребенок… Вот и приехали бы с ним ко мне в Переделкино. Пожалуйте без церемоний… Я Мишеньке надпишу «Муху-Цокоту-ху», а Мишенькиной маме книжку о Чехове… Да, можете представить себе, пишу не только о букашках-таракашках… Нина Михайловна, будьте великодушны, заставьте за себя вечно Бога молить, у вас там в коридоре лежит больная, мой старинный друг, Любовь Григорьевна Барановская. Врач, всю жизнь отдала медицине. Сейчас ей за восемьдесят. Несчастный случай, на улице, перелом шейки бедра. Будьте милостивы, осмотрите ее сами, лично, соберите консилиум, и главное, дорогой друг, я по голосу слышу, что вы – человек сердечный, участливый – если можно, из коридора в палату… Мишеньке кланяюсь!
И он действительно кланялся, прижимая руку к груди. И в изнеможении клал трубку.
Или так:
– Иван Петрович? Говорит писатель Чуковский. У вас там произошло недоразумение с одним поступающим, Гришей Бескиным… Не Чулковский – Чуковский. Да, да, тот самый писатель. (Пауза. Корней Иванович нетерпеливо слушает. Собеседник, как это явствует из дальнейшего разговора, сообщает ему, что жена его тоже пишет стихи для детей.) Какое счастливое совпадение! Вот и приехали бы вместе с женой ко мне в Переделкино, почитали бы… В любое воскресенье. Зиночка знает наизусть всю «Муху-Цокотуху»? Поразительно! Буду рад увидеть такое фе-но-ме-нальное дитя! Я подарю ей «Тараканище», а вашей жене переводы из Уитмена. Да, представьте себе, пишу не только про бегемотов. Иван Петрович, Гришу Бескина я знаю чуть не с младенческих лет. Он прирожденный историк. Недавно был у меня и так талантливо рассказывал о скифах. Пытливый, начитанный юноша. Создан для изучения истории… И вот как раз по истории – тройка. Мать – одна сплошная слеза. Тут недоразумение какое-го. Будьте моим благодетелем, Иван Петрович, вникните в это дело лично, я много слышал о вашей проницательности и доброте…
Так вмешивался он в чужие судьбы, пытаясь приносить людям радость. Заступнические письма и звонки в издательства, в Моссовет, в Прокуратуру, в Союз писателей – в самые страшные годы, включая тридцать седьмой, – могли бы составить томы. Радостью, приносимой другим, он пытался поддерживать радость в себе. Чувство, необходимое ему как воздух. Веселье. Из самого черного мрака выводила его эта потребность.
…Снова траурный день: февраль. Снова вьюга, как всегда в этот день. Снова мы на шоссе, потом на могиле: на двух могилах – настоящей и будущей. Он в отчаянии. Не написал того-то, не переделал того-то. Когда мы спускаемся по тропинке с горы, начинается самый невыносимый для меня разговор: завещательный. Что я должна делать, когда его не станет.
– Да, да, – бормочу я скороговоркой. – Я непременно… Ты не беспокойся, мы сделаем… Давай поговорим об этом дома. Я не забуду. Не беспокойся. Даю тебе слово.
Я понимаю, что надо срочно переключить его мысли на что-то другое. Отвлекается-то ведь он легко! И когда мы выходим на мостик, хватаюсь за первое попавшееся воспоминание.
– А помнишь, – говорю я необдуманно, – ровно год назад, в этот же самый день, на этом самом мостике, мы встретили человека…
– Да, – сухо отвечает он. – Человек просил у меня помощи, а я не помог. Он умер.
– Но ты же достал для него средство против боли. Средства против рака нет!
А нет – зачем же я заговорила об этом?
Корней Иванович идет возле меня на неверных стариковских ногах, с трудом одолевая ветер. Хмурый, слабый! Не удалось мне отвлечь его от черных мыслей. Напротив. Я глубже окунула его во мрак.
Но – ненадолго. Когда мы приходим домой, передняя полна шарфов и шапок. В столовой – дети. Приехали вместе с учительницей из одной московской школы школьники 7-го класса. Человек двадцать пять. Они глядят на него с любопытством, застенчивостью, ожиданием.
«Как это некстати, – думаю я, – ему бы лечь поскорее».
Но он воспринимает вторжение детей совершенно иначе. Целительный источник радости перед ним.
В нем мгновенно пробуждается еще одно присущее ему дарование – актерское.
Он резво кидает пальто и шапку на кучу шарфов, шапок, пальто и под ожидающими взглядами зрителей садится в столовой на диван.
– Кла-арка! – зычным голосом кричит он и трижды хлопает в ладоши.
Наверху смолкает стук машинки. Дети глядят на него во все глаза.
– Кто из вас знает, когда рухнуло крепостное право? В 1861 году! Верно! Сто лет тому назад! А вот у меня в доме оно до сих пор продолжается. Сейчас я вам это докажу! «Эй, Иван!» Кларка, сюда! Стащить со старика валенки!
Клара Израилевна, никогда не знающая за минуту, какая воспоследует затея, но всегда готовая принять участие в очередном представлении, улыбаясь, опускается перед ним на ковер. И помогает стаскивать валенки. Он делает вид, что ему больно, гримасничает и слегка толкает ее валенком в плечо.
Она смеется. Дети тоже.
Игра началась.
– Эй, Иван, туфли! – кричит Корней Иванович.
Клара Израилевна мигом приносит сверху домашние туфли.
– То-то же! – грозит он ей, помахивая пальцем, как грозил когда-то мне. И притоптывает туфлями по ковру.
«Виноват!» – порядком струся,
Говорит Иван.
«Жарь к обеду с кашей гуся,
Щи вари, болван!»
– Убедились? Свистать всех наверх!
Он поднимется с детьми наверх, к себе в кабинет, почитает им Некрасова, а может быть, если почувствует отзвук, и Блока.
Он станет долго тыльными сторонами своих длинных кистей обтирать губы, словно готовясь к поцелую; потом сделает вид, будто чмокнул учительницу, и воскликнет, отстранясь: «Он сорвал поцелуй с ее розовых губок!», или, обняв за плечи: «Дорогая, наконец-то мы одни!», или: «Мы будем с тобой молчаливы!», или:
Старика разорит на подарки,
В сердце юноши кинет любовь.
Он непременно покажет детям паровоз, который умеет сам объезжать стулья, и льва, который умеет говорить, и Шалтая-Болтая, сидящего, свесив ноги, не на стене, а на книгах, на полке над тахтою. Он выищет, высмотрит среди детей наиболее оживленных, смышленых и расспросит о них учительницу – знакомясь по ее ответам о них с ней самой.
Он и в этот траурный день вернет себе радость, подарив радость другим.
15
Я знаю в жизни Корнея Ивановича одну только боль, которую он, не пуская наружу, не забывал никогда, ничем не заслонял и не вытеснял, одну обиду, которой он разрешил себе питаться.
Веселость, воля к забвению бед и обид в этом случае оказались бессильными. Счастливая работа – тоже.
Это было недоброе чувство к отцу – непрощаемая судьба матери, сестры и собственное обокраденное детство.
«Я родился в Петербурге в 1882 году, после чего мой отец, петербургский студент, покинул мою мать, крестьянку Полтавской губернии; и она с двумя детьми переехала на житье в Одессу», – так пишет Корней Чуковский в кратком автобиографическом очерке, открывающем собрание его сочинений.
О дедушке, папином папе, в нашей семье не говорилось никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в какие времена, ни по какому поводу. В устном разговоре Корней Иванович прочно молчал о нем и так и промолчал всю свою долгую жизнь, а в печати заговорил дважды: в приведенном очерке «О себе» и в повести «Серебряный герб». В обоих случаях для того, чтобы сказать «покинул» и изобразить участь покинутых.
Я пишу не биографию Корнея Ивановича. Я пишу свое детство, а оно было создано им. Он и мое детство – сколько бы ни прибавлялось годов ему и соответственно мне – для меня нераздельны. Глядя на его руки во гробе, я видела эти руки на веслах в Куоккале. А он, каким он был и каким создавал наше детство, сам был создан своею покинутостью. Вот почему я не могу о ней не написать. Тут одна из основ его отношения к детям, своим и чужим, источник его ненасытного желания обогащать детей, одаривать их, чтобы они, чего доброго, не оказались «бедные, бедные». Отсюда, из собственной детской покинутости, его постоянное вглядывание, вслушивание в детскую жизнь; настойчивая просьба к взрослым: беречь детей, уважать детей; тут происхождение его книг, обращенных к детям, и «От двух до пяти» – книги о детях, обращенной к взрослым. Отсюда же и библиотека: выстроенный им в Переделкине домик, полный игрушек и книг, и подаренный окрестным ребятишкам. Отсюда его постоянная забота о нас: чтобы мы росли внутри культуры, а не в разлуке с ней. Английский, стихи, лыжи, книги.
Все, чего мальчиком лишен был он сам. Все, чем он одаривал нас, своих детей, когда сам стал отцом.
Ожог, полученный им в детстве, ныл, не заживая никогда.
О силе ожога свидетельствует запись у него в Дневнике, сделанная в 1925 году, когда было ему уже без малого сорок три и когда из Николая Васильевича Корнейчукова он уже и документально был превращен в Корнея Ивановича Чуковского.
Однажды, в пору неожиданного и вынужденного досуга, во время болезни он вздумал перебирать старые бумаги и, перечитывая их, с отвращением вспоминал отрочество и юность.
Он был хуже, чем обокраден, – оплеван.
Только один человек в мире, да и то никогда не существовавший, герой романа «Подросток» – мог быть автором этой страницы.
Вот она:
«Особенно мучительно читать те письма, которые относятся к одесскому периоду до моей поездки в Лондон. Я порвал все эти письма – уничтожил бы с радостью и самое время. Страшна была моя неприкаянность ни к чему, безместность – у меня даже имени не было… Я как незаконнорожденный… был самым нецельным, непростым человеком на земле. Главное: я мучительно стыдился в те годы сказать, что я «незаконный»… Признать себя незаконным – значило опозорить раньше всего свою мать. Мне казалось, что… я единственный – незаконный, что все остальные на свете – законные, что все у меня за спиной перешептываются и что, когда я показываю кому-нибудь (дворнику, швейцару) свои документы, все внутренне начинают плевать на меня. Да так оно и было в самом деле. Помню… пытки того времени:
– Какое же ваше звание?
– Я крестьянин.
– Ваши документы?
А в документах страшные слова: сын крестьянки, девицы такой-то. Я этих документов до того боялся, что сам никогда их не читал. Страшно было увидеть глазами эти слова. Помню, каким позорным клеймом, издевательством показался мне аттестат Маруси-сестры, лучшей ученицы нашей Епархиальной школы; в этом аттестате написано: «Дочь крестьянки Мария (без отчества) Корнейчукова – оказала отличные успехи». Я и сейчас помню, что это… пронзило меня стыдом. «Мы – не как все люди, мы хуже, мы самые низкие", – и когда дети говорили о своих отцах, дедах, бабках, я только краснел, мялся, лгал, путал. У меня ведь никогда не было такой роскоши, как отец или хотя бы дед. Эта тогдашняя ложь, эта путаница – и есть источник всех моих фалыпей и лжей дальнейшего периода. Теперь, когда мне попадает любое мое письмо к кому бы то ни было,
– я вижу: это письмо незаконнорожденного… Особенно мучительно было мне в 16–17 лет… Помню, как клоунски я просил всех даже при первом знакомстве – уже усатый – «зовите меня просто Колей», «а я Коля» и т. д. Это казалось шутовством, но это была боль».
Боль была и осталась – во взрослом человеке, в пожилом, в старике, – хотя и смягченная новым именем, которое он создал себе, выбрал себе и которое после революции было закреплено документами.
В куоккальскую же пору, когда по документам он был еще сыном «девицы Екатерины Осиповны Корнейчуковой», боль жгла неутолимо; любовь и жалость к матери и глубокое почитание матери, усвоенное с детства, заставляли испытывать вражду к отцу.
С этой враждою он не умел бороться.
Помню, однажды, в Куоккале, когда мне было, вероятно, лет шесть, а Коле девять, наша мама, Мария Борисовна, внезапно позвала нас к себе в спальню, плотно закрыла дверь и, как нам представлялось, ни с того ни с сего сказала:
– Запомните, дети, спрашивать папу о его папе, вашем дедушке, нельзя. Никогда не спрашивайте ничего. Запомнили? Ступайте.
Признаться, спрашивать мы и не собирались: до этой минуты нам не приходило на ум, что родных у нас – не полный комплект. Мамин папа, один наш дедушка, мы знали, умер, когда родился Боба, – но ни я, ни Коля до этого все равно его никогда не видали. Мамина мама, бабушка, была жива, но видели мы только ее фотографию и письма. Мелькали, приезжая иногда в Куоккалу, тетя Маруся, папина сестра, и тетя Зиночка – мамина. Была еще тетя Наташа, тоже мамина сестра. Из близких родных знали мы хорошо и любили одну только бабушку, папину маму, Екатерину Осиповну. Она приезжала каждый год; гостила подолгу, величавая, красивая, статная женщина с умелыми руками; пекла вкусные пироги, изготовляла коржики и маковники на меду, а какие пекла куличи! (Куличи бабушка посылала даже в Лондон, рассказывали нам, когда наш папа женился и вместе с мамой уехал туда корреспондентом одесской газеты.) Если бабушка приезжала на Пасху, то синие, зеленые, красные, желтые яйца – «крашенки» – появлялись у нас на столе, высились на блюде веселой горкой, сразу превращая наш будничный стол в праздничный.
Бабушка Екатерина Осиповна была набожна. У нас дома икон не водилось, в церковь нас не посылали, но, чтобы не обидеть бабушку, накануне ее приезда вешали в детской, где она поселялась вместе со мною и с Бобой, любимую ее икону Николая Чудотворца и зажигали лампадку.
Веселыми ногами бежали мы встречать ее на вокзал. Игрушек она не привозила нам, но зато вдоволь вишневого варенья без косточек. Корней Иванович с трудом выносил из вагона тяжелую плетеную корзину и подзывал извозчика.
Они были похожи друг на друга – папа и бабушка. Оба широко-чернобровые, оба со светлыми зелеными глазами, только бабушка хоть и поменьше ростом, а гораздо красивее.
Папе она говорила, когда он, случалось, выходил из кабинета взлохмаченный:
– Убери волосы с лоба! – и властной рукой убирала ему прядь со лба.
Он – выше ее ростом – покорно наклонял голову, будто и впрямь на минуту становился маленьким.
Не слушая мамо-папиных воплей, бабушка, чуть приехав, сейчас же бралась за работу: шила мне фартучки, штопала папе носки, а нам чулки. Без работы не могла посидеть и минуты. По-особенному крахмалила занавески и скатерти.
…Не знаю, как Коля, а я, шестилетняя, не очень-то была сильна в понимании, сколько у каждого человека должно быть бабушек и дедушек. После маминых слов я впервые задумалась: в самом деле, где же наш дедушка, папин папа? И почему это о нем нельзя спрашивать?
– Этот дедушка, наверное, умер, – сказала я Коле после маминого запрета.
– Чепуха. Реникса. Вот ведь мамин папа умер, а она о нем рассказывает. На комоде стоит карточка. Тетя Зина тоже рассказывает. А про этого почему-то нельзя.
– Может быть, он из тюрьмы? – спросила я. – Прячется. Боится. Когда из тюрьмы – они тоже не велят говорить.
Но не велят так не велят. Дедушка, в числе других родных, которых мы не видели, нас не особенно занимал, и мы мамино требование исполнили без труда.
Однако миновало года два, и мама с такой же внезапностью вдруг объявила нам:
– Коля переедет из классной вниз, в столовую, а классную надо приготовить для гостя. Завтра приезжает папин папа, ваш дедушка, и поживет у нас недели две.
– А разговаривать с ним можно? – спросила я.
На следующее утро к калитке подкатила таратайка нашего соседа, извозчика Колляри, заказанная с вечера Корнеем Ивановичем, и он отправился на станцию встречать дедушку.
Отправился один. Нас не взял.
Мама и няня Тоня хлопотали на кухне. Мы же предавались всем трем запретнейшим грехам сразу: ничегонеделанью, отлыниванью, битью баклуш.
Мы ждали.
И вот наконец у калитки: Колляри, папа, дедушка. Папа несет дедушкин чемодан. Дедушку я не рассматриваю; вижу только, что с бородой. Я впиваюсь в его руки, перегруженные цветами и пакетами. Дедушка всем привез подарки: маме – цветы, Коле – нарядную книгу, мне – куклу, а Бобе – барабан.
Стол накрыт. Из кухни пахнет пирожками. Но к столу не садятся: папа увел дедушку наверх, в кабинет. Я ушла в малину, за ледник – обдумывать: что бы такое сделать с этой куклой, куда бы ее деть и как назвать? Куклы (все подарки папо-маминых знакомых!) я терпеть не могла, играть в них не умела – я росла с мальчишками.
(До переезда в Петроград у меня не было ни одной подруги. Корней Иванович рассказывал мне, что лет до трех я говорила про себя, как Коля, в мужском роде: я сам, я съел. С куклами я обыкновенно обращалась так: из добросовестности рассаживала утром на стулья, объявляла: «мама уехала в город по делам» – и более к ним в течение дня не притрагивалась.
Имя для этой я, впрочем, придумала быстро: Флоренса, Фло.)
И вдруг дверь веранды звонко отворилась. Из нее выбежал Корней Иванович с дедушкиным чемоданом в руках. И побежал к калитке. За ним еле поспевал дедушка (тут я разглядела его: высокий, худощавый, прямой, с квадратной бородкой). Корней Иванович выбежал за калитку и широко растворил ее перед гостем. Подал ему чемодан и ушел. И затворил за собою калитку.
– Почему никто не обедает? – крикнул он нам, подойдя к дому.
За обедом про дедушку не было сказано ни единого слова. После обеда тоже. За всю последующую жизнь тоже. Как я понимаю теперь, разговор у них наверху, в кабинете, зашел о Екатерине Осиповне. О детях – Марусе и Коле, у которых никогда не было «такой роскоши, как отец», о мальчике, который одержим был сознанием, что он, и его мать, и сестра «не как все люди, мы хуже, мы самые низкие».
Когда мне исполнилось семнадцать лет, родители отпустили меня к бабушке в Одессу. Впервые ехала я одна поездом дальнего следования. Вот и бабушкина квартира: крошечная, сверкающая чистотой. Вся в цветах – на подоконниках, на полу, – а стены в фотографиях Корнея Ивановича. (У нас дома культивировались главным образом карикатуры на него, а из портретов висел всегда один: фотография репинского, 1910 года.) Бабушка, видно, карикатур не любила, а фотографии сына, даже самые мутные, газетные, вырезывала и вешала на стену. Вот и плюшевый семейный альбом: маленькие Коля и Маруся вдвоем, в башмачках с пуговками; Коля и Маруся вместе с бабушкой – ах, какая она красивая! а вот Коля отдельно: гимназист, в фуражке, из которой еще не выломан герб, всё честь честью: шинель, ранец. Это, значит, еще до исключения.
– Я еще тогда знала, что мой Коленька умный, – говорит бабушка со вздохом, – но не могла объяснить им.
Она шесть часов просидела в приемной у директора. Он принял ее – но что можно объяснить человеку, исполняющему распоряжение начальства!
Я поднимаю глаза от альбома. Над чащей фикусов большая, увеличенная фотография в тяжелой раме. Я узнаю – тот самый худощавый, стройный человек, с аккуратно подстриженной бородкой. Тот, о котором нельзя спрашивать.
– Твой папа его не любит, – говорит бабушка, подметив мой взгляд. – За меня. Но твой папа не прав: он очень, очень хороший человек.
Был ли он в самом деле хорош? Бабушка всю жизнь любила его и ни за кого не вышла замуж, хотя к ней и сватались. Был ли он плох? Я не знаю и не мне судить.
Надеюсь, права была Екатерина Осиповна. Но для Корнея Ивановича детская его покинутость была единственная личная обида, которую он не мог победить ни трудом, ни весельем.
Вот разве чем: на всю жизнь повернуться лицом к детям.
16
Любил ли Корней Иванович детей?
Праздный вопрос. После всего рассказанного выше – в особенности.
Глупый вопрос. Ясно – любил. Кто же не любит милых крошек?
«Дети – цветы жизни», «дети – наше будущее». А уж Чуковский! «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр», «От двух до пяти». Молодой отец, сильными руками подкидывающий к потолку сына… А потом – добрый дедушка Корней.
Между тем, хотя детей он в самом деле любил и одарял их и светил им, ответ не так прост, как кажется с первого взгляда: любил он их очень по-своему; во всяком случае, тех взрослых, которые шумно восхищаются детьми, он не терпел: мам, пап, дядь, бурно ласкающих своих малюток, взасос их целующих, дающих им нежные прозвища, обсасывающих с ног до головы, чмокающих, чавкающих, осыпающих деток подарками, уверенных, что их дети, не в пример другим, и умны, и талантливы, и прелестны; терпеть не мог кудряшки и кружевца, белые чулки; не выносил дни рождения с обязательными подарками, тортами, родственниками; я не помню, чтобы он когда-нибудь при мне поцеловал ребенка, никакой его ласки в детстве не помню, ни себе, ни другим, разве что руку положит на плечо или на голову, или весело погрозит длинным пальцем, или займется «пополам-перепиливанием»; не помню, чтобы он, так щедро раздаривающий себя детям, своим и чужим (после смерти Мурочки он стал кроме посетителя школ и детских садов еще и постоянным посетителем детских туберкулезных санаториев и больниц – и не было для детей более счастливого подарка, чем его появление, словно разукрашенную елку вносили в палату!), так вот: не помню, чтобы он, сам бывший для нас любимой игрушкой, подарил кому-нибудь то, что все дарят детям в знак своей любви: коробку шоколада, куклу или солдатиков. Дарил он тетрадь, блокнот, перочинный ножичек или, как венец творения, красно-синий карандаш; словом, всякую писчебумажную утварь, которую обожал, а иногда – быстро нарисованные смешные картинки. (Впрочем, из Лондона в 1916 году привез нам две художественно исполненные куклы: шотландца в национальном наряде и «холлиуога».) А вообще-то уверял, что большое количество игрушек – вредно для детей, что дарить надо пореже, иначе игрушка лишается праздничности; что взрослые дарят детям игрушки по большей части из тщеславия. И потому, что это легко. Зашел, купил, подарил. Никакой мысли о ребенке, в сущности, тут не требуется. Были бы деньги. Любил ли он детей?
Детское в нем самом не умирало никогда.
Читая одну английскую книгу, где, между прочим, утверждалось: бывают случаи, когда черты детства сохраняются и во взрослом человеке, он написал на полях: «это я».
Ему в самом деле было весело скакать на одной ноге или строить из песка крепости. Тяга к исследованию не иссякала тоже. Он испытывал к детям не только нежность, но и любопытство: чувство ученого, экспериментатора, педагога. Общение с детьми было его всегдашней потребностью, вроде еды, питья, книги. Со своими? Да, и со своими. Но своих ему было мало, своих он знал наизусть, а его всегда влекла новизна; для вглядывания, вслушивания, для общей игры он нуждался все в новых и новых представителях детства. Он сам сказал о себе, что «пошел в дети», как другие «уходили в народ». Конечно, его занимал каждый ребенок в отдельности, но больше он любил общаться со множеством – со стайками, ватагами, командами, компаниями, палатами в больнице, классами в школе. Вглядывался, вслушивался в детей на уроках, на ходу, в труде, в игре и, главное, был их соучастником. Они швыряли камни – кто дальше? И он вместе с ними. Они по деревьям – кто выше? И он! Мы по одному рельсу – кто дальше пройдет, ни разу не соскользнув на насыпь? – и он вместе с нами. Он разгребает снег – а ну-ка, Лида, Коля, Павка, давайте и вы!
А нас у него было в Куоккале трое своих да пятеро чужих, русских и финнов.
Пятеро? Нет, завтра еще и еще.
В Переделкине дети из трех деревень, да еще полные автобусы из Москвы, да еще дети, спрыгивающие со всех заборов, выбегающие изо всех калиток во время его медленной прогулки по улице. Длинными руками он прижимал их к себе, обнимая сразу троих, а помельче и пятерых, и они утыкались носами в его шубу. Дети сторожей, шоферов, писателей, истопников.
– Здорово, Никита! Ну, что, сдал свою математику?
– Ниночка? Покажи какую книгу ты сегодня взяла. Возьми в следующий раз Андерсена.
Как и чем он был для них – об этом пишутся статьи и исследования. А мне хочется понять, чем они были для него, какую роль играли в его жизни?
Предоставим для ответа слово ему самому.
Вот несколько цитат из Дневника и писем.
«С тех пор как я познакомился с этими детьми… для меня как-то затуманились все взрослые. Странно, что отдыхать я могу только в среде детей».
«У меня есть особый способ лечиться от тоски и тревоги: созвать к себе детей и провести с ними часов пять, шесть, семь».
«Был у меня Ал[ексей] Ив[анович] Пантелеев, и мы пошли с ним на Неясную поляну. За нами увязались веселые дети: Леночка Тренева, Варя Арбузова, Леня Пастернак, и еще какие-то – шестилетние, пятилетние, восьмилетние веселой гирляндой – тут драка не драка, игра не игра. Барахтаются, визжат, цепляются – в ка-ком-то широком ритме, который всегда дается детям осенью, в солнечный день, – подарили мне подсолнухов, оборвали для меня всю рябину – и мне вдруг после страшно тяжелой похоронной тоски стало так весело, так по-детски безбрежно и размашисто весело, что, должно быть, А[лексей] И[ванович] с изумлением смотрел на этот припадок стариковской резвости».
«Я прошел в изолятор – к больным детям… Я посидел с больными детьми больше часа, тихо рассказывал им сказки – и пошлость как-то отошла от меня… Вчера еще до дождя я ходил бриться в «голярню» (деревенскую). Очередь. Пришлось долго ждать. Я ждал в саду – где несколько дубов. Три девочки – Нина, Лида и еще одна играли в мяч. Я стал играть с ними, показал им все игры, какие знал, и пропустил очередь в голярню. Старческий инфантилизм, но эти два часа я вспоминаю, как самые счастливые в Киеве».
«Было это, кажется, 5 октября. Погода прелестная, сухая. Ко мне в гости приехала 589-я школа, 5-й класс и 2-й класс. У меня болела голова, я лежал в тоске – и вдруг столько чудесных, веселых неугомонных детей. Я провел с ними 4 часа и выздоровел. Даже усталости не чувствовал ни малейшей. Они собирали ветки для костра, бегали наперегонки, наполнили весь наш лес гомоном, смехом, перекличками – и, мне кажется, я никогда ни в одну женщину не был так влюблен, как в этих ясноглазых друзей. Во всех сразу. Насколько они лучше наших переделкинских (мещанских) детей. В библиотеке я много читал им своего – они внимательнейше слушали. Потом бегали по скамьям, показывали физкультурные номера, влезали на деревья, девчонки не хуже мальчишек».
В этот день дежурила возле него в Переделкине я. Незадолго Корней Иванович перенес сердечный спазм; врачи уже позволили ему встать с постели, но велено было следить, чтобы он не переутомлялся. И вот приехали школьники. Корней Иванович читал им вслух, затем, напрягая голос, командовал их беготней по саду. Мальчик полез на дерево. Стоя возле ствола, учительница, надрываясь, кричала:
– Липатов, спускайся! Спускайся вниз! Сейчас же слезай! Кому говорю! Липатов!
Корней Иванович стоял у того же ствола. Он кричал во всю мощь своего непостаревшего голоса:
– Лезь, лезь, повыше, Володя! Там широкие удобные ветки, видишь? Лезь, не гляди вниз!
Мне казалось, он слишком возбужден, слишком долго на воздухе, слишком напрягает голос, утомляет сердце.
– Корней Иванович устал, – сказала я тихонько учительнице. – Ему пора бы домой.
Он услыхал меня.
– Не слушайте эту старую тетку! – закричал он сердито. – Ничего я не устал! Я здоров! А ну, ребята, кто соберет больше шишек?
Исполнилось ему незадолго до этого семьдесят восемь лет. В тот день я, «старая тетка», с такой пронзительной ясностью вспомнила наши куоккальские игры и как он учил меня и Колю лазить по деревьям.
Что же давала ему дружба с детьми? Материал для наблюдений? Не только.
«…пошлость как-то отошла от меня».
«…мне вдруг… стало так весело, так по-детски безбрежно и размашисто весело…»
«Странно, что отдыхать я могу только в среде детей…»
«я… показал им все игры, какие знал… эти два часа я вспоминаю, как самые счастливые в Киеве».
«…я много читал им своего – они внимательнейше слушали».
Итак, общение с детьми излечивало его от тоски; оно не только не утомляло, но возрождало его; оно отмывало его от пошлости (дети столь же редко бывают пошляками, сколь часто ими бывают взрослые). Он любил читать детям стихи и прозу; дети, верил он, самая восприимчивая к искусству, самая творческая аудитория на всем свете. В детях отчетливо соединялось для него все, чем он жил: повышенная восприимчивость к искусству, к природе, творческое отношение к жизни.
«…я никогда ни в одну женщину не был так влюблен, как в этих ясноглазых друзей. Во всех сразу».
Влюблен в тех школьников, которые весело лазили по деревьям, а потом слушали его чтение – как мы когда-то лазили по деревьям, а потом слушали его чтение, только не среди леса, а на морском берегу.
И вдруг среди его записей появилась одна, совсем для него необычная, непохожая на все остальные, словно сделана была не им, не тем стариком, которому с детьми становилось «безбрежно и размашисто весело», а другой старик, и не старик, а старец, великий, хмурый, бессмертный, ополчившийся на художество во имя гневной проповеди добра, оторвавший художество от проповеди, продиктовал ему эти строки:
«…по-настоящему мне следовало бы бросить всю литературу – и заняться детьми – читать им, рассказывать, развивать их, звать их к достойной человеческой жизни, а без этого – одна раздача книг – бесполезна».
Эти строки промелькнули и не повторились более. Конечно, он всегда сознавал, что в библиотеке одна раздача книг недостаточна, и потому устраивал два раза в год «Костры» при участии актеров, акробатов и поэтов и постоянно упорно просил интеллигентных людей всех профессий, окружавших его, приходить в библиотеку, беседовать с детьми.
Это он совершал и до приведенной мною столь необычной записи, и после нее. Но «бросить всю литературу», то есть собственный литературный труд, и заняться детьми, только детьми, как сказано в этой записи, – он не мог. На такое самоотречение у него никогда не хватило бы сил. Литература, художество, книги, чужие и собственные, были для него и остались до конца дороже всего на свете. И как бы он ни был занят детьми – литературным трудом он был поглощен с головой.
В десятые годы нашего века, в куоккальскую давнюю пору, он был одним из самых известных и самых звонких критиков России. С трудом критика не могло тогда разлучить его ничто, даже интерес к детям. Да и в детях выискивал он художнические черты прежде всего или, во всяком случае, ценил в них племя, наиболее восприимчивое к художеству изо всех племен Земли. Сам он ощущал себя прирожденным критиком, инструментом, созданным для восприятия искусства, и действительно был им, воспринимая стихи и прозу, классическую и современную, не только глазом и ухом, но словно бы и кончиками пальцев, и всей своей кожей. Он был фанатиком литературного труда. Искусством он был одержим.
Он написал, перевел, проредактировал за свою долгую жизнь тысячи страниц. Филология, история литературы, текстология, мемуары, примечания. Литературные портреты, критические статьи.
«Редко встречал человека, – писал о нем в 1914 году Анатолию Федоровичу Кони Илья Ефимович Репин, – столь достойного книг… Его феноменальная любовь к литературе, глубочайшее уважение к манускриптам заражает всех нас…»[22]
Из эвакуации, во время войны, он, уже знаменитый сказочник, писал своему другу:
«Я (может быть, слишком поздно) понял, что основное мое призвание – характеристики, литер [атурные] портреты, и мне было весело работать над ними».
Критиком, ценителем искусства он был по призванию. Был рожден им.
28 октября 1968 года, за год до смерти, работая над собранием своих сочинений и пересматривая свои критические статьи десятых и двадцатых годов, написал мне:
«Я поглощен своим седьмым томом: в нем будут лучшие мои статьи. Эх, хорошо мне когда-то писалось, а я и не подозревал об этом. Не было такого дня, когда бы я был доволен собою, своей работой, и только теперь, через тысячу лет, я вижу, как добросовестно и старательно я работал».
О своей преданности литературному труду он мог бы сказать теми словами, какими Репин написал однажды о собственной. Тут все несопоставимо – сопоставимо лишь одно: жизнь в искусстве. Для обоих труд в искусстве был основой жизни.
«…искусство я люблю… больше, чем всякое счастье и радости жизни нашей, – писал Репин. – Люблю тайно, ревниво, как старый пьяница, неизлечимо… Где бы я ни был, чем бы ни развлекался, кем бы я ни восхищался, чем бы ни наслаждался… Оно, всегда и везде, в моей голове, в моем сердце, в моих желаниях лучших, сокровеннейших. Часы утра, кот[орые] я посвящаю ему, – лучшие часы моей жизни. И радости, и горести, радости до счастья, горести до смерти, все в этих часах, кот[орые] лучами освещают или омрачают все эпизоды моей жизни»[23].
Да, Корней Чуковский любил детей и много отдавал им себя. И многое от них получал: непосредственное веселье, и «сердитки», и «мазелин». Но смыслом его жизни было искусство. Он и детей-то любил прежде всего за их творческое отношение к миру: за восприимчивость к природе, к игре, к поэзии. За то, что они, как маленькие боги, творили слова.
«Нужно уважать детскую душу, – писал он в статье «О детском языке», – это душа создателя и художника»[24].
Критик Корней Чуковский был художником. Без этого не понять ни замысла его критических статей, ни причины их воздействия. Он работал над ними, как другие работают над стихами, выстраивал абзацы как строфы, подчиняя движение мысли и образов ритму – скрыто присущему всякой прозе, – проверяя вес, возраст, звук каждого слова, вслушиваясь в то, как звучит оно рядом с другими; и готовил написанное для чтения вслух. Статьи его (в не меньшей степени, чем сказки) рассчитаны на громкое чтение в многолюдном зале, где, слушая, не должен ни на минуту соскучиться, зевнуть, заговорить с соседом ни один человек.
Отсюда разнообразие внутренних жестов, выраженное в разнообразии интонаций, крутизна и неожиданность поворотов – все рассчитано на слушателя, хотя статьи писались для газетных полос и книжных страниц.
«Лекцию дописывал в поезде»[25], – сообщал он из одной поездки по провинциальным городам.
«Дописывал лекцию» – то есть нечто, подлежащее громкому чтению.
«Певучесть», звучность его статей, подчиненность мысли движению ритма чувствовали многие, в особенности поэты. Ольга Дьячкова, поэтесса, слушавшая лекции Корнея Ивановича в студиях «Всемирной литературы» и «Дома искусств», написала о них такие стихи (портрет его самого, портрет его лекций-статей и манеры чтения):
На самых скучных лицах меньше скуки.
Идет. Еще один аршинный шаг —
И на столе живут большие руки
Вокруг больших внушительных бумаг.
Вот вкрадчивым, приветливым вступленьем
Погладил публику, как будто лапкой кот,
И как артист, влюбленный в исполненье,
Свою статью торжественно поет.
«Петь» можно только то, что подчинено ритму.
Справку или протокол – не споешь.
Критические статьи Чуковского, в особенности молодые, принято было раньше, принято и сейчас обвинять в субъективности.
Обвинение справедливое: они субъективны не в меньшей степени, чем любые лирические стихи.
Обвинение несправедливое: они субъективны по крайнему своеобразию мысли и стиля, не в меньшей степени, чем своеобразен был голос, произносивший их. Однако, как и всякий художник, Корней Чуковский стремился (пусть собственными, субъективными средствами) выразить суждение объективное. Насколько ему это удавалось – вопрос другой. Мне лишь важно подчеркнуть, что статьи его надо измерять теми мерками, которые мы прилагаем к искусству, а не теми элементарными: «правильно – неправильно», какие прилагаются обычно к критическим статьям. Так, например, его статья о Леониде Андрееве – художественное произведение в не меньшей степени, чем рассказы Андреева, которые в ней критикуются, или, точнее говоря, изображаются. Сам он, хотя и был невысокого мнения о своем даре, ощущал себя во время работы художником.
Характерны в этом смысле признания, сделанные им в нескольких письмах.
Настаивая на том, чтобы Тамара Григорьевна Габбе, в сотрудничестве с друзьями, написала историю литературы для детей, он предлагал ей – в 1939 году – написать портреты писателей – Пантелеева, Житкова, Ильина, Барто, Введенского, Хармса, Паустовского, Катаева, Зощенко – и при этом счел необходимым предупредить:
«Импрессионизма бояться не нужно», – не нужно потому, что статьям должен быть придан научный аппарат.
«…весь этот научный аппарат будет служить для читателя компенсацией. Им будут парализованы те черты кажущегося дилетантизма, которые неотъемлемы от всякой импрессионистской характеристики»[26].
Тут важное автопризнание. Статьи Корнея Чуковского импрессионистичны, основа же для импрессионистической статьи – изучение, научность.
В 1920 году, в письме к Горькому, Корней Чуковский, определяя свой критический метод, прямо говорит, что критик обязан быть ученым и художником вместе:
«Я изучаю излюбенные приемы писателя, пристрастие его к тем или иным эпитетам, тропам, фигурам, ритмам, словам и на основании этого чисто формального, технического, научного разбора делаю психологические выводы, воссоздаю духовную личность писателя… Наши милые «русские мальчики»… стоят за формальный метод, требуют, чтобы к литературному творчеству применяли меру, число и вес, но они на этом останавливаются: я же думаю, что нужно идти дальше, нужно на основании формальных подходов к матерьялу конструировать то, что прежде называлось душою поэта… Критика должна быть универсальной, научные выкладки должны претворяться в эмоции. Ее анализ должен завершаться синтезом, и покуда критик анализирует, он ученый, но когда он переходит к синтезу, он художник, ибо из мелких и случайно подмеченных черт творит художественный образ человека»[27].
В конце жизни Корнею Чуковскому дана была степень доктора филологических наук. Это естественно: он был ученый. Но он «творил образ человека» – был художник. Приемы его собственных критических статей – приемы художника. Слабого или сильного, вопрос другой, но вне этого ключа они определению не поддаются. Будущие исследователи станут изучать стилистику его статей, как уже изучают ныне стилистику его сказок. На Корнея Чуковского неизбежно найдется свой Корней Чуковский. И прежде всего изучит он, думается мне, те приемы, которыми достигалась двуадресность. Критик должен сказать свое слово так, чтобы его поняли не только изощренные слушатели, «но и желторотый студент и комиссариатская барышня», – заявлял Корней Иванович в письме к Горькому.
Критическая статья, стало быть – это послание, отправленное по двум адресам. Оно может достичь обоих адресатов только в том случае, если критик обладает художественным даром.
Критик-фельетонист Корней Чуковский обладал им.
«Бросить литературу!» – этого он не мог.
Его «радости до счастья, горести до смерти» – все было в тех часах, когда он писал.
«Сколько забот о стиле, о композиции, – признавался он в 1923 году, – и обо многом другом, о чем обычно не заботятся критики! Каждая критическая статья для меня – произведение искусства (может быть, плохого, но искусства!), и когда я писал, напр[имер] свою статью «Нат Пинкертон», мне казалось, что я пишу поэму»[28].
(Характерны эти поиски названий: «Критические рассказы», «Рассказы о Некрасове», «Портреты современных писателей». И вот новое определение: оказывается, свои статьи он ощущал как поэмы.)
Я помню, зимою, в Куоккале, когда он погружался в сочинение очередной своей «поэмы», он убегал из тепло вытопленной своей дачи, от благоустроенного письменного стола, в чью-нибудь чужую, нежилую, пустую, в промерзший дощатый сарай и часами, а то и сутками писал там, без стола, в пальто, в валенках и шапке, сидя на полу, на газете, притулившись к стене. Один, в полной отрешенности от людей. Наверное, именно в эти минуты казалось ему, что он пишет поэму. В руках дощечка с бумагой, опертая на острые колени, и карандаш. Кругом, на полу, раскиданы книги и исписанные листы. Изо рта валит пар.
17
В те часы и сутки, когда он писал статью или, по его ощущению, поэму, он жаждал одиночества: книга, о которой он пишет; поэма, которую он пишет; свеча, запас бумаги, чернил, карандашей – и чтобы ни единой живой души рядом. Никого поблизости – ни чужих, ни своих. Он требовал полной тишины, и притом защищенной, надежной. Как в броне. Как во сне. Что касается нас, детей, то от нас требовалась одна дружеская услуга: провалиться сквозь землю. На какой срок, неизвестно – во всяком случае, пока он работает.
Наш отважный мореплаватель, наш предводитель в любой игре, в любом путешествии, в лодке, на лыжах и под парусом, наш строгий наставник, наш бесстрашный капитан, наш веселый, ребячливый, бурный и добрый отец превращался в угрюмого, озлобленного, чужого господина средних лет – желчного, недовольного всем на свете и требующего от всех одного: не приставать к нему, не заговаривать с ним, да и вообще не разговаривать, хотя бы и между собою. Вообще – не быть. Папа превращался в не-папу.
Случалось, мы чувствовали заранее, как безотцовщина подкрадывается к нам, подползает исподволь, как папа постепенно превращается в не-папу, – превращение угадывалось в его сосредоточенном унынии, в кратких, резких и по большей части несправедливых попреках. В той поспешности, с какой он хлебал суп или, не жуя, глотал котлеты – только бы побыстрее отделаться, дохлебать, проглотить и уйти. Лето – не зима; летом все дачи кругом заняты, всюду шум, значит, через три ступеньки к себе наверх. «Лида, Коля, Боба! – говорит мама. – Ступайте на берег, оттуда вас не слышно». Такое постепенное осиротение еще можно перенести. Мы привыкли. Но внезапное! Секунду назад он папа и вдруг, через секунду, не-папа! «Воздух искусства», дышать которым, по словам Корнея Ивановича, «посчастливилось» нам, содержал в себе не одни лишь чары, но и яд. Трудное было наше счастье. Создавая очередную «поэму», Корней Иванович, случалось, проваливался в воздушную бездну. Не по своей вине (да и не по нашей!) он внезапно срывался в воздушную, словно в морскую, глубь, и неизвестно было ни нам, ни ему, когда он угодит в нее и когда из нее вынырнет….Вот мы – я и папа идем по Большой Дороге. Одеты, обуты, причесаны: мы не в лавочку, мы в город, в Петербург. Колю папа уже несколько раз брал с собою: в Музей Александра III, в Эрмитаж. А меня впервые. Коля хвастается, что видел картину Карла Брюллова «Последний день Помпеи» – это про землетрясение, а я нет. Сегодня увижу. Коля уже видел над Невою каменных сфинксов, а я нет. Сегодня увижу. Папина лекция в зале Тенишевского училища вечером, а мы отправляемся с утра, и целый день наш: мне папа покажет «Помпею», сфинксов, а меня покажет доктору. Докторов я, конечно, терпеть не могу, да и ничем, в сущности, не больна: просто один здешний доктор говорит, удалять надо гланды, а другой здешний – не удалять. Сегодня решит петербургский. Мы записаны к нему на прием.
Но мысль о докторе я из головы выбрасываю. День сулит мне множество радостей. Мы оба принаряжены. Папа не босиком, а в туфлях; воротничок, запонки, галстук! Он чисто-начисто выбрит, и белейшей белизны манжеты торчат из-под рукавов.
И я тоже не какая-нибудь: в носках, в сандалиях, и косички у меня заплетены аккуратно. Два синие банта.
На Большой Дороге Корней Иванович читает стихи и рассказывает интересные истории. Стихи Шевченко. Читает по-украински, не по-русски, но все слова и без перевода понятны:
У Tiэтi Катерини
Хата на помостi;
Iз славного Запорожжя
Наiхали rocтi.
Приехали трое; всем троим Катерина по сердцу: изъездили Польшу, изъездили всю Украину, а такой красавицы не видывали. Катерина объявляет: кто выручит из вражьего плена ее единственного брата, за того она и выйдет… Все трое кидаются на выручку.
Разом повставали,
Коней поидлали,
Поехали визволяти
Катриного брата.
Баллада мчит нас дальше, и мы оба невольно убыстряем шаг. Один утонул в Днепре, другого злодеи посадили на кол, – но третий… «Третш, Иван Ярошенко… 3 люто! неволь… Брата визволяе».
Утром запорожцы постучали в двери знакомой хаты:
«Вставай, вставай, Катерино,
Брата зустрiчати»
Катерина подивилась
Та й заголосила:
«Це не брат мiй, це – мiй милий!
Я тебе дурила…»
Корней Иванович с гневом останавливает стих и шаг. Я стою как вкопанная.
«Одурила!..» I Катрина
Додолу скотилась
Головонька…
Корней Иванович глядит на траву. Что видит он, я не знаю, но, следуя его взгляду, ясно вижу в траве красную лужу, а посреди стройно-стоящую шею и черноволосую голову.
Ни Шевченко, ни Корней Иванович, а за ними и я – нисколько не пугаемся этого незримого зрелища.
«…Ходiм, брате,
3 поганоi хати»
Я довольна. Так ей и надо, обманщице. Мне ее нисколько не жалко.
Катерину чорнобриву
В полi поховали,
А славнi запорожцi
В степу побратались.
И слава Богу. По-моему, все кончилось хорошо, справедливо!
Мы быстрыми шагами идем на станцию. Ведь нам как-никак на поезд! Корней Иванович прижимает к груди свою папку.
С Катериной, пожалуй, все благополучно, а вот с Тарасом Шевченко – нет. Корней Иванович рассказывает: царь Николай I повелел отдать Тараса в солдаты. Тарас был художник – с детства любил рисовать! – и великий украинский поэт. Стихи он писал вольные, против господ и крепостного права. Сам он отведал, что это такое значит: быть собственностью другого человека. В детстве, в отрочестве, в юности Тарас – крепостной, дворовый. Стихи его о воле, стихи против рабства… Царь сослал его в Сибирь, в солдаты. На десять лет. И это еще полбеды. Царь велел строго следить, чтобы солдат Шевченко ничего не рисовал и не слагал стихов. У Шевченко в дневнике записано: «Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого холодного нечеловеческого приговора». Но солдат Тарас Шевченко все равно рисовал и писал. Он прятал стихи за голенище солдатского сапога, «за халяву», и эти маленькие тонкие книжечки называл «захалявные»…
До станции осталось шагов двадцать, не более.
– При новом царе, Александре II, кончилась Тарасова солдатчина. Свободен-то он свободен, но уже тяжело болен. Вся Украина знала наизусть его стихи, пела его песни. Со дня на день ожидали отмены крепостного права, освобождения крестьян. Тарас ждал горячее всех. Но за несколько дней до указа – умер.
Про царя Николая I я помню, что при нем убит был на дуэли Пушкин, убит Лермонтов. Вот и Шевченко – погиб. Сатана!
Мы уже на станции. Начищенный до блеска станционный колокол, начальник станции в важной фуражке, огромные станционные круглые часы. Станцию я любила. В особенности, когда звонили в колокол. Конечно, если не опоздаешь и слышишь звонок уже сидя в вагоне. Первый звонок. Второй. Третий… Поехали! Стучат колеса. Медленно и плавно скрываются буквы на вывеске: Куоккала. А вот уже и не видно – ни колокола, ни фуражки, ни букв!
Мы сидим у открытого окна. Я держу на коленях корзиночку с бутербродами и крутыми яйцами. Корней Иванович – новую папку со своей новой лекцией. В вагоне, к его большому неудовольствию, кроме нас двоих – никого.
Остановка – на две минуты – в Оллиле. Тут вошли пассажиры. Финны-пильщики с блестящими зубчатыми пилами, змеящимися между колен. Молочницы с бидонами. Пилы переливаются, извиваются, гнутся. Бидоны недвижны. Входят и дачники. Напротив нас села дама с мальчиком чуть постарше меня.
Третий звонок. Гудок. Свисток. Корней Иванович прижимает свою папку к груди. Исчезли из глаз колокол и станционная вывеска: Оллила.
– Тебя как зовут? – спрашивает Корней Иванович у мальчика.
Мальчик застенчив, жмется к матери и отвечает не сразу.
– Ну, чего ты боишься? Я все равно догадался. Тебя зовут Вася.
– Неправда, Юра!
– Юра? Ну, это гораздо лучше, чем Вася. Давай, Юрочка, играть в слова… Бывают такие имена: с начала и с конца, откуда ни начнешь, читаются одинаково… Вот, например, – он вынимает из кармана обрывок бумажки и карандаш и, наложив его на папку, чертит большими буквами:
АННА
– Прочти-ка.
Мальчик прочитывает. Робея, вполголоса.
– Верно! А теперь читай с конца. Читай, читай, не бойся!
– Анна! – медленно и трудно выговаривает мальчик. И вдруг радостно улыбается во весь рот: – Дядя! С конца тоже Анна!
– Видишь, я тебе говорил!
Корней Иванович пишет:
АДА
Мальчик читает с начала и с конца. Подпрыгивает на скамье. Болтает ногами! Радуется!
– А теперь, – говорит Корней Иванович, – теперь не я буду придумывать, а ты. Писать не надо – просто, когда придумаешь, скажи вслух. Я подожду.
Ждать пришлось недолго. Сдвинув брови и шевеля губами, мальчик положил руку на колено Корнея Ивановича.
– Дядя, я придумал!
– Говори!
– Ва-ня, – сказал мальчик.
Я фыркнула. Мальчик покраснел. Корней Иванович принялся терпеливо объяснять ему: когда читаешь с конца имя Ваня, выходит Янав, а не Ваня. А надо, чтобы выходило, как с начала. Дал прочесть новое слово:
БОБ
– Ты не торопись, ты непременно придумаешь! – повторял он ему ободрительно. – Ты, Юрочка, непременно придумаешь, только не торопись.
Мальчик принялся думать не торопясь, всерьез. Шевелил губами и что-то писал в воздухе пальцем. Мотал головой. Корней Иванович, наверное, для того, чтобы показать мальчику: я тебя не тороплю, я тебя не дожидаюсь, не тороплю, – развязал свою папку и начал перелистывать «лекцию».
Вот тут-то и случилось несчастье. С ним, со мною и с мальчиком.
– Нам незачем ехать, – сказал мне Корней Иванович вдруг высоким, трагическим голосом и вцепился огромной ручищей в мое плечо. – Статья совершенно бездарна. Слушать ее никто не станет. Этакая тусклая пошлятина! Срам. Надо отменить лекцию и чтоб администрация вернула слушателям деньги.
Дрожащими руками он сунул листы в папку и небрежно, в два узла завязал тесьму. На лице у него отчаянье и бешенство. Я боюсь, что он вышвырнет папку в окно.
– Дядя! – радостно восклицает мальчик. – Я придумал.
Корней Иванович ничего не слышит. Он – в единоборстве с узлами. Он пытается снова открыть папку, но тугие узлы не дают.
– Дядя! – повторяет мальчик и кладет на колено Корнею Ивановичу руку. – Я придумал: Тит.
Корней Иванович сбросил его руку с колена и даже не взглянул на него.
– Тит, – повторил мальчик.
– Оставь этого господина в покое! – в сердцах крикнула дама. – Сколько раз я тебе говорила: с незнакомыми разговаривать неприлично.
Корней Иванович распутал наконец оба узла и снова впился глазами в свою рукопись. Один лист скомкал и хотел было в самом деле выбросить его в окно, но потом передумал, свернул комком и сунул себе в карман.
– Какой я литератор, я сапожник, – сказал он мне тем же высоким трагическим голосом. – Один лишь сапожник, да еще и пошлый к тому же, мог сочинить этот вздор.
Он схватил карандаш и, шумно дыша, попробовал зачеркивать и снова писать. Зачеркивать и писать. С удивлением и гневом вскидывал он глаза на пильщиков, болтавших по-фински с молочницами, слушал русский говор на скамьях вокруг. Он в эту минуту делает отчаянные усилия спастись, исправить лекцию, вынырнуть из воздушной ямы, ему необходима тишина, а они – в роковую минуту! – разговаривают. Смеют разговаривать!
В Белоострове, где у всех пассажиров проверяют паспорта, – я уж подумала, он убьет жандарма. «Господин, ваш паспорт! – кричал ему над ухом жандарм. – Без паспорта вы едете, что ли? Оглохли вы, что ли? Ваш паспорт, господин!»
Паспорт нашелся не сразу. Ткнув его жандарму в руки, Корней Иванович продолжал писать, и жандарм с трудом до него докричался, когда, просмотрев, возвратил.
…Петербург. Все выходят, выходим и мы. Площадь. Толпа. Корней Иванович большими шагами идет сквозь толпу, а я бегу рядом трусцой. Он не берет меня за руку. Я смертельно боюсь толпы. Я бегу рядом с ним, вцепившись в карман его пальто.
– И пусть бы еще только бездарно, – говорит он в пространство. – А то еще и с вывертами, с претензиями. Претенциозный пошляк.
Я смертельно боюсь потеряться. Я – деревенская девочка, и города я боюсь. Боюсь многолюдства, да еще конок, да еще извозчиков, да еще булыжной мостовой, и главное – толпы и спешки. Сколько на свете людей! и все торопятся, и все незнакомые. В Куоккале – что? В Куоккале меня водить за ручку не требуется. Там каждый знает каждого. Если не по имени, то хоть в лицо. В Куоккале я не боюсь ходить одна – в лес, и по берегу моря, и по Большой Дороге, и даже вечером. А здесь? Здесь я боюсь битюгов, автомобилей, конок, общего гула, шума, звонков, гудков, а более всего – людей. Идя навстречу, идя сзади, они так толкаются, словно вообще разучились ходить. Папа мне не защита (он уже превратился в не-папу), и любой прохожий может меня оттереть, отделить – и тогда случится самое страшное: я потеряюсь.
«Заметит ли он тогда, что меня нет?» – копошится во мне злобная мысль.
Однако мы благополучно добираемся до гостиницы.
Комната заказана заранее – на сутки.
Я в гостинице впервые. Называется «Пале Рояль». Плечистый дяденька у двери в пальто с золотыми пуговицами называется швейцар. Он широко распахивает перед нами дверь. Долго идем по длинной красной мягкой дорожке, идем и идем посреди длинного коридора. По обеим сторонам – двери. Я и здесь на всякий случай держусь за папин карман. Чтобы не потеряться, хотя коридор пуст.
Входим в комнату. Она называется «номер».
Корней Иванович, бросив бумаги на стол, вынимает из жилетного кармана часы. Заметив меня, приказывает скороговоркой:
– Бери корзиночку и иди в коридор. До вечера осталось пять часов. Если я без промедления, сию секунду возьмусь за работу, быть может, выправлю, и не будет позора. Ступай в коридор.
– Папа! Я буду сидеть тихо. Я не буду с тобой разговаривать. Я буду читать что-нибудь про себя наизусть. Ты не услышишь. Папа! Я не буду двигать стулом… Я хочу здесь. Я не хочу без тебя.
Корней Иванович берет меня за руку, и мы вместе выходим в коридор. Наша комната – последняя. У окна коридора большое кресло.
– Садись, – командует папа-не-папа. – Вот тебе корзинка. Непременно поешь. А я, когда кончу, тебя позову.
Он входит в номер, запирает дверь на ключ и – я слышу – дважды поворачивает ключ в замке.
Это от меня – дважды! Как будто я могла бы ворваться, если бы он повернул ключ один раз! Как будто я стану врываться, раз он меня выгнал!
Сколько часов просидела я в коридоре – не знаю. Есть я ничего не ела, стихов наизусть для сокращения времени не припоминала, а была бы у меня книга – я не в силах была бы прочесть ни строки. Занятие у меня трудное: ждать. Что я делала? Ждала. Не спускала глаз с нашей двери и вслушивалась в звуки оттуда. Иногда полная тишина – это дурной знак. Иногда оттуда голос: папа имел обыкновение писать вслух. Голос его меня подбадривал: значит, пишет. Повторяет и повторяет какие-то неразличимые издали, одни и те же, одни и те же слова.
Ему не до сфинксов, не до картины Брюллова… Только бы успеть до вечера окончить статью.
А в коридоре страшно. Меня пугал телефон на противоположной стене и как люди разговаривают. Телефон я видела впервые. Этакое приколоченное к стенке деревянное нескладное сооружение с висящей на шнуре трубкой и с металлической ручкой, которую неистово крутит выбежавший внезапно из соседней двери человек. Ручка поддается нелегко и, главное, крутится безо всякого толка. Человек крутит отчаянно. Опять и опять. Отвратителен тупо бренчащий звон, страшно напряженное, искаженное лицо человека, желающего услышать отклик. Прижимая трубку к уху, человек пытается докрутить ручку до отклика. И вот наконец докрутил. «Алле, алле», – орет он. Потом успокоился и начал расхаживать возле телефона, как собака на привязи. Иногда кричит, а иногда улыбается невидимке. Кому? Себе самому? Где тот или та, с кем он ведет беседу? В трубке живет собеседник, что ли? Один господин, прощаясь с невидимкой, шаркнул перед телефоном ногой… Может быть, он увидел себя самого в ка-ком-то спрятанном зеркале и шаркнул на прощанье себе самому?
Страшно.
Два часа я сижу или три? Сижу, не спуская глаз с двери.
Наконец дверь отворилась, и я вбежала в «номер». Корней Иванович метался по комнате, пытаясь укрепить запонки в манжетах и в воротничке. Это ему не удавалось. Галстук на сторону. Он корчился перед зеркалом. Потом забегал по комнате, каждую минуту выдергивая из жилетного кармана часы и в отчаянии запихивая их обратно. Он спешил. Он торопился читать лекцию. Его уже ждали, и он опаздывал.
– А я? – вскрикнула я. – Папа, а я? Я здесь одна не останусь.
– Ты останешься здесь, ты никуда не пойдешь и ляжешь спать вовремя.
Я заплакала. Он пытался меня утешить:
– Смотри, Лидочек, тут есть умывальник, ты никогда такого не видела. Если открыть этот кран, смотри: оттуда сама льется вода. Холодная вода. А из этого – подставь руку! – теплая. Тебе не нужно идти с ковшом к бочке, наполнять из бочки рукомойник да еще дергать его. Ты просто откроешь кран, и оттуда просто польется вода. Если захочешь, даже теплая! Понимаешь?
Я плакала. Он говорил:
– Ты можешь выбрать себе какую хочешь кровать. Видишь, их две. Ты никогда не спала в такой мягкой кровати. Посмотри, какие у этих кроватей шарики металлические! Если хочешь, ложись в ту, которая направо. А если тебе не нравится та, которая направо, ложись в ту, которая налево. – Щедрое великодушное движение рукой. – Я позволяю тебе самой выбрать какую хочешь кровать!
Я плакала.
Тогда он сказал вкрадчивым, необыкновенно вкрадчивым и притворно ласковым голосом:
– Знаешь что, раз ты такая хорошая девочка, что согласна остаться здесь без меня, я тебе разрешаю, – снова широкий царский жест, – лечь спать не умываясь! Не умывайся! Просто разденься и ложись в какую тебе больше нравится кровать… Проснешься утром, а я уже здесь. И это будет наш с тобой секрет – от мамы. Мы маме не скажем, что ты легла, не умывшись.
Я плакала.
Он пошел к дверям. Я заплакала пуще. Кинулась к нему и обняла его колени.
– Неправда, ты без меня не уйдешь! – кричала я.
Корней Иванович сначала сердито отцеплял мои руки от своих ног, потом вдруг рассмеялся и звучным голосом произнес:
…И клетчатые панталоны,
Рыдая, обнимает дочь.
И опять рассмеялся.
– Хорошо, – сказал он, – если ты такая глупая, такая надоедливая трусиха – пойдем вместе.
Он кинулся к умывальнику, огромной ладонью зачерпнул воду, ту самую, теплую воду, которая чудом теплая и чудом сама течет из крана, вымыл мне физиономию, кое-как пригладил волосы – одна лента из одной косички потерялась. Искать ее было некогда, и мы пошли так.
От дверей гостиницы Корней Иванович кликнул извозчика. Извозчик подкатил, мы уселись и поехали по страшно грохочущему городу.
К папе я взобралась на колени: боялась, что он все-таки от меня удерет, а так, на коленях, надежнее.
Я еду с закрытыми глазами, чтоб не видеть колес и лошадиных морд. Но от грохота никуда не спасешься… Я открыла глаза, когда звук колес и копыт стал совсем другой, мягкий. Оказалось, это Моховая, та самая улица, которая нам нужна. Сейчас приедем. Тихая улица, выстлана она не камнями, а деревянными кубиками. (Их называют торцы.)
Мы подкатили к освещенному подъезду. Корней Иванович небрежно поставил меня на тротуар, расплатился с извозчиком, и мы вошли в какую-то большую дверь, которая непрерывно хлопала. За нами и перед нами шли и шли люди, женщины и мужчины. Шли и шли. Подходили с билетами к билетерше за столиком и, отдав ей билет, проходили куда-то дальше, внутрь.
Тут-то и стряслась беда, которой я опасалась весь день. Корней Иванович исчез. Его не было. Я стояла одна посередине небольшого пространства перед вешалкой. Пространство – толкучка. Входили люди, предъявляли билеты, все торопились и толкались. Я, как котенок за своим хвостом, крутилась посередине вестибюля, оглушаемая грохотом дверей, ужасаясь и не понимая, куда Корней Иванович умудрился исчезнуть.
Но он исчез. Я потерялась.
Реже хлопает дверь, люди приходят уже по одному, по двое, дверь хлопает все реже и реже. В конце концов в вестибюле осталась только я и та дама, которая проверяла билеты. Она и я.
– Девочка, что с тобой, ты потерялась?
Я кивнула,
– А где же твои мама и папа? Где ты живешь? Сегодня у нас не детский утренник. Сегодня читает лекцию Корней Чуковский. С кем ты пришла? Ты уже большая, почему ты молчишь?
Я молчу. Я не в силах назвать имя того, с кем пришла. Крутом повсюду на стенах наклеены афиши и на каждой большими буквами: КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ. Значит, надо признаться, что я пришла с Корнеем Чуковским? я – дочь Корнея Ивановича? Я понимала, что он, Корней Чуковский, здесь сейчас главный и, если я выговорю, с кем пришла, выйдет, что я тоже немного главная. Не в силах выговорить имени, я подбородком показывала билетерше на эти афиши, но она не догадывалась, к чему это я верчу головой, и сердилась. «Такая большая девочка и не знаешь, как тебя зовут», – говорила она, пожимая плечами.
Я не говорила ни слова.
В эту минуту откуда-то, непонятно откуда, высунулась голова Корнея Ивановича Он быстро сказал:
– Анна Михайловна, сделайте одолжение, отведите Лиду куда-нибудь на верхотуру. Я буду вам очень обязан.
И снова исчез.
Какое страшное слово «верхотура»! За что, за что меня на верхотуру?
Анна Михайловна сразу переменилась. Она стала ласково меня укорять:
– Лидочка, ну почему же ты мне не сказала, кто твой папа? Давай я тебя причешу, завяжу ленточку. Вторая потерялась? Ну, не беда. Я заплету тебе волосы в одну косу. Сейчас я тебя отведу в зал. Почему же ты не сказала? Ведь я тебя столько раз спрашивала.
Взяла меня за руку и повела.
(Впервые я увидела зал Тенишевского училища. Кто бы мне тогда шепнул, что через несколько лет и я, и Коля, и Боба будем учиться в Тенишевском и это просто зал нашей школы, а потом он превратится в ТЮЗ – Театр юного зрителя. В ту пору зал этот, великолепный амфитеатр с великолепными высокими окнами и ярким электрическим светом, сдавался для публичных литературных и философских диспутов, для лекций, для выступлений поэтов. В зале Тенишевского училища читали футуристы, читал Маяковский, Леонид Андреев, Федор Сологуб, там ставился «Балаганчик» Блока. Это был зал знаменитый, я часто слышала о нем, но видела его в первый раз.)
Анна Михайловна торжественно вела меня за руку по широким ступеням между прочно скрепленными полукругом, шире и выше забиравшимися рядами стульев. Она привела меня на самый верх. Усадила посреди верхнего ряда.
Верхотура – великолепное место. Ты – выше всех. Сверху отсюда удобно смотреть вниз и видеть плечи, шали, лысины, проборы, пышные прически дам, серьги, воротнички, ожерелья. Все ниже меня. Рядом со мною пять-шесть человек студентов. Они тоже на этой прекрасной верхотуре. Но я посередине, я не сбоку, я все-таки выше всех.
Свет в зале полуугас, а сцена осветилась ярче. На сцену вышел Корней Иванович. Один-одинехонек.
Я подумала, как это, в конце концов, хорошо, что он меня потерял. Иначе что ж было бы? Я тоже вышла бы вместе с ним на сцену? и все бы на меня глазели, как сейчас глазеют на него? Нет, слава Богу, мы не вместе. Он подошел к столику, на котором графин, сел, выпрямился, медлительно открыл папку.
В зале смолкли. Корней Иванович начал читать. До этого вечера я знала про нашего папу, что он пишет, работает, занимается, и, когда он пишет, ему нужна тишина. Знала: он пишет лекции и с лекциями разъезжает по разным городам. «Папа уехал лекции читать». «Маме принесли телеграмму из Курска. Лекция прошла хорошо». Это были привычные слова. Но что, собственно, значит «читать лекцию»? Так много, оказывается, людей сходится его слушать! и на него смотреть! и о нем судить – этого я себе не представляла, а он про это никогда не рассказывал. Только очутившись случайно в зале Тенишевского училища, я поняла: он хочет всех собравшихся людей – покорить, чтобы все они его слушали и любили.
Вдыхая «воздух искусства», я в этот вечер впервые поняла, что Корней Иванович, читая лекцию, идет каждый раз покорять.
Дорого обошлось мне это понимание.
Я до такой степени за него волновалась, до такой степени было невыносимо, что он там один, что все на него смотрят, шепотом говорят друг другу не про кого-нибудь, а про него и вовсе не всем он нравится, я полтора часа жила в такой тревоге, что даже не расслышала, не запомнила, о чем или о ком читал Корней Иванович. (Не о Шевченко ли?) Страшно стучало сердце: любят – не любят. Покорит – не покорит.
Как в коридоре гостиницы я не спускала глаз с двери, обиженная и озлобленная, думая только о том: окончит ли он свою статью к сроку и что сделает дальше со мной, так здесь, сидя высоко в последнем ряду, я не спускала глаз с чужих голов и лиц, вслушиваясь в чужие слова, в шепоты, с одною-единственной мыслью: любят они его или не любят? Кажется, любят – внимательно молчат, задумываются, аплодируют, удивляются, смеются. И вдруг студенты, сидевшие неподалеку от меня, начали свистеть. Я похолодела. Корней Иванович некоторое время не обращал на свист никакого внимания и продолжал свое. Но они тоже продолжали упорный свист. Люди – одни аплодировали Корнею Ивановичу, другие студентам, а третьи шикали на студентов, но те не унимались. Свист и хлопки терзали мое сердце.
Корней Иванович перестал читать, поднялся во весь рост и подошел к самому краю эстрады. Сказал:
– Молодые люди! Все, что вы беретесь делать, нужно учиться делать хорошо. Свистите? Сейчас я вам покажу образцовый свист.
Он вытянул два длинных пальца, сунул их в рот и громко свистнул. Раз, и еще раз, и еще.
Зал ответил хохотом и аплодисментами.
Я чуть не плакала. Ну разве можно так себя вести? Так неприлично себя вести! Как ему не стыдно!
Отсвиставшись, он спокойно сел за стол и продолжал читать. Свист уже не возобновлялся. Слушали его всё с большим вниманием. И вот наконец он умолк, ему аплодируют, он кланяется. На эстраде его окружают люди. И те студенты тоже поднимаются с боковой лесенки на эстраду – к нему. Наверное, спорить. Публика постепенно выходит из зала. Я остаюсь на месте и, навострив уши, слушаю звучащие вокруг рассуждения и споры. Молодая дама своему спутнику:
– Вот видите, я вам говорила, это всегда свежо, талантливо, ново.
Спутник:
– Помилуйте, что же тут талантливого? Никакой философской основы. Какие-то мыльные пузыри. Это вообще не литератор, а гаер какой-то.
…Публики в зале уже меньше, чем на эстраде. Корней Иванович окружен плотным кольцом. Люди суют ему в руки книги, просят надписать, – он надписывает. А-а, значит, они его все-таки любят?
И вдруг я вижу, что он никому не отвечает, ко всем поворачивается спиной, ничего не надписывает. Он спрыгивает с эстрады и всматривается в зал безумными глазами.
А-а, теперь ты ищешь меня? Ты прочитал свою лекцию и теперь испугался, не знаешь, куда я делась. Вот теперь-то я тебе отомщу! Припомню тебе два поворота ключа! И где мои сфинксы, где Брюллов? Возьму и спрячусь, а ты ищи! Спрятаться здесь легко, стоит только нагнуться между рядами. Я наклонила голову и пригнулась. Но через секунду мне стало жаль его, и я выпрямилась.
Он закричал с эстрады:
– Лидочек, почему же ты не в первом ряду, а так далеко! Забилась на какую-то там верхотуру? Иди сюда, я тебя весь вечер жду.
Я сбегаю, и он, взяв меня на руки, ставит посередине эстрады. Потом впрыгивает туда сам. Все окружают уже не его одного, а нас обоих. Гладят меня по голове, спрашивают, сколько мне лет, угощают конфетами.
Трудно шестилетнему человеку дышать «воздухом искусства», постоянными перебоями отчаянья и восторга. Мы с папой вернулись в гостиницу, но я плохо спала в эту ночь. Лица, оглобли, битюги, хлопки, свистки, гудки, лысины, пуговицы швейцара мешали мне уснуть. Мешало и слово «гаер». Я догадывалась, слово это злое, обидное. «Папа, что такое гаер?» – вертелось у меня на языке, но я не спрашивала, понимая, что причиню ему боль.
В эту ночь мы поменялись ролями: он спал, я нет.
…Утром мы возвращаемся в Куоккалу. Идем по Большой Дороге со станции домой. Он обещает в следующий раз уж непременно показать мне сфинксов и «Последний день Помпеи». Постепенно он снимает с себя городскую амуницию: галстук, воротничок, манжеты – и весь этот легкий, но нескладный ворох дает нести мне. Разувается и идет босиком, неся папку под мышкой, а в руках связанные между собой туфли. Он уже сильно соскучился по дому, по маме, Коле и Бобочке и, если бы не я, – не шел бы, а бежал. Щурится (в молодости он был близорук), с нетерпением вглядываясь: не бегут ли навстречу, взрывая босыми ногами пыль, Коля и Бобочка?
18
Однако, вернувшись, пора и расстаться с Куоккалой.
В 1917 году, после Февраля, Корней Иванович перебрался в Петроград – сначала в крошечную квартирку на углу Лештукова переулка и Загородного проспекта, а потом (в 1919-м) в большую, просторную, в доме по Манежному переулку, 6, где он и прожил без малого двадцать лет, вплоть до переезда в Москву в 1938 году.
В каком именно месяце 1917 года он перевез нас из Куоккалы в Петроград, в Лештуков переулок, точно не помню. Знаю только, что первого сентября 1917 года я и Коля уже ходили учиться на Моховую улицу: Коля – в Тенишевское училище (прямо напротив дома, где – насколько я помню – позднее разместилось издательство «Всемирная литература»), я – в гимназию Таганцевой (на углу Моховой и Пантелеймоновской). Вскоре оба эти учебные заведения слились в 15-ю единую трудовую школу: мы с Колей оказались в разных классах, но под одной крышей и нередко бегали вместе через дорогу к Корнею Ивановичу… Скоро в той же школе начал учиться и Боба.
«Моим детям посчастливилось» – счастье это валило к нам и дальше: во «Всемирной литературе», в Доме литераторов, в Доме искусств – и просто у себя дома мы видели и слышали Блока, Ахматову, Горького, Мандельштама, Кузмина, Ходасевича, Гумилева, Замятина, Зощенко, Бабеля и многих, многих других. Снова видели и слышали Маяковского. Для Корнея Ивановича Куоккала кончилась навсегда раньше, чем для меня. Я побывала там летом сорокового, а затем в начале шестидесятых годов. Он же был в последний раз в 1925-м: приезжал к Репину.
В конце шестидесятых я прошла по тем камням, где когда-то занимался мечтаниями Коля, взглянула на ручей, где когда-то Корней Иванович вместе с нами сооружал запруду, миновала редкие сосны и вошла в дом. Снаружи он остался почти таким же, каким был при нас; внутри же все было перестроено, только печки те же, да его кабинет, да лестница на второй этаж, с которой я когда-то осторожно сбегала, боясь скрипнуть ступенькой.
Станция уже называлась «Репино». «Пенаты» стали музеем. Отворить калитку в репинский парк я не решилась: заглянешь в колодец, откуда в детстве мы черпали воду, и вдруг послышится:
Дна пня,
Два корня…
Чтобы не было пролито…
Когда, воротившись, я описывала Корнею Ивановичу свой последний поход из Комарова, из Дома творчества писателей, в Репино, он слушал меня хмуро и как бы невнимательно. Вопросов не задавал. Я скоро умолкла.
Воспоминание о том, как потерял он Куоккальскую дачу и как оказалась она разграбленной, было для него не из веселых. В море житейском бывал он столь же неосторожен и беспечен, как и в настоящем море, где однажды чуть не утонул вместе с нами.
В начале двадцатых годов, когда жили мы уже не в Куоккале, а в Петрограде, Корней Иванович разрешил бывшему мужу одной художницы, бывшей куоккальской соседки (посещавшей, как и он, «Пенаты»), пользоваться вещами, оставшимися на даче. Бывший муж бывшей соседки оказался устойчивым негодяем. Дача после нашего отъезда несколько лет стояла нетронутой, полная вещей и книг: уезжая весною 1917 года в Петроград, родители наши рассчитывали летом вернуться и потому увезли только самые необходимые вещи.
Соседи оберегали дом. Но, увидев собственноручную записку хозяина, отступились. Он же хорошо отомстил Корнею Ивановичу за необоснованную доверчивость: распродал наиболее ценное из мебели, утвари и книг. И скрылся. За ним на дачу нахлынуло ворье и довершило разгром.
«Вас тут все знают и вспоминают, – писал из Куоккалы Корнею Ивановичу Репин летом 1923 года. – А я еще вчера, проходя в Оллила, с грустью посмотрел на потемневший дом Ваш, на заросшие дороги и двор, вспоминал, сколько там было приливов и отливов всех типов молодой литературы! Особенно футуристов… И Алексей Толстой, и Борис Садовской… Даже Индия побывала у Вас – в лице Сахароварды. И многое множество брошюр… с сокрушенным сердцем видел я после, в растерзанном виде, на полу, со следами на всем грязных подошв валенок, среди ободранных роскошных диванов, где мы так интересно и уютно проводили время за слушанием интереснейших докладов и горячих речей талантливой литературы, разгоравшейся красным огнем свободы. Да, целый помост образовался на полах в библиотеках из дорогих редких изданий и рукописей, и под этим толстым слоем нестерпимо лопались, трещали стекла».
Как же нестерпим был звук этих лопающихся под ногами стекол на этом помосте для ушей человека, вошедшего в свой бывший дом?
В 1925 году, в январе, Корней Иванович побывал в Гельсингфорсе и в Куоккале: в «Пенатах» у Репина и у себя на даче.
Вот дневниковая запись:
«Я не люблю вещей, мне нисколько не жаль ни украденного комода, ни шкафа, ни лампы, ни зеркала, но я очень люблю себя, хранящегося в этих вещах».
Да, человек, в особенности если он – личность, запечатлен в своих вещах: дом, созданный им, – это тоже он, тоже его подобие; маска, слепок, но не с мертвого лица, а с живой, работающей души.
«Люблю себя, хранящегося в этих вещах…» Вещи – они, как губка воду, имеют способность впитывать и хранить ушедшее время. Утрата вещей была для него утратой любимого времени, в них запечатленного. Лампа, которую унес из его дома и продал жулик, светила ему с комода в ту пору, когда ему не было еще тридцати, когда дети у него были еще маленькие, когда жил он у самого моря наискосок от «Пенатов», когда от весны до глубокой осени он ходил босиком по песку, по Большой Дороге и по лесу; когда Маяковский читал ему «Облако в штанах», а сам он ходил к Репину читать ему вслух Пушкина или гостям и ему в беседке лекции по современной литературе; когда в 1916 году, во время войны, он готовился к новой поездке в Англию, уже не безвестным мальчишкой-кор-респондентом, как в 1903-м, а в составе делегации русских журналистов и писателей; когда у Репина по средам, а у него по воскресеньям собиралось столько замечательных людей: поэтов, ученых, художников; когда он писал свои поэмы-лекции о Федоре Сологубе, Леониде Андрееве, Короленко, о Лидии Чарской, о футуристах; когда с лекциями разъезжал по всей России.
Эта лампа была куском его жизни, частью его бытия.
«Я не люблю вещей». – «Я очень люблю себя, хранящегося в этих вещах».
(Сейчас, по моему ощущению, основа его бытия хранится в переделкинском доме в «Энциклопедии Британника», сопутствовавшей ему всю жизнь смолоду, и в копии с репинского портрета, исполненного в 1910 году. С ними он не расставался никогда и вовремя увез из Куоккалы.)
«…сижу один и встречаю Новый год с пером в руке,
– записал Корней Иванович в Петрограде в 1923 году,
– но не горюю: мне мое перо очень дорого – лампа, чернильница, – и сейчас на столе у меня моя милая «Энциклопедия Британника», которую я так нежно люблю. Сколько знаний она мне дала, как она успокоительна и ласкова».
Мимо полки с зелеными томами «Энциклопедии» я и сейчас прохожу, не в силах поднять глаз.
Мне хочется тронуть, погладить зеленые переплеты, но я не смею.
Я испытываю недоумение и зависть, когда кто-ни-будь из домашних естественно и непринужденно снимает с полки зеленую книгу и перелистывает шуршащие страницы, наводя справку. Корней Иванович, конечно, был бы рад, узнав, что «Энциклопедия» служит свою службу и дальше, стоит на полке не зря, учит других. Но сама я дотронуться до нее не могу.
Для меня это и Куоккала, и зеленый холмик у него на могиле.
Изо всех его обликов, движущихся перед моими глазами, яснее всего я вижу один: вот он выхватил с полки нужный том – в Куоккале, в Петрограде, в Москве, в Переделкине, длинные, гибкие, всегда коричнево-загорелые, дочиста промытые пальцы перелистывают страницы; глаза – ищут и вот нашли. Огромной рукой разглаживает он глянцевитую карту: оказывается, этот город прорезан заливами! А я и не знал! Или: оказывается, свой главный труд этот философ написал в 87-м году! А я-то, невежда, думал – в 91-м! И, захлопнув том, он с благодарной нежностью ставит его на место.
Он – молодой – куоккальский, и он – восьмидесятилетний.
Он любил «Энциклопедию Британника», наверное, не меньше, чем перо, которым писал. «Сколько знаний она мне дала, как она успокоительна и ласкова».
Там для меня навсегда поселен его взгляд, беззвучно разыскивающий карту, историю чьей-то судьбы и беззвучно окликающий меня из этого тома.
Снимок с репинского портрета, надписанный Репиным, переезжая вместе с Корнеем Ивановичем, тоже остался навсегда памятником куоккальского времени: содружества людей искусства, «со-куоккальства», как назвал это время Сергеев-Ценский.
Репин до конца своих дней любовно вспоминал свое «со-куоккальство» с Корнеем Ивановичем.
«…проходя мимо Шехерезады[29], я вспоминаю Вашу высокую веселую фигуру, – писал он Чуковскому в 1923 году, – помните, как Вы подымали поваленные бурей деревья? Недавно была большая буря, но Шехере-зада стоит; только дороги все страшно заросли травой забвенья (вчера уже Емельян выкосил их, а то не пройти, особенно утром – роса! А я босиком. И все Вас вспоминаю). Огневой Вы человек, дай Вам Бог здоровья… Помните, как на наших народных гуляньях в саду Вы угощали нашу пролетарскую публику – дешево – чаем? Одну копейку стоил стакан чаю, копейка – печенье. Как любили Вас бабы и девки! Да, Вы всегда были душой общества, вселяли смелость и свободу. Помните лекции? Чтение Маяковского, С. Городецкого, Горького, пение Скитальца и др. (в Киоске), а не в храме Изиды, где читали Тарханов, Леонид Андреев, А. Свирский»[30].
В 1925 году снова о «со-куоккальстве»:
«Да, если бы Вы жили здесь, каждую свободную минуту я летел бы к Вам: у нас столько общих интересов. А, главное, Вы неисчерпаемы… Вы на все реагируете и много, много знаете; разговор мой с Вами – всегда – взапуски, – есть о чем»[31].
Особенно любил Илья Ефимович чтение Корнея Ивановича, его голос. Голос этот называл он в письмах то «лебединым», то «ангельским», то «очаровывающим»; а чтения – «сольными концертами». Портрет Чуковского работы Репина нем, как все до единого портреты в мире. Но поворот головы, посадка, пальцы, обнимающие книгу, – все краски и линии – кажется мне, передают не только наружность (молодой человек, черноголовый, с маленькими черными усами, книга в руке), но и чары певучего, вкрадчивого, звонкого голоса.
В 1923 году, в ответ на подробное куоккальское письмо, Чуковский писал Репину:
«Куоккала – моя родина, мое детство…»
«Детство» – начало начал. Именно здесь, в Куоккале, многое для него началось. Многое из того, что получило развитие и завершение только в конце его жизни. (Речь идет о духовной родине и о духовном детстве.)
А для меня там начался он, там началось и кончилось мое детство, но не кончился он.
В Куоккале начал вырабатываться жанр и стиль художественных произведений, именуемых статьями, лекциями, «критическими рассказами», очерками, портретами, исследованиями, – стиль разнообразных произведений Корнея Чуковского.
В Куоккале он познакомился, подружился и вошел в общение с десятками людей из литературного, артистического и художнического мира, – и с той поры оно не прекращалось никогда. Здесь началась и «Чукоккала». Здесь же началось изучение психики малых детей, давшее впоследствии «От двух до пяти». И «Костры», разгоревшиеся потом в высоченные, выше сосен, ежегодные, переделкинские, – начались тоже здесь. И детские спектакли: играют дети, а костюмы и декорации создают настоящие художники. Это тоже находки куоккальские.
(В архиве Корнея Ивановича хранится и по сию пору уличное объявление, написанное его рукой; извещает оно о детском празднике, при участии художников, артистов, музыкантов; о пьесе «Царь Пузан», которая будет разыграна детьми; весь сбор с этого праздника должен пойти – говорится в объявлении, – на покупку книг для детской библиотеки… Лето 1916 года; а построил он библиотеку через 41 год, осенью 1957-го.)
Так мечта о библиотеке, объединяющей писателей, художников, артистов, детей и книгу, осуществилась в Переделкине, а зародилась в Куоккале.
Сколько раз он от нее отвлекался! Сколько раз возвращался к ней. Помню, как он собирал и жертвовал деньги на покупку книг для детей, собирал и жертвовал книги, отдыхая в Петергофе под Ленинградом. Потом в Луге. Потом в Сестрорецке.
(Таково было его веселое, непоседливое, непостоянное и в то же время упорное, по жизненное, сквозь-жизненное постоянство.)
Здесь же, в Куоккале, в 1915—16 гг. написан был и «Крокодил» – первая детская книга Корнея Чуковского. Здесь начались и другие труды, разросшиеся потом в книги: «Чехов», «Рассказы о Некрасове», «Современники», не говоря уже о том, что именно куоккальские годы были началом всех его дальнейших Некрасовских текстологических и комментаторских поисков.
Хорошо работалось ему когда-то в Куоккале.
«…и воздух чистый… и кругом ровный снег, и лыжи и безлюдье, и сосны, – порой я сам себе завидую», – писал Корней Иванович, переехав в Куоккалу.
Там он обрел свою духовную родину.
Там прошло мое детство.
1971
Переделкино
В издательстве «время» вышла книга Лидии Чуковской «Записки об Анне Ахматовой» в 3 томах
Книга Лидии Чуковской об Анне Ахматовой – не воспоминания. Это – дневник, записи для себя, по живому следу событий. В записях отчетливо проступают приметы ахматовского быта, круг ее друзей, черты ее личности, характер ее литературных интересов. Записи ведутся «в страшные годы ежовщины». В тюрьме расстрелян муж Лидии Чуковской, в тюрьме ждет приговора и получает «срок» сын Анны Ахматовой. Как раз в эти годы Ахматова создает свой «Реквием»: записывает на клочках бумаги стихи, дает их Чуковской – запомнить – и мгновенно сжигает. Начинается работа над «Поэмой без героя».. А вслед за ежовщиной – война…
В качестве «Приложения» печатаются «Ташкентские тетради» Лидии Чуковской – достоверный, подробный дневник о жизни Ахматовой в эвакуации в Ташкенте в 1941–1942 годах.
Вторая книга «Записок» Лидии Чуковской переносит нас из конца 30-х – начала 40-х – в 50-е годы. Анна Ахматова, ее нелегкая жизнь после известного постановления 1946 года, ее попытки добиться освобождения вновь арестованного сына, ее стихи, ее пушкиноведение, ее меткие и лаконичные суждения о литературе, о времени, о русской истории – таково содержание этого тома. В это содержание органически входят основные приметы времени – смерть Сталина, XX съезд, оттепель, реабилитация многих невинно осужденных, травля Пастернака из-за «Доктора Живаго», его смерть, начало новых заморозков. Эта книга – не только об Ахматовой, но обо всем этом десятилетии, о том, с какими мыслями и чувствами восприняли эту эпоху многие люди, окружавшие Ахматову.
Третий том «Записок» Лидии Чуковской охватывает три года: с января 1963 – до 5 марта 1966-го, дня смерти Анны Ахматовой. Это годы, когда кончалась и кончилась хрущевская оттепель, годы контрнаступления сталинистов.
Не удаются попытки Анны Ахматовой напечатать «Реквием» и «Поэму без героя». Терпит неудачу Лидия Чуковская, пытаясь опубликовать свою повесть «Софья Петровна». Арестовывают, судят и ссылают поэта Иосифа Бродского… Хлопотам о нем посвящены многие страницы этой книги.
Чуковская помогает Ахматовой составить ее сборник «Бег времени», записывает ее рассказы о триумфальных последних поездках в Италию и Англию. В приложении печатаются документы из архива Лидии Чуковской, ее дневник «После конца», её статья об Ахматовой «Голая арифметика» и др.