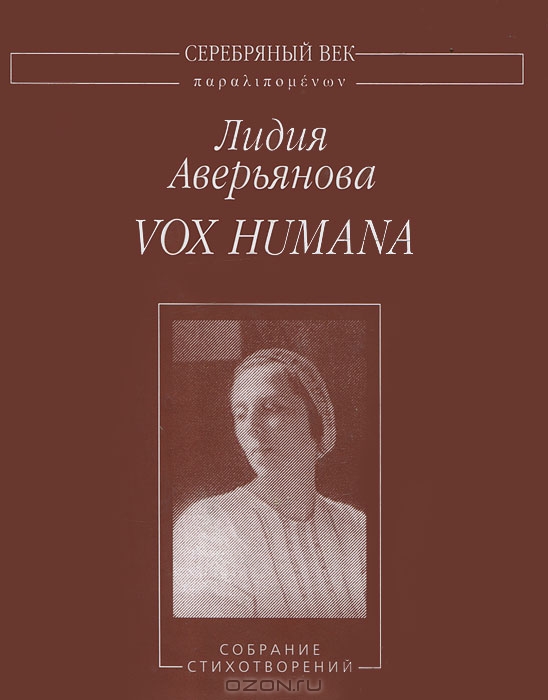
ЛИДИЯ АВЕРЬЯНОВА.VOX HUMANA: Собрание стихотворений
Из книги VOX HUMANA
1. «Угоден богу каждый спелый колос…»
Угоден богу каждый спелый колос.
Весь мир – во мне, но я – одна в миру,
И я люблю здесь только лирный голос
И строгую органную игру.
Живу. Душа предчувствием не сжата,
Спокоен взгляд, не устремленный вниз,
И путь мне ясен, время мой вожатый,
Per aspera ad astra – мой девиз.
2. «По имени и другом назови…»
По имени и другом назови.
Я – как и ты – в миру благословенна:
Не манит рай и не страшит геенна
Того, чья жизнь проходит без любви.
Пусть, сквозь двойное зимнее стекло,
Так глух и нежен дальний звон к вечерне –
Ни брачной ризы, ни венца из терний
Нас никогда желанье не влекло.
Земным не опаленные огнем
(Раздумья – много, счастья – ни обола),
К семи ступеням божьего престола
Мы нищими, но мудрыми придем.
3. «Щит от мира, колыбель поэта…»
Щит от мира, колыбель поэта,
Родина пили гримов любви.
Одиночество! Ты – хлеб ответа
На молитвы жадные мои.
День и ночь молилась о разлуке:
Весть была, что дорог мне жених.
Так устали складываться руки…
Даже лира тяжела для них.
Разве жизнь – не легче и безбольней,
И сандалий не щадит песок? –
Словно лестница на колокольню,
Путь мой темен, шаток – и высок.
4. «Матерь Божья Часу безответна…»
Матерь Божья Часу безответна:
Тихо судьбы шьет ее игла…
Вот, на землю тенью неприметной
Молодая жизнь моя легла.
… Может, я затем и приходила
В мир: учуять радость и покой,
И сердца – душистые кадила –
Легкою раскачивать рукой.
5. «Неотвратимо, неизбежно…»
Неотвратимо, неизбежно,
От всех распахнутых дверей
Меня уводит ветер снежный
Навстречу гибели моей.
Умы – в бреду, сердца – лукавы,
Извечно спутаны пути.
Ни мира, ни любви, ни славы
Мне в целой жизни не найти.
Сквозь годы ужаса и плена
Провижу, смутно – жребий мой…
– О, господи, давно колена
Я не склоняла пред тобой!
6. «Снежный ветер запевает в ставни…»
Снежный ветер запевает в ставни,
Медный звон колышет ворота…
Друг старинный, недруг мой недавний,
Вот – я здесь, печальна и чиста.
Ни себя не знала, ни любови,
Но от сердца я приемлю новь,
И чужда тяжелой скифской крови
Легкая как марево любовь.
Жизнь – проста, и слово неизменно:
Все пути приводят к одному…
Мне не снилось стать своей и пленной
В этом смертью раненном дому.
7. «Верно, сердцем уродилась суше…»
Верно, сердцем уродилась суше
И суровей множества людей:
Оттого-то бог и дал мне в души
Лучшего из черных лебедей.
И душа моя, сквозь вихрь и пламя,
Сквозь напевный колокол в веках –
Как большое траурное знамя
Бьется бешено в твоих руках.
8. «Что лирика? Быть может, сотый…»
Что лирика? Быть может, сотый
Ее оценит и поймет:
Здесь сердца дрогнувшие соты
Хранят любви старинный мед.
Что слава? Первый между ними,
Ничтожный – как дитя в гробу,
Из пыли медленно поднимет
Поэта хрупкую судьбу.
Что книга? Редким береженный
Ларец с прерывной нитью строк,
Последним служкою зажженной
Кадильницы душистый вздрог.
<9>. «Он сказал мне: «Видишь, ты чужая…»
Он сказал мне: «Видишь, ты чужая
Петербургской пламенной судьбе.
Бурным гневом медленно сгорая,
Этот город вспомнит о тебе».
И еще сказал он: «Накануне
Лучших лет училась ты любви.
И как только красный ветер дунет –
Разлетятся ангелы твои».
И закончил: «Маленькая, кто ты,
Чтобы за руку я взял, любя:
Посмотри, какою позолотой
Наша слава ляжет на тебя».
<10>.«Вставали дни, дряхлел и падал Рим…»
Вставали дни, дряхлел и падал Рим,
Росли названья славы и свободы,
Но с византийским именем твоим
Связала я девические годы.
Всё глубже раны варварским мечом,
Но плещет имя крыльями покоя,
И хорошо войти в прохладный дом
От звона стрел, от пламенного зноя.
Легки, как лани, стрелки на часах,
Седеет прядь, журчат года глухие,
И медленно качается в веках
Дарохранительница – Византия.
<11>. «…И снова затворилась дверь…»
…И снова затворилась дверь
Твоей тоски, твоей свободы.
Терпенье, улицы и годы
Шагами медленными мерь…
Но не безумствуй, не кляни –
Когда-нибудь из темной дали
Придет и он, твоих сандалий
Достойный развязать ремни.
ВТОРАЯ МОСКВА
Товарищу, назвавшему себя АЛЕКСАНДРОМ ФОКИНЫМ на пути Ростов/Дон – Москва, 2 сентября 1924 года
СЕДЬМОЕ НОЯБРЯ
Червонным золотом горит Москва.
И – крылья алой лебединой стаи –
Знамена плещут и шуршат слова,
Всемирной новью пьяно зацветая.
Когда б он встать, когда б он видеть мог,
Едва раздвинув стены мавзолея,
Как с каждым годом неизбежней срок
Земным плодам, что он с любовью сеял.
Не призрак по Европе – плоть идет
Широкоплечей силой, злой и голой. –
Звени, звени сквозь вычурный фокстрот,
Ближайших лет простая Карманьола!
ДЖОН РИД
Хорошо в свинцовой колыбели
Отдыхать под Красною стеной:
Не пришлец ты был здесь на неделе,
А товарищ сильный и родной.
Полюбил наш бурный скифский берег
И в тифозном, медленном бреду
Ты уже, над картой двух Америк,
Смутно видел красную звезду.
Ничего, что мнем твои страницы,
В заскорузлых пальцах теребя:
В крепком сердце самой вещей птицы
Наша память пестует тебя.
Золотой ордою комсомолья
Снова повесть будет прочтена,
Как терзалась родовою болью
Десять дней огромная страна.
С этой книгой станут наши дети,
Обновленной верные земле,
Под тяжелой славою столетий –
Третьей стражей в мировом Кремле.
ТРИ УЗЛА
В память лучших, три узла тугие
Завяжи на нити золотой,
Вот какою стала ты, Россия:
Самой крепкой, стройной и простой.
Оглянись на путь большой и странный
Ни одной не выпавший стране:
К воле плыл он, первенец желанный,
Стенька Разин в расписном челне.
И еще не отзвенело слово
И не стихла волжская вода,
Как мужицкой славе Пугачева
Поклонились в пояс города.
А недавний, разве он – не сын твой,
Тот, кто встал над омутом Москвы,
Кто тебе кровавую косынку
Повязал вкруг буйной головы.
Так греми же праведной Европе
Комсомольским хохотом в лицо:
Слишком трудно стаей ржавых копий
Пошатнуть кремлевское крыльцо.
МОЯ СТРАНА
Что мне посох, если насмерть ранен
Бредом я, и песнь моя хмельна:
Ведь кругом от грани и до грани –
Алым маком зацвела страна.
Широки поля твои, Россия,
Колокольни тонкие остры —
И горят, горят в глаза сухие
Неуемным пламенем костры.
Ах, зови, звени, пылай – доколе
Не придет орда сыновних рук
Медный голос этих колоколен
Перелить в густой машинный стук?
И пока любовь моя, скитаясь,
Горько чует верную тропу –
Стой, тихонько на ветру качаясь,
Лучший колос в мировом снопу.
СПАССКИЕ ЧАСЫ
Не глухое былье и не лобное место под теми,
Что когда-то певали – и божий нам славили страх.
Слушай, стоило жить, чтоб узнать наше бурное время,
Наше острое время на старых кремлевских часах.
Здесь у царских саней, надрываясь, скрипели полозья
И на башенный голос послушно вставала заря.
Но проходят года – и тяжелые зреют колосья
Сквозь суровые зимы, и весны, и дни Октября.
А Европа в петле, а Америка – в пытке, и гулко
По издерганным нервам ударил Московский набат. —
Да, желанною целью – за сетью кривых переулков –
Пилигримом свободы когда-нибудь станет Арбат.
Пять лучей не сочтем, как нагнется над миром комета,
Заметая обломки в костер, а часы на Кремле
Широко пропоют в наступившее красное лето
Колокольною песней торжественный полдень земле.
«Неровный ветер, смутный свет…»
Неровный ветер, смутный свет,
Знамен внезапное веселье –
И стойкий город на Неве
Качнулся красной колыбелью.
Тогда невиданной зарей
Над золотыми куполами, –
Москва, в тяжелый полдень твой
Вошло ликующее пламя.
И над тревогою Кремля,
Над мертвым сном Замоскворечья,
В просторы, в просеки, в поля
Мелькнул и канул вольный кречет.
Нам мнилось, пули счет сведут —
И пулями была расплата.
Горсть неприкрашенных минут
Рвалась столетьем циферблата…
…………………………………………..
Не голосом печальных книг
Расторгнутые трогать цепи:
Мы соты – солнечные дни –
На творческом досуге лепим.
Но поступь – тверже, глаз – острей,
И, за вожатыми словами,
Ступени медных Октябрей
Хранит размашистая память.
И город, пестовавший весть,
Еще хранит следы глухие,
Как билась судорожно здесь
В капкане времени Россия.
НАБАТ
Не раскольница в огненном стонет плену –
Красный ветер качает большую страну;
Красный ветер метет озаренную пыль, –
В самых дальних степях полыхает ковыль.
Нам дремучей любви не дано превозмочь,
Любо кинуться вместе в мохнатую ночь –
И летим, наклоняясь в скрипящем седле,
По изодранной, пламенной, гулкой земле.
Я не знаю, зачем, и не знаю, куда, —
Только слово «товарищ» мне хлеб и вода,
Только зарево пляшущим дразнит кольцом,
Только дым пеленает и нежит лицо.
Много верных встает в опаленной траве,
Но не каждый знамена крепил на Москве,
И не каждому выпал обугленный клад –
Слышать ленинский клич сквозь московский набат.
ДАТА
Еще мы помним четкий взмах руки,
Вожатый голос с пламенной трибуны….
Вот почему заводские гудки –
В мохнатой мгле натянутые струны.
Еще горят заветные слова,
Как и при жизни лучшие горели,
Но леденеет медленно Нева
В своей большой гранитной колыбели:
Но мерной дробью не стучит станок,
И темногрудые котлы не дышат:
Так самый первый, самый горький срок,
На пленном Западе острее слышен.
И дата смерти, как тугая нить,
Связует страны с неостывшим делом:
Нам бьют в глаза московские огни,
Нам красный флаг захлестывает тело.
РАБФАКОВЦАМ
1. «Оттого ты упорно заносишь науку в тетрадь…»
Оттого ты упорно заносишь науку в тетрадь,
Оттого ты сумел перелистывать плотные книги,
Что когда-то ходил города, словно ягоды, брать,
Что когда-то усталость в подхваченном плавилась крике.
Ты качался в седле, измеряя винтовкой страну,
Знаешь запах земли и смертельную речь пулемета,
А из жизни запомнил веселую повесть одну:
Как малиновый флаг был иглою рабочею сметан.
Ты стрелой отозвался на бурный Кремлевский набат,
Ты широкою памятью предан железным страницам. –
Если сорваны нити с гудящего вестью столба,
Эту весть разнесут красногрудые легкие птицы.
Будем только вперед неуклонно и просто смотреть:
Нарастают, звенят напоенные славою годы,
И тускнеет, дрожа, колокольная в воздухе медь,
И стальное весло рассекает зацветшую воду.
ВТОРАЯ МОСКВА
Ах, тебя ль обратною дорогой
И путем окольным обойду! –
Всё растет привычная тревога
В колокольном, каменном саду.
Череде далеких новолуний
Слышен плеск уже окрепших крыл. –
Старый город, ты ли накануне
Башнями о боге говорил;
Во хмелю, блаженный и увечный,
Припадал к соборному кресту,
Золотым своим Замоскворечьем
В синюю тянулся пустоту,
Царской плетью хлестанный до крови,
Лишь веригами звенел в пыли
А теперь ты – в памяти и слове —
Красный угол дрогнувшей земли.
«МОСКВА КАБАЦКАЯ»
Звон колокольный, звон неровный
Над затуманенной Москвой
И шелест яблонь подмосковных
Сквозь муть, и посвист, и запой.
И, словно горький сад осенний,
Выветриваясь и гния,
Мне открывается, Есенин,
Москва тяжелая твоя:
Недобрый хмель с полынью смешан,
Тоска дорогою легла….
Но всё размеренней, всё реже
У нас звучат колокола:
Нас, младших, солнце в лоб целует
И ломится от нови клеть….
А ты – ты мог Москву Вторую
В Москве Кабацкой проглядеть!
Пусть сердце-ключ на дне стакана –
Ржавеет медленно, и пусть
Тебя из проруби стеклянной
Зовет утраченная Русь. –
Не вековая тронет слава
Страницы гибели твоей:
Так тающий, медвяный саван
С высоких облетит ветвей;
Так наглухо задунет память,
Проводит воронье, кружа,
С последними колоколами –
Есенина неверный шаг.
СТАРАЯ МОСКВА
Едва вступив в широкий круг свободы,
Страна, как колос, солнцем налита,
Как жернова, перевернулись годы. –
Моя Москва, – и ты уже не та:
Пришла пора – недаром в полдень сирый
Добром народным наливалась клеть –
Рублем чеканным о прилавок мира
Раскатисто и буйно зазвенеть.
И вот крутая, новая дорога,
Ложась, сметает полусгнивший дом. –
Москва-часовня на ладони бога,
Москва, годам врученная на слом!
Ты помнишь день, когда, не чуя страха,
Мозолистая шарила рука –
За ситцевою лучшею рубахой
На самом дне большого сундука.
А там, вверху, с глухим и древним граем
Зловещее кружило воронье
И медь рвалась, отрывисто скликая,
Как на беду, на торжище свое.
Но празднично молчит Смоленский рынок.
Через плечо – гармошка на тесьме –
И мать крестила, на прощанье, сына,
Ходынским полем называя смерть.
«Что шуметь, о гибели жалея…»
Что шуметь, о гибели жалея,
Расточать надуманную грусть:
Нет, не смерть взяла от нас Сергея,
А его бревенчатая Русь:
Верно видел он сквозь ужас древний,
Те простые мерные года –
Как железом обрастет деревня,
Как взойдут на пашнях города.
Вправе мы не помнить об уроне,
Но стереть поднимется ль рука:
Он с другой Россией похоронен –
И земля да будет им легка.
«Ты опять со мной, моя Россия…»
Ты опять со мной, моя Россия,
Лучшей песней миру вручена. –
Но бедны слова мои сухие.
Широка московская страна.
Ах, по картам, в строках, меж строками
Мне ль учить такой большой урок. –
Вот опять перебирает память
Пряди русые дорог.
Ветер с Волги – мед и тополь вместе –
Словно гусли тронет эту грудь.
Колоколенка – слепая – крестит
Тенью пресеченный путь.
Оттого клонюсь к земле и к нови,
Что, под спудом, в теле у меня
Костромской и ярославской крови
Светлая цела струя.
Оттого и не зовет иное –
Только б дням шуршать степным огнем –
Что таким же, знаю, перегноем
Я войду в твой мудрый чернозем.
ЛАРИССА РЕЙСНЕР
1. «В дни былых, шальных разноголосиц…»
В дни былых, шальных разноголосиц,
В белом платье, в ливень пулевой –
Ты вела по Волге миноносец,
Чтоб знамена крепли над Москвой.
Ты глухие исходила страны,
Научилась многое уметь,
Чтоб крутым пескам Афганистана
В слитных строках вышло шелестеть.
Это сердце – словно с кручи горной
В воды времени упавший лот,
Это жизнь твоя мешком узорным
Перекинута через седло.
Женщина, поэт, товарищ стойкий,
Звонкий крик, летящая стрела –
Ты ли это на больничной койке
Так по будничному умерла.
Но, быть может, славе пред веками
Трижды лучше скинуть седока
В той Москве, чей первый новый камень
Опустила и твоя рука.
2. «Гул земли, лихой полет в седле…»
Гул земли, лихой полет в седле,
Зарево, свинец, степные дали –
Первенцы кремлевских бурных лет.
Мы других учебников не знали,
Но грядущей жизни мирен шаг –
И товарищ, опустив ресницы,
Перелистывает не спеша
Тесным шрифтом взбухшие страницы.
Лишь на миг в положенный урок
Грусть ворвется, словно грач залетный,
Да порой одна из трудных строк
Обернется лентой пулеметной….
Каждый час на вузовских скамьях,
В мягкой тишине лабораторий,
Помним – пролетариев семья
Опыт наш когда-нибудь повторит.
Те, кто там, за братским рубежом,
Ждут всемирного, крутого сдвига –
Пусть страна, в которой мы живем,
Будет им большой настольной книгой.
И чтоб враг не тронул наобум
Славой скрепленного переплета,
Как перо, оттачивайте ум
Для великой будничной работы.
Скучной мерой станем мерить сон
(Дни – в труде, за тихой лампой – ночи).
Чтобы в книгу ленинских времен
Лег и наш прямой и твердый почерк.
ВЕСНА
Уже на голос твой широкий,
Весна, на всплески влажных дней
Вразброд летят и бьются строки,
Как стая мартовских грачей.
Да, в этот год весна – иная:
Уже в листках календаря
Она пылает, залегая –
Страны десятая заря.
То слава по горбатым склонам
Сбегает в шелесте снегов,
И мир московским щедрым звоном,
Как чаша, налит до краев.
И на крутом ветру весеннем,
Едва опасный ломкий плен –
Дрожат церковные ступени
И хрупкий камень белых стен.
И тихо гаснет позолота,
Цветное сыплется стекло…
Шумит в размахе перелета
Москвы тяжелое крыло!
Шумит…. И бьется, отвечая.
В нас, отлученных навсегда,
Уже не сердце – мировая
Пятиконечная звезда.
ПАРИЖСКАЯ КОММУНА
1. «В день восемнадцатого марта…»
В день восемнадцатого марта –
О, незабвенный знак – Париж! –
Европы трепетная карта,
Каким ты именем горишь.
Нет, кровь стирается не скоро…
И, кровью щедро окроплен,
Вот он встает, бессмертный город,
В шуршанье ленинских знамен.
Но солнце славы всходит выше –
И здесь, над стынущей Невой,
Сквозь поступь лет всё шире слышен,
Париж, твой голос громовой.
Что ж, нам недаром о свободе
Певала с колыбели мать, –
И мы на улицу выходим
Парижским воздухом дышать.
Нам сладок час созревшей мести
За боль, отчаянье и плен….
И Сен-Жерменского предместья
Вам не поднять уже с колен.
Париж, Париж! За всё расплатой —
Москвы крылатая заря:
И вот мы мартовскую дату
Включаем в числа Октября.
2. «Мы поступь лет острее слышим…»
Мы поступь лет острее слышим,
Затем, что здесь, цельна, светла,
Нам буревая кровь Парижа
Сегодня к сердцу прилила.
Крыло свободы – знак нетленный –
Мы в наших буднях узнаем,
И вольный плеск далекой Сены
У нас под невским бьется льдом.
Дождей перебивая пряжу,
Шурша по скатам влажных крыш,
Нам ветер мартовский расскажет
О лучших днях твоих, Париж –
О днях тревоги и отваги,
Когда, гремя щитами стен,
Скрестили улицы, как шпаги,
Сент-Антуан и Сен-Жермен.
Когда стремглав в рассвет кровавый
В смятеньи падала земля.
И смерть всходила величаво
На Елисейские поля…
Париж. Простое начертанье,
И, славой щедро окроплен,
Он нам раскрыт в живом преданья
И в складках Ленинских знамен.
3. «Париж, высоким пламенем свободы…»
Париж, высоким пламенем свободы
Был озарен последний вечер твой.
Плеснулась кровь твоя, сквозь дни и годы,
Знаменами над вздыбленной Москвой.
Зерно тревог, сквозь все сады Версаля
Ты проросло для жатвы Октября.
Завод гудит – рекой огня и стали
Встает она, парижская заря.
Мы красной нитью связаны с тобою.
Твоих костров нам нежен перегар –
И ровным, бодрым током Волховстроя
Нам в тихой лампе вспыхнул твой пожар.
Париж, ты бился, рваный и голодный,
Людской волной о стены стройных войск —
И вот уже времен ремень приводный
Несет толпу, раскатанную в лоск…
Навстречу дням – нестройным, трудным стаям,
От пуль и бурь не заслонив лица,
Мы с каждым годом вдумчивей читаем
Простую повесть крови и свинца.
СТИХИ О КИТАЕ (1927)
1. «Сын свободы, лучший между ними…»
Сын свободы, лучший между ними,
Он в сердцах как знамя укреплен:
Красной тушью выведено имя
На седом пергаменте времен.
По складам о нем читают дети,
Старшие поют о нем всегда –
В армии, шагающей в столетья,
И в кварталах нищего труда.
Но в стране, взрастившей Сунь-Ят-Сена,
Тот – другой – народом не забыт:
Желтой охрой вписана измена
В книгу славы, гнева и борьбы.
Ничего, что в памяти Востока
Гулко бьется нанкинский расстрел,
Что в Хайларе, у стены широкой,
Двадцать три их взято на прицел:
Плещет знамя, нарастают годы,
Лук беды – натянут невзначай…
И звенит, звенит в руках свободы
Драгоценной чашею Китай.
2. 20 МИНУТ
Выходи на простор, на звенящий тревогою воздух,
И в шуршащих газетах заглавные строки читай —
И поет налету и качает вечерний наш роздых,
И горит над толпою крылатое имя – Китай.
Вот опять и опять льются в мартовский сумрак знакомый
По дрожащим антеннам те двадцать минут буревых —
И плывет без конца, мимо залитых светом райкомов,
Море красных платков по сплетенным бульварам Москвы.
Это – здесь. А у них – в этот миг нарастает другое:
Каждый камень Нанкина захлестнут смертельной игрой,
И, сквозь меткий обстрел, человеческим мутным прибоем
Бьется гневное море о борт канонерки чужой.
Всё запомнится навек, всё скажется в жатве богатой:
Мерный стук телеграфа. Колеса, дробящие путь…
И под кожаной курткой, в кривых переулках Арбата,
Нам английский свинец обжигает упорную грудь.
3. НЕ КРЕПОК ЛИ ЧАЙ?
Утром за завтраком, «Таймс» свой листая,
Худо вам в Лондоне, мистер Олл Райт, –
Из опрокинутой чаши Китая
Пить на крови настоявшийся чай.
Худо ль на древнем китайском фарфоре –
Стерпит и это чужая земля –
Маркой поставить корону над морем,
С надписью «боже, спаси короля».
Но неуклонно, за пулями следом,
Смело, под шелест кровавых знамен,
Входит крылатая джонка победы
В освобожденные воды времен.
В воздухе, звонком как клич Гоминдана,
Славою вычерчен вольный Шанхай. –
Рано губами причмокивать рьяно:
Эй, джентльмены, не крепок ли чай?
ПЕРВОЕ МАЯ
Уже нам трудно заучить
Узоры льда и ветер снежный –
И солнца ломкие лучи
Теплеют медленно и нежно.
И тяжело струится пыль
На камни выветренной славы.
Адмиралтейский тусклый шпиль…
Веками стертые заставы…
Дымок над бледною Невой
В ее гранитной колыбели…
Таким он врезан, город мой,
В день догорающий апреля.
Но вот – тихонько ночь легла,
Чтоб утром вывести иное:
Москвы литые купола
Над северною стороною.
И вот уже другой напев
Качает наш невольный роздых —
И бьется знамя, осмелев,
И звонок первомайский воздух.
Ступай на улицу: она
Шуршит расцвеченной сарпинкой,
Когда страны твоей весна
В малиновой идет косынке.
Широк свободы красный звон,
Заря времен звездою всходит –
И Кремль всемирный отражен
В одном – всемирном – половодьи.
СТИХИ О КРОНШТАДТЕ
Здесь слава якорем крутым
Лежит на свернутых канатах,
И тяжек синеватый дым
В волнах простертого Кронштадта.
И стклянок тонкий, мерный звон
В глухую ночь над фортом пролит,
Где каждый камень закреплен
Пластом бодрящей, влажной соли.
Маяк, спокойный на ветру,
Вода и воздух, мол широкий…
Здоровьем просмоленный труд:
Страна в движеньи, в планах, в доке.
Переплеснулась чайкой весть –
И Кремль выводит командиров,
И красный вымпел поднят здесь
Над плоской палубою мира.
Всё крепнет кормчая рука,
Десятый рейс упорно начат. –
Свобода, врезана в века
Твоя негнущаяся мачта!
Былые дни – в костер, на слом:
В моря времен, к потокам света
Стальным, высоким кораблем
Плывет республика советов.
ПОРТ
Он вычерчен углем в неясном тумане,
На слух и на ощупь обветрен и груб.
Но он не предаст, не остынет, не встанет –
Крутой перелесок и тросов и труб.
С зарей он шумит, просыпаясь угрюмо –
И цепь громыхает в проржавленный люк;
Распахнутый жадно, он зевами трюмов
Глотает мазут, и пшено, и урюк.
Он грузы на коготь разлаписто ловит –
И груз полукругом плывет в синеве,
И вымпел, алее запекшейся крови,
Над жилами барок кричит о Москве.
ЛЕНИНГРАД
От вокзала, от финских обугленных шпал
До кирпичной стены арсенала –
Этим воздухом Ленин когда-то дышал,
Здесь, у моста «Аврора» стояла.
Не остыть, и не скинуть, и не превозмочь;
Кружит времени бурная пена –
И, срываясь, гудят в непроглядную ночь
С ледоколов шальные сирены.
И на крепком, порывистом, влажном ветру
Видишь, – мачта качнула огнями,
И струится по докам размеренный труд,
И развернуто сердце, как знамя.
В дни и годы, в пургу, в мировой бурелом,
В зыбь веков, в голубое приволье –
Этот город простерт ястребиным крылом
Над балтийскою, мутною солью.
Здесь и швед, и китаец по-своему брат
Всем пимам, тюбетейкам и буркам;
Это алым побегом растет Ленинград
Из болот и трущоб Петербурга.
Колыбель революций, краском на часах –
Мы добьемся… до боли… до черта –
Разве «Красин» не шел, надрываясь, во льдах,
От ворот ленинградского порта?
От вокзала, от финских обугленных шпал
До кирпичной стены арсенала –
Этим воздухом Ленин когда-то дышал,
В этих водах «Аврора» стояла.
«Уже осыпалась весна…»
Уже осыпалась весна,
И красное ложится лето, –
В десятый раз обновлена
Страна широкая советов.
Взгляни вокруг. Она – твоя.
Ее моря. Ее просторы.
Бежит стальная колея…
Леса. Равнины. Реки. Горы.
Спеши туда, в тепло, на юг,
Свой стан расправить онемелый,
Загладить будней нудный стук,
На солнце переплавить тело,
А тронет за сердце тоска –
Над полосой береговою
Ловить знакомый шум станка
В гремящем, плещущем прибое.
И снова в омут городской
Вернешься ты с курортной койки,
Ступая четко и легко,
Веселый. Загорелый. Стойкий.
И снова – в свой машинный сад,
Но с грузом бодрости и смеха,
Чтоб крымский вдруг узнать закат
В огне мартеновского цеха.
ИЮЛЬ
О полдень стихла полоса.
Лишь ветер пробежал… Вожатым.
Рожь плещет золотом пернатым,
Внезапный свет слепит глаза…
Так, первым громовым раскатом,
Встает июльская гроза.
Уже он рухнул, царский дом.
Но на обломках черной славы –
Всё тот же знак – орел двуглавый,
Еще не отданный на слом.
И вот – июль с глухой заставы
Кровавым пропился дождем.
О, хмель перебродивших дней!
Мы шли, мы падали – ну что же:
Другие нашу песню сложат –
Всё о свободе, всё о ней…
И сердце вынести не может
Тот жар мартеновских огней.
Нас Ленин пестовал не зря,
Мы выросли в суровой неге:
И в дни, когда на русском снеге
Горит всемирная заря –
Нам бьют июльские побеги
В широкой жатве Октября.
ФЕЛИКС
Всегда в огне, всегда за делом,
Всё передышка далека.
И сплавлены рукой умелой
ВСНХ и ВЧК.
Крушенье. Взрыв. Шальная пуля
Из-за угла. Распада тень –
И вот в двадцатый день июля,
Жизнь – перетершийся ремень.
На лоб надвинутая кепка.
Весь молчаливый и стальной,
Таким ушел и лег он крепко
В дозор под Красною стеной.
Но в младших — воля и сноровка,
Один подход, борьба одна…
Так будь же, память, как винтовка,
Его свинцом заряжена!
И если вдруг ослабнут силы,
Одни пример – нам Феликс дан,
Чтоб удержать сподручней было
Коня, портфель или наган.
ЧАСЫ НА КРЕМЛЕ
Часы на Кремле никогда не стоят.
Четырежды вчерчен в века циферблат.
…Их слушает вся страна.
Натянута туго времен тетива
И стрелка идет, наклоняясь едва.
…Их слушает вся страна.
С котомкой ушел из деревни мой дед.
Но внучка находит протоптанный след.
…Их слушает вся страна.
Ей шрифтом газету дано окропить,
Ей выпала пряжей словесная нить.
…Их слушает вся страна.
И строки, как полосу, выправим мы
За лен и зерно золотой Костромы.
…Их слушает вся страна.
И тихо в деревне дивятся судьбе
И слушают радио в светлой избе.
…Их слушает вся страна.
А в гулкой столице, сквозь темень и сон,
Нещадно ночами звонит телефон.
…Их слушает вся страна;
И Спасская башня в ночной тишине
Приходит к тебе и приходит ко мне.
…Их слушает вся страна.
СТРАНА СОВЕТОВ
Простой и пламенной. Такою,
Годами-крыльями звеня,
Она встает передо мною –
Страна моя, любовь моя.
Вокруг Кремля – сердец ограда,
Знамен протянутая кровь…
Мне больше ничего не надо,
Страна моя, моя любовь!
Звездой ведома пятипалой,
Высокой славе вручена,
Качайся, мак мой темно-алый,
Моя любовь, моя страна.
А если выпадет иное:
Снарядом сбит дымок жилья, –
Ну, что ж, мы ляжем перегноем,
Страна моя, любовь моя!
ОПРОКИНУТЫЙ ШЕВРОН. Стихи
АКРОСТИХ
Ах, нет пути, мне нет пути назад!
Нестройное меня сжигает пламя:
Душа моя – как Соловьиный Сад –
Российскими звенит колоколами.
Едва струится полночь над водой
И гулкий мост свои качает звенья…
Когда б я стать могла чужой судьбой,
Одним неотвратимым совпаденьем! –
Рука к руке. Сарказма нежный лед…
Старинный недруг, нет, Вы не поймете:
У нас, под спудом память бережет
Неву, и ночь, и сердце на отлете.
СКРЫТЫЙ АКРОСТИХ
Алый вечер, влажный ветер,
Онкоснулся дней моих –
И с двойной судьбой на свете
Мне расти – и трогать стих:
Знаю, если луч заката
Тонким путь мой пресечет –
Вот, замкнулась я от брата
В тихий дом и нежный лед;
Если ветер – божий странник
Сдует радость с губ долой –
Это сердце будишь к ранней
Ты, недобрый княжич мой!
КОЛЧАН
А.И.К.
Я не запомню лик такой
На складнях дедовских молелен
– Как мне отпущенный, двойной
Колчан ресниц твоих смертелен.
Червленых дней не расплести,
Плывет туман, как жемчуг зыбкий
– Какие замкнуты пути
Одной дугой твоей улыбки.
Но – ветер из далеких стран –
Я вновь стою в плаще разлуки…
– Каких неизлечимых ран
Не уврачуют эти руки.
«Знаешь, в дни, когда я от бессилья…»
Андрею
Знаешь, в дни, когда я от бессилья
Становлюсь, вот так, сама собой –
Простирают огненные крылья
Ангелы к душе моей слепой.
Ах, я в брод прошла такие реки,
Я прочла, мой друг, так много книг,
Что у лучших опустились веки
И заплакал сам Архистратиг.
Только это сердце принимая,
Ни большой, ни мудрой не зови:
Я такая женщина простая,
Нищая в моей к тебе любви.
Вот, я здесь, в моем плаще разлуки;
Всем ветрам не удержать меня –
Но твои пылающие руки
Мне страшнее моря и огня.
Эта боль в подкошенных коленях –
Снится мне с годами всё сильней:
Головой на каменных ступенях
Я лежу у милых мне дверей.
«У тебя глаза – теплеющие страны…»
У тебя глаза – теплеющие страны,
Крылья времени у твоего плеча,
В памяти медовым говором Тосканы
Флорентийская шуршит парча.
Ах, во флорентийских хрониках любили
Так, как мне тебя не полюбить, Андрей:
Наши дни – как связка флорентийских лилий –
Только тень других, высоких дней.
Но под русскими снегами бьется сердце,
Кровь бежит венчальною струей.
О, Флоренция, Флоренция, Фьоренца,
Вот, смотри, ты назван именем ее.
И больших пространств едва тугое пенье
Катится, как в темном кубке жемчуга:
Флорентийской жизни древнее теченье
Входит в северные берега.
«Я сказочно богата ожиданьем…»
Андрею
Я сказочно богата ожиданьем.
Живу – и дней крылатых не считаю.
За долгий путь вознаградит свиданьем
Старинный недруг – или друг – не знаю.
В полотнах времени идет навстречу
Тот, кто навек назначен мне судьбою. –
О, кто б Ты ни был – знай, Ты мной отмечен:
Благословенье Божье над Тобою.
Взгляни в лицо мое – Твое отныне,
В мои глаза, опущенные строго:
К Тебе, к Тебе ведет меня и стынет
Тропой цветочной райская дорога.
«Нет, клекот дней не чувствовать острее…»
Нет, клекот дней не чувствовать острее,
Но жить стремглав, бездумно налегке –
Не камнем медленным на этой шее,
Но четками на дрогнувшей руке.
И двигаться, шурша, нежнее дыма,
Как Ариаднина струиться нить —
Чтоб было Вам, мой друг, неповторимо
Легко держать и легче уронить:
Ведь с тонкой тенью моего заката
Пути скрестились Ваши и мои –
И сердце Корсунов в гербе крылато
Двойной стрелою смерти и любви.
«Крылом любви приподнята над всеми…»
Крылом любви приподнята над всеми…
Мой ломкий жребий нежен и жесток. –
Глубокой ночью ропщущее время
Глухим прибоем плещется у ног.
В плаще времен мне стройной снится тенью,
Как кипарисы, молодость твоя.
К твоим губам, к узлу сердцебиенья,
Цветком надломленным склоняюсь я.
И жутких глаз я больше не раскрою,
Но ковриком душа простерта ниц –
И смерть едва заметною ладьею
Плывет по краю сомкнутых ресниц.
Орлиный клекот, ветер непокоя,
Сжигая дней легчайшие листы,
В высокой муке, под моей рукою,
О, сердце Корсунов, как бьешься ты!
«О, в складках всё одной мечты…»
А. К.
О, в складках всё одной мечты,
В тисках холодного веселья,
Мне снится, снится, друг, как ты –
Ее целуешь ожерелье.
И, руки спрятав за спиной,
Чтоб не схватить ножа тупого, –
Я, в оскорбленье ей одной,
С трудом придумываю слово.
…И, верно, голос твой ослаб:
Ее руки рукой касаться…
С улыбкой спит она. Когда б
Она мота не просыпаться!
И часто так, в тугом плену,
Хмельным качаемая зельем,
Я вдруг ей горло затяну
Ей возвращенным ожерельем.
«И я справляю свое Рождество…»
И я справляю свое Рождество:
Стою, смотри, у окна твоего.
И вижу ограду, каток, кусты
И всё, что обычно здесь видишь ты.
Не ты со мной, но большие слова,
Вот, имя твое приходит сперва,
Ложится на сердце крылами букв,
Сухая ладонь приглушает стук.
В круженьи, в тревоге, в плену таком,
Зачем я вошла в этот серый дом.
Мой стройный, высокий, хороший весь,
Андрей, я не знаю, зачем я здесь.
Вздымается жизнь за твоим окном –
И слезы весь мир рисуют пятном,
И ветер – сквозь жуткий нездешний свет –
Качает деревья, которых нет.
АКРОСТИХ
А я не та. Опять мой голос ломкий
Над степью лег, под купол синевы. –
Да, туже всех ремень моей котомки
Рукой своею затянули Вы.
Еще я – факел на ветру разлуки,
И я горю, чуть вспомню милый дом,
Когда мой стих я Вам роняла в руки,
Обожжена строфическим крылом.
Развеян теплый пепел вспоминанья.
Спокойной будь. Ты вновь обречена
Уйти. В тебе, как в опустелом зданье,
Нет больше жизни. Только тишина.
«Я помню, девочкой, случайно…»
Я помню, девочкой, случайно
С судьбою вымысел сплетя,
В полях, под снегом, с болью тайной
Андреев-крест искала я.
Ни волк, ни зверь иной не тронет
Меня, царевну – и домой
Цветок несла я меж ладоней,
Как сердце, данное судьбой.
И вот – Тебя зовут Андреем.
Над нами высятся года.
При встрече — нет, мы не краснеем
И улыбаемся всегда.
Но если, друг, неясны дали,
Твой жребий темен и жесток —
Мне будет крест твоих печалей
Как легкий некогда цветок.
ДНИ
Как дней пустые жемчуга
На теплый пепел сновиденья –
Спадет на наши берега
Вода глубокого забвенья.
Они кричат, слова мои.
Всё ищут выхода и входа
Румяно прожитые дни,
Тревогой скошенные годы.
Как больно мне не быть твоей.
Как мысль терзается сухая,
Квадратный жемчуг наших дней
В последний раз перебирая.
Смотри, как дом распахнут твой –
И снова, дрогнув от бессилья.
Мой голос над твоей душой
Простер надломленные крылья.
СОНЕТ-АКРОСТИХ
Дано мне сердце – сокол меж сердцами –
А мне ему не перебить крыла,
А мне таких – как солнце, как стрела! –
Не удержать бескрылыми руками.
Дай мне взглянуть в лицо твое. Над нами
Редчайший север – небо из стекла;
Его лучи я тихо отвела:
Италии твоей шуршит мне пламя.
Как будет трудно жить мне без тебя.
Одна любовь ладьей сонета правит.
Ровнее стих. Не узнаю себя:
С какой зарей мой сон меня оставит?
Уходит всё. И всё возвращено.
Не страсть стареет – доброе вино.
ГРЕЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ
День раскрывался, как белый подснежник.
Солнце стояло за облачной дверкой —
В Троицын день, благовонный и нежный,
В Троицын день я вошла в эту церковь.
Я – с нерушимой твоей колыбелью,
С темным крылом моего лихолетья…
Воздух струился над плоской купелью
Греческим медом и греческой медью.
В рай позолоченный, к тесной иконе
С веткой березы, прозрачной и узкой:
Здесь обо всем, что к земле меня клонит,
Матери Божьей я всплачусь Корсунской…
В вихре знамен, в молодом большетравьи
Я пронесу через годы тугие
Дрогнувший дар твоего православья,
Выпуклый клекот твоей Византии.
СОНЕТ-АКРОСТИХ
Нет, он другой; не выше и не лучше –
Его собой ты не напомнишь мне.
А я – ну, что ж: на всем твоем огне
Не таю я. Моя дорога круче.
Другим путем – путями всех излучин
Растет любовь, пришедшая извне:
Ей арфой быть в хрустальной тишине.
…И так, как ты, никто меня не мучил.
Каких камней не бросишь ты в меня?
Оставь, хоть в шутку, сердце не разбитым.
Редеет сумрак. Жизнь идет, звеня.
Скажи, что с кубком делать мне испитым?
Улыбки нет. Успокоенья нет.
Нет и другого. Есть – еще сонет!
«Я знаю дом: и я когда-то…»
Андрею Корсуну
Я знаю дом: и я когда-то
Жила в такой же тишине,
Лучи такого же заката
Зарю играли на стене.
Мы ценим, первенцы последних,
Воспоминанья хрупкий морг –
И геральдические бредни,
И геральдический восторг.
В другой эпохе безмятежно
Застыли стрелки на часах –
А на столе, как вечер нежном,
Развернут Готский Альманах.
Ты бьешь крылами непокоя,
В роду последнее звено –
И мне горит твое большое,
Чуть розоватое окно.
В ветвях чужих генеалогий,
До света легкий тратя свет,
Ищи исход своей тревоге –
Исхода нет. Покоя нет.
Года разрушат всё, что хрупко –
И нам останется одно:
Из геральдического кубка
Тянуть старинное вино.
АКРОСТИХ
Ах, в каких видала сновиденьях
Не тебя, мой княжич – твоего
Двойника ли, ангела – в смятеньи
Разве сердце скажет мне, кого.
Есть во мне стихов тугие струны
И дуга большого мастерства.
Как мне быть, когда таким бездумным
Одиночеством горят слова.
Редкий день пройдет без песнопенья,
Словно церковь, стала я душой.
Увидать в каких бы сновиденьях
Не тебя, не друга – жребий мой.
«О, милая любовь моя…»
О, милая любовь моя,
О, сердце, полное смятенья! –
Как неразрывен круг огня –
Тех дней пылающие звенья.
Склоняясь к твоему плечу,
Как некогда ко сну и смерти –
В какие бездны я лечу,
Какие звезды путь мой чертят?
Я сердцем брошена в снега,
Как Кая ищущая Герда, –
И слов большие жемчуга
Дрожат меж створками конверта:
Растает льдинкой эта ложь.
Придет Она – ты, в злом весельи,
Ей шею трижды обовьешь
Мной сотворенным ожерельем.
«Авиньонское мое плененье…»
Авиньонское мое плененье.
Нет путей к семи холмам покоя.
Дни мои – они лишь отраженье
Рима, затененного Тобою.
Ель качнула треугольный терем,
Италийский воздух, умиранье…
Как живые мысли мы умеем
Отравлять водой воспоминанья!
Редок, счастье, твой некрупный жемчуг.
Снежной пряжей тихо тает – наше.
У меня, во сне, всё губы шепчут:
«Наклонить Тебя — и пить, как чашу»…
СЕРЕБРЯНАЯ РАКА. СТИХИ О ПЕТЕРБУРГЕ. 1925-1937
Посвящается Л. Р.
«Я не позволю – нет, неверно…»
Я не позволю – нет, неверно:
Уже смертелен мне Твой рот, –
Любовь – взволнованную серну –
Прикосновеньем сбить с высот.
Легки супружеские узы,
А может быть – их вовсе нет…
Ты мудро вызолочен Музой:
Что ж, погибай – один ответ.
А я стою вне всякой скверны…
Так доживает век, один,
На женщин, верных и неверных,
Тобой разменянный Кузмин.
I
«Других стихов достоин Ты…»
Других стихов достоин Ты.
Развязан первой встречи пояс:
Нева бросалась под мосты,
Как та Каренина под поезд.
На эту встречу ты подбит
Был шалым ветром всех созывов…
И я схватилась за гранит,
Как всадник держится за гриву;
И я… но снова о Тебе…
Так фонарем маяк обводят.
Так выстрел крепости, в обед
Доверен вспугнутой погоде.
Так всякий раз: Нева. Гранит,
Петром отторгнутые земли…
И поле Марсово на щит
Отцветший свой меня приемлет.
«Дворец был Мраморным – и впору…»
Дворец был Мраморным – и впору
Событью. Он скрывал Тебя.
Судьбой командовал Суворов –
И мы столкнулись – Ты и я.
Нева? Была. Во всем разгоне.
И Марс, не знавший ничего,
Тебя мне подал на ладони
Большого поля своего.
С тех пор мне стал последним кровом
Осенних листьев рваный стяг,
И я, у дома Салтыкова,
Невольно замедляю шаг;
Как меч на солнце пламенею
И знаю: мне не быть в плену:
Оставив мирные затеи,
Любовь ведет со мной войну.
«За то, что не порвать с Невой…»
За то, что не порвать с Невой,
А невский ветер студит плечи, –
Тебя выводит город мой
Из всех туманов мне навстречу.
За то, что каждый камень здесь,
Как Ты – любим, воспет и строен, –
Ты городом мне выдан весь
На ямб. И город мой спокоен:
Не станет беглый взгляд темней,
Едва скользнув за мною следом. –
Ты городом поставлен мне
На вид: как эта крепость – шведам.
Но не гордись. Мне всё равно,
Тебя ль касаться, лиры, лютни…
Любой Невы доступно дно,
И я не стану бесприютней.
«Фельтен для Тебя построил зданье…»
Фельтен для Тебя построил зданье,
Строгое, достойное Тебя, –
И Нева бежит, как на свиданье,
Спутница всегдашняя твоя…
Вставлен в снег решеток росчерк черный,
Под ноги Тебе, под голос пург,
Набережные кладут покорно
Белый верх своих торцовых шкур.
И, Тобой отмеченный, отныне
Мне вдвойне дороже город наш. –
Вечный мир второй Екатерине,
Нам воздвигшей первый Эрмитаж.
«Расставаться с тобой я учусь…»
Расставаться с тобой я учусь
На большие, пустые недели, –
Переламывать голос и грусть,
Мне доверенные с колыбели:
Чтобы город на завязи рек
Предпочла я высоким мужчинам,
Чтобы не был чужой человек
Безраздельным моим господином.
Или вправду Ты нужен мне так,
Что и город мой – темен и тесен? –
Отпусти меня в море, рыбак,
Если мало русалочьих песен:
Пусть привычное множество Нев
В той, гранитной, качнет меня зыбке, –
Чтобы имя короткое: Лев, –
Мне не всем говорить по ошибке.
ЛЕТНИЙ САД
Младшим – стройное наследство,
Лебедь, кличущий назад, –
Ты мной дивно правишь с детства,
Венценосный Летний Сад.
Дрогнет мраморное вече.
Жолудь цокает в висок.
Место первой нашей встречи
От тебя наискосок.
Так. Скудеющей походкой.
Так. Растеряны слова.
Там, за дымчатой решеткой,
Тяжко стелется Нева.
Струны каменные – четче
Всех чугунных – горний кряж…
Так тебя украсил зодчий,
Тот, что строил Эрмитаж.
Летний Сад, какое лето
Нас введет сюда вдвоем?
Вдоль гранита плещет Лета,
Покоренная Петром.
«Как Гумилев – на львиную охоту…»
Как Гумилев – на львиную охоту,
Я отправляюсь в город за Тобой:
Даны мне копья – шпилей позолота –
И, на снегу, песок еще сухой,
И чернокожие деревья в дымной
Дали, и розовый гранитный ларь, –
И там, где лег большой пустыней Зимний,
Скитаюсь, петербургская Агарь…
«Когда всё проиграно, даже Твой…»
Когда всё проиграно, даже Твой
Приход подтасован горем, –
Тогда, выступая как слон боевой,
На помощь приходит город.
Он выправит, он – неизбежный друг –
Мне каждый раскроет камень,
Обнимет, за неименьем рук,
Невы своей рукавами.
И, в каждом квадрате гранитных риз
Лелея на выезд визу –
Мне можно ослепнуть от снежных брызг –
Эдипу двух равных Сфинксов.
И снова, укачивая и креня,
Под свод Твоего закона
Мой город вслепую ведет меня –
Недвижная Антигона.
II
БИРЖА
Здесь зодчая рука Томона
Коснулась дивной простоты –
И камень камню лег на лоно,
Хранить дощатые мосты.
О, Биржа! на первичном плане
Так строгий замысел встает,
И чутко слышал иностранец
Неву, туман и тонкий лед:
На мерно скрепленные стены
Струится веско тишина,
И, в складках сумрака, нетленна
Колонн крутая белизна;
И на широкие ступени
Здесь ветер с ладожских зыбей
Склоняет ломкие колени
Пред стойкой прелестью твоей.
«Владимирский собор чудесно княжит…»
Владимирский собор чудесно княжит
Над садом, над Невою, надо мной…
Я тронута мечтательно – и даже
Не синевой, не белизной:
Нет в нем одном так оба цвета слиты,
Что вижу я (и замедляю шаг)
Над Петербургом – палубой немытой –
Андреевский полузабытый флаг.
«На Марсовом широковейном поле…»
На Марсовом широковейном поле
Острее запах палого листа
И ветер мне – крупицей свежей соли
С горбатого, сурового моста.
О, город мой, как ты великолепен!
Здесь перебито будней колесо.
Заботы о ночлеге и о хлебе –
Горсть желудей и небо: вот и всё.
Так воробьи, в песке чуть влажном роясь,
Бездомными не чувствуют себя.
И кажется тогда мне: я покоюсь,
О, город мой, на сердце у тебя.
«Так. Желтизна блестит в листве…»
Так. Желтизна блестит в листве.
В оцепененьи жгучей муки
Мечеть в постылой синеве
Простерла каменные руки.
И, преломляясь, никнет дым,
С дорожной смешиваясь пылью.
А я иду путем моим.
Уж август складывает крылья.
И, больше чем любой исход,
Острее ласкового слова,
Мена, такую, развлечет
Листок плюща с окна чужою.
«Лает радио на углу…»
Лает радио на углу
И витрина освещена,
И по дымчатому стеклу
Рьяной струйкой бежит весна.
Демос – вымер, и город спит.
Не сказалось. Не вышло. Что ж.
Только ветер мне плащ и щит,
Только ветер и дождь, и дождь…
Старый дождь, мы с тобой вдвоем,
Дрогнет площадь и даль пуста.
Как любовники, мы пройдем
На зеленый глазок моста.
КНЯЗЬ-ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР
I. «Среди берез зеленокудрых…»
Среди берез зеленокудрых
Собор, как чаша, вознесен:
Трезини был он начат мудро,
Ринальди славно завершен.
В обличьи стен – еще простое:
Петровский росчерк, прям и смел.
И колокольня высотою –
О, в тысячу парфянских стрел!
Но не об этом встанет песня
Костром в лирической игре:
Не о соборе, всех чудесней.
Не о Трезини и Петре…
Высок и прост мой символ веры:
Я сквозь листвы живую сеть,
Вон с той скамьи, на дом твой серый
Могу рассеянно смотреть.
II. «Никогда мне Тебя не найти…»
Никогда мне Тебя не найти,
Мне не встретить Тебя никогда –
Так запутаны в мире пути,
Так трудны и шумны города.
И, чтоб я отыскала Твой дом,
Как жемчужину в горста сестер,
Стал высоким моим маяком
Князь-Владимирский белый собор.
В сером доме, где, в шесть этажей,
Под лепною ромашкой бетон,
Я не знаю заветных дверей,
Не узнаю окна меж окон.
И ворота – двойной лепесток –
Раскрываются, тихо звеня…
Каждый тонкий, литой завиток
Мне дороже, чем юность моя.
Припадаю, в трамвае, к стеклу
Жаром сухо очерченных губ:
Ты живешь на чудесном углу,
Против дома, где жил Сологуб.
«Город воздуха, город туманов…»
Город воздуха, город туманов,
Тонких шпилей, протяжных сирен, –
Никогда я бродить не устану
Вдоль гранитных приземистых стен.
Хороша, как походка красавиц
И как первая в жизни любовь,
Многих Нев многоводная завязь,
С синевою, как царская кровь.
Если дальше дышать не смогу я,
Как я знаю, что примете вы,
Полновесные, темные струи,
Венценосные воды Невы.
«… И ты, между крыльев заката…»
… И ты, между крыльев заката,
Как луч в петербургской листве,
Проходишь под аркой Сената
К широкой, спокойной Неве.
Мой город… он – голос и тело,
Сквозь зданий облупленный мел.
Он голубем сизым и белым
На финские топи слетел;
Он вырос из грубого хора
Московской, тугой суеты –
Мой голос, мой голубь, мой город,
Родной и высокий, как ты.
НА ОХТЕНСКОМ МОСТУ
Чешуйчатые башни
На Охтенском мосту,
Где лед скользящей пашней
Развернут на версту.
Фонарь, ведро олифы –
Расплесканный уют…
В двух горенках – два скифа –
Привратники живут.
Они сметают мусор
В железные совки –
Окурки, шпильки, бусы
И драные кульки.
А в полдень – входят важно,
У ветра на счету,
В чешуйчатые башни
На Охтенском мосту.
МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК
В гранитном, северном цветке
Осколок мрачного преданья –
На зыбком, медленном песке
Безумьем созданное зданье.
Оно у кованых перил
Коробкой смятою застыло. –
Не правда ль, Павел, ты любил
Свою кирпичную могилу?
Как пешеходы вдоль реки,
Сквозь жизнь ты шел, из зала в зало…
И в черных рамах глубоки
Окон белесые провалы.
На киноварь стены крутой
Лег иней сединою мудрой:
Так падал некогда сухой
На запах крови запах пудры.
И, смутный раздвигая сон,
Под букв литою позолотой,
Стальные челюсти времен –
Еще смыкаются ворота…
Истошный окрик стих и слег.
И, меж деревьев, над водою,
Едва приметный огонек
Горит зеленою звездою.
И вдоль дорических колонн —
Их ровно десять вывел Бренна, –
Другие дни берут разгон:
И с каждым солнцем неизменно
(Курносый пасынок судьбы,
Сухим смешком своим залейся!)
- Горячий хлеб и новый быт
Несут с собой красноармейцы.
АДМИРАЛТЕЙСТВО
1. «Вянет солнца нежная солома…»
Вянет солнца нежная солома,
И, разрозненный, струится луг
Мимо львов Лобановского дома,
В золотой адмиралтейский круг…
Мне своих не переставить ларов:
Будет сниться чуть взгляну назад –
В рыхлый камень пеленал Захаров
Этот узкий, длительный фасад.
Только б так, по скату лет суровых,
Всё идти, но с молнией в руке –
И лепную прелесть дней петровых
Не доверить ломаной строке.
2. «В ромашках свод, тенист и узок…»
В ромашках свод, тенист и узок.
Я солнце видеть не могу,
Где зданье пористой медузой
Распластано на берегу.
Немецких плотников услада,
Над запыленным гравием крыш,
В зеленых водорослях сада
Ты рейнским золотом горишь.
Каких героев приближенье
Твою пронижет чешую?
В гранитной чаше отраженье
Качает ветер, как ладью.
И время полною струею
Реки отягощает ход…
Обличье ложного покоя
Глаза, шаги сюда влечет:
И вновь вернее всех объятий
Перебивая память, тут
Лепными щупальцами схватит
Меня адмиралтейский спрут.
АДМИРАЛТЕЙСТВО
Всеволоду Петрову
Маргаритками цветет Империя.
Желтым полем нежно выгнут свод.
Зданье – лебедь с выпуклыми перьями –
Славы первенец – парит… плывет…
Шкуркой – лисьей или горностаевой –
О, распластанное на ветру,
О, двухцветное, – крошись, истаивай,
В солнце врезанное ввечеру.
Ты – стройнее гениальной памяти –
Временем чуть выветренный кров.
Пористый ковчег – нельзя, слова не те
Отпечаток предадут петров…
Или, ревностной медузой выскользнув,
Ты – Неве песчаная коса? –
Здесь эпоха повернула циркуль свой,
Век простер лепные паруса.
Что ж, из имени петрова вставшее,
Вдруг стихами легшее в персты,
Маргариткой отцветай, ромашкою:
Мне гадать еще поможешь ты.
ФЕЛЬТЕН
С глухой конюшни крик истошный,
Французский говор в свисте пург –
Екатерининский, роскошный,
Тяжеловесный Петербург.
Но, в полукругах ломких линий,
В крутых извивах – путь огня! –
Она, смотри, цела доныне,
Прямая линия твоя.
Дубы Петра сухой и четкий
Пленил навеки твой чугун;
Высокий строй твоей решетки –
Как пение гранитных струн…
Какой судьбой – никто не скажет
И меньше всех, быть может, ты –
Но всходят стены Эрмитажа,
Геометрически просты.
Колокола и окна – немы,
Но церковь – нет, я не могу:
Она лепною теоремой,
Голубкой стынет на снегу…
И пусть Невы разбита дельта
На планах вдоль и поперек:
Краеугольным камнем Фельтен
В той стройке башенной залег.
ТРИ РЕШЕТКИ
Черным кружевом врезана в пепел
Серых дней и белесых ночей
Та решетка великолепье
Похорон или палачей.
И другая гранит свой покатый
Приструнила, нарядней стократ,
Где ущербным мрамором статуй
Населен поредевший сад…
Смят железной когортой столетья
Пышный век тот, раскатанный в лоск.
Воронихин, Фельтен и третий…
Тает камень, как тает воск.
И, за шкуру свою беспокоясь, –
О, защитный растреллиев цвет! –
Отдал Зимний свой царственный пояс
Парку лучших советских лет.
Так росли мы сквозь годы глухие,
Тень осины в квадратах тюрьмы:
Город – гордость любой России –
По решеткам запомним мы.
СМОЛЬНЫЙ:I
Утро. Ветер Воздух вольный.
Колесован снег и след.
Вырисовывает Смольный
Свой китайский силуэт.
Словно поднятые пальцы –
Боковые купола…
Время, выведшее, сжалься
Над ладонью из стекла.
Первой льдиной, легче дыма,
Рассыпается собор:
В горнах дней неуловимо
Тает выспренный фарфор.
Неужели, неужели
Мы навек осуждены,
Вместе с замыслом Растрелли,
У Китайской лечь стены?..
… Из-под палок Николая
Госпиталь кровавый встал,
И Кропоткин, убегая –
Азиатчины бежал.
«Когда на выспренные стены…»
Когда на выспренные стены
Прозрачная спадает тишь, –
Ты – снова ты, мой город тленный,
И раковиной ты шумишь.
Дрожат твои пустые створки –
Надломленный веками щит…
Пускай витийствующий Горький
О братстве вычурно кричит:
Мы не приветим, не приемлем,
Своими мы не ощутим
Ни их размеренные земли –
В веках мертворожденный Рим, –
Ни сон, который смутно снится
Слепцам на скифском берегу,
Где Русь – высокая волчица –
Легла. И стонет на снегу.
III
«Лепным прибоем, пеной в просинь…»
Лепным прибоем, пеной в просинь
На площадь вылетел дворец –
И дивной арки Карло России
Над нами тяжкий был венец.
Под ветром выстывало тело,
Нет, не по-прежнему, не так…
И мостик Певческой Капеллы
Двойной и гулкий принял шаг.
… А по ночам, лицом в подушку,
Мой друг, мне можно вспоминать:
Здесь Блок бродил, здесь умер Пушкин,
Здесь мы не встретимся опять.
«Еще не выбелен весной…»
Еще не выбелен весной
Наш вечер. Льды не тонут.
Здесь всё воспето было мной,
И только Петр – не тронут.
Меня учила с детства мать,
Тому назад, когда-то,
В молчаньи подолгу стоять
Под аркою Сената.
Да, здесь, где был, сквозь лед, огонь
И воду – век распорот,
Поставлен миру на ладонь
Наш неизбывный город.
«Отдай обратно мне мои слова…»
Отдай обратно мне мои слова.
Зачем Тебе высокий строй и нежность? –
Для нас двоих была тогда Нева
Такой большой, прославленной и снежной.
Со мною дни нещадно сводят счет,
Всё тяжелей в висках биенье крови.
Как дивно мне, что так очерчен рот
И так легки мальчишеские брови.
Когда-нибудь, измучившись сперва,
Когда в борьбе Твои ослабнут силы,
Я с губ Твоих сниму все те слова,
Которых я Тебе не говорила.
«Какое солнце встало, озарив…»
Какое солнце встало, озарив
Твой город, теплый, словно стенки горна:
Кроваво-красным кажется мне шрифт
В разлете книг, хотя он – просто черный.
Смотри, чтоб то, что начато Невой,
Не обернулось Зимнею Канавкой.
Мне лучше быть не женщиной живой,
А так, двухцветной книжною заставкой:
Чтоб покрывался пылью легкий дом,
Не стали дни ни лучше, ни тревожней,
Чтоб наугад, когда-нибудь, потом,
Меня открыл рассеянный художник –
И удивился тихо, про себя,
Что верен штрих и линия не смыта,
Что, вчерчена, стою навеки я
В больших квадратах невского гранита.
«На берега Твоей Невы…»
На берега Твоей Невы
Ложится снег, сухой и белый,
И дрогнут каменные львы,
Слегка распластывая тело.
И сердце, в легкую игру
Входя, как пар летит на иней,
Как львиный камень на ветру
Оно, распластанное, стынет.
ПАВЛОВСК
На белые ресницы маргариток
Легла роса: цвет снега и колонн.
Двенадцати аллей песчаный свиток
Разверзнут вширь. Здесь правит Аполлон.
И желтизна дворцовых стен – как осень,
Как маргариток желтенький глазок.
Нам отдых дан. Мы большего не просим.
На солнечных часах нам – выйдет срок.
Недвижен Павел, озирая службы,
Где гонг сзывает граждан на обед.
О, милый Павловск, храм нетленной дружбы
С той родиной, которой больше нет.
СФИНКСЫ
Шпионы разных государств,
Порой влюбленные в друг друга, –
Что нам названья наших царств,
Златого Рога или Буга…
Национальности скрестив,
Как меч, как редкую породу,
О, дважды Сфинкс из древних Фив,
Как ценим мы свою свободу!
И, застывая над Невой,
В глазах повторно повторимой,
В Тебе я вижу облик свой,
С Тобою несоединимый.
«Ты целуешь в губы жарко…»
Ты целуешь в губы жарко,
Обещаешь даль и дом –
Мне Нева, моя товарка,
Машет синим рукавом.
И других домов не надо:
В ночь – скамьи гранитной кант,
Над водой стоят громады
Зданий – каменных Орант.
Что любых Европ закаты?
От всего отженена,
Мне Невы гранит покатый –
Нерушимая стена.
«Блаженство темное мое…»
Блаженство темное мое,
Последний кров мой, спутник милый,
Нева, гранитный водоем,
Река моя! Моя могила!
Плащ богородицын – слегка
От ветра складки – волны – чаще…
Как назову тебя, река?
Невою. Летой. Всех Скорбящих…
Где книзу шире рукава,
Бери – песков покаты плечи –
Ты, троеручица – Нева,
В объятья, крепче человечьих:
От страшных истин бытия,
Не к лучшим дням, не к ровной славе –
Ты тихо вынесешь меня
В моря, которыми он правит.
«Но неужели, город, ты…»
Но неужели, город, ты
Одним задуман человеком? –
В цепях тяжелых спят мосты,
К своим прикованные рекам.
И много ль их (одна иль две!)
Медуз, единственных на свете? –
С Невой, Венеции в ответ,
Разгуливает в паре ветер –
И каждый невчик отдан в рост,
Как паруса, надуты воды,
С чугунным лаем сотый мост
Упрямо охраняет входы
Туда, где, меж гранитных стен –
О, полных шелеста и звона! –
С двояким Сфинксом у колен,
Теченьем правит Персефона.
«Когда, в тумане розоватом…»
Когда, в тумане розоватом,
Встают такие города…
Как Достоевского когда-то,
Меня преследует вода.
И я готова, вскрикнув резко,
Бежать, стремглав, по всем мостам:
Но та, на ощупь, с тихим плеском
За мною ходит по пятам.
Вода. Литая позолота.
В зацветшей заводи, одна,
Угрюмой аркой Деламота
Она увенчана сполна.
Не ветер – вкус воды летейской.
Кто жажду странствий утолял? –
Сменяет ров Адмиралтейский
Екатерининский канал…
Еще фонарь мерцает тускло,
Но первый луч уже найдет
Русалок, возвращенных в русла.
По капелькам. Наперечет.
КРЮКОВ КАНАЛ
Джону Ханту
Крюков, скользящий на сонмище звуков, –
Декою зданья, где оперный шум,
Подан – смычок, искривленный чуть, – Крюков,
Отплеск лагунный – но что я пишу…
Крыш отраженьем он в корне изглодан,
Он облака отплеснет к облакам, –
Или – по трубам – высокую ноту
Ветер берет, нараспев – по крюкам? –
Глубью собор, точно галька, отточен:
Волн о волну заколдованный круг,
Купол о купол – так замысел зодчий
Схвачен водою, чуть сделавшей крюк…
Это – не к Замку: многооконней
Лег на ребро здесь кирпичный пенал, –
Скачет, седея, литовской погоней,
К скрюченным мостикам Крюков канал.
МЕНЬШИКОВСКИЙ ДВОРЕЦ
Покоритель ветреных сердец,
Чуть поводит – не пройдет, шалишь –
Меньшиновский розовый дворец
Насурмленными бровями крыш.
И глазастых окон пьян разбег
Сквозь тяжелый слой белил, румян…
До чего же, в наш приличный век,
Он наштукатурен, хулиган.
Разве для таких зазорных дел
Мудрый зодчий здесь его воздвиг? –
Сахарный барашек. Воск в воде.
Кавалер прекрасный. Озорник.
И не писан про него закон,
И с Невой они обручены –
А в него, поди, со всех сторон
Все четыре ветра влюблены.
НАВОДНЕНИЕ
Словно мед, наполняющий соты,
Высочайшая входит вода,
Всей Невою в полеты, в пролеты,
В перелетные дуги моста.
И сирены с буксиров тревожней,
И на слитый – на пушечный – гром
Это желтое зданье Таможни
Опадает осенним листом.
И, подъемля в свинцовое небо
Куполов своих ангельский хор,
С белой чайки огромнейший слепок,
Над водою метнулся собор…
И, в подмогу, на Заячий остров
С двух колонн, от утра до утра.
Выплывают недвижные ростры
Под замолкшей командой Петра.
КУНСТКАМЕРА
Это – прозелень трав или ранних акаций… Фисташковой
Кунсткамера пагодой выше еще прорастет.
Разветвляются Невы потоками белых барашков,
Хворостинам – мостам любо стадо бегущее вод…
С ветром. Сбоку. Вплотную. Фасад неестественно узок.
И рогатую крышу ту вскользь повторяет река.
Над точеною башенкой – обсерваторией Брюса –
Как овчарки лохматые, мчатся вразброд облака.
Сквозь прославленный камень трава прорастает нескоро.
Мшистой зеленью стен мчится плющ, оголтелый, витой…
И, булыжное пастбище, плавно раскинулся город,
Где недвижен, на шпиле, летящий Пастух золотой.
ПЕСНЯ
Ветер, спутник мой недобрый,
Мы шатаемся вдвоем.
Барок вспыхивают ребра
Сердцем – красным фонарем.
Ветер, крутень, друже странный,
Вихрь мой, Божья благодать, –
Вон, на Ждановке, нежданный
Дождик можно переждать.
И, в молочных сгустках пара, –
Им и солнце нипочем –
Красноперые амбары
Понатерлись кирпичом.
Прорвой струй булыжник содран
И, во весь свой чудный рост,
Над водой, которой ведра,
Коромыслом выгнут мост:
Это Невка – вражья сила! –
За ночь стала с океан,
Проходила, выходила
За один Тучков Буян.
КОРАБЛЬ
А. А. Линдбергу
В больших снегах – мне шалый шум листвы
Тот, городской, перебивает гомон, –
Зеленый дом на берегу Невы,
Наискосок от Пушкинского дома.
Двухцветный – двух веков зацветший сплав –
Ревенный рай, на землю он поставлен –
В больших снегах окаменевший лавр,
Зеленый лист в венке петровой славы.
Огромный дом, чудовищный корабль,
Слёт каменный петровского созыва,
На берег вынесен зеленый краб
Невой медлительной, волной отлива.
Чудесный дом, зеленая звезда
В чуть выветренном, каменном созвездьи.
Легка на стеклах льдистая слюда,
Не сладить с дверью в угловом подъезде.
А зодчий был, как Леопарди, слаб
И мягко смыт пространств глухим теченьем.
Зеленый дом, чудеснейший корабль —
Нежнейшее нам кораблекрушенье…
ДОМ БРАНДТА
В гранитный бор чугунный врос плетень,
Мосты ли врезались в парные двуречья –
Кругом был город, где, изо дня в день,
Я, может быть, Вам шла навстречу.
И белый дом, как гладкий белый слон –
На обжиг солнцу белая фигурка, –
В игре с норд-остом, плавно нес балкон
На шахматную доску Петербурга.
А слева – самый длительный фасад
Омыт был всей Невы раздельным хором,
Где юность Вашу я верну назад,
Спеша, вдогонку, тем же коридором…
И, может быть, легчайший первый лед,
Как первый луч на солнечном восходе,
Мое плечо тихонько отведет
От Вашего… Мосты уже разводят.
«С тех пор, как я ушла по холоду и снегу…»
С тех пор, как я ушла по холоду и снегу,
Весь город мне сполна, как палуба, открыт.
Под ветром он – корабль и вверен человеку:
На вахте Крузенштерн и день и ночь стоит.
Румян фасад дворца, где окна с поволокой.
Царь-каменщик воздвиг высокий храм Петров.
Трилистник фонаря сквозь снег пророс высоко
И тихо ждут мосты Твоих, моих шагов.
Уходит нежный год, как в монастырь – подруга,
Но много лет и дружб – кто знает? – впереди.
Я вижу над Невой тупой, бессмертный угол –
Тот дом, в который мне уже нельзя войти.
Надолго мне постыл Васильевский твой остров.
Но что я говорю: уже не Твой – ничей.
А ты… Мне мерзок Петр – отрекшийся апостол:
От града своего он не сберег ключей.
АРКА
В волнах пространств, неведомых земле,
Бог – мореход, курильщик в снежном дыме…
Весь город – карта на его столе –
Исчерчен небывалыми прямыми.
И перекрестки – тайный знак Его,
Кресты на двери к тем, кто принял муки
За этот град. Пусть мертв он: оттого
И улицы, как скрещенные руки.
И вывески – как строки крупных книг,
Пестрят, что крылья вспугнутых цесарок…
Прохожие увенчаны на миг
Параболами незабвенных арок.
Как имя – в святцы, входит человек
Сюда, дворцы предпочитая долам…
И движусь я, вдруг просияв навек
Огромной арки желтым ореолом.
СМОЛЬНЫЙ:II
Пятикратный купол крова:
С лужкам-звездам аналой.
Был богат о дни Петровы
Город, смолоду, смолой.
Синим льдом сверкнувший ледник.
Стен обшарпанная голь.
Служат шалые обедни
Галки, черные как смоль.
Вон, заливистой тальянкой
В нижний выманена круг,
Колоколенка – смолянка –
Тихо встала на ветру.
Свейский плес, русея, фыркал:
К флорентинцу шла река.
Богородицына стирка –
С синевою облака.
Невских волн высокий гребень,
Смольный – столпник, выше вех,
Синий с белым, словно небо
Опрокинулось на снег.
КНЯЗЬ-ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР.II
О, каменное тело
Без хора голосов,
Пять голубей слетелось –
Пять сизых куполов.
Не колокольня – Боже! –
Венера к нам сошла,
И каждый купол сложен
Как теплых два крыла.
И, чтоб собор мой не был
Как в небе легкий дым,
Не смеет даже небо
Быть темно-голубым:
Но движется, меж лодок,
Бесцветная Нева,
Чтоб в небо или в воду,
В пять крыльев, синева…
И только туч нависших
Расходуя свинец,
Дождь тупо метит в крыши –
Бессмысленный стрелец.
«Бегут трамваи – стадо красных серн…»
Бегут трамваи – стадо красных серн –
Мостов горбатых обтекая склоны.
На вахтенном, чье имя – Крузенштерн,
Срывает ветер снежные погоны.
Не палуба – булыжный лег настил,
И линиями, всех прямых прямее,
Царь-мореход свой остров прочертил,
Для нас с тобой отторгнутый у Свен.
У каждого фонарного столба
Большой сугроб – осевший, сонный лебедь…
Голландская кирпичная труба
Подъемлет ростры, флаги помнят: реять
Я дохожу до дома твоего
У самых вод – прозрачная застава –
А Медный Шкипер с берега того
Неумолимо указует вправо.
«Струится снег, как ровный белый стих…»
Струится снег, как ровный белый стих –
Мне трагедийный холод плечи вяжет.
И каждая из улиц городских –
Уже не улица: канал лебяжий.
В прозрачный хаос перистого льда
Случайный луч с мостов высоких брызнет.
Клянусь Петровым городом, я – та,
Кому Твой шаг дороже целой жизни.
И оттого, что здесь проходишь Ты
(Еще Овидий пел о скифском снеге),
Взошли, в снегах, альпийские цветы –
Двенадцать нежно-розовых Коллегий.
И в том, что я на это оглянусь –
Пусть мертвая! – а небо пламенеет —
Моим Петровым городом клянусь
И родинкой единственной твоею.
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ
I. «Нам путь указывает вправо…»
Нам путь указывает вправо
Рука, но влево мы идем.
Собор, как лев, склоняет главы,
Сраженный золотым копьем.
Пышны снега Петрова града,
И льды сковали стык зыбей,
И не доскачет Император
До прежней крепости своей.
II. «Разжав хладеющие пальцы…»
Разжав хладеющие пальцы,
Он ждал, чтоб тяжесть отлегла…
Но в те же каменные пяльцы
Златая воткнута игла.
Или навстречу белым льдинам
Неся фасад бесцветный свой,
Собор застыл в разбеге львином,
Пробитый пикой золотой.
Я знаю: схваченная стужей,
Вой там, бессмертна и легка,
Как бы метнувшая оружье,
Еще протянута рука:
И, видя остров заповедный,
Минуя сводчатую гать,
С гранитных круч Охотник Медный
К добыче тщится доскакать.
III. «Матерь Божья втихомолку…»
Матерь Божья втихомолку
Уронила – славен Бог! –
Золоченую иголку
В каменный зеленый стог,
И, блажен в Огне и Сыне,
На кирпичный встал костер
Дивной ересью Трезини
Петропавловский собор.
«Раскрыты губы Эвридики…»
Раскрыты губы Эвридики,
Но голос, скошенный у губ,
Прорвался в одичалом крике
О полдень пробужденных труб.
Так, город мой. Колоколами
Не завершен Орфеев стих —
И ты раскрыт лишь в пьяном гаме
Кирпичных глоток заводских.
«Снега легкую корону…»
Снега легкую корону
Над достроенной стеной
Посрамит дворец Бирона
Мертвенной голубизной.
Ах, с Галерной, ах, с Гулярной…
Перед небом – всё одно.
Всходит день звездой полярной –
Благовещенье мое:
От Любови мимолетной,
От палящего вина
В город стройный и холодный
Это я возвращена.
АКАДЕМИЯ НАУК («…И ветер, вдруг, из-под руки…»)
…И ветер, вдруг, из-под руки
Разводит узел шарфа. –
Здесь колоннада – у реки
Повешенная арфа:
Меж рваных облачных кустов,
Игрою светотени
Легли, у белых струн — столбов,
Педалями ступени.
И только струны – велики,
И, неизбежно, слева
Сирена врежется, с реки,
В Эоловы напевы.
АКАДЕМИЯ НАУК
Здесь воздух мягко влит в оконные квадраты,
И мелом, в восемь черт, набросан стройный план:
У спуска, где Неве разбег широкий дан,
Я вижу, за углом, колонны ствол покатый.
Здесь каждая ступень – как сброшенные лапты,
И голубая кровь течет в просветы ран.
Не зданье: здесь Амур Италии крылатой
Забыл на берегу свой каменный колчан.
Булыжный говорок, асфальтов плавных речь
И цоканье торцов, глухое как th –
Гваренги слышал все, с линейкой наготове…
И начат был чертеж. И циркуль дивно лег –
Быть может для того, чтоб некий Зодчий мог
В столетии другом твои наметить брови.
ЛАЗАРЕВСКОЕ КЛАДБИЩЕ
В трофей и лавр здесь Лавра процвела.
Тредиаковский
В который раз река ломает лед,
В учебнике Петра порядок навран, –
А для меня по-прежнему цветет
Огромная, запутанная Лавра.
На белом камне или на снегу
Гниют ветвей чернеющие сети,
И в куполе – я слышать не могу! –
Свистит впустую беспризорник-ветер.
Здесь рыхлый мрамор солнце золотит,
И воробьи, крича свежо и броско,
Не знаю как – а Ломоносов спит –
Занесены на мраморную доску.
Живой себя прелестней и живей,
Всё ждет – и плечи бронзовыми стали –
Неторопливо едущих гостей
Гагарина на круглом пьедестале.
Замерзший сток кладбищенской волы.
Под аркой мост – хрустящих листьев короб,
Свободных стен высокие лады
Не оборвет командою Суворов.
Здесь с городом прощался Александр…
«Синеют Невы, плавно обтекая…»
Синеют Невы, плавно обтекая
Пустой пролет чугунного звена.
О Невки, Невский, Кронверкский,
Морская, Галерная – какие имена!..
Так дышат вольным воздухом, так даже
Не дышат вовсе, чтобы слух проник…
И каждое из них мне льдинкой ляжет
В мой смертный час на косный мой язык.
«Петром, Петра и о Петре…»
Петром, Петра и о Петре –
О, петербургские склоненья
Дубов – к прудам и трав – к забвенью,
И шпилей – к лиственной игре.
Направо, от Петра к Петру
(С Невы – до замка на Лебяжьем) –
Костьми когда-нибудь мы ляжем
За это всё: блаженный труд!
О, правый город, мой, Петров,
Не всё ль равно? о, город левый! –
Как плащ с плеча Марии Девы,
Спадают Невы с островов.
Пока глаза мои горят –
В последний схвачена простудой,
Твоим петрографом я буду,
Сквозь дождь и ветер, снег и град,
Москвоотступник – Петроград!
ПАМЯТИ КН. В.Н. ГОЛИЦЫНА
На черном, на влажном, на гладком асфальте
В параболе арки ты вычерчен – стой! –
Еще не сказалось о Павле, о Мальте,
О мире, прочерченном красной чертой.
… А ночью, руками разбуженный грубо,
Ты бился – как окунь о первый ледок!
Какой табакеркой ударил твой Зубов
В насквозь процелованный мною висок?
Зубцами эпохи нещадно раздавлен…
Послушай, ведь с детства – я помню о том! –
Как щит, я вставала при мысли о Павле…
Не Павлу: тебе не была я щитом.
На площади ветру подарен на счастье
Гранит, отделенный дворцом от реки.
Опущены, как из невидимой пасти,
Знамен темно-алые языки.
И смутным предчувствием сковано тело,
Но скреплена дружба, Любови сильней,
Кирпичною кровью Мальтийской капеллы,
Хладеющей кровью твоей и моей.
РОПША. Сонет
Рогожи нив разостланы убого,
С лопатами идет рабочий люд,
И елями затенена дорога,
Как будто здесь покойника везут.
Здесь ропшинцем забыт был шалый труд
Того Петра, что был нам не от Бога.
Как жесткий норд, та слава, та тревога:
Азов, Орешек, Нарва и Гангут.
Сей – неизменно был доволен малым:
Слал крыс под суд, бил зеркала по залам,
Из Пруссии войска отвел назад.
Нас научил – недаром, может статься! —
Сержантов прусских на Руси бояться,
И сломан был, как пряничный солдат.
ПРИОРАТ
В милой Гатчине плывут туманы.
Кровь окон, готической слюдой…
Отряхают ивы над водой
Серебристые свои сутаны.
Режет воды каменною грудью
С лебединой шеей Приорат.
Росной капли блещущий карат
На листе оставлен, на безлюдьи.
Между коек, облачен, бесшумен,
Щуря глаз, как Эрос, взявший лук,
Бродит, отдыхающий от рук,
Черный кот, как призрачный игумен.
В млечном паре розовеют лица,
По тарелкам серый суп разлит, –
И за подавальщицей следит
Неотступный взгляд Императрицы.
ДАЧА БАДМАЕВА
Там, где заря стоит в сияньи
И в ореолах крыши все,
Выходит каменное зданье
На Парголовское шоссе.
Ловя на окна свет багровый,
Ловя фасадом пыль и грязь,
Казарма с башенкой дворцовой
В глухие стены уперлась.
Я вспоминаю, без улыбки,
Кусты малины, лавр, чебрец,
Ливадии дворец негибкий
И Александровский дворец.
О, стиль второго Николая
С его бескровной белизной! –
Неопалимою сгорая
В лучах заката купиной,
Под грубый окрик штукатуров
Стал снежным кров – и глаз привык
К казарменной карикатуре
На Кремль, упершийся в тупик.
ПРЯНИЧНЫЙ СОЛДАТ. СОНЕТЫ 1937.
СОНЕТ-АКРОСТИХ
В распахнутую синь, в смятенья голубином
Соборов и церквей взметнулись купола.
Едва струится путь – о, Волхов из стекла,
Ведущий, меж рябин, к высоким райским кринам.
Озер былинный плеск… Татарская стрела
Летит в других ли днях? за охтенским ли тыном?
О, да! и ты рожден былой России сыном:
Друг, меж тобой и мной вся родина легла.
Придет ли, наконец, великий ледоход?
Его мы оба ждем, по-разному, быть может…
Ты – переждешь легко. Тебе – двадцатый год.
Румяный встанет день, какой еще не прожит:
Оставив всех дотла, и с сердцем на лету,
Вернетесь вы к боям на Волховском мосту.
1. СВИНОСОВХОЗ
На холмике стоит Свиносовхоз.
Я провела там целых три недели.
Там свиньи – вы таких еще не ели!
Там поросята – как бутоны роз.
Кирпичный дом – мишень для майских гроз –
Как часовые, обступают ели –
Во все глаза глаза мои глядели:
Там худший боров лошадь перерос.
Ах, знает бойня Мясокомбината,
В каком Йоркшире эти поросята:
Уже консервы покупаю я.
Там боров Митька – что, вам правды мало? –
Отлично нес бы к Риму Ганнибала.
А если лгу я – значит, я – свинья.
2. ЦЕНТАРХИВ
Ошибки былого. Зачеркнутый быт.
И только сотрудники — живы.
Здесь – мертвая тишь Центрархива.
Обломы – шкафы. Мышью время бежит.
Архивчиком был он. Внушительный вид
С четвертого принял созыва.
Веками он пух – и теперь он лежит,
Тучнейший наш Архив Архивыч.
Белее колчаковцев есть в нем листы,
И дел полицейских мундиры чисты:
Все в синие папки одеты.
Меж венских двух стульев Тынянов сидит.
Он нужные темы, как ус, теребит.
А я – нумерую сонеты.
3. УСЫПАЛЬНИЦА
Купались в молоке громоздкие царицы,
Чтоб снизился объем, чтоб побелела грудь.
Но, «в Бозе опочив», должно быть, в Млечный Путь
Угодно им нырять… А может ангел мыться?
Смолянки – далеко не красные девицы –
Шептались меж собой – в чем их ошибок суть? –
Что в город Бозу – рай, с дороги, завернуть:
Что в Бозе сладкий сон всем трутням вечно снится.
Огромный дортуар, где, сняв короны, спят
Цари. И мирных снов не знавший каземат.
Туристов табуны пасу я в этой «бозе».
Приемля мой рассказ в весьма неполной дозе.
Чуть слушают они, превозмогая сплин,
Как заживо людей покоил равелин.
4. ИОАНН АНТОНОВИЧ
Забытыми в глуши, опальными – что время? –
Расстрелянными – им удел блаженный дан –
Бездомными – их тьмы! – ты грозно правишь всеми,
Прообраз всей Руси – несчастный Иоанн.
Мы – узники, как ты. Мы свой гражданский сан
Пятнали донельзя… вредительствами ль теми?
На тучный чернозем зароненное семя,
Мы Марксу предпочли порочный круг дворян.
Пока фарфор шел в горн и Ломоносов пел –
Один из всех ты был, царевич, не у дел:
В глухой квадрат стены твои глаза смотрели.
Мы можем говорить и думать о расстреле.
Но, горше всех других, дана нам мысль одна:
Что справится без нас огромная страна.
5. ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
Еще Суворов шел, походным будням рад.
Был чист альпийский снег – листок для русских правил.
Держался на воде, как лебедь, Приорат.
Испанию кляня, иезуит лукавил. –
Он – Первым был. И он, как вехи, троны ставил
В помоях. Вечный принц, он правил невпопад.
Во сне он муштровал запоротых солдат, –
Палач и мистик, царь и раб Господень – Павел.
История на нем мальтийский ставит крест.
Отверг он, петушась, свой гатчинский насест:
Он зодчих торопил кирпичный гроб закончить.
В короне набекрень, почти сдержав кинжал
Врагов, не по себе ль он траур надевал.
Позируя, в сердцах, для самоучки – Тончи?
6. АННА ИОАННОВНА
Упорна, в младших, к прошлому любовь.
Перебираю имена былые:
Екатерина, Анна, Анна вновь –
Три Парки, прявшие судьбу России.
По-царски средней бунтовала кровь:
Шли конюхам все почести людские.
В ярме опалы стерты бычьи выи
Курляндцев: так заколосилась новь…
Пал в тронном зале сумрак голубой.
Здесь ночью встретилась сама с собой
И умерла Императрица Анна.
Он явлен, двух эпох великий стык,
Войной гражданской раздвоенный лик:
И тучная Россия бездыханна.
7. ТРИ АЛЕКСЕЯ
Кровавым снегом мы занесены,
И кровь избрала знаменем Расея.
Тишайшему, должно быть, были сны
О гибели второго Алексея.
Как рябь отлива, отступала Свея.
Был Петр велик, и горек хлеб страны,
И в каземате, у сырой стены,
Царевич слег, о прошлом сон лелея.
Отечество! Где сыщем в мире целом
Еще в утробе тронутых расстрелом,
Абортом остановленных детей?
Им дан в цари ребенок незабвенный,
Что Дмитрию подобен, убиенный:
Блаженный отрок, третий Алексей.
8. СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
Сестра в несчастьи, разве вместе с кровью
К тебе любовь изымут из меня!
Стрелецкий бунт ревел в столбах огня.
Но – Петр велик. И забывали Софью.
Москва ль не соты черному злословью!
Бразды правленья в нежный миг кляня,
Литовский всадник к славе гнал коня:
К Голицыну горела ты любовью.
Разлуки русской необъятен снег,
И монастырь тебе стал вдовий дом,
И плачем выжжены глаза сухие.
Могла б и я в тиши дожить свой век,
Горюя о Голицыне моем:
Но больше нет монастырей в России.
9. ЛЕДЯНОЙ ДОМ
С прозрачных стен уют последний сполот,
И гаснет факел в Доме Ледяном.
Как первый снег, был смех царицы молод
И сух, над коченеющим шутом.
Из всех дверей повеял смертный холод –
И вздрогнули, входившие с царем…
Со всей России лед былого сколот.
Ипатьевых давно проветрен дом.
Прости, Господь, и немощь Иоанна,
И Софьи скорбь, и гордый ум Петра,
И Анны блажь, и Павла крест бесовский —
За семь венцов, той мукой осиянных,
За росный дым июльского утра,
За глушь подвала, за костер Свердловска.
10. СОСЕД ГОСПОДЬ
Du Nachbar Gott, wenn ich…
Rilke
Чистейшие да узрят сердцем Бога.
Господень взгляд – живому телу смерть.
Весь мир – лишь глаз Господних поволока.
Так как же мне в Его лицо смотреть?
И как от Лика луч найду я впредь
В своих страстях – сухих травинках стога?
Часы идут. Я подожду немного.
Есть час, в который можно умереть.
Тепло живых – в ковчег Господень двери.
Вся наша кровь – цена за откровенье.
Кратчайшую себе дав рифму: плоть,
Прости меня, что неуч в детской вере,
Проулком лжи, задворками мышленья
Я обхожу Тебя, сосед Господь.
Дополнение к книге «Серебряная Рака. Стихи о Петербурге. 1925–1937»
КОЛОКОЛ СВ. САМПСОНИЯ
Он был подобен темной сливе
В прозрачной зелени стены.
Петровский зодчий мудро вывел
Пять арок с каждой стороны.
И ветер слушать хор улегся,
И дождь был, верно, вспрыснуть рад
Большие вязы, плиты, флоксы
И церковь – Божий вертоград.
Пусть спит Хрущев, еще не тронут –
В честь современников моих
Уж сбита тяжкая корона,
Смотри, с герба Еропкиных…
Раскрыта в сад двойная рама:
На площади (полулуной)
Чугунный Петр – хранитель храма –
Впервые пост оставил свой…
За город свой, за это зданье
Молилась я, меж слов и дел,
И, онемевший в ожиданьи,
Неснятый колокол чернел.
«У костюмерной мастерской…»
У костюмерной мастерской,
Где куклы, маски, моль в витринах,
За три квадрата от Морской
Канал идет, как черный инок.
Он неопрятен, крив и сир,
Ему бы вечно здесь трепаться,
Где банк велик и кругл, как цирк –
Арена сложных операций;
Где, тени надломив едва
В осях чугунных полукругов,
Четыре злых крылатых льва
Плюют со скуки друг на друга.
Где искони и навсегда –
Так встала Кана в Божьем слове –
Канала смешана вода
С гранитным сгустком чермной крови.
СОНЕТ
Люблю под шрифтом легшие леса,
И реки вспять, в наследство поколеньям,
И землю ту: что Божья ей роса? –
Вся наша кровь ей будет удобреньем.
Моим глазам седьмые небеса,
Большая ниша всем моим моленьям,
Тебя я пью – с каким сердцебиеньем! –
С тех пор, как в узел собрана коса.
Благословляю, русская земля,
Кольцо границ, что нам с тобой – петля:
Вся жизнь моя – одно с тобой свиданье.
Казнь за тебя – невелика деньга,
Но в смертный час, тащась издалека,
Я не приму тебя, как подаянье.
«Превыше всех меня любил…»
Превыше всех меня любил
Господь. Страна – мой зоркий Орлик.
Мне голос дан, чтоб голос был
До самой смерти замкнут в горле.
Элизиум теней чужих,
Куда уходят дорогие? –
Когда ты вспомнишь о своих,
Странноприимица – Россия!
Как на седьмом, живут, без слов,
На сиром галилейском небе:
На толпы делят пять хлебов
И об одеждах мечут жребий…
Но тише, помыслы мои.
Слепой, горбатой, сумасшедшей
Иль русской родилась – терпи:
Всю жизнь ты будешь только вещью.
«Россия. Нет такого слова…»
Россия. Нет такого слова
На мертвом русском языке.
И всё же в гроб я лечь готова
С комком земли ее в руке.
Каких небес Мария-дева
Судьбою ведает твоей?
Как б…., спьяна качнувшись влево,
Ты бьешь покорных сыновей.
Не будет, не было покоя
Тому, кто смел тебя понять.
Да, знаем мы, что ты такое:
Сам черт с тобой, ….. мать!
Из стихотворений, посвященных Л.Л. Ракову
«Ты Август мой! Тебя дала мне осень…»
Ты Август мой! Тебя дала мне осень,
Как яблоко богине. Берегись!
Сквозь всех снегов предательскую просинь
Воспет был Рим и камень римских риз.
Ты Цезарь мой! Но что тебе поэты!
Неверен ритм любых любовных слов:
Разбита жизнь уже второе лето
Цезурою твоих больших шагов.
И статуи с залегшей в тогах тенью,
Безглазые, как вся моя любовь,
Как в зеркале, в твоем отображенье
Живой свой облик обретают вновь.
Ручным ли зверем станет это имя
Для губ моих, забывших все слова?
Слепой Овидий – я пою о Риме,
Моя звезда взошла в созвездьи Льва!
«Не услышу твой нежный смех…»
Л. Ракову
Не услышу твой нежный смех –
Не дана мне такая милость.
Ты проходишь быстрее всех –
Оттого я остановилась.
Ты не думай, что это – я,
Это горлинка в небе стонет…
Высочайшая гибель моя,
Отведут ли Тебя ладони?
«Стой. В зеркале вижу Тебя…»
Стой. В зеркале вижу Тебя.
До чего Ты, послушай, высокий…
Тополя, тополя, тополя
Проросли в мои дни и строки.
Серной вспугнутой прочь несусь,
Дома сутки лежу без движенья –
И живу в корабельном лесу
Высочайших твоих отражений.
«К вискам приливает кровь…»
Л. Ракову
К вискам приливает кровь.
Всего постигаю смысл.
Кончается книга Руфь –
Начинается книга Числ.
Руки мне дай скорей,
С Тобой говорю не зря:
Кончается книга Царей,
Начинается книга Царя.
Какого вождя сломив,
В какую вступаю ширь? –
Кончается книга Юдифь,
Начинается книга Эсфирь.
Не помню, что было встарь.
Рождаюсь. Владей. Твоя.
Кончается книга Агарь –
Начинается жизнь моя.
«Тот неурочный зимний сад…»
Тот неурочный зимний сад
В предсмертный час мне будет сниться…
Четыре факела горят
На самой черной колеснице…
<…………………………………………>
Свет факелов, горящий между арок…
Как близко ты решился стать ко мне.
Я принимаю страшный твой подарок!
«Твой голос? Не бойся: не вздумаю я…»
Твой голос? Не бойся: не вздумаю я
С тобой разговаривать часто!
Как будто я — Фигнер, а голос меня
Взял и отвел в участок!
Как будто – Рылеев. Стою. На плацу.
Оплевана. Всем Петербургом.
А если ударю. Тебя. По лицу.
Как раб Преступленьем. Ликурга.
Как будто с пристрастием начат допрос.
(И дома, и в грохоте улиц
Я слышу надменный и грубый вопрос:)
Перовская? Гельфанд? Засулич?
Пускай мне твой голос в горло удар,
Пускай не рожу тебе сына –
Вольноотпущенник! Трус! Жандарм!
Предатель! Шпион! Мужчина!
«Никогда не бывало. Не будет. Нет…»
Никогда не бывало. Не будет. Нет.
Мы несказанного – не скажем.
Керамический вымысел, черный бред,
Черепок недошедшей чаши…
Я скошена быстрой походкой Твоей.
Как выстою, холодея, –
Нежней апулийских двухцветных вещей,
Мрачнее тарентских изделий.
Пыталась с Тобой разговаривать я.
О чем не посмела мечтать я! –
Должно быть, не стоит любовь моя
Простого рукопожатья…
Так молния разбивает дом.
Так падает тень на счастье.
Помедли: с Тобой, на секунду – вдвоем,
Тобой завоеванный мастер.
«Всё в жизни – от будущего тень…»
Всё в жизни – от будущего тень.
Под будущее – ссуда.
В извилинах времени скрыт тот день,
В который Тебя забуду.
О, выхвачу, как из ножен – меч,
Из жизни, с собой на пару,
Не выброшусь в сажень косую плеч,
Но выстою под ударом!
О локоть Твой – о, рука на мече! —
Обопрусь – пораженный вид Твой
Через жизнь понесу на своем плече,
Как через поле битвы.
На память заучивай каждый стих.
Лентяй, не узнал спросонок,
Верхом на пеонах – о, сколько их! –
Скачущих амазонок.
Стихотворения из писем к А. И. Корсуну
СТРИЖ
А. И. Корсуну
В косом полете, прям, отважен,
Минуя скат дворцовых крыш,
В большие залы Эрмитажа
Влетел ширококрылый стриж.
Он наскоро проверил стены,
Ворвался грудью в пейзаж
И, по знакомству, у Пуссэна
Заснул, кляня свой вояж.
Его ловили неуклонно,
Стремянкой бороздили пол, –
И с Александровской колонны
Его хранитель не сошел…
Но стриж, что куксился забавно,
Медь крыльев чуя вдалеке,
Вдруг полетел легко и плавно
С твоей руки к его руке.
СОНЕТ
Прекрасны камни Царского Села:
В сих раковинах – славы отзвук гулкий, –
Но если б вновь родиться я могла,
Я родилась бы снова в Петербурге.
Его оград чугунная трава,
Гранитные перевивая чурки,
Вросла мне в сердце, голубее шкурки
Песца та многократная Нева.
Ораниенбаум с прогнившей балюстрадой,
Протёрт газон еще Петрова сада…
И Павловска эпическую медь
Переживу, и Петергоф тяжелый,
Где воды свежи и где зреет жолудь –
Но в Гатчине хочу я умереть.
Стихотворения, не включенные в сборники
«Простор стихающей Невы…»
Простор стихающей Невы,
Я у руля, гребете – Вы.
Слова о розовой звезде,
Круги от лодки на воде.
Сказало зеркало едва,
Что под глазами синева.
Туман молочный над рекой,
Обратный путь – рука с рукой.
От белой ночи на Неве
Остались: тяжесть в голове.
Платка измятого духи
И бред, сложившийся в стихи.
EN AUTOMME
Осень. Вечерний ветер.
Солнечный диск высок.
Плачу, влюбленный в эти
Вдохи засохших осок.
Листья в воде Зеленой,
Мраморный водоем…
Холод румянит клены,
Холод и в сердце моем.
Смех. Силуэт. Не ты ли?
Лип шелестят верхи…
В парке твои застыли,
С прошлого года, духи.
«Высокий звон и говор птичий…»
Высокий звон и говор птичий,
Неустрашимый взлет копья,
Светильником в руке Девичьей
Дрожит и тает жизнь моя.
Какая слава медью стынет,
Каким огнем мы все горим? –
Я знаю: правы те, кто ныне
Возводит свой Четвертый Рим.
Но есть плененные ошибкой:
У тех – да минет их гроза! —
С мистической полуулыбкой
На мир опущены глаза.
«Мне легла не большая дорога…»
Мне легла не большая дорога,
А глухая медвежья тропа.
Старый друг, разве мир – не берлога,
Где любовь от рожденья слепа? –
В эту жизнь я вошла с колыбели
Как в несытую солнцем тайгу;
Рыжей белкой качалась на ели,
Волчьим выродком стыла в снегу.
Новолунью сердилась спросонок
И мохнатой звериной судьбе,
А теперь я – ручной медвежонок
У лесничего в теплой избе.
«Зимой не бывает горлиц…»
Зимой не бывает горлиц,
И солнечных зайчиков – тоже:
Трудно им, ласковым, прыгать
В запушенные снегом окна
Спален, где гонятся печи…
А я родилась зимою;
Дрожащий солнечный зайчик
По комнате вдруг забегал –
И лег на детское горло:
С тех пор я стала поэтом.
СЕСТРАМ ЗАПАДА
Взгляд – усталый, в лице – ни кровинки,
Ей и голод и труд – нипочем:
Вижу красные крылья косынки
За худым полудетским плечом.
Вот такою – простой комсомолкой,
Сквозь машинную, мерную песнь,
Над докучным мельканьем иголки –
Ваша жизнь мне привиделась здесь.
Сестры Запада, трудная пряжа
Многих медленных лет нам дана:
Помним, знамя кровавое ляжет
Под рукою прилежной у нас.
Слыша четкую поступь событий,
Знает – времени веретено
Приведет путеводною нитью
К дням свободы и к доле иной.
Так ловите ж, сквозь годы глухие,
В мастерских, наклонясь, не дыша,
По следам окрыленной России –
Революции пламенный шаг.
ПЕСНЯ О ДЖАНКОЕ
Порох и пламя,
Ремень под рукой,
Шомполом в память
И в сердце – Джанкой.
Поднято дуло,
Щелкнул затвор,
Пули и бури
Ведут разговор.
Станция взмыла
Огнями из тьмы,
Врангель – а с тылу
Ударили мы.
Время качнулось
Вперед и назад,
По эшелонам
Вдогонку – залп.
Вспененных далей
Цокот и топ…
Мы ли их гнали
Под Перекоп!
Кровью цветет
Голубеющий лен
Тихих, родимых
Приволжских сторон:
Слушай, за горсть
Виноградной земли
Десять тысяч здесь
Гатью легли?
Слушай, годам таким –
Нечет иль чет,
На перевес или
На плечо?
Ветру и солнцу,
Рассыпчатый, наш,
Щедрой солонкой
Раскрылся Сиваш.
В бурных знаменах
Маковый дым –
Ты, окаймленный
Славою Крым!
НЕФТЕПРОВОД
Земля, какал только лучшим снится,
Когда б могла перелистать и я
Тяжелые и рыхлые страницы
Твои, моя советская земля.
Чтоб этой кровью, с киноварью схожей
(Эпохи росчерк) – вычертить пласты,
Чтоб ты навстречу встала черной рожью –
Дыханьем влажным, гуще темноты.
Когда горят фонтаны, то телами
Их затыкают попросту, земля,
Затем, что больше нефтяное пламя,
Чем жизнь людей, совсем таких, как я.
И я отдам покой мой, память, друга ль,
Всю боль и кровь, и эти жилы все –
За ту одну, в которой жидкий уголь
От Грозного бежит до Туапсе:
Артерией – пока с восточной ленью
Не всплыл Батум, всех галек голубей;
В узде Бакинского сердцебиенья
Уж слышен грохот якорных цепей.
И пусть в стихи, негаданный, как камень
В глухой затон, сбивая рифмам счет,
Павлиньими разводами, кругами,
Как на воду пошел нефтепровод:
На музыку времен – на голос горнам
Положен отзвук городов – сердец,
Чтоб этот сказ о Красном и о Черном
Нам перебил Стендаля, наконец.
«– Вернись, страна, в высокий город твой…»
– Вернись, страна, в высокий город твой,
Под купола кремлевской бурной славы,
На холм времен, на пласт береговой…
Но поднят щит. Укреплены заставы.
А там, в бреду, всем ветрам вручена,
В замшелый крест вложив персты сухие,
Забыв свой путь, скитается она –
Слепая. Прокаженная Россия.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. ЗАПИСЬ О «ВТОРНИКЕ» «НЕОКЛАССИКОВ» 16 НОЯБРЯ 1926 ГОДА
Запись о «вторнике» «неоклассиков», состоявшемся 16 ноября 1926 г., – единственная заметка о «Вечерах на Ждановке», сохранившаяся в архиве Л.Аверьяновой; вела ли она свои записи до того или позднее, мы не знаем. В ряду уже известных воспоминаний «неоклассиков» о Федоре Сологубе эта короткая заметка, несомненно, занимает свое место. В отличие от мемуаров В.В. Смиренского, M B Борисоглебского и Е.Я. Данько [1] (кого, во-первых и прежде всего, интересовала личность поэта – «последнее Федора Кузьмича»), запись Л. Аверьяновой не выделяется «сологубоцентричностью». Перед нами – своеобразный «стенографический отчет» об одном из «вторников», который показался юной поэтессе интересным и достойным запоминания. Она воспроизводит «программу» вечера без каких-либо оценок услышанного и увиденного, реплики присутствовавших и реакцию на них Сологуба, передает настроения членов кружка и их отношение к происходящему в Совдепии. Благодаря этой особенности изложения ей удается воссоздать подлинную атмосферу «вторников» – кружка независимой творческой интеллигенции, сгруппировавшегося вокруг Сологуба в 1924—1927 гг.
Текст печ. по: Л.И. Аверьянова-Дидерихс. Запись о «вторнике» «неоклассиков» 16 ноября 1926 г. // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003—2004 годы. СПб., 2007. С. 555—559.
16 ноября 1926 года
Я глубоко сожалею, что недостаточно умна для словесного турнира с Ф.К. Сологубом.
Я вошла (сегодня очередной в этом «сезоне» – вторник «неоклассиков») в его тепло-натопленную спальню-кабинет, со старинной мебелью красного дерева и синим сукном на письменном столе. Спиной к двери, в жестковатом екатерининском кресле уже сидел М.В. Борисоглебский[2]. Разговор шел о Булгакове: перед моим приходом М<ихаил> В<асильевич> рассказывал о нашумевшей пьесе последнего «Дни Турбинных», которую М<ихаил> В<асильевич> видел в Москве и которая, по его словам, производит впечатление потрясающее[3]. Ф<едор> К.<узьмич>– слушал холодно и только заметил, что рассказы Булгакова он знает и они ему нравятся[4], но что пьесы, которые дают 40 аншлагов и «толпа на них валит», ему обычно уже по этому одному нравиться не могут.
Когда мы на минуту остались одни, Ф<едор> К<узьмич> вдруг круто спросил: «Стихи пишете?» – «Мало». – «Напрасно, – наставительно заметил он, – надо писать много». В этот вечер он не раз возвращался к этой теме и, между прочим, рассказал, как однажды спросил его Александр Александрович (Блок), сколько у него за последний год написано стихов. «50», – наобум ответил Сологуб, на что Блок решительно произнес: «Мало».
С приходом Н.Ф. Белявского и В.В. Смиренского разговор принял другое, несколько неожиданное направление: спорили Ф<едор> К<узьмич> и я о разнице между «учителем» и «педагогом». Ф<едор> К<узьмич>, многие годы своей жизни бывший школьным учителем[5] (я думаю, что для человека его склада и ума это должно было быть ужасно), упорно утверждал, что учителю педагогом быть незачем, для него важна методика, а не педагогика, я же уперлась на том, что «с современной точки зрения» учитель не педагогом быть не может, и даже высказала мнение, что, уже само по себе, накопление и передача знаний есть одновременно самовоспитание или воспитание человека. Последнее слово осталось, конечно, за Ф<едором> К<узьмичом>.
Е.Я. Данько, а за нею и В.П. Калицкая[6] перевели разговор на тему о пособиях членам Союза писателей. В<ера> П<авловна> рассказала, что снова посетила Чарскую – и нашла ее в положении ужасном[7]. У Чарской туберкулез в третьей степени, муж ее безработный и тоже туберкулезный, средств к существованию никаких. Она всё время лежит, оживляется редко, и оживление это нездоровое, нервное. Между прочим, она рассказала В<ере> <Павловне>, сколько ей платили в прежнее время – и это разом разрушило мои представления о ее «высоком авторском гонораре»: так, за «Княжну Джаваху», создавшую ей наибольшую популярность, Вольф [8] заплатил ей – и это при продаже рукописи в собственность! – 200 рублей. И только в самое последнее время, перед войной и революцией, она стала получать 1000 р. за книгу, опять-таки при ее продаже в собственность.
В<ера> П<авловна> защищала Чарскую, уверяя, что та «непрактична», на что Сологуб едко заметил, что «практичность» здесь ни при чем. И рассказал, как однажды пришел к нему Е.В. Аничков[9] и передал, что И.Д. Сытин дает (Ф<едору> К<узьмичу>) за «Мелкого беса»… в собственность!.. 500 рублей[10]. «Я, конечно, не сказал Е.В. Аничкову, что он дурак, потому что он был очень милый человек, – но при чем же здесь практичность?!»
За чаем Борисоглебский разразился совершенно необычной историей. В день праздника милиции (это было совсем на днях, кажется, числа 12-го) на углу Морской и Невского стоял важный, представительный милиционер – «тип старого городового» – и опрашивал облюбованных им прохожих – «русские они или евреи?». Человек, шедший перед поэтом Вольфом Эрлихом[11], оказался, к счастью своему, русским и на свой ответ услышал снисходительное. «Проходи». С Вольфом же дело приняло скверный оборот. На вопрос постового, «русский ты или жид», он ответил в первый раз: «А зачем это Вам?» во второй: «еврей». Тогда милиционер, по-видимому; вконец опьяненный своим милицейским праздником и «административным», а может быть, и «патриотическим» восторгом… дал Вольфу Эрлиху «в морду» – и при этом со всего размаха. Потом повел его в милицию, нещадно лупя всю дорогу, а приведя, обвинил Вольфа в нападении первым. Однако дело выяснилось, милиционер тут же был обезоружен и уведен, и говорят, что дело будет направлено в суд.
Другая сенсация, приготовленная нам Борисоглебским, оказалась еще кошмарнее: секретарь М<осковского> о<тделения> В<сероссийского> С<оюза> п<исателей>, беллетрист Вагин был неизвестно за что арестован и затем, также таинственно, расстрелян…[12] Ходят слухи, что он был убит во время допроса; версия такая: допрос сопровождался мордобитием, и Вагин, человек горячий, осмелился дать сдачи. За это его на месте.
Воцарилось молчание. Кто-то тихо произнес: «Страшные вещи творятся кругом». «Я знаю еще два случая», – выговорила я со сжимающимся горлом. Меня просили рассказать. И я рассказала о «двойной гибели» так, как слышала это от мужа[13].
В годы военного коммунизма был арестован известный теннисист Аленицын: в ЧК – теперь это называется иначе – он повесился на шнурках от сапог. Весть эта достигла А.Л. Рафаловича, также теннисиста. Рафалович был возмущен: «как мог совершить такой поступок молодой, здоровый человек, при этом спортсмен»… Рафалович был экономистом. Без всякой задней мысли давал он сведения экономического характера за границу. Полгода спустя после гибели Аленицына он также был арестован – и в той же тюрьме повесился на подтяжках[14].
«Повесили», – мрачно сказал Сологуб. Я подумала, что и у моего мужа была эта мысль…
Помню еще, как муж мой рассказывал об аресте теннисистки Натальи Алексеевны Сувориной: она служила в одном учреждении, где могла доставать белые газеты[15]. Одналсды она дала их почитать Бруно Шпигелю – известному и сейчас теннисисту[16]. У того был обыск; нашли газеты; и он показал на Н.А. Суворину… Ее арестовали. Из тюрьмы она так и не вышла, умерла от дизентерии…
Е.Я. Данько поразила меня вестью о том, что еще в прошлом году сослан в Уральск Виталий Бианки[17]. Оказывается, он был когда-то эсером и даже в белой армии, но имел по возвращении сюда покровительство Лилиной[18] и ее честное слово, что с ним ничего не случится. Теперь, однако Лилину «убрали», а с нею и старые грехи ее «протеже». В. Бианки находится в ужасных для интеллигентного человека условиях: без книг, без правильно доходящих писем. «Черта оседлости» оторвала его от природы, а ему, зоологу, писавшему из личной практики все «звериные» и «лесные» истории в отделе детских журналов, зхо невыносимо – тяжело. В<ера> Н<иколаевна> приехала сюда[19], чтобы иметь возможность посылать ему книги: никакие письменные ходатайства в учреждениях, с которыми он был связан, не действовали.
Во время чая вошел Ю.Н. Верховский[20]. Его пышная шевелюра и густая черная борода – сильно «поповская» внешность, и только не по-священнически умное лицо ее спасает – разом разрушили мое воображаемое представление об его облике. Перешли в кабинет. Доклада, в собственном смысле этого слова, не было; помню немногие мысли Верховского: «поэзия Ломоносова, параллельная Елисаветинскому стилю в архитектуре, раскрывается нам во всей полноте только тогда, когда мы ее мысленно свяжем со стилем этой эпохи». Это очень хорошо, очень верно.
Потом Борисоглебский вернулся к своему «коньку» – «Дням Турбиных». Он сказал пламенную речь, любопытным местом которой явился рассказ о том, как Блюм (из Главреперткома) ни за что не хотел разрешить эту пьесу[21] и, чтобы добиться своего, согнал на закрытый просмотр до 1 ООО коммунистов, из которых половина была – женщины-делегатки в красных платочках; и как, не успев просмотреть и трех картин, вся эта публика ревела и обтирала слезящиеся морды!.. Блюм был в отчаянии, но пьеса всё же была разрешена к постановке, хотя Совнарком ограничил ее существование только 1 сезоном и только в Московском Художественном театре[22], на всю Россию…
Верховский, разбирая формы современного искусства, заметил, что «большой формой» для драматургии явится мелодрама, к которой она сейчас приближается. Сологуб возразил, цитируя успех «Дней Турбинных», что «большой формой, пожалуй, явится историческая хроника, наподобие шекспировой». Он связывал свое предположение еще вот с чем: «придрался» к словам Борисоглебского, что «Дни Турбинных», безусловно, не смогут быть так же глубоко воспринятыми зрителями, не перенесшими нашей революции, как нами, ее перенесшими, и оттого произведение, могущее «устареть», не является высоко-художественным… по форме же и трактовке сюжета «Дни Турбинных» представляются ему именно исторической хроникой – и ничем иным. А если публику привлекает не историчность, а «общность переживаний» с рампой и только-то, грош ей, пьесе, цена.
На этом ставлю точку, оттого что всё переврала и спать хочу смертельно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИЗ ОТЧЕТОВ И ПЕРЕПИСКИ ВОКС’А
Деятельность Л.И. Аверьяновой в качестве переводчицы Интуриста и Ленинградского отделения ВОКС'а – Всесоюзного Общества культурной связи с заграницей (основано в 1925 г.) до настоящего времени не изучена, хотя, несомненно, заслуживает пристального внимания. Работа с зарубежными гостями занимала в ее жизни важное место и продолжительное время – в общей сложности около десяти лет (1927-1936). Думается, что анализ документов как самого ВОКСа, так и связанных с его деятельностью структур, за период занятости поэтессы в этой организации, помог бы прояснить неизвестные или всё еще остающиеся загадочными стороны ее биографии. Подобное исследование – задача будущего, и, тем не менее, мы сочли целесообразным воспользоваться несколькими документами архива ВОКСа, в качестве иллюстрации профессиональной жизни Л. Аверьяновой и характеристики круга ее общения. В частности, немалый интерес представляет циркуляр о посещаемых объектах и лицах, их курирующих. Приводим сведения из циркуляра, составленного уполномоченным ВОКС'а М.А. Орловым от 17 окт<ября> 1936 г. на имя Заведующей Секретной Частью ВОКС'а тов. Куресар:
«<…> ставлю Вас в известность о положении дела в отношении советских работников, которые при посещении наших объектов показа иностранцам их принимают и беседуют на местах. <…> Сопровождают иностранцев и присутствуют при беседах гиды Института или сотрудница ВОКС тов. Выговская М.И. Кроме того, обращаю Ваше внимание на то, что на всякого обслуживаемого Лен. Отделением ВОКС иностранца составляется формуляр с точным указанием! фамилии, имени, профессии, страны, города-местожительства, откуда прибыл, даты прибытия, где остановился, когда и куда выехала и точного изложения программы его пребывания, с кем, где и когда виделся и беседовал. Оригинал этого формуляра регулярно высылается т. Тепляковой и из них можно также черпать конкретные данные, с кем, когда обслуживаемые нами иностранцы беседовали[23].
В документе выделены группы: 1) Академики, 2) Профессора, 3) Архитекторы, 4) Режиссеры. В последней рубрике перечислены также писатели, художники, научные сотрудники, директор Публичной библиотеки и т.п. Общий список занимает 2,5 страницы, 44 пункта, в которых означены имена ответственных лиц, с адресами и телефонами. В частности, в списке значатся:
Академики : Самойлович Александр Николаевич – Институт Востоковедения АН, Орбели Леон Абгарович – Всесоюзный Институт Медицины и Физиологический Институт АН, Орбели Иосиф Абгарович – Директор Государственного Эрмитажа, иранист, Иоффе Абрам Федорович – Физико-Технический Институт, Мещанинов Иван Иванович – Директор Института Антропологии и Этнографии АН, Державин Николай Севастьянович – Отдел Общественных наук АН, Вавилов Николай Иванович – Всесоюзный Институт Растениеводства, Всесоюзная С/Х академия им. Ленина, Вавилов Сергей Иванович – Государственный Оптический Институт;
Профессора : Самойлович Рудольф Лазаревич – Директор Всесоюзного Арктического Института, Ундриевич Вацлав Станиславович – Директор Института Советского права, Бродский Исаак Израилевич – Директор Академии Художеств, Радлов Николай Эрнестович — Академия Художеств и Зам. Председателя Союза Художников, Никольский Александр Сергеевич – Председатель Союза Архитекторов, Ильин Лев Григорьевич – Главный архитектор Ленинграда;
Творческая интеллигенция : Радлов Сергей Эрнестович – Директор Государственной Драмы, Державин Константин Николаевич — Помощник Начальника Комитета Искусств, Брянцев Ал Александрович – Директор ТЮЗа, Гринфельд Натан Яковлевич – Директор Театра Оперы и балета им. Кирова, Ваганова Агриппина Яковлевна – народная артистка, Кацнельсон Леонид Григорьевич – Директор Ленфильма, Иохельсон Владимир Ефимович – секретарь Союза Композиторов, Тихонов Николай Семенович – Председатель Союза Писателей, Толстой Алексей Николаевич, Федин Константин Александрович, Чуковский Корней Иванович, Петров-Водкин Кузьма Сергеевич, Пахомов Александр Федорович, Васильев Борис Александрович (китаист), проф. Мушкетов Дмитрий Иванович (геолог) – Директор Горного Института, Шамсонов Семен Михайлович (испанист), Вольпер Александр Христофорович – Директор Публичной библиотеки, Селиванов Владимир Иванович – Ученый секретарь Государственной Академии Материальной Культуры.
Далее в инструкции следует «Список советских работников по обслуживанию иностранцев на объектах».
В публикацию вошли отчеты сотрудников ВОКС'а, связанные с пребыванием в Ленинграде американской журналистки Э. Эванс, гидом которой была Л. Аверьянова. По нашим предположениям, эта история каким-то образом сказалась на дальнейшей судьбе переводчицы, – фактически обслуживание Эванс стало ее последней или одной из ее последних работ в ВОКС’е, после чего она, по всей вероятности, была уволена (ее имя в документах Ленинградского отделения ВОКС после 1936 г. не встречается).
Краткие сведения о зарубежной гостье: Эрнестина Эванс (1889-1967; Ernestine Evans) – журналистка, редактор, литературный агент; была замужем (в 1935 г. развелась) за Кеннетом Дюраном (1889-1972; Kenneth Durant) – журналистом, главой американского отделения советского информационного агентства ТАСС (1923– 1944). Отчеты секретных служб, опубликованные в Англии в 2005 г. (данные из Wikipedia), сообщают, что Эванс переехала в Англию в 1925 г., после того как Дюран был выдворен из США из-за связей с различными подставными коммунистическими организациям. В качестве журналистки Эванс часто выезжала за границу. В очерках для ежеквартального литературного журнала «Virginia Quarterly Review» она подробно описывала свои путешествия по Европе и СССР, сочетая политические обзоры с художественной критикой. В 1929 г. в Нью-Йорке у нее вышла книга о творчестве Диего Риверы – первая англоязычная монография о художнике.
В связи с публикацией материалов уместно привести фрагмент из дневника Александра Яковлевича Аросева (1890-1938; расстрелян; в 1927-1928 гг. полпред СССР в Литве, в 1929–1933 гг. полпред в Чехословакии; в 1934-1937 гг. председатель ВОКС), запись от 5 сентября 1936 г.: «На службе много работы и много игры. Теперь ко мне приходят все, и каждый друг на друга доносит»[24].
Отчеты о пребывании Э. Эванс в Ленинграде осенью 1936 г. печ. по: ЦГАЛИ СПб. Ф. 4. Оп. 1. Д. 15 (Отчеты и переписка с ВОКС'ом о пребывании иностранцев в Советском Союзе. 31 июля – 17 дек. 1936 г.). Л. 57-63.
<1>
<Отчет Л. Аверьяновой>
С 5 / XII по 7 / XII 1936 г., по просьбе леди Мюриель Пэджет, я сопровождала американскую туристку Эрнестину ЭВАНС, журналистку, проживающую на квартире леди Пэджет. Красная ул. № 65. Эта туристка жаловалась на недостаточное обслуживание со стороны ЛПВОКС [25], куда она обратилась с просьбой устроить ей 1) посещ<ение> пьесы «Салют, Испания» [26] 5 / XII (исполнено), 2) Институт Народов Севера [27] (7 / XII исполнено) и 3) фабрики и заводы, не входившие в компетенцию ВОКС’а, о чем она знала заранее.
Кроме того, в дальнейшем, ЭВАНС требовала еще показа ей «Дома Художественного Воспитания Детей», но удалось установить, что она о таком желании в ВОКС даже и не заявляла, хотя имела возможность это сделать своевременно.
ЭВАНС высказывала большое недовольство сотрудницей ЛПВОКС Марией Ивановной Выговской, жалуясь на ее плохое знание англ<ийского> языка и на нежелание устраивать какие-либо показы без ведома т. Вильм[28]. ЭВАНС рассказала сама, что отказалась говорить с Выговской и считала себя вправе вести разговор подобным тоном, в частности будучи вполне уверена, что как бы она ни вела себя в советском учреждении, советская власть никогда не посмеет отказать ей в визе на следующий приезд в СССР, который намечен на весну или осень 1937 г.
Относительно М.И. Выговской ЭВАНС еще высказалась, что ее неспособность и злостное нежелание что-либо сделать для иностр<анных> туристов заставляет считать, что Марии Ивановне В<ыговской> протежирует директор ВОКС т. Орлов, креатурой которого она является, либо Выговская имеет влиятельных родственников-коммунистов, которые и устроили ее на работу в ВОКС, для чего она непригодна.
О письме, полученном из московского ВОКСа на имя ЭВАНС с извинениями за конфликт с ЛПВОКС в прошлом году, по поводу той же Выговской, Эванс заявила, что письмо московского ВОКС'а состояло из «самых низких и подобострастных выражений» (object apologies), но что Выговская, вопреки ожиданиям ЭВАНС, с работы снята не была.
Переводчица Лидия Аверьянова
<2>
<Приложения к отчету Аверьяновой>
Секретно. 9 декабря. № 252
Председателю Всесоюзного Общества Культурной Связи с заграницей тов. АРОСЕВУ А.Л.
Копия: Уполномоченному НКИД в Ленинграде тов. ВАЙНШТЕЙН Г.И.
Дорогой Александр Яковлевич, Хочу поставить Вас в известность о возмутительно наглом поведении некой американской корреспондентки Эрнестины ЭВАНС, живущей в Финляндии и приехавшей в СССР в Ленинград на несколько дней.
Эрнестина ЭВАНС приезжает не впервые. В 1935 г. она была в Ленинграде с 24 по 30-ое октября и уже тогда себя вела вызывающе. Она не просит ей то или иное устроить для посещения, а требует – нагло крича.
В этот свой приезд она остановилась в Английской Миссии у лэди Мюриэль ПЭДЖЭТ <так!>, и уже в этот раз они обе позволили себе более чем не корректное поведение, они просто были наглы.
Прилагаемые в копии 2 заявления тов. ОВЕРКО и тов. ВЫГОВСКОЙ – полностью воспроизводят их манеру держать себя. Интерес также представляет и отчет переводчицы АВЕРИЯНОВОЙ <так!>, работавшей с ЭВАНС. Прошу обратить ваше внимание в отчете АВЕРИАНОВОЙ на ссылку ЭВАНС на какое-то «извинительное» письмо ВОКСа по поводу ее протеста и жалобы в 1935 г. на тов. Выговскую, жалобу, которую, с ее слов, она якобы посылала в Москву в 1935 г.
Во-первых, должен сказать, что мне ничего неизвестно о ее жалобе ВОКСу (если она была), ни об ответе ВОКСа ей.
Уверен, что если бы и то и другое имело место, то Правление ВОКСа меня поставило бы в известность, так как это касалось обслуживания в Ленинграде и нашего сотрудника. Прошу дать распоряжение всё же это заявление ЭВАНС в части ее претензий в 1935 г. проверить и, если была какая-либо переписка, то выслать мне копиями. Ее претензии к тов. ВЫГОВСКОЙ совершенно неосновательны, так как ей все было устроено, что было возможно в 1935 году.
Считал бы желательным иметь возможность указать и ПЭДЖЭТ, что тон, который она себе позволяет последнее время, совершенно неприемлем, но ПЭДЖЭТ сегодня до Марта-Апреля уезжает в Англию, и, может быть, Вы нашли бы уместным поставить в известность о поведении ПЭДЖЭТ тов. Майского[29], который просит ее и ее гостей обслуживать, и который, наверное, найдет «дипломатический» метод ей объяснить недопустимость ее тона.
Как только Ада Васильевна узнала о телефонном звонке ПЭДЖЭТ, тоне ее разговора, она немедленно поставила в известность тов. ВАЙНШТЕЙНА (НКИД) [30] и, конечно, ПЭДЖЭТ не звонила.
По согласованию с НКИД, для ЭВАНС на 5 / XII было устроено присутствие на спектакле «Салют Испании» <так!> и на 7-ое декабря посещение Института Народов Севера, но всё это было сделано, конечно, после того, как она 5-го к концу дня прислала корректное письмо, прося ей устроить вышеупомянутое.
7-го она выехала обратно в Финляндию.
Хорошо бы о выше изложенном поставить в известность и тов. АСМУСА[31], нашего полпреда в Финляндии, принимая во внимание, что и ЭВАНС живет в Финляндии.
С товарищеским приветом Уполномоченный ВОКС'а Орлов
ПРИЛОЖЕНИЕ: на 3-х листах А.В.
3 экз.
1 – Председ<ателю> ВОКСа т. Аросеву
1 – Уполномоченному> НКИД в Л-де – т. Вайнштейн
1 – дело
<3>
Уполномоченному ВОКСа
Тов. ОРЛОВУ М. А.
Довожу до Вашего сведения, что 5 / XII в ВОКС зашла американка, журналистка и писательница Эрнестина Эванс – гостья леди Педжет. Она требовала быть немедленно принятой т. Вильм. Но тов. Вильм в это время в ВОКСе не было и я ей сказала, что она занята Болгарской делегацией и что я могу передать т. Вильм то, что желает. Гр-ка ЭВАНС ответила, что со мной она не желает говорить, что я всё равно ей ничего не устрою, что в прошлом году ей тоже ничего не показали, продержали ее полдня в ВОКСе, много обещали и ничего не устроили.
В данном случае она лжет, так как в Октябре прошлого года ей было устроено посещение Радио-Центра, она была принята Вами и только не удалось устроить беседу с тов. Эдельстоном из Массового Отдела Ленсовета.
Вернувшись из соседней комнаты, где я говорила по телефону, я застала ее сидящей на моем стуле и разглядывающей мои записи. Спокойно и вежливо я попросила ее пересесть на другой стул, на что она грубо заявила, что чувствует себя и на этом месте удобно.
На мой совет посетить некоторые музеи, она заявила, что все наши музеи она знает от начала до конца, и не намерена больше их посещать.
Все это она говорила повышенным тоном, размахивала руками перед моим лицом и вообще, все ее поведение было непозволительно и безобразно грубо; ушла она, не попрощавшись и с ворчанием.
М. Выговская (подпись)
<4>
7 / XII – 36 г.
Уполномоченному ВОКСа тов. ОРЛОВУ М. А.
Считаю своим долгом довести до Вашего сведения, как работница ВОКСа и как советская гражданка, о возмутительном телефонном разговоре с представительницей Английской Массаж Мюриел Педжэт:
5 / XII позвонили из Английской Миссии и попросили к телефону тов. Вильм. Я ответила, что ее данный момент в ВОКСе нет, тогда меня спросили, могу ли я говорить по-английски и к телефону подошла леди Педжэт. Она спросила, где т. Вилм, на что я ответила, что она ушла в Интурист. Леди Педжэт сообщила, что у нее сейчас гостит американская писательница Эрнестина Эванс, которая хочет посмотреть Институт народов Севера. Она потребовала немедленно отыскать тов. Вильм в Интуристе и очень резким тоном сказала, что Ин<ститут> Народ<ов> Севера «должен быть» устроен сегодня и чтобы ей немедленно о результатах сообщить в Миссию. Всё это было сказано очень наглым тоном.
Е.Оверко
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РОМАН В СТИХАХ
Мемуарный очерк Л.Л. Ракова «Роман в стихах» печ. по: Лев Львович Раков. Творческое наследие. Жизненный путь / Автор– составитель А.Л. Ракова. СПб.: Государственный Эрмитаж (Серия: «Хранитель»). С. 140-149.
В примечания внесены минимальные изменения, продиктованные структурой данного издания.
Однажды, придя из Университета к себе в Эрмитаж, в кабинете Античного отдела (где я служил ученым секретарем) я нашел на столе письмо. На конверте было написано – «лично». Раскрыл я это письмо безо всякого интереса, но потом страшно удивился, найдя там стихи. Названия они не имели. Стихи были следующими:
Ты Август мой! Тебя дала мне осень,
Как яблоко богине. Берегись!
Сквозь всех снегов предательскую просинь
Воспет был Рим и камень римских риз.
Ты Цезарь мой! Но что тебе поэты!
Неверен ритм любых любовных слов:
Разбита жизнь уже второе лето
Цезурою твоих больших шагов.
И статуи с залегшей в тогах тенью,
Безглазые, как вся моя любовь,
Как в зеркале, в твоем отображенье
Живой свой облик обретают вновь.
Ручным ли зверем станет это имя
Для губ моих, забывших все слова?
Слепой Овидий – я пою о Риме,
Моя звезда взошла в созвездьи Льва!
По скромности я решил, что кто-то из друзей мило разыграл меня. Но кто? Перебрав всех знакомых, я остановился на мысли, что это придумано сотрудницей ГАИМКа [32] М. Но разговор с нею по телефону сразу же убедил меня в полной ошибочности предположения.
Придя на службу на следующий день, я опять обнаружил письмо с такой же надписью «лично». Надо ли говорить, что там были стихи:
Дворец был Мраморным – и впору
Событью. Он скрывал Тебя.
Судьбой командовал Суворов –
И мы столкнулись – Ты и я.
Нева? Была. Во всем разгоне.
И Марс, не знавший ничего,
Тебя мне подал на ладони
Большого поля своего.
С тех пор мне стал последним кровом
Осенних листьев рваный стяг,
И я, у дома Салтыкова,
Невольно замедляю шаг;
Как меч на солнце пламенею
И знаю: мне не быть в плену:
Оставив мирные затеи,
Любовь ведет со мной войну.
На следующий день я уже с беспокойством подходил к столу. Конечно, лежит письмо и разумеется «лично».
Фельтен для Тебя построил зданье,
Строгое, достойное Тебя.
И Нева бежит, как на свиданье, –
Спутница всегдашняя твоя…
Вставлен в снег решеток росчерк черный,
Под ноги Тебе, под голос пург,
Набережные кладут покорно
Белый верх своих торцовых шкур…
И, Тобой отмеченный, отныне
Мне вдвойне дороже город наш –
Вечный мир второй Екатерине,
Нам воздвигшей первый Эрмитаж!
Каждый вечер я советовался с родными, кто бы мог быть автором стихов? С какой целью он их мне посылает? Если за розыгрыш, не слишком ли он затянулся? И зачем письма отсылаются на службу? Вдруг ими заинтересуется спецчасть? Вдруг, вызовут в местком — что это, мол, за странная корреспонденция? Ведь не мог же на самом деле в меня влюбиться человек ни разу не поговоривший толком, ни разу не выявивший себя так или иначе…
Опять я звонил разным знакомым и, предупредительно хихикая, говорил, что я уже всё равно догадался, что благодарю за прекрасные стихи, но прошу прекратить их присылать: ведь я их не заслужил… В ответ я слышал то встречную шутку, то выражение недоумения, а то и колкость.
Обнаружить автора стихов не удавалось. А на служебном столе каждый день меня ждало новое письмо.
Не услышу Твой нежный смех —
Не дана мне такая милость.
Ты проходишь быстрее всех —
Оттого я остановилась.
Ты не думай, что это — я,
Эго горлинка в небе стонет…
Высочайшая гибель моя.
Отведут ли Тебя ладони?
Очень беспокойной стала моя жизнь: какая-то женщина постоянно следит за мною, а я не подозреваю ее присутствия:
Стой! Я в зеркале вижу Тебя.
До чего Ты, послушай, высокий…
Тополя, тополя, тополя
Проросли в мои дни и сроки.
Серной вспугнутой прочь несусь,
Дома сутки лежу без движенья –
И живу в корабельном лесу
Высочайших твоих отражений.
Иногда характер ассоциаций в стихах был далек от того, что являлось родным и важным для меня, и факт их посвящения мне лишний раз казался очевидным недоразумением:
К вискам приливает кровь.
Всего постигаю смысл.
Кончается книга Руфь –
Начинается книга Числ.
Руки мне дай скорей,
С Тобой говорю не зря:
Кончается книга Царей,
Начинается книга Царя.
Какого вождя сломив,
В какую вступаю ширь? –
Кончается книга Юдифь,
Начинается книга Эсфирь.
Не помню, что было встарь.
Рождаюсь. Владей. Твоя.
Кончается книга Агарь –
Начинается жизнь моя.
Но потом снова расцветали родные туземные образы:
Других стихов достоин Ты.
Развязан первой встречи пояс:
Нева бросалась под мосты,
Как та Каренина под поезд.
На эту встречу ты подбит
Был шалым ветром всех созывов…
И я схватилась за гранит,
Как всадник держится за гриву;
И я… но снова о Тебе…
Так фонарем маяк обводят.
Так выстрел крепости, в обед
Доверен вспугнутой погоде.
Так всякий раз: Нева. Гранит,
Петром отторгнутые земли…
И поле Марсово на щит
Отцветший свой меня приемлет.
Подчас в стихах появлялись оттенки, свидетельствовавшие о том, что автору были известны заветнейшие мои интересы. Об этом ему могли рассказать только самые близкие из моих друзей. Разглашение подобных симпатий также внушало беспокойство: ведь во вторую половину тридцатых годов самое похвальное внимание к такой, например, теме, как история русского флота, понималось как нечто весьма неблагонамеренное. А что, как не андреевский флаг, имел в виду автор в следующих строчках:
Ты живешь, сказал он, в доме синем
С белым. Правда, или же не так?
В море жизни надо мной отныне
Поднят нежный позабытый флаг…
К сожалению, я не помню дальше этого стихотворения (как и многих других), кончавшегося словами:
Знаю, близится моя Цусима,
Но уже не повернуть назад.
Глубокой зимой скончался многолетний шеф Античного отдела Эрмитажа О. Ф. Вальдгауэр [33]. Возле его гроба, утопавшего в цветах, два дня звучала музыка. Эти похороны были замечательный особой музейной торжественностью. Вряд ли кто-либо удостаивался такой посмертной почести: открытый гроб был пронесен при свете факелов по залам античной скульптуры…
Мне пришлось немало хлопотать по всему печальному церемониалу. Поэтому на следующий день я нашел на столе стихи.
Тот неурочный зимний сад
В предсмертный час мне будет сниться…
Четыре факела горят
На самой черной колеснице…
Дальше я не помню ничего, кроме последних строчек:
Свет факелов, горящий между арок…
Как близко ты решился стать ко мне.
Я принимаю страшный твой подарок!
Опять тягостное ощущение, будто нахожусь под наблюдением, хотя бы и самым доброжелательным. А неизвестный поэт открыто признавался в «охоте» надо мной:
Как Гумилев – на львиную охоту,
Я отправляюсь в город за Тобой:
Даны мне копья – шпилей позолота –
И, на снегу, песок еще сухой,
И чернокожие деревья в дымной
Дали, и розовый гранитный ларь, –
И там, где лег большой пустыней Зимний,
Скитаюсь, петербургская Агарь…
Были стихи, посвященные встрече в зале апулийских ваз, черных с золотом апулийских ваз, где я (готов поклясться) никого не встречал, кроме одной малознакомой дамы, которая, разумеется, никогда не написала бы мне ни строчки: мы только здоровались.
К весне печаль и тревога появились в стихах. Их несколько эпигонский «петербургский» характер, что в какой-то мере сам по себе гарантировал верность спокойной туземной литературной и бытовой традиции, уступил место нервному болезненному настроению. Беспокойными стали рифмы. Строчки обрывались неожиданно и капризно. Строчки обрывались неожиданно и капризно. В стихах нередко утверждалось самоубийство как единственный выход из воображаемых романтических отношений. Жалко, что я ничего не запомнил, кроме пугающих слов: «…на подоконник, или на дно…»[34].
Поэтому я очень обрадовался, когда появились стихи, продолжающие классическую манеру, например «Летний сад»:
Младшим – стройное наследство,
Лебедь, кличущий назад, –
Ты мной дивно правишь с детства,
Венценосный Летний Сад.
Дрогнет мраморное вече.
Жолудь цокает в висок.
Место первой нашей встречи
От тебя наискосок.
Так. Скудеющей походкой.
Так. Растеряны слова.
Там, за дымчатой решеткой,
Тяжко стелется Нева.
Струны каменные – четче
Всех чугунных – горний кряж…
Так тебя украсил зодчий,
Тот, что строил Эрмитаж.
Летний Сад, какое лето
Нас введет сюда вдвоем?
Вдоль гранита плещет Лета,
Покоренная Петром.
Однажды за чайным столом у покойного поэта и писателя … [35] мы читали и обсуждали все эти стихи. Высказывались всевозможные догадки по поводу их автора, так и не опознанного в течение почти целого года. Все были согласны в том, что моя скромная особа послужила лишь чисто внешним поводом для вдохновения. Несомненно, адрес должен был скоро перемениться. И мое идиотски прозаическое, обывательски трусливое отношение к этим стихам уязвляло меня самого, внутренне отлучало от таинственного автора, заставляло желать, чтобы он переменил адрес скорее.
На следующий день я услыхал в телефоне незнакомый голос:
– Лев Львович! Вы читали мои стихи?..
– Кто это говорит?
– Говорит автор стихов. Вы читали их?..
– Читал. Я не знал, что это вам будет неприятно… Вы скажете, кто вы?
Ответа не последовало. Зато через день были получены новые стихи. С тех пор прошло более четверти века, но я никогда не забуду чувства обиды и стыда, которые пришлось пережить, прочтя их. Стыдно мне было не перед автором. Она напрасно сердилась на оглашение своих произведений: я, действительно, не был связан каким-нибудь обещанием. Вообще, перед этим человеком совесть моя была чиста. Но эти грозные строки я не раз вспоминал в других обстоятельствах, угрызаясь за поступки и мысли. Вот эти стихи (в скобках даны слова, приблизительно восстановленные мною по памяти):
Твой голос? Не бойся: не вздумаю я
С тобой разговаривать часто!
Как будто я — Фигнер, а голос меня
Взял и отвел в участок!
Как будто – Рылеев. Стою. На плацу.
Оплевана. Всем Петербургом.
А если ударю. Тебя. По лицу.
Как раб Преступленьем. Ликурга.
Как будто с пристрастием начат допрос.
(И дома, и в грохоте улиц
Я слышу надменный и грубый вопрос:)
Перовская? Гельфанд? Засулич?
Пускай мне твой голос в горло удар,
Пускай не рожу тебе сына –
Вольноотпущенник! Трус! Жандарм!
Предатель! Шпион! Мужчина!
Да, что там говорить! Эти строки способны привести надолго в самое удрученное состояние…
Дня через два пришло письмо за полной подписью – Лидия Ивановна А…ва. «Раз всё равно уже всё известно – прошу вас внести в стихи следующие исправления», был приложен список мелких изменений.
С тех пор я беседовал с автором стихов как раньше, когда и не подозревал о ее таланте. Это была та самая дама, которую я когда-то встретил в зале апулийских ваз, которую, конечно, не раз встречал на набережных, на улицах, в кино. Но мы никогда не разговаривали сколько-нибудь серьезно.
В 1938 году все стихи Лидии Ивановны были у меня отобраны при обыске. Изучение этого маленького архива давало основание моему тогдашнему официальному собеседнику говаривать: «А у тебя немало было лирики в жизни…»
Свет тесен. В дни Отечественной войны мы выяснили с одной знакомой, что она хорошо знала Лидию Ивановну, даже состояла с ней в родстве. Так я узнал о трагической смерти Лидии Ивановны.
Человеку психически неуравновешенному, ей приходилось периодически лечиться в больнице. Здесь ее застала война. Психоз бурно разыгрывался в условиях голодного истощения: Лидию Ивановну упорно преследовала мысль о насильственной мучительной смерти от рук фашистов. В больнице она и скончалась.
О стихах Лидии Ивановны я много думал, когда существовал вне жизни, перебирая былое. А вернувшись в мир, я получил от упомянутой знакомой несколько приведенных здесь стихотворений.
Уже более четверти века прошло с тех пор, как Лидия Ивановна написала эти стихи, более полугода, как я собрал их в этом рассказе. Вдруг недавно доя дочь принесла пожелтевшие листочки, найденные среди старых конспектов, писем, вырезок…
– Они, наверное, доставят тебе радость!
Знакомый почерк! Два уцелевших стихотворения Лидии Ивановны от 31 января и 2 февраля 1935 года, звучащие как привет с того света.
Никогда не бывало. Не будет. Нет.
Мы несказанного – не скажем.
Керамический вымысел, черный бред,
Черепок недошедшей чаши…
Я скошена быстрой походкой Твоей.
Как выстою, холодея, –
Нежней апулийских двухцветных вещей,
Мрачнее тарентских изделий.
Пыталась с Тобой разговаривать я.
О чем не посмела мечтать я! –
Должно быть, не стоит любовь моя
Простого рукопожатья…
Так молния разбивает дом.
Так падает тень на счастье.
Помедли: с Тобой, на секунду – вдвоем,
Тобой завоеванный мастер.
* * *
Всё в жизни – от будущего тень.
Под будущее – ссуда.
В извилинах времени скрыт тот день,
В который Тебя забуду.
О, выхвачу, как из ножен – меч,
Из жизни, с собой на пару,
Не выброшусь в сажень косую плеч,
Но выстою под ударом!
О локоть Твой – о, рука на мече! —
Обопрусь – пораженный вид Твой
Через жизнь понесу на своем плече,
Как через поле битвы.
На память заучивай каждый стих.
Лентяй, не узнал спросонок,
Верхом на пеонах – о, сколько их! –
Скачущих амазонок.
М. М. Павлова. «ПОЭТА ХРУПКАЯ СУДЬБА…» (Послесловие)
Поэтическая судьба Лидии Аверьяновой сложилась прихотливо и драматично: она закончила свой жизненный путь в 37 лет, не выпустив ни одного сборника, единичные публикации 1920-х – начала 1930-х гг. в советских газетах и журналах литературного имени ей не составили, на родине о ней забыли.
Признание пришло к Аверьяновой посмертно, под псевдонимом, в кругах эмиграции: в 1937 г. ей удалось переправить два последних сборника «Стихи о Петербурге» и «Пряничный солдат», составивших книгу «Серебряная Рака», известному итальянскому слависту Этторе Ло Гато[36]. От него рукописи попали к Глебу Петровичу Струве.
Г. Струве вспоминал: «Перед войной я несколько раз читал стихи Лисицкой о Петербурге в частных домах в Лондоне. Помню одно чтение в доме А.В. Тырковой-Вильямс в присутствии В.В. Набокова, который приезжал ненадолго в Лондон и которому я устраивал вечера чтения его произведений в нескольких английских домах. <…> Помню, некоторые стихотворения Лисицкой ему понравились. Тогда же, помнится, я послал несколько стихотворений И.И. Бунакову-Фондаминскому в “Современные записки”. Я знал, что этот журнал был известен Лисицкой и что она его ценила. Но я счел нужным нарушить строгий наказ автора и заменить ее фамилию придуманным мною псевдонимом, основанным на шутливом прозвище (“Лис”), которым она подписывала иногда свои письма к нашей общей знакомой-англичанке. Кажется, редакция “Современных записок” и приняла их (у меня нет сейчас возможности проверить, не появились ли они в единственной в 1940 году книге журнала)»[37].
После окончания войны, не зная, жив ли автор, Струве напечатал ряд подборок из стихов о Петербурге – в «Новом журнале» (Нью-Йорк), «Русской мысли» и «Возрождении» (Париж), «Гранях» (Франкфурт-на-Майне), «Мостах» (Мюнхен). В 1946–1962 гг. в русской зарубежной печати появилось новое литературное имя: А. Лисицкая предстала перед читателями как поэт петербургской ноты, кровно связанный с акмеизмом. И только в 1995 г. стихи о Петербурге вернулись «из эмиграции» на родину – в подборке на страницах журнала «Звезда» – уже под собственным именем автора, как она того и хотела, «высылая» в 1937 г. рукопись из СССР.
О Лидии Аверьяновой известно немного, свидетельства о ее рождении противоречивы, обстоятельства жизни и смерти неопределенны или загадочны. Ее литературный архив рассредоточен между Петербургом и Стэнфордом (США). В 1935 г. она передала свои документы на хранение в Пушкинский Дом (письма к ней разных лиц, а также стихотворения 1920-х гг.)[38]; рукописи сборников «Стихи о Петербурге» и «Пряничный солдат», а также отдельные сопутствующие им бумаги отложились в фонде Г.П. Струве в архиве Гуверовского института[39]. Благодаря сохранившимся материалам стало возможным собрать поэтическое наследие А. Лисицкой / Л. Аверьяновой в книгу и сопроводить ее рассказом о судьбе автора. А судьба эта, как писал В.М. Глинка, знавший поэтессу, оказалась прочно вплетенной в «паутину перекрестных нитей самой грибницы русской культуры: Оксман–Ахматова–Аверьянова–историк и ученый вел. кн. Николай Михаилович–Эрмитаж–А.И. Корсун–Л.Л. Раков… Всё связано со всем»[40].
Лидия Ивановна Аверьянова родилась 3 января 1905 г. (по ст. ст.: 21 декабря 1904). Кто были ее родители, доподлинно неизвестно, никаких сведений о ее семье, детстве и юности мы не встречали[41]. Существует предположение, что она была дочерью вел. кн. Николая Михайловича (1869-1919) – историка, писателя, председателя Императорского Русского Исторического общества, расстрелянного в Петропавловской крепости. В декабре 1962 г. Юлиан Григорьевич Оксман спрашивал у В.М. Глинки. «…Знали ли Вы в Ленинграде Лидию Ивановну Аверьянову? Она была на службе в Интуристе, писала стихи, переводила. Анна Андреевна <Ахматова. – М П> мне говорила, что ее муж работал в Эрмитаже. <…> Когда Лидия Ивановна умерла? При каких обстоятельствах? Мне кажется, что Л. И. была дочерью вел. кн. Николая Михайловича, помнится, что я об этом что-то прочел в его неизд. дневниках лет 30 назад…»[42].
Согласно анкетным данным Всероссийского Союза поэтов, Аверьянова происходила из купцов второй гильдии 43. Самый ранний дошедший до нас биографический документ – анкета студентки Ленинградской Консерватории сообщает:
Регистрационный лист
Фамилия студента: Аверьянова
Специальность: Орган
Класс профессора: Браудо
И. о. ф. Лидия Ивановна Аверьянова
Возраст: 19 лет
Национальность: русская
Общее образование: среднее
Время поступления в Консерваторию: 1923
Время поступления в класс: 1923
С 1920 по 1922 г. обучалась в классе проф. Бариновой[44]. Перешла на старший курс в 1920 г. с отметкой: 5.
Чем занималась до революции: училась
Чем занимаетесь теперь: на иждивении матеры (без работы), случайные заработки (уроки теории и фортепьяно).
Выступаете ли в кинематографах, кафе, кабаре, театрах и т.п., сколько зарабатываете е среднем: 24 руб.
Занятия отца до революции, во время революции, теперь: умер в 1914 г.
Занятия матери до революции, во время революции, теперь: а) домашняя учительница, б) служила статисткой в Райлескоме и 2 1/2 г. завхозом в Мед. Сан. Отделе Смольного.
Обучается платно, вносит плату: 50 руб.
Род. в Петербурге, адрес в Ленинграде: Орловский пер. 5, кв. 3.
30 мая 1924 г. [45]
В Консерватории Аверьянова познакомилась с Федором Федоровичем (Фридрихом Фридриховичем) Дидерихсом (1902 –после 1941) и вскоре вышла за него замуж, взяв его фамилию. Потомственный петербургский немец, он принадлежал к известной в музыкальном мире семье, его отец — Фридрих Александр Максимилиан Дидерихс заведовал фортепьянной фабрикой Братьев Дидерихс[46]. После окончания школы Федор поступил в I Политехнический институт, затем недолго служил в Красной армии, работал санитаром скорой помощи, в 1920 г. был зачислен в Консерваторию по классу фортепиано, одновременно с братом Андреем (1897– после 1941); в 1925 г. туда же был принят их кузен Леонид Андреевич Дидерихс (1907-?)[47].
Все три брата были одаренными музыкантами. Старший – Андрей еще до поступления в Консерваторию служил в качестве постоянного аккомпаниатора в симфонических оркестрах – Преображенского полка (сезон 1916/17 гг.), Музыкальной Драмы (сезон 1917/18 гг.) затем в Педагогической Академии. Леонид пять лет обучался в Детскосельской Музыкальной Школе (1920-1925) по классу фортепьяно известного педагога И.А. Гляссера, «выказывал выдающиеся успехи в своей специальности»[48]. Его отец, дядя Федора и Андрея, до 1917 г. был представителем музыкальной фирмы «Бехштейн», организатором всех концертов С. Кусевицкого, Ф. Бузони. С. Рахманинова, И. Гофмана и др., мать – певица и пианистка.
Обучение в Консерватории в классе Исайи Александровича Браудо (1896-1970)– блестящего молодого профессора, только что прошедшего стажировку в Европе (впоследствии – выдающегося органиста), и близость к высокопрофессиональной
музыкальной семье мужа, казалось бы, сулили Аверьяновой успешную карьеру органистки. Однако по окончании курса она избрала иную стезю; впрочем, занятий на органе никогда не оставляла, в Консерватории же преподавала иностранные языки, а за ее стенами давала частные уроки теории музыки и фортепьяно.
Ее сильнейшей страстью, наряду с музыкой, была поэзия («И я люблю здесь только лирный голос / И строгую органную игру»), позднее – литературный перевод. В шестнадцать лет Лида Аверьянова свободно владела немецким, французским, английским, испанским, итальянским. С годами освоение языков стало ее любимым занятием, к пяти основным европейским добавились польский, чешский, японский, грузинский и др. Ее ранние переводы из западноевропейской поэзии получили доброжелательный отзыв М. Л. Лозинского, 13 апреля 1925 г. он писал ей: «…Ваш перевод из Conrada’a показался мне хорошим, и я берусь рекомендовать и его, и пишу издателю…» [49]; 20 марта 1928 г. он же рекомендовал ее известному специалисту по испанской литературе Б.А. Кржевскому: «Лидию Ивановну Дидерихс-Аверьянову, которую Вы будете испытывать как испанку, я знаю в другом плане — как поэта, литературного человека и искусного переводчика. Я знаю один ее перевод с английского (Joseph Conrad); он был сделан здорово хорошо. Уверен, что если Академии наук нужно "перо”, то она его найдет в руке Лидии Ивановны»[50].
Стихи Аверьянова начала писать в пятнадцать лет, в 1921 г. ее приняли в Союз поэтов, вероятно, по представлению рукописи: этого было достаточно по правилам того времени[51]. Впрочем, в Союз ей пришлось вступать повторно, 26 марта 1926 г. – одновременно с Д. Хармсом и А. Введенским. Заумникам тогда не повезло, их творчество было отвергнуто приемной комиссией (в нее входили: И. Садофьев, Н. Тихонов, Г. Сорокин, М. Фроман, В. Рождественский, Н. Браун, Е. Полонская, А. Крайский, Г. Фиш)[52]; тем не менее сами обстоятельства способствовали возникновению между испытуемыми поэтами дружеской симпатии.
Литературный дебют Лидии Аверьяновой состоялся в 1923 г. в журнале «Записки Передвижного Театра» (22 окт. № 63), где было напечатано стихотворение «Щит от мира, колыбель поэта…». Годом ранее под «гофманианским» псевдонимом Эллида Крейслер в рукописном сборнике «Зреющая Россия. Альманах первый» (1922) увидели свет три стихотворения: «Угоден Богу каждый спелый колос…», «Простор стихающей Невы», «L’Automne» («Осень. Вечерний ветер…»)[53]. В 1924-1927 гг. ее стихи эпизодически появлялись в журналах «Ленинград», «Красный студент», «Красная молодежь» (1925. № 5 (9)), «Красный журнал для всех», в газетах «Смена», «Красная газета», «Ленинградская правда». Относительное признание она получила как автор стихотворения «Спасские часы» (1924), не раз читанного ею на литературных вечерах и как минимум дважды напечатанного: в журнале «Красная молодежь». (1925. № 5 (9)) и в «Собрании стихотворений» Ленинградского Союза поэтов (1926). Она подписывалась своей девичьей фамилией, которую после замужества закрепила как литературный псевдоним[54].
Несмотря на небольшое число публикаций, уже в 1920-е гг. имя Аверьяновой пользовалось некоторой известностью в кругу молодых ленинградских поэтов, чему, следует заметить, немало способствовала ее яркая запоминающаяся внешность. Юность, хрупкость телосложения («былиночка», как называли ее друзья[55]), болезненность (она страдала туберкулезом) эффектно сочетались в ней с неожиданной для ее лет эрудицией и многообразными дарованиями. Поклонники забрасывали ее письмами. Один из них, И.К. Акимов-Перец писал из Риги: «Не знаю, дошла ли до Петербурга американская фильма “Notre Dame de Paris”: если да, и Вы видели ее, не нашли ли Вы сходство между собой и играющей роль Эсмеральды артисткой Patsy Ruth Miller? Я только что смотрел во 2-ой раз эту фильму. Ни сюжет, ни игра артистов не привели бы меня вторично, только сходство Эсмеральды с Вами, кажется, приведет меня и завтра» (письмо от 26/27 мая 1927 г.)[56].
Можно было бы составить выразительную подборку из романтических посланий и стихов, посвященных «Лидии Аверьяновой». Ее присутствие вдохновляло. Николай Белявский, не раз даривший ей стихи, писал: «…в Союзе Писателей, Лидок, как-то без тебя стало скучно, мне так нравилось смотреть на тебя, когда ты задумаешься, и, пожалуй, еще больше, когда ты смеешься» (из письма от 12 июня 1926 г.)[57].
Вхождению Аверьяновой в круг молодых петербургских поэтов всячески содействовал Андрей Скорбный – Владимир Викторович Смиренский (1902-1977). Они познакомились в начале 1925 г., к тому времени поэт успел выпустить несколько сборников стихов (главным образом, за свой счет)[58]. Будучи немногим старше Аверьяновой, Смиренский был широко осведомлен в литературной жизни Петрограда. Его первый сборник «Кровавые поцелуи» (1917) отметил А. Блок[59]; почти семейные отношения связали его с А. А. Измайловым[60]. Он находился в курсе всех творческих начинаний петроградского «молодняка»; с 1920 по 1928 гг. был членом или непосредственным организатором нескольких литературных групп и кружков, в частности «Кольца поэтов имени К. М. Фофанова» (1920-1922; запрещен приказом Петроградского Чека, вероятно, как не прошедший регистрацию)[61]; к моменту знакомства с Аверьяновой возглавлял Ленинградскую Ассоциацию неоклассиков (1924-1929) и секретарствовал у Ф. Сологуба (1926-1927)[62].
Смиренский увлекся поэтессой, в обращенных к ней стихах (больше всего их в сборнике «Осень», 1927) и письмах (1925-1929) звучат и пылкая влюбленность, и горечь неразделенного чувства, а главное – озабоченность ее поэтической судьбой. К первой поре их знакомства относятся два дружеских шаржа – шутливые зарисовки студенческого семейного быта Дидерихсов.
ЛИДКА В КЛЕТКЕ
В комнате большая клетка.
В клетке – шоколада плитка.
Перед плиткой – табуретка,
А на табуретке – Лидка.
Лидка, Лидка! Ты из клетки
Вылезти ужасно хочешь.
И кусочек табуретки –
Горькими слезами мочишь.
И стучат глухие крики
В прутья стен твоих суровых…
А вокруг играют Бики*
На органах сторублевых… [63]
ЛИДИЯ АВЕРЬЯНОВА И ТИГР
Весь день она, тоскуя, грезит,
А по ночам, в больном бреду,
Целуется с любимым Дэзи –
В Зоологическом Саду.
И хищный зверь, изнемогая –
От страстной девичьей любви, –
Глазами желтыми сверкая, –
Рычит в испуге: не зови!
…………………………………..
А утром, позабыв о муже,
Она встает, и – как поэт –
Рассеянно готовит ужин,
Который никому не нужен –
И на тарелках для котлет
Рисует Дэзин силуэт…
1925. Петербург[64]
«А Вас, действительно надо посадить в клетку (чтобы Вы не бегали давать какие-то дикие уроки), – писал ей Смиренский 31 января 1926 г., – поставить туда орган (сторублевый), собачку (водолаза) и клетку запереть. Можно еще положить несколько книг – и тетрадь без стихов. А на клетке – повесить вывеску: “Лидка. Млекопитающее. Не дразнить”. Так скоро будет сделано… и художники будут ужасно рады (и я тоже). Биография Ваша подвигается. Скоро я закончу первую часть – и буду читать в Союзе (!!)»[65].
Сочиненную «автобиографию» Аверьянова сочла недостаточно остроумной, между тем это едва ли не единственный «документ» того времени, в котором, пусть в форме шаржа, представлен портрет поэтессы, дана живая характеристика ее облика:
«Я родилась 4 января 1905 года – и с тех самых пор, вот уже двадцать лет, – живу – и даже пишу стихи. Воспоминаний о детстве у меня никаких не осталось. Помню только, что еще совсем маленькой я слышала, как взрослые говорят о каком-то Курском Антоне. Я очень жалела почему-то этого Антона, и он представлялся мне худым и длинным, в заплатанной серой поддевке и больших валенках… А потом оказалось, что Курский Антон – просто-напросто яблоко. Так жестоко разбивает судьба первые детские грезы. Так я и стала писать стихи. Сначала, как и Пушкин, плохие, а потом – хорошие. У меня сохранилась, кроме воспоминаний, – старая кукла – и я хорошо играю на органе. Читать я ужасно люблю (даже больше, чем мужа), и книги для меня – дороже конфет и пирожных. Читаю я на шести языках: на немецком, французском, английском, итальянском, испанском и русском. Хочу говорить на Смиренском, но пока еще не умею. Влюблена до безумия в тигра Дэзи – и всё жалованье мужа уходит в Зоологический сад. Отсюда – постоянные сцены ревности, ссоры и – недалекий развод. Что я буду тогда делать – не знаю, потому что Дэзи ни на одном из шести языков не говорит и жениться на мне вовсе не собирается. Большое влияние на меня оказали Е. Боратынский, Пушкин, Есенин и дядя Джон. Об Августе Рашковской я уж не говорю. Написано у меня две книги стихов: “Vox Humana” и “Вторая Москва”. Хочу писать третью. Состою членом Всероссийского Союза писателей и поэтов, чего от себя не ожидала. Стихи мои печатались в газете “Смена”, “Лен<инградская> правда”, журнале “Ленинград”, “Красной газете” утр. и веч., газ<ете> “Красная звезда” и др.
Думаю, что будут печатать и впредь. Ужасно польщена и обрадована тем обстоятельством, что недавно Федор Сологуб – видимо обознавшись — пожал мне руку, а Константин Федин – автор романа “Города и годы” наступил мне на левую ногу.
Автобиографий я писать не умею, волосы остригла, но не курю, а Федька подарил мне графин и купил две тарелки и одну солонку. Лидия Аверьянова»[66].
За игривыми интонациями «биографу» не раз приходилось скрывать ревнивые чувства к поэтам, которым Аверьянова благоволила: «…советую Вам прекратить Ваше беззастенчивое ухаживание за безумником Хармсом, иначе я всё открою Вашему обманутому мужу — который ничего не подозревает о Ваших интригах и кознях. Мемуары достопочтенного Казановы – видимо, Вам впрок не пошли» (15 января 1926); «Конечно, балаганные гаеры, вроде Хармса, несравненно интереснее для Вас, чем я, – просто хороший поэт» (31 января 1926); «А этому Вашему молодому человеку, о котором Вы подругам по телефону с восхищением рассказываете, – я, наконец, ноги переломаю, или посоветую сделать эту операцию Дидерихсу. Он умный – и сделает, тем более что у него и кровь есть на это» (4 февраля 1926); «Очень благодарен тебе за обещание не вступать в брак, хотя, если дело обстоит так, как ты пишешь, – тебе такое обещание дать – и впрямь вовсе не трудно» (30 июля 1926)[67]. Вероятно, к этому же времени относится сохранившаяся среди писем к Аверьяновой недатированная записка: «Были: Белявский и Смиренский. Прокляли. Мало того, что прокляли, обеспечили самыми последними словами, потому что ни при чем остались. Те же»[68].
Шутливый тон, взятый Смиренским в отношениях с подопечной, сочетался с серьезным вниманием к ее дару и верой в то, что поэзия — ее подлинное призвание, о чем он не раз писал ей: «Удручен я тем, что ты снова что-то стираешь и моешь где-то полы. Лидка, ты же ведь поэт, или ты стихи пишешь нарочно, а вообще моешь полы? (Это я шучу, не вздумай сердиться Я тебя как поэта [не люблю слова поэтесса] очень люблю)» (30 июля 1926); «Штопкой белья заниматься тебе совсем не след. Для этого не стоило рождаться поэтом (а ты хотя и толстяк – все же настоящий, подлинный) – и не стоило оканчивать консерватории» (5 сентября 1926); «Привези стихи мне. Надо мне писать статью о тебе. Или ты мне не доверяешь? Думаешь, плохо напишу? Не надо, родная моя, так думать. Я тебя очень люблю и напишу о тебе хорошо. Я ведь тебя как поэта ценю очень, душу в тебе ощущаю, настоящую, большую, тревожную, и – близкую мне» (7 декабря 1927)[69].
Смиренский ввел Аверьянову в Ленинградскую Ассоциацию неоклассиков[70] и настойчиво зазывал «под сень» Сологуба: «Что же касается Сологуба – так я его очень люблю и считаю большим прекрасным поэтом. Несомненно, что повертеться около него “мелким бесом” – дело стоящее. А за стихи Ваши Вам от него влетит, потому что пропускать в стихах сказуемое можно только одному Хармсу, да и то потому, что в его стихах вообще всё пропущено: и смысл и тема. А стихи Аверьяновой – совсем иные» (4 февраля 1926); «А вот интересно, явитесь ли Вы к Сологубу или нет? Если нет, – тогда и не попадайтесь мне на глаза, – зарежу – без ножа» (11 декабря 1926)[71].
В феврале 1924 г. в Александровском театре торжественно отметили 40-летний юбилей литературной деятельности Федора Сологуба [72], в марте он был избран председателем Правления Союза писателей (Ленинградского отделения), вместо ушедшего в отставку А. Волынского. Через год, 10 марта 1925 г. М. Шкапская писала М. Волошину о произошедшей перемене:
«В Союзе у нас председательствует Сологуб: за этот год очень привязалась к старику, он совершенно замечательный. Его постигло очень большое горе – две недели тому назад утопилась в Москва-реке сестра Анастасии Николаевны – Александра Николаевна Чеботаревская, ее спасли, но она умерла через 3 часа от слабости сердца. Старик остался одиноким, но с еще большим жаром ведет в Союзе собственную работу, входит в ряд комиссий, не пропускает ни одного заседания, на всех председательствует и как-то особенно по-хорошему дружит с молодежью»[73].
Наряду с А.А. Ахматовой, М. А. Кузминым и М.В. Ватсон «патриарх» русского символизма был избран почетным членом «Ассоциации», участники которой выдвинули лозунг: «Вперед к Пушкину»[74]. Первоначально собрания «неоклассиков» проходили в Союзе писателей на Фонтанке 50 и назывались «Вечера на Фонтанке»; с конца 1925 г. кружок стал собираться у Сологуба (поэт жил на набережной Ждановки в доме № 3, кв. 22), и чтения получили название «Вечера на Ждановке».
В работе кружка участвовали, помимо Смиренского, М.В. Борисоглебский, Е.Я. Данько, Н.Ф. Белявский, А.Р. Палей, А.Н. Рашковская, B.C. Алексеев Н.Я. Рославлева, А.В. Пумпянская[75]; в числе гостей на «вторниках» бывали и «старшие» (из окружения Сологуба): Иванов-Разумник, А.В. Ганзен, П.Н. Медведев, Л.B. Пумпянский, В.П. Абрамова-Калицкая, О. И. Капица, В.А. Щеголева, В. А. Сутугина, Ю. Н. Верховский, В. Я. Шишков и др.
Впервые на Ждановку Артемьева пришла, вероятно, в сезон 1925/1926 г. и затем вплоть до весны 1927-го старалась не пропускать собрания кружка. 12 мая 1926 г. она писала Сологубу:
«Многоуважаемый Федор Кузьмич! Владимир Викторович Смиренский написал мне, что Вы больны и что Вторник не состоится. Я очень много думала о радости снова бывать у Вас на Вторниках, но, раз я не могу сказать Вам лично, позвольте написать Вам, Федор Кузьмич, как я благодарна за этот кружок людей, который Вы собрали вокруг себя, за возможность бывать на этих Вторниках, и главным образом, за то, что через Вас и Ваши Вторники я узнала Елену Яковлевну[76], – это был самый большой подарок от жизни за все эти годы. Вас, наверное, немного удивил финал этой длинной, ужасно нелепо составленной фразы, – но Вы, зная Елену Яковлевну, поймете, что иного отношения к ней со стороны знающих ее людей нет и не может быть. Иметь такого друга, как она, – это совершенно огромное счастье: в ней столько тишины – а это такое – ну, прямо, животворящее качество!
Но настоящей, коварной целью этого письма все-таки является не радость, что мы с Еленой Яковлевной, кажется, будем друзьями; цель эта – попросить у Вас хоть две строчки, написанные Вашим почерком, – если, конечно, Ваше здоровье не помешает исполнению моей просьбы; но если бы Вы знали, Федор Кузьмич, как мне ужасно хорошо бывать в Вашем доме и слушать запоем каждое произносимое здесь слово – Вы бы не удивились, что мне так хочется иметь 2 строчки, написанные Вашим почерком, заключающие одну Вашу мысль: я так хочу иметь у себя дома что-нибудь, самый маленький клочок бумаги, постоянно напоминающий мне, что Ваши Вторники существуют и для меня.
Мне опять предстоит клиника, – Туберкулезный институт или санатория дня легочных, и мне так не хочется терять связь с Вашим домом, а бумажка поможет не терять ее.
Простите, что заставила Вас читать такое письмище, больше никогда не буду. Поправляйтесь как можно скорее, пожалуйста, Федор Кузьмич, а то, когда Вы больны, такое чувство, что в мире моем не все идет благополучно – и не только в “моем” мире. Еще раз всего лучшего и здоровья, здоровья, здоровья – я так хотела бы передать Вам всё то здоровье, которое я день за днем теряю – это дало бы Вам очень значительный запас его!
Искренно преданная Лидия Аверьянова.
P. S. Мой адрес: В<асильевский> О<стров>, 17 линия, кв. 2 – это будет огромным подарком, дорогой Федор Кузьмич, если Вы согласитесь его запомнить»[77].
В ответ последовало дружески-любезное приветствие и приглашение, 17 мая 1926 г. Сологуб писал:
«Дорогая Лидия Ивановна, очень благодарю Вас за Ваше милое письмо, и очень рад, что Вы находите удовольствие бывать на собраниях "неоклассиков”. <…> Вчера я видел Елену Яковлевну, она приехала на два дня из санатории, и вечером была у меня. Е<лена> Я<ковлевна> сказала мне, что Вы послали ей Ваши стихи и что они ей нравятся. – Когда же Вы отправляетесь в клинику? Позвольте пожелать, чтобы она помогла Вам восстановить Ваше здоровье. Если Вы еще дома, постарайтесь обрадовать меня Вашим посещением и Вашими стихами. С приветом, Федор Сологуб»[78].
С весны 1926 г. Сологуб тяжело болел, весь следующий сезон кружок у него на квартире собирался нерегулярно, а летом 1927 г. Аверьянова внезапно исчезла. В сентябре Дидерихс составил объявление для помещения в «Красной газете», в котором сообщалось: «Обстоятельства, могущие служить облегчением к ее розыску следующие: Аверьянова-Дидерихс, выехав и июля из Ленинграда, прибыла на автомобиле из Севастополя
15-го июля в Ялту, собираясь того же числа на пароходе выехать в Феодосию. Письмом от 1-2 августа Аверьянова-Дидерихс известила родных, что, перенеся тяжелую нервную болезнь, она на следующий день выезжает из Севастополя в Ленинград. С тех пор Аверьянова-Дидерихс никаких сведений о себе не давала, равно как и неизвестно и место пребывания ее в течение болезни. Приметы Аверьяновой-Дидерихс: 22 года, высокого роста, шатенка, худая, карие глаза, вытянутое лицо, узкая челюсть, на теле шрам от аппендицита»[79].
Тогда же Дидерихс запросил о местонахождении своей жены М. Волошина, предположив, что она могла отправиться в Коктебель[80], но получил от него отрицательный ответ. В письме к нему от 15 сентября 1927 г. Волошин советовал: «Думаю, что Вам надо было проехаться в Крым самому и прежде всего обратиться в Симферополь в Клинический городок, где помещается единственная в Крыму больница для нервно-больных»[81].
Исчезновение Аверьяновой встревожило ее друзей и знакомых (4 ноября 1927 г. обеспокоенный Белявский писал Аверьяновой. «Милый, пропавший без вести Лидок! Ведь по меньшей мере 3 месяца мы не знали, где ты, что с тобой. Когда же ты, наконец, вернешься к нам из этого несчастного путешествия»)[82].
29 сентября 1927 г. Дидерихс получил письмо «поддержки»:
Из откликов коллег
В простой керамике созвучий
Заклокотали болью жгучей
Ее певучие стихи.
Бывали дни –
они
над нами
Звенели
Спасскими часами,
Летели
к бороздам сохи!
Остались нам ее приметы…
И мы поем ее сонеты,
И перед нами скорбный лик. –
Нет Аверьяновой – певицы,
Но в жизнь вошедшие страницы
О ней поведают из книг!
Ленинград, 1927 – IХ-29. К. Баян (Ленинградский Союз Драматических и Музыкальных писателей) Уважаемый товарищ! Посылаю Вам этот широкий, сочувственный отклик по поводу утраты (надеемся временной) незаменимого товарища настоящей живой музы в бледнолицем кругу ленинградцев. Если бы понадобилось искать ее, хотя бы в расщелинах крымского кряжа, встревоженного землетрясением, то здесь нашлись бы Вам спутники по такому (и любому) направлению. К. Б.[83]
Вся эта странная история исчезновения или бегства, как оказалось, была следствием обострения психического недуга, которому Аверьянова, по ее собственному признанию, была подвержена с детства[84].
Через некоторое время она вернулась в Петербург, но «Вечера на Ждановке» прекратились: 5 декабря 1927 г. после тяжелой болезни Сологуб скончался. В ночь с 7 на 8 декабря, сразу после похорон, Смиренский писал ей:
«Лидочка, родная моя, я очень жалею, что не видел, когда ты ушла с кладбища. <…> Ты много вчера жаловалась на поведение публики, а я мог бы пожаловаться тебе сегодня. Да только тяжело и грустно вспоминать и думать об этом. Могу сказать тебе только – совсем откровенно, что из всей массы людей пришедших сегодня ко гробу великого поэта – только ты и я искренне и глубоко чувствовали и чувствуем, кого мы потеряли. Не только человека, не только огромный талант, не только Учителя, но очень большую всепонимающую и всепрощающую душу»[85].
Через неделю он послал Аверьяновой стихи (под текстом автографа: «Лидочке Аверьяновой на память о человеке, которого мы оба любили»):
Вот и скончался великий поэт, –
Больше такого не будет и нет.
Поцеловали умершего в лоб.
Крышкой закрыли качнувшийся гроб.
Плача из церкви его унесли,
Певчие плакали, пели и шли.
Вечную память пропели ему —
Медленно гроб опустили во тьму.
Грустно звенели трамваи вдали,
Падали комья замерзшей земли…
Критик Медведев – надменен и туп,
Громко сказал, что сгорел Сологуб.
Но разве может Медведев постичь –
Как мы жалеем Вас, Федор Кузьмич!..
1927-16-XII [86]
Аверьянова с большим пиететом относилась к Сологубу[87], но, в отличие от Смиренского («И я Сологуба всегда и любил больше – и ценил выше, чем Блока»)[88], едва ли считала себя его непосредственной ученицей, поскольку ее лирика развивалась на иных путях.
В 1927 г. она была представлена А. Ахматовой («Очень хорошо, что ты побывала у Ахматовой. Это большой и хороший человек…», – одобрял Смиренский[89]). Знакомство, вероятно, состоялось через Е. Данько, которой стихи Аверьяновой казались достойными, о чем она ей писала еще в начале их сближения: «Я очень Вас благодарю и радуюсь строгой прелестью Ваших стихов» (29 апреля 1926)[90]. 12 июля 1927 г. Данько сообщала: «Вчера была у меня Анна Андреевна, был непривычно чудесный, ясный день и мы долго бродили с ней по полям до железной дороги и по старому кладбищу. Много говорили, вспоминали и Вас»; 26 мая 1928 г.: «Анна Андреевна просила Вам передать, что будет рада Вас видеть, если Вы зайдете». 16 июля 1928 г. ей была надписана «Белая стая»: «Милой Лидии Ивановне Аверьяновой в знак приязни Ахматова»[91].
В то время у Аверьяновой были готовы к печати две книги стихов. Первая «Vox Humana» (1924; в переводе с латинского: человеческий голос) дошла до нас не в полном объеме, из ее состава сохранилось всего одиннадцать стихотворений, а было их, по данным анкеты Союза писателей, значительно больше – два авторских листа[92]. Попутно отметим, что в книгу «Вторая Москва» (1928) вошло двадцать восемь стихотворений, в той же анкете указан объем сборника – полтора авторских листа. Эти сборники поразительно не похожи один на другой, будто бы были составлены двумя разными поэтами, принадлежавшими к неблизким литературным кругам.
Судя по сохранившимся стихотворениям первой книги, ее стержнем была избрана тема – жребий Поэта («Поэта хрупкая судьба»), центральная для русской поэтической традиции; название, вероятно, предполагало подтекст, заостряющий внимание на авторском замысле: голос поэта . В «Vox Humana» собраны лирические стихотворения 1921-1924 гг., укорененные своей топикой в поэзии Блока (тема пути) и Ахматовой (любовная лирика), отмеченные лапидарностью стиля, афористичными запоминающимися концовками, например: «И путь мне ясен, время мой вожатый, / Per aspera ad astra – мой девиз» («Угоден богу каждый спелый колос…», 1921) или «Словно лестница на колокольню, / Путь мой темен, шаток – и высок» («Щит от мира, колыбель поэта…», 1923). Знакомые и узнаваемые образы («ветер снежный», «тяжелая скифская кровь» и т.п.) перемежаются с молитвами о любви, раздумьями о смысле творчества и пути поэта. В лирической героине Лидии Аверьяновой, со сложенными в молитвенном жесте руками (ожидающей жениха и взыскующей творческого вдохновенья), просвечивают черты «материнского» образа – героини «Вечера», «Четок», «Белой стаи».
Стихи из «Vox Humana» Аверьянова читала у Сологуба, они были известны Ахматовой, оба поэта, очевидно, отнеслись к ее начинаниям и дару со всей серьезностью, тем не менее, в ту пору их одобрение не могло повлиять на продвижение или издание книг. Весной 1924 г., вероятно, следуя совету Сологуба, Аверьянова обратилась с просьбой посодействовать публикации стихов к Д.А. Лутохину, бывшему редактору «Вестника литературы» (1919-1922) и «Утренников» (1922). В феврале 1923 г. Лутохин, принадлежавший по своим взглядам к поколению социал-демократической интеллигенции, был выслан из России за «буржуазно-реставраторскую деятельность (в числе других деятелей культуры, подвергшихся массовой депортации в 1921-1923 гг.)[93] и обосновался в Праге.
Завязавшаяся переписка, несмотря на ее прерывистость и краткость[94], сыграла немаловажную роль в ближайшем творческом самоопределении Аверьяновой. Лутохин был первым, подал критическую оценку ее ранней лирике, его отзыв оказал влияние на выбор поэтессой дальнейшего пути; по ее собственному признанию, взгляд Лутохина на будущее России во многом предопределил замысел книги стихов «Вторая Москва».
В ответ на первое обращение и присланную подборку из «Vox Humana» (письмо не сохранилось; какие именно стихотворения были отправлены на просмотр, неизвестно), 15 июня 1924 г. Лутохин писал ей:
«Вы, вероятно, читали «Дневник» Блока во 2-ой книге «Звезды». Читая страницы «Дневника», жалеешь, что болезнь помешала поэту сохранить и углубить понимание великого и целительного кризиса, переживаемого родиной. Особенно отсюда – издали, в невольном бездействии, разбираясь в сообщениях, постигаешь, что только оставаясь на путях своих новых, Россия станет великой, богатой, культурной страной. Уже сейчас – она маяк правды для всех народов. Пусть потому отчасти, что людям нужны мифы. Но эти мифы и приведут к претворению утопии в действительность. И нужно бороться за то, чтобы на новых путях было меньше ошибок, меньше заблуждений. Но не нужно стремиться повернуть вспять колесо истории. Пусть не претендуют те, кого колесо столь мощное отшвырнет и размозжит при столь легкомысленных попытках. Пусть не забывают другое, что тем труднее путь, чем выше цели. Отказываться ли поэтому от восхождения?
Ваши стихи красивы и сильны, хотя у них два недостатка: они слишком “Ахматовские” по форме и слишком заряжены модным пафосом современных питерских обывателей. Простите столь резкую характеристику. Но поэт имеет право на внимание к себе, когда его душа поет по-своему . Мне доставит, однако, большую радость, если я смогу Ваши стихи где-нибудь устроить. Не сомневаюсь, что если Вы не бросите поэзии, но и не будете вдали от жизни, из Вас выйдет звезда»[95].
На это письмо Аверьянова откликнулась лишь спустя два года, приложив к нему два стихотворения из новой книги «Вторая Москва». Стихи были несколько неожиданны для автора из крута, близкого Сологубу и Ахматовой. 30 декабря 1926 г. Аверьянова писала в Прагу: Дорогой Далмат <так!> Александрович. Ваше письмо о России тогда <1924. – М. П. > меня слишком поразило: оно ударило по многим смутным мыслям, назревавшим во мне на эту близкую всем нам тему, многое объяснило и – впоследствии – послужило поворотным пунктом в моем взгляде на современность. Еще тогда я себе слово выждать, вглядеться в окружающую действительность и ответить Вам только тогда, когда мне будет все вполне ясно. Но годы прошли для Вас – там, для меня – здесь – и я ответа, исчерпывающего как… прописная истина, – найти еще не сумела.
В первый раз в жизни была я весной 1924 года в Москве. И, знаете, не получи я тогда Вашего письма, на многое я смотрела бы иначе. Но Москва была гигантским шагом в моем развитии. Вернувшись, я начала книгу стихов “Вторая Москва”, не имеющую ничего общего со стихами, которые я Вам посылала раньше – но, закончив ее теперь, совсем на днях, мне пришлось убедиться, что многое в ней еще “не выпрямлено”, и, несмотря на большую во мне перемену, болею прежнею болезнью.
Мне хотелось бы знать, изменились ли за эти годы Ваши взгляды на нашу родину, и если да, то в чем Вы видите исход»[96].
27 февраля 1927 г. Лутохин писал в ответ:
«Милый друг! Ваше письмо меня тронуло, стихи мне потрафили, да не только мне, но и другим их читателям. Читали же их молодые поэты пражские: Сергей Рафальский, Борис Семенов, и немолодой уже, всего на 5 лет меня моложе, 37-летний автор «Мощей» <И.Ф. Каллиников. – М П.>. <…> Ваши стихотворения читал и критик Слоним, даже стащил он их у меня, чтобы без В<ашего> согласия, но и без В<ашего> имени – тиснуть. Сам я стихотворной речью не владею и вкусы мои в поэзии примитивны. <…> Ваших произведений я не отнес бы всё же к любимым. В них – надрыв, крик… Давайте разговаривать тихо, спокойно, не вещая. Вы еще прилете к “замедлению пульса”, когда Вам будет больше лет и когда у Вас будет внимающая Вам аудитория. <…>
…отложу ответ на В<аш> главный вопрос до другого раза. Скажу только, что за 2 года я «полевел» еще больше – и осуждаю упаднические настроения, у Вас там наблюдаемые. Поменьше зигзагов. История не любит лавирования, поворотов руля. В октябре 17 года она взяла в России неплохой курс, но он даст урожай, не тот образ: приведет к обетованной земле не так скоро. Это не каботажное плавание. Многое в команде, подаваемой с рубки, кажется мне не тем, что нужно. Но у меня нет карты пути, о многих подводных камнях я даже не догадываюсь… В общем же ход корабля, стук машин внушает мне веру, что аварий не будет»[97].
В книгу «Вторая Москва» Аверьянова включила стихотворения 1924-1927 гг. (одно – «Феликс», посвященное председателю ВЧК, датировано 1928 г.); заголовки говорят за себя: «Джон Рид», «Рабфаковцам», «Ларисса Рейснер», «Парижская коммуна», «Первое мая», «Стихи о Кронштадте», «Страна Советов» и т.д. Некоторые из этих текстов печатались на страницах «Красной газеты», «Красной молодежи», «Красного студента» и т.п. (до переключения на новую тематику у Аверьяновой было напечатано лишь «Щит от мира, колыбель поэта…» из «Vox Humana»).
Большинство стихотворений сборника написано «по случаю», как того требовал «этикет», установившийся в советской периодике. 21 апреля 1925 г. в ответ на предложение поэтессы поместить что-нибудь в журнале «Ленинград» В. Шкловский сообщал ей: «Журнал лишен возможности напечатать стихи “без случая”. По технике стихи, кажется, не плохи, но не пойдут»[98].
Книга открывается стихотворением «Седьмое ноября», приуроченным к седьмой годовщине советской власти, с одическими интонациями в честь вождя, оно служит заставкой ко всему сборнику:
Когда б он встать, когда б он видеть мог,
Едва раздвинув стены мавзолея,
Как с каждым годом неизбежней срок
Земным плодам, что он с любовью сеял.
«Вторая Москва» написана с характерным для молодой послеоктябрьской поэзии романтическим подъемом («Нам бьют в глаза московские огни, / Нам красный флаг захлестывает тело»; «Широк свободы красный звон» и т.п.), с влюбленностью в новую Россию («Лучший колос в мировом снопу»). Своеобразным композиционным и семантическим пуантом книги, видимо, следует считать стихотворение «Вторая Москва», давшее название сборнику, за ним следуют: «Кабацкая Москва» (отклик на гибель С. Есенина) и «Старая Москва». Все три образуют так называемый «московский» триптих и вместе с примыкающим к нему «Что шуметь, о гибели жалея…» прочитываются как поэтическая инвектива «России уходящей» С. Есенина.
Комсомольская (иначе не назовешь) «Вторая Москва» вполне соответствовала общему уровню поэтической продукции того времени, публиковавшейся на страницах газет и журналов, но разительно отличалась от всего, что было написано Аверьяновой до этой книги и после нее. В определенном смысле ее «Вторая Москва» маргинальна, выглядит «подкидышем» и производит двойственное впечатление; ее можно воспринимать как следствие вынужденного конформизма – способ выживания (если принять версию о великокняжеском происхождении поэтессы) и как проявление наивной веры в «светлое коммунистическое будущее» с оттенком «ювенильной» экзальтации и свойственным эпохе революционным мессианизмом: «Вот какою стала ты, Россия: / Самой крепкой, стройной и простой. // Оглянись на путь большой и странный, / Ни одной не выпавший стране» («Три узла»)[99].
Эта же двойственность чувствуется в названии: Вторая Москва, то есть: новая, красная, советская («Красный угол дрогнувшей земли»), и она же – разрушенный ордами варваров Третий Рим.
Мы не знаем, как были восприняты новые стихи Аверьяновой в ее ближайшем окружении, скорее всего, сдержанно. Смиренский ответил на «Вторую Москву», которую, очевидно, знал в рукописи, стихотворением, напечатанным в альманахе «Окраинный круг. 5» (Л., <1926>):
ВТОРАЯ МОСКВА
Лидии Аверьяновой
Нет никакой второй Москвы.
Москва – одна. Но – неизменно –
В гранитных берегах Невы
В ночь – возникает город пленный.
И подымается Нева –
Непримиримая, как пламя,
И вознесенная Москва
Звенит над ней колоколами.
Москве печальный жребий дан.
На темный крест она воздета.
И в злобе Грозный Иоанн
Ждет петербургского рассвета.
И на опричников крича, –
Спешит уйти от каждой тени,
Высоким посохом стуча
В обледенелые ступени…
1925 [100]
Поэт предупреждал Аверьянову: «В Москве – Новая Москва – едва ли возьмет «Вторую Москву» (побоится каламбуров и конкуренции). Однако ж попробовать стоит» (письмо от 30 июля 1926 г.) [101]. Следуя его совету, она послала стихи Д.A. Лyтохину, а также М. Горькому (вероятно, и прежние – из «Vox Humana», и новые – из второй книги). Тогда же она получила ответ из Сорренто:
Я считаю себя плохим ценителем стихов и мне не хотелось бы, чтобы Вы отнеслись к моему суждению о стихах Ваших как к чему-то «категорическому».
Стихи В<аши> не показались мне оригинальными – как стихи, как слово и музыка. Не чувствую в них четкости, точности, пластики. Наиболее понятным мне и наиболее выразительным я нашел стихотворение: «Видно сердцем уродилась суше…»
И вот это стихотворение рисует мне Вас человеком, который даровитее, талантливее своих стихов. О том же говорит мне и последнее четверостишие стихов: «Высокий звон и голос птичий».
В общем, впечатление такое: стихи созданы как бы по разумной необходимости, а потому они Вам не дают радости.
Кажется, что Вы человек, еще не нашедший истинное свое. Вероятно, Вам нужно много работать, но не торопясь, чтобы не обогнать себя самое.
Вот всё, что могу сказать. Дать же В<аш> адрес «тем русским, которые могут найти общий язык» я не в состоянии, у меня нет связей с литераторами заграницей.
Желаю Вам всего доброго,
11. III. 27
Sorrento [102]
В письме от 21 марта 1927 г. Смиренский комментировал: «С мнением Горького я согласен. Он ничего (как Лев Толстой) не понимает в стихах, но он их чувствует. <…> Твои лирические стихи – прекрасны, и они лучшее, что у тебя есть. То, что ты печатаешь – может быть, нужно России, но меня не трогает и не волнует. Наоборот – мне за тебя больно. А лирику твою я очень люблю, и хотя ты и Толстяк, а я считаю тебя настоящим поэтом. То, что хотел сказать горький и что осталось для тебя неясным, я понял. Он по стихам угадал в тебе человека – и это неплохо, что ты лучше своих стихов. <…> Писать Горькому больше не надо, так делать просто не принято»[103].
С просьбой издать книгу Аверьянова обращалась в Государственное издательство, но получила отказ. 26 января 1929 г. П.Н. Медведев, заведовавший литературным отделом, сообщал ей: «Не имея возражений по существу против Вашей книги “Вторая Москва”, мы всё же вынуждены отказаться от издания ее, потому что имеющаяся в нашем распоряжении норма на стихи полностью исчерпана на всё полугодие»[104].
Заключительную ноту в историю несостоявшегося издания вносит эпизод, сообщенный Е. Данько. 28 апреля 1929 г. она писала подруге: «На вербном базаре слышала, как одна девица спрашивала в книжном лотке “стихи Аверьяновой”. – “Нет, у нас только старая книга, – отвечал торговец, – а это вы новую спрашиваете”»[105].
Неудача с изданием «Второй Москвы» и наступившие в скором времени перемены в личной жизни вернули Аверьянову к истокам творческого пути. В 1928 г. она знакомится с молодым поэтом и переводчиком из окружения Михаила Кузмина – Андреем Ивановичем Корсуном (1907-1963)[106]. В своем дневнике 11 сентября 1934 г. Кузмин записал: «Идолоподобие. Корсун замечательно красивый человек. Действительно, как говорит Петров, “один из самых красивых людей Ленинграда”, и милый, и хороший, и вместе с тем как-то не знаешь, что с ним делать. Он совсем не для романа, который сопряжен с капризами, жестокостями, дурью, подлостями, жертвами, радостями, трагедиями и примирениями, причем один, а то и оба, должны быть непреодолимым дряньём и предателем, что-то от лорда Дугласа и от Manon Lescaut. Лев Льв. <Раков. – М.П.> думает, что я исключительно таких и люблю»[107].
Анастасия Львовна Ракова, дочь историка и искусствоведа, вспоминала, что в детстве (середина 1930-х) она часто видела Корсуна около их дома (они жили по соседству с ним на Дворцовой набережной). В окружении отца он был самым красивым (эффектным) мужчиной: высокий, сухопарый, грациозный, запоминающийся навсегда. (Для Аверьяновой, ценившей мужскую красоту, вероятно, имело значение, что слово корсунский в древнерусском языке было синонимом красивый.) Более поздний портрет Корсуна встречается в воспоминаниях М.С. Глинки (племянник В.М. Глинки): «Двухметровый, с иконописным лицом, худущий до впалых щек <…>. В дяде Андрее было что-то такое, что я, увидев его впервые, уже через час стоял около него, прислоняясь, а мне было тогда не три, не пять, а уже девять…»[108].
Роман Аверьяновой с Корсуном развивался стремительно и бурно. В письме от 23 сентября 1928 г. Данько предостерегала подругу (возможно, передавая ей и мнение Ахматовой):
Боюсь, не напугала ли я Вас своей суровостью в одном из наших последних разговоров? Поверьте, что эта суровость вытекает не из каких-либо соображений долга, закона и т.д., а из того, что мне очень бывает жалко, когда одаренная и богатая душой женщина – себя продешевит, измотается, исстрадается из-за человека, который на большие отношения не способен.
Тем более что Вы, на мой взгляд, обладаете более ценными и благородными отношениями, которые Вас берегут и охраняют. Не лучше ли, дорогая, поскучать лишний вечер, но зато не тратить себя попусту? Помните, что на Вас возлагаются большое надежды в смысле работы <курсив мой. – М.П.> и, несомненно, Вам предстоит широкая дорога впереди – с Вашей одаренностью. Случайным неудачам нельзя придавать значение. Les temps sont durs. Простите, меня за это маленькое поучение, – я невольно сделала это, искренно любя Вас[109].
В короткое время Аверьянова пишет обращенный к Корсуну лирический цикл-послание (21 стихотворение), составивший третью книгу стихов «Опрокинутый Шеврон» (1929); шеврон — нашивка на рукаве у военных, чаще моряков, в виде стрелки, направленной к кисти; здесь опрокинутый шеврон – эротический символ: стрелы Амура. Первое стихотворение цикла датировано 27 октября 1928 г., последнее – 4 февраля 1929-го, несколько посланий оформлены как акростихи (свидетельство виртуозной техники автора), большинство имеют посвящения: Андрею, Андрею Корсуну, А.К., А.И. К .
В «Опрокинутом Шевроне» всё еще сильно чувствуется «ахматовское» дыхание, «надрыв» («лирический роман») и влияние Блока, характерные для периода «Vox Humana». По признанию автора, «Это – ужасно девические стихи»[110]. Вместе с тем книга замыкает целую эпоху в ее творчестве, за которой открывается перспектива другой манеры: «замедленного пульса» и петербургской темы «Серебряной Раки».
Предположительно через год после событий, вызвавших к жизни творческий всплеск, Аверьянова оставила мужа и соединила свою судьбу с Корсуном. Их союз был прочным, хотя не раз подвергался испытаниям. Импульсивная «мятущаяся поэтесса»[111] была подвержена романтическим увлечениям (как и М. Цветаева; по-видимому, ее поэтический темперамент требовал постоянного возбуждения).
В письме Смиренскому от 20 июня 1935 г. (после ареста в 1931 г. он был сослан на строительство Беломорско-Балтийского канала)[112] Аверьянова рассказывала о себе:
«Мы с Андреем живем всё так же. Этой зимой я много писала стихов. Интересно было бы, чтобы Ты прислал мне свои новые стихи, которые считаешь лучшими. Почти весь свой архив я отдала в Пушкинский Дом и, если разрешишь, я и Твои новые стихи по прочтении отдам на хранение туда же. Книг у меня стало неистовое множество и много очень редких, гл<авным> обр<азом> иностранных, новых, Как> ч<то> уже библиотека при нашей тесноте начинает тяготить и пыль от них дышать не дает. Убирать же по-прежнему лень. От людей я отошла почти совершенно, вне дома бываю только на работе. Никуда ходить не хочется, только бы лежать и читать. Даже театр мало привлекает.
Андрей служит в Эрмитаже библиотекарем и гл<авным> обр<азом> кашляет и хворает всякой дрянью; последнее радостное сообщение о нем – это его флюс, а перед этим был не больше не меньше как… ящур. Не знаю, как он умудрился подхватить в городе столь “ветеринарную” болесть. Она ведь бывает только у коров, у него же с коровами общего только… рога»[113].
Совместная жизнь поэтов была сопряжена с длительными разлуками. Корсун часто и подолгу выезжал на Северный Кавказ к престарелым родителям[114]. Аверьянова в качестве переводчицы Интуриста и ВОКС'а (Всесоюзное Общество культурной связи с заграницей) сопровождала в поездках по городам и весям СССР зарубежных гостей.
Аристократизм, блестящее знание языков, молодость и обаяние позволяли ей работать, главным образом, с именитыми визитерами. В их числе были: лауреат Гонкуровской премии Жорж Дюамель (без имени он упомянул ее в «Путешествии в Москву», 1927) и Люк Дюртен (1927)[115], Фритьоф Нансен (1928), Умберто Нобиле (1931)[116], Бернард Шоу (1931)[117], Мартин-Андерсен Нексе (1931), Герберт Уэллс (1934)[118], делегация чешских музыкантов во главе с Леошем Янчеком (1935) и многие другие.
Работа в Интуристе и ВОКС’е требовала от гида большого напряжения физических и интеллектуальных сил («Я очень весел, но слаб <так!> страшно, между экскурсиями приходится лежать и спать немножко и вообще хорошо бы отдохнуть», – писала Аверьянова мужу 25 июля 1934 г. [119]). Организация была строго регламентированной, подотчетной спецслужбам: незапланированный показ «объекта», неосторожное слово, сказанное в присутствии иностранных гостей, или донос ревнивого коллеги грозили переводчику увольнением, со всеми вытекающими для того времени последствиями. В практике были обязательные отчеты гида о пребывании иностранных делегаций и туристов в Советском Союзе, стенограммы бесед с ними и т.п. материалы, предназначенные для органов безопасности, исходящие под грифом «Совершенно секретно» или «Не подлежит оглашению». Отчеты переводчиков, как правило, рецензировались руководством и затем направлялись в НКВД. Такие «реляции» регулярно приходилось писать и Аверьяновой[120]. Вот, например, одна из них (1935):
Отчет переводчицы Л.И. Аверьяновой по обслуживанию японца Камеяма <так!> и формуляр № 3641 на него с программой пребывания в Ленинграде – на имя Зам. председателя Вокса Николая Николаевича Кулябко.
КУМИЯМА – японский киноартист[121], в Ленинграде пробыл 3 и 4 апреля, после чего выбыл в Москву. Вследствие ведения экскурсии 3/IV (Детское Село) на японском языке, беседа шла по линии экскурсионного материала, причем Камияма выразил интерес как к до , так и к после революционной истории СССР. Он также интересовался семейным положением переводчика и методом самостоятельного овладения переводчиком японского языка. Кумияма поэт, владеющий всеми формами японской поэзии, кроме того, он является автором книги на японском языке, касающейся его работы в Голливуде в качестве кино актера. Уровень своей кино работы он отметил, сообщив, что в Голливуде исполнял роль китайского принца в фильме «Багдадский Вор», играл он постоянно с выдающимися кино актерами Америки, например, Фербенксом[122] и др., о чем свидетельствует фотоматериал его книги.
Интерес его к искусству СССР в Ленинграде проявился слабо, так как, имея возможность выбрать театральное зрелище, он единственный свой свободный вечер провел по собственному желанию в Китайском театре Мей ЛАНЬ Фана[123].
Переводчица ВОКСа Л. Аверьянова / подпись[124]
Персональные отчеты Аверьяновой за годы работы в ВОКС'е (1930-1936?) свидетельствуют о том, что она была весьма осторожна в своих оценках, старалась, сколько это было возможно в тисках номенклатуры, давать сдержанные характеристики зарубежным гостям, на коллег не доносила, в конфликтных ситуациях держала нейтралитет.
Вплоть до конца 1936 г. органы, по-видимому, ее не трогали; осложнения могли начаться в период «разгрома» зиновьевско-троцкистского блока. Имевшая более дружеские отношения, чем дозволялось протоколом ВОКС'а, с главой английской Благотворительной Миссии леди М. Пэйджет, Аверьянова, как можно предположить, оказалась под пристальным наблюдением НКВД.
Леди Мюриэль Эвелин Вернон Пэйджет (Lady Muriel Evelyn Vernon Paget; 1876-1938) была личностью выдающейся, ей принадлежит ведущая роль в развитии благотворительных организаций, занимающихся гуманитарной и медицинской помощью в Англии, Восточной и Центральной Европе. За свою подвижническую деятельность она была удостоена ордена Британской империи (1918) и Рыцарского ордена (1938), особых наград правительств Бельгии, Чехословакии, Японии, Эстонии, Латвии, Литвы и Императорской России[125]. В марте 1938 г. обвиненный в измене бывший посол СССР в Великобритании Христиан Георгиевич Раковский (1873-1941, расстрелян) заявил на суде, что он впервые начал шпионаж в пользу Великобритании в 1924 г. и затем возобновил шпионскую деятельность в 1934 г. по просьбе леди М. Пэйджет. Признанный причастным к троцкистской оппозиции, в 1927 г. он был исключен из партии и вплоть до 1934 г. находился в ссылке; в 1935 Раковского простили, восстановили в партии, он занял место председателя Советского общества Красного Креста (новая должность, вероятно, придавала его «признанию» большую убедительность). В 1938 г. Миссия в Ленинграде была закрыта, леди Пэйджет выслана из страны на родину по обвинению в шпионаже. По поводу поведения Раковского на суде высказывались мнения, что он намеренно компрометировал процесс показаниями, ложность которых для Европы очевидна (несмотря на это, У. Черчиллю пришлось выступить в Парламенте в защиту «обвиняемой»). Леди М. Пэйджет не перенесла удара, по возвращению в Англию заболела и в тот же год умерла.
Раковский был арестован повторно в январе 1936 г., в том же году Аверьянову отстранили от работы в Интуристе и ВОКСе. Формальным поводом для увольнения, по нашим предположениям, могло послужить скандальное дело американской корреспондентки Эрнестины Эванс, находившейся под покровительством английской Благотворительной Миссии. По просьбе леди М. Пэйджет Аверьянова, которую та предпочитала другим переводчикам ВОКС’а, была приглашена гидом к Эванс в период ее пребывания в Ленинграде[126].
Никакими документами этого времени, свидетельствующими о жизни поэтессы, мы не располагаем, за исключением ее переписки с мужем. В 1934-1939 гг. Аверьянова систематически писала Корсуну. Сохранившиеся письма – едва ли не единственный источник сведений о перипетиях и обстоятельствах ее быта, о внутреннем мире и стилистике отношений с близким человеком[127].
В переписке, пришедшейся на самый разгар сталинских репрессий, более всего поражает игровая стихия детства (в том числе подчеркнутый орфографический инфантилизм). Люди в этих письмах, по вполне понятным соображениям, почти не упоминаются (за редчайшим исключением), зато сообщаются бесчисленные подробности о жизни котов и кошек, собак, голубей и прочих птиц. Подлинные хозяева эпистолярного пространства Аверьяновой и Корсуна – бухарский кот, впадающий в спячку ежик Фомка, нуждающаяся в новой клетке белка Манефа, спаниель Чесма, собака Топка, рыжий кот Гришка и кот Пушок, кошки Долька и Апельсинка и т.д. Аверьянова сообщает Корсуну о том, что «Пума, Пышка и маленькая Гризи больны кошачьей чумой», о выведении у животных блох, или просит: «Привези мне с Кавказа летучую мышь за пазухой» и т. п. Она подписывает свои послания: Лис, Лиська, Лисица, «Твой старый приятель и греховодник Лис Аверьянов»; называет А. Корсуна: Сибакин, Котище; характерное начало письма: «Дорогой Андрей, привет от всех зверей», окончание: «Целую тебя в мордочку и лапки, поцелуй за меня своих», в адресе отправления письма: «Село Хвостоножкино, Псковской губ., Почтовое Отделение Кошкособачье»[128].
Письма Корсуна по своему духу вполне отвечали аверьяновским, например, 3 сентября 1936 г. он писал ей (здесь и далее цитирую с учетом орфографических особенностей оригинала):
«Милый Онегин, животом страдающий! Как он, живот то есть? Прошел? Не налегайте на колбасу. Ох, чует мое сердце (или соотв<етствующий> орган [129]), что Вы опять черт знает как питаетесь и вся Ваша полнота пойдет насмарку. Особенно если всякие Мольеры <покупка книги. – М.П.> перегружают бюджет. Не глупи, крыса, я с тобой возиться больше не хочу. И не буду тебе ни отцом, ни матерью. Имей это ф виду. Видьмедица шлет тебе привет и поклон, Вам и внучатам. Стареет, но бодрая еще.
Я познакомился с премилой чилипахой, ростом она с твою ладонь, а важности необычайной. Очень приглашал ее поступить к тебе в черепахи, но она отказалась. Говорит, что не хочет расставаться с хозяевами. Очень жаль. Она смисная. <…> А ты свиненок, что не досидел на грибах, сколько тебе полагалось. Привезу одну книжку, покажу тебе, с тебя довольно будет. М<ожет> б<ыть>, и подарю, а м<ожет> б<ыть>, и нет. Это как ты мне понравишься.
Про «суксуальность» это очень здорово. А где все это происходило? Обо мне Вам спрашивать не пристало. Это не в Вашем департаменте, душенька. Ну и цыц… Я неумоляем, как видите. А Вы смисная коска. Нет, только не худей! Останься этаким бель-фамом, пожалуйста. Очень просю! Примерно вот по этой схеме. < Далее в тексте следует рисунок, на котором изображена женская фигура с чрезмерно пышными формами. – М.П.> Такой ты была 1 1/2 месяца назад. Такой и останься. Это кисиво! Мои шлют тебе привет. Э муа з’оси [130].
Будь здорова, благополучна, спокойна. И накопи сил и спокойствия для того, чтобы встречаться со мной (ежели доведется) мирно и благодушно. Как полагается зверятам, чтобы у меня мозги не переворачивались от твоих нелепостей. Будь добр, сибакин мой милый, не помышляй токмо о радостях своих, подумай и о пользительностях. Береги себя всячески, а не как до сих пор было: лежанием в постели только. (Каламбурить не буду. И Вам не советую). Будь смисной киской. <…> Есть у тебя “Тристан и Изольда”?[131] Сыграй оную мне. Сыграешь?»[132]
Конкретных фактов, пригодных для биографического очерка, в переписке совсем немного, но, вероятно, тем они ценнее. Лейтмотивом в письмах Аверьяновой проходит тема нездоровья (она часто жалуется на боли в области печени, живота и головы — следствие арестов?) и безденежья: «По-моему, Тебе пора взять меня, Лису, на годик на свое иждивение, чтобы я хоть отдохнула и забыла, как волноваться из-за служебных дел. Что ты скажешь?» (7 августа 1938)[133];«…наш Институт окончательно ликвидирован[134], и остался я со своим носом (орлиной формы). Однако же работа кое-где есть — осталось 4 ученицы, одна очень способная» (22 августа 1938); «Если не найду себе на зиму службы — брошу вообще преподавать и займусь чем-нибудь совсем новым, не знаю еще чем» (23 августа 1938); «я ушла из школы по собств<енному> желанию, т. е. одна из приезжих учительниц обложила меня последними словами, и я из протеста ушла <…> (21 февраля 1939); «Как отсюда я уеду? / Чем отдам я долг соседу? / Кто поможет мне в Беде? / Где же тот волшебник? Где??? – Лиська» (18 марта 1939 г. из Лыкошино Тверской области); «Сегодня я ревела только потому, что мне кое-кто грубо напомнил о моих душевных болезнях и потерянной в связи с ними работоспособности и точности – нельзя же съесть свой кекс вчера и хотеть съесть его сегодня! Самоубийством я нарочно, назло всем, не кончу» (15 августа 1939); из больницы в Луге: «Поздравь меня, у меня лопнул бюстгальтер, я стал веселый толстый Лис, мечтаю где-нибудь служить (на задних лапах), только чтоб служба была интересная (напр<имер>, сторожихой в зоопарке). Читаю еще очень туго и медленно, как я буду где-нибудь письменным переводчиком и как я сдам в “ниверситет” – прямо ума не приложу, аж страшно» (25 февраля 1940); в последнем письме: «Дорогой Андрей, не думаешь ли Ты, что Тебе пора принести Лису новых и совершенно замечательных “фантиков”?» (30 мая 1941).
Перед войной Аверьянова заочно училась на филологическом факультете университета, учеба имела формальный характер: для устройства на работу по специальности необходимо было получить документ о высшем филологическом образовании. В письме от 3 сентября 1938 г. она сообщала Корсуну, что собирается сдавать экзамены: «За какой факультет сдавать – почти решила: конечно, не за романское отделение, т.к. кроме общефилологических предметов вряд ли “ниверситет” меня чему-нибудь научит, чего я не сумею сделать лучше сама… Так что пойду я специализироваться по одному из тех 7, которые начала недавно»; 21 июня 1940 г. ему же: «Я сдала вчера теорию литература на “отлично” <…>. На экзамене мне задали один вопрос по Марксу и о литературе, но я, к счастью, догадалась, что Маркс не мог предпочитать Шиллера Шекспиру: все-таки голова у меня на плечах есть, и даже идеологические моменты я схватываю как-то сразу. Очень не глупая Лиска! Правда?»
Всё это время, лишенная постоянного заработка, Аверьянова не оставляла профессиональных занятий, умножая число изученных языков. В 1939 г. она перевела несколько стихотворений Пушкина и три сказки («Сказку о мертвой царевне», «Сказку о золотом петушке», «Сказку о Царе Салтане») на испанский язык; начала работу над переводом «Витязя в тигровой шкуре». О своих занятиях она неизменно писала Корсуну: «Справься у Дуни, не приходили ли мне из Москвы книги? С ума можно сойти: я бы давно здесь выучилась по-грузински и уже успела бы забыть, а книг с прошлой осени всё нет, хотя деньги магазин взял… о, Расея! <…>» (27 февраля 1939г. из Тверской области); «Дай мне на праздник трешку на водку, а то скючаю: перевожу “Мертвую царевну”, а ты знаешь, до чего не люблю покойников» (28 апреля 1939); «Еду редактировать <в Москву. – М П.> своего “Пушкина” и одновременно учить редактора правилам классической и революционной испанской поэзии, в противовес его (или ее, т. к. это “она”) концепциям “буржуазно-французского Парнаса”» (24 июня 1939); «Любезный Котище, мотался я на самолету в Москву <…>. Там “Международная книга” сразу купила у меня за 5 тыс. 3 хореические сказки Пушкина, относительно перевода моего Руставели на днях будет совещание в Отделе Печати при Ц. К. партии, по предложению коей организации и был у меня куплен Пушкин, издание будет роскошное, все 3 вместе, с миниатюрами Палеха. План мой перевода Руставели был вручен редакции с пометками, и мнение редакторов склонилось к тому, что Иосиф Виссарионович читал его сам… как бы то ни было, Руставели всех интересует очень, возможно, что к концу июня заключат на него договор» (9 июня 1939); «По Руставели достала почти всё, что мне нужно для работы, только не хватает французского издания, которое обещали мне достать в Москве» (13 июня 1939); «Кржевский считает; что в моих интересах самой написать вводную статью к моему Пушкину, а он мне поможет тем, что ее просмотрит и даст почитать умные книжки» (24 июня 1939); «Редактором моим назначен испанский поэт Рафаэль Альберти[135], кот<орый> на днях приедет в Москву, т. е. мнение одного человека, т. е. его, является решающим. Тот редактор, кот<орый> был до сих пор (женщина), правила буквально вредительски, вычеркивая, напр<имер>, в “Петушке” знаменитое Кири-ку-ку, нагло заявив, что “у Пушкина тоже нет этого”, что может дать тебе представление о непорядочности этой девки» (28 июня 1939) и т. д.
Издание сказок Пушкина на испанском языке, вероятно, не осуществилось. Перед самой войной Аверьянова передала свои переводы «Сказки о мертвой царевне» и «Сказки о царе Салтане» М.П. Алексееву[136]. Переводы поэмы Руставели и комедии Кальдерона, над которыми она работала в 1940 г., не печатались, а возможно, и не были закончены. Не отличавшаяся здоровьем, подверженная душевному недугу, Аверьянова провела немало времени в больницах. Несомненно, болезнь усугублялась невозможностью получить постоянную работу и безденежьем. В письме от 28 апреля 1939 г. она жаловалась мужу: «Лозинский написал холосый <так!> отзыв, с которым меня всё равно никуда не примут, пока не сдохла»; 18 июня 1940 г. ему же: «Я уже начала переводить комедию Кальдерона, но Москва, заключив договор, денег еще не шлет, живу, как собака, хотя я и Лис».
Тема поэтического творчества в письмах Аверьяновой к Корсуну, как ни странно, возникает крайне редко, хотя писать стихи она не прекращала. Например, 31 октября 1935 г. она сообщала ему: «Дяде Джону оч<ень> понравился “Меньшиковск<ий> Дворец” и он его взял себе, в числе многих других. Он всё читает блочью <А. Блока. – М.П> лирику, мне стало обидно, и я ему подсунула свои. <.. .> Я ходил к Маршаку и он меня, Лиса, еще звал – зайти со стихами. Оксман берет лисячьи стихи в Пушк<инский> Дом на прочтение, Маршак – то же, засим М. обещал письмо к Пастернаку[137] – авось Москва хоть что-нибудь издаст»; 25 февраля 1940 г.: «Я написала плохие стихи о Кронштадте, послала в газету, но, конечно, они привыкли печатать еще худшее.. ». Лишь однажды (в письме от 16 сентября 1938 г.) она послала ему два стихотворения: «Стриж» («В косом полете, прям, отважен…») и «Сонет» («Прекрасны камни Царского Села…»), последнее заканчивается строками: «Но в Гатчине хочу я умереть».
Еще в начале 1920-х гг. Л. Аверьянова хотела эмигрировать. И. К. Акимов-Перец побуждал ее устроиться на дипломатическую службу в качестве переводчицы и перебраться в Латвию[138], однако проект казался ей неосуществимым (она не владела латышским языком и считала это серьезной помехой в исполнении замысла). Впоследствии, вероятно, под сильным, хотя и непродолжительным обаянием Второй Москвы, тема отъезда и вообще отодвинулась на задний план и не беспокоила поэтессу вплоть до 1930-х гг., когда Вторая Москва обернулась для нее разграбленным Третьим Римом («В веках мертворожденный Рим!»).
Прорыв из внутренней эмиграции на свободу Аверьяновой не удался, но стал возможным для ее стихов, причем лучших, собранных в книгах «Стихи о Петербурге. 1925-1937» и «Пряничный Солдат. Сонеты. 1937» – вместе они составили сборник «Серебряная Рака. Стихи о Петербурге». Ни в одном из известных нам писем к Корсуну Аверьянова ни разу о книге не проговорилась – ни сном, ни духом… Между тем в 1930-е гг. ею были написаны для поздних сборников несколько десятков стихотворений; частично опубликованные посмертно под псевдонимом А. Лисицкая, они составили ей за рубежом поэтическое имя.
В творческой эволюции Аверьяновой книга стихов о Петербурге, несомненно, вершинная, в ней в полной мере раскрылись ее vox humana и потенциал подлинного лирика, воспитанного на лучших образцах петербургской поэзии, сказавшего собственное и запоминающееся слово в «петербургском тексте»[139] («Что, вчерчена, стою навеки я / В больших квадратах невского гранита»).
С точки зрения «внутреннего диалога», «Стихи о Петербурге» – ответ самой себе, автору «Второй Москвы»: «Твоим Петрографом я буду… Москвоотступник – Петроград!» (петрографом, т. е. историком, летописцем).
При самом беглом поверхностном взгляде «Серебряная рака» напоминает путеводитель по Петербургу, по которому автору так часто приходилось водить гостей, рассказывая о достопримечательностях северной столицы с помощью изустных бедекеров («Я случайно приобрела “Павловск” Курбатова, милое издание», – из письма Вл. Смиренскому 7 августа 1925 г.[140]). В содержании и композиции книги сильно чувствуется профессиональная «хватка» гида, готового подхватить вас и шве ста по городу излюбленными туристическими маршрутами, сопровождая рассказ собственными стихами[141], заглавия которых отмечают традиционным разделам путеводителей: «Дворец был Мраморным…», «Летний Сад», «Биржа», «На Марсовом широковейном поле…», «Князь-Владимирский Собор», «Михайловский Замок», «Адмиралтейство», «Смольный», «Сфинксы», «Крюков канал», «Меньшиковский дворец», «Кунсткамера», «Дом Брандта», «Петропавловская крепость», «Академия наук», «Лазаревское кладбище», «Дача Бадмаева» и т.д. В книге поименованы фактически все выдающиеся зодчие города: Д. и П. Трезини, Ж.-Ф. Тома де Томон, Дж. Кваренги, Б. и Ф. Растрелли, Ю.М. Фельтен, К. Росси, А.Д. Захаров, И.Ф. Лукини, А.Н. Воронихин и др., многие «по умолчанию» – через упомянутые в стихах мосты, арки, набережные, храмы, парковые решетки, сады, памятники.
Замысел «Стихов о Петербурге», по-видимому, восходит к циклу Бенедикта Лившица «Из топи блат. Стихи о Петрограде» (Киев, 1922), с пометой на титульном листе: «Из книги “Болотная медуза” (Стихи 1914 г.)» [142], в полном составе он был напечатан в «Кротонском полдне» (М.: Узел, 1928). Самые ранние стихи в «Серебряной раке», за исключением «Биржи» (1925), датированы 1928 г., среди них – «Адмиралтейство», состоящее, как и одноименное у Б. Лившица, из двух частей (I и II). Трижды у Аверьяновой появляется и «медуза» – образ, преемственный не только к «Адмиралтейству» Б. Лившица, но и к одноименному стихотворению О. Мандельштама, – восходящий в своем значении к «Медному Всаднику» (стихия, противостоящая культуре), при этом дважды в маркированных текстах: «Адмиралтейство II» («Где зданье пористой медузой / Распластано на берегу»), и в позднем – «Адмиралтейство» (1933) («Или, ревностной медузой выскользнув, / Ты – Неве песчаная коса?»); в третий раз – в стихотворении «Но неужели, город, ты…» (1935):
И много ль их (одна иль две!)
Медуз, единственных на свете? –
С Невой, Венеции в ответ,
Разгуливает в паре ветер…
В свое время М.Л. Гаспаров отметил, что петербургская тема у Лившица «вписывается в общее для тех лет увлечение тем, что В. Пяст называл “курбатовской петербурологией”»[143]. В полной мере эти слова можно отнести и к «Серебряной Раке», хотя прямых текстуальных перекличек со статьями из справочника В.Я. Курбатова «Петербург: Художественно-исторический очерк и обзор художественного богатства столицы» (СПб., 1913) у Аверьяновой немного. В значительно большей степени – не по внешнему строю, а по своему подспудному настроению в «Стихах о Петербурге» ощущается «дыхание» «Души Петербурга» Н.П. Анциферова (1922) – источника, ставшего одной из точек в осмыслении «петербургского текста»[144]. Как будто бы поэтесса прониклась той же самой идеей, что и автор книги – «…понять город, не только описать его как красивую плоть, но и почуять, как глубокую, живую душу, уразуметь город, как мы узнаем из наблюдения душу великого или дорогого нам человека» (из предисловия И. М. Гревса к труду Анциферова[145]). Двойная ориентация Аверьяновой – на «фасад» и «душу» города заметно сказалась в поэтике ее текста (прежде всего, в его заглавии).
Книга озаглавлена по имени одной из самых «сакральных» достопримечательностей Петербурга, единственной в своем роде. Серебряная Рака была создана в середине XVIII в. выдающимися русскими и европейскими мастерами, по указу дочери Петра I императрицы Елизаветы Петровны, во славу Александра Невского – небесного покровителя Петербурга. Рака пережила вместе с городом все исторические потрясения; ее описания помещались на страницах всех авторитетных справочников по истории и культуре столицы. В 1920 г. мощи Святого Благоверного Князя были перенесены из некрополя Александро-Невской лавры в музей Атеизма и религии в Казанский собор (там они хранились до возвращения на место в 1989 г.). Серебряное надгробие, так называемая Рака, как художественный памятник мирового значения в 1920 г. была передана в Эрмитаж.
В «путеводителе» Аверьяновой Рака выступает и как музейный экспонат (памятник), и как многозначный, насыщенный культурными, историческими и мистическими смыслами образ, постепенно перерастающий в некрологический символ: «выпотрошенная» или лишенная святыни Рака отождествляется с «усыпальницей» всей русской культуры петербургского/ романовского периода. Неслучайно вторая часть книги – «Пряничный солдат» – состоит, главным образом, из сонетов, навеянных прогулками по царской усыпальнице Петропавловского собора.
Как справедливо отметил Г. Струве: «Культ Петербурга переходил у Лисицкой в страсть; она, видимо, знала каждый камень в городе и все связанные с ним исторические ассоциации. Но при всей “топографичности” ее стихов о Петербурге (это как бы поэтический путеводитель по Петрову граду), в них нет холодной археологичности: “самый фантастический город в мире” вошел ей в плоть и кровь, и тема Петербурга – тема историческая и архитектурная – переплетается в ее поэзии с личной, лирической темой (“мой город… – он голос и тело”), и с общей темой России и истории, причем в эту историю вторгается и современность»[146].
«Стихи о Петербурге» открываются посвящением: за криптонимом Л. Р. на титульном листе и стихотворением «Я не позволю – нет, неверно…», вынесенным на первую страницу рукописи в качестве эпиграфа ко всему сборнику, легко угадывается адресат. Историк и искусствовед Лев Львович Раков (1908-1970) входил в ближайшее окружение Михаила Кузмина; поэт посветил ему цикл «Новый Гуль» (Л.: Academia, 1924), пьесу «Прогулки Гуля» (1924) и несколько стихотворений[147]. В годы знакомства с Аверьяновой (начало 1930-х гг.) Раков служил в Эрмитаже научным сотрудником Античного отдела и затем ученым секретарем (1937), являясь в то же время сотрудником Академии истории материальной культуры (с 1931 г.), располагавшейся по соседству – в здании Мраморного дворца. По роду своих занятий — как знаток и хранитель культурного я исторического наследия он идеально вписывался в общий концепт «Серебряной Раки» (эвфоническое совпадение корневых звуков в его фамилии и заглавии книги в этой связи может показаться не случайным).
Впрочем, несмотря на однозначность титульного посвящения, Раков, по-видимому, был не единственным прототипом лирического героя в «Стихах о Петербурге». М.В. Глинка вспоминал: «Конечно, произнести фразу о том, что “особа” Льва Львовича “послужила лишь чисто внешним поводом для вдохновенья”, мог позволить лишь сам он – в действительности же Лев Львович (а уж в те поры и говорить нечего) был объектом вдохновения, если не сказать, культа не одной только Л.И. Аверьяновой. Однако как человеку, которому выпало счастье хорошо помнить и блестящего эрудита Льва Львовича, и благороднейшего генеалога и знатока геральдики Андрея Ивановича, меня не покидало ощущение, что цитированные стихи могли быть одновременно и глубоко личными, и в то же время (как это случается у многих поэтов) универсальными. И новое, возгоравшееся чувство поэтессы могло тесно переплетаться с уходящим… Как не предположить одновременности их действия? Даже если влияния их представлялись ей в ту пору полярными»[148].
Это наблюдение находит подтверждение в «Стихах о Петербурге»: «Мне можно ослепнуть от снежных брызг – / Эдипу двух равных Сфинксов» («Когда все проиграно, даже Твой…», 1931) (курсив мой. – М.П.). Лирический герой Аверьяновой неизменно «высокий»: «Чтобы город на завязи рек / Предпочла я высоким мужчинам» («Расставаться с тобой я учусь…»,1935); «Мой голос, мой голубь, мой город, / Родной и высокий, как ты…» («…И ты между крыльев заката…», 1929). Оба ее избранника (и Корсун, и Раков) отличались незаурядным ростом и статью, сокрушительной как для женских сердец, так и самолюбивых мужских.
В основе «Стихов о Петербурге» – лирический роман с двумя тесно переплетающимися и взаимопроникающими сюжетными линиями. Одна из них рассказывает о безответной, точнее неразделенной любви поэтессы к ее «лирическому герою» (герой в данном случае – величина переменная); вторая – о любви к Петербургу, «взаимной» и не подверженной времени («…я покоюсь, / О, город мой, на сердце у тебя»).
Проследить движение авторского замысла в развертывании лирического сюжета можно лишь с некоторой долей условности. Композиция сборника, вероятно, не была окончательной. Аверьянова не располагала достаточным временем для отточки художественных решений (как будто бы предчувствуя близкий арест, она спешила отправить рукопись за границу). «Стихи о Петербурге» поделены на три раздела: в первый вошло 8 стихотворений, во второй – 18, в третий – 36. Разделы не озаглавлены, авторская мотивация деления остается неопределенной.
Наибольшей цельностью и монолитностью отличается первый раздел книги, состоящий из стихотворений (вместе с посвящением их девять), непосредственно обращенных к Л. Ракову, образующих цикл «роман в стихах»[149]. Реальной основой «событий» романтической истории явились встречи Аверьяновой и Ракова на набережных и улицах Петербурга осенью 1935 г., нежданные и ни о чем не говорящие для него, спланированные и «вычисленные» для нее («Как Гумилев на львиную охоту, / Я отправляюсь в город за Тобой»; курсив мой. – М.П.).
Раков жил на Большой Морской. Топография цикла запечатлела маршруты, которыми он изо дня в день шел на службу и в город: Дворцовая площадь, Зимний дворец, Дворцовая набережная, Мраморный дворец, Марсово поле и Летний сад, со статуями богов и богинь («мраморное вече»), порождающими коннотацию: Марс – Венера. – «И Марс, не знавший ничего, / Тебя мне подал на ладони / Большого поля своего». Предугадать место встречи было нетрудно: «И там, где лег большой иней Зимний, / Скитаюсь, петербургская Агарь». «Роман» состоявший, главным образом, из «столкновений» на улицах да («И мы столкнулись – Ты и я») и воспринимаемый героиней как любовный поединок («Оставив мирные затеи, / Любовь ведет со мной войну»), заканчивается для нее полным поражением: «И поле Марсово на щит / Отцветший свой меня приемлет».
Первый раздел сборника завершается стихотворением «Когда всё проиграно, даже Твой…» (единственное, датированное 1931 г., под остальными поставлена дата: 1935). Занимающее сильную семантическую позицию (с точки зрения композиции), оно содержит метафору, задающую импульс или «интригу» всего дальнейшего лирического повествования. Поэтесса принимает образ ослепившего себя Эдипа, тщетно пытавшегося разгадать «тайны» земной любви, в утешение отдающегося «неизбежному другу», единственному неизменному возлюбленному: Петербург оборачивается Антигоной, подобно поводырю, ведет своего Эдипа.
Когда всё проиграно, даже Твой
Приход подтасован горем, –
Тогда, выступая как слон боевой,
На помощь приходит город.
Он выправит, он – неизбежный друг –
Мне каждый раскроет камень,
Обнимет, за неименьем рук,
Невы своей рукавами.
Два следующих раздела сборника, в отличие от первого не имеют внутреннего сюжета; в значительно большей степени они соответствуют замыслу «путеводителя». Образ лирического героя здесь несколько заретуширован, отодвинут на второй план, становится более обобщенным, за ним встают, помимо Ракова и Корсуна. еще и Вс. Петров, и Вл. Голицын, и, по-видимому, другие лица, о ком мы не знаем. На первый план лирического повествования, «как слон боевой», выступает Петербург: «проникновенный свидетель поэм любви» [150] оборачивается их главным действующим лицом.
Топография разделов более или менее произвольна и уже не имеет жесткой привязанности к Эрмитажу и его ближайшим окрестностям. Маршруты складываются, главным образом, моль набережных Невы и «невчиков» (рукавов и каналов), по Стрелке Васильевского острова, Петропавловской крепости – с оглядкой на «Медный Всадник», по бегущим от центра улицам; захватывают ближайшие пригороды («Павловск», «Ропша», Гатчина – «Приорат»).
Петербург поднимается со страниц «Серебряной Раки» во всем своем блеске и великолепии. Однако в высокое славословие и аллилуйю, иначе не назовешь, – Петру Великому («О, неужели, город, ты / Одним задуман человеком», «Бог – мореход, курильщик в снежном дыме… / Весь город – карта на его столе» и т. п.), творениям зодчих, ученых и поэтов, – диссонансом врываются ноты тревоги и отчаянья, мотивы самоубийства, как, например, в стихотворении «Город воздуха, город туманов…» (1931):
Если дальше дышать не смогу я,
Как я знаю, что примете вы,
Полновесные, темные струи,
Венценосные воды Невы.
Эти стихи вполне можно отнести к романтическому сюжету (самоубийство как следствие неразделенного чувства). Однако едва ли Аверьянова рассчитывала на такое узкое их прочтение, скорее всего, она надеялась на смешение мотивов, как бы «шифровала» подлинные причины своего отчаянья.
«Страшные истины бытия» – еще один, «подпольный», сюжет «Стихов о Петербурге», поначалу он лихорадочно выступает на поверхность небольшими островками-проговорами, как, например, в стихотворениях: «Блаженство темное мое…», 1935; «Смольный: I», 1933 («Неужели, неужели / Мы навек осуждены, / Вместе с замыслом Растрелли, / У Китайской лечь стены?..», «И Кропоткин, убегая – / Азиатчины бежал»), «Павловск», 1934 («О, милый Павловск, храм нетленной дружбы / С той родиной, которой больше нет»). Стихотворение «Три решетки» (1935), в котором речь идет о решетках Летнего Сада, Казанского собора и некогда стоявшей перед Зимним дворцом, неожиданно обрывается концовкой:
Так росли мы сквозь годы глухие,
Тень осины в квадратах тюрьмы:
Город – гордость любой России –
По решеткам запомним мы.
При всей завуалированности темы, когда Аверьянова вдруг «отпускает» себя, «страшные истины бытия» со всей зловещей и пугающей определенностью поднимаются на поверхность лирического повествования, как, например, в стихотворении «Когда на выспренные стены…», 1930:
<…>
Пускай витийствующий Горький
О братстве вычурно кричит:
Мы не приветим, не приемлем,
Своими мы не ощутим
Ни их размеренные земли –
В веках мертворожденный Рим, –
Ни сон, который смутно снится
Слепцам на скифском берегу,
Где Русь – высокая волчица –
Легла. И стонет на снегу.
Эти строки написаны как будто в «ответ» М. Горькому. Летом 1929 г. он посетил Соловецкий Лагерь Особого Назначения (СЛОН) в составе комиссии иностранных представителей, а по возвращении в Москву напечатал очерк «Соловки» (Наши достижения. 1930. № 5), в котором дал восторженную оценку лагерной жизни, способствующей превращению преступников и врагов Советской власти в образцовых строителей нового общества[151].
В 1930-е гг. многие из друзей и знакомых Аверьянов исчезали в тюрьмах и сталинских лагерях. В 1931 г. б арестован и приговорен к расстрелу Вл. Смиренский (внук адмирала С.О. Макарова), по некоторым свидетельствам его не раз приводили на расстрел, но приговор не был приведен в исполнение[152], двадцать три года, с небольшими перерывами он провел в ГУЛАГе; в 1931 г. арестованы Д. Хармс и А. Введенский (разгром детского сектора Госиздата и «школы» Маршака)[153], в 1938 г. — Л. Раков (в свой первый арест он провел в заключении год и четыре месяца)[154], в 1935 г. – Л. Гумилев, тогда студент исторического факультета Ленинградского университета (затем его выпустили, но в 1938 г. вновь арестовали и осудили на 5 лет ссылки в Норильске); в 1936 г. был арестован сослан на десять лет на Колыму Ю. Оксман; в 1934 г. арестован и в 1937 г. погиб в лагере (или расстрелян) В. Голицын – молодой талантливый композитор, единственный родственник академика Б.Б. Голицына, друг юности (см. «Памяти кн. В.Н. Голицына»). С Осипом Мандельштамом Аверьянова не была знакома, но по ее стихам можно догадаться, что как поэт он был ей чрезвычайно близок[155]. Определенно она знала о его аресте в 1934 г. и высылке в Воронеж, и о повторном аресте в 1937 г., – как знала и о многих других, осужденных на «десять лет без права переписки». По сведениям Г. Струве, Аверьянову также не раз арестовывали, не случайно в ее стихах возникает мотив погони (см. «Крюков канал», «Когда, в тумане розоватом…», 1935).
Исподволь в «Серебряной Раке» нарастает тема чужого и мертвого города: «И ты раскрыт лишь в пьяном гаме / Кирпичных глоток заводских» («Раскрыты губы Эвридики…», 1936), «Колокола и окна немы…» («Фельтен», 1933)[156]. В стихотворении «Арка» (1937) суггестивный образный ряд нагнетает атмосферу кошмара – Варфоломеевской ночи, Петербург предстает огромным кладбищем, люди (и сам автор) принимают облик святых мучеников. Не случайно в первой строфе возникает образ Петра («Бог – мореход, курильщик в снежном дыме…») – центральная фигура петербурского мифа о городе, построенном «на костях»[157].
И перекрестки – тайный знак Его,
Кресты на двери к тем, кто принял муки
За этот град. Пусть мертв он: оттого
И улицы, как скрещенные руки.
И вывески – как строки крупных книг,
Пестрят, что крылья вспугнутых цесарок…
Прохожие увенчаны на миг
Параболами незабвенных арок.
Как имя – в святцы, входит человек
Сюда, дворцы предпочитая долам…
И движусь я, вдруг просияв навек
Огромной арки желтым ореолом.
Первую часть «Серебряной Раки» Аверьянова завершает группой стихотворений, в которых подготавливается центральная (некрологическая / некропольная) тема второй части: «Памяти кн. В.Н. Голицына» (1934-1937), «Лазаревское кладбище» (1937), «Синеют Невы, плавно обтекая…» (1937), «Петром, Петра и о Петре…»(1935), «Приорат» (1936), «Дача Бадмаева» (1937) – с концовкой:«.. .и глаз привык / К казарменной карикатуре / На Кремль, упершийся в тупик». Образ мертвого города, встающий призраком из «Стихов о Петербурге», срастается в «Пряничном солдате» с образом матери-родины-детоубийцы:
Отечество! Где сыщем в мире целом
Еще в утробе тронутых расстрелом,
Абортом остановленных детей?
«Три Алексея», 1935.
Историческая тема, которая в первой части книги «всё время пробивается наружу»[158] («Ропша», «Михайловский замок» и др.), во второй части выступает на первый план, что само по себе представляется закономерным, поскольку «Петербургское зодчество… Это не только прокаженные, с проржавевшими лодками и грудями железных нереид ростральные колонны, не только Растрелли, Фельтен, Гваренги и Захаров, Воронихин и Росси. Это – музыка “могучей кучки” и Глинки, это – “Мир искусства” и академия, это почти вся русская литература и вся государственность прошлого » (курсив мой. – М. П.)[159].
В сборник «Пряничный солдат» Аверьянова включила десять сонетов, семь из них обращены к истории российской империи и судьбам ее властителей: «Усыпальница», «Иоанн Антонович», «Павел Петрович», «Анна Иоанновна», «Три Алексея», «Софья Алексеевна», «Ледяной Дом». Центральное место в цикле, вероятно, отводилось сонету «Иоанн Антонович», трагическая участь императора-младенца осмысляется автором как извечный, непоколебимый символ российской истории:
Забытыми в глуши, опальными – что время? –
Расстрелянными – им удел блаженный дан –
Бездомными – их тьмы! – ты грозно правишь всеми,
Прообраз всей Руси – несчастный Иоанн.
Иоанн VI (1740-1764) был провозглашен императором в двухмесячном возрасте (при регентстве герцога Курляндского Э.И. Бирона, затем собственной матери Анны Леопольдовны), младенцем был свергнут Елизаветой Петровной, провел всю жизнь в тюрьмах и одиночных камерах, был убит охраной при I попытке мятежника его освободить.
Сонеты написаны в 1937 г., когда судьба Аверьяновой уже была предрешена – рукопись «Стихов о Петербурге» оказалась за рубежом, а ей, вероятно, оставалось только ждать очередного ареста. В предпосланном циклу сонете-акростихе, обращенном к Всеволоду Петрову, она как будто бы предчувствовала: «Придет ли, наконец, великий ледоход? / Его мы оба ждем, по-разному, быть может… / Ты – переждешь легко. Тебе — двадцатый год».
Сборник получил название по имени персонажей сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» (1816): пряничные человечки, самоотверженно вступившие в бой с солдатами Мышиного короля, гибнут почем зря, – судьба культурного слоя России:
Мы можем говорить и думать о расстреле.
Но, горше всех других, дана нам мысль одна:
Что справится без нас огромная страна.
«Иоанн Антонович», 1935
«Экскурсия» по Петербургу, начатая у стен Зимнего дворца, заканчивается в Петропавловской крепости: у равелинов – в бывшей царской тюрьме и в Усыпальнице Петропавловского собора – перед надгробиями династии Романовых. Тюрьма и кладбище – довлеющий мотив последней «прогулки» в «путеводителе», озаглавленном «Серебряная Рака».
Отправляя за границу рукопись «Стихов о Петербурге» Э. Ло Гато[160], Аверьянова писала:
С.-Петербург, 9/ХII. 37
Глубокоуважаемый и дорогой
Гектор Эммануилович!
Получила сегодня письмецо от моей ученицы, которая виделась с Вами в Риме. Очень рада была узнать от нее, что Вы здоровы.
Благодарю Вас сердечно за интерес к моим стихам – счастье было бы знать, что они напечатаны, в особенности, если это может сделать Университет, т.к. иные издательства представляются не столь ценными…
Анна Андреевна жива и более или менее здорова. Этим летом я была очень близко знакома с ее сыном Львом Николаевичем Гумилевым, который мне очень нравится. Он очень хорошо учится (студент-историк), его научная работа куплена Академией Наук, но он очень несчастный мальчик: пьет, ругается, ведет себя часто очень вольно, так что я его покамест не принимаю, хотя сама очень по Нем скучаю. Может быть, станет старше и приличнее…
Анну Андреевну я не видела давно, т.к. она меня приглашает только если ей что-нибудь от меня нужно. Но я очень ее люблю и оттого не хочу писать о ней даже Вам, т.к. много невеселого пришлось бы сказать о ней… Может быть, Бог даст, мы с Вами увидимся и тогда о ней поговорим. Во всяком случае, она теперь ходит пешком, гуляет, а не лежит, как раньше.
Извините, что не пишу Вам на Вашем родном языке: за эти 2 последние года приходится заниматься другими языками, и боюсь наделать больших ошибок.
Если Вы действительно сможете издать стихи мои о Петербурге, которые имеются у моей ученицы, то хорошо было бы заказать какому-ниб<удь> хорошему художнику иллюстрации к каждому стихотворению (напр<имер>), в стиле Добужинского)[161]. Сонеты из книги «Пряничный Солдат» лучше приложить в конце книги «Серебряная Рака», в виде второй ее части. Посылаю Вам дополнения к «Серебряной Раке».
Ужасно, что Вы больше не приехали – моя девочка мне писала, почему.
Прощайте же и знайте, что я с радостью иду на все тяжелые жертвы ради моей бедной книги – parve, nec invidio, sine me, libre, ibis… [162] Будьте ей добрым крестным отцом!
Привет Вашей семье, не бойтесь за меня и не жалейте: природные данные каждого человека должны иметь свободное развитие, в этом – залог развития культуры. Вспоминайте нас всех иногда, пишите через мою ученицу, если захотите написать.
Лидия Аверьянова
P.S. Псевдонима не давайте, пожалуйста, пускай книга идет под моим полным именем, как моя подпись. Один конец! Хорошо бы иметь корректуру»[163].
Одновременно, в письме от 9 декабря 1937 г. своей ученице, переправлявшей рукописи за границу, Аверьянова отдавала последние распоряжения относительно издания книги:
«Бетти дорогая,
Спасибо тебе большое за твое сердечное письмо. Я хочу, чтобы книга а) была опубликована в Праге, если возможно, Университетом б) под моим собственным именем, поскольку никакой псевдоним не способен скрыть стиль или тему.
с) Я хочу, чтобы ты, если возможно, передала мне корректурные листы всего на 1 денек, они будут возвращены тем же путем, каким была возвращена книга госпожи Уны.
Я очень больна и несчастна, у меня был роман с единственным сыном Ахматовой, очень обаятельным студентом, но пьяницей и непорядочным человеком сверх меры, так что перестала видеться с ним (но не перестала любить), хотя он очень умный и добрый в глубине души. Люблю тебя.
Твоя совсем старая и дряхлая лисица Л.
П.С. Напиши мне поскорее, поскольку я чувствую…. ну, ты понимаешь. Л.А.»[164]
В 1937 г., в предчувствии беды или конца, Аверьянова вдогонку «Серебряной Раке» пишет и отсылает еще пять стихотворений: «Колокол Св. Сампсония» («Он был подобен темной сливе…»), «У костюмерной мастерской…», «Сонет» («Люблю под шрифтом легшие леса…»), «Превыше всех меня любил…», «Россия. Нет такого слова…». По вполне понятной причине они не вошли в основной корпус книги, и, тем не менее воспринимаются не только как ее логическое завершение, но и как послание (на это указывает приложенный к автографам стихотворный лист, на котором Аверьянова записала пушкинское послание декабристам – «В Сибирь» («Во глубине сибирских руд…»), 1827).
Человеческий и гражданский голос поэта (vox humana) достигает в последних стихах наивысшего звучания. Ее «Россия. Нет такого слова…» можно поставить в один ряд с такими образцами гражданской лирики, как «Рожденные в года глухие…» А. Блока, «Веселье» («Блевотина войны – октябрьское веселье!..») или «Неотступное» («Я от дверей не отойду…») З. Гиппиус, «Не с теми я, кто бросил землю….» А. Ахматовой и немногими другими.
Россия. Нет такого слова
На мертвом русском языке.
И всё же в гроб я лечь готова
С комком земли ее в руке.
Каких небес Мария-дева
Судьбою ведает твоей?
Как б…., спьяна качнувшись влево,
Ты бьешь покорных сыновей.
Не будет, не было покоя
Тому, кто смел тебя понять.
Да, знаем мы, что ты такое:
Сам черт с тобой, ….. мать!
1934–1937
На скрещении узловых мотивов: блоковского («…Покой нам только снится…»), тютчевского («Умом Россию не понять…») и некрасовского («Ты и убогая…») Аверьянова создает свой и единственный в своем роде образ матери-родины. В сонете «Свиносовхоз» он приобретает дополнительные обертоны – трагический гротеск, преемственный по отношению к позднему Блоку («Слопала-таки поганая, гугнивая родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка»)[165].
Стихотворение «Россия. Нет такого слова…», ставшее известным в эмиграции лишь одной первой строфой – из статьи П. Струве в «Мостах»[166], сразу же обратило на себя внимание. В. Самарин писал в «Новом русском слове» (Нью-Йорк): «Я остановился на стихах А. Лисицкой, потому что не часто до войны слышались свободные голоса из России, не часто попадали рукописи русских писателей и поэтов в свободную печать. В то время посылки рукописей за границу были подлинным подвигом. Решиться на это могли только люди большого мужества. А. Лисицкая, безусловно, знала, что ее ждет, когда посылала своему знакомому, зарубежному ученому-слависту, который обещал ей помочь издать книгу: “Псевдонима не давайте” <…> Г.П. Струве пишет, что еще в годы сталинщины за границу дошли слухи об ее аресте. Где теперь эта смелая женщина, не побоявшаяся бросить вызов своим будущим тюремщикам?»[167]
В 1941 г. Корсун был призван на фронт и вернулся в Ленинград только после окончания войны, когда Аверьяновой уже не было в живых. Перед войной она лечилась в психиатрической больнице, где оказаться после арестов и допросов («она раньше уже не раз “сидела”»[168]), вероятно, было несложно, даже будучи совершенно здоровой (больница на Пряжке курировалась НКВД).
М.А. Турьян рассказывала со слов ее мужа (ныне покойного): Н.М. Давидовский, врач-терапевт, в студенческие годы проходил практику в больнице на Пряжке (не позднее 1940 г). Однажды к ним на занятие привели пациентку, в которой он узнал Аверьянову. Когда-то он был знаком с Лидией Ивановной, но потом потерял ее из виду; она была «блестящая» женщина, обращавшая на себя внимание, запоминающаяся. Натан Матвеевич рассказывал, что испытал шок, увидев ее в качестве живого экспоната. Все присутствовавшие на этом практическом занятии, однако, были потрясены блистательным и точным, с клинической точки зрения, рассказом пациентки о симптомах ее болезни.
По свидетельству В.М. Глинки, последние годы поэтессы были омрачены болезнью, за которой последовали «больница, блокада, голод, осложненный страшными видениями неуравновешенной психики»[169], и преждевременная смерть [170]. Лидию Аверьянову похоронили на Серафимовском кладбище в мае 1942 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
Собрание стихов Лидии Аверьяновой издается впервые.
При жизни поэтессе удалось напечатать в советской периодике немногим более десятка стихотворений, все они относятся к 1920-м гг. Посмертные публикации из ее поэтического наследия (стихотворения 1930-х гг.), осуществленные Г.П. Струве, рассредоточены в зарубежных изданиях.
Впервые имя А. Лисицкой [Л. Аверьяновой] на страницах зарубежной печати появилось в 1946 г. в «Новом журнале» (Нью-Йорк), где были опубликованы шесть стихотворений 1930-1935 гг.: «Летний сад», «Князь-Владимирский собор» (1. «Среди берез зеленокудрых…», 2. «Никогда мне Тебя не найти…»), «Три решетки», «Владимирский собор чудесно княжит…», «Петром, Петра и о Петре…». В заметке, предварявшей публикацию, сообщалось: «Печатаемые “Стихи о Петербурге”, случайно доставшиеся в распоряжение редакции “Нового журнала”, принадлежат перу поэтессы, прожившей всю революцию в Советской России. Насколько нам известно, они нигде не были напечатаны. Ред.» (Новый журнал. 1946. № 14, С. 130-131). Вслед за тем «Стихи о Петербурге» А. Лисицкой печатались в «Возрождении» (Париж): 1949, № 1 и 1950, №7; «Русской мысли» (Париж): 1949, № 142, 3 июня; «Гранях» (Франкфурт-на-Майне): 1952, № 14; 1953, № 18; 1954, № 22; «Мостах» (Мюнхен): 1962, № 9.
Г. Струве отнесся к творчеству неведомого ему поэта с горячим сочувствием. В лирике Л. Аверьяновой он видел живую связь с акмеизмом, с поэзией Н. Гумилева и О. Мандельштама. О его поистине рыцарском отношении к судьбе «трофейных» стихов свидетельствовало письмо в газету «Русская мысль» (1949. № 142, 3 июля), в связи с первой публикацией стихотворения «Ледяной дом» он писал: «В только что вышедшем XVI выпуске журнала “День Русского Ребенка” напечатаны, переданные мною редактору его, Н.В. Борозову, два стихотворения б. “советской” поэтессы, ныне Ди-Пи, А. Лисицкой: “Три Алексея” и “Ледяной дом”. К сожалению, во втором из этих стихотворений редактор нашел нужным, не снесясь со мной, по каким-то ему одному известным соображениям, выбросить одно слово, нарушив тем самым размер стихотворения, устранив одну рифму и заставив читателей гадать: что значит сие многоточие? Из уважения к незнакомому мне автору, за напечатание стихотворения которого я отвечаю, и в интересах литературной правды, прошу не отказать напечатать это замечательное стихотворение в его подлинном виде, а именно: редактором “Дня Русского Ребенка” выброшено было слово “бесовский” в четвертой строфе с конца (речь здесь идет, несомненно, о мальтийском кресте)». (В письме упоминается Николай Викторович Борзов (1871-1955) – в 1934-1955 гг. редактор ежегодника «День русского ребенка» (США)).
В течение двадцати лет Г. Струве публиковал и пропагандировал «Стихи о Петербурге», не оставляя надежды выпустить их отдельным изданием; он вел переговоры об оформлении книги с М.В. Добужинским (согласно пожеланию Л. Аверьяновой, высказанному в письме к Э. Ло Гатто), а после его смерти намеревался обсудить оформление сборника с А.Н. Бенуа, однако кончина последнего помешала и этому плану (см.: Струве Глеб. Стихи А. Лисицкой // Мосты. С. 124). Книгу Аверьяновой ему издать так и не удалось, но благодаря его усилиям большой корпус стихотворений «Серебряной Раки» стал известен зарубежному читателю и вызвал хотя и немногочисленные, но все же заинтересованные отклики.
В рецензии на седьмую тетрадь журнала «Возрождение» (1950), где были напечатаны два из трех стихотворений цикла «Петропавловская крепость» (а чуть ранее, в первой тетради за 1949 г.: «Фельтен» и «Павловск»), Н.Н. Берберова отмечала: «Что касается стихов, то в отчетном номере их много и большинство из них хороши. <…> А. Лисицкая лишний раз доказывает, что Петербургу больше всего пристали акмеистические стихи» (Русская мысль. 1950. № 216, 17 февраля. С. 5).
На публикацию, помещенную в «Гранях» (№ с18. 1953), откликнулся Ю.К. Терапиано: «250-летию Петербурга посвящено и семь стихотворений А. Лисицкой. Стихотворения по преимуществу изобразительные и описательные, написаны в нарочито скульптурной, тяжелой манере <…>. Читая эти стихи, невольно вспоминаешь стихи о Петербурге Бенедикта Лившица из его сборника “Болотная медуза”. Манера, образы очень напоминают манеру и образы Лившица»; в одном из стихотворений он усмотрел «сочетание манеры Б. Пастернака со Всеволодом Рождественским» (Новое русское слово (Нью-Йорк). 1953. № 15165, 8 ноября. С. 8). В подборку вошли стихотворения: «Еще не выбелен весной…», «Фельтен для тебя построил зданье…», «Адмиралтейство» («В ромашках свод, тенист и узок…»), «Маргаритками цветет империя…», «Михайловский замок», «Памяти кн. В.Н. Голицына».
В связи с появлением в «Гранях» (1954. № 22) семи «Сонетов» из «Пряничного солдата» (три из них уже ранее печатались в «Русской мысли»: 1949. № 142, 3 июня) Ю. Терапиано писал Г. Струве: «Что касается Лисицкой, я не знаю других ее стихов, и Вы мне о ней никогда не говорили. Я отметил, что ее стихи написаны умело, но меня, главным образом, удивил ее выбор сюжетов, совсем неожиданные для Ди-Пи и нашего времени. Я говорил о жанре, Агнивцева вспомнил между прочим, ведь многие поэты в то время (и порой хорошо) писали о Павле Первом и т. д. Конечно, если бы редакция сделала примечание, фон для этого цикла стихов был бы иным , выбор сюжетов был бы тогда оправдан» (Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Gleb P. Struve Collection. Box 139. Folder 16. В письме упоминается поэт Николай Яковлевич Агнивцев (1888-1932), его политические стихотворения «Павел I», «Гильотина», и др., написанные в период Февральской революции, пользовались широкой известностью).
Публикация сонетов из «Пряничного солдата» привлекла внимание Н. Бернера, в статье «Разговор с музами» он резюмировал: «Сонеты о русских царях Лисициной <так! – М.П> – образец чисто кабинетной трактовки поэтом “истории царей”. Нет, уж после Максимилиана Волошина, который дал когда-то в изумительной лепке образного стиха русских царей и цариц, лучше бы не писали, или даже писали, но несколько по-иному, не только вразумительно, но и вдохновенно» (Литературный современник. Мюнхен, 1954. С. 265. – М.А. Волошин (1877-1932) – автор произведений: «Dmetrius-Imperator (1591-1613)», 1917; «Написание о царях московских», 1919; «Китеж», 1920; «Россия», 1924 и др.).
Наиболее репрезентативной из всех зарубежных публикаций стихов Аверьяновой следует признать подборку, помещенную в «Мостах», сопровожденную обстоятельной вступительной заметкой. В нее вошло 12 стихотворений 1933—1937 гг.: «Расставаться с тобой я учусь…», «На Марсовом широковейном поле…», «…И ты, между крыльев заката…», «Смольный» («Утро. Ветер. Воздух вольный…»), «Смольный» («Пятикратный купол крова…»), «Когда, в тумане розоватом…», «Как Гумилев – на львиную охоту…», «Охтенскому мосту», «Бегут трамваи – стадо красных серн…», «Академия наук», «Лазаревское кладбище», «Колокол св. Сампсония».
Рецензируя издание, Ю. Терапиано в очередной раз пенял Г. Струве: «А. Лисицкая <…> известна в эмиграции по прежним ее публикациям. О том, кто она на самом деле, существует много предположений. Вступительная статья Глеба Струве никакого нового света не проливает, ограничиваясь сухой фразой» (Русская мысль. 1962, 18 августа). В ответ на это замечание Г. Струве заявил: «Я не знаю, какие “предположения” существуют относительно личности А. Лисицкой, но в моей заметке именно то ново, что я даю понять, что мне известно, кто она такая (отмечу при этом, что все прежние публикации ее стихов, о которых говорят Ю. К. Терапиано, исходили от меня). Не думаю, что разоблачение имени Лисицкой что-нибудь сказало большинству зарубежных читателей: под этим псевдонимом не скрывается никакой известный поэт. Мне известно только одно стихотворение А. Лисицкой, напечатанное в советском журнале за ее собственной подписью, но были и другие. <…> Что касается оценки стихов Лисицкой со стороны Ю. К. Терапиано, то это дело вкуса и спорить об этом не приходится» (Струве Глеб. О стихах А. Лисицкой // Русская мысль. 1962. № 1886, 4 сентября).
«Стихи о Петербурге» обратили на себя внимание знатоков и ценителей поэзии. В связи с началом издания «Опытов» Р.Н. Гринберг обращался к Г. Струве с просьбой: «Стихи о Санкт-Петербурге пришлите непременно. Чьи они?» (письмо от 29 мая 1953 г.: Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Gleb P. Struve Collection. Box 29. Folder 14). Факт, несомненно, примечательный, поскольку в двух первых книгах «Опытов» были представлены такие поэты, как: Г. Иванов, В. Ходасевич, О. Мандельштам, И. Одоевцева, С. Маковский, Ю. Одарченко и др. 12 августа 1962 г. Г. Адамович писал Одоевцевой: «Лисицкая, Вас заинтриговавшая, – сплошное, по-моему, подражание Ахматовой. Дурак-Струве уверяет, что это – Мандельштам. Нет, это гораздо жиже, и очень подражательно, хотя и не без приятности» (Письма Георгия Адамовича Ирине Одоевцевой / Публ. Ф.А. Черкасовой // Диаспора: Новые материалы. Вып. 5. СПб.: Феникс, 2003. С. 594). 31 марта 1965 г. Ю.П. Трубецкой спрашивал у Г. Струве (в связи с появлением на страницах «Русской мысли» стихотворения Е.М. Тагер): «Кто такая Тагер? Мне не случалось о ней слышать. Но гораздо интереснее стихи А. Лисицкой, о которой Вы делали публикацию. Правда, мне Лисицкая очень напомнила поэта Б-а Лифшица <так!> и его книжку или цикл “Из топи блат”» (Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Gleb P. Struve Collection. Box 140. Folder 10. Речь идет о поэтессе Елене Михайловне Тагер (1895-1964) и публикации Г.П. Струве, см.: Г.С. Стихотворение Е.М. Тагер об Анне Ахматовой // Русская мысль. 1965. № 2370, 7 октября). 25 октября 1965 г. Ю. П. Иваск сообщал Струве: «Дорогой Глеб Петрович, очень меня потрясла Ваша статья в “Русской мысли” о Тагер и Маслове. Я не знал, что они были женаты… Вероятно, Вы знали не только его, но и ее. Подумалось: может быть, ЛИСИЦКАЯ-Тагер… Но это одно только предположение» (Там же. Box 91. Folder 2. Упоминаются супруги – поэт Георгий Владимирович Маслов (1895-1920) и Е. М. Тагер).
Внимание поэтов и критиков к стихам А. Лисицкой не удивляет, ведь главная, и едва ли не единственная, тема ее творчества была в то же время «одной из острейших ностальгических тем в литературе первой и отчасти второй волн русской эмиграции» (Тименчик Р., Хаит В. «На земле была одна столица» // Петербург в поэзии русской эмиграции / Вступ. статья, сост., подгот. текста и примеч. Романа Тименчика и Владимира Хазана. СПб., 2006 (Новая библиотека поэта. Большая серия). С. 5). «Стихи о Петербурге» – плоть от плоти «петербургского текста» («Здесь Блок бродил, здесь умер Пушкин», «Как Достоевского когда-то / Меня преследует вода» и т.п.), унаследованного литературой русского зарубежья у Пушкина, Достоевского и поэтов «Серебряного века», заново осмысленного и дополненного. В период «Серебряной Раки» Аверьянова осознавала себя внутренней эмигранткой, да и, по сути, была ею. «Петербургский миф» в варианте его бытования в эмиграции – «сакральный топос» досоветской эпохи (подробнее об этом см. в указ. статье Р. Тименчика и В. Xазана) – опознаваем в ее поздних сборниках.
На родине творчество Л. Аверьяновой до недавнего времени было представлено публикацией одного стихотворения «ЦЕНТРАРХИВА» (Тименчик Р.Д. Тынянов в стихах современницы // Пятые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения Рига, 1990. С. 248). В 1995 г. журнал «Звезда» (№ 2) поместил подборку из «Стихов о Петербурге», составленную Р.Д. Тименчиком на основе зарубежных публикаций. В 2004 г. «Звезда» (№ 5) напечатала воспоминания Л.Л. Ракова («Роман в стихах»), содержащие посвященный ему лирический цикл. В 2008 г. в журнале «Русская литература» (№ 1) увидел свет третий сборник стихов поэтессы «Опрокинутый шеврон».
В настоящем издании поэтическое наследие Л. Аверьяновой представлено по возможности наиболее полно, в хронологической последовательности приготовленных ею сборников: «Vox Humana» (1924), «Вторая Москва» (1928), «Опрокинутый Шеврон» (1929), «Стихи о Петербурге» (1937) и «Пряничный солдат» (1937), вошедшие в книгу «Серебряная Рака». Особый раздел составили немногочисленные стихотворения, не включенные в сборники.
В основу издания легли материалы личного фонда Л. Аверьяновой, хранящегося в Рукописном отделе Пушкинского Дома Российской Академии наук: РО ИРЛИ. Ф. 355, и ее рукописи из архива Г.П. Струве в Гуверовском Институте: Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Gleb P. Struve Collection. Box 75. Folders 3-5. В Пушкинском Доме сосредоточены автографы стихотворений из книг «Vox Humana», «Вторая Москва», «Опрокинутый Шеврон», в Гуверовском архиве – рукописи сборников «Стихи о Петербурге: 1925-1937» и «Пряничный солдат. Сонеты. 1937».
Ценный вклад в пополнение сравнительно небольшого по объему корпуса поэтических текстов Л. Аверьяновой был сделан Анастасией Львовной Раковой (1938-2010), дочерью Льва Львовича Ракова. В 2008 г. она передала в Пушкинский Дом часть архива поэтессы, исполнив последнюю волю, к тому времени уже ушедшей из жизни, его недавней хранительницы. Анастасия Львовна вспоминала: «…часть архива Л. Аверьяновой оказалась в руках Раисы Леонидовны Любович – друга и сослуживицы моего отца по Музею обороны, которая собиралась передать материалы в Рукописный отдел Пушкинского Дома. Будучи уже весьма пожилой и малоподвижной, она однажды позвала меня к себе и передала этот пакет мне как дочери Л.Л.» (Лев Львович Раков. Творческое наследие. Жизненный путь / Автор-составитель А.Л. Ракова. СПб.: Государственный Эрмитаж (Серия: «Хранитель»). С. 147). Среди полученных от А.Л. Раковой материалов: авторский макет сборника «Вторая Москва» (машинопись) и папка, содержащая разрозненные листы с автографами и авторизованными машинописными копиями стихотворений 1930-1935 гг., в том числе лирический цикл, обращенный к Л.Л. Ракову (не полностью), фотографии и графический портрет работы <Ф.> Лебедева.
В настоящем издании стихотворения публикуются по рукописям, за единичными исключениями (оговариваются в примечаниях), в соответствии с современной грамматической нормой, с сохранением отдельных особенностей авторской пунктуации. В примечаниях приводятся сведения о публикациях, наличии авторизованных источников (автографов и машинописей) и имеющихся в них разночтениях, кроме пунктуационных. В примечаниях к стихотворениям из сборников «Стихи о Петербурге» и «Пряничный солдат», рукописи которых не имеют архивной пагинации, указания на источник текста сопровождаются отсылкой на страницу оригинала, указанную автором (за исключением ненумерованных страниц). Датировки под текстами стихотворений, заключенные в угловые скобки, установлены по содержанию или косвенным данным. Все отсылки на личный фонд Л. Аверьяновой из собрания Рукописного отдела Института русской литературы Пушкинский Дом (РО ИРЛИ) даются без указания на место хранения.
Выражаю сердечную благодарность всем, кто заинтересованно помогал мне в подготовке этой книги консультациями, советами, дружеским участием: Т.А. Кукушкиной, М.В. Кучинской, В.Г. Муриковой, Т.В. Павловой, В.Н. Сажину, М.А. Турьян, А.Б. Устинову, Л. Флейшману, Е.Б.Фоминой, Е.Г. Щуко, моя особая благодарность – Николаю Алексеевичу Богомолову, Роману Давидовичу Тименчику и [Анастасии Львовне Раковой].
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВМ – Лидия Аверьянова. «Вторая Москва» (1928). Машинописный сборник: РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 112.
Грани 14 – А. Лисицкая. «Мой город… (Из книги «Стихи о Петербурге»)» // Грани. Журнал литературы, искусства и общественной мысли (Франкфурт-на-Майне). № 14 (1952). С. 93-97.
Грани 18 – А. Лисицкая. Стихи о Петербурге // Грани. Журнал литературы, искусства и общественной мысли. № 18 (1953). С.36-38.
Грани 22 – А. Лисицкая. Сонеты (Из цикла «Пряничный солдат») // Грани. Журнал литературы, искусства и общественной мысли. № 22 (1954). С. 52-54.
Звезда 1995 – Лидия Аверьянова. Стихи о Петербурге / Вступ. заметка и публ. Романа Тименчика // Звезда. 1995. № 2. С. 123—129.
Звезда 2004 – Лев Раков. Роман в стихах / Вступ. заметка и публ. Анастасии Раковой // Звезда. 2004. № 1. С. 96-102.
ЗР – Зреющая Россия. Альманах первый. Пб., 1922 (машинописный сборник): РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 99.
Курбатов – Курбатов В. Петербург: Художественно-исторический очерк и обзор художественного богатства столицы. СПб., 1913.
Мосты – А. Лисицкая. Стихи о Петербурге / Вступ. статья и публ. Глеба Струве // Мосты (Мюнхен). 1962. № 9. С. 121-136.
НЖ – А. Лисицкая. Стихи о Петербурге// Новый журнал (Нью-Йорк). 1946. № 14. С. 130-134.
ОШ – Лидия Аверьянова. «Опрокинутый шеврон» (1929). Рукописный сборник: РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 103.
ПС – Лидия Аверьянова. Пряничный солдат. Сонеты. 1937. Рукописный сборник // Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Gleb P. Strove Collection. Box 75. Folder 4.
Раков – Лирический цикл, обращенный к Л.Л. Ракову, и другие стихотворения из собрания Л.Л. Ракова: РО ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 113.
Ракова А.Л. – Лев Львович Раков. Творческое наследие. Жизненный путь / Автор-составитель А.Л. Ракова. СПб.: Государственный Эрмитаж (Серия: Хранитель).
СП – Лидия Аверьянова. Авторская подборка из 15 стихотворений: РО ИРЛИ. Ф. 291 (Всероссийский Союз писателей; Всероссийский Союз поэтов). Оп. 2. Ед. хр. 69.
СР – Лидия Аверьянова. «Серебряная Рака. Стихи о Петербурге» (1937) // Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Gleb P. Strove Collection. Box 75. Folder 3.
СРД – Лидия Аверьянова. Дополнение к сборнику «Серебряная Рака. Стихи о Петербурге» // Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Gleb P. Strove Collection. Box 75. Folder 5.
VX – Лидия Аверьянова. «Vox Humana» (1924). Рукописный сборник: РО ИРЛИ. P. I. Оп. 1. Ед. хр. 106.
ИЗ КНИГИ «VoxHumana» (1924)
Первая книга стихов сохранилась не в полном объеме. Ее окончательный состав и композиция неизвестны. В нашем распоряжении имеется рукопись «Vox Humana» (без окончания), включающая восемь стихотворений 1921-1924 гг., пронумерованных автором (№ 1-8): РО ИРЛИ. P. I. Оп. 1. Ед. хр. 106. Возможно, это не окончательный вариант текста: на титульном листе под заглавием авторские пометы: «Запас»; «переписано 6 и 7».
Автографы пяти стихотворений из этого же сборника сохранились в авторской подборке из 15 поэтических текстов в фонде Всероссийского Союза поэтов: РО ИРЛИ. Ф. 291. Оп. 2. Ед. хр. 69 (на первом листе помета рукой Л. Аверьяновой: «В “Союз Поэтов”»). Все стихотворения в подборке пронумерованы (№№ 1-15); пять (№№ 9, 10, 13, 14, 15) сопровождены авторской пометой: «Из книги “Vox Humana” (1924)», три из них (№№ 13—15) отсутствуют в основной рукописи. В настоящем издании эти стихотворения помещены в конце – после стихотворения «Что лирика? Быть может сотый…».
Тексты печатаются по рукописям: РО ИРЛИ. P. I. Оп. 1. Ед. хр. 106; Ф. 291. Оп. 2. Ед. хр. 69.
«Угоден богу каждый спелый колос…», 1921. – ЗР, под псевдонимом: Эллида Крейслер. Автограф: VH. Л. 1; ст. 8 обведен фиолетовым карандашом. Машинопись: Ф. 355. Ед. хр. 99. Л. 6 об.
Эллида Крейслер – по аналогии: Иоганн Крейслер (нем. Johannes Kreisler) – псевдоним Э.Т.А. Гофмана (1776-1822), под которым он выступал в качестве композитора; имя героя его романа «Музыкальные страдания капельмейстера Крейслера» (1810), alter ego Гофмана. В 1922 г. в печати отмечалось столетие со дня смерти немецкого романтика; к памятной дате была выпущена монография Е.М. Браудо «Э.Т.А. Гофман» (СПб.: Парфенон, 1922), в которой сделан акцент на единстве музыкального и литературного гения Гофмана (по-видимому, книга была известна Аверьяновой). Возможно, псевдоним был инициирован возникновением литературного объединения «Серапионовы братья» (1921 г.). По предположению Р.Д. Тименчика, псевдоним, возможно, восходит к имени главной героини пьесы Генрика Ибсена «Женщина с моря» (1888). Per aspera ad astra (лат.) – Сквозь тернии к звездам.
«По имени и другом назови…», 1922. Автограф: vx. Л. 2.
(Раздумья – много, счастья – ни обола)… Обол (др.-греч. obolos) – название монеты и единицы веса. К семи ступеням божьего престола… Семь ступеней божьего престола – в христианской и иудейской мифологии семь ступеней небесной иерархии или восхождения к Богу, на ближайшей к престолу Божьему ступени изображаются Серафимы (высший ангельский чин).
«Щит от мира, колыбель поэта…», 1923. – Записки Передвижного Театра. 1923. № 63. С. 4. Автографы: 1) VX. Л. 3; на полях авторская помета: «Напечатано в «Зап<исках> Передв<ижного> Т<еатра>»; 2) СП. Л. 6 (№ 14). Вар. ст. 2: «Родина пилигримов любви», ст. 6: «(Весть была, что дорог мне жених)».
Даже лира тяжела для них… Возможно, восходит к ст-нию В.Ходасевича «Баллада» («Сижу, освещаемый сверху…») из его сборника «Тяжелая лира» (Москва – Петроград: ГИЗ, 1922), ср.: «И кто-то тяжелую лиру».
«Матерь Божья Часу безответна…», 1923. Автограф: ЭДГ. Л. 4.
И сердца – душистые кадила… Ср. дарственную надпись Вл. Смиренского на обложке, объединяющей автографы его ст-ний «Над разноцветными мостами…» и «Я точно инок строг и тих…» (1925): «Лидии Аверьяновой – в благодарность за раскачивание душистых кадил и за то, что она неоклассик, – дарю два стихотворения, с просьбой хранить их, как зеницу ока. Владимир Смиренский» (Ф. 355. Ед. хр. 91. Л. 4).
«Неотвратимо, неизбежно…», 1924. Автограф: vx. Л. 5; на полях помета карандашом, возможно рукой автора: «Блок». В стихотворении использованы образы и лексика, характерные для лирики А. Блока («…ветер снежный», «Навстречу гибели моей», «Ни мира, ни любви, ни славы», «Сквозь годы ужаса и плена» и
др.).
«Снежный ветер запевает в ставни…», 1924. Автограф: vx. Л. 6. Над текстом авторская помета красным карандашом: «Переписано».
И нужда тяжелой скифской крови… Реминисценция ст-ния А. Блока «Скифы» («Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы…»), 1918, ср.: «Да, так любить, как любит наша кровь…».
«Верно, сердцем уродилась суше…», 1924. Автограф: vx. Л. 7. Над текстом авторская помета красным карандашом: «Переписано». Машинопись: Ф. 355. Ед. хр. 104. Л. 1. Вар. ст. 1: «Видно сердцем уродилась суше…», датировка: середина <19>20-х гг.>; – вар. ст. 3: «Оттого-то Бог и дал мне в души».
«Что лирика? Быть может, сотый…», 1924. Автографы: 1) vx. Л. 8; 2) СП. Л. 4 (№ 9). Вар. ст. 12: «Кадильницы душистый срок»; 3) Ф. 592 (Д.А. Лутохина). Ед. хр. 61. — В письме Лутохину от 30 декабря 1926 г.; вар. ст. 3—4: «Здесь — сердце — дрогнувшие Соты Хранит любви старинный мед»; ст. 12: «Кадильницы душистой строк».
Что слава?.. Ср.: «Что слава? – Яркая заплата / На ветхом рубище певца» (А.С. Пушкин. Разговор книгопродавца с поэтом. 1824). См. примеч. к ст-нию «Матерь Божья Часу безответна…».
«Он сказал мне: «Видишь, ты чужая…»,<1923>. Автограф: СП. Л. 6 (№ 13); датируется по авторской помете: «Из книги “Vox Humana” (1923)». Машинопись: Ф. 355. Ед. хр. 99. Л. 6 об.
«Вставали дни, дряхлел и падал Рим…», <1923>. Автограф: СП. Л.6 (№ 15); датируется по авторской помете: «Из книги “Vox Humana” (1923)». Первонач. вар. ст. 10: «Седеет прядь, журчат слова глухие».
Но с византийским именем твоим… Имя «Россия» (близкое к греч. обозначению Росиа) впервые встречается в книгах византийского императора Константина VII Багрянородного «О церемониях» (X в.). О ст-нии упоминает Смиренский в письме Аверьяновой от 2 апреля 1926 г.:«…говорит об освободительном движении негров, преподает языки, стихи пишет о византийских дарохранительницах» (Ф. 355. Ед. хр. 54. Л. 22). Соотносится со ст-нием О. Мандельштама «Вот дароносица, как солнце золотое…» (1915).
«…И снова затворилась дверь…», начало 1920-х гг. Автограф: СП. Л. 4 (№ 10). Машинопись: Ф. 355. Ед. хр. 104. Л. 1.
…твоих сандалий/Достойный развязать ремни… Библеизм: Мк. 3: 11, Мф. 1: 7; Лк. 3: 15.
ВТОРАЯ МОСКВА (1928)
Рукопись книги «Вторая Москва» представляет собой тетрадь (73 архивных листа, сшитые вручную) с машинописными автографами стихотворений. Последний лист или несколько листов тетради не сохранились. На текстах имеется правка автора. Каждое стихотворение начинается со спуска. На титульном листе вверху редакторская помета: «Рукоп<ись>: стих<отворных> 635 стр<ок> = 1 5/16 л<иста>. Эпиграф и подписи, года – 1/16. Ф. Егоров. 31/I <19>29 г.»; поперек – резолюция: «Я не возражаю. 3/V <19>28. Илья Садофьев». На обороте титульного листа рукой Л.Аверьяновой: «Адрес автора: Ленинград «22», ул. Литераторов 19, “Дом Писателей”».
Стихотворения воспроизводятся по рукописи, с исправлением очевидных опечаток: Ф. 355. Ед. хр. 112, за исключением последнего – «Страна Советов» (в оригинале без окончания; приводится по публикации).
Седьмое ноября («Червонным золотом горит Москва…»), 1924. – Ленинград. 1924. № 21 (36). С. 1. Машинопись: В М. Л. 3. Автографы: 1) Ф. 355. Ед. хр. 1. Л. 3. Заглавие: Седьмая годовщина. Под текстом авторское примечание: «Не считая “Щит от мира… – мое первое напечатанное стихотворение. J1 А 1935», над текстом авторская помета об отсылке стихотворения в журнал: «Ленинград», рядом резолюция: «В набор. И<лья> С<адофьев>»; на обороте карандашная помета рукой неустановленного лица: «Тов. И. Садофьеву, ред<актору> журн<ала> “Ленинград”»; 2) СП. Л. 1 (№ 1), без заглавия.
Всемирной новью пьяно зацветая… Ср.: «По ночам, прижавшись к изголовью, / Вижу я, как сильного врага, / Как чужая юность брызжет новью / На мои поляны и луга» (С. Есенин. «Спит ковыль. Равнина дорогая…», июль 1925). Не призрак по Европе – плоть идет / Широкоплечей силой, злой и голой… Парафраз первой строки «Манифеста Коммунистической партиец (1848) К. Маркса и Ф. Энгельса: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Перекликается с темой «Скифов» (1918) А. Блока. Ближайших лет простая Караманьола! Караманьола – французская песня, сложившаяся в эпоху Великой французской революции среди простонародья и революционной бедноты Парижа.
См. ст-ние Вл. Смиренского, посланное Аверьяновой, вероятной, – ответ на ее «Седьмое ноября» (Ф. 355. Ед. хр. 91. Л. 22):
Баллада о Ленине
Высоко-поднятой рукою
Размахивая в такт речам, –
Он бродит с тайною тоскою
В пустынном зале по ночам.
И шепчет он: я вечно с Вами
В дни поражений и побед…
И под чугунными шагами
Скрипя колеблется паркет.
Слегка приподнимая плечи, –
в короткий кутаясь пиджак, –
Он тихо произносит речи
в тревожно-слушающий мрак.
И те, кто помнит, знает, ценит
Неповторимые слова,
Для тех живет чугунный Ленин
И даже Смерть его – жива!
Владимир Смиренский
Лидочке Аверьяновой на воспоминание от автора
Джон Рид («Хорошо в свинцовой колыбели…»), 1924. – Ленинград. 1925. № 1 (40), 15 января. С. 1; без строфы III. Машинопись: ВМ; Л. 4-5. Автограф: СП. Л. 2 (№ 3).
Джон Сайлас Рид (англ. John Silas Reed; 1887-1920) – американский журналист, во время Первой мировой войны работал корреспондентом в Европе; основатель Компартии США, участник I конгресса Коминтерна (1919); автор знаменитой книги «Десять дней, которые потрясли мир» (1919), написанной по личным впечатлениям: в октябре 1917 г. участвовал в штурме Зимнего дворца. Хорошо в свинцовой колыбели / Отдыхать под Красною стеной… Джон Рид умер в Москве от тифа, похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены. Ты уже, над картой двух Америк, /Смутно видел красную звезду. Ср.: «То над степью пустой загорелась / Мне Америки новой звезда» (А. Блок. «Новая Америка». 1913). Третьей стражей в мировом Кремле. Ночное время делилось у древних римлян на четыре части – вигилии (от vigil – караульный, страж), равные продолжительности смены караулов в военной службе. Третья вигилия (лат.: Tertia vigilia) или третья стража длилась от полуночи до начала рассвета. Ср.: «…Я, наконец, на третьей страже. / Восток означился, горя» (В.Я. Брюсов. «Ребенком я, не зная страху…», из сборника «Tertia vigilia», 1900).
Три узла («В память лучших, три узла тугие…»), 1924. – Машинопись: В М. Л. 6-7. Автограф: СП. Л. 1 (№ 2), без заглавия.
Моя страна («Что мне посох, если насмерть ранен…»), 1924. Машинопись: ВМ. Л.8-9, заглавие вписано чернилами. Автографы: 1) Ф. 172. Ед. хр. 615. Л. 1; без заглавия. На обороте помета рукой неустановленного лица: «Рус<ский> Совр<еменник>» и штамп: «Г. И. И. И. Кабинет Современной литературы» (л. 1 об.). Было отослано в ж. «Звезда» вместе со ст-ниями «Мне легла не большая дорога…» и «Стихи о Кронштадте», см. примеч. к ст-нию «Стихи о Кронштадте»; 2) СП. Л. 3 (№ 7), без заглавия.
Что мне посох, если насмерть ранен… Возможно, аллюзия на ст-ние О. Мандельштама «Посох» («Посох мой, моя свобода…»), 1914.
Спасские часы («Не глухое былье и не лобное место под теми…»), 1924. – Красная молодежь. 1925. № 5 (9). С. 38 (с опечаткой в ст. 13), подпись: Студент. Лен. Гос. Консерватории; «Собрание стихотворений» Ленинградского союза поэтов (Л., 1926. С. 3). Машинопись: ВМ. Л. 10-11. Автограф: СП. Л. 3. (№ 6).
В архиве сохранились открытое письмо и денежный перевод из журнала «Красная молодежь» на имя Л. Аверьяновой от 8 апреля 1925 г.. «т. Аверьянова! Ваши стихи получили. “Спасские часы” и “Дета” мы используем и поместим в очередном майском номере. Остальные два стихотворения редакцией забракованы. Ждем от Вас материала. Присылайте. С ком<мунистическим> приветом секр<етарь> Ковал<?>». На обороте адрес: Лен. Гос. Консерватория. Театральная пл. 3. Студенту Органного Класса, Лидии Аверьяновой. Ленинград. Перевод на 8 руб. (Ф. 355. Ед. хр. 28. Л. 1-2). В письме от 5 сентября 1926 г. Смиренский сетовал Аверьяновой: «Для чего ты в десятый раз печатаешь “Спасские часы”? Дала бы хоть “Биржу”» (Ф. 355. Ед. хр. 54. Л. 31). А Европа в петле, а Америка — в пытке, и гулко… Ср. письмо Д.А. Лутохина к Л. Аверьяновой от 15 июня 1924 г.: «Прочтите хотя бы последнюю книгу такого буржуазного политика, как Нитти “Трагедия Европы”. М<ожет> б<ыть>, она Вам кое-что объяснит… Европа — в сумерках, но она не погибнет. Ей еще предстоит только проделать операцию омоложения – по усовершенствованному “октябрьскому” способу!» (Ф. 355. Ед. хр. 37. Л. 1). Речь идет о книге бывшего итальянского премьер-министра Франческо Саверино Нитти (1868-1953): «Трагедия Европы. Часть I: Что сделает Америка? Часть II: Как Франция грабила Германию?» (М. – Берлин, 1924), в которой он изложил свой взгляд на перспективы европейской политической жизни.
«Неровный ветер, смутный свет…»,1925. Машинопись; ВМ, Л. 12-14. Автограф: СП. Л. 4 (№ 8); заглавие: Семилетье. Вар. ст. 16: «Рвалась столетьем с циферблата»; ст. 23: «Семь медно– красных Октябрей», ст. 25: «А город, пестовавший весть».
Неровный ветер, смутный свет… С р. начало поэмы А. Блока «Двенадцать» (1918): «Черный ветер, / Белый снег. / Ветер, ветер…»
Набат («Не раскольница в огненном стонет плену…»), 1925. Машинопись: ВМ. Л. 15-16. Автограф: СП. Л. 5. (№ 11).
Только слово «товарищ» мне хлеб и вода… Возможно, отклик на мысли Д.А. Лутохина, высказанные в письме к Л. Аверьяновой от 15 июня 1924 г., ср.: «Дорогой товарищ Лидия. Простите это обращение. Вы не сообщаете В<ашего> отчества. А слово товарищ мне приятно написать, ибо я от него отвык, а оно такое… человеческое. Кроме того, мне хочется с начала же письма подчеркнуть рознь наших настроений. Знаю, что слово товарищ очертело и самим бесам, хотя в Европе им продолжают пользоваться и социалисты» (Ф. 355. Ед. хр. 37. Л. 1).
Дата («Еще мы помним четкий взмах руки…»), 1925. Машинопись: В М. Л. 17-18. Автограф: СП. Л. 2 (№ 4). Вар. ст. 1: «Еще мы помним четкий взмет руки», ст. 4: «В мохнатый мрак вливает рев чугунный», ст. 10: «И медногрудые котлы не дышат», ст. 12: «На пленном Западе острей услышат». Стихотворение было отослано в журнал «Красная молодежь», предполагавшаяся публикация не выявлена (см. примеч. к стихотворению «Спасские часы»).
Рабфаковцам («Оттого ты упорно заносишь науку в тетрадь…»), 1925. – Красный студент. 1925. №6 (29). Октябрь. С. 13, заглавие: Рабфаковцу. Машинопись: ВМ. Л. 19-20. Автограф: СП. Л. 5 (№ 12); без заглавия. Вар. ст. 16: «И стальное весло рассекает зацветшие воды». Второе стихотворение неизвестно.
Перекликается со ст-нием М. Светлова «Рабфаковке» («Барабана тугой удар…»), 1925.
Вторая Москва («Ах, тебя ль обратною дорогой…»), 1925. Машинопись: ВМ. Л. 21-22. Автограф: СП. Л. 2. (№ 5).
«Москва кабацкая» («Звон колокольный, звон неровный…»), 1925. Машинопись: ВМ. Л. 23-25. Первонач. Вар. ст. 9.: «Угарный хмель с полынью смешан».
Стихотворение навеяно гибелью С.А. Есенина (похороны поэта состоялись 31 декабря 1925 г. в Москве). В письме от 31 января 1926 г. Вл. Смирене кий прислал Аверьяновой конверт с лавровым листом, на листе надпись чернилами: «с гроба Сергея Есенина»; там же. «А Есенинский листик – мне хоть и жалко, я Вам дарю» (Ф. 355. Ед. хр. 54. J1.13 об.). Москва кабацкая. Название поэтического цикла С. Есенина (отд. изд.: Л.-Б., 1924; в кн.: Стихи. М.-Л.: Круг, 1924). А ты – ты мог Москву Вторую / В Москве Кабацкой проглядеть! – Имеется в виду книга С. Есенина «Русь Советская» (1925), в которую вошли стихотворения «Возвращение на родину», «Русь советская», «Русь бесприютная», «Русь уходящая» и др., отмеченные трагическим мироощущением, ностальгией по уходящей Руси. Зовет утраченная Русь… Отсылка к стихотворению С.Есенина «Русь уходящая» («Мы многое еще не сознаем…»), 1925. Пусть сердце-ключ на дне стакана… Блоковский мотив из стихотворения «Незнакомка» («По вечерам над ресторанами…»), 1906, «процитированный» С. Есениным в стихотворении «Русь уходящая», ср.: «Я знаю, грусть не утопить в вине…». Проводит воронье, кружа… Ср.: «И пусть над нашим смертным ложем / Взовьется с криком воронье…» (А. Блок. «Рожденные в годы глухие…», 1914).
Старая Москва («Едва вступив в широкий круг свободы…»), 1926. Машинопись: ВМ. Л. 26-27.
Рублем чеканным… В 1924 г. был выпущен чеканный рубль с изображением на лицевой стороне монеты крестьянина-сеятеля и красноармейца, на обратной – герба СССР. …Зловещее кружило воронье… Перифраз блоковской строки, см. предыдущее примеч. Но празднично молчит Смоленский рынок… Вероятно, отсылка к стихотворению В. Ходасевича «Смоленский рынок» (1916). Ходынским полем называя смерть. – Ходынское поле или Ходынка – давка, происшедшая 18 (30) мая 1896 г. на Ходынском поле на окраине Москвы в дни торжеств по случаю коронации Николая II (14 (26) мая), во время которой погибли и были покалечены более тысячи человек.
«Что шуметь, о гибели жалея…», 1926. Машинопись: ВМ. Л. 28.
А его бревенчатая Русь… Ср.: «Все равно остался я поэтом / Золотой бревенчатой избы» (С. Есенин. «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 192S).
«Ты опять со мной, моя Россия…», 1926. Машинопись: В М. Л. 29-30.
Ларисса Рейснер. Машинопись: ВМ. Л. 31-35.
1. «В дни былых, шальных разноголосиц…», 1926. — Красная газета. Утр. вып. 1927 № 32 (2678), 9 февраля. С. 2; заглавие: Лариссе Рейснер. ВМ. Л. 31-32.
Публикация приурочена к годовщине смерти Ларисы Михайловны Рейснер (1895-1926; поэтесса, публицист, литературной критик; политический деятель), скончавшейся от тифа, осложненного полученной на фронте прикаспийской малярией, 9 февраля в Кремлевской больнице. Стихотворение помещено рядом с редакционной заметкой «Памяти Лариссы Рейснер» и портретом работы С. Чехонина. Ты вела по Волге миноносец… С июля по декабрь 1918 г. Л. Рейснер находилась на службе в Волжской флотилии, под командованием мужа – известного революционера Ф.Ф. Раскольникова. Чтоб крутым пескам Афганистана / В слитных строках вышло шелестеть. Имеется в виду книга Л. Рейснер «Афганистан» (М.-Л.,1925), составленная из ранее опубликованных очерков, написанных в 1921-1923 гг., в период пребывания в Афганистане в составе первого советского посольства. … жизнь твоя… Перекинута через седло. Во время службы в Волжской флотилии Л. Рейснер была командиром разведки при штабе армии, участвовала в боевых операциях. … скинуть седока / В той Москве… – Л. Рейснер похоронена на московском Ваганьковском кладбище.
2. «Гул земли, лихой полет в седле…», 1927. ВМ. Л. 33-35.
В редакционном письме (12.Х.<1926>) по поводу публикации стихотворения сообщалось: «Подумаем, Б<ыть> может В<аше> стихотв<орение> “Лариса Рейснер” поместим в годовщину смерти. Пришлите, пожалуйста, Ваши стихи, вообще…» (Ф. 355. Ед. зф.67).
С 35. Весна («Уже на голос твои широкий…»), 1927. Машинопись: ВМ. Л 36-37.
Дрожат церковные ступени… Ср.: «Озарены церковные ступени» (А. Блок. «Бегут неверные дневные тени.1902).
Парижская коммуна. Машинопись: В М. Л. 38-42 (название частично заклеено и исправлено, предположительно первоначально было: Стиха о Парижской Коммуне).
1. «В день восемнадцатого марта…», 1927. ВМ. Л. 38-39.
И вот мы мартовскую дату / Включаем в числа Октября. До 1917 г. в России День Парижской Коммуны (18 марта 1871 г.) отмечали лишь в революционных кругах, нелегально: широко этот день начали праздновать после того, как ЦК Международной организации помощи бортом революции (МОПР) в марте 1923 г. объявил День Парижской Коммуны своим праздником.
2. «Мы поступь лет острее слышим…», 1927. – Красная газета. Утр. вып. 1927. Ук 63 (2709). 18 марта. С. 5, заглавие: Стихи о Парижской Коммуне. Ст. 19: «И смерть ложилась величаво». ВМ. Л. 40-41.
Скрестили улицы, как шпаги, / Сент-Антуан и Сен-Жермен. Центральные улицы Парижа: Сент-Антуан (квартал Марэ) и бульвар Сен-Жермен (квартал Сен-Жермен-де-Пре); в дни Парижской коммуны толпы восставшего народа сожгли центр города, включая значительную часть предместья Сен-Жермен.
3. «Париж, высоким пламенем свободы…», б.д. <1927>. – Третье стихотворение представлено публикацией – вырезка из газеты, источник не установлен. ВМ. Я. 42.
Стихи о Китае. 1927. ВМ. Л. 43-48. Первоначальное заглавие цикла заклеено.
В цикле нашли отражение события Второй гражданской войны в Китае, начавшейся вслед за китайской революцией 1925-1927 гг. Возможно, триптих является откликом на ст-ние В. Маяковского «Лучший стих» («Аудитория сыплет вопросами.1927.
1. «Сын свободы, лучший между ними…», 1927. – Красная газета. Утр. вып. 1927. № 107 (2753), 13 мая. С. 3: заглавие: Китайские стихи. ВМ. Л. 43-44.
Но в стране, взрастившей Сунь-Ят-Сена… Сунь Ятсен (1866– 1925) китайский революционер, основатель партии Гоминьдая; посмертно удостоен титула «отца нации». Тот – другой – народом не забыт… Чан Кайши (Цзян Цзеши; 1887-1975) – глава диктаторского режима в Китае (1927-1949), бывший соратник Сунь Ятсена, после его смерти возглавил Гоминьдан (1925) и начал борьбу с коммунистами. Гулко бьется нанкинский расстрел, / Что в Хайларе, у стены широкой… Имеется в виду нанкинский инцидент: 21-23 марта 1927 г. войска Чан Кайши взяли Нанкин, где было создано новое Национальное правительство, Китайской республики во главе с Чан Кайши, начались массовые расстрелы коммунистов.
20 минут («Выходи на простор, на звенящий тревогою воздух…»), 1927. ВМ. Л. 45-46; авторская помета: «Отсюда до конца книги. Л.А.» (л. 45).
И в шуршащих газетах заглавные строки читай… В утреннем выпуске «Красной газеты» (13 мая), где было напечатано первое стихотворение китайского цикла, отдельную полосу занимал репортаж «Ленинградские рабочие приветствуют революционный Китай», е подзаголовком: «На фабриках и заводах продолжаются митинги по поводу взятия Шанхая восставшими рабочими и революционными войсками»; приводим заголовки «Красной газеты» за март 1927 г.: «Отклики в СССР на взятие Шанхая», «Демонстрация в Москве», «Национальные армии вступили в Шанхай», «Восставшие рабочие захватили власть в городе», «Шанхай в руках революции», «Английским войскам отдан приказ быть наготове», «Шанхай взят» (№ 65, 22 марта); «Подробности бомбардировки Нанкина», «Англо-американцы обстреливают город из шестидюймовых орудий» (№ 69,26 марта). Нам английский свинец обжигает упорную грудь. В апреле 1927 г. в результате сговора между Чан Кайши и руководством иностранных концессий, охраняемых войсками США, Великобритании и др., в Шанхае была учинена резня: из пулеметов расстреляли 100-тысячную демонстрацию протеста против действий Чан Кайши.
3. Не крепок ли чай? («Утром за завтраком, “Таймс” свой листая…»), 1927. – Красная газета. Утр. вып. 1927. № 66 (2712). 23 марта, С. 2. Ст. 16: «Эй, джентльмены, не крепок ли чай?» ВМ. Л. 47-48.
Худо вам в Лондоне, мистер Оля Райт… All right (англ.) – Всё хорошо, отлично. С надписью «боже, спаси короля». «Боже спаси короля» первая строка британского гимна «Боже, спаси короля» (God save the King), он же «Боже, храни королеву» (God save the Queen). Входит крылатая джонка победы… Джонка – традиционное китайское и японское парусное судно для плавания по рекам и вблизи морского побережья.
Первое мая («Уже нам трудно заучить…»), 1927. Машинопись: В М. Л. 49-51.
Шуршит расцвеченной сарпинкой… Сарпинка – лёгкая хлопчатобумажная ткань (холстик), полосатая или клетчатая, приготовляется из тонкой, заранее крашенной пряжи; похожа на ситец.
Стихи о Кронштадте («Здесь слава якорем крутым…»), 1927. – Красная газета. Утр. вып. 1927. № 110 (2756), 17 мая. С. 3. Ст. 5: «И склянок тонкий, мерный звон», ст. 6: «В глухой ночи над фортом пролит», ст. 12: «Россия в планах, в лесах, в доке». В М. Л. 52-53; ранний вар. ст. 5: как в публ.; ст. 12: а) «Россия в планах, в лесах, в доке», б) «Страна в движенья, в стройке, в доке», в) как в публ. Автограф: Ф. 172. Ед. 615-617. Л. 4; на листе авторская помета об отсылке: «Звезда»; на обороте штамп: «Г.И.И.И. Кабинет Современной литературы» и помета рукой неустановленного лица: «Получено из журнала «Звезда» 14/1 – <19>28». Вар. ст. 5: как во ВМ, ст. 6: «В глухой ночи над фортом пролит», ст. 12: как во ЯМ (вар. а).
Страна в движеньи, в планах, в доке…; Россия в планах, в лесах, в доке… (ВМ, вар. а): Ср.: «Чудовищна – как броненосец в доке – Россия отдыхает тяжело» (О. Мандельштам. «Петербургские строфы», 1913). …к потокам света / Стальным, высоким кораблем / Плывет республика советов… Возможно, образ, заимствованный из письма Д.А. Лутохина от 27 февраля 1927 г., см. текст письма в Послесловии.
Порт («Он вычерчен углем в неясном тумане…»), 1928. ВМ. Л. 54; вар. ст. 4: «Густой перелесок и торсов и труб».
Ленинград («От вокзала, от финских обугленных шпал…»), <после 1928> – Опубл. В газете, источник не установлен. Машинопись: ВМ. Л. 56 (печатное, вырезка из газеты).
Здесь, у моста «Аврора» стояла… Вероятно, имеется в виду Благовещенский мост через Большую Неву (в 1850-1855 и с 2007 г.; в 1855-1918 гг.: Николаевский, в 1918-2007 гг.: Лейтенанта Шмидта), где стоял крейсер «Аврора» в ночь на 25 октября 1917 г. У Сампсониевского моста (в 1918-1991 гг. – мост Свободы) через Большую Невку (соединяет улицу Большая Дворянская (бывш. Куйбышева) на Петроградском острове с Финляндским проспектом на Выборгской стороне) крейсер был поставлен в 1948 г. (напротив Нахимовского училища). Разве «Красин» не шел, надрываясь, во льдах… Речь идет о спасении экспедиции генерала Умберто Нобиле, застрявшей во льдах при возвращении с Северного полюса (1928); из всех судов, посланных на выручку, лишь советский ледокол «Красин» смог добраться до ледового лагеря экспедиции и спасти людей; на обратном пути ледокол оказал помощь получившему пробоины германскому пассажирскому судну «Монте Сервантес» с полутора тысячами пассажиров на борту. Летом 1931 г. во время пребывания У. Нобиле в Ленинграде Аверьянова была его гидом, в архиве сохранилось его открытое письмо к ней от 12—18 июля 1931 г. (на итальянском языке); к письму приложен ее комментарий: «Я – его переводчица, он оч<ень> доволен работой, хочет взять на “Малыгин" (поиски Амундсена!), но “Интурист” меня не пускает, т.к. я назначена уже работать с Бернардом Шоу. 1931. Лидия Аверьянова 27/III 1935» (Ф. 355. Ед. хр. 45). В 1928 г. ледокол «Малыгин» участвовал в поисках экспедиции Умберто Нобиле на дирижабле «Италия»; с 1931 г. на «Малыгине» производились гидрологические исследования в различных районах Арктики; во время одной из экспедиций (встречи ледокола с дирижаблем Граф Цеппелин) на ледоколе присутствовал Умберто Нобиле. От вокзала, от финских обугленных шпал / До кирпичной стены арсенала / Этим воздухом Ленин когда-то дышал… В апреле 1917 г. на Финляндский вокзал прибыл из эмиграции В.И. Ленин, где его встречали революционные рабочие (в том числе завода «Арсенал», находившегося рядом с вокзалом), солдаты и матросы, Ленин выступал перед ними с броневика. В память исторического события 7 ноября 1926 г. на площади перед вокзалом был установлен памятник «Ленин, говорящий с броневика» (скульптор С.А. Евсеев, архитекторы В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейх).
«Уже осыпалась весна…», 1927. – Красная газета. Утр. вып. 1927. № 141 (2787), 24 июня. С. 3; с подзаголовком; Курортные стихи. Ст. 23: «Чтоб крымский вновь узнать закат». ВМ. Л. 60– 61.
Июль («О полдень стихла полоса…»), 1927. – Красная газета. Утр. вып. 1927. № 167 (2813), 24 июля. С. 5. ВМ. Л. 62-63.
И вот – июль с глухой заставы / Кровавым пролился дождем… – Имеются в виду антиправительственные волнения 3-5 (16-18) июля 1917 г. в Петрограде, в которых приняли участие вооруженные кронштадтские матросы, солдаты и рабочие; выступление было поддержано большевиками; 4 июля 1917 г. состоялась 500-тысячная демонстрация жителей Петрограда, которая была расстреляна Временным правительством. И на обломках черной славы… Ср. «И на обломках самовластья» (А.С. Пушкин «К Чедаеву», 1818).
Феликс («Всегда в огне, всегда за делом…»), 1928. ВМ. Л. 64-65. Ранний вар. ст. 7: «И в двадцать первый день июня».
ВСНХ… Аббревиатура: Высший совет народного хозяйства – высший советский хозяйственный орган со статусом наркомата в 1927-1932 гг.; в 1924-1926 г. Ф. Дзержинский был председателем ВСНХ СССР. Стихотворение приурочено к годовщине смерти Феликса Дзержинского (1877-1926), возможно, написано в 1927 г. и предназначалось в утренний выпуск «Красной газеты»; текст соотносится с газетными публикациями, посвященными памяти председателя ВЧК, см., например: «Годовщина со дня смерти тов. Ф.Дзержинского», Менжинский <В.Р. >: «Памяти тов. Ф.Э. Дзержинского» (Красная газета. Утр вып. 1927. № 163 (2809), 20 июля. С. 2. 3).
«Часы на Кремле никогда не стоят…», 1927. ВМ. Л. 70-71; зачеркнутое заглавие: Часы на Кремле.
Страна Советов («Простой и пламенной. Такою…»). 1927. – Красная газета. Утр. вып. 1927. № 271 (2917), 27 ноября. С. 2; псевдоним: А. Лидина. Машинопись: ВМ. Л. 72; без последней строфы (в рукописи отсутствует лист).
Печ. по публикации.
ОПОКИНУТЫЙ ШЕВРОН (1929)
Впервые: Русская литература. 2008. № 1. С. 248-256.
Рукописный макет сборника «Опрокинутый Шеврон» поступил в Пушкинский Дом в 1964 г. от Марианны Евгеньевны Глинки (1908-1979, урожд. Таубе, в первом браке жена В.М. Глинки, во втором – А.И. Корсуна), вскоре после кончины А. Корсуна. На обороте титульного листа – авторская помета: «Отпечатано в количестве двух именных экземпляров». Один из них, очевидно, принадлежал Л. Аверьяновой (местонахождение неизвестно), другой предназначался для А. Корсуна. В авторском Содержании сборника перечислены двадцать одно стихотворение; в действительности их двадцать, экспромт «Старый недруг, вспомни, вспомни…» в рукописи отсутствует, текст неизвестен. См. л. 1:
<Содержание>
Акростих («Ах, нет пути назад!..») <27 октября 1928, 29 ноября 1928>
Скрытый акростих («Алый вечер, влажный ветер…») <1 ноября 1928 б ноября 1928>
«Я не запомню лик такой…» («Колчан») <25 ноября 1928>
«Знаешь, в дни, когда я от бессилья…» <21-23 ноября 1928>
«У тебя глаза – теплеющие страны…» <23 ноября 1928>
«Я сказочно богата ожиданьем…» <25 ноября 1928>
«Нет, не чувствовать острее…» <6 декабря 1928>
«Крылом любви приподнята над всеми…» <9 декабря 1928>
«И я справляю свое Рождество…» <23 декабря 1928>
«О, в складках все одной мечты…» <13 декабря 1928>
«Я помню, девочкой, случайно…» <Ноябрь-декабрь 1928>
Дни («Как дней пустые жемчуга…») <29-30 декабря 1928>
Акростих («А я не та. Опять мой голос ломкий…») <29-30 декабря 1928>
Сонет-Акростих («Дано мне сердце – сокол меж сердцами…») <1-2 января 1929>
Греческая церковь («День раскрывался, как белый подснежник…») <2 января 1929>
Сонет-Акростих («Нет, он другой; не выше и не лучше…») <9 января 1929>
«Старый недруг, вспомни, вспомни…» (Экспромт)
«Я знаю дом: и я когда-то…» <3 января 1929>
Акростих («Ах, в каких видала сновиденьях…») <3 января 1929>
«О, милая любовь моя…» <4 января 1929>
Акростих («Авиньонское мое плененье…») <4 февраля 1929>
Стихотворение «И я справляю свое Рождество…» записано на почтовой карточке, отправленной А. Корсуну; два поэтических послания – «Акростих» («А я не та. Опять мой голос ломкий…» и «О, милая любовь моя…» являются частью адресованных ему писем. Возможно, Аверьянова сохранила целостность посланий (не выделила стихотворения из писем) как напоминание о «фабуле» лирического сюжета – общего интимного текста, в котором автор и «герой» существуют как Лис и Адя.
Все стихотворения датированы, на полях некоторых автографов сбоку вписаны дополнительные датировки. В авторском содержании трижды «нарушена» хронологическая канва лирических «событий». Согласно датировкам, стихотворение «Я не запомню лик такой…» (25 ноября 1928) должно следовать за стихотворением «У тебя глаза-теплеющие страны…» (23 ноября 1928); «И я справляю свое Рождество…»(23 декабря 1928) – за стихотворением «О, в складках все одной мечты…»(13 декабря 1928); Сонет-Акростих («Нет, он другой; не выше и не лучше…») (9 января 1929) за стихотворением «О, милая любовь моя…»(4 января 1929). Отмеченные хронологические сдвиги, сказавшиеся в Содержании и соответственно отраженные в композиции сборника, возможно, не осознавались поэтессой или представлялись ей несущественными.
Книга стихов «Опрокинутый Шеврон» воспроизводится в соответствии с авторским макетом, тексты печатаются по оригиналу: Ф. 355. Ед. 103. Отсутствующие в рукописи названия стихотворений восстановлены по Содержанию без редакторских скобок. Письма к А. Корсуну, сохраненные поэтессой в рукописном макете книги, воспроизводятся в примечаниях к стихотворениям.
Акростих («Ах, нет пути назад!..»), 27 октября 1928. Автограф: ОШ. Л. 3; на полях помета: 29 ноября 1928; сверху карандашом: «окт<ябрь> 28 г.».
Душа моя – как Соловьиный Сад… «Соловьиный сад» – название поэмы А. Блока (1915).
Скрытый акростих («Алый вечер, влажный ветер…»), 1 ноября 1928. Автограф: ОШ. Л. 4; на полях помета: 6 ноября 1928 г.
Колчан («Я не запомню лик такой…»), 25 ноября 1928. Автограф: ОШ. Л. 5, без заглавия; в Содержании сборника с заглавием.
«Колчан» – название сборника Н. Гумилева (1916).
«Знаешь, в дни, когда я от бессилья…», 21-23 ноября 1928. Машинопись: ОШ. Л. 7-8.
И заплакал сам Архистратиг. Стихотворение написано в день церковного праздника Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных – 21 ноября (8 ноября по ст. ст.). Здесь: образ бессилья; к Михаилу обращаются с молитвами об исцелении – как победителю сатаны и злых духов, которые в христианстве считались источником болезней.
«У тебя глаза – теплеющие страны…», 23 ноября 1928. Автограф: ОШ. Л. 9.
Ах, во флорентийских хрониках любили… Вероятно, речь идет о флорентинцах – Данте Алигьери (1265-1321), воспевшем свою любовь к Беатриче Портинари (1266-1290) в лирике, «Новой Жизни» и «Божественной Комедии», и Франческо Петрарке (1304— 1374), посвятившем возлюбленной Лауре де Нов (1308-1348) «Книгу песен» («Канцоньере»). Наши дни – как связка флорентийских лилий… Герб Флоренции представляет собою две алые лилии; один из элементов в гербе рода Корсунов, см. примеч. В ст-нию «Нет, клекот дней не чувствовать острее…».
«Я сказочно богата ожиданьем…», 1 декабря 1928. Автограф: ОШ. Л. 10.
«Нет, клекот дней не чувствовать острее…», 6 декабря 1 Автограф: ОШ. Л. 11.
Как Ариаднина струиться нить… Ариадна критского царя Миноса, во владениях которого находился Лабиринт, где обитало чудовище Минотавр; полюбив афинского героя Тезея, которого Минос обрек в жертву чудовищу, Ариадна тайно дала ему меч и клубок нитей; с их помощью он убил Минотавра и выбрался из Лабиринта. И сердце Корсунов в гербе крылато /
Двойной стрелою смерти и любви. В I «Опрокинутом шевроне» преобладает «птичья» тема: крылья, стрела, клёкот, орёл (сокол). По мнению М.В. Кучинской, исходя из геральдики, опрокину– тый шеврон мог символизировать не только стрелы Амура, но и стрелы герба – в поле или на нашлемнике. По тексту Аверьяновой на гербе Корсунов изображены и крыло (Коршуна) и стрела. Такое изображение встречается на гербе Божидар (Bozydar, Божий Дар)– польский дворянский герб. В навершии шлема – выходящее крыло коршуна, ребром вправо, пронзенное вправо же стрелою. См. : http://gerbovnik.ru/arms/1680.html
«Крылом любви приподнята над всеми…», 9 декабря 1928. Автограф: ОШ. Л. 12-13.
«О, в складках все одной мечты…», 13 декабря 1928. Автограф: ОШ. Л.15.
«И я справляю свое Рождество…», 23 декабря 1928. Автограф: ОШ. Л. 14. На почтовой карточке, на обороте: Здесь, п/о № 15 Таврическая ул. 15 кв. 15 Андрею Ивановичу Корсуну. Почт, шт.: Ленинград, 23.12.28; 24.12.28. Подпись: Л. А. Под текстом стихотворения приписка: P. S. Милый Андрей Иванович, я ошиблась: во вторник 25/XII вечером мы дома и Лис будет рад. Аде. Л.А.
Акростих(«А я не та. Опять мой голос ломкий…»), 29-30 декабря 1928. Автограф: ОШ Л. 19; под текстом письма к А. Корсуну: «30 / XII <19>28. Дорогой мой, мне стоит только отстранить Вас на некоторое время, чтобы снова началась во мне та дивная старая борьба – как во времена первого акростиха. Оттого я посылаю Вам сегодня легкий вариант сентиментального посвящения, которое было написано тогда же и которое я не хотела давать Эго – ужасно девические стихи, Бог с ними! Но Вы, если хотите, можете послать их домой.
Ах, Лис хотел бы стать таким маленьким, чтобы поместиться в Вашем жилетном кармане и никогда не вылезать оттуда! И если бы Вы захотели его изъять, он вцепился бы в сукно Вашего шелома – нет, не всеми десятью пальцами, а больше: всеми когтями
Когда я причиняю Вам боль – мне трижды больнее самой. Но я всё время должна разбивать и надламывать себя, чтобы стихи текли ручьем, вместе со слезами. Посылаю Вам еще 2 – из них один акростих. Они пришли сегодня ночью. Вы видите, Вы не оставляете меня никогда. Меня терзает мысль, что Вы никогда больше не обнажите головы передо мной и моими словами, что бы я ни говорила. C’est tres bien avant – mais apres! Мне страшно, что для Вас всё ушло, что вам уже всё равно. Мне хочется упасть на колени и кричать, цепляясь за Ваши ноги: “О, нет еще, нет еще, нет еще!” Собственно говоря, высказав это, я это уже сделала, Ада
Я написала бы больше, если бы не перевод для Данько. Проклятое время идет и идет. А впрочем – l’heure est morte – vive l’heure! как пишет Сара Бернар. До четверга. Лис». – Там же. Л. 16-16 об.
…перевод для Данько. – О каком переводе упоминает автор, не известно. Возможно, Данько предложила Аверьяновой перевести какую-нибудь сказку для постановки в детском театре (инсценировки Данько для детей шли на ленинградских сценах – в Кукольном театре и позднее в ТЮЗе) или же для издания (она профессионально занималась детской литературой). Возможно, речь идет о материалах к жизнеописанию Вольтера, над которым Данько работала многие годы, труд остался незавершенным; собранные материалы сохранились в архиве (РО ИРЛИ. Ф. 679. Ед. хр. 12). C’est tres bien avant – mais apres! (фр.) – Это прекрасно до, но после! Сара Бернар (фр. Sarah Bernhardt; 1844-1923, урожд.: Генриетт Розин Бернар – фр. Henriette Rosine Bernard) – французская актриса. … l’heure est morte – vive l’heure! (фр.) – Час умер – да здравствует час! По аналогии: король умер – да здравствует король! В популярных книгах Сары Бернар: Ma double vie: memories de Sarah Bernhardt. Paris: Charpenter et Fasquelle – 1907 (в рус. пер.: Мемуары Сары Бернар, с послесловием Катулла Мендеса. СПб, 1908) и L’art au theatre (Paris, 1923) цитата не выявлена.
«Я помню, девочкой, случайно…». Ноябрь-декабрь 1928. Автограф: ОШ. Л. 16.
Андреев-крест искала я… Андреев крест – 1) вероника колосистая или Андреев-крест – многолетнее растение: цветет в июле – октябре сиреневыми или синими цветами; обладает лекарственными свойствами, применяется при укусах ядовитых змей, пауков, кровотечениях; в народных поверьях – оберег, как полынь и чеснок, растение использовалось для отпугивания нечистой силы: 2) крест, поперечные брусья которого вделаны наискось, название происходит от орудия казни апостола Андрея (Андрея Первозванного); который по преданию был распят. Вероятно, стихотворение написано по случаю именин А. Корсуна – в день памяти св. Апостола Андрея (празднуется 30 ноября) или накануне, по народному поверью, в предшествующий празднику Андреев вечер (или Андрееву ночь) девушкам и юношам является образ суженых.
Дин («Как дней пустые жемчуга…»), 29-30 декабря 1928. Автограф: ОШ. Л. 17.
Сонет-Акростих («Дано мне сердце – сокол меж сердцами…»), 1-2 января 1929. Автограф: ОШ. Л. 20.
Дано мне сердце – сокол меж сердцами… Ср.: «Дано мне тело – что мне делать с ним…» (первая строка стихотворения О. Мандельштама, 1909). Италии твоей шуршит мне пламя… Ср.: «И шуршит сухая печка, – / Это красный шелк горит» (О. Мандельштам. «Что поют часы-кузнечик…», 1917).
Греческая церковь («День раскрывался, как белый подснежник…»), 2 января 1929. Автограф: ОШ. Л. 20.
Греческая церковь Святого великомученика Димитрия Солунского при греческом посольстве на Греческой площади (Лиговский просп., 6) – единственная греческая церковь в Санкт-Петербурге, сооружена в византийском стиле по проекту Р. И. Кузьмина в 1861-1865 гг. на средства предпринимателя Д. И. Бенардаки. Иконостас, иконы, паникадило изготовлены в Греции. Летом 1938 г. храм был закрыт, в 1962 г. уничтожен в связи со строительством на этом места концертного зала «Октябрьский». Матери Божьей я всплачусь Корсунской… Образ Корсунской (или Эфесской) Божьей Матери, по преданию написанный евангелистом Лукой, был принесен в Киев князем Владимиром в 988 г. из Корсуни; еще один образ прислан в 1162 г. греческим императором Мануилом по просьбе Евфросинии Полоцкой.
Сонет-Акростих («Нет, он другой; не выше и не лучше…»), 9 января 1929. Автограф: ОШ. Л. 21.
«Я знаю дом: и я когда-то…», 3 января 1929. Автограф: ОШ. Л. 22.
Я знаю дом: и я когда-то… Вероятно, дом 15 по Таврической улице, в котором в это время жил А. Корсун. И геральдические бредни… В профессиональных кругах А. Корсун был авторитетный генеалог и специалист по геральдике. Возможно, отсылка к Пушкину: «…прозаические бредни, / Фламандской школы пестрый сор!» («Отрывок из путешествия Онегина»).
Развернут Готский альманах… «Готский альманах» – альманах дворянских фамилий Европы; издавался с конца XVIII века; в альманахе публиковались сведения о наиболее знатных родах (даты рождения, свадьбы, смерти и пр.). Исхода нет. Покоя нет… Ср. «Уюта – нет. Покоя – нет» (А. Блок «Земное сердце стынет вновь…», 1911, 1914); «Всё будет так. Исхода нет» («Ночь, улица, фонарь, аптека…», 1912).
Акростих («Ах, в каких видала сновиденьях…»), 3 января 1929. Автограф: ОШ. Л. 21 об.
«О, милая любовь моя…», 4 января 1929. Автограф: ОШ. Л. 23.
О, сердце, полное смятенья!.. Перифраза строк из стихотворения Ф.И. Тютчева «О вещая душа моя…» (1855). Возможно, аллюзия на стихотворение А. Ахматовой «Смятение» – первое в сборнике «Четки» (1914). Как Кая ищущая Герда… Кай и Герда – персонажи сказки Г.-Х. Андерсена «Снежная королева» (1844). Под текстом стихотворения письмо к А. Корсуну: «Адя, Елена Яковлевна <Данько. – М.П> говорит, что в Воскресенье, в час дня, в Домпросвете (Мойка 94, Юсупова) идет ее марионеточный “Медный Кувшин”. Я бы хотела пойти, но, наверное, сговорюсь с ней только завтра. Лид. Ив. собирается прихватить и Тебя.
Ровно в 11 1/2 ч<асов> я поднимусь к телефону, чтобы позвонить Тебе. Если Тебе это неудобно, позвони мне в то время, но очень точно, т. е. воскресным утром в половине двенадцатого.
Лидия Ив. просит переслать Тебе ее стихи – она, бедная, страшно в Тебя влюблена, по-видимому! Но я не ревную. Последние вирши велено отдать как разрешение вчерашнего диссонанса. Путешествующая родинка при сем заключается в опрокинутый шеврон (господи, “перевернутый"). Лис» (<январь 1929>). На обороте рукой Л.И. Аверьяновой: «Адрес автора: Ленинград “22”, ул. Литераторов 19, “Дом Писателей”» (Указ. ед. хр. Л. 22). «Медный кувшин» – инсценировка по одноименной сказке английского писателя Ф. Энсти (настоящее имя: Томас Энсти Гатри; 1856-1934); в 1920-е тт. Е.Я. Данько работала кукловодом в детском театре «Студия» под руководством Л.В. Шапориной; ей принадлежат также инсценировки для кукольного театра: «Пряничный домик», «Сказка про Емелю дурака (По Щучьему велению)», «Жар птица», «Гулливер в стране лилипутов (по Джонатану Свифту)», «Буратино у нас в гостях» или «Сгинь, Карабас».
Акростих («Авиньонское мое плененье..,»), 4 февраля 1929 Автограф: ОШ. Л. 24.
Авиньонское мое плененье… Здесь, вероятно, образ разлуки; Авиньонское плененье пан (вавилонское плененье пап) – вынужденное пребывание римских пап в Авиньоне с 1309-го но 1377 г, туда же был перенесен из Рима папский престол. Нет путей к семи холмам покоя. Рим расположен на семи холмах.
СЕРЕБРЯНАЯ РАКА. Стихи о Петербурге. 1925-1937
Печатается по авторской рукописи, хранящейся в Гуверовском архиве: Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Gleb P. Struve Collection. Box 75. Folder 3. Титульный лист поврежден, на нем прочитывается заглавие: «Стихи о Петербурге. 1925-1937»; на следующем листе «Посвящается Л. Р.». В архиве Струве содержится также машинопись подготовленной им публикации: «А. ЛИСИЦКАЯ. ИЗ КНИГИ „СЕРЕБРЯНАЯ РАКА”. Стихи о Петербурге, (Там же. Box 75. Folder. 5). Полное название книги было известно Г. Струве из письма Аверьяновой к Э. Ло Гатто от 9 декабря 1937 г. (см. Послесловие).
Рукопись «Серебряной Раки» вывезла из СССР весной 1937 г. славистка, проходившая стажировку в Ленинграде, с которой Аверьянова занималась русским языком. Полное имя девушки нам неизвестно, поэтесса звала ее Бетти (Беттинка). Из писем, обращенных к подопечной, явствует, что Бетти (вероятно, сокращенное от Элизабет) была гражданкой Великобритании и что между учительницей и ученицей установились теплые дружеские отношения. 12 ноября 1937 г. Аверьянова писала ей: «Му dear Betty, Thank you so much for your kindest letters, and be sure 1 never forget you and wish you love and happiness all your life through <…>» (перевод: «Моя дорогая Бетти, Большое спасибо за твое самое доброе из всех писем, и будь уверена, я никогда тебя не забываю, и желаю тебе любви и счастья на протяжении всей жизни.<…>» (Box 75. Folder 2). В том же письме она осторожно намекала, каким образом Бетти и ее жених (некто Уилсон) могли бы вновь получить стажировку в Ленинграде (например, в Отделе Рукописей Публичной библиотеки, где работали зарубежные медиевисты).
Четыре письма Аверьяновой к Бетти (от 11 июня, 12 ноября, 9 и 23 декабря 1937 г.; на английском языке), наряду с письмом к Э. Ло Гатто от 9 декабря 1937 г., – единственный источник, позволяющий документировать волю поэтессы относительно названия, композиции и состава книги, а также оценить обстоятельства, при которых книга готовилась к печати.
Решив переправить рукопись за границу, Аверьянова спешила сформировать сборник к отъезду Бетти, чтобы воспользоваться надежной оказией. Рукопись «уехала», а книга всё еще продолжала писаться. 11 июня 1937 г. поэтесса послала Бетти дополнение к «Серебряной Раке» – стихотворение «Дача Бадмаева», лист со стихотворением не пронумерован в составе рукописи и, тем не менее, оказался подложен в нее (как, впрочем, и еще три стихотворения: «Памяти кн. В.Н. Голицына» («На черном, на влажно, на гладком асфальте…»), «Ропша» («Рогожи нив разостланы убого…»), «Приорат» («В милой Гатчине плывут туманы…»)).
Впоследствии были досланы еще пять стихотворений 1937 г., которые Аверьянова просила включить в книгу «Стихов о Петербурге»: «Колокол св. Сампсония» («Он был подобен темной сливе…»), «У костюмерной мастерской…»; «Сонет» («Люблю под шрифтом легшие леса…»); «Превыше всех меня любил…»; «Россия. Нет такого слова…» (Там же. Box 75. Folder 5). В письме к Э. Ло Гатто Аверьянова сообщала: «Сонеты из книги “Пряничный Солдат” лучше приложить в конце книги “Серебряная Рака”, в виде второй ее части. Посылаю Вам дополнения к “Серебряной Раке”» (курсив мой. – М.П.).
Таким образом, первоначально «Серебряная Рака: Стихи о Петербурге» и «Пряничный Солдат» (сонеты записаны в небольшой черной записной книжке) мыслились автором как самостоятельные сборники. В процессе работы замысел изменился, Аверьянова присоединила к «Стихам о Петербурге» в качестве второй части десять сонетов цикла «Пряничный солдат» и просила издать оба сборника под одной обложкой с учетом дополнения. Местоположение пяти дополнительных стихотворений, присланных позднее, не указано. По содержанию их можно было бы распределить следующим образом: «Сонет» («Люблю под шрифтом легшие леса…») присоединить к циклу сонетов «Пряничный Солдат», остальные поместить в конец «Стихов о Петербурге».
Как явствует из письма Аверьяновой к Бетти от 9 декабря 1937 г, она верила в возможность выхода книги и даже надеялась получить корректуру (см. текст письма в Послесловия). При благоприятном стечении обстоятельств и естественном продвижении дел она смогла бы по своему усмотрению расположить досланные стихотворения, но у нее такого шанса не было. Можно предположить, что если бы книга выходила при нормальных обстоятельствах, Аверьянова включила бы в нее и два стихотворения, адресованные А. Корсуну: «Стриж» («В косом полете, прям, отважен…») и «Сонет» («Прекрасны камни Царского Села…»), написанные в 1938 г. уже после отправки сборников Э. Ло Гато. Думается, что по своему внутреннему ритму и содержанию они должны были бы занять место в «Серебряной Раке».
В настоящем издании все дополнения, за исключением «Дачи Бадмаева», печатаются в Приложении.
Следуя сознательному или бессознательному замыслу поэтессы, предложившей читателю в «Стихах о Петербурге» своеобразный путеводитель по городу, мы сочли уместным в отдельных случаях привести в примечаниях к стихотворением сведения об упомянутых архитектурных памятниках и зодчих, оставшиеся как бы в подтексте, но, несомненно, бывшие на памяти у автора – опытного гида.
«Я не позволю – нет, неверно…». 1935. – Звезда 1995. С. 125. Автограф: СР. С. 3.
Ты мудро вызолочен Музой… Михаил Алексеевич Кузмин (1872-1936) посвятил Л.Л. Ракову лирический цикл «Новый Гуль» (Л.: Academia, 1924) и др. произведения. Так доживает век, один… В житейском смысле в 1930-е гг. Кузмии не был один; здесь один, вероятно: без «собеседников» – без А. Блока. Вяч. Иванова, К. Сомова и др., или же, что представляется более убедительным в контексте второй строфы: без любви. См., например, в «Дневнике 1934 года» жалобу поэта на одиночество в записи от 16 мая (среди упомянутых лиц – Аверьянова): Кузмин М. Дневник 1934 года / Сост., подготовка текста, вступ. статья и коммент. Г.А. Морева. СПб., 1998. С. 33 (запись: «Новые знакомые Юр.»). В круг Кузмина Аверьянова вошла, по-видимому, в 1929 г.; см автограф: «Многоуважаемой Лидии Ивановне Аверьяновой в благодарность за милое внимание и привет. М. Кузмин. 1929. Август» (цит. по: Чертков Л. И. Моя библиотека – мой домашний музей // Библиофильство и личные собрания. М.: Пашков дом, 2011. С. 414-415).
I
«Других стихов достоин Ты…», 1935. – Звезда2004. С. 9. Автографы: 1) СР. С. 5; 2) Ф. 355. Ед. хр. 1. Л. 1; посвящение: Л. Ракову. Вар. ст. 2: «Развязан встречи – первой пояс», ст. 9: «И я но снова о Тебе»; ст. 11: «Так выстрел с крепости, в обед»; 3) Раков. Л. 3 об.; посвящение: Л. Ракову. Вар. ст. 2,9, 11 – как в автографе 2.
Так выстрел Крепости, в обед… Ежедневный полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской Крепости. Как та Каренина под поезд… Главная героиня романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» (1877). И поле Марсово на щит /Отцветший свой меня приемлет. Вероятно, здесь метафорически, в значении: побежденная (от выражения: «со щитом или на щите»).
«Дворец был Мраморным – и впору…», 1935. – Звезда 2004. С. 97 (без эпиграфа). Автографы: 1) СР. С. 6; 2) Ф. 355. Ед. хр. 1. Д. 1; посвящение: Л. Р<акову>; эпиграф: «…et nunc horrentia Martis / Arma virumque cano… AEn. I, 4-5» – Энеида Вергилия, книга 1, строки 1-4: «Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои…» (перевод С. Ошерова); с графич. вар.; 3) Раков. Л. 3 (рукопись); л. 6 (машинопись); посвящение – как в автографе 2, без эпиграфа; 4) «Нева была во всем разгоне…»: Ф. 355. Ед. хр. 104.
Л. 3 (неавторизованная машинопись), без строфы 1, датировка: конец <19>20-х гг.; под датировкой вписано карандашом рукой Л. Аверьяновой: «1935 г.». Там же список карандашом, под ним: «Записано по памяти Еленой Николаевной Морсо 15 июня 1955 г. Ленинград» (л. 2); без посвящения и без эпиграфа. А
Дворец был Мраморным – и впору… / Событью… Возможно, намек на чувства, переживаемые автором: Мраморный дворец был построен по заказу Екатерины II для фаворита графа Г. Г. (в 1768-1785 гг., по проекту А. Ринальди). В XIX-XX вв. – родовой
дом Великих князей династии Романовых из ветви Константиновичей; в 1919-1936 гг. в здании находилась Российская Академия истории материальной культуры, с 1931 г. Л.Л. Раков состоял старшим научным сотрудником Академии.
Судьбой командовал Суворов… – … на ладони / Большого поля своего. – …у дома Салтыкова… Мраморный дворец входит в ансамбль площади Суворова с памятником А.В. Суворову в центре, изображенному в виде бога войны Марса (1801, по проекту М.И. Козловского и А Н. Воронихина; в 1818 по предложению К. России перенесен с берега Мойки в центр площади); площадь граничит с Марсовым полем и домом Салтыкова (Дворцовая набережная 4) – построен по проекту Дж. Кваренги в 1784—1788 гг., в 1818-м частично перестроен К. Росси; в конце 1820-х гг. в доме жил австрийский посланник граф Фикельмон, в салоне его жены Д.Ф. Фикельмон и её матери Е.М. Хитрово бывал А.С. Пушкин. Оставив мирные затеи, /Любовь ведет со мной войну… Ср.: «И милой резвости любовные затеи…» (М. Кузмин. «Зачем луна, поднявшись, розовеет…» – из цикла «Любовь этого лета», 1907).
«За то, что не порвать с Невой…», 1935. Автограф: СР. С. 7.
Ты городом мне выдан весь /На ямб… Имя и фамилия адресата хорошо укладывается в двустопный ямб: Лев Львович Раков. На вид: как эта крепость – шведам… Петропавловская Крепость заложена Петром 1 в 1703 г., построена по его плану архитектором Д. Трезини (см. примеч. к ст-нию «Петропавловская крепость»). Крепость возвышается над всей акваторией Невы: высота шпиля Петропавловского собора (1733), увенчанного флюгером в виде летящего ангела: 122,5 м. Перифрастический образ, ср.: «Он обращал на себя внимание уже своей внешностью. Великолепный рост и осанка, стройная фигура, исполненное ума, породистое лицо, ясный взгляд делали его облик идеальным воплощением благородства и мужественности. Надо ли говорить, что такой тип мужской красоты был неотразим для женских сердец?» (Ракова А.Л. С. 10). Любой Невы доступно дно / И я не стану бесприютней. Возможно, намек на гибель Ан.Н. Чеботаревской – жены Ф. Сологуба: в сентябре 1921 г. в состоянии душевного расстройства она бросилась в речку Ждановку с дамбы Тучкова моста. Согласно одной из версий (ее поддерживала Ахматова), Чеботаревская покончила с собой из-за неразделенной любви (см.: Воспоминания Т.Н. Черносвитовой о смерти А.Н. Чеботаревской-Сологуб, записанные Л.Н. Щуко / Публ. М. М. Павловой // Momente Vivere. Сборник памяти Л.Н. Ивановой. СПб., 2009. С. 489-496).
«Фельтен для Тебя построил зданье…», 1935 – Грани 18. С. 36; Звезда 2004. С. 97. Автографы: 1) СР. С. 8; 2) Ф. 355. Ед. хр. 1. Л. 2 об.; посвящение: «Л<ьву> Р<акову>»; графич. вар.
Фельтен для Тебя построил зданье… Архитектор Юрий Матвеевич Фельтен (Георг Фридрих) (Georg Friedrich Veldten; 1730-1801) состоял помощником при Ф.-Б. Растрелли по сооружению Зимнего дворца; пользовался расположением Екатерины И, которая поручала ему многие строительные работы. Здесь имеется в виду флигель Эрмитажа (Большой Эрмитаж), выходящий фасадом на Неву, на Дворцовую набережную; здание построено по проекту Фельтена в 1771-1787 гг., по заказу Екатерины II, для размещения музейных коллекций и библиотеки (Нам воздвигшей первый Эрмитаж). Его назвали «Старый Эрмитаж», однако из-за существования Малого Эрмитажа, который был построен раньше, это название не прижилось.
«Расставаться с тобой я учусь…», 1935 – Мосты. С. 125; Звезда 1995. С. 128. Автограф: СР. С. 9.
Летний Сад («Младшим – стройное наследство…»), 1935 – НЖ. С. 130; Звезда – 1995. С. 127; Звезда 2004. С. 99. Автографы: 1) СР. С. 10; 2) Ф. 355. Ед. хр. 1. Л. 2; посвящение Л. Ракову; графич. вар.
… мраморное вече… – Мраморные скульптуры античных богов, богинь, стихий, аллегорий и т.п. (всего – 92), украшающие Летний Сад (большая часть статуй и бюстов была выполнена итальянским мастерами в начале XVIII в.). Так тебя украсил зодчий, / Тот, что строил Эрмитаж… Имеется в виду решетка Летнего Сада (1771-1784), установленная со стороны Невы по проекту Ю.М. Фельтена.
«Как Гумилев – на львиную охоту…», 1935 – Мосты. С. 131; Звезда 1995. С. 127. Автографы: 1) СР. С. 11; 2) Ф. 355. Ед. хр. 1. Л. 2 об.; посвящение: «Л<ьву> Р<акову>».
Как Гумилев – на львиную охоту… здесь перифрастически, на поиски Льва Ракова. Н.С. Гумилев многократно путешествовал по Африке: в Египет (1908), французский Сомали (1909-1910), восточную Абиссинию (1910-1911 гг. и в 1913 г. в составе экспедиции Музея антропологии и этнографии Академии наук). В 1916 г в «Ежемесячных литературных приложениях к журналу “Нива”» опубликовал отрывок из путевого дневника – «Африканская охота» (№ 8); львиная охота — общее место (типичный Тартарен из Тараскона), многократно обыгрывалась современниками, см., например, эпиграмму «Охота славная на Львов…» (Пяст Вл. Встречи / Вступ. статья, подгот. текста и коммент. Р. Гименчика М.: Новое лит. обозрение, 1997. С. 190) или «Балладу о Гумилеве» (1923) И. Одоевцевой: «В Африке жил Гумилев. / Сражался он с дикарями, / Охотился на львов» и т.п. …и розовый гранитный ларь… Порфировая ваза (другое название – Эльфдаленская ваза), установленная в 1839 г. в Летнем Саду, при входе со стороны набережной реки Мойки на берегу Карпиева пруда; подарок императору Николаю I от шведского короля Карла XIV в знак доброй воли после многочисленных войн между Россией и Швецией. И там, где лег большой пустыней Зимний, / Скитаюсь, петербургская Агарь… Агарь – египтянка-рабыня, служанка Сары, во время ее бездетности ставшая наложницей Авраама и родившая ему сына Измаила; по настоянию Сары, вместе с сыном изгнана из дома Авраама (Быт 21:1-21). Сюжет широко отразился в живописи европейских и русских мастеров; в Эрмитажной коллекции (Зимний дворец) представлен полотнами П.П. Рубенса («Уход Агари из дома Авраама»), Г. де Лepecca («Агарь в пустыне»), А. ван дер Верфа («Сарра вводит Агарь к Аврааму»),
«Когда все проиграно, даже Твой…», 1931 – Грани 14. С. 96; Звезда 1995. С. 129. Автограф: СР. С. 12.
Эдипу двух равных Сфинксов… Эдип (греч. миф.)– сын фиванского царя Лая и Иокасты, по предсказанию дельфийского оракула, убил отца, разгадал загадку Сфинкса и освободил Фивы от чудовища, пожиравшего путников, женился на матери; узнав истину, ослепил себя. Вероятно, в ст-нии речь идет о сфинксах, установленных (1834) на Университетской набережной перед зданием Академии художеств; привезены в 1832 г. из Египта, где стояли у входа в храм, сооруженный около Фив для фараона Аменхотепа III. Ср.: «Остановись, премудрый, как Эдип, / Пред Сфинксом с древнею загадкой!» (А. Блок. «Скифы», 1918). Недвижная Антигона… Антигона (греч. миф.) – дочь Эдипа и Иокасты; последовала за старым и слепым отцом в изгнание – в Колон и оставалась с ним там до его смерти.
II
Биржа («Здесь зодчая рука Томона…»), 1925 Грани 14. С 97; Звезда 1995. С. 128. Автограф: СР. С. 14.
Здесь зодчая рука Талона… Жан Франсуа Тома де Томом (1760-1813) французский архитектор (в России с 1791г), автор ряда классических построек Петербурга, среди которых Биржа (1805-1810). Здание возведено по образцу храма в Пестуме с двойным рядом коринфских колони (всего 44), поставлено на широкое гранитное основание, фронтон фасада украшен скульптурами работы В. И. Демут-Малиновского. И на широкие ступени… Цитата из стихотворения Ф.И. Тютчева «Осенней позднею порою…» (1858), ср.: «И на широкие ступени / Екатерининских дворцов». Во можно, отклик на ст-ние Б. Лившица «Биржа» («Здесь логосом и паевою пылью…»), 1915 из сборника «Из топи блат» (из книги «Болотная медуза»). Это единственное в «Серебряной Раке» стихотворение, отмеченное ранней датировкой; в письме Аверьяновой от 9 мая 1926 г. Вл Смиренский восклицал: «Для чего ты в десятый раз печатаешь “Спасские часы”? Дала бы хоть “Биржу”» (Ф. 355. Ед. хр. 54. Л. 31). Стихотворение било подарено Вл. Смиренскому, в ответ он послал Аверьяновой «Казанову» («Тысяча любовниц целовала…»), с припиской «Лидке Аверьяновой взамен “Биржи” – стихи о Казанове дарю В. Смиренский. 1925. Зима» (Ф. 355. Ед. хр. 91. Л. 9).
«Владимирский собор чудесно княжит…», 1934 НЖ. С. 133. Автограф СР. С 15.
Владимирский собор чудесно княжит / Над садом над Невою, надо мной… Князь-Владимирский собор, освящен в честь святого равноапостольного князя Владимира, построен по проекту Д. Ринальди (1773), перестроен после пожара И. В. Отаровым (1783). Купола пятиглавого собора хорошо видим с набережных и мостов Васильевского острова, своим садом собор примыкает к началу Большою проспекта Петроградской стороны. См. примеч. к ст-нию «Князь-Владимирский собор».
«На Марсовом широковейном поле…», 1931 – Мосты. С. 126. Автограф: СР. С. 16.
С горбатого, сурового моста… Прачечный мост через Фонтанку у Летнего сада, построен в 1766-1769 гг. под руководством Тимофея Насонова.
«Так. Желтизна блестит в листве…», 1928. Автограф: СР. С 17.
Мечеть в постылой синеве / Простерла каменные руки… Мусульманский храм на углу Кронверкского проспекта и Конного переулка (на Петроградской стороне), хорошо виден с левого берега Невы (высота главного купола: 39 м, высота минаретов: 48 м); мечеть построена в 1909-1920 гг. по проекту архитектора Н.В. Васильева (при участии С.С. Кричинского и А.И. фон Гогена) в стилистике самаркандской и каирской архитектурных школ. В 1927-1930 гг. храм не функционировал. Перекликается с первым ст-нием диптиха П. Лукницкого «Голубой мечети» (1922, 1926) – «Построена не в апельсинной роще…», ср.: «Нет… Над болотом, скованным цепями / Тяжеловесных, каменных громад, / Стоит одна, опутана снегами, / Пронизывающими Ленинграде».
«Лает радио на углу…», 1928. Автограф: СР. С. 18.
…и город спит… мы пройдем / На зеленый глазок моста. То есть после того, как ранним утром мост сведут и он, отразившись в воде, напомнит конфигурацией глаз.
Князь-Владимирский Собор, 1930.
1. «Среди берез зеленокудрых…» – НЖ. С. 131. Автограф: СР. С. 19.
См. примеч. к стихотворению «Владимирский собор чудесно княжит…».
Трезини был он начат мудро, / Ринальди славно завершен…
«Князь-Владимирский собор был сооружен в 1789 г. на месте Успенского на Мокруше, начатого П. Трезини и сгоревшего в 1772 году» (Курбатм В. С. 114). В.Я. Курбатов приписывал строительство собора сыну Д. Трезини («Пиетро-Антонио Трезини (род. в 1710 году), сын Д. Трешки и крестник Петра Великого, гораздо талантливее и смелее своею отца Доменико и дяди Джузеппе и, вероятно, помогал первому при сооружении Александро-Невской лавры. <…> Самым замечательным сооружением П. Трезини был бы, вероятно, Успенский собор на Мокруше, т. е. нынешний Князь-Владимирский. Он был проектирован в подражание Успенскому Московскому собору, но, к сожалению, сгорел, а модель его не сохранилась». (Курбатов. С. 21). По другим сведениям, архитектором Успенского собора был земляк и однофамилец династии зодчих: Доменико Трезини, его брата Джузеппе и сына Петра. Пьетро Антонио Трезини (Trezztni, Пётр Трезин) (1692 – после 1760) – архитектор, выходец из итальянской Швейцарии; учился в Милане, в Петербурге с 1726 г.; работал самостоятельно и вместе с Д. Трезини и М.Г. Земцовым; с 1735 г. занимался реконструкцией Исаакиевского собора, здания Почтового двора, достройкой таможни и Придворных конюшен. В 1740-1747 гг. возводил Успенскую церковь Князь-Владимирского собора. Антонио Ринальди (Antonio Rinaldi, ок. 1709-1794) – итальянский архитектор, в Петербурге – с 1751 г., в 1756-1790 гг. придворный архитектор. Основные постройки: в Ораниенбауме (ныне город Ломоносов) дворец Петра III (1758 –1762), Китайский дворец (1762-1768), павильон «Катальная горка» (1762-1774): дворец в Гатчине (1766-1781, позднее перестроен); в Санкт-Петербурге: Мраморный дворец (1768-1785), Князь-Владимирский собор, Католический храм св. Екатерины (1762-1783), Тучков буян (склады пеньки на набережной Малой Невы – Большой проспект Петроградской стороны, 1-а; 1763-1772) и др.
Князь-Владимирский собор был заложен рядом с деревянным Успенским в 1740 г. по указу императрицы Анны Иоанновны, первоначально – одноглавый каменный храм (архитекторы М.Г. Земцов и П. Трезини); в 1765 г. А. Ринальди разработал проект пятиглавого собора с трёхъярусной колокольней. Перестройка храма велась в 1766-1773 гг., в 1772 г. Успенский собор сгорел, пожар повредил и недостроенный каменный. Строительство собора возобновилось в 1783 г. поя руководством И.Е. Старова.
О, в тысячу парфянских стрел!.. Крылатое выражение, означает: неожиданный и неотразимый выпад хитрого противника, возникло после того, как римляне в одном из походов на Восток были наголову разбиты парфянами – кочевниками, жителями Передней Азии. Ср.: «…купола, хотя и крупны по размерам, но легче, чем у Растрелли и П. Трезини. Хотя боковые столпообразны, но размеры их вполне согласованы со средним так, что вся группа на редкость цельна. Еще удивительнее, с нею слита стройная колокольня, на резкость простая и изящная но форме. Вообще, эта церковь является лучшим противоположением эффекту Смольного, не уступая ему в изяществе (Курбатов. С. 114).
«Никогда мне Тебя не найти…», 1930 – НЖ. С. 130: Звезда 1995. С. 127. Автограф: СР. Л. 20.
Против дома, где жил Сологуб… В 1921-1927 гг. Ф. Сологуб жил на углу Ждановской набережной и Малого проспекта; дом – № 3/1; в 1925-1927 гг. Аверьянова бывала у Сологуба, см. Приложение 1: Л.И. Аверьянова-Дидерихс. Запись о «вторнике» «неоклассиков» 16 ноября 1926 года. По-видимому, имеется в виду дом № 3 по переулку Талалихина (в 1905-1952 гг. – Успенский пер.). Дом построен в 1913 г. в стиле неоклассики, архитектор – В. В. Шауб ( 1861-1934): серый, шестиэтажный (ср.: В сером доме, где, в шесть этажей), хорошо виден из садика при соборе и с проспекта Добролюбова, по которому ходили трамваи (ср.: Припадаю, в трамвае, к стеклу) на Малый проспект Петроградской стороны (мимо «жома, где жид Сологуб») или в сторону Тучкова моста на Васильевский остров. Кто из знакомых Аверьяновой жил в этом доме, установить не удалось.
«Город воздуха, город туманов…», 1931 – Грани 14. С. 93; Звезда 1995. С. 129. Автограф: СР. Л. 20.
«…И ты, между крыльев заката…», 1929 – Грани 14. С. 93 (без первой строфы); Мосты. С. 127. Автограф: СР. Л. 21.
Проходишь под аркой Сената… Триумфальная арка над Галерной улицей, соединяющая Здание Сената и Синода (построено в 1829-1834 гг. по проекту К. Росси). Родной и высокий, как ты… Здесь: А. И. Корсун.
На Охтенском мосту («Чешуйчатые башни…»), 1933 – Мосты. С. 132; Звезда 1995. С. 128. Автографы: 1) СР. С. 23; 2) Раков. Л. 5 об. (рукопись); Л. 17 (машинопись) – идентичны, заглавие: Охтенский мост.
Охтенский (первоначально: Мост Петра Великого, с 1917 г. – Большеохтенский, с 1954 г. – Большеохтинский, с 1991 г. – Мост Петра Великого) – мост через Неву, соединяющий центр города с Малой Охтой, построен в 1909-1911 гг. по проекту Г.Г. Кривошеина и В.П. Апышкова.
Чешуйчатые башни / На Охтенском мосту… В чешуйчатых башнях, выполненных в виде маяков, находятся механизмы, управляющие разведением моста, на башнях установлены четырехгранные фонари, снаружи к башням пристроены полукруглые полубашенки с остроконечными полукуполами.
Михайловский замок («В гранитном, северном цветке…»), 1928. – Грани 18. С. 37. Автограф: СР. С. 24.
Михайловский или Инженерный замок построен в 1797-1800 гг. итальянским архитектором Викентием (Винченцо) Францевичем Бренной (Brenna; 1745-1820), в стиле классицизма. Фасад, обращенный в сторону Летнего сада, украшен террасой-балконом, опирающейся на колоннаду из бледно-розового олонецкого мрамора (ср.: И вдоль дорических колонн —/ Их ровно десять вывел Бренна). Замок назван в честь архангела Михаила, которого Павел I считал своим небесным покровителем; с 1800 г. – резиденция императорской семьи, после убийства Павла I (убит в замке заговорщиками в ночь с 11/23 на 12/24 марта 1801 г.) был заброшен (ср.: Неправда ль, Павел, ты любил / Свою кирпичную могилу?); в 1819 г. в замке разместилось Инженерное училище, в 1920—1930-х гг.– Военно-инженерная школа, Военно-инженерный исторический музей РККА, Военно-техническая академия. Горячий хлеб и новый быт / Несут с собой красноармейцы, Реминисценция: «Восходит солнце над Москвой, / Старухи бегают с тоской: / Куда, куда идти теперь? / Уж Новый Быт стучится в дверь!» (Н. Заболоцкий. «Новый быт», 1927). Ю.К. Терапиано в письме к Г.П. Струве от 21 января 1955 г. (см. Послесловие) указал на связь со ст-нием Н. Агнивцева «Павел I» («Смерть с Безумьем устроили складчину!..»), около 1920, ср.: Безумьем созданное зданье. Устойчивый мотивов в отечественной историографии; см., например, труд вел. кн. Николая Михаиловича «Император Александр I. Опыт исторического исследования». (Т. 1. СПб., 1912), где он называет императора Павла: «несчастный безумец», «душевно расстроенный венценосец» (с. 6) и т.п.
В тексте заметно влияние «Петербурга» А. Белого (1914, 1922), ср.: «Страшное место увенчивал великолепный дворец; вверх протянутой башнею напоминал он причудливый замок: розово-красный, тяжелокаменный; венценосец проживал в стенах тех; но теперь это было; венценосца уже нет» и тд. (глава «Гадина»).
Адмиралтейство. Автограф: СР. С. 25-26.
1. «Вянет солнца нежная солома…», 1928 – Грани 14. С. 94; Звезда 1995. С. 128.
Мимо львов Лобановского дома… Дом Лобанова-Ростовского на Адмиралтейском проспекте (д. 12), возведен А.А. Монферраном в 1817-1820 гг.; главный фасад, обращенный к Адмиралтейству, украшен 8-колонным портиком и фигурами мраморных львов, изготовленными в Италии (мастерская П. Трискорни, упомянуты в поэме А. С. Пушкина «Медный всадник»). В рыхлый камень пеленал Захаров… Андреян (Адриан) Дмитриевич Захаров (1761-1811) – один из основоположников русского ампира; по его проекту возведен комплекс зданий Адмиралтейства (1806-1823). Центром здания (длина главного фасада 406 м, боковых – 163 м, ср.: Этот узкий, длительный фасад) является монументальная башня со шпилем (высота: 72 м), на которой расположен кораблик, ставший символом города (кораблик несёт старый шпиль Адмиралтейства, созданный архитектором И.К. Коробовым). Рыхлый камень – термин: путиловская плита, камень известняковой породы, который использовали при облицовке цокольных частей зданий (назван по месту разработки: известняк добывали у поселка Путилово, в 9 км к Северо-западу от ст. Назия). Из «рыхлого камня» изготавливали также декоративные детали фасадов и внутренних помещений: разглядывая камень, в нем можно увидеть останки живых существ, обитавших в море сотни миллионов лет назад (в памятниках архитектуры встречаются различные окаменелости – головоногие моллюски, трилобиты и пр.). Мне своих не переставить ларов… Лары (лат. lares) – у древних римлян – божества, покровительствующие дому, семье и общине в целом.
II. «В ромашках свод, тенист и узок…», 1933 – Грани 18. С. 36; Звезда 1995. С. 127.
В ромашках свод, тенист и узок… Внутренний свод арки Адмиралтейства (под центральной башней) скульптурно декорирован «ромашками». Над запыленным гравием крыш… так в оригинале; согласно ритмическому рисунку напрашивается. «Над запыленным гравьем крыш». В зеленых водорослях сада… Александровский сад был разбит в 1872-1874 гг., в центре был устроен фонтан по проекту архитектора Н.Л. Бенуа и А.Р. Гешвенда (1876-1877), ср.: «Адмиралтейство пострадало <…> когда на месте прежних рвов был проведен бульвар (его устраивал Л. Русска). Ряды деревьев своею однообразною линией закрыли великолепную постройку, да и сам бульвар, не служа к украшению города, не сделался местом для прогулок» (Курбатов. С. 316). Ты рейнским золотом горишь… «Золото Рейна» (1854) – опера Рихарда Вагнера, пролог («предвечерье») цикла «Кольцо Нибелунга», золото Рейна – символ власти. Лепными щупальцами схватит Меня адмиралтейский спрут. «Щупальца» – боковые флигеля (значительно ниже центральной башни и продолжительные по длине); по краям здания они завершаются двумя выступами с колоннадами, перекрытыми фронтонами. «Эффекты трех колоннад тут сгущены и доведены до известной пышности, что вместе с довольно свободной декорацией капителей и густыми скульптурными панно между крайними колоннами заставляет вспомнить об эффектах барокко. <…> окна сильно расставлены и украшены своеобразными наличниками со скульптурами изумительной красоты. Входные двери, обрамленные строгими гранитными рамками с головами медуз» (Курбатов. С. 313–314). Основной лепной декор Адмиралтейства, выполненный по рисункам Захарова, сосредоточен в центральной части здания: две скульптурные группы нимф, поддерживающих земные сферы, по сторонам главных ворот, над ними – скульптуры греческих героев на крыше нижнего яруса башни (Александра Македонского, Пирра, Ахилла, Аякса); на парапете второго яруса башни – двадцать восемь фигур, олицетворяющих времена года, ветры, стихии и др. (скульпторы: Ф.Ф. Щедрин, И. И. Теребенев, С. С. Пименов, В. И. Демут-Малиновский, А. А. Анисимов).
Адмиралтейство («Маргаритками цветет Империя…»), 1933 – Грани 18. С. 37. Автографы: 1) СР. С. 27; 2) Раков: Л. 2, посвящение: В.П.; вар. ст. 8: «Прямая линия Твоя», ст. 10-11: «Пленил навеки Твой чугун: / Высокий строй Твоей решетки», ст. 14: «И меньше всех, быть может, Ты».
Всеволод Николаевич Петров (1912 1978) – искусствовед (в частности, специалист и автор работ по истории русской скульптуры эпохи классицизма); входил в окружение М. Кузмина и А. Ахматовой (см.: Петров Всеволод. Фонтанный дом / Воспоминания об Анне Ахматовой. М.: Советский писатель, 1991 (сост. В. Я. Виленкин и В.А. Черных; ком. А.В. Кнут и К.М. Поливанов); Калиостро: Воспоминания и размышления о Михаиле Кузмине / Публ. Г. Шмакова // Новый журнал. 1986. Кн. 163; в сокращении: Панорама искусств. М., 1980. Вып. 3). В архиве Аверьяновой сохранились автографы двух адресованных ей стихотворений В. Петрова, первое – ответ на посвященное ему «Адмиралтейство» (Ф. 355. Ед. хр.82):
Лидии Аверьяновой
Ты говоришь – Адмиралтейство, звон,
Колокола, и лебеди на льдинах,
И музыка, блаженная как сон –
– Летейский сон – о вечных райских кринах.
А мне не хватит полоса, и мне
Не вспомнить слов и не найти созвучий.
Беспамятство! И, кажется, тесней
Сжимаются круги, и ропот мучит.
Слова, как дым пастушьего костра,
Расходятся, лишь немоты взыскуя.
Беспамятная, грозная пора!
И нам не счесть ни звезд, ни поцелуев.
18-19 мая 1933
Лидии Аверьяновой
Не римские серебряные реки,
Не каменные кони Ассирии,
Не корабли, не всадники, не песни.
И мне не снится пленная Изида,
Египетское волхвованье речи,
Священный шум песчаного прилива.
Простая музыка меня тревожит.
Земное время сковывает тело
Глухих обид неодолимым грузом.
И снова пробую свое дыханье,
Свой медленный и приглушенный голос –
«Не корабли, не всадники, не песни…»
И странная но мне приходит радость,
Я забываю время и обиды,
Я узкое лицо твое целую.
29 апреля 1933 г.
Шкуркой – лисьей или горностаевой… Ср.: «Высоко в небе облачко серело, / Как беличья распластанная шкурка» (А. Ахматова. «Высоко в небе облачко серело…», 1911).
Фельтен («С глухой конюшни крик истошный…»), 1933 – Возрождение (Париж). 1949. № 1. С. 95-96. Автографы: 1) СР. С. 28; 2) Раков: Л. 5 (рукопись) и Л. 20 (машинопись) – идентичны; графич. вар.; вар. ст. 8: «Прямая линия Твоя», ст. 10-11: «Пленил навеки Твой чугун: / Высокий строй Твоей решетки», ст. 14: «И меньше всех, быть может, Ты».
См. примеч. к ст-ниям «Фельтен для тебя построил зданье…», «Летний сад».
Но, в полукругах ломках линий / В крутых извивах… – Прямая линия твоя… Ряд зданий вдоль южной границы Дворцовой площади, возведенных по проекту Ю.М Фельтена в 1770-1780 гг., их расположение послужило прообразом формы здания Главного Штаба (архитектор К. Росси). Но церковь… – … Она лепною теоремой. / Голубкой стынет на снегу… По проекту Фельтена в Санкт-Петербурге были сооружены несколько церквей: лютеранские церкви Святой Анны (на Кирочной ул.), армянская церковь Святой Екатерины на Невском проспекте, Иоанновская церковь на Каменном острове (в стиле псевдоготики). Ср.: «Ничего, голубка, Эвридика, / Что у нас студеная зима», «И живая ласточка упала / На горячие снега» (О. Мандельштам. «Чуть мерцает призрачная сцена…», 1920).
Три решетки («Черным кружевом врезана в пепел…»), 1933 – НЖ. С. 132. Автограф: СР. С. 29.
Та решетка – великолепье / Похорон или палачей… Речь идет о решетке Казанского собора (установлена в 1811 г.), выполнена по проекту архитектора собора Андрея Никифоровича Воронихина (1759-1814). Решетка задумана как неотъемлемая часть общей композиции Казанского собора, который. По окончательному замыслу зодчего, должен был обладать второй колоннадой с южной стороны, противоположной Невскому проспекту; решетка, установленная перед западным входом в собор, должна был, изгибаясь полукругом, упираться в два больших гранитных пьедестала с гигантскими статуями апостолов, однако пьедесталы по краям решетки не были возведены, что лишило ее законченности и органической связи с собором. В. Я. Курбатов возмущался варварским отношением к замыслу зодчего: «Против западного портика полукруглая площадка, заполненная убогим сквериком с чахлыми липами, плохенькими деревянными и каменными лавочками, закрывающими решетку <…>. Низ ее забит железными листами, а сзади видны жалкие лачуги, облепившие это произведение, не имеющее равных в истории европейских) искусства» (Курбатов. С. 181, 182-183). И другая…~ …Где ущербным мрамором статуй / Населен поредевший сад… Решетка Летнего Сада, поставлена вдоль набережной Невы в 1770-1784 гг. Задача Фельтена заключалась в том, чтобы создать садовую ограду, сквозь которую были бы хорошо видны невская панорама, зелень самого парка, его аллеи и украшающие их статуи. См. примеч. к стихотворению «Летний Сад». О, защитный растреллиев цвет… Речь идет о колере стен Зимнего дворца (построен в 1754-1762 гг. по проекту Франческо Бартоломео Растрелли, 1700-1771). Согласно архивным документам, при Растрелли стены дворца выкрасили «песчаной краскою с самой тонной прожелтью»; при Екатерине II их перекрасили в оливково-серый цвет; при Павле I восстановили первоначальный; в XIX в. дворец еще несколько раз менял окраску; в 1901 г. его перекрасили в темно-красный цвет (к тому времени сад дворца обнесли решеткой на полированном цоколе из темно-красного камня, чтобы весь ансамбль смотрелся как единое целое, перекрасили и Зимний Дворец). В советское время при первом ремонте фасадов в 1927 г. получили серовато-зеленый тон; в 1930 г, коричнево-серый; в 1934 г. – оранжевый; колорит здания оказался неудачным, от него отказались и снова попробовали новые оттенки – оливковый и светло-голубой. Отдал Зимний свой царственный пояс / Парку лучших советских лет… Узорчатая кованая решетка в стиле модерн (1901), оградившая сад возле Зимнего дворца со стороны Адмиралтейства (разбит в 1886 г.), изготовлена по проекту архитектора Р.-Ф. Мельцера (на Всемирной парижской выставке 1900 г. была удостоена Большой премии); по его чертежам были также сделаны кованые решетки для въездных арок и пандусов подъездов дворца. В 1920 г. решетка была снесена и свалена на набережной Невы у дворца, где пролежала около четырех лет. Отдельные уцелевшие звенья решетки вошли в ограду Парка имени 9 января на проспекте Стачек (заложен 1 января 1920 г во время первого Всесоюзного коммунистического субботника, первоначально парку было присвоено имя – «Сад в память жертв расстрела 9 января 1905 года»). При установке решетки (1924) из звеньев ограды вынули двуглавых орлов и царские вензеля (в настоящее время они восстановлены). Так росли мы сквозь годы глухие… Ср.: «Рожденные в года глухие» (первая строка из одноименного стихотворения А. Блока, 1914); «Восходишь ты в глухие годы – / О солнце, судия, народ» (О. Мандельштам. «Сумерки свободы», 1918).
Смольный: I. «Утро. Ветер. Воздух вольный…», 1933 – Мосты. С. 128. Автограф: СР. С. 30.
Вместе с замыслом Растрелли… Смольный Воскресения Христова собор (Смольный собор), входящий в состав архитектурного ансамбля Смольного монастыря (1748-1769), построен по проекту Ф.-Б. Растрелли в стиле пышного елизаветинского барокко, достроен архитектором В.П. Стасовым (1835). Растрелли планировал построить однокупольный собор по образцу европейских храмов, но императрица настояла на православном пятикупольном. Собор воздвигли пятиглавый, но только центральный купол относится непосредственно к храму, остальные четыре – колокольни. Центральный купол расположен на барабане и по размерам значительно больше остальных, он имеет шлемовидную форму, его венчает расположенная на фонаре луковичная главка большого размера. Четыре колокольни состоят из двух ярусов, во втором ярусе располагается звонница, каждую из колоколен венчает маленький луковичный купол (Словно маленькие пальцы / Боковые купала…), ср.: Курбатов. С. 80-82.
У Китайской лечь стены… Возможно, аллюзия на ст–ние Н. Клюева «Есть в Ленине керженский дух…», 1918 (из цикла «Ленин»), ср.: «Есть в Смольном потемки трущоб / И привкус хвои с костяникой, / Там нищий колодовый гроб / С останками Руси великой… ~ …О чем же тоскует народ / В напевах татарско-унылых?» Из-под палок Николая /Госпиталь кровавый встал…/ И Кропоткин, убегая… Николаевский военно-сухопутный госпиталь (Суворовский проспект, 63) – первое военно-медицинское учреждение в России, основан в 1835 г. по указу Николая I, открылся в 1840; архитектор – А.Е. Штауберт. В 1865 г. Александр II переименовал учреждение в Николаевский военный госпиталь.
В 1872 г. по распоряжению Военного Министра было построено двухэтажное здание – арестантское отделение для политзаключенных (сюда переводили из Петропавловской крепости и Шлиссельбурга арестантов, нуждавшихся в медицинской помощи). Из Николаевского военного госпиталя в 1876 г. бежал Пётр Алексеевич Кропоткин (1842-1921), переведенный по болезни из крепости; побег (единственный за всю историю арестантского отделения госпиталя) описан П. А. Кропоткиным в его «Записках революционера». Книга не раз переиздавалась в 1920-1930-е гг., наиболее авторитетное издание, вероятно, имелось у Аверьяновой: Кропоткин П.А. Записки революционера / Подгот. текста к печати и прим. Н.К. Лебедева. Предисл. П.П. Парадизова. М.-Л.: Academia, 1933 (Серия: Русские мемуары, дневники, письма и материалы).
«Когда на выспренные стены..», 1929. Грани 14. С. 96; Звезда 1995. С. 129. Автографы: 1) СР. С. 31; 2) Раков Л. 8 (рукопись); Л. 16 (машинопись) – идентичны; под текстом: 1930 (в состоянии послеродового психоза).
Пускай витийствующий Горький / О братстве вычурно кричит… Отклик на очерк М. Горького «Соловки» (Наши достижения. 1930. № 5), см. Послесловие. Где Русь – высокая волчица… По аналогии с Римской (Капитолийской) волчицей, вскормившей молоком легендарных основателей Рима ~ Ромула и Рема. Здесь, возможно, реминисценция из ст-ния Елизаветы Полонской «Вижу, по русской земле волочится волчица…» (1923) из книги «Под каменным дождем. 1921-1923» (Пб., 1923). …в состоянии послеродового психоза. Об этом биографическом факте нам ничего неизвестно. Некоторый свет на обстоятельства проливает письмо Е. Данько к Аверьяновой (12 июля 1929 г.), в котором она писала: «…Я от души порадовалась тому, мне кажется, что Вы поехали на Кавказ. Что это лучшее, что вообще могло случиться. Надеюсь, что мое впечатление оправдается. Я не говорю уже о том, какая прелесть – Кавказ и как важно было для Вас набраться таких ярких впечатлений, какие дали горы, и надышаться нежным Кисловодским воздухом! Очень бы хотела получить от Вас весть оттуда. <…>
Я очень много работаю. Спешу, наконец, окончить свою повесть о марионетках, которая раздулась до 10 листов. Никогда не буду больше начинать таких громоздких вещей! Вопрос, что тяжелее, вынашивать младенца в 10 фунтов или повесть в 10 листов. Первое – во всяком случае почтеннее, а от второго ничего, кроме неприятностей не бывает, – одно только у них общее – и Ваше и мое детище попадется когда-нибудь в лапы педагогам, и они будут его мучить одинаково на свой педагогический лад. Разница только во времени, Ваше – лет через 8, а мое – едва высохнут на нем чернила. Возможно, что даже не дойдет еще оно до типографии, а уже исчезнет с лица земли. <…>» (Ф. 355. Ед. хр. 18. Л. 17-18 об).
III
«Лепным прибоем, пеной в просинь…», 1932. – Грани 14. С. 94. Автограф: СР. С. 33.
На площадь вылетел дворец… Ср.: «На площадь выбежав, свободен / Стал колоннады полукруг» (О. Мандельштам. «На площадь выбежав, свободен…», 1914). И дивной арки Карло Росси… Часть архитектурного ансамбля Дворцовой площади – здание Главного Штаба и триумфальная арка, возведены в 1819-1829 гг. Карлом Ивановичем Росси (1775-1849). И мостик Певческой Капеллы… Мост через реку Мойку, упирается в ворота Певческой капеллы (отсюда получил название), построен в 1839-1840 гг., одновременно с завершением ансамбля Дворцовой площади, по проекту инженера Е.А. Адама, на месте бывшего моста (арх. О. Монферран). Здесь Блок бродил… В 1917 г. А. Блок состоял членом Чрезвычайной следственной комиссии для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, заседавшей в Зимнем дворце; поэт вел протоколы допросов царских министров; впоследствии по материалам работы ЧСК он выпустил книгу: Последние дни императорской власти. По неизданным документам. Составил А. Блок. Петербург: Алконост, 1921. …здесь умер Пушкин… Последняя квартира А.С. Пушкина на набережной реки Мойки 12 (дом княгини А.Н. Волконской, в котором семья поэта снимала квартиру с начала сентября 1836 г.), в этом доме 29 января 1837 г. Пушкин, смертельно раненный на дуэли, скончался. В стихотворении описан популярный туристический маршрут: из-под арки Главного Штаба на Дворцовую площадь в сторону Певческого моста и зданию Певческой Капеллы, по берегу реки Мойки к дому № 12.
«Еще не выбелен весной…», 1932. – Грани 18. С. 36. Автограф СР. С. 34.
Строфа III, возможно, реминисценция из Н. Агнивцева, ср.: «Санкт-Петербург гранитный город, / Взнесенный Словом над Невой, / Где небосвод давно распорот / Адмиралтейскою иглой!» («Странный город», 1919).
«Отдай обратно мне мои слова…», 1932. Автограф. СР. С 35.
«Какое солнце встало, озарив…», 1932. – Автографы: 1) СР. С. 36; 2) Раков. Л.4 об.(рукопись); Л. 19 (машинопись).
Не обернулось Зимнею Канавкой… Намек на возможную развязку романтических отношений. По либретто оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама» (1890; автор либретто – М.И. Чайковский) в третьем действии Лиза бросается с Эрмитажного мостика в воды Зимней канавки, после того как от неб убегает потерявший рассудок Германн. Картина, запечатленная в иллюстрациях М.В. Добужинского (в 1925 г. он оформлял постановку «Пиковой дамы» для ЛГТ). Один из наиболее живописных уголков Петербурга: небольшой канал, соединивший Неву и Мойку, прорыт в 1718-1719 гг. (строитель-подрядчик Василий Озеров). В 1783-1787 гг. на месте дворца Петра I было построено классическое трехэтажное здание Эрмитажного театра (архитектор Дж Кваренги), чтобы соединить новое здание со Старым Эрмитажем, через Зимнюю канавку была перекинута высокая арка-галерея. Один из «сакральных топосов» «петербургского текста» (см.: Петербург в поэзии русской эмиграции / Вступ. статья, сост., подгот. текста и примеч. Романа Тименчика и Владимира Xазана. СПб., 2006 (Новая библиотека поэта. Большая серия). С. 18-19).
А так двухцветной книжною заставкой… Автобиографически аллюзия: из писем Вл. Смиренского к Аверьяновой и ее писем к А. Корсуну явствует, что поэтесса была страстным библиофилом, как Вл. Смиренский и А. Корсун (оба служили библиотекарями). См записку П.Н. Лукницкого: «Лида! Видел сейчас Ваш exlibris. Если у Вас есть лишний – подарите мне при случае. Хорошо? И попросите у меня что-нибудь – хочу сделать Вам какой-нибудь подарок, но что, что?» (Ф. 355. Ед. хр. 36).
«На берега Твоей Невы…», 1933. – Автограф: СР. С. 37.
И дрогнут каменные львы… Вероятно, львы, установленные на Дворцовой пристани – на Адмиралтейской набережной рядом с Дворцовым мостом. Фигуры львов изготовлены в 1832 г. на Александровском чугунолитейном заводе в Петербурге мастером И. Прангом по модели скульптора И.П. Прокофьева, там же по рисунку архитектора Л. Шарлеманя для львов отлиты чугунные пьедесталы с волютами.
Павловск («На белые ресницы маргариток…»), 1934. – Возрождение (Париж). 1949. № 1. С. 95. Автограф: СР. С. 38.
И желтизна дворцовых стен — как осень… Павловский дворец (1780-1786; архитекторы Чарлз Камерон, Винченцо Бренна, Андрей Воронихин) был покрашен в бледно-желтый цвет; характерный для архитектуры русского классицизма. Двенадцати аллей песчаный свиток / Разверзнут вширь. Здесь правит Аполлон…
Район Старой Сильвии или Двенадцати дорожек в Павловском парке (распланирован Винченцо Бренной в 1793 г.). В центре композиции – площадка со статуей Аполлона Кифареда (Мусагета), от нее расходится двенадцать дорожек, между которыми установлены двенадцать скульптур: Венера Каллипига (или Прекраснобедрая, богиня любви и красоты), Флора (богиня цветов), Меркурий (вестник богов), Евтерпа (муза лирической поэзии), Мельпомена (муза трагедии), Талия (муза комедии), Терпсихора (муза танца), Эрато (муза любовной поэзии), Полигимния (муза гимнов и красноречия), Каллиопа (муза эпической поэзии и песнопений), Клио (муза истории) и Урания (муза астрономии). На солнечных часах нам – выйдет срок… Солнечные часы первоначально располагались в центре парадного двора Павловского дворца, где были поставлены в 1798 г. При установке памятника Павлу I в 1872 г. их перенесли на Вольерный участок (между дворцом и Вольерным прудом). Незадолго до войны 1914 г. часы были похищены, пьедестал сохранился по настоящее время (в 1968 г. на нем установили каменную вазу). Очевидно, Аверьянова могла видеть Солнечные часы лишь в детские годы, а в 1934 г. пустой пьедестал. Недвижен Павел, озирая службы… Памятник Павлу I (по модели скульптора И.П. Витали) установлен в центре парадного двора перед Павловским дворцом (в плане дворец напоминает подкову). Император изображен в парадном мундире и треуголке, опирающимся на трость, лицом к входной аллее, «принимая гостей» в своей летней резиденции. О, милый Павловск, храм нетленной дружбы… Храм Дружбы – первая парковая постройка в Павловске, созданная по проекту Чарльза Камерона в 1782 г. В XVIII в. павильон использовался как место дня обедов и чаепитий в сопровождении музыки (в стилистике оформления парков эпохи Просвещения); изображения играющих дельфинов на фризе павильона являются аллегорией Дружбы.
Сфинксы («Шпионы разных государств…»), 1934. Автограф: СР. С. 39.
См. примеч. к ст-нию «Когда всё проиграно, даже Твой…». Что нам названья наших царств. / Златого Рога или Буга.. Две противоположные точки бывшего СССР, восточная: Золотой Рог – бухта в заливе Петра Великого Японского моря (по обоим берегам расположен город Владивосток), названная по аналогии с бухтой подле Стамбула, и западная: Буг – река, протекающая по территории Украины, Белоруссии и Польши. В 1930-е гг. в районе Владивостока находилось несколько отделений ГУЛАГа; возможно, автор мысленно обращается к В.Н. Голицыну, см. примеч. к ст-нию «Памяти кн. В.Н. Голицына». О, дважды Сфинкс из древних Фив… Головные уборы сфинксов – двухъярусные букварики свидетельствовали о том, что Аменхотеп III был правителем двух царств – Верхнего и Нижнего Египта (ср.: Что нам названья наших царств).
Ср.: «На набережной Невы, против тяжелого и величественного корпуса Академии Художеств, охраняя ее гранитную пристань, поместили два сфинкса – с лицом Аменготепа III Великолепного, фараона времен блеска Египетской империи. И эти таинственные существа, создание далеких времен, отдаленных стран, чуждого народа, здесь, на берегах Невы, кажется нам совсем родным, вышедшими из вод реки столицы Севера охранять сокровища его дворцов» (Анциферов П.Н. Душа города. Пб., 1922. С. 29).
«Ты целуешь в губы жарко…», 1935. Автограф: СР. С. 40. Здании – каменных Орант… Здесь: в позе Богородицы. Оранта (от лат. orans: молящийся) – один из основных типов изображения Богоматери: с поднятыми и раскинутыми в стороны руками, ладонями наружу, – в традиционном жесте заступнической молитвы.
«Блаженство темное мое…», 1935 – Грани 14. С. 95; Звезда 1995. С. 129. Автограф: СР. С. 41.
…Всех Скорбящих… ~ …троеручица… «Всех скорбящих радости» и «Троеручица» – чудотворные иконы Богородицы, почитаемые православной церковью.
«Но неужели, город, ты…», 1935. Автограф: СР. С. 42.
Туда, где, меж гранитных стен… ~ …С двояким Сфинксом у колен… Имеется в виду спуск к Неве на Университетской набережной перед зданием Академии Художеств. См. примеч. к ст-нию «Когда всё проиграно, даже Твой…». Теченьем правит Персефона. Персефона (греч. миф., в рим. миф.: Прозерпина) – богиня плодородия и царства мёртвых, супруга Аида (Плутона), который похитил её и унёс в своё царство; здесь: «правящая» изящными искусствами. По некоторым поэтам, во время свадьбы Плутона и Персефоны Зевс отдал невесте в качестве свадебного дара Фивы (Евфорион. Фр. 45 Мейнеке / Комментарий О.П. Цыбенко в кн.: Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Кн. 4-7. СПб. 2005. С. 332). Ср.: «Где властвует над нами Прозерпина» (О. Мандельштам. «В Петрополе прозрачном мы умрем…». 1916).
«Когда, в тумане розоватом…», 1935 Мосты. С. 130; Звезда 1995. С. 129. Автограф: СР. С. 43.
Как Достоевского когда-то, / Меня преследует вода… Вероятно, здесь имеется в виду мотив воды в романе «Преступление и наказание», сопряженный с мотивом самоубийства. Вода «преследует» Раскольникова (после совершенного им убийства) в его скитаниях вдоль петербургских каналов, где чаще всего и случались самоубийства. Он становится свидетелем поднятия из канала тела утопленницы, см. «Преступление и наказание». Часть вторая, главы II и VI. Угрюмой аркой Деламота… Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот (Jean-Baptiste Vallin de la Mothe; 1729-1800) – французский архитектор, автор многочисленных построек в Петербурге, в том числе архитектурного комплекса «Новая Голландия» (1765-1780, совместно с С.И. Чевакинским) и знаменитой арки в неоклассическом стиле – через канал, соединяющий внутренний бассейн («Ковш») с рекой Мойной. Арка Новой Голландии (1779-1787) построена из красного строительного кирпича и тесаного гранита, из блоков которого сложены дорические колонны, несущие мощный антаблемент, придающий всему сооружению монументальность (ее высота – 23 м, ширина пролета – более 8 м). «Угрюмость» пейзажа отмели П.Н. Анциферов, ср.: «У Мойки остров, обнесенный высокой красной стеной. Канал разделяет ее, а над каналом высится величественная арка, достойная украсить Вечный город. <…> И стоит она здесь в глухом месте города, точно лишняя, и чернеют под ней мачты кораблей на фоне неугасающей зори белых ночей. И кажутся они каким-то призраком. На этой Новой Голландии лежит тоже печать трагического империализма» (Душа Петербурга. Пг., 1922. С. 29). Сменяет ров Адмиралтейский / Екатерининский канал… Новая Голландия – единственный рукотворный остров в дельте Невы, возник в результате того, что в 1719 г. между Невой и Мойкой для нужд судостроителей были прорыты два канала: Крюков и Адмиралтейский, Крюков канал пересекается с Екатерининским (у Никольского морского собора).
Крюков канал («Крюков, скользящий на сонмище звуков…»), 1935. Автографы: 1)СР. С. 44, посвящение: Джону Хант; 2) Раков. Л. 4 (рукопись); Л. 22 (машинопись) – идентичны; без посвящения; первонач. вар. ст. 13: «Это – не к Замку: многооконный».
Генри Сесил Джон Хант (англ. Henry Cecil John Hunt; 1910—1998) – британский альпинист, лорд, руководитель первого восхождения на Эверест. В 1930-1950-е гг. участвовал в альпинистских экспедициях в Альпы, Гималаи, на Кавказ. Декою зданья, где оперный шум… Здание Мариинского театра на Театральной площади (с 1934 по 1992 гг. – Ленинградский государственный академический театр оперы и балета имени С.М. Кирова) своим задним фасадом («декой») упирается в Крюков канал. Здание театра уподобляется (по внешнему сходству) пианино, в отличие от других музыкальных инструментов, у пианино дека (резонирующая поверхность) располагается вертикально, в задней части корпуса. …Ветер берет, нараспев ~ по крюкам?.. Крюковое пение или знаменный распев – основной вид древнерусского церковного пения (напевы записывались особыми знаками – знаменами, или крюками); здесь, вероятно, по ассоциации: крюк орудие альпиниста. …Глубью собор, точно галька, отточен… ~ …Схвачен водою, чуть сделавшей крюк… Никольский морской собор (полное название: собор Святителя Николая Чудотворца и Богоявления) на Никольской площади; построен в стиле елизаветинского барокко в 1753-1762 гг. (архитектор С.И. Чевакинский). Выбор места строительства определялся близостью водных путей Фонтанки, Екатерининского и Крюкова каналов. Купола пятиглавого собора и стоящая отдельно четырёхъярусная колокольня, завершенная высоким шпилем, отражаются в водах каналов (ср.: Купол о купол – так замысел зодчий). Это – не к Замку: многооконней / Лег на ребро здесь кирпичный пенал… Литовский замок у пересечения реки Мойки и Крюкова канала, оригинальное в плане здание – неправильный 5-угольник с круглыми башнями на углах, построено в 1798-1799 гг. по проекту архитектора И.Е. Старова; название получило от разместившегося в нем Литовского мушкетерского полка; в 1823-1826 гг. архитектор И.И. Шарлемань приспособил его под городскую тюрьму для уголовных преступников, в Литовском замке содержались и политзаключенные. В дни Февральской революции заключенные были освобождены, Литовский замок сожжён, и его почерневшие стены долго стояли неубранными. В 1930-х гг. на месте тюрьмы стали возводить жилые дома.
Меньшиковский дворец («Покоритель ветреных сердец…»), 1935. Автограф: СР. С. 45. Машинопись: Раков. Л. 9,13 – 2 экз.
Меншиковский дворец на Университетской набережной Невы (сооружен для первого губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Меншикова) – первое каменное здание города. Построен в 1710—1727 гг. в стиле Петровского барокко (архитекторы: Дж.М. Фонтан и Г.И. Шедель). В 1731 г. Д. Трезини перестроил здание для Сухопутного Шляхетского корпуса (с 1800 г. – Кадетский); позднее был изменен главный – невский фасад дворца (в перестройке участвовали И.Е. Старов, В.И. Баженов, Ю.М. Фельтен). Разве для таких зазорных дел / Мудрый зодчий здесь его воздвиг?.. При Меншикове дворец называли Посольским домом, здесь проходили пышные приемы и праздники, его внутренняя отделка была великолепна (коллекции живописи и скульптуры, книги и монеты).
Наводнение («Словно мед, наполняющий соты…»), 1935 – Грани 14. С. 97; Звезда 1995. С. 128. – Автограф: СР. С. 46. Машинопись: Раков. Л. 10, 14 (2 экз.).
Наводнение – 8 октября 1935 г. в Ленинграде вода в Неве поднялась на 239 см. выше ординара (в 5.50 утра). Это желтое зданье Таможни… Здание на набережной Макарова 4, построено в 1829-1832 гг. по проекту И.Ф. Лукини для Петербургской портовой таможни. С 1927 г. здесь располагается Пушкинский Дом (Институт русской литературы Российской Академии наук). Над водою метнулся собор… Князь-Владимирский собор. И, в подмогу, на Заячий остров… В сторону находящейся на Заячьем острове Петропавловской крепости. С двух колонн, от утра до утра, / Выплывают недвижные ростры… Ростральные колонны на Стрелке Васильевского острова (построены по проекту Ж.-Ф. Тома де Томона одновременно со зданием Биржи в 1805-1810 гг.; высота – 32 метра). На стволах колонн укреплены металлические изображения ростр – носовых частей кораблей. Изначально Ростральные колонны служили маяками для кораблей, идущих в находящийся когда-то здесь торговый порт (в чашу на вершине наливали смолу и поджигали её). В стихотворении «впечатлена панорама, открывающаяся со Стрелки Васильевского острова.
Кунсткамера («Это – прозелень трав или ранних акаций… Фисташковой…»), 1935. Автограф: СР. С. 47.
Кунсткамера – кабинет редкостей, музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, первый музей, учрежденный Петром I (по преданию, место для строительства музея на Стрелке Васильевского острова выбрал сам император). Здание построено в стиле петровского барокко по проекту А. Шлютера (архитекторы: Г.И. Маттарнови, Н.Ф. Гербель, Г. Киавери; строительство завершено в 1734 г M.Г. Земцовым), состоит из двух 3-этажных корпусов, соединенных барочной многоярусной башней со сложным купольным завершением (в башне работал М.В. Ломоносов, сгорела в 1747 г., восстановлена через 200 лет); стены окрашены в характерный для русского барокко насыщенный светло-зеленый цвет (ср.: Это – прозелень трав или ранних акаций… Фисташковой…). Над точеною башенкой – обсерваторией Брюса… Первую частную обсерваторию в России создал в 1726 г. Яков Брюс (1670-1735). Постройка обсерватории в Кунсткамере, инициированная Петром I, была завершена в 1735 г., она занимала три этажа башни; ее первым директором был приглашенный французский астроном и картограф Жозеф-Никола Делиль (Де Лиль) (фр. Joseph-Nicolas De L'Isle; 1688-1768). Где недвижен, на шпиле, летящий Пастух золотой… С башни Кунсткамеры открывается широкая невская панорама, в частности, виден шпиль колокольни Петропавловского собора, увенчанный золоченой фигурой летящего ангела, установленной голландским мастером Г. ван Болесом (высотная доминанта и символ города); шпиль Адмиралтейства – с корабликом, водруженным тем же голландским мастером; золотая фигура ангела, установленная на вершине Александровской колонны перед Зимним дворцом в центре Дворцовой площади (Александрийского столпа, по стихотворению А.С. Пушкина «Памятник»); воздвигнута в стиле ампир в 1834 г. архитектором О. Монферраном по указу императора Николая I, в память о победе его старшего брата Александра I над Наполеоном. Более вероятно, что здесь имеется в виду ангел на Александровской колонне.
Песня («Ветер, спутник мой недобрый…»), 1935. Автограф СР. С. 48.
Красноперые амбары / Понатерлись кирпичом… Пеньковые склады на набережной Малой Невы около Тучкова моста или Тучков буян – памятник архитектуры раннего классицизма, построен в 1763-1772 гг. А. Ринальди, М.А. Деденевым и А.А. Дьяковым на небольшом одноименном острове. Коромыслам выгнут мост… Разводной мост через Малую Неву (1835), соединяет Большой проспект Петроградской стороны с Кадетской и Первой линиями Васильевского острова; был сооружён в створе Большого проспекта Петербургской стороны с устройством земляной дамбы от Малой Невы до будущего Александровского проспекта (ныне проспект Добролюбова).
Корабль («В больших снегах – мне шалый шум листвы…»), 1935. Автографы: 1) СР. С. 49; 2) Раков. Л. 2 об. (рукопись); Л. 21 (машинопись).
Зеленый дом на берегу Невы, / Наискосок от Пушкинского дома… ~…Огромный дом, чудовищный корабль… Здание одного из двух симметрично прилегающих к Бирже пакгаузов, в данном случае – северного, на набережной Малой Невы. Пакгаузы построены после наводнения 1824 г., когда старые помещения биржевых пакгаузов оказались непригодными для хранения товаров. Работы по возведению сооружений велись в 1825-1932 гг. архитектором И.Ф. Лукини по проекту А.Д. Захарова (1804). Ср.: «Чудовищный корабль на страшной высоте…» (О. Мандельштам. «На страшной высоте блуждающий огонь…», 1918). А зодчий был, как Леопарди, слаб… Предположительно, речь идет об Иване Францовиче Лукини (1784-1833). Джакомо Леопарди (Giacomo Leopardi, 1798-1837) – итальянский поэт и переводчик, имел от природы слабое здоровье, которое разрушил изнуряющим трудом. Ср.: «А зодчий не был итальянец» (О. Мандельштам. «На площадь выбежав, свободен…», 1914).
Дом Брандта («В гранитный бор чугунный врос плетень…»), 1935. Автограф: СР. С. 50.
Дом Брандта. Вероятно, особняк С.Р. Брандта на Кадетской линии Васильевского Острова (Тучков пер., 10), перестроен в 1851 г. архитектором Л.Л. Бонштедтом в стиле классицизма. За зданием закрепилось название: особняк Брандта. Название Дом Брандта получил также особняк архитектора Карла Ивановича Брандта (1810-1882), построенный в 1857 г. по его собственному проекту в Сапёрном переулке, 3 (2-й Графский переулок – в конце XVIII века, Кузнечный переулок с начала XIX века по 1858 год). Учитывая топографию раздела, в котором сосредоточены стихотворения преимущественно о зданиях, расположенных на Стрелке Васильевского острова, здесь имеется в виду особняк С.Р. Брандта. А слева – самый длительный фасад… Главное здание Санкт–Петербургского (Ленинградского) Университета, простирается от Университетской набережной Невы вдоль Менделеевской линии Васильевского острова до Тифлисской улицы; длина фасада, обращенного к Стрелке Васильевского острова, – около 380 метров.
«С тех пор, как я ушла по холоду и снегу…», 1935. Автограф; СР. С. 51.
На вахте Крузенштерн и день и ночь стоит… Памятник мореплавателю, адмиралу Ивану Федоровичу (Иоганну-Антону) Крузенштерну (1770-1846), совершившему первое кругосветное плавание на русском судне, установлен в 1873 г. на набережной Большой Невы (затем – Николаевской; ныне лейтенанта Шмидта), напротив Морского корпуса Петра Великого; скульптор И.Н. Шредер, архитектор И.А. Монигетти. Адмирал И.Ф. Крузенштерн окончил Морской кадетский корпус в 1787 г., впоследствии был инспектором классов, а затем и директором Корпуса (1827-1842 гг.). Румян фасад дворца… ~ Царь-каменщик воздвиг высокий храм Петров… Здание Морского корпуса Петра Великого (набережная Лейтенанта Шмидта, 17, между 11 и 12 линиями Васильевского острова), бывший дворец С.Х. Миниха, сгоревший и затем перестроенный в 1799 г. по проекту архитектора Ф.И. Волкова. Надолго мне постыл Васильевский твой остров… Возможно, воспоминание о первом муже Ф.Ф. Дидерихсе, семья которого жила на Васильевском Острове (17 линия, дом 2, кв. 2).
Арка («В волнах пространств, неведомых земле…»), 1937. Автограф: СР. С. 52.
И движусь я, вдруг просияв навек / Огромной арки желтым ореолом. – Возможно, речь идет об арке, соединяющей здания Сената и Синода, в 1925 г. в здании разместился Центральный государственный исторический архив. В середине 1930-х гг. Аверьянова очень короткое время работала в этом архиве. См. ее стихотворение «Центрархив» (с. 147 наст. изд.). Ср.: «В темной арке, как пловцы, / Исчезают пешеходы» (О. Мандельштам. «Императорский виссон…», 1915).
Смольный: II («Пятикратный купол крова…»), 1935 — Мосты. С. 129; Звезда 1995. С. 127. – Автограф: СР. С. 53.
Свейский плес, русея, фыркал… Свейский — от Свей (швед. svear, sviar) – германское племя, жившее на территории нынешней Швеции; термин использовался как собирательное название населения Швеции. К флорентинцу шла река… Ф.-Б. Растрелли – строитель Смольного собора, был сыном известного скульптора и архитектора Бартоломео Карло Растрелли (1675-1744), родом из Флоренции, в 1716 г. Растрелли старший, приглашенный работать в Россию, обосновался в Петербурге. См. также примеч. к стихотворению: Смольный I («Утро. Ветер. Воздух вольный…», 1933).
Князь-ВладимирскийСобор. II («О, каменное тело…»), 1936. Автограф: СР. С. 54.
«Бегут трамваи – стадо красных серн…», 1937 – Мосты. С. 133. Автограф: СР. С. 55.
Бегут трамваи – стадо красных серн… Традиционный цвет петербургского трамвая – красный. На вахтенном, чье имя – Крузенштерн… См. примеч. к ст-нию «С тех пор, как я ушла по холоду и снегу…». А Медный Шкипер с берега того… Медный Всадник – памятник Петру I на Сенатской площади, изготовленный из бронзы, получил свое название благодаря одноименной поэме А.С. Пушкина. Здесь, возможно, контаминация пушкинских образов, ср.: «Сей шкипер был тот шкипер славный» («Моя родословная», 1830).
«Струится снег, как ровный белый стих…», 1937. Автограф: СР. С. 55а.
Уже не улица канал лебяжий… по ассоциации с Лебяжьим каналом – соединяет реки Неву и Мойку между Летним садом и Марсовым полем (прорыт в 1711-1719 гг.); название канала связано с тем, что в XVIII в. а него переселялись лебеди из соседних прудов. И оттого, что здесь проходишь Ты… ~ …Двенадцать нежно-розовых Коллегий… Начиная с 1931 г. Л.Л. Раков читал лекционные курсы по истории Греции и Рима в университете, в 1934 г. он стал доцентом исторического факультета по кафедре истории античного мира. Ср.: «Древнюю историю читал нам молодой красавец, научный сотрудник Эрмитажа доцент Л.Л. Раков, приходивший на еженедельную лекцию каждый раз в другом костюме» (Каган М.С. О времени, о людях, о себе. СПб., 2003 С. 41). Университет располагается в здании Двенадцати петровских коллегий; построено под руководством Доменико Трезини и Теодора Швертфегера в 1722-1730-е гг.; архитекторы: Джузеппе Трезини и Михаил Земцов. Еще Овидий пел о скифском снеге… Древнеримский поэт Публий Овидий Назон (лат. Publius Ovidius Naso; 43 г. до н.э.– 17 или 18 г. н. э.), изгнанный из Рима императором Августом, последние десять лет жизни провел в западном Причерноморье. В его поэзии периода изгнанничества преобладает мотив холодной зимы, снега, льда. Ср. «Когда с дряхлеющей любовью / Мешая в песнях Рим и снег, / Овидий пел арбу воловью / В походе варварских телег» (О. Мандельштам. «О временах простых и грубых…», 1914).
Петропавловская крепость. Автограф: СР. С. 56, 56а-б.
I. «Нам путь указывает вправо…», б.д. – Возрождение (Париж). 1950. № 7. С. 93. – Грани 14. С. 94.
И не доскачет Император / До прежней крепости своей… Медный всадник – памятник Петру I на Сенатской площади; рука императора, по замыслу создателя – скульптора Э.М. Фальконе, «указывает вправо» – в сторону Швеции и по направлению Заячьего острова, где по указу Петра I была заложена крепость для отпора шведам («Отсель грозить мы будем шведу…»).
II. «Разжав хладеющие пальцы…», 1937 – Возрождение (Париж). 1950. № 7.– Грани 14. С. 94.
Но в те же каменные пяльцы / Златая воткнута игла… Вероятно, шпиль Адмиралтейства, отраженный в воде Невы, по направлению к Петропавловской крепости, за которым в русской поэтической традиции вслед за пушкинским «Медным Всадником» закрепилось название: «Адмиралтейская игла»; В. Шкловский назвал «ищу» «богиней цитат», подробнее см.: Осповат Л.Л., Тименчик Р.Д. «Печальну повесть сохранить…». М., 1985.
С. 278-279.
III. «Матерь Божья втихомолку…», 1937 – Грани 14. С. 95.
Дивной ересью Трезини… Доменико Андреа Трезини (Domenico Trezzini, Андрей Яковлевич Трезин; ок. 1670-1734) – выходец из итальянской Швейцарии (в России работал с 1703 г.), первый архитектор Санкт-Петербурга, под его руководством в 1706 г. началось строительство Петропавловской крепости (в камне), возведен Петропавловский собор (1712-1733); по его проектам заложены Кронштадт (1704) и Александро-Невская лавра (1717), выполнена часть регулярной планировки Васильевского острова (1715), построены Летний дворец Петра I в Летнем саду (1711), Петровские ворота (1717) в Петропавловской крепости, здание Двенадцати коллегий (1722-1736) – ныне главное здание Петербургского университета, Галерная гавань и др.
«Раскрыты губы Эвридики…», 1936. Автограф: СР. С. 56б.
Возможно, имеется в виду знаменитая, признанная одной из красивейших в мировой оперной музыке, ария Эвридики из оперы К.В. Глюка «Орфей и Эвридика» (1762). Эвридика (греч., миф.) – дочь фракийского царя, жена легендарного поэта Орфея, погибшая от укуса змеи. Орфей последовал за ней в Аид, своим пением он растрогал богов, Прозерпина позволила ему вывести Эвридику при условии, что по пути он ни разу не обернется на ее зов, Орфей не выполнил условие и навсегда утратил возлюбленную. И ты раскрыт лишь в пьяном гаме / Кирпичных глоток заводских. Ср.: «Были улицы пьяны от криков…» (А. Блок. «В кабаках, в переулках, в извивах…», 1904).
«Снега легкую корону…», 1937. Автограф: СР. С. 56в.
Посрамит дворец Бирона… Дворец Бирона название, закрепившееся за Тучковым буяном (пеньковыми амбарами). По бытовавшему городскому преданию, «дворец» был построен императрицей Анной Иоанновной для ее фаворита Э.И. Бирона. См., например, известную ксилографию А.П. Остроумовой – Лебедевой «Дворец Бирона и барки», 1916. Название «прижилось», несмотря на то, что уже в начале XX в. были опубликованы материалы, подтверждающие беспочвенность бытовавших слухов, см.: Фомин И.А. Мнимый дворец Бирона // Старые годы. 1908. Июль-сентябрь. С. 571-572.
Ах, с Галерной, ах, с Гулярной… Галерная – улица между площадью Декабристов и набережной Адмиралтейского канала, пересекает площадь Труда, проложена в XVIII в., застроена в XVIII-XIX вв., дома по правой стороне выходят противоположными фасадами на Английскую набережную. Гулярная (ныне ул. Лизы Чайкиной) соединяет Кронверский проспект и Большой проспект Петроградской стороны.
Академия Наук («…И ветер, вдруг, из-под руки..,»), 1937. Автограф: СР. Л. 56г.
Здесь колоннада – у реки / Повешенная арфа… Здание Академии наук (в колоннаде – 10 колонн) уподобляется воздушному музыкальному инструменту – Эоловой арфе (от Эол, в греч. миф.: повелитель ветров). Эоловы арфы (8-13 струн, настроенные в унисон) устанавливались на крышах домов; под действием ветра струны колебались и звучали.
Академия Наук («Здесь воздух мягко влит в оконные квадраты…»), 1937 – Мосты. С. 134. Автограф: СР. С. 56д. Первоначальный вар. ст. 12: «И начат был чертеж. И циркуль плавно лег».
Не зданье: здесь Амур Италии крылатой / Забыл та берегу свой каменный колчан… Здание Академии наук (Университетская набережная, 5) возведено в 1783-1789 гг. итальянским архитектором и живописцем Джакомо Кваренги (Giacomo Antonio Domenico Quarenghi; 1744-1817), работавшим в России с 1780 г. Среди выдающихся сооружений зодчего в Санкт-Петербурге: Английский дворец в Петергофе (1780-1787), павильон в Царском Селе (1782), здание Эрмитажного театра (1783-1787), Ассигнационного банка (1783-1789), Александровский дворец в Царском Селе (1792-1796), Фасад Смольного института (ок. 1806), Конногвардейский манеж (1800-1807), Мариинская больница для бедных (1803-1805), здания Екатерининского благородных девиц (1804-1807) и Смольного института благородных девиц (1806-1808) и др.
И цоканье торцов, глухое как th… Подразумеваются английские названия этих букв, «ти-эйч»; имеется в виду передающаяся в английском языке этим сочетанием глухая межзубная аффриката, по звучанию похожая на шепелявое «с». Гваренги слышал всё, с линейкой наготове… Ср.: «Служа линейкою преемником Петра» (О. Мандельштам. «Адмиралтейство», 1913).
Лазаревское кладбище («В который раз река ломает лед…»), 1937 – Мосты. С. 135. Автограф: СР. С. 57.
Лазаревское кладбище… старейшее кладбище Петербурга (при церкви Святого Праведного Лазаря), находится на территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры; заложено в XVIII в. одновременно со зданиями Александро-Невского монастыря (1710). «Из кладбищ Лавры самое интересное – Лазаревское, лежащее налево от проезда. Почти все монументы его замечательны, но, увы, находятся в состоянии разрушения и мало-помалу исчезают» (Курбатов. С. 600). В трофей и лавр здесь Лавра процвела. – Цитата из оды В.К. Тредиаковского «Похвала Ижерской земле и царствующему граду Санктпетербургу» («Приятный брег! Любезная страна!..»), 1752. Не знаю как – а Ломоносов спит…~„. Не оборвет командою Суворов… — имеются в виду надгробные памятники М.В. Ломоносов)' и А.В. Суворову в некрополе Александро-Невской лавры. На Лазаревском кладбище находятся также могилы архитекторов А.Д. Захарова, Дж. Кваренги, К.Н. Росси, скульпторов М.И. Козловского, Ф.И. Шубина, Ф.Ф. Щедрина, художников АЛ. Антропова, В.Л. Боровиковского, С.Ф. Щедрина, писателя Д.И. Фонвизина. Всё ждет… ~ …Неторопливо едущих гостей / Гагарина на круглом пьедестале… «Почти у дорожки, ведущей к Лазаревской церкви, чудесный памятник княгини Е.И. Гагариной работы И.П. Мартоса» (Курбатов. С. 603); из круглом пьедестале установлена скульптура, изображающая женскую фигуру, облаченную в античный хитон. Рядом находятся надгробия Апраксиных, Олсуфьевых, памятники – А.Ф. Турчанинову, А.Н. Воронихину, П. А. Потемкину, С.А. Строгановой, надгробие А.М. Белосельско-Белозерского, памятник кн. Е.С. Куракиной, гр. Шувалову и др. Надгробие княгини Марии Алексеевны Гагариной (графиня Бобринская; 1798-1835, супруга Н.С. Гагарина) в 1937 г. было перенесено из усыпальницы Духовской церкви монастыря (закрыта в 1935 г) в Лазаревскую, туда же перенесли и немногие другие уцелевшие памятники, в том числе из Благовещенской усыпальницы. По– видимому, Аверьянова находилась на кладбище в день переноса памятников… Здесь с городом прощался Александр… Речь идет о разрушении Серебряной Раки – места упокоения праха Александра Невского.
«Синеют Невы, плавно обтекая…», 1937. – Грани 14. С. 97. Автограф: СР. С. 58.
«Петром, Петра и о Петре…», 1935 – НЖ. С. 133. Автограф: СР. С. 59.
Направо, от Петра к Петру / (С Невы – до замка на Лебяжьем) … Маршрут от Медного Всадника в сторону Лебяжьей канавки – к Михайловскому Замку, где у ворот установлен конный памятник Петру I (отлит в бронзе по скульптурной модели Б. Растрелли). Памятник установлен в 1800 г. по указу Павла I, на пьедестале надпись: «Прадеду – правнук», сделанная по аналогии, и в противовес посвящению на Медном всаднике: «Петру Первому Екатерина Вторая». В контексте этих надписей строка Твоим Петрографом я буду звучит каламбуром; петрография (греч.; «камень» + «пишу») – наука, изучающая горные породы и метод их исследования, основанный на оптическом анализе структуры.
Памяти кн. В.Н. Голицына («На черном, на влажном, гладком асфальте…»), 1934-1937. – Грани 18. С. 38. Автограф: СР (страница без номера; на автографе комментарий карандашом рукой неустановленного лица к ст. 16 («Знамен темно-алые языки»): «This line doesn't seem <?> is much loo short PSF <?>» (перевод: «Эта строка не кажется ли слишком короткой? ПСФ»).
Км. В.Н. Голицын – князь Владимир Николаевич Голицын (1907-1934) пианист и композитор; окончил Ленинградскую Консерваторию по классу А. А. Розановой и Л.В. Николаева. Автор произведений для фортепьяно, скрипки, романсов на стихи В. Брюсова, В.Гюго, К. Липскерова, А. Пушкина и др. (см.: РНБ. Ф. 205 (В.Н. Голицына). Ед. хр. 1-5); племянник академика Б.Б. Голицына (1862-1916; геофизик, основоположник современной сейсмологии). Князь – почти ровесник Аверьяновой, оба учились в Консерватории; возможно, еще детьми слушали вместе знаменитый орган Валкера в Мальтийской капелле (капеллу закрыли в 1918 г.), ср.: Еще не сказалось о Павле, о Мальте. / О мире, прочерченном красной чертой… В 1934 г. Голицын был арестован, расстрелян или погиб в заключении; в «Книге памяти» (Электронный ресурс общества «Мемориал») в числе жертв сталинских репрессий не значится. Как явствует из датировок под ст-нием, Аверьянова не сразу узнала о его гибели. 27 июля 1934 г. она писала Корсуну: «У меня, откровенно говоря, всё еще теплится тайная надежда, что я получу разрешение на поездку к Вольдемару – я не понимаю, почему нельзя иметь пропуск на столь серьезном основании, как его болезнь. Другим ведь дают же. Я же какая-то проклятая. К тому же хочется дико посмотреть Байкал, которым так восхищалась некогда моя мамахен» (Ф. 355. Ед. хр. 105. Л. 47 об); в письме от 31 июля. «Не смейте обо мне беспокоиться, т. е. я уже пришла в себя и спокойно жду дальнейших вестей от Володарчика или о нем» (Там же. Л. 50). Подробнее о В.Н. Голицыне см. в нашей публикации: Лидия Аверьянова. Памяти кн. В.Н. Голицына. К истории посвящения // Россия и Запад: Сб. статей в честь 70-летия К.М. Азадовского. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 428-440. Какой табакеркой ударил Зубов… Граф Николай Александрович Зубов (1763-1805) – старший из братьев Зубовых, убийца императора Павла Петровича. Кирпичною кровью Мальтийской капеллы… Мальтийская капелла – католическая церковь ордена мальтийских рыцарей; построена в 1798-1800 гг. Дж. Кваренги по указу Павла I (в 1798 г. Павел был избран великим магистром Мальтийского ордена). Стены капеллы выкрашены в ярко-терракотовый («царский») колер. Капелла входи в архитектурный ансамбль Воронцовского дворца, возведенного Ф.-Б Растрелли для канцлера графа М.И. Воронцова; дворец был продан Екатерине II и унаследован Павлом I, предоставившим его мальтийским рыцарям.
Ропша. Сонет («Рогожи нив разостланы убого…»), 1937 – Грани 22. С. 53; Звезда 1995. С. 126. Автографы: СР (страница без номера): 1) на обороте автографа ст-ния «Памяти кн. В.Н. Голицына», 2) на отдельном листе, на пол оборота приписка рукой неустановленного лица: «Lidia would be obliged if you would send yhis to Mrs Betty In haste GR <?>» (перевод: «Лидия будет признательна, если вы отправите это миссис Бетти. В спешке ГР.»).
Ропша – Ропшинский дворец (построен в 1752-1757 гг.; архитекторы Ф.-Б Растрелли, А. Порта) – резиденция императора Петра III (1728-1762), унаследованная им от императрицы Елизаветы Петровны; место его гибели. После дворцового переворота, в результате которого на престол взошла Екатерина II, низвергнутый император был отправлен в Ропшу, где неделю скончался в результате апоплексического удара, по другой версии был убит (задушен братьями Алексей и Григорием Орловыми). …забыт был шалый труд / Того Петра, что был нам не от Бога… По вступлении на престол Петр III, в подражание деду, начал активную реформаторскую деятельность. За время царствования (186 дней), согласно официальному «Полному собранию законов Российской империи», им было принято 192 документа (именные и сенатские указы, резолюции и т. п.), в том числе исторический «Манифест о вольности дворянства», а также указ об упразднении Тайной канцелярии. Азов, Орешек, Нарва и Гангут… места основных сражений и побед Петра I в годы Северной войны за господство на Балтийском море (1700-1721).
…Из Пруссии войска отвел назад… Современники осуждали Петра III за то, что, оказавшись у власти, он прекратил военные действия против Пруссии и заключил мир с Фридрихом II на крайне невыгодных для России условиях, вернув завоёванную в ходе Северной войны Восточную Пруссию. И сломан был, как пряничный солдат… Пряничные солдаты – персонажи сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» (1816), см.: «…вокруг были разбросаны оловянные солдатики Фрица, разные игрушки, поломанные куклы с сюрпризами и пряничные человечки». Слал крыс под суд, бил зеркала по залам… Большая часть анекдотических сведений о Петре III восходит к «Запискам Екатерины II» (1859).
Приорат («В милой Гатчине плывут туманы…»), 1936. Автограф: СР (страница без номера).
Приорат – Приоратский дворец (замок) в Гатчине, возведенный по указу Павла I для Великого приора Мальтийского ордена принца Л.-Ж. Конде, бежавшего из революционной Франции в Россию. Дворец построен в 1799 г. архитектором Н.А. Львовым как стилизация под средневековый католический монастырь или замок (жилище рыцаря), ср.: Кровь окон, готической слюдой… …Неотступный взгляд Императрицы. Мария Феодоровна; до перехода в православие – София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская (Sophia Marie Dorothea Augusta Luisa von Wurttemberg) (1759-1828) императрица с 1796 г. (с 1801 г. вдовствующая), вторая супруга императора Павла I, мать Александра I и Николая I. Здесь, возможно, намек на присутствие в замке фаворитки Павла 1 – Анны Петровны Лопухиной (дочь сенатора П.В. Лопухина, в замужестве Гагарина; 1777-1805). В 1924 г. в Приорате обосновалась экскурсионная станция, с 1930 по 1940 г. размещались базы отдыха некоторых ленинградских заводов. Возможно, Аверьянова имеет в виду близлежащую туберкулезную больницу, находившуюся в деревне Кобрино – бывшем поместье Абрама Петровича Ганнибала, прадеда А .С. Пушкина, которым мать поэта владела до переезда в Москву в 1801 г.; в 1841 г. имение было куплено сестрой писателя С.Т. Аксакова, его племянники владели усадьбой вплоть до революции; впоследствии дом претерпел перепланировку и использовался как туберкулезная больница, ср.: Между коек… ~ …По тарелкам серый суп разлит…
Дача Бадмаева («Там, где заря стоит в сияньи…»), 1937. Автограф: СР (страница без номера); на обороте запись Л. Аверьяновой: «(for the book of Petersburg Verse)» (для книги «Стихи о Петербурге»), Автограф был послан «Беттинке» с письмом из Сосновки от И июня 1937 г., в котором Аверьянова сообщала; «Р.S. Неге is a new poem I wrote in a cottage at the end of our road at Sosnovka, please include it in the book of Petersburg verse, somewhere at the end. LA.» (перевод: «P.S. Вот новое стихотворение, которое я написала в загородном доме в конце нашей дороги в Сосновке. Пожалуйста, включи его в книгу Петербургских стихов, где-нибудь в конце. Л.A.») (Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Gleb P. Struve Collection. Box 75. Folder 2).
Дача Бадмаева – загородный особняк известного в лекаря тибетской медицины Петра (Жамсарена) Александровича Бадмаева (1851?-1920), построен на границе Шувалова и Озерков – на вершине Поклонной горы, в стиле модерн архитектором Е.Л. Лебурде (1885), первое в России железобетонное здание загородного особняка. Бадмаев – крестник императора Александра III, лечил членов семьи Николая II и Григория Распутина, у него бывали министр двора барон Фредерикс, министр финансов С.Ю. Витге и многие др. В 1893 г. на Поклонной горе П. Бадмаев построил школу для бурятских детей, обучение велось по программе классической гимназии. В феврале 1917 г. рабочие разгромили и подожгли «клинику» Бадмаева, после ремонта здание перешло в ведение военных властей и долгие годы пустовало, потом в нем расположилось отделение милиции (в 1981 г. особняк был снесен). Ливадии дворец негибкий / И Александровский дворец… Ливадийский дворец – Большой Белый дворец (летняя резиденции императорской семьи) построен в 1909-1911 гг. по проекту ялтинского архитектора Н.П. Краснова в стиле итальянского Ренессанса для Императора Николая II. Александровский дворец (Новый дворец, Царскосельский дворец) построен в 1792-1796 гг. (по указу Екатерины II в подарок к бракосочетанию её внука – будущего императора Александра I), по проекту Дж. Кваренги, в стиле классицизма; с восшествием на престол Николая II в 1896-1898 гг. Александровский дворец был частично перестроен.
ПРЯНИЧНЫЙ СОЛДАТ. Сонеты 1937
Печатается по авторской рукописи: Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Gleb P. Struve Collection. Box 75. Folder 4.
Сонет-Акростих («В распахнутую синь, в смятеньи голубином…»), 1931. Автограф: ПС. <С. 1>
Адресат акростиха – Всеволод Николаевич Петров. См примеч. к ст-нию «Адмиралтейство» («Маргаритками цветет Империя…»). Вернетесь вы к боям на Волховском мосту… Волховский мост прославился как место частых кровопролитных столкновений, а также праздничных кулачных боев жителей Великого Новгороду согласно новгородским преданиям, палочные бои на волховском мосту были предсказаны сверженным Перуном.
Свиносовхоз («На холмике стоит свиносовхоз…»), 1935. Автограф: ПС. <С. 2> Машинопись: 1) Раков. Л. 11; 2) Раков. Л. 12, с авторской правкой, первонач. вар. ст. 11: «Теперь консервы покупаю я».
В какай Йоркшире эти поросята Йоркшир (Yorkshire) – графство в Великобритании, славящееся породой скороспелых свиней (йоркширских), отличающихся большим весом и высокой плодовитостью, а также свинья такой породы. Отлично нес бы к Риму Ганнибала… Ср.: «Как тот, Великолепный, что когда-то / Нес к трепетному Риму Ганнибала» (Н. Гумилев. «Слоненок» («Моя любовь к тебе сейчас – слоненок…»), 1920); цитату отметил Р.Д. Тименчик. Стилизация под стихотворение «Поросята»; («Весной поросята ходили гулять…») в переводе С. Маршака из его книги английских народных песен для детей. В письме А. Корсуну из Ленинграда в Кисловодск от 25 июля 1934 г. Аверьянова рассказывала о посещении совхоза (в качестве гида ВОКСа она сопровождала иностранцев в поездках на «объекты показа»): «Я был <так!> с одним желтопузым в совхозе, и мне показали поросячью резиденцию, где очень много поросят, которые все – ужасные свиньи, т.к. между собой дерутся отчаянно. Но очень смисно <так!>. 2 подрастающих поросенка бодались пятачками, потом отскакивали, наклоняли головы и смотрели друг на друга, размахивая фостиками <так!>, как маленькие бычки. Замечательно» (Ф. 355. Ед. хр. 105. Л. 40-41).
Центрархив («Ошибки былого. Зачеркнутый быт…»), 1935. – Тименчик Р.Д. Тынянов в стихах современницы // Пятые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1990. С. 247. ПС. С. 3.
Центрархив Ленинградский центральный исторический архив (ЦГИА, с 1992 – РГИА СПб.), основанный в 1925 г. на базе Ленинградских отделений ЦЕНТРАРХИВА СССР, располагавшийся в здании Сената и Синода. Меж венских двух стульев Тынянов сидит… В 1930-е гг. Юрий Николаевич Тынянов (1894-1943) работал над историко-литературными романами (в 1936 г. вышел его «Пушкин»); возможно, автор намекает на увлечение Тынянова психоанализом и работами 3. Фрейда, см.. Калинин Илья. История литературы как Familienroman (русский формализм между Эдипом и Гамлетом) // Новое литературное обозрение. № 80. 4’2006. С. 64-83.
Усыпальница («Купались в молоке громоздкие царицы…»), 1935. Автограф: ПС. С. 4.
Имеется в виду царская усыпальница в соборе Петропавловской крепости, где, начиная с Петра I, хоронили всех российских императоров и императриц до Александра III включительно (кроме умершего в Москве Петра II и убитого в Шлиссельбурге Ивана VI), в том числе великих князей и княжон – детей и внуков императоров. Купались в молоке громоздкие царицы… Согласно историческим преданиям, египетская царица Клеопатра и одна из жен Нерона – Поппея регулярно купались в ваннах, наполненных ослиным молоком, которое считали эликсиром молодости; Екатерина II также принимала молочные ванны в целях омоложения.
Иоанн Антонович («Забытыми в глуши, опальными – что время?..»), 1935 – Русская мысль. 1949. № 142, 3 июня. С.44 Грани 22. С. 53. Автограф: ПС. С. 5.
Иоанн Антонович – См. Послесловие. Пока фарфор шел в горн и Ломоносов пел … М.В. Ломоносов – создатель русского фарфора; в 1744 г. в России был основан один из старейших в Европе фарфоровых заводов («Порцелиновая мануфактура», с 1765 – Императорский фарфоровый завод), во главе которого встал Д.И. Виноградов – ближайший сподвижник М.В. Ломоносова.
В 1925 г. заводу (с 1917 – Государственный фарфоровый завод) присвоено официальное название: Ленинградский фарфоровый завод имени М.В. Ломоносова.
Павел Петрович («Еще Суворов шел, походным будням рад…»), 1935. – Русская мысль. 1949. № 142, 3 июня. С. 4; Грани 22. С. 53. Автограф: ПС. С. 6.
Еще Суворов шел, походным будням рад. / Был чист альпийский снег… В 1798 г. А.В. Суворов, находившийся в опале, под давлением союзников – участников антифранцуэской коалиции был назначен главнокомандующим русскими войсками, под его, руководством была освобождена от французов Северная Италия, 1 осенью 1799 г. русская армия совершила знаменитый переход через Альпы. Испанию кляня, иезуит лукавил… В 1798 г., после того как Наполеон I захватил Мальту (находилась в вассальном подчинении у испанского вице-короля Сицилии), по просьбе рыцарей ордена Павел I принял на себя сан Великого магистра и издал высочайший Манифест об установлении ордена в пользу российского дворянства и Правила принятия в орден. Отверг он, петушась, свой гатчинский насест… Гатчинский дворец (1766-1781) построен по проекту А. Ринальди (единственный замок в пригородах Петербурга); в 1783 г. был подарен Екатериной II Павлу I. Возможно, отсылка к первой строке: фельдмаршал А.В. Суворов был известен чудаческой привычкой: кукареканьем (Ср., например, в «Марсовом поле» (1914) Б. Лившица: «Единый выкрик петушиный»).
Он зодчих торопил кирпичный гроб закончить … Имеется в виду Инженерный замок, см. примечание к ст-нию «Михайловский замок». История на нем мальтийский ставит крест… Мальтийский крест – восьмиконечный крест, использовавшийся рыцарским орденом госпитальеров (иоаннитов – членов католического духовно-рыцарского ордена св. Иоанна Иерусалимского, основанного в XII веке в Палестине). Название «госпитальеры св. Иоанна» рыцари сохранили, равно как и красную мантию с вышитым белым шёлком восьмиконечным крестом – символом целомудрия и восьми рыцарских добродетелей, которыми являются: вера, милосердие, правда, справедливость, безгрешие, смирение, искренность, терпение. Позируя, в сердцах, для самоучки – Тончи?.. Сальватор Тончи (Salavatore Tonci; 1756-1844) – исторический и портретный живописец, образование получил на родине (в Италии), в России с 1797 г., где взял имя Николай Иванович. Портрет императора Павла I в одеянии гроссмейстера Мальтийского ордена (1801), кисти С. Тончи, с 1920 г. находится в Аванзале Гатчинского дворца.
Анна Иоанновна («Упорна; в младших, к прошлому любовь…»), 1935. — Грани 22. С. 52. Автограф: ПС. С. 7.
…Екатерина, Анна, Анна вновь– / Три Парки, прявшие судьбу России… Екатерина I (Марта Скавронская, Екатерина Алексеевна Михайлова; 1684-1727), с 1721 г. российская императрица как супруга царствующего императора, с 1725 г. как правящая государыня; вторая жена Петра I, мать императрицы Елизаветы Петровны. Анна Иоанновна (1693-1740) – российская императрица из династии Романовых (дочь царя Ивана V, племянница Петра I).
В 1710 г. вышла замуж за герцога Курляндского Фридриха Вильгельма, через четыре месяца овдовела. В 1730 г. после смерти Петра II была приглашена на российский престол как монарх с ограниченными полномочиями, но захватила всю власть, разогнав Верховный совет. Время её правления позднее получило название бироновщина по имени фаворита. …Анна вновь… – Анна Леопольдовна (1718-1746) дочь герцога Мекленбург-Шверинского и Екатерины Иоанновны. В России с 1722 г., с 1739 г. – супруга Антона Ульриха, герцога Брауншвейг-Люнебургского. По низложении регента Э.И. Бирона объявила себя правительницей при сыне – младенце-императоре Иоанне VI. В 1741 г. была свергнута в результате военного переворота, приведшего на престол Елизавету Петровну. Умерла в заточении в Холмогорах. Здесь ночью встретилась сама с собой / И умерла императрица Анна… Очевидно, Аверьянова была знакома с «Воспоминаниями графини А.Д. Блудовой» (М., 1888), в которых она, со слов своего деда, подробно описала последние часы Анны Иоанновны, и в частности ее мистическую встречу в тронном зале Летнего дворца с привидением-двойником; «Это моя смерть!» – воскликнула императрица и через несколько дней скончалась (см. указ. издание. С. 66-67).
Три Алексея («Кровавым снегом мы занесены…»), 1935. – Грани 22. С. 54; Звезда 1995. С. 126. Автограф: ПС. С. 8.
Тишайшему, должно быть, были сны / О гибели второго Алексея… Царь Алексей Михайлович («Тишайший») (1629-1676) – второй из династии Романовых, на престоле с 1645 г., согласно историческим источникам, отличался христианским смирением; отец Петра I. Тишайший (лат. clementissimus) – величание, почётный титул, означающий «тишину» (спокойствие, благоденствие в стране во время правления государя; впоследствии, когда в дипломатии латинский язык был заменён французским, величание было переведено на французский (фр. tres gracieux) и с французского как «всемилостивейший». Царевич Алексей (1690-1718) – наследник российского престола, старший сын Петра I от первой жены Евдокии Лопухиной; был лишён права на престолонаследие как изменник, заключен в Петропавловскую крепость, предан суду и пыткам и осуждён на смерть (И в каземате, у сырой стены, / Царевич слег...). Что Дмитрию подобен, убиенный: / Блаженный отрок, третий Алексей… Царевич Дмитрий (1582-1591), князь yглицкий, младший сын Ивана Грозного от Марии Федоровны Нагой, шестой или седьмой его жены (невенчанной), зарезанный в царствование Бориса Годунова как претендент на престол, по другой версии умер от приступа эпилепсии («черной немочи»), во время судорог случайно ударив себя «сваей» в горло. Цесаревич Алексей Николаевич (1904-1918), единственный сын императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, наследник престола, расстрелянный вместе с родителями и сдстрами 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге.
Софья Алексеевна («Сестра в несчастьи, разве вместе с кровом…»), 1935. – Грани 22. С. 52; Звезда 1995. С. 126. Автограф: ПС. <С. 9>
Царевна Софья Алексеевна (1657-1704), дочь царя Алексея Михайловича от первой жены М.И. Милославской; в 1682-1689 гг. регент при младших братьях Петре и Иване (дети царя от Н К. Нарышкиной). Софья пришла к власти, опираясь на стрельцов и своего фаворита Василия Васильевича Голицына (1643– 1714. дипломат, глава правительства во время регентства Софьи; потомок известного литовского князя Гедимина) (.Литовский всадник к славе гнал коня. /…К Голицыну горела ты любовью…). После того, как Петр сверг Софью (1689). Голицын был сослан в Пинегу, где умер (захоронен по завещанию в Красногорском монастыре). Софья была сослана в Новодевичий монастырь, содержалась под стражей; после подавления стрелецкого бунта (1698), в результате которого стрельцы намеревались поставить ее на царство, пострижена в монахини под именем Сусанны (… И монастырь тебе стал вдовий дом…). Горюя о Голицыне моем… См. примечание к ст-нию «Памяти кн. В.Н. Голицына»).
Ледяной Дом («С прозрачных стен уют последний сполот…»), 1935-1937 – День русского ребенка. 1949. Вып. XVI (с опечаткой); Русская мысль. 1949. № 142, 3 июня. С. 4; Грани 22. С. 54. Автограф: ПС. С. 10.
…был смех царицы молод / И сух, над коченеющим шутом… Имеется в виду дом, построенный из плит льда на Неве между Адмиралтейством и Зимним Дворцом по указу императрицы Анны Иоанновны для забавы, придуманной камергером А.Д. Татищевым в 1740 г.: шутейной свадьбы придворного шута императрицы кн. Михаила Алексеевича Голицына и одной из ее приживалок, калмычки Авдотьи Ивановны Бужениновой. Шутейная свадьба описана в историческом романе И.И. Лажечникова «Ледяной дом» (1835), из эпохи царствования императрицы Анны Иоанновны и Бирона (образ ледяного дома предстает как символ российской империи). Ипатьевых давно проветрен дом… Дом инженера Ипатьева в Екатеринбурге (Свердловске, с 1924 по 1991 гг.), на углу бывших Вознесенского проспекта и Вознесенского переулка, в подвале которого в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. был расстрелян вместе с семьей последний российский император Николай II, тела были облиты серной кислотой и сожжены (ср.: …за костер Свердловска).
Сосед Господь («Чистейшие да узрят сердцем Бога…»), 1935. Автограф: ПС. С. 11.
Du Nachbar Gott, wenn ich – Rilke – цитата из ст-ния Райнера Марии Рильке (Rainer Maria Rilke; 1875—1926): «Du, Nachbar Gott» («Du, Nachbar Gott, wenn ich dich manches Mal…») – «Ты, сосед Бог» («Не сетуй, Боже, тихий мой Сосед…», 1899 (перевод Б. Марковского). Развернутая рецепция основного мотива стихотворения «Du, Nachbar Gott» Рильке. 11 июня 1937 г. Аверьянова писала Бетги: «The Rilke verse are wonderful I simply hear them in Russian but no one would publish a “Russian version” just now, especially under my signature» (перевод: «Стихи Рильке поразительные, я просто слышу их по-русски, но сейчас никто не опубликует “Русский перевод”, особенно за моей подписью») (Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Gleb P. Struve Collection. Box 7S. Folder 2).
Дополнение к книге «Серебряная Рака. Стихи о Петербурге. 1925-1937»
Колокол св. Сампсония («Он был подобен темной сливе…»), 1937. – Мосты. С. 136; Звезда 1995. С. 128. Автограф: СРД.
Колокол св. Сампсония. Храм во имя Св. Сампсония Странноприимца был заложен Петром 1 в честь победы в битве под Полтавой, решившей исход Северной войны. Согласно распоряжению Петра I, церковь возвели возле Выборгской дороги, ведущей в сторону владений шведского короля. Поначалу это была маленькая деревянная церковь (освящена в 1710); перестроена в собор в 1728-1740 гг.; собор был открыт при императрице Анне Иоанновне. Архитектор собора – П.А. Трезини (см.: Петровский зодчий мудро вывел…), архитектор колокольни неизвестен. Высота здания до карниза – 8, 2 м; до креста купола – 35, 1 м. Луковичные купола собора, тесно скомпонованные на одном барабане, находятся в центре крыши. Колокольня разделена на три яруса, ее завершает восьмигранный шатёр с ложными окнами, шатёр увенчан луковичной маковкой с крестом. В 1938 г. в соборе были прекращены богослужения, его стали использовать как овощной склад; по другим сведениям там размещался магазин готового платья. В 1933 г. с него были сняты все колокола, за исключением главного. Он был подобен темной сливе… Собор был выкрашен в интенсивный голубой цвет. Пусть спит Хрущев, еще не тронут… ~ …Уж сбита тяжкая корона, / …с герба Еропкиных… В 1711 г. возле Сампсон невского храма по решению Петра 1 устроили кладбище для захоронения иностранцев (все приехавшие в Санкт-Петербург иностранцы – странники, потому и должны найти свой покой у церкви святого Сампсония Странноприимца). При соборе были похоронены зодчие Д. Трезини, А. Шлютер, Ж.-Б. Леблон, Г. Маттарнови, скульптор К.Б. Растрелли, личный врач Петра I – Блюментрост, фельдмаршал Миних и др. В 1740 г. здесь были похоронены казненные по обвинению в заговоре против Бирона («враги Бирона»): А.П. Волынский, Андрей Федорович Хрущев (1691-1740, советник адмиралтейской конторы) и Петр Михайлович Еропкин (1698-1740, архитектор). По указу Екатерины II над могилой Волынского, Хрущева и Еропкина была установлена памятная плита; в 1885 г. на народные деньги установлен памятник (архитектор М. Шуров, скульптор А. Опекушин). Ныне кладбище утрачено, на его месте – Сампсониевский сквер; в советское время – парк им. Карла Маркса. В письме в редакцию «Русской мысли» Г. Струве писал: «По поводу одного из стихотворений в “Мостах” Ю.К. Терапиано пишет: “В стихотворении № 12 есть упоминание Хрущева; оно, значит, не такое уж давнее”. Это замечание основано на каком-то странном недоразумении. Во-первых, под стихотворением этим («Колокол св. Сампсония») стоит дата: “1937”, и, как я указываю в своей вступительной заметке, все стихи Лисицкой написаны главным образом и не позднее 1937 года. А, во-вторых, упоминаемый в стихотворении Хрущев, как ясно из всего контекста, никакого отношения к нынешнему советскому диктатору не имеет» (Струве Глеб. О стихах А. Лисицкой // Русская мысль. 1962. № 1886, 4 сентября). Чугунный Петр – хранитель храма… Памятник Петру I перед Сампсониевским собором работы скульптора М. Антокольского был открыт в 1909 г., по случаю празднования 200-летия победы под Полтавой. К торжествам здание собора было отреставрировано; на южном и северном фасадах колокольни установили мемориальные чугунные доски с обращением императора Петра к русским воинам. Скульптура находилась на постаменте до 1929 г., затем памятник разобрали (под предлогом реконструкции и расширения проезжей части проспекта, названного именем Карла Маркса). В 1940 г. памятник перевезли в Третьяковскую галерею.
«У костюмерной мастерской…», 1937. Автограф: СРД.
У костюмерной мастерской… Вероятно, костюмерные и бутафорские мастерские Мариинского театра (с 1934 по 1992 г. – Ленинградский государственный академический театр оперы и балета имени С.М. Кирова) и Консерватории (ср: За три квадрата от Морской / Канал идет, как черный инок…). Четыре злых крылатых льва / Плюют со скуки друг на друга… Имеется в виду Банковский мостик через канал Грибоедова (по названию находящегося рядом здания Ассигнационного банка, см.: Где банк велик и кругл, как цирк). Подвесной мост был построен в 1825-1826 гг. по проекту инженера Вильгельма фон Треттера, украшен угловыми скульптурами грифонов работы П.П. Соколова. Так встала Кана в Божьем слове… Евангельский образ: превращение воды в вино – первое чудо, совершённое Иисусом Христом во время брачного пира в Кане Галилейской (Ин. 2: 1-1).
Сонет («Люблю под шрифтом легшие леса…»), 1937. Автограф. СРД.
Люблю под шрифтом легшие леса… Метафора в значении: газеты. …что Божья ей роса? … Усеченная форма русской народной пословицы: «Хоть плюй в глаза – ему всё божья роса».
«Превыше всех меня любил…», 1934-1937 Автограф – СРД. Элизиум теней чужих… Элизиум (греч. миф) – загробный мир, где обитают тени (души) праведников. Ср.: «Душа моя элизиум теней…» – первая строка одноименного ст-ния Ф.И. Тютчева (начало 1830-х гг.). На толпы делят пять хлебов / И об одеждах мечут жребий… Евангельская аллюзия, см.: Мк. 6:37-44; Лк. 9: 12-16.
«Россия. Нет такого слова…», 1934-1937. – Новое Русское Слово. 1963. 15 февраля (ст. 1-4). Автограф: 1) СРД; подтекстом записано стихотворение А. Пушкина «Нимфодоре Семеновой» («Желал бы быть твоим, Семенова, покровом…»), с неточностями; 2) Там же, строфа I, по старой орфографии.
«Есть у Лисицкой и стихотворение под названием “Россия”, горьким тоном своим перекликающееся со стихами Максимилиана Волошина и Георгия Иванова <…>» (Струве Глеб. Стихи А. Лисицкой // Мосты. С. 124).
Из ЛИРИЧЕСКОГО ЦИКЛА, посвященного Л. Л. Ракову <1935>
Лирический цикл, посвященный Л.Л. Ракову, стал известен из его воспоминаний, опубликованных посмертно; впервые: Раков Лев. Роман в стихах / Публ. Анастасии Раковой / Звезда. 2004. № 1. С. 96-102; в книге: Лев Львович Раков. Творческое наследие Жизненный путь / Автор-составитель А.Л. Ракова. СПб.: Государственный Эрмитаж (Серия: «Хранитель»). С. 140-149.
В «Романе в стихах» приведены двенадцать стихотворений, относящиеся к событиям осени 1934 (?) – весны 1935 гг., и фрагменты еще двух не сохранившихся, процитированных автором по памяти. Полный состав лирического цикла неизвестен. Обращенных к Л.Л. Ракову стихотворений у Аверьяновой было значительно больше, о чем адресат упоминает в своем мемуарном очерке; об этом же свидетельствует и рукопись «Серебряной Раки». В «Роман в стихах» вошли лишь пять стихотворений из этой книги: «Дворец был Мраморным – и в пору…», «Фельтен для Тебя построил зданье…», «Других стихов достоин Ты…», «Как Гумилев на львиную охоту…», Летний Сад («Младшим стройное наследство…»). Очевидно, Раков, работавший над мемуарами в 1960-е гг., переживший в прошлом два ареста – в 1938 и 1950 гг., с обысками и тюрьмами («В 1938 году все стихи Лидии Ивановны были у меня отобраны при обыске»), мог воспользоваться лишь теми стихотворениями, автографы которых ему предоставила P.Л. Любович (помимо двух, найденных в его бумагах во время работы над мемуарами).
История появления лирического цикла подробно рассказана Раковым в «Романе в стихах». Ее можно дополнить лишь небольшим комментарием – из письма Л. Аверьяновой к А. Корсуну от 17 октября 1935 г.: «Вчера под утро приснился мне … Раков, а утром Джон позвал меня к телеф<ону> – и оказалось, что звонит он же! “Что сей сон значит?” Он долго и сбивчиво бубнил, что позвонил, т.к. факт существования стихов его очень «бодрит» (sic), но в какой именно мере – не объяснил. Видеть меня он боится, т.е. думает, что я очень в нем разочаруюсь и т.п. Я разговаривала с ним несколько высокомерно, и, видимо, он очень себя чувствовал странно, всё время повторял, как он не достоин и как это его "подбадривает", потом ни с того, ни с сего вдруг попрощался в середине разговора. Я его не видела с весны и очень всему этому удивляюсь, особенно же “сну в руку” – ибо ведь телеф<онная> трубка держится и именно в руке…» (Ф. 355. Ед. хр. 105. Л. 69-69 об).
Цикл формировался спонтанно и, возможно, не осознавался Аверьяновой как законченное поэтическое целое. Авторский порядок расположения стихотворений не известен; мы воспроизводим их по тексту воспоминаний и в той последовательности, которую
предложил мемуарист. Пять стихотворений, вошедшие в сборник
«Серебряная Рака», повторно не печатаются.
«Ты Август мой! Тебя дала мне осень…», <1935>– Звезда 2004. С. 96 – Ракова А.Л. С. 140-141. Датируется по содержанию. Ср.: «И – месяц Цезаря – мне август улыбнулся» (О. Мандельштам. «С веселым ржанием пасутся табуны…», 1915).
«Не услышу твой нежный смех…», 1935. – Звезда 2004. С. 97 – Ракова А.Л. С. 142. Автограф и машинопись: Раков. Л. 7, 15; посвящение: Л. Ракову.
«Стой. В зеркале вижу Тебя…», 1935 – Звезда 2004. С. 98 – Ракова А.Л. С. 142. Автограф и машинопись: Раков. Л. 7, 15.
«К вискам приливает кровь…», <1935>. – Звезда 2004. С. 98 – Ракова АЛ. С. 142-143. Автограф: Раков. Л. 7 об. Машинопись: Там же. Л. 18. Датируется по содержанию.
Книга Руфь… — …Книга Числ… ~ …Книга Царей… ~ …Книга Юдифь… ~ …Книга Эсфирь… ~ …Книга Агарь… Перечисление канонических книг Ветхого Завета, за исключением последней, история Агари изложена в двух эпизодах книги «Бытие»: 16:1-16 и 21: 9-21.
«Тот неурочный зимний сад…», <1935>. – Звезда 2004. С. 99 – Ракова А.Л. С. 145. Датируется по содержанию.
Стихотворение написано по случаю похорон Оскара Фердинандовича Вальдгауэра (1883-1935), историка античного искусства, главы Античного отдела Эрмитажа. Подробнее см. в мемуарном очерке «Роман в стихах».
«Твой голос? Не бойся: не вздумаю я…», <1935>. – Звезда 2004. С. 99 – Ракова А.Л. С. 146-147. Датируется по содержанию.
Как будто я – Фигнер, а голос меня… Николай Николаевич Фигнер (1857-1918) – оперный певец, выдающийся лирико-драматический тенор; прославился в партии Ленского («Евгений Онегин» П.И. Чайковского); среди лучших партий – Хоэе («Кармен» Ж. Бизе), Вертер («Вертер» Ш.Ф. Гуно), Альфред («Травиата» Дж. Верди»), Лоэнгрин («Лоэнгрин» Р. Вагнер), Отелло («Отелло» Дж. Верди); возможно, его сестра, Вера Николаевна Фигнер (1852-1942) – революционерка-террористка (член исполнительного комитета «Народной воли»), в 1883 г была выдана полиции и провела в одиночном заключении в Шлиссельбургской крепости двадцать лет. Как будто – Рылеев. Стою. На плацу… Кондратий Федорович Рылеев (1795-1926) – поэт, декабрист, один из пяти казнённых руководителей декабрьского восстания 1825 г. Перовская? Гельфанд? Засулич?.. Софья Львовна Перовская (1853– 1881) – одна из руководителей «Народной воли» и организаторов убийства императора Александра II, осуждена и повешена. Геся Мировна (Мееровна) Гельфман (1855-1882) – член Исполнительного комитета «Народной воли», приговорена к казни, замененной вследствие ее беременности пожизненным заключением, умерла в тюрьме после родов. Засулич Вера Ивановна (1849-1919) — народница, покушалась на жизнь петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова (1878), оправдана судом присяжных.
«Никогда не бывало. Не будет. Нет…», 31 января 1935. – Звезда 2004. С. 99 – Ракова А.Л. С. 148.
Нежней апулийских двухцветных вещей, / Мрачнее тарентских изделий… Имеются в виду краснофигурные вазы из собрания Эрмитажа, изготовленные в Апулии в период с 430 по 300 г. до н.э.; основной центр гончарного производства находился в Таренте.
«Все в жизни – от будущего тень…», 2 февраля 1935. – Звезда 2004. С. 102 – Ракова a.Л. С. 146. Верхом на пеонах… Пеон – четырёхсложная стихотворная стопа с одним ударным и тремя безударными слогами. Пеоны различаются в зависимости от того, на какой слог стопы приходится ударение (на 1 –й, 2-й, 3-й, 4-й слог). Данное ст-ние написано пеонами смешанного типа.
Стихотворения из писем к А.И. Корсуну
Стриж («В косом полете, прям, отважен…»), 16 сентября 1938. – РЛ. С. 246. Автограф: Ф. 355. Ед. хр. 106. Л. 63; посвящение: А.И. Корсуну.
Ворвался грудью в пейзаж… ~ …Заснул, кляня свой вояж… Нарушение размера (четырехстопный ямб); возможно, это связано с авторской фонетикой этих слов, в частности, с петербургским произношением: если произносить их как во французском языке (дополнительные фонемы в русском письме не отражены), то сбоя ритма не будет. И, по знакомству, у Пуссэна… В Государственном Эрмитаже хранится коллекция картин Никола Пуссэна (1594-1665), наиболее известны из них: «Снятие с креста», «Отдых на пути в Египет», «Св. Иоанн на Патмосе» и некоторые другие; о какой именно картине здесь идет речь – не ясно.
Сонет («Прекрасны камни Царского Села…»), 16 сентября 1938. – РЛ. С. 247. Автограф: Ф. 355. Ед. хр. 106. Л. 64.
Ораниенбаум с прогнившей балюстрадой… Большой Ораниенбаумский (Меншиковский) дворец (1710-1725; архитекторы: Д.М. Фонтан и И.Г. Шедель; в последующей перестройке участка вали: М.Г. Земцов, П.М. Еропкин, И.К. Коробов, Ф.Б. Растрелли, А. Ринальди и др.) имеет два яруса террас с пандусами и лестницами, огражденными деревянными балюстрадами; с 1743 г. – резиденция вел. кн. Петра Федоровича, будущего императора Петра Ш; с конца XVIII в. – загородная резиденция царской семьи. В 1919 г. в здании размешалась Сельскохозяйственная школа, затем Лесной техникум, в 1930-е гг. дворец находился в распоряжении военно-морских сил. Протёрт газон еще Петрова сада… Петровский парк около дворца Петра III и не сохранившейся потешной крепости Петерштадт (ансамбль возведен А. Ринальди в 1758-1762 гг.) – к юго-востоку от Большого дворца, признан одним из лучших образцов пейзажного парка в России, создан в 30-е гг. XIX в. Джозефом Бушем по типу итальянских садов.
Стихотворения, не включенные в сборники
«Простор стихающей Невы…», <1922>. – ЗР, псевдоним: Эллида Крейслер. Машинопись, с правкой: Ф. 355. Ед. хр. 99. Л. 7; без датировки, с правкой: первонач. вар.: ст. II и III – в обратном порядке.
«Зреющая Россия. Альманах первый» (машинопись), на обороте титульного листа: «Настоящий сборник перепечатан в количестве шести экземпляров. № 4. Экземпляр Эллиды Крейслер». Подборка начинается стихотворением «Угоден Богу каждый спелый колос…» (л. 6 об.), вошло в сборник «Vox Humana», см. наст. изд.
EnAutomne («Осень. Вечерний ветер…»), 1922. – ЗР, псевдоним: Элида Крайслер. Машинопись с правкой: Ф. 335. Ед. хр. 99. Л. 7 об.; без датировки.
«Высокий звон и говор птичий…», 5 декабря 1925.- ЗР псевдоним: Эллида Крейслер. Автограф: Р I. Оп. 25. Ед. хр. 202. Л. 21 (Альбом А.А. Саксаганской); под текстом запись: «5 / XII 25. В благодарность за дорогие слова о моих стихах – Анне Абрамовне Саксаганской». Анна Абрамовна Саксаганская (урожд. Немировская; 1870-1939)-драматург, беллетрист; см. о ней статью И.П. Гамулы: Русские писатели: 1800-1917. Биографический словарь. М.: Большая Российская Энциклопедия, 2007. Т. 5. С. 452-453.
Возводит свой Четвертый Рим… Вероятно, отсылка к поэме Н. Клюева «Четвертый Рим» (1922).
«Мне легла не большая дорога…», 1925. Автограф: Ф. 172. Ед. хр. 615-617. Л. 2; на обороте штамп: «Г.И.И.И. Кабинет Современной литературы». Ст-ние входило в подборку для журнала «Звезда», см. примеч. к стих. «Стихи о Кронштадте».
«Зимой не бывает горлиц…», 1925. Автограф: Ф. 172. Ед. хр. 615-617. Л. 2. На обороте штамп: «Г. И. И. И. Кабинет Современной литературы».
Сестрам Запада («Взгляд – усталый, в лице – ни кровинки…»), <1927>.-Красная газета. Утр. вып. 1927. №55 (2701), 8 марта. С. 2.
Песня о Джанкое («Порох и плач…»), <1928>. – Красная газета. Утр. вып. 1928. № 151 (3096), 1 июля. С. 5.
Джанкой – «горячая» точка Гражданской войны; вплоть до ликвидации Южного фронта в ноябре 1920 г. город неоднократно находился в руках немецких, англо-французских войск и армии Деникина. В Джанкое дислоцировалась английская военная миссия, греческий батальон, а также штаб генерала Слащева. «Джанкой» воспринимается как развитие сюжета ст-ния Михаила Светлова «Пирушка» (1927) – Аверьянова как будто бы выступает в роли со-поэта, дописывает свой вариант ответа комбрига на просьбу комбата «рассказать»: «Расскажи мне о том, / Как пылала Полтава, / Как трясся Джанкой, / Как Саратов крестился / Последним крестом». Связь отмечена Р.Д. Тименчиком
Нефтепровод («Земля, какая только лучшим сниться…»), б.д. Машинопись (неавторизованная): Ф. 355. Ед. хр. 104. Л. 4.
Чтоб этот сказ о Красном и о Черном / Нам перебил Стендаля, наконец. Стендаль (наст, имя: Мари-Анри Бейль; Marie-Henri Beyle; 1783-1842) – автор романа «Красное и Черное» (1830). Вероятно, ст-ние написано в период пребывания Аверьяновой на Кавказе летом 1930 г.
«– Вернись, страна, в высокий город твой…», 1931. Автограф: Раков. Л. 8. Машинопись: Там же. Л. 16.