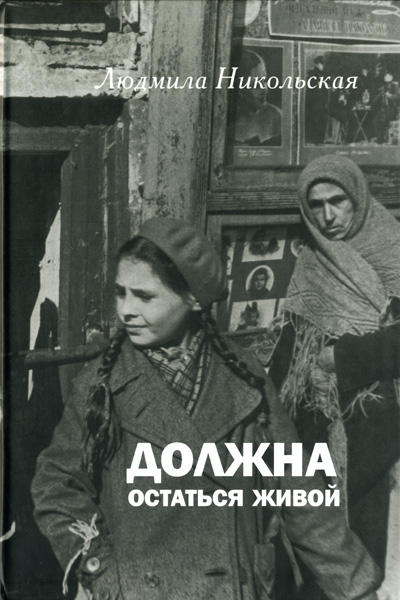
Никольская Людмила Дмитриевна.
Должна остаться живой.
Повесть
Светлой памяти МИЛЫ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Сон и пробуждение
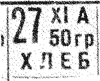
Запах. Необыкновенный, ни с чем не сравнимый! Майя вся пропиталась этим запахом. Стала не Майей — ароматным облаком. Она глубоко и редко дышит. Её плечи уже подпирают уши. Она боится шевельнуть рукой, боится шевельнуть ногой. Чтобы неловким движением не прогнать дивный запах парного молока. Чтобы он не улетел от неё, не исчез навсегда.
Она смотрит на молоко, льющееся из подойника. На глиняный горшок сверху наброшена старая жёлтая марля. В углах её великое множество больших и малых пузырьков-бусин. Они дрожат, лопаются, невесть куда пропадают. Затем вновь появляются.
Неожиданно молоко полилось широкой лентой. Она мягко поблёскивает на заходящем солнце. Вдруг марля втягивается внутрь горшка. Тётя Катя досадливо ойкает, крепче прижимает к боку подойник с вмятиной, свободной рукой бьёт комара на лбу и расправляет осевшую марлю.
И снова течёт молочная река, уходит в глиняные горшки.
А они — как солдаты в строю. Тут и новые светло-жёлтые, и коричневые с узкой полоской по верху, и тёмные выщербленные, треснутые ветераны, побывавшие в лихих печных переделках.
Майя ждёт.
Молоко стало невыносимо пахучим. Она крепче уткнула локти в свежевымытый деревянный стол. Коленки ёрзают по табуретке. Она то и дело облизывает сухие горячие губы, а в её руках зажата огромная фаянсовая кружка с размытым неведомым цветком.
Она уже изнывает от нетерпения, а молоко всё льётся.
Остаётся один чёрный горшок. Самый большой и старый.
Смотреть стало невыносимо. И Майя отвернулась.
Возле стола на полу дружно сидят кот Валет и дворняга Узнай. Они тоже ждут. И тоже не сводят внимательных глаз с подойника. Кот сидит плотно, солидно, облизывается неторопливо, с достоинством. Знает себе цену. Старый слезливый Узнай громко сопит, нервно с лёгким повизгиванием зевает. И тоже облизывается. Но делает это деликатно и украдкой. Понимает Узнай, что служить стал совсем плохо, а есть, наоборот, хорошо.
Все горшки налиты до краёв. Тётя Катя облегчённо вздыхает. Гулко звенит пустой подойник. Она лукаво оглядывает собравшуюся возле неё компанию, вытирает медленно потное лицо и говорит ласково и певуче:
— Налетайте, пока я добрая. Такую уйму надоить! Ужо, племянница, нарви нашей Зорюшке мягкой травки-мокрицы. Заслужила наша кормилица.
Майя кивает головой, берёт полную кружку и подносит к глазам. Молоко дышит, как живое. И мелко-мелко пузырится. Майя глубоко вдыхает ускользающий запах летних трав, настоянных на солнце. И пьёт шумными жадными глотками, то и дело замирая от нереальности происходящего.
Майя пьёт и не может от кружки оторваться. Странно, но молока не убавляется. Скорее, наоборот. Она пьёт и удивляется нескончаемому молоку в кружке. Её живот, она это чувствует, стал плотным тугим шаром…
— Вставай! Да поднимайся же, наконец.
Майя с трудом разлепила один глаз. С него ещё не сполз сонный туман, но куда-то отодвигаются Валет с Узнаем, горшки с молоком и приветливое тёти Катино лицо. Прямо перед Майей встревоженное лицо мамы.
— Не шевелишься, не откликаешься. Что с тобой? Разве можно так меня пугать? Поднимайся! В очередь за хлебом надо идти. Софья Константиновна за тобой придёт. Она и тебе очередь обещала занять. Господи, не шевелится. Лежит, словно чурка!
А Майя недоумевает. Она широко раскрывает оба глаза, потом закрывает их. И лежит ошеломлённая. Она не понимает, где находится! Что с ней происходит! Только что она была в деревне Руе у тёти Кати. Держала в руках полную кружку с молоком, пила его бесконечно долго. На длинном столе в ряд стояли горшки с молоком. Разве так бывает? Она не узнаёт холодный мрачный сумрак комнаты.
Она узнавать ничего не хочет.
Она здешнего ничего не хочет.
Ей хочется вернуться в прекрасный сытный сон, где рекой льётся парное молоко, а в буфете полным-полно хлеба и масла. Она вдруг поняла, как незаслуженно, жестоко обманута, и задохнулась от обиды.
— Я пила молоко, — угрюмо сказала она.
— Майя, ты видела сон. А тут реальность.
— Не веришь? В кружке помещается целое море. Что качаешь головой? А запах, а вкус во рту? Смотри, какие губы у меня сладкие. И живот раздулся, как барабан. Отчего же такой живот? Если я не пила парное молоко, отчего он такой?
Она больно натолкнулась на чугунный утюг, лежавший на её животе. Как он туда попал. Она горько сказала грустно глядевшей на неё маме:
— Зачем разбудила? Я спала себе, есть у тебя не просила, тебе не мешала.
Она подтащила двумя руками тяжёлый утюг к самому носу. Молоком он не пах. А у неё на губах ещё таял слабый запах молока, улетучиваясь в сумрак. Разве бывает такое? Ей страстно захотелось вернуться в прекрасный сон. Майя стала гладить шею кончиками пальцев, еле к ней прикасаясь. Сколько она помнит — это её успокаивало, и она засыпала без всяких там сказок и глупых песенок.
…Бежит она к реке. Солнце проснулось, вылезло из-за деревьев и побежало вместе с ней. Трава под ногами длинная, вся в каплях росы. Роса сверкает красными, зелёными, синими брызгами. Ноги тоже сверкают, а кусты цепко хватают за платье. В тихой зеркальной реке что-то так и вскидывается ей навстречу. Живое и сильное. И ей подмаргивает.
Если это лещ моргает, то его надо поймать и зажарить. А если щука, то её лучше сварить, щучьего супу им хватит на целую неделю. Если же есть помаленьку и не каждый день, то вполне хватит на месяц. Надо успеть поймать…
Солнце превращается в громадный каравай хлеба. Такой густой аромат расходится от него, что вся рыба высунулась из воды. Что же делать? За караваем на небо лезть или рыбу ловить в речке. Столько еды сразу! С ума можно сойти!
— Опять спит. Что с ней делать! Может, заболела?
Холодная мамина рука легла на лоб. Ещё не проснувшись, Майя заплакала. Она ещё была на тихой речке, видела каравай-солнце, стоявший над миром, глядела на щуку, желавшую во что бы то ни стало плюхнуться в её ведро. И в то же время она отчётливо слышала маму, чувствовала её руку на лбу.
— Зачем меня будишь? Будишь и будишь. Я смотрю сны. Тебе, что ли, жалко молока? Невсамделишнего. И рыба теперь помешала… Ты и не знаешь, что солнце может в каравай хлеба превратиться. Такой здоровый, что его хватит на весь Ленинград. А щука сама захотела залезть в ведро. Не веришь?
— Не болтай глупости. В очередь надо собираться. Нельзя много в постели лежать. Голодные люди во сне слабеют, мне пора уходить, а я перчатку никак не довяжу… Ты не просыпаешься, паршивая духовка не растапливается. Хоть плачь!
Майя будто ждала именно этих слов. Она села на заваленной одеялами постели и заплакала. Плечи мелко дрожали, как хвост Узная во сне. Так она никогда ещё не плакала. Нет, кажется, один раз, когда Фридька зажал Майину косичку между дверей. Пружинистая дверь только того и ждала. Она так саданула её по затылку, что из глаз высыпался с десяток ярких молний. Правда, слёзы были другими. В них была боль и невозможность сиюминутного отмщения. Потому что она была не драчливой, а Фридька, по её мнению, нахальный хулиган.
Уже в носу набухло, слюна стала вязкой, застревала в горле непроглатывающимися комками, но самым ужасным стало исчезновение запаха парного молока и свежеиспечённого каравая. Словно их никогда и не было в её жизни.
Она сидела, раскачивалась взад-вперёд тощим телом и монотонно бубнила:
— Не дала попить молока, не дала поесть хлеба, не дала поймать щуку. Тебе, что ли, жалко было?
Мама сняла с одеял зимнее пальто, набросила на окоченевшие Майины плечи. И гладила шершавыми пальцами взлохмаченную дочкину голову.
Сквозь слёзы Майя глядела на неё. Как изменилась мама! Кожи на лице стало больше. От носа к ушам разбежались глубокие борозды-морщины. Одежда на ней болталась. И ноги мамины стали макаронами. А ступни, наоборот, удлинились. Только грустные глаза стали больше и красивее. Вот она задумчиво проводит по лицу ладонью. Так она отгоняет неуютные мысли и разглаживает морщинки. Невидимые до войны.
Война идёт шестой месяц. Целую вечность. Всё резко разграничилось. До войны. В войну. Словно две жизни. Та промчалась, а эта длится целую вечность. Хочется плакать или замереть на месте и ждать, когда она кончится. Ведь должна же война кончиться?
— Успокоилась? Собирайся поживей. Не терзай мне Душу.
— Я в самом деле пила молоко, — начала Майя. — И каравай висел вместо солнца. Запах густой, тёплый. Всё вокруг стало жёлтым, нет, скорей, коричневым… Не веришь? И кот Валет с Узнаем разговаривали. Оказывается, он жив, а тётя Катя писала, что давно околел.
Мама помрачнела.
— Что-то с Катенькой. Там уже давно фашисты. Может, и живой нет… Писал Дмитрий, что там на дорогах делается… Дороги забиты беженцами. С детьми, в одних платьях, узлы и чемоданы в канавах валяются. А немцы бомбят, обстреливают!
— Как нас? Мамочка, парное молоко, оказывается, такое вкусное. Как я его не любила? Я пью, а оно не убавляется. Разве такое бывает?
— Во сне всё бывает. Вставай, одевайся, замёрзла вся.
— Рыба, мамочка, сама из речки высовывалась. Одна здоровая щука сама захотела залезть в ведро… Я подумала, не Емелина ли это щука. А лещ, тоже здоровый, таращил на меня глаза!
Майя видит, что мама думает о своём, но уже не может остановиться. Ей надо выговориться, она не может носить в себе одновременно горе и удивление.
Но мама отошла к топившейся «буржуйке».
Майя встала, натянула на бумажные чулки тёплые шерстяные, надела свою, потом мамину кофты и думает, что надо сегодня сходить к Мане. Уж ей-то она подробно расскажет свой удивительный сон.
В дверь осторожно постучали. Затем дверь отворилась, и на пороге встала соседка Софья Константиновна.
— Можно к вам, Наталья Васильевна?
— Войдите, пожалуйста, Софья Константиновна, — запоздало сказала мама. Она не пошла навстречу соседке, только зябко повела плечами.
— Извините, я прикрою дверь.
Мамины глаза прикованы к платью, аккуратно разложенному на диване. Это её лучшее платье. С вечера оно приготовлено для барахолки.
Майя видит, как маме нелегко с ним расстаться. Поняла это и Софья Константиновна, бросив мимолётный взгляд на маму и на диван.
— Отвлекитесь, милая. Я буквально на минутку. Я всех в очереди предупредила, что придёт девочка в красненьком пальтишке. Хорошенькая такая.
— Моё пальто красивого болотного цвета. А лицо вовсе не хорошенькое. Нос у меня как непропечённая картошка, — бурчит Майя.
— Правда? Ну, не важно, Майечка. Ты будешь стоять за женщиной в чёрном пальто. Оно буквально ей до пят. Знаете, чересчур длинное пальто. И с опущенными ушами.
— У неё уши опущенные? — удивилась Майя и поглядела на маму. Мама не улыбнулась.
— Ты не поняла меня. Буквально опущены уши у мужской шапки, которая на женщине. Какая непонятливая девочка. А может быть, эта дама — мужчина? Люди стали странным образом на себя непохожи. Все почему-то на одно лицо. Многие ходят немытыми. Да, о чём это я? Булочная закрыта, на улице темнотища. Вероятно, в ней хлеб отсутствует. Ты, Майечка, её или его разглядишь запросто. У тебя буквально кошачьи глазки.
— Кого разглядишь? Хлеб?
— Непонятливая девочка. Конечно, даму. А может быть, она всё-таки мужчина? Но сзади тебя определённо стоит дама. На её ногах фетровые ботики. Но дама почему-то в саже, ботики тоже. Может, у неё «буржуйка» коптит. Или зеркало разбомбили. Ведь не работает же она этим… как его…
Софья Константиновна задумалась.
— Печником, — развеселилась Майя. Она увидала на щеках и под носом Софьи Константиновны яркие сажевые дорожки. И как Софья Константиновна могла в темноте разглядеть сажу на ботиках дамы.
— Трубочистом, — рассеянно подсказала мама.
— Правильно, милая. Как есть трубочистка. А с виду такая интеллигентная дама. Не следить за чистотой — это потеря бдительности. Сколько предостерегают по радио, что надо быть начеку от происков врагов. Буквально уши все прожужжали…
Лицо мамы досадливо поскучнело. Майя поняла, что Софью Константиновну занесло не в «ту степь».
— Я немного отвлеклась. Ты всё поняла? Вам, Наталья Васильевна, жаль менять такую поэзию на кусок вульгарной конины. Или несъедобной дуранды. Надо бодриться, не веселить печалью наших врагов. Лично я не могу решиться что-либо променять. Дивные вещи отдавать за невесть что!
В лохматой заячьей шапочке, с лентами, болтающимися под подбородком, и в сером элегантном пальто, затянутом широким мужским ремнём, Софья Константиновна была неузнаваемой. И только ноги её в фетровых ботиках на каблучках были прежними — тонкими и маленькими. Как у козы.
Майя фыркнула и согнулась пополам в беззвучном смехе. Софья Константиновна подозрительно на неё поглядела, мама рассердилась:
— Только что плакала, а теперь смеётся. Странная, на себя стала непохожей. Что-то с нервами. А у кого они в порядке? Не стой в одних чулках на ледяном паркете. Не хватает воспаления лёгких.
— Не натопишься. У меня, к счастью, на одном окне стёкла целы.
Стёкла в Майиной комнате вылетели неожиданно.
В конце сентября под утро Майя с мамой возвратились из бомбоубежища. И замерли на пороге, не узнавая своей комнаты. После ночных бомбёжек, серые, не выспавшиеся, они боялись войти в комнату. Такой холодной, страшной, неуютной была их комната. Зияли провалы окон. Лёгкие карнизы с чёрной маскировочной шторой куда-то бесследно исчезли, словно их никогда и не было.
— Господи, как жить-то будем? — охнула мама.
— Вот это да, — озадаченно сказала Майя.
Мама, всхлипывая, бегала по комнате, а Майя обалдело стояла на пороге, не решаясь войти. У неё возникло жуткое ощущение, словно сама война заглянула в комнату. Раньше война оставалась за стёклами с полосками и за чёрной шторой. В комнате, особенно под одеялом, Майе было даже спокойнее, чем в бомбоубежище, набитом нервными невыспавшимися людьми.
— Как жить-то будем? — в который раз спрашивала мама.
Она то и дело на что-то натыкалась. Зацепившись ногой за чемодан, она неловко свалилась на пол. Осколок стекла тонко завизжал под каблуком.
Майя бросилась поднимать растерянную маму.
Ещё недавно война была как в кино. Где-то на границах с врагом бьются сильные весёлые бойцы. В промежутках между боями они распевают прекрасные мужественные песни. Там война, там стреляют и убивают. Дома же бойцов ждут с победой невесты и тоже поют песни. Нежные и грустные.
Всё перепуталось. Ленинград стал фронтом. Его бомбят, обстреливают. В нём убивают. Неожиданно началась блокада, а с ней в город змеёй вполз голод.
Однажды в бомбоубежище Майя проснулась от шёпота двух женщин, сидевших рядом. Подавшись немного вперёд, она искоса посмотрела на них повнимательней. При тусклой синей лампочке под низким потолком женщины показались ей выходцами с того света, если они вообще бывают, эти выходцы.
— Русской и украинской пшеницей кормили фашистов, вот они и полезли тучей, — говорила одна в надвинутом на глаза платке.
— Знать бы, — миролюбиво отозвалась другая.
— Знать? А кто должен знать? — наступала первая. И продолжала: — Когда одумались, завернули самые последние эшелоны с хлебом, хотели направить в Ленинград… Сам отказался! Места, мол, нет.
— Нет места? Не может того быть. Путаешь ты…
— Честное слово. Так и сказал. Один умный человек сказал… Захотел, нашёл бы место хлебу. Что есть будем? Бадаевские склады сгорели!
Они заохали, потом замолчали. Майя съежилась и отодвинулась на самый краешек скамейки. Разве такое может быть, чтобы кормить русским и украинским хлебом фашистов? В нашем городе нет места для хлеба? В таком огромном городе! Нет, это паникёрши. За такие разговоры не поздоровится никому. И Майя отодвинулась ещё дальше, чуть не свалившись, потому что скамейка неожиданно кончилась…
— Эта девица ещё не ушла, — рассердилась мама.
— Очередь прозевает, хлеба может не хватить, — уходя, поддакнула Софья Константиновна. — Непонятливая девочка.
А Майя натягивала тёплые одёжки. В животе тоненько завыли кишки. Девочка пощупала живот. Он был плоским, как котлета. Захотелось пожевать, но она знала: кусок хлеба в буфете с вечера оставлен для Толи, её брата.
— Скоро уйдёшь?
— Уже ушла.
Она натянула рейтузы и в двух кофтах еле втиснулась в своё пальто. Длинные рукава маминой кофты она ловко вытянула из пальтовых, получилась славная зелёная муфточка. Нисколько не хуже облезлой меховой тёти Сониной.
— Ключи не забыла? — вдогонку крикнула мама. — Я пойду на рынок. Довесок возьми себе, остальной хлеб положи в буфет. Поняла? Чайник я накрою подушкой. Иди. Всё сон свой забыть не можешь?
Неожиданно для всех и для неё самой, Майя обнаружила стойкую готовность долгими часами простаивать в очередях. В длинных, иногда вовсе безнадёжных блокадных очередях.
Плохо отоваривались продовольственные карточки. За хлебным пайком стояли молчаливые очереди, чуть не с ночи их занимали люди. И не были уверены, что паёк получат.
Всё чаще бывали дни, когда хлеба в булочную с утра не завозили. Окоченевшие голодные люди продолжали стоять или уходили в другие булочные, чтобы с пустыми руками не идти домой.
В булочных штамп прикрепления не требовался. Так было в декабрьские дни уходящего 1941 года.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Удивительная находка
Это хорошо, что ветер толкает в спину. Теперь в рассветный час на проспекте мало людей. Они прячут головы в поднятые воротники, прикрывают варежками синие носы и торопливо идут по своим делам.
Леденящий ветер злобно воет, жутким экспрессом несётся вдоль проспекта, отыскивает щёлки в дверях, окнах, одежде, чтоб в них забраться, остудить, заморозить.
Пусть свистит и по-волчьи воет голодный блокадный ветер, Майе не страшно. На ней толстое и мягкое бобриковое пальто необыкновенно красивого болотного цвета. И большой заячий воротник. Такой мягкий и большой, что если его поднять, то в нём утонет вся Майина голова. Вместе с макушкой.
Пусть злится ветер, пусть рывками толкает в спину. Даже интересно. Она — как лодка под туго натянутым парусом.
Торопится Майя в булочную, очередь боится прозевать.
И вдруг останавливается. Как вкопанная.
На снегу валяется бумажка. Странно знакомая. Может, не бумажка? Шёл себе человек, шёл и вдруг стал вкопанным. Ноги у него не хотят идти. Но вкопанными бывают столбы, на худой конец, дома. Про живых людей такое говорить смешно.
Или ещё. В книжках пишут в таких случаях: словно током ударило — это уж совсем глупо. Вот однажды электрика, чинившего провода, током ударило, так он со столба свалился, и ему было не до веселья.
Мысли проносились в Майиной голове быстрее злого ветра. А она стояла на месте, напряжённо вглядываясь в бумажку. Неожиданно сердце её дрогнуло, прыгнуло к самому горлу, свалилось вниз, немного не долетев до пяток. И, как сумасшедшее, забилось на своём обычном месте.
Мусору на проспекте хватает, некому стало убирать его, к нему пригляделись и старались попросту не замечать. Но такую бумажку берегли пуще глаза.
На снегу неправдоподобно скромно лежала хлебная карточка.
Даже валялась перед изумлённой Майей. Она чуть на неё не наступила, чуть не вмяла галошей в снег. Точно такая лежит у неё в потайном кармане, сшитом мамой для карточек. И идёт Майя выкупать но ним хлебный паёк.
Может быть, она у неё выпала? Вдруг это её потайной карман развалился? Сразу стало жарко на ледяном ветру. И пальто сделалось невыносимо тяжёлым, будто на плечи карабкался медведь.
Нет, карман на месте. И кошелёк с карточками целёхонек. Но карточка же лежит! А разве она может лежать на снегу в блокадном городе.
Поражённая Майя оглянулась по сторонам и зачем-то поглядела вверх. Ветер пригнал круглую, как лепёшка, тучу. Туча упрямо встала над Майей, и из неё посыпалась мелкая снежная крупа.
Немногих прохожих словно смело с продрогшего проспекта, кроме нескольких, спешащих по неотложным делам.
Ещё не веря своим глазам, она потрогала бумажку носком ботинка. Та словно того и ждала, чтобы свернуться пополам и покатиться вперёд. Майя испугалась. Дурак-ветер запросто утащит. Она присела, схватила бумажку, развернула её и замерла. Она не ошиблась. Хлебная рабочая карточка, но ни одного числа-клетки на ней не отрезано. Карточка — на снегу! Кто такой сытый в блокадном городе, хотела бы она посмотреть. Заикав от волнения, озираясь по сторонам, как вор, и пугаясь неизвестно чего, Майя медленно поднялась. Туча выдохлась. Сквозь поредевшую снежную пелену видно идущего мужчину в стёганом ватнике и валенках. Он шёл медленно, слегка покачиваясь из стороны в сторону. К Лермонтовскому проспекту уходили две женщины. Они наклоняли головы друг к другу, видно разговаривали. И больше никого вблизи не было.
Майя раздумывала. Пожилой мужчина не мог уронить. Он идёт сзади. И очень медленно. Как бы бежал он, если бы потерял её! Одна из женщин? А если растеряха прошёл давно, а женщины её не заметили среди мусора, ведь они разговаривают и под ноги себе не смотрят? Она не станет догонять этих женщин, награждать их ещё одной карточкой. Это будет несправедливо по отношению к самой Майе, нашедшей её. И к человеку, потерявшему карточку в действительности.
Пока она сомневалась, женщины исчезли. Мимо неё, тяжело шаркая подшитыми чёрной кожей валенками, проходил старый небритый мужчина. Он ни разу не взглянул на Майю, обалдело стоявшую посреди узкой тропки. Терпеливо и медленно мужчина обошёл её и скрылся в зимнем рассветном сумраке.
А она так и не знает, как ей поступить. Очередь в булочной давно прошла, а дома ждут с хлебом.
— Дура, в сосульку превратишься!
Перед ней стоит Фридька Железняков. Она не заметила, как он вывернулся из парадной дома, возле которого она стояла в глубокой задумчивости. Фридька подозрительно её обошёл несколько раз и, остановившись прямо перед ней, уставился жёлтыми глазами ей в лицо.
— Что стоишь? Вдобавок онемела!
Майе страстно не хотелось ни видеть его, ни отвечать ему.
— Что стоишь, тебе говорят?
— Хочу и стою. Тебе какое дело? Улица, может, твоя?
— На таком ветру. Может, офонарела? Или просто дура?
— Сам дурак. Хочу и стою. Может, у меня тут дела.
Фридька секунду подумал.
— Дела? Ненормальная. Может, по шее дать, чтоб в башке прояснилось? Иди отсюда, а то как дам!
Он агрессивно надвигался. Майя затараторила:
— Не твой дом! Вот. Человек может стоять, где захочет. Вот. Думаешь, я забыла, как ты мне ножку в буфете подставил, и я вся в киселе вымазалась? И чуть не упала. А когда косичку между дверей зажал. Думаешь, я всё забыла? Иди, куда шёл, и не мешай мне тут стоять. Я брату скажу, он сам тебе по шее даст!
Фридька явно не ожидал отпора, он отступил немного, но уходить не собирался. Он заинтересованно наморщил лоб и стал таращить на неё глаза. Отцовский ватник доходил Фридьке до колен, отцовская шапка налезала на глаза, он то и дело встряхивал головой, отодвигая её на затылок. Выглядел он комично. В другой раз Майя расхохоталась бы, но сейчас ей было не до того.
— У меня, видишь, сумка свалилась. Вот чищу…
И стала отряхивать чистую сумку.
Фридька совсем заинтересовался, озадаченно стал разглядывать её с ног до головы. Серые от холода конопатины на тощем Фридькином носу тоже подозрительно уставились на девочку.
А вдруг это Фридькина карточка?
Чтобы выяснить, что находка её никакого отношения не имеет к Фридьке, она спросила:
— Мама твоя получает рабочую карточку. Нет, я хотела спросить, выкупали уже хлеб? Нет, я хотела…
Она запутывалась. Потом смутилась. Найденная карточка целая!
А в глазах Фридьки появилась жадность. Он засопел. Девочка крепко сжала кулак с найденной карточкой.
— Я просто так спросила.
— Ха, стоит просто так, про хлеб спрашивает просто так. А знаешь, по законам военного времени нельзя ни про что выспрашивать. Я-то знаю, что ты не шпионка. А другие? Как они посмотрят, что их нагло выспрашивают?
— Я не нагло. И не про военные тайны, — миролюбиво начала Майя. — Я про хлеб. Ходили хлеб выкупать сегодня?
— Сегодняшний хлеб я ещё вчера съел. Мамка — на казарменном. Тебе какое дело?
— А отец рабочую получает? Ой!
— Вовсе идиотка!
Фридька озлобился, сжал кулаки. Майя потерянно молчала. Как она могла забыть про Фридькиного отца, весёлого кровельщика. Его знал весь дом. В подвале под дворницкой была оборудована кровельная мастерская. Целыми днями по двору разносился звонкий перестук деревянного молотка-киянки. Ещё у Фридькиного отца были замечательные железные ножницы. Чёрные и громадные. Они, словно бумагу, резали толстенное кровельное железо. А Фридькин отец сворачивал из него разные замысловатые штуковины.
А какая у него была деревянная люлька! Громадными качелями висела она у стен дома, слегка покачиваясь на толстых кручёных канатах. С этой чудо-люльки он навешивал водосточные трубы. Вместо ржавых прохудившихся — новые, блестевшие чистым серебром. Ребятишки, сбегавшиеся с двух дворов, восхищённо глядели, как Фридькин отец под самой крышей пятиэтажного дома ловко скреплял железные колена одно с другим. Пока не получалась одна длинная, во всю высоту дома труба. На крыше к этой трубе крепилась здоровая воронка. И внизу у самой земли — ещё воронка. Поменьше.
Изумлённые мальчишки просились в люльку, чтобы покачаться.
Влюблёнными глазами глядели они на храброго Фридькиного отца. Он казался им героем. Третьим после Чкалова и Папанина.
Фридька задирал нос и снисходительно гордился своим отцом. В середине сентября Фридькиного отца неожиданно убило. Осколком снаряда. Его призывали на фронт, и он торопился закончить ремонт последней крыши. Чтобы несделанных дел в жакте не осталось. Чтобы он мог спокойно на фронте бить фашистов.
Как всегда неожиданно, начался артиллерийский обстрел Ленинского района. Фридька рассказывал без конца, что его отцу не хватило нескольких метров, чтобы укрыться под аркой дома. И всякий раз тоскливо удивлялся, почему его отец не бросил проклятую тележку с железом и не спрятался в парадной соседнего дома.
— Судьба его горькая. Планида, стало быть, выпала такая, — говорили старухи Фридькиной матери. — Не ропщи на Бога, милая.
Но Фридькина мать роптала, плакала, кляла фашистов.
— Не планида выпала, а фашистский снаряд, — дерзил обозлённый Фридька. — Ну, темнота!
Погода стояла сухая, громадное пятно крови, засыпанное жёлтым речным песком, отпугивало людей. Майя тоже проходила мимо него, в ужасе прикрывая глаза. Фридька подолгу стоял, отчаянными глазами глядел на кучу песка, скрывшего отцовскую кровь, и руки его дёргались. В такие минуты лучше было на глаза ему не попадаться.
Это была первая военная смерть, увиденная и осознанная всеми.
Майя всё это вспомнила и заискивающе улыбнулась Фридьке:
— Я совсем забыла… Что же ты будешь есть, если съел завтрашний хлеб? Сухари у вас есть?
— Ничего нет. По коммерческой цене продавали на Балтийском вокзале, а у нас мать болела. И кто про блокаду тогда знал?
Конопатины на его лице, казалось, потемнели.
— Я на фронт бы убежал, но бабушка слабая стала совсем. А мне за отца надо мстить. И паёк фронтовой — дело не последнее. Как её оставить, она от слёз по отцу совсем ослепла?… А тут я сбегу. Ты, Майка, веришь в судьбу?
— Чего? — не поняла Майя.
— Ничего. Сиди себе в окопе, стреляй фашистов. Разве из фашистского окопа видно, что стреляет человек маленького роста? Лишь бы хорошо научиться стрелять. Знаешь, сколько бы я фрицев мог прикончить?! А ты чего спросила?
— У вас и хряпы нет? И дуранды?
— Ничего нет. Чего, дура, пристала? Главное, у меня нет пистолета.
— Может, попросить или поискать?
— Кто даст! Оружия и бойцам на фронте не хватает.
— Ну? А как же тогда воевать? Поедешь с нами на Среднюю Рогатку за кочерыжками?
— Хватилась! Их растащили давно. А вообще, поехал бы. Что я повторяю, как попугай. На чём, на метле поедем?
— Ой, опять забыла. Вот знаю, что трамваи не ходит, а говорю. Будто и войны нет. Правда, глупо?
Фридька пренебрежительно усмехнулся:
— Только заметила, что глупая?
Майя решила не замечать Фридькиного ехидства.
— Ты куда идёшь?
— Какое твоё дело, — озлился Фридька. — Стоит фонарным столбом, пристаёт к человеку. Нужна ты мне! Сама, куда идёшь?
— Не нужна, а спрашиваешь. В булочную.
Фридька солидно шмыгнул синим носом, отвернулся, но не уходил.
Майе неловко. Вдобавок появилось чувство вполне осознанной вины. Она робко спросила:
— Подвал под нашим домом знаешь?
— Я все подвалы в нашем доме знаю, — скромно, вовсе не гордясь, заявил Фридька. — Чего спрашиваешь?
Вина перед голодным Фридькой усиливалась. Чтобы заглушить её, она пролепетала:
— В подвале лежит себе банка. Почти целая, с монпансье. Я своими глазами видела, как Алька-Барбос из пятой квартиры уронил её туда. Начал он её открывать, чтобы достать штучку. А она как вырвется из рук — и прямо по ступенькам в подвал загремела. Подвал открытым стоял, для проветривания. Алька-Барбос запыхтел, хотел лезть в подвал, но там темно, и он струсил. Его мать тоже не полезла, дала ему по шее, и дело с концом. Он так орал от злости, так орал!
— Её давно крысы съели.
— Она железная. Крысы разве железо прокусывают?
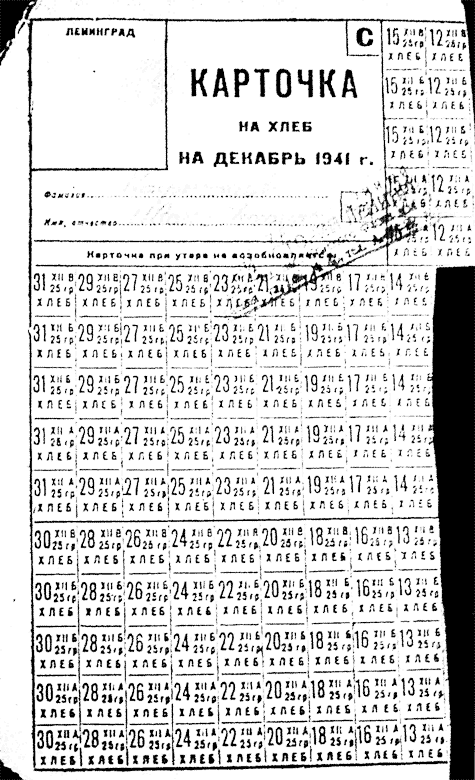
Кажется, Фридька заинтересовался. Майя радостно заторопилась.
— Там булка с колбасой лежит. Я сама её бросила. Вот были глупыми, колбасы с булкой не хотели. Пойдём? Манька боится идти со мной. И я боюсь…
— Насчёт банки подумать надо, если не врёшь. А кусок твой давно тю-тю… Крысы тоже не дураки. Фонарик мама сменяла, а спичек бабушка не даст.
— Я возьму спичек. Немного отсыплю от коробка, — пообещала обрадованная Майя. — Когда найдём, поделим пополам.
Фридька не любил откладывать неотложные дела.
— Надо подумать. Дело стоящее. Что молчишь, дура?
— Опять? Знала бы, не говорила. А монпансье какое вкусное! Можно одну конфетку сосать целый день. Пойдём через два дня. Раньше не могу. Я буду ждать тебя под первой аркой ровно в два. Придёшь?
Фридька кивнул.
И вовсе он не нахальный хулиган. Мальчишки всегда кажутся хуже, чем они есть. Скорее, она дурочку валяет. Карточку нашла, а сама как уж выкручивается. Поедем за кочерыжками, которых давно нет… Пойдём в подвал за конфетами и за булкой… Тьфу!
Она вспомнила белую-пребелую булку с розовой пахучей колбасой и зажмурилась. Неужели она могла не хотеть есть! Сейчас, не отрываясь, съела бы целый батон и большой кусок колбасы. Нет, целый килограмм. Ела бы, пока не лопнула. А карточку она правильно не показала.
У неё нашлось веское оправдание. Она сама не рассмотрела как следует свою находку. Она не знает, как с ней поступит. Может быть, придётся отдать. А Фридька голодный. Он может запросто отобрать у Майи. Всё-таки от него всего можно ждать.
Однако, не успокоенная этим доводом, она вслух произнесла:
— Я ему потом расскажу.
И оглянулась, встревоженная.
Фридька исчез, словно провалился.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
В блокадной булочной
Никакой очереди возле булочной не было. Майя испугалась. Очередь она прозевала — это и первокласснику ясно. Если и хлеб в ней кончился, куда она пойдёт? В дежурную булочную на Курляндскую улицу? А домой показаться без хлеба нельзя никак.
Майя открыла тяжёлую дверь, и сразу ей стало легко и весело. В булочной стояла небольшая очередь. И хлеб был. Майя от радости запела нежную песню про солнце, которое с морем прощалось. Почти про себя.
Она прозевала тётю Соню. Что подумает Майина мама, если тётя Соня зайдёт к ней? Мама станет охать, беспокоиться, не случилась ли с Майей какая беда по дороге в булочную. Она и не подозревает, какое привалило счастье. А вдруг находку придётся отдать? Она ещё сама толком не думала, как искать хозяина. Но это будет грустно. Надо молчать.
В очередях давно нет болтовни и сутолоки.
Блокадные очереди молчаливы и терпеливы.
Обычно хлеб развозят на ручных тележках. Ящиков с хлебом удивительно мало, а народу собирается к открытию булочной множество. Обычно тележку везёт возчик. Сзади, поддерживая руками связанные верёвками ящики с хлебом, плетётся продавщица.
Люди уже ждут возле булочной. Они встречают ящики с хлебом тревожными голодными глазами, переглядываются. У всех в голове одна мысль: хватит ли хлеба на всю очередь? Нападений на возчиков хлеба Майя не видела, но Софья Константиновна рассказывала ужасные вещи. Где-то оттолкнули возчика с продавщицей, разбили ящики, расхватали буханки хлеба и бросились врассыпную. В другом месте напали на старушку, отобрали паёк, вырвали карточки и тоже скрылись.
— Неужели? — качала головой мама.
— Конечно, — гордо отвечала слегка уязвлённая Софья Константиновна. — Сейчас всё прятать надо. Ещё не то будет!
— Не очень верь, — со знанием дела сказал брат Толя. — Нам сказали, что провокационные слухи распускают диверсанты. Их засылают в город. Им надо, чтобы осаждённый город поднял восстание, а они без потерь его заняли. Пусть нашим паникёрам стыдно будет.
Майя посмотрела на Софью Константиновну. Оскорблённая подозрением, та поджала губы и удалилась, сказав Толе:
— Какой ты ещё мальчик…
…В крохотной булочной заметно теплей.
Злобно рыскавший по проспекту ветер остался беситься за дверью. В нетопленой булочной полутемно, дневной свет в неё совсем не проникает. Единственное окно забито фанерой, а верхняя часть двери, где были стёкла, — толстыми нестругаными досками. Несколько плотно закутанных фигур теснятся друг за другом. Возле продавщицы на металлической тарелке стоит тускло горящая коптилка. Она скупо освещает лицо продавщицы и весы с тёмными железными чашками. На этих весах хлеб развешивается с аптекарской точностью. Редкие крошки тщательно собираются продавщицей и кладутся на кусок хлеба, крошки приклеиваются, такие они сырые и липкие.
Очередь тонет в полумраке. На противоположной стене отражаются тени стоящих в очереди. Неподвижные, бесформенные. Чуть в стороне у самого потолка мотается ещё тень. Вовсе несуразная. Тень продавщицы в надетой поверх пальто с поднятым воротником ватной стёганке и дворницком фартуке.
Очередь движется медленно, так медленно, что Майя от холода начинает подрыгивать замерзающими ногами. И от нечего делать она разглядывает продавщицу. Отпустив покупателю хлеб, та греет озябшие пальцы, чуть не запихивая их в рот. И громко дует изо рта тёплым воздухом. Чуть отогрев пальцы, она берёт карточку у следующего покупателя, внимательно разглядывает её, поднося к коптилке. И отстригает маникюрными ножницами число-клетку. Толстые, распухшие от холода пальцы еле шевелятся.
Карточку она держит над одной из четырёх тарелок, стоящих на прилавке. Над первой тарелкой отстригается рабочий талон, над второй — служащий, над третьей — иждивенческий, и над четвёртой — детский.
Отрезанные талоны мягко падают в тарелки.
Вернув карточку, продавщица берёт нож и отрезает от чёрной вязкой буханки, сколько кому положено по норме. Иногда при резке хлеба от буханки отваливается корка чернее сажи.
В очереди напряжённо следят за процедурой взвешивания хлеба. Грубые весы неточны, если захотеть, чтобы они стали неточными. Всякое случалось. Но в этой маленькой неприметной булочной работает честная продавщица. Люди это знают, идут издалека, и поэтому хлеб здесь расхватывается в считанные часы.
Пожилая некрасивая продавщица раньше рисовала себе чёрным карандашом узкие, длинные, как шнурки, брови на широком лице. Она была приветливой, говорливой и работала быстро, останавливаясь, чтобы поправить наколку в волосах или подкрасить яркой помадой толстые губы. Она из некрасивых губ делала красивое сердечко — по последней ленинградской моде.
Теперь продавщица стала молчаливой. Брови и губы не накрашены. Вместо кружевной наколки голова замотана грубым толстым платком. Под носом черным-черно от чадящей коптилки, а дворницкий фартук на ней серый.
Но хлеб она развешивает точно. Бережно кладёт отрезанный кусок на тарелку весов, ждёт, пока сойдутся стрелки, и только потом отрезает от куска или добавляет. Не бросает торопливо, как в других булочных делают вороватые продавщицы.
Очередь продвигается медленно, но никто не ропщет, не ругается. Ленинградцы понимают, что город в кольце, и продуктов мало. Перед Майей осталось двое, когда она вспомнила, что на найденной карточке ни одна клетка-число не использована. Как она её подаст продавщице? Разве такое сейчас случается! А она хочет попробовать выкупить хлеб. Пусть на чужой карточке, но выкупить. Но как в такой темноте разглядеть талоны?
Майю охватило такое волнение, что она, поперхнувшись, закашлялась. Она вышла из очереди, подошла поближе к коптилке. Женщина, стоявшая первой, подозрительно покосилась на Майю и переложила карточки из одной руки в другую.
Майя не обиделась. Она лихорадочно соображала, как ей поступить, с чего начать. И каким образом. Она внимательно разглядела карточку, зажала пальцем нужное число, с которого надо было отрывать, и направилась на своё место. Еле втиснувшись в сомкнувшуюся очередь, она отрывала талоны, боясь ошибки. Пока возилась, подошла её очередь.
В самую последнюю минуту в голову ворвалась ужасная мысль: если карточка фальшивая, подброшена фашистами, что тогда с ней сделают? В тюрьму посадят?
Тени на стене сделались уродливыми и задрожали. Они то вытягивались длинными языками, то колыхались на месте, укорачиваясь, расползаясь в ширину. Это язык пламени коптилки вдруг зарезвился буйно и злорадно от проникшего в щель ветра.
Майя даёт продавщице свои карточки и, замешкавшись, протягивает найденную. С безобразно рваными краями… Настороженно, втянув в плечи голову, глядит продавщице в лицо.
— Чего копаешься, как сонная? Господи, что это за карточка! Зубами что ли талоны отгрызаете? — бурчит продавщица и разглядывает карточки, особенно найденную. Долго и пристально её разглядывает. Майя замерла и тоже пристально глядит на продавщицу.
— Оглохла? Тебя спрашивают, — подтолкнули её сзади.
— Вот не отпущу, — выговаривает продавщица, — будете знать, как с карточками обращаться. Сегодняшний талон на треть оторван. Рвут, как попало! Безобразие!
Майя видела, что угроза почти миновала. Неожиданно ляпнула:
— Она не моя, тётенька.
— Мне без разницы, кому выкупаешь.
Так просто. Правда-соломинка не произвела на продавщицу впечатления.
— Что молчишь. Вместе вешать?
Майя кивнула. Продавщица вдруг стала прекрасной феей Сирени из сказки. Майя не могла отойти от прилавка. Она не двигалась, мешая женщине, стоявшей за ней, подойти к весам.
— Бестолковая. И пускают таких! — недовольно бросила та и бесцеремонно оттолкнула девочку.
Майя не обиделась и пролепетала, счастливая и благодарная:
— А я всегда к вам хожу. Вы не припомните?
Продавщица взвешивала паёк сердитой женщине. Она пожала плечами и не взглянула на девочку.
Майя всё держала в руках хлеб. Кусок был почти вдвое больше обычной нормы. А может, хлеб был сегодня суше.
— В сумку клади.
— Что уши фонарями развесила?
— И что родители смотрют, — укоризненно покачала головой тощая старушка с длинным носом. — Неровен час, а дома ждут…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Воровка. — Земляное повидло
В комнате тепло и тихо. «Ветер скачет вдоль проспекта, и в окно залезть некогда», — подумалось Майе. Она подошла к печке-буржуйке. Недавно протопленная, она обволакивала озябшую девочку расслабляющей теплотой.
Когда нынешней осенью рядом с высоким красавцем-камином из зелёного изразца поставили крохотную духовку на кривых ножках и назвали это забавное сооружение «буржуйкой», Майя рассмеялась и пренебрежительно потрогала длинную, Словно кишка, кривую трубу. С любопытством открыла маленькую дверцу и удивилась. Она никак не могла взять в толк, как эта кроха будет обогревать их огромную комнату с очень высоким потолком. В студёные зимы с такой задачей и зелёному камину не под силу справиться.
— Смейся, смейся, а она сэкономит кубометр дров, и кроме того, на ней можно еду готовить. Видишь, конфорка есть! Нагревается быстро…
При этом мама вздохнула, и Майя опять не могла понять — хорошо это или плохо, если печка имеет конфорку и быстро нагревается. Само название духовки на кривых железных ножках приводило её в восторг. Но печкой оно было заслуженно и шло с далёких дней революции. В то грозное время Петроград тоже был в кольце. Он голодал, замерзал, но не был взят. Кто говорил: враги не смогли, и сжимал кулаки. Кто же тихо говорил: бедные сыночки взять не смогли, крестился и украдкой смахивал слёзы.
Страшная и непонятая гражданская воина! В одной Майиной семье совсем молодыми на ней погибли дяди: штабс-капитан Сергей Тихомиров воевал на юге, другой — комиссар красного полка Александр Тихомиров погиб под Псковом. И Майина семья горько плакала по обоим.
А сейчас город в фашистском кольце.
И сейчас в нём голодно и холодно. Но приказано: город — колыбель революции — фашистам не сдавать.
И город яростно сопротивляется.
Невыносимо жить впроголодь. Невыносимо жить в стылой, насквозь промёрзшей комнате с выбитыми стёклами. Никакой печкой не спасёшь тепло, если на улице мороз, а дров нет.
Среди горожан были люди запасливые. Они весной завезли себе на зиму дрова, нисколько не подозревая о войне. У некоторых дрова оставались с прошлой зимы. Им тоже было хорошо.
Военная зима началась рано и обещала быть лютой. «Тепло — второй хлеб». Ленинградцы очень скоро убедились, как права эта проверенная годами народная мудрость.
«Буржуйка» — коварная печка. С неё нельзя спускать глаз ни на минуту. Она раскаляется моментально. Сидеть с ней рядом становится нестерпимо жарко, прямо сам начинаешь пылать и докрасна раскаляться. Протопившись, она остывает на глазах, не успев нагреть комнату. А если комната без стёкол, окна забиты, заткнуты ватными матрацами, тряпками?
Они с Толей любят сидеть возле топящейся печки. Сидят на опрокинутых табуретках. Майя от остервенелого жара сразу раскисает. Каждая клеточка её тела восхищённо блаженствует. Но стоит «буржуйке» протопиться, она тут же остывает, а крупная дрожь уже карабкается на спину Майе. Несколько часов их выручает нагретый утюг и закутанный в подушки чайник с кипятком.
И снова холод. Лежи под одеялом чуркой или сиди в пальто, засунув руки за пазуху.
Сейчас Майя стоит в непривычном тепле, прикрыв глаза, потом начинает медленно раздеваться. Она снимает пальто, ласково гладит воротник из «косого» и небрежно засовывает в рукав старый мамин платок. Она с ним не церемонится. Он такой старый и некрасивый, что она терпит его только по крайней необходимости.
Потом она снимает с ботинок галоши и любуется ими. Они куплены для неё весной, ещё почти новые и особенно блестят при горящей коптилке. Красный берет, надвинутый до глаз, она сдергивает на макушку. Всё это она делает, словно в полусне. Перед ней мелькают картины происшедших сегодня событий. Начиная с необыкновенного сна.
Мама уже давно стоит перед ней. Она отложила своё вязанье и с недоумением следит за сонными Майиными движениями. Она не узнает свою быструю порывистую дочку. Майя наконец замечает мамин пристальный взгляд.
— Ты, мама, не сказала мне, к чему снится река парного молока, говорящий кот, залезающая в ведро щука… Она сама хотела залезть, честное слово! Не веришь? И хлеб повис вместо солнца. Запах от него такой разносился! С ума можно сойти, какой это запах! Скажи, как это я могу чувствовать во сне запахи? Разве так бывает?
— От голода, от недоедания людям всё снится. Вот про запахи не знаю. Хлеб принесла? Давай. Да что с тобой? Ходила где-то целую вечность, а сейчас стоишь, как неживая! Хлеб давай, если принесла…
— Принесла. Скажи, а если кто вдруг потеряет… ну, скажем, карточки… И кто…
Мама, вытащив из сумки порядочный кусок хлеба, удивлённо повертела его в руках, взглянула на Майю и, не сказав ни слова, пошла к столу.
В оконном проёме Толей было хитроумно прилажено небольшое стекло размером с форточку. Для дневного света. Чтобы днём не сидеть в кромешной тьме. Света стекло пропускало мало, а сейчас было вдобавок покрыто пуховым слоем изморози. Таинственно разрослись причудливые ветки диковинных папоротников. Ветки шли строго вертикально.
— Бабушка Эльфрида говорила, если ледяные деревья на стёклах растут вверх — это к сильному морозу. Разве бывает сильнее мороз? И ветер, как сегодня, может быть сильнее? — удивилась Майя.
Вопрос повис в воздухе. Брат Толя спал на диване, закутавшись с головой, мама накрывала на стол, готовя скудный завтрак. Время от времени она покачивала головой, поглядывая на хлеб.
Утренние чаепития были приятным событием. И вот почему: в закутанном заварном чайнике настаивался настоящий чай. Его лелеяли, берегли, считая каждую чаинку, благо они были кудрявыми и крупными. Кипяток наливался в чайник по нескольку раз, пока заварка не становилась жидкой и едва золотилась в чашках. Но утром чай был свежезаваренный.
У других горожан чая вовсе не было, давно кончился. Заваривали тем, что под руку попадалось. Бабушка Майиной подружки Мани, например, бросала в кипяток хлебную корку, отчего он становился мутным и неприятно отдавал горелым деревом.
А всё запасливая Майина мама! Она любила покупать разные сорта чая, похуже бросала на верхнюю полку буфета, чтобы подсох. Или до худших времён и безденежья, что в их семье нередко случалось.
Месяца три назад, когда у них уже кончился чай, мама произвела полную ревизию буфета, столов, полок и обнаружила кулёк с пшённой крупой и целых четыре пачки чая. Радость была неописуемой.
— Мало надо для радости, — горько проговорила мама.
— Выменяй пачку на сахарин, — предложила Майя. — Война уже весной кончится, а без сладкого невкусно…
— Ничего, привыкли. Подушечки или изюм на талоны дают, — благоразумно ответил Толя.
— Подумаешь, дали каменных подушек и по сто граммов изюма…
Майя тогда крепко обиделась на Толю. Она была сладкоежкой, и ей приходилось трудно.
А запах свежезаваренного чая разносился по всей комнате. И сразу всё делалось довоенным, если не смотреть на окна, на «буржуйку» и на постели, заваленные одеялами. Если смотреть только в чайную чашку и вдыхать чудный, ни с чем другим не сравнимый чайный запах.
Пока Майя раздумывала, Толя на диване зашевелился.
— Толя, почему снятся говорящие кот и собака?
Брат не отвечал, только ногой дрыгнул. Майя не поняла.
— И целая река парного молока, — продолжала она, слегка повысив голос, — рыбины скакали в речке, как кузнечики. Довоенный каравай вскарабкался на небо и захотел стать солнцем. Я и не знала, что хлеб может так пахнуть. Не этот, а довоенный.
— Ты отстанешь? — рассвирепел брат, высунувшись из-под одеяла. — Я тебе сказал: отстань! Вот пристала с едой, как липучка. И без тебя тошно.
— Во-первых, ты не сказал, а дрыгнул ногой. Во-вторых, перестань на меня кричать, — уныло проговорила Майя.
Она не обиделась. Обидеть её сегодня невозможно. Если бы мама с Толей глянули на неё повнимательней, или в комнате было бы немного светлей, они увидали бы розовое Майино лицо и счастливые глаза.
Но никто долгим внимательным взглядом на неё не глядел. Правда, что-то заподозрил Фридька, но от него она ловко отделалась.
Майя очень любит утренние чаепития втроём.
Бомбёжки стали редкими. Правда, обстрелы города участились. Они втроём сидят и пьют довоенный чай с блокадным хлебом. Странно, но факт: чем меньше дают хлеба на карточки, тем он становится вкусней. Если не знать, что это хлеб, то на него и смотреть неприятно. Он такой тёмный, сырой и спрессованный, как глина.
Дневную порцию мама делит на четыре части. Две — для Толи, ей с Майей — по одной. Толя всякий раз морщит лоб, отказывается. У мамы карточка рабочая, а у него — иждивенческая.
Мама горько говорит:
— Молчи, сынок, я знаю, что делаю. Я вот чего не пойму: какому идиоту влетело в башку, прости господи, что немощной старушке и подростку надо давать поровну. Разве они ровня по потребности в калориях? Хотят угробить будущее страны! Или не думают. Как можно такое делать? Особенно жаль мальчиков.
Майе доставалось немного мясных блюд.
— Не тигра выращиваю, — говорила мама. — К чему девочке много мяса? Это мужчины должны быть сильными, с крепкими мышцами. Кроме того, мяса не набраться на троих мужчин. Девочке надо быть умной и нежной. А через мясо, говаривала ещё моя мама, этих качеств не получить.
Майя и сама относилась к мясу равнодушно. Может быть, постепенно отвыкла, а может быть, с рождения была к нему безразличной.
— Толя, встанешь, пока чай горячий, или ещё поспишь?
Майя отставляет свою чашку с недопитым чаем. Сердце её тревожно забилось. Сейчас мама, как всегда, спросит карточки, чтобы положить их в комод, а она канителится. Она же разделить их забыла!
— Ты куда? Господи, не допила чай, раздетая!…
Но Майя выскочила в коридор, быстро прошла безлюдной полутёмной кухней, вышла на чёрную лестницу и плотно закрыла за собой дверь. Карточки лежат в кошельке в кармане маминой кофты. Девочка вынимает найденную карточку и внимательно разглядывает её, благо есть дневной свет — крохотное окошко под потолком. На карточке есть печать и адрес с фамилией, но они размыты. Правда, если вглядеться, можно кое-что разобрать. Одна цифра сохранилась. Сорок восемь или восемнадцать. Загвоздка в первой цифре. Длинный хвостик единицы или короткий — четверки. Владелец карточки живёт в одной из этих квартир. Но он может жить в другом доме. И в каждом имеются такие квартиры. А если они коммунальные, как у них, сколько протянется рук к одной-единственной карточке. И очень просто Майя останется в дураках. А если она не станет искать хозяина карточки, то кем она сама будет? Как та толстая женщина-воровка! Или тайная воровка, которую никто не может уличить.
Она ясно представила себе воровку дамской сумочки. Это было перед самой войной. Было жарко, а она шла из кино «Стачка». На пути оказался туалет. Это на углу проспекта Газа и Обводного канала. Майя часто заходила, чтобы покрутиться перед большим зеркалом.
Там было пусто. Девочка обрадовалась, всласть навертелась перед зеркалом, вволю наговорилась, изображая гордую и томную героиню фильма. Её играла Тамара Макарова. Майя уже собралась уходить, как увидела на умывальнике сумочку.
Она долго её разглядывала, не решаясь ни уйти, ни потрогать сумочку. Потом мысли её сами собой причесались и улеглись в голове, как надо. Сумочка была очень красивой, с блестящей цепочкой и такой же блестящей пряжкой. В туалете — ни души.
Тут, зацепившись ногой за высокий порог, в туалет ввалилась очень толстая женщина. Почти квадратная. И заняла всё пространство.
— Чего канителишься тут? Людям некогда на тебя любоваться. Иди живо! — изрекла она неожиданно тонким голосом.
Вместо того чтобы исчезнуть с глаз злой толстухи или прилипнуть к стене, Майя спросила:
— Сумочку вы забыли?
Тётка разъярилась.
— Ничего я не забыла! Уходи, поганка, с дороги. Некогда!
Тут она увидела изящную сумочку, и глаза её округлились.
— Ах, сумочку! Эту? Конечно, потерять могла только я. Что угодно забываю, такая стала немощная и рассеянная, что не приведи господь!
— Она уже давно лежит, а вы…
Тётка не дала договорить.
— Что я? Что я? Договаривай, поганка! Может, у меня понос и я должна бегать сюда поминутно. Твоё какое дело? Твоя сумка? У тебя понос? Ну, отвечай!
Майя покачала головой.
— Вот видишь. А то ходют тут, понимаете, воруют чужие дамские сумочки. Иди прочь!
— Я ворую? — прошептала Майя и от обиды окаменела.
Толстуха заверещала голосом некормленого поросёнка и ринулась на Майю. Та в испуге отшатнулась. Тётка оглянулась, вытащила из необъятного кармана очки, сунула в сумочку. Глаза её победно округлились, хотя округляться им было некуда. Они и так были похожи на шарики. Потом она заглянула в сумочку и засопела, как паровоз. Майе тоже захотелось заглянуть. Было интересно, что увидела толстуха и отчего она засопела. Но та живо захлопнула сумочку, чуть не прищемив Майе нос.
— Не уходишь, — зло зашипела толстуха, — всё стоишь, как столб в аравийской пустыне!… Ну, чисто столб с глазами. Отойди, говорю, по-хорошему.
— Это ваша сумочка?
Тётка совсем разъярилась.
— Чья же ещё? Не видишь, поганка, в ней лежат мои очки? Видишь очки?
— Но вы их сейчас положили.
Тётка наклонилась, схватила грязную газету, валявшуюся под ногами. Сумочку она кое-как завернула в эту газету и сунула свёрток в авоську.
— Моя сумка, видишь? И в ней моя зарплата и очки. Всё моё! Стоит, понимаете, не верит, поганка поганая! Чисто водяной столб в бедной пустыне. У, поганка!
Она ринулась вон из туалета, сбив Майю с ног. Та не ожидала от неповоротливой толстухи такой прыти и не успела отскочить. Тётка, топая ногами, мчалась по безлюдной дорожке прочь из сквера. У калитки она оглянулась, погрозила Майе кулаком и скрылась за поворотом.
Майя поднялась с бетонного пола, отряхнула от сырой грязи своё нарядное платье, потрогала на ноге большую кровавую ссадину, помазала её слюной, потёрла ушибленный локоть. Было обидно, тёткины тычки ныли больше, чем ссадины.
У входа на зелёной скамейке сидела молодая женщина в кремовом берете. Рядом с ней мальчик в синей матроске ел мороженое и болтал ногами. На коленях женщины лежала сумочка с такой же блестящей пряжкой, но с кожаной ручкой.
Майя поглядела на сумочку, остановилась. Мальчишка сразу перестал лизать мороженое в вафлях и показал язык.
— Дурак — солёны уши, — обозлившись, прошипела Майя.
— Некрасиво. Большая, а невоспитанная, — сказала укоризненно женщина и погладила мальчишку по чёлке.
— Сами невоспитанные, толкаются, языки показывают, сумочки воруют, хоть не живи на свете, — бормотала Майя проходя мимо. — Вон, Маня в магазине баронского дома зонтик нашла. Лежал себе, полёживал на подоконнике. Старый, облезлый. Может, его специально забыли, чтобы на помойку не носить. А продавщица дала Мане конфету. Не сосательную, а «Мишку на Севере». И все хвалили Маню, и конфета была вкусной. А тут — тычки, ругань и кровавая ссадина на коленке жжёт, как раскалённый уголь.
Долго она вздыхала. Обида гвоздём сидела, потом сама собой растворилась в суете дней. Но не забылась.
А теперь кто она сама?
Майя вернулась, поёживаясь.
— Не ела, а не торопится, — удивилась мама. — Я совсем забыла, что ты у нас парного молока напилась и наелась жареной рыбы.
— Рыбу я не поймала, молоко не допила. Ты разбудила, — осторожно огрызнулась Майя. Она уселась за стол допивать свой остывший чай.
— Давай карточки. Хлеб можешь весь есть. Толя, ты не слышал, хлеба не прибавили? Что-то кусок показался большим. Ах, радио не включено! Мы уходим. Не смей никуда без нас уходить. Поняла?
Майя попивала чай с хлебом, глядела на маму, которая укладывала в балетный чемоданчик, с которым в семье ходили в баню, вывязанную ею же стопку перчаток.
— Кончится война когда-нибудь? Скажи, в городе голодно, а кто покупает вещи на барахолке? Разве не всем блокада?
— Много вопросов, а отвечать кому? Помнишь, в первый день войны к вечеру в магазине исчезли продукты? Осталась голая соль. У кого денег много, сообразили и запаслись. А кто прорыдал, растерялся, те остались с носом. Ну и торговцы, им и война — мать родная.
— И со складов натаранили, — поддакнул Толя.
— А люди должны быть честными и стойкими, а не плестись в хвосте капиталистической культуры, — горячо сказала Майя и победно поглядела на удивлённого брата.
— Скажи, какая умная!
— Не умная, а нам Валентина Петровна говорила. И есть у людей пережитки. Какие пережитки? Ты не знаешь, почему их так долго не переживают?
— Отстань, — махнул рукой Толя. — Долго рассказывать, да и не поймёшь ты.
— Толя, папину шапку надень. Твоя не годится, уши отмёрзнут. А вообще, можешь остаться, ты и так с ночи…
— Я пойду.
— Вот защитника дождалась. Только этого защитника нечем кормить, — грустно сказала Наталья Васильевна.
— А если бомбёжка начнётся? — спросила Майя.
— Хватай чемодан и беги в бомбоубежище.
— Чемодан мне не снести, — упрямо сказала Майя. Ей не хотелось оставаться одной. Ей хотелось обо всём поговорить с Толей. Может быть, и про находку, — она и сама толком не знала.
— Спускайся без чемодана. В случае обстрела не выходи на кухню и в коридор. Особенно на кухню. С той стороны бьют.
— Да знаю я всё. Сколько раз можно говорить, — с досадой сказала Майя. — Скорей возвращайтесь.
Она допивала чай и доедала хлеб с повидлом, отдававшим совсем немного гарью, откусывая по чуть-чуть, чтобы продлить удовольствие. Повидло было из сладкой земли. Ну, не совсем из земли, но собирали бурую гущу вместе с землей.
…Поздней ночью запылали Бадаевские продовольственные склады. Несколько дней тлело пожарище. Ленинградцы горевали, ругали фашистов, диверсантов, а заодно и своих начальников-ротозеев. И не верили, что город остался без продуктов.
Ещё стелился чёрно-сизый туман на громадном пепелище, ещё зловеще тлели головешки, а горожане уже потянулись к бывшим теперь складам. Оттуда несли, везли на тележках, волокли волоком всё, что не успело догореть. Что сгорело — тоже волокли. Там, где горел сахар, земля стала коричневой обугленной сладкой кипенью. И глубоко пропиталась сладостью. Она была липкой, отдавала керосином и тёплой горечью.
Наталья Васильевна с Майей заторопились на бывшие склады. Они принесли полное ведёрко и трехлитровый бидон тёмно-коричневого месива. Дома Наталья Васильевна и Майя тщательно перебрали странную, непохожую на себя землю. Они выбрали сучки, мусор, камешки, и оставшееся Наталья Васильевна просеяла на редком сите. Затем всё облила водой. В таком виде месиво осталось на несколько дней. Потом его снова цедили и отстаивали. Наконец началось самое интересное. Наталья Васильевна варила земляное повидло. Она деловито помешивала в ведре шумовкой, словно варила всамделишное варенье.
Толя с Майей, да и Наталья Васильевна не очень верили, что получится что-нибудь съедобное.
Но оно получилось. Пол-литровая банка под завязку. Не очень вкусного, не очень сладкого. Вернее, сладкого, но невкусного варева. Сильно отдававшего гарью и керосином.

Блокада только начиналась, и они не хотели есть всякую дрянь.
Сейчас же только подавай земляное повидло.
И керосином не пахнет. И запах гари почти испарился.
Или они были голодными и перестали замечать.
Жаль, что оно уже кончается. Теперь Майя почти уверена, что довоенное клубничное не намного вкуснее земляного.
Через неделю Наталья Васильевна с Майей опять направились на пожарище — посмотреть, не осталось ли там ещё чего съедобного. Взяли с собой соседку Эмилию Христофоровну. Мешки на всякий случай прихватили.
Кое-где ещё тлело, но было пусто, а на сахарном месте был здоровый котлован, отрытый старательными горожанами.
— Вот это да! Столько земли вырыть, — удивилась Наталья Васильевна.
Эмилия Христофоровна с Майей заглянули в котлованчик, вздохнули разом и согласились с Майиной мамой.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Военный проспект. — Вражеский ракетчик
Прямой как стрела, нарядный и многолюдный ленинградский проспект, на котором жила Майя, стал неузнаваемым. Он притих, затаился, даже словно сжался, и стал меньше. Уродливо и страшно торчат развороченные прямым попаданием фугасных бомб ещё недавно красивые дома. К счастью, их всего три.
Майя каждый раз останавливается возле одного такого разбомбленного дома, когда идёт в дальний продовольственный магазин. Она невольно замедляет шаг перед этим домом, затем переходит на другую сторону проспекта и смотрит вверх. И всякий раз её потрясает то, что она видит. Висящий невесть на чём розовый абажур на пятом этаже. Рояль, запутавшийся в балках — на четвертом. Но самой странной и неожиданной вещью кажется громадная картина в широкой золотой раме на неповреждённой стене второго этажа. Целые обои, портьеры на двери — всё вызывает пронзительное чувство недоумения, страха и растерянности.
Вместо блестящих стёкол с кружевными занавесями на проспект мрачно глядят невыспавшиеся, запылённые, с бумажными полосками окна. А во многих домах вообще нет стёкол. Они закрыты чем попало, забиты фанерой, разными досками, а некоторые окна заткнуты полосатыми матрацами, а то ещё и чем-то некрасивым и непонятным.
Привыкнуть к этому нельзя, сколько бы ни ходила мимо, ни таращила глаза.
В последние недели Майя мало смотрит по сторонам. Она смотрит себе под ноги. Погода приносит много неприятностей и неожиданностей. Рано началась зима, подморозило, потом оттаяло. Не успело растаять как следует, как ударил мороз. Получилась не ровная привычная панель, а бугристая неровная наледь. Неожиданно скользкая до такой степени, что того и гляди свернёшь себе шею, если, например, неудачно свалишься.
Майя думает о войне.
Все о ней думают.
У всякой войны во все времена подлое лицо. Она уносит молодые мужские жизни. Цвет нации.
Но это всегда происходило на фронте.
Какое же лицо у этой войны, если она забралась в самый город. Убивает не только молодых мужчин, но женщин, стариков и детей.
В ленинградских дворах тихо. Давно не слышно ребячьей возни, шума и криков. Дворы опустели. Кто эвакуировался ещё в начале войны, а кого уже унесла смерть. Оставшиеся невылазно сидят в своих холодных промозглых квартирах и боятся голодной смерти.
А бывает смерть понятной и справедливой?
Майя не может разобраться в этом, сколько ни думает.
Она и не хочет думать о смерти, хотя слышит об этом каждый день. Особенно не хочется думать о своей смерти. Если это и произойдёт, то никак не раньше, чем через пятьдесят лет. Нет, через пятьдесят один год. Не раньше, надо быть только в этом уверенной.
Всюду развешивались плакаты. Мурашки от них на спине леденели, когда девочка останавливалась и разглядывала их. Плакаты казались ей жестокими. Они призывали: «Убей», «Отомсти».
Это тогда они казались ей жестокими, теперь она твёрдо знает: надо мстить фашистам за убитых, искалеченных на фронте и умирающих от голода в самом городе. Осенью они с девчонками ежедневно бегали в кино, благо кинотеатр был рядом. Каждый день показывали фронтовые киносборники. Они были жуткими. Майя в испуге отворачивалась от экрана, сидела с закрытыми глазами. До колотья в боку было жаль людей, идущих на смертную казнь. Их расширенные глаза, бледные лица, упрямо и гордо сжатые губы надолго запоминались. Они не стали предателями и рабами фашистов. Были репортажи и о стоявших на фронтах насмерть бойцах, о смелых летчиках, идущих на таран.
В каждом сборнике рассказывалось о героическом труде рабочих, которые по восемнадцать часов в сутки не отходили от станков.
Показывали и смешное. Трусливые пленные фашисты с такой готовностью поднимали руки, заискивающе поддакивали и так быстро лопотали на своём трескучем языке, что народ в зале начинал нервно веселиться.
Но самым трусливым и глупым всё-таки был их фюрер. Он дёргал руками и ногами, таращил маленькие глазки и что-то отрывисто гавкал, как тёти Катин пес Узнай. Косая чёлка его валилась на глаза, закрывала чуть ли не пол-лица. Он встряхивал башкой и ещё больше гавкал и дёргался.
В зале злорадно смеялись и люто ненавидели главного фашиста.
Мальчишки заранее запасались рогатками. Как только на экране появлялся Гитлер, они расстреливали его из рогаток в упор. Камни смачно шлёпались то в лоб, то в широко открытый рот ненавистного фашистского главаря. Это было здорово. Все восхищенно ёрзали на стульях, гоготали, улюлюкали. Картина прерывалась, зажигался свет, и взрослые грозили мальчишкам надрать уши и вывести их с рогатками из зала.
Фронт встал на окраины, и весёлые киносборники исчезли с экранов кинотеатров. Теперь стали показывать героические картины прошлого: «Чапаев», «Александр Невский», «Минин и Пожарский». Приободрённые, уже уверенные в скорой победе, жители расходились по своим делам. Город зажил сложной, опасной, донельзя уплотнённой жизнью. Стал называться город-фронт.
Тихо во дворах Майиного дома. В подъездах сидят дежурные жильцы из дружины самообороны. Когда город бомбили по нескольку раз в сутки, у них было много работы. Падали снаряды, фугаски, но особенно много с неба сыпалось зажигательных бомб. С приходом морозов дежурные дремали от слабости, закутавшись так, что торчал один нос из кучи тряпья. Дремали и ночью, и днём. Возле дежурных стояли высоченные деревянные ящики со смёрзшимся намертво песком. В песке застряли широкие пожарные лопаты. Ящики эти расставлены в подвалах домов и на чердаках.
Город поддерживал порядок и сам себя защищал. Как мог.
Милиции в городе мало, каждый боец на счету, — и ленинградская милиция ушла на фронт. В городе порядок был строгий, соблюдался жёстко комендантский час.
Однажды поздним вечером зазвучала сирена воздушной тревоги. Майя с мамой побежали в бомбоубежище, находившееся в третьем флигеле. Это было томительно долго. Надо было выбежать из квартиры на пятом этаже, спуститься по крутой чёрной лестнице и среди криков и суматохи, под вой сирены, пальбу зениток бежать на задний двор. Они почти добежали до бомбоубежища, как в чёрное октябрьское небо взлетела ракета. Совсем недалеко от них. Казалось, из соседнего, рядом с кинотеатром, двора.
О диверсантах знали все. Знали и о предателях, притаившихся в городе в ожидании немцев.
Что тут началось! Враг рядом!
Бежавшие остановились, словно онемели от страшной подлости. Потом, забыв про тревогу, надрывно воющую остервенелую сирену, все закричали и помчались в соседний двор. За взрослыми, опережая их, бросились мальчишки и девчонки.
Шум сделался такой, что заглушал сирену.
Майе стало жутко интересно. Она тоже закричала, рванула свою руку из руки бдительной мамы и помчалась ловить вражеского ракетчика. Наталья Васильевна бросила чемодан, догнала дочку, схватила так, что чуть не выдернула ей плечо. И ещё дала подзатыльник.
Вражеская ракета взвилась невысоко, постояла несколько мгновений в воздухе и, будто испугавшись своего чёрного дела, погасла. Ядовито-зелёная в чёрном осеннем небе. Это было бы красиво, если бы не было подло и жестоко.
В бомбоубежище усталые измотанные люди присмирели, задумались. Скамейки все были заняты. Пока мама ушла искать чемодан, Майя уселась на пухлый узел, неизвестно зачем таскавшийся вместе с чемоданом. Незаметно девочка уснула, привалившись головой к сырой стене бомбоубежища.
Короткий её сон был настоящим триумфом. Она вволю наловилась вражеского диверсанта, хотя он был таким хитрым, что ускользал от неё, как ящерица. Но она упрямо ловила его, поймала и вела по городу этого юркого негодяя. Его косая чёлка слиплась от страха, тараканьи усы обвисли. Он мелко семенил, а она с наганом в руке шагала широко и гордо. Все прохожие ахали, удивлялись, какая она смелая. Совсем как Анка-пулемётчица. И сильная, как Минин и Пожарский.
Ей было приятно, она шла на цыпочках, чтобы казаться выше ростом. Она улыбалась всем и раскланивалась. Как Любовь Орлова. Вражеский ракетчик тоже стал улыбаться. Может быть, он осознал свою подлость, а может быть, радовался, что она не убила его из громадного нагана, еле помещавшегося в её руке.
Всю ту ночь они провели в бомбоубежище. Налёты фашистской авиации следовали один за другим до самого утра. Не было смысла бегать домой на час-полтора с тяжёлыми вещами. На рассвете они узнали, что вражеского ракетчика поймал военный патруль. И ракетницу нашли в пальто, самих же патронов при нём не было.
В бомбоубежище негодовал народ:
— Такой гад хитрый. Спрятал или в люк выбросил, чтобы, значит, улик не было…
— Нет, он их расстрелял. Неужели непонятно?
— Ждут вражины часу своего. Мол, придут немцы в Питер…
— Ну, нет!
— Недолго уш шдать. Всё уш германец пошанимал, ишь до Уралу допёр, недолго… уш шдать нам ошталошь, — прошамкала бабка из тёмного угла.
— Не болтай, старая!
— Я и говорю, они не придут. А они-то надешу имеют, пуляют себе и пуляют… Говорят, шёрная туша прёт на Питер. Штрашть школь…
Люди недобро косились, а бабка шамкала и поминутно крестилась. Тощая рука её в драной варежке так и мелькала. Майя отвернулась. Она узнала старуху.
Во дворе её называли «щукой». За вредный характер. Зубов у неё не было вовсе, не то что щучьих, но и своих. Сидела бабка целыми днями возле окошка на первом этаже. И глядела в окно без занавесок целыми днями. Словно ей нечего было делать. Именно перед её окнами на заднем дворе мальчишки играли в свой футбол.
Только к бабке в окно влетали тугие мячи, пущенные ногами лихо орущих мальчишек. Они играли в футбол с утра до вечера, с перерывом на обед, и ничего вокруг себя не замечали.
Звонко сыпались бабкины стёкла, и мальчишки на мгновение замирали. Затем бросались наутёк. Бабка, словно ждала этого. Неповоротливая в толстом пальто зимой и летом, в клетчатом, скрученном жгутом вокруг шеи платке, она неожиданно резво выскакивала во двор, носилась за мальчишками. Кого-нибудь обязательно хватала. Она таскала его за уши, заглядывала в глаза и пронзительно на весь двор вопила. Словно не она, а ей драли уши. Взрослые считали её выжившей из ума и с ней не связывались, даже если их чаду она чуть вовсе не открутила ухо. Мальчишки бабку люто ненавидели. Им казалось, она сама ждёт с нетерпением, когда ей разобьют стекло. Тогда она всласть покуражится. Вечером злой отец попавшегося бабке мальчишки с приторной улыбкой вставлял новое стекло.
Бабка, чрезвычайно довольная, сидела рядом и милостиво кивала.
Футболисты в начале игры осторожничали, предупреждали друг друга — мол, «щука зырит». Потом игра разгоралась, они начисто забывали и про бабку, и про всё на свете в необычайном футбольном азарте. Опять сыпались бабкины стёкла, и она, радостная и резвая, уже скачет по двору…
Сейчас бабка злорадствовала осторожно. Как бы чего не вышло — время военное. Но характер её был неисправим.
— Нешто вшех переловите. Шпионов энтих, што тараканов. Пошитай в каждой шели шидят, шдут швоего шпионшкого шашу…
— Какую шашу?
— Не шашу, а шашу. Шроку, бештолошь!
— Старая, а чем занимается, — плюнул дядя Лёша из девятой квартиры. Он недавно пришёл из госпиталя, ходил на костылях трудно, со слезами на глазах. В бомбоубежище почти не спускался.
— Полоумная Мурка времён покоренья Крыма, — съязвил недавний футболист. Это был Женька Лещёв из шестой квартиры. При неумелом тушении зажигательной бомбы ему страшно обожгло правую щёку, и он старался к говорившему повернуться левой стороной лица, он видел, что его изуродованная щека вызывает жалость, а это его злило и мешало нормальному разговору.
— Не ошкорбляй, шоколик нештатный. Я Дуня, а никакая не Мурка…
— Ты, Дуня, с войной совсем рехнулась? Не съездила тебя фугаска по затылку?
Женькин приятель, самый заядлый футболист, дерзко глядел на бабку.
«Щука» повела глазами и оторопела. Борька Пузырёв над ней насмехается. Как он вырос! Как время бежит!
А давно ли она таскала его за ухо. А потом его отец драл ремнём. Он орал, а бабке приятно было слушать. Да, время бежит. Теперь, пожалуй, он может и сдачи дать.
Бабка с сожалением отвернулась. Борька Пузырь мстительно свистнул прямо в бабкино ухо. Она присела и вовсе струсила.
— Хорошо бы, шоколик, вшех победить, — прошамкала она заискивающе и перекрестилась на мусорную метлу, стоявшую в углу.
Но случалось в то бессонное тревожное время и курьёзное.
В конце августа маму Майи вызвали в штаб самообороны. Днём и срочно. Штаб находился в жакте, и управдом был его начальником.
За Натальей Васильевной увязалась Майя.
— Снова дежурить? Опять кто заболел? Не пойду, я и так три дня назад дежурила ночью, а днём у меня работа. Что я в доме, одна? — сердилась Наталья Васильевна, спускаясь по лестнице.
В жакте, несмотря на белый день, наглухо были зашторены окна. Ярким солнцем горела большая электрическая лампочка, свешиваясь с потолка на длинном чёрном проводе. Тощий, как гороховый стручок, управдом Черпаков сидел за столом и внимательно разглядывал какую-то бумагу. Чуть носом по ней не водил. Возле стола стояли два высоких подростка с противогазами на боку. Напротив управдома, спиной к двери, — невысокий плотный мужчина в красноармейской форме.
Это его бумаги разглядывал управдом.
Фигура красноармейца выражала крайнее нетерпение. Он переминался с ноги на ногу, нервно тянулся к своим бумагам. Майя сразу поняла, что он торопится. Они с мамой остановились в дверях.
— Погодите, гражданин торопливый. У нас тоже фронт, и все мы тоже торопимся. А вы, гражданка Александрова, пройдите. И отвечайте быстро, не задумываясь…
Управдом важно прищурился и в упор поглядел на Майину маму. Та пожала плечами. Тогда он зачем-то поглядел на Майю, и она поёжилась под его неприятным колючим взглядом.
— Я вас спрашиваю, гражданка Александрова. Что молчите? Этот подозрительный тип разыскивал вас. Битый час стоял под аркой, разглядывал списки жильцов нашего дома. Кстати, надо спросить с паспортистки, почему они не убраны. Помощь врагу? Если он с фронта, как говорит, то что, ему на фронте делать нечего? Фашистов бить надо, гражданин, а не прохлаждаться под аркой прифронтового дома! А красноармейскую книжку и подделать можно. Знаю!
Говоря, управдом глядел на Майю. В конце яркой обличительной речи она зажмурила глаза и почувствовала себя виноватой. Будто это она стояла под аркой и долго разглядывала списки ни в чём не повинных жильцов дома.
— Диверсанта поймали? — тонким от волнения голосом пропищала Майя. Неожиданно для себя. Но ракетницы, гранат за поясом, на худой конец пистолета у красноармейца не было.
— Я зачем понадобилась? — спросила Наталья Васильевна, охнув.
— Сначала посмотрите на этого субъекта, а потом уж будете охать и отнекиваться, — внушительно проговорил управдом.
Красноармеец обернулся, насмешливо хмыкнул, и Майя узнала дядю Костю, родного маминого брата.
— Ходят тут в формах, вынюхивают, разглядывают. И ещё улыбаются… Нет, номер ваш не пройдёт. Форму можно и с убитого бойца напялить, книжку тоже его забрать… Вон, целые склады фашисту достались. А то стоит, вынюхивает… Не случайно это. Сам, небось, военные объекты запоминает…
Наталья Васильевна переводила глаза с управдома на брата. И обратно.
— Стало быть, не признаёте? Так и запишем. Обы-ы-ска-ать! — неожиданно взвизгнул управдом. Он заёрзал на стуле, потом стремительно вскочил и, покраснев, благоразумно отбежал к шкафу.
Подростки разом вздрогнули, переглянулись и схватились за противогазы, словно за пистолеты.
Майя бросилась к управдому.
— Не смейте! Это дядечка Костя. Никакой он не диверсант! Сами вы подозрительный. Завесились тут днём…
Управдом вдруг сделался таким необъяснимо бдительным, что на жильцов, живущих в доме чуть не с революции, и то смотрит с непримиримой враждебностью. Жильцы в долгу не остаются: усмехаются, крутят пальцем у виска, намекая на значительные перемены в управдомовой голове с началом войны.
— Усохни, не баламуть трудящих. Я при исполнении. С меня там спрашивают законы блюсти!
И потыкал тощим веснушчатым пальцем в потолок.
— Что же ты молчишь, мама?! — возмущается Майя.
Мама, откашлявшись, спросила осипшим голосом:
— С Дмитрием беда? Не молчи, Костенька. Не скрывай. С ним беда? Говори, не мучь меня…
Устало улыбнулся дядя Костя, покачал головой.
— Правда, Костенька? Не скрываешь от меня? Нет беды? — сомневается Наталья Васильевна. Майя тревожно поглядывает то на маму, то на дядю Костю.
— Правду говорю, сестра.
Тогда мама повернулась к управдому, притихшему у шкафа, сказала веско-укоризненно.
— Это же брат Костенька. Константин Васильевич. С фронта. Мог забыть мою квартиру. Что с того? А вы сразу оскорблять. Зачем так, Митрофан Григорьевич?
— Григорий Митрофанович, — торопливо поправил управдом.
— Вот-вот. Некогда ему тары-бары с вами разводить. Это вам не бессловесные жильцы. Ему с фашистами воевать. Может быть, завтра в рукопашной с ними драться, а вы? Глупый вы, Митрофан Григорьевич.
— Григорий Митрофанович, — повысив голос, поправил управдом.
Подростки с противогазами смутились, тихонько между собой зашептались.
— Правильно, гражданка Александрова, — сказал управдом. — Так и прописано. Забирайте документ, товарищ боец. Как дела на фронте? Даёте фашисту прикурить? Шею ему мылите?
— Вот шёл бы и шею им мылил сам. Моложе моего папы, а тут околачиваешься. Прикрылся своими болезнями, — ворчала Майя, искоса разглядывая туманно улыбавшегося управдома, который стал елейным, тягучим, как вязкая патока.
— Не обижайтесь на нас, — сказал один из подростков. — Приказ вышел — забирать всех подозрительных для проверки. Слыхали, диверсантов в город фашист пачками засылает?!
— Не смущайтесь, ребятки. Время военное. Только как с противогазами ловить диверсантов? А если настоящий диверсант — куда вы с ними? Просто перестреляет как цыплят. Этот, — дядя Костя усмехнулся в сторону управдома, — за вас или за шкаф спрячется. Мальцы вы ещё. А вообще всё правильно!
— Стараемся, — приосанился управдом. — Мы завсегда понимаем обстановку, стараемся приспособиться…
Он важно прошествовал к столу, долго усаживался на скрипучий венский стул, сразу же уткнулся в какую-то длинную бумагу. Он дал понять, что ему крайне некогда.
— Вот-вот, приспосабливаешься, — негромко шипит Наталья Васильевна. — Этого тебе не занимать. Буравчиком вылезешь.
— А живых немцев видели? Какие они? А штыками дрались врукопашную? А в Ленинград они не пройдут? — подростки засыпали дядю Костю тревожными вопросами.
Неловко им было. Они наперебой старались услужить дяде Косте. Один — ему бумагу свернул и подал, потом книжку. Другой — табуретку придвинул. В одном из подростков Майя с трудом узнала Жоржика Иванова. Другой был ей незнаком.
— Не сдадим город, ребятки. За отцов краснеть не придётся. Затем стоим!
Стрелковая часть дяди Кости держит оборону недалеко от города. И надо было случиться такому чуду: в одном из подошедших к нему сапёров он узнал Дмитрия, мужа своей сестры Наташи. Они ахали, тискали друг друга в крепких мужских объятиях, удивлялись такому событию. Потом курили и молчали, поглядывая друг на друга с улыбкой. Поговорить как следует так и не удалось. Дмитрия окликнули, и он заспешил на переправу через реку. Сапёрам на войне всегда много работы: при наступлении и при отступлении. Они расстались, обменявшись между собой адресами полевой почты.
Об этом мама знала из папиного письма. Последнего.
В жакте, увидев брата, она страшно перепугалась. Подумала: с дурной вестью о муже приехал. Она ещё на пороге его узнала, но не могла сдвинуться с места, разом одеревенев. Женщина не слышала, что болтал управдом.
Не с дурной вестью, проведать её приехал Костенька. Наталья Васильевна бестолково и радостно суетилась. Ставила чайник на керосинку, макароны — на примус. Она хотела накормить дорогого гостя. Ничего, что нет мяса, колбасы, макароны подрумянятся и на хлопковом масле. Чайник не кипел, макароны подгорели.
— Господи, вот всегда так, — огорчённо сказала Наталья Васильевна. — Как назло!
— Не суетись. Лучше сядь, дай на тебя посмотрю. У меня и времени осталось мало, а мне ещё до Калинкина моста бежать. Там будет ждать попутка. Мы раненых в госпиталь привезли.
— Много убитых и раненых? — заохала Наталья Васильевна.
— Хватает. Больше, чем хотелось, — нехотя пробурчал дядя Костя. — Война есть война.
— Мы ничего здесь не знаем. Сидим, ждём. А чего ждём? Смерти? А у вас-то как? Как Дмитрий выглядел. Всё расскажи, Костенька, ничего не скрывай.
— Похудел Дмитрий. Один нос остался. И формы на нём нет. Говорит, не всем сапёрам хватило. А работа у них тяжёлая. Ходит какой-то сгорбленный, видно, сильно измотался.
— Господи, формы не хватило. Как же это? У него же тонкие шерстяные брюки. И он контуженный ещё с германской войны. Той. И грыжа оперированная… Как же он в сапёрах?
— Что делать, сестра. На войне не выбирают, куда начальство скажет, туда и пойдёшь. Оборвался, как гопник. Переправы да укрепления делать — не на печке сидеть. А мужества не занимать!
— И ты худой, Костенька. Глаза ввалились. Синяки. Может, помоешься до пояса? Или ноги вымой прохладной водой с мылом. Портянки могу новые дать. А, Костенька? Вон и чайник вскипел. И чаем напою потом. Вон сколько пыли на тебе, помойся, а я гимнастёрку зашью и новый подворотничок пришью. Боже, и у тебя одни глаза остались. Как воюешь?
— Это точно. У всех — одни глаза. Не в санатории. А как воюю — командиры не обижаются. Но ничего героического мною не совершено. И подвиги, и геройства совершают, но я не знаю их имён. Мы не успеваем, не до того, чтобы знакомиться: не успеешь оглянуться, а вокруг тебя уже почти все новые лица… Мясорубка!
— Господи, что же делается, что с вами будет?! И что нас здесь ждёт? Майя, давай живей папину чашку!
— Сплошные неожиданности с утра и до вечера. Скучать некогда. Да сядь, Наташа! Кто знает, увидимся ли когда… Фашист тучей прёт, пощады не знает. А пустить в Питер нельзя. Даже подумать страшно об этом…
Он встал, поглядел на часы, одёрнул выгоревшую гимнастёрку, поправил ремень. Пахнуло солдатским потом, смазанными кирзовыми сапогами, бензином и ещё чем-то.
— Забыл, — спохватился он. — Я гостинец привёз. Вон, глазастая племянница смотрит. Как не привезти! — И Дмитрий сунул банку. — А куда она мне? Не ровен час, убьют. Фронтовой, выходит, привет от отца. Принимаешь, племянница? И от меня.
«Фронтовой привет». Как здорово звучит. Счастливая Майя кивнула.
— Ты плечом подёргиваешь. Ранен был?
— Вроде того. «Кукушка» задела. Почувствовал, словно обожгло. Словно кипятком… Ранка в мягких тканях. Посылал ротный меня в медсанбат, да стыдно с такой царапиной там ошиваться. Обошлось, только иногда плечо ещё дергается. «Кукушка» — самая зловредная птичка. Заберётся в ветки. Он тебя видит, а ты его — нет. Здесь кто кого обойдёт…
Из солдатского мешка выкладывались на стол сказочные вещи. Майя следила за каждым его движением. И стол успела накрыть.
Дядя Костя задумчиво разгладил светлые усы и спросил:
— Нет вестей от Марии?
Мама покачала головой.
— Я оставлю номер полевой почты, если напишут — не поленись, Наташа, сообщи.
— Они под немцем, Костенька. Как им писать? — виновато проговорила Наталья Васильевна. Оба задумались.
— Вас бомбят?
— Тревоги частые, всю ночь бьют зенитки. Ночью не успеешь раздеться, в постель лечь, как снова сирена. В город не пробиваются. А может быть, Мария с сыновьями успела эвакуироваться? Может быть, в суматохе затеряла твою полевую почту, ведь всякое бывает, Костенька?
Они разговаривали, а Майя исподтишка разглядывала подарки. Солидно стояла банка с тушёнкой. Рядом с ней стояла ещё одна банка, поменьше. И ещё что-то лежало в пожелтевшей, пахнущей махоркой газете. Сквозь неё не разглядеть, а развернуть неудобно. Только и остаётся принюхиваться к пакету, как кошка. Но Майин несчастный толстый нос с дурацкой полоской поперёк ничего не хочет улавливать, кроме махорочного запаха.
Чай дядя Костя наскоро выпил, от горелых макарон отказался.
— Господи, наглядеться не успела, а уже уходишь…
— Идти надо, сестра. Война — мужская работа, идти надо. Надо, сестра!
Наталья Васильевна обняла брата:
— Береги себя, у тебя дети. Дмитрий, когда уходил, сказал: придём, мол, скоро домой. Начистим зубы фашисту и вернёмся. Месяца через три. И соскучиться не успеешь…
— Все так говорили. Пора, сестра! Опоздаю, пойду под трибунал.
Он засуетился, заторопился, стал прощаться. Усталый, насквозь пропылённый немолодой уже боец Красной Армии. Защитник.
— Как же вам трудно. Как тяжко. А я, бестолковая, так ничем и не накормила!
Мама сморкалась в платок и виновато глядела на брата.
— Кухня накормит.
Он забросил пустой мешок на здоровое плечо, поправил на боку зелёный противогаз.
— Попрощаемся, сестра. Всякое бывает. И ты мордаху подставляй, племянница. Папа велел слушаться. Под бомбы не лезть. Храбрая, управдома отчитала. Этот многолетний пацан соблюдает принцип: лучше перебдеть, чем недобдеть… Перед начальством благоговеет до судорог. Одним словом, надежно сидит на своем месте. Закавыка! Слушаешь маму?
— Он хитрый этот Митрофан, — говорила мама. — Весь какой-то намыленный.
Майя от похвалы засопела. Мгновение поколебавшись, она обхватила дядю Костю за шею, неловко ткнулась в колючие пышные усы.
— На фронте шпионы водятся, или только в городе?
— Не приставай с глупыми вопросами, — рассердилась Наталья Васильевна.
— Ещё как водятся! Вон, недавно целая группа шла… В красноармейской форме, книжки — не отличишь. И говорят по-русски…
— Ну? — насторожились Наталья Васильевна с Майей. — Как же узнали?
Майя вытянула шею.
— Шли со стороны немцев, говорят, заблудились. А сами прятались за кустами. Ну, при обыске — у одного пачка денег засунута в голенище сапог. Отвели к командиру, спросили, от какой части отстали. Такой и поблизости нет. Влипли, значит, раньше времени. И в книжках красноармейских скрепки не железные, как наши. Одним словом, всё липа.
— Куда их? Расстреляли?
— Отправили в тыл, там разберутся. Не солить же их на передовой. Смеёшься, племянница? Пиши, Наташа, если от моих что будет. Сразу пиши. День и ночь о них думаю. Сыновей жалко…
Наталья Васильевна кивнула.
— Я вас ждать буду с победой. Вы ещё утром встаёте, а я уже вас жду. И командира вашего. Я всех с фронта буду ждать! — кричала Майя убегавшему дяде Косте.
Долго ещё слышался топот кирзовых сапог по лестничным ступеням. Наталья Васильевна улыбалась сквозь слёзы и обречённо вздыхала. Майя раздумывала: не заплакать ли и ей. А то она как железная. Но загадочный пакет опять привлёк внимание. Она поглядела на маму, потянулась нерешительно к нему. Осторожно развернула. Большие белые сухари глядели на девочку. И ещё две отломанные половинки. Она, зажмурившись, перебирала их, нюхала, снова перебирала. Они хорошо пахли сливочным маслом, ванилином и… махоркой.
Она не выдержала:
— Я возьму… один… отломанный.
Мама глядела на комод. Там стояла папина фотография. Долгим грустным взглядом.
— Я возьму половинку?
Она тронула маму за безвольно опущенную руку. Мама отмахнулась.
Через секунду Майя грызла сухарь, запивала остывающим чаем и размышляла:

«Вкусные на фронте дают сухари. А разве на фронте можно обойтись без вкусных сухарей? По работе и еда. Разве победишь врукопашную фашиста? И торопился он очень правильно. Его товарищи ждут. Как они одни без него сражаться будут?»
От неожиданно пришедшей в голову мысли Майя поперхнулась.
— А если у кого нет никого на фронте. Кто должен эти семьи защищать? Опять мой папа с Валей и дядя Костя?
Мама не отвечала.
Майя так удивилась своей умной мысли, что, увидев на другой день мужчину призывного возраста, внимательно его оглядела. Почему он не на фронте? Мужчина был молодой с целыми руками и ногами. Отчего он в городе прохлаждается?
Она шла за ним след в след до самого угла проспекта Газа. Еле вышагивая. Она так устала, что когда он остановился, она налетела на него. Он удивился, а она покраснела и рассердилась.
Приводил её в негодование и Манин отец, этот пьяница с одним глазом. Подруга сказала, что его забраковали медики. Это ещё больше возмущало.
— Как это забраковали? Он вполне может прицеливаться другим глазом. Или подносить патроны. На худой конец, в кустах поджидать шпионов. Их в кустах видимо-невидимо. А кашу варить? Уж кашу варить можно совсем без глаз. Сиди и в котле поварёшкой помешивай, а лошадь кухню возит по окопам сама.
— Он одноглазый пьяница, — сказала Маня.
— Я забыла. Может напиться и всё перепутать. Ещё станет в наших стрелять или кормить немцев. Но ведь вас должен же кто-то защищать. Меня и маму — папа и старший брат. А вас? Опять мои папа и старший брат. Это несправедливо.
Маня расплакалась и ушла.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Маня Будкина. — Студень, съеденный котом
Неприятно стоять перед закрытой дверью. Как нищему на паперти. Но сколько ни жди — она сама не откроется. Майя ждёт, когда откроют, и от холода постукивает ботинками. От нечего делать разглядывает надпись, оставленную углём на сырой серой стене. Еле видную: «Женя и Оля».
Это писала Майя. До войны.
Позапрошлым летом шумно и весело шла замечательная картина по повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».
Майин класс смотрел эту картину не один раз. И все загорелись желанием, не сходя с места, сделаться тимуровцами. Спорили, ругались, дрались, горячо отстаивая каждый своё самое правильное мнение.
Уроки давно кончились, в ребячьих животах урчали разозлённые кишки, но боевые третьеклассники не расходились по домам. Чем заниматься? Город — это тебе не дачный посёлок, где каждая собака друг друга знает.
В городе тимуровцем стать вовсе не просто.
Пионервожатая Кира терпеливо слушала драчливых галдящих пионеров. Она хотела вставить хоть одно словечко в их пламенные речи, но это ей никак не удавалось. Тогда она топнула что есть силы и закричала:
— Хватит! Не доросли! Понимаете, не до-ро-сли! Тимуру сколько лет? Тринадцать. А вам? Девять. Что вы можете соображать в девять лет? Зубрить уроки, уплетать кашу — вот что можете вы в свои девять лет. Понятно? По домам марш!
Пионервожатая Кира не убедила. Сама того не зная, она насмерть оскорбила своих пионеров. Себе они казались большими, почти взрослыми, только маленького роста. Почему она мешает им делать важные дела?
— Дура, — сказал хулиган Фридька Железняков, выразив общее мнение мальчишек. Девочки оскорблённо вытянули лица и жалостливо поглядели на покрасневшую Киру.
Майя тоже шумела и махала руками. Она с первого взгляда бесповоротно влюбилась в красивую смелую девочку Женю. Они с Машей решили во всём быть похожими только на неё.
Первым делом переменили имена. Майя захотела зваться Женей. Но и Маня тоже решила носить это красивое имя. Имя одно, а их — двое. Разве можно носить двум неразлучным подругам одно имя? Сами запутаются. Было ещё одно. Но Оля была жеманной, глупой и старой. Она никому не нравилась, кроме Георгия.
Сначала подруги надулись и разошлись в разные стороны. На полдня. Потом, поразмыслив немного дома, вышли во двор и помирились. Они решили быть Женей по очереди. Решили, но каждая в душе была только Женей.
Первым делом надо было запомнить Женины платья, повадки, выражение лица. И самое важное — как она морщит нос, щурит красивые глаза, даже как изящно перелезает через забор. Самое трудное занятие для девочки.
Жизнь их покатилась как по маслу, а рецепт этой наступившей замечательной жизни был простым, как щелчок, — быть похожим на любимого героя.
Тимур им тоже нравился. Но мальчика, похожего на него, они не могли отыскать ни в своём классе, ни даже в своей школе. Тимур — умный, смелый и красивый. Он хорошо учится, не обижает девочек и маленьких, здорово ездит на мотоцикле, стреляет из винтовки. Главное, не боится хулиганов. Ни одного недостатка.
А у них в школе мальчишки некрасивые, драчливые, никогда не дружили с девочками. И ни у кого нет не только мотоцикла, даже велосипеда. Нет, Тимур для их мальчишек недосягаем. А Женя — просто хорошая девочка, и они с Маней, если постараются, будут такими, как она.
Своё старомодное имя Маня ненавидит. У них в классе есть Иветта, Ионна, Эльвира, Идея, а она — Маня. Мальчишки повадились звать её Манька-Встанька, благо рифма простая.
Щуря зелёные в коричневых крапинках глаза, Маня с обидой спрашивала:
— Не могли они меня назвать Венерой? Как богиню. Или как тебя? У нас все бабки во дворе Мани.
Майе становилось неловко. Она успокаивала:
— Есть Дуня-щука. Отдохни от своего имени. Ты сейчас Оля. Потом будешь Женей.
— Невсамделишной. Какая-то Манька-Встанька. Глупо, правда?
— Глупо, — соглашалась Майя, виновато глядя на подругу и не зная, чем ей помочь.
…С тех пор прошла вечность.
А дверь не открывалась. Майя стала подскакивать на одном месте. Ноги от холода стали как поленья. Она наклонилась к замочной скважине, но ничего не увидела. И тут только поняла, почему не открывают дверь: она же давит кнопку электрического звонка. Вот дура! Нет электричества, а она забыла об этом.
— Женька безмозглая, — пренебрежительно отозвалась о себе Майя и начала колотить бесчувственной ногой в облезлую Манину дверь.
Сразу сердитый низкий голос спросил из-за двери:
— Кто? Чего надо?
Это голос Маниной матери.
— Это я.
— Кто там якает? Чего носит нелегкая по чужим квартирам?
С лязгом упал тяжёлый железный засов, дверь приоткрылась на цепочке.
Вот закрываются! Майя вспомнила свой легкомысленный французский замок, он открывался мелкой монетой.
Майя потянула за ручку двери, чтобы войти, но Манина мать больно оттолкнула её от двери.
— В чужую квартиру самой лезть не обязательно. Стой, где стоишь. Поняла? Тебя не звали, угощения не готовили. Кто это сейчас бегает по подругам?
Лохматая неприветливая Манина мать показалась Майе нахохлившейся вороной.
Майя попятилась. Из квартиры пахнуло нежилой сыростью, нечистым затхлым воздухом. Квартира расположена на первом этаже, канализация не работает, забита нечистотами. Поэтому на первом этаже невыносимо гадко пахнет.
— Подруга явилась. Чего шляются? — уходя ругалась Манина мать. — Ещё сопрут чего. Является, гремит, барыня, ждать не желает, сопля несчастная!
Вышла Маня. Увидев её, Майя ахнула. Всегда немного припухшие Манины веки раздулись, багровыми наплывами нависли над глазами. Толстый нос сделался красной картошкой, а губы, наоборот, посинели.
— Какая ты?
— Какая-какая… будешь такая, — озлобленно прикрыв за собой дверь, зашептала Маня. — Побили. И Зою кулаком стукнула. А Зоя болеет. И бабушку толкнула… С Будкиным разругалась, а нас бьёт.
Будкин — это Манин отец.
Майя оторопело глядела на подругу. Её не били, не считая безобидных подзатыльников, да и то можно опередить маму и вовремя от них увернуться. Ей трудно было представить, чтобы Маню могли бить. Маня робкая, послушная, ей всегда не хватает уверенности. Когда у доски отвечает урок, она то и дело останавливается, голос её дрожит от волнения, и она краснеет. Но она старательная, выдержанная. Не то, что Майя.
Давно сделаны у Майи уроки. Она с девочками прыгает во дворе с мячиком. Или играет в классики. А Мани нет и нет. Майя косится на окошко подруги и видит её склонённую над уроками голову. Мане тоже стыдно, что она за уроками сидит вдвое дольше подруг. А отметки — посредственные.
Для Верки это нормальные отметки. Она просто не утруждает себя зубрёжкой. Галка с Лилей не в счёт. Они учатся в другой школе. Верка красивая, надменная и одевается во всё заграничное. Её отец, боцман на большом белом пароходе, ходит в загранку. Ни у кого нет заграничных платьев. Девчонки в классе отчаянно завидуют Верке.
Майе тоже до смерти надоел застиранный синий халатик.
У Мани и застиранного халатика нет. Она ходит в непонятной хламиде, доставшейся ей в наследство от старшей сестры Тони. Хламида велика и неряшливо зашита. На локтях — чёрные лохмы заплаток. Маня кожей чувствует свою некрасивую одежду и ещё больше запинается у доски под взглядами насмешливых одноклассников. Она понимает, что похожа на пугало.
Веркина мать, тощая веснушчатая, готовит Верку в артистки. С её красотой и заграничными нарядами, говорит она во дворе, нечего сохнуть на уроках. И рассказывает старухам в сотый раз, что несколько лет назад сама готовилась в артистки, мечтала стать второй Верой Холодной. Но тут подвернулся шикарный мужчина с трубкой во рту, и вся её карьера покатилась в пропасть. Верка тоже уверена, что над уроками сохнут синие чулки. Майю Верка не задирает. Майя не красавица, но у неё густые русые косы и серые глаза — с выражением. Но главное — это гордая, как у Жени, походка. Она и сдачи может дать. Её опасно презирать.
Верке доставляет удовольствие изводить Маню, она передразнивает её, обзывает пробкой, пугалом и пьянчужкиной дочкой. Если озвереет, то — безмозглой уродиной. Верка им не подруга, они её не зовут играть, даже если им в игре недостает одного человека. Верка сама нахально подлизывается. Они не выдерживают: не хотят, а играют с ней. Про таких людей, как Верка с матерью, во дворе говорили: их гони в дверь — они влезут в окно.
В начале войны они эвакуировались. Веркина мать в своей квартире поселила родственницу из пригорода, чтобы в её отсутствие не разворовали дорогие заграничные вещи. Веркин отец со своим пароходом пропал без вести.
Эти мысли проносились в голове Майи, когда они с Маней молча глядели друг на друга. В Маниной голове назойливо стучала мысль: почему у Майи всё как у людей? Майин папа с братом бьются на фронте с фашистами. И мама не драчливая. И Толя в школе за Майю заступается. Недаром мальчишки никогда не лезут к ней драться.
Манина старшая сестра Тоня заходила к ним, если отца не было дома. Она приносила к чаю сушки и сливочные ириски. Маленькая Зоя счастливо сосёт ириску, поминутно вытаскивает её изо рта, чтобы поглядеть, много ли ещё осталось радости. Маня не выдерживает и отдаёт ей свои ириски.
— Что молчишь. За что она побила тебя?
Манины глаза-щёлки налились слезами.
— А ни за что. Ихний кот, — она подбородком указала на соседнюю дверь, — залез… сожрал, ну, наш студень… Целую последнюю тарелку сожрал, паразит. Он между дверей на полке стоял. А она…
— Кто стоял на полке? Кот?
— Какой кот? Студень! Он стоял на полке, она сказала, что это мы с бабушкой и Зоей его съели. А на чужого кота сваливаем.
— А ты откуда знаешь, что кот съел? Может сам Будкин?
— В тарелке клок шерсти остался. Студень был из столярного клея, вкуснющий! Кот голодный, шерсть у него клочьями лезет. И приклеивается… А как он воет с голода! Ему же не объяснишь, что блокада. Карточки же на котов не дают. А он тоже хочет есть… Вот.
— Ты бы показала маме этот клок.
— Будкин сказал, что я под дверью шерсть кошачью подобрала. Сунула… сама в тарелку, чтобы выкрутиться. Ты-то мне веришь, что я не ела?
— Верю.
— А они… они — нет. Студень вкусный, живот поболел и…
— Студень вкусный. Почему его раньше не варили? Боялись, кишки склеятся?
— Живот поболел и перестал. Осталась последняя тарелка. А она поверила Будкину и побила… Будкин топором стучал в ихнюю дверь…
— Топором? Разве это можно? — шепотом спросила Майя.
— Видишь, у Касаткиной дверь раскурочена? Она не открывала. А Будкин через дверь орал, что поймает ейного кота, когда он совсем облезет, чтобы даром шкуру не сдирать…
— Не сдирать… — эхом отозвалась поражённая Майя.
Маня умолкла, прислушалась.
За дверью заругались, что-то грохнуло.
— Дальше!
Маня торопливо закончила:
— …и сварят суп или студень из ейного кота. Он, Будкин, орал: «Будет намного вкусней столярного».
Майя сморщилась и тоже начала прислушиваться к тому, что происходило за дверью.
Маня торопилась:
— Через дверь Касаткина закричала тонко-тонко, от такого, мол, пьяницы всего можно ждать. Родную мать обжирает, детей обворовывает, и ничто ему не указ. Что, мол, ему ни в чём не повинный кот?! И на фронт его не берут — он весь фронт обожрёт!
— Пусть бы обжирал фашистов, правда? Их не жалко, — сказала Майя, сочувствуя Мане.
— Мы с Зоей попросили есть, а тарелки, ну, со студнем, и нет… И клея у нас больше нет. И варить нечего.
— Хлеб выкупите. Сегодня много привезли, очередь совсем маленькая, — подсказала Майя.
— Сказала тоже! Хлеб Будкин сам выкупает. У него все карточки, кроме маминой. Она на заводе питается. А сегодня Будкин не ночевал дома. Пришёл и сказал, что мы съели хлеб уже на послезавтра. А сам нам два дня хлеба не давал.
Внутренняя дверь распахнулась, и Манина мать подозрительно уставилась на девочек. Те испуганно присмирели, глядя на неё. Переводя недовольные глаза с одной на другую, она сказала:
— Долго будете студить квартиру? Ровно сто годов не видались, не наговорятся никак!
Недобро ощупала глазами Майю с головы до ног:
— А ты не худая. Запасы, небось, поедаете. Или тряпки помогают?
Майя поёжилась, кивнула, не вникнув в суть вопроса.
— Умные головы. Небось, лишку имеется. А я! Что я могу с этим иродом, разве что сдохнуть. Куча иждивенцев и пьяница. Господи! Расходитесь, вам говорят!
Она ушла, хлопнув дверью. Девочки вздрогнули.
— Какая она у тебя… — зашептала Майя. Она хотела добавить, что мать у Мани злая, некрасивая, но не решилась. — Приходи ко мне, станем чай с тобой пить. У нас всегда горячий чай под подушкой. И хлеба немножко дам. Как пахнет противно у вас — у меня нос онемел! Новость у меня — не поверишь, честное пионерское! Такое даже во сне не приснится. Ахнешь, когда узнаешь мою новость. Придёшь?
Маня покачала головой, грустно и тихо прошептала:
— Она не пускает. Она в бомбоубежище только нас с Зоей отпускает. Говорит, тратить силы нечего.
— Наоборот. Мама моя говорит, что по воздуху ходить полезно. А у вас воздух как на помойке. Ты не обижайся. Это я так просто ляпнула. Ну, не совсем как на помойке…
— Я не обижаюсь. Мы уже привыкши, — безразлично сказала Маня, поёживаясь от холода. — Я пойду. Можно, я завтра приду с Зоей? Она уйдёт сегодня на целую неделю…
— Приходи. Чай будем пить. Настоящий, с хлебом и повидлом.
— Настоящий и с повидлом? — не поверила Маня. — Ты такая, Майка, счастливая!
— Повидло земляное, но вкуснотища. Не поверишь!
Дверь за Маней захлопнулась. Зазвенела цепь, заскрежетал железный засов.
Они так закрываются, а у них чужой кот сожрал студень из столярного клея. Вот удивительно: коты же не люди, чтобы есть студень из столярного клея. Они же коты!…
Майя удивлялась этому всю дорогу.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Дворник Софроныч. — Мрачный подвал. — Патроны
Под аркой Майя ждёт Фридьку.
Дом фасадом выходит на проспект. Проспект ровной ниткой тянется в далёкий таинственный порт, где стоят прекрасные белые пароходы. До войны стояли…
Майин дом из тёмного гранита, с вкраплённой там и сям разноцветной плиткой. До революции дом принадлежал буржую, члену царской Государственной Думы. Вход на просторную парадную лестницу с неработающим лифтом украшают две очень мощные мужские фигуры. В очень скромных одеждах — с тряпкой на бедрах. Фигуры держат на плечах всю центральную линию балконов.
Однажды Майя стояла перед фигурами и, задрав голову, глядела на них. Они на неё не глядели. Согнувшись под тяжестью балконов, они глядели куда-то вниз и, казалось, важничали: мы, мол, заняты ответственным делом, а ты тут прохлаждаешься…
Когда наступила зима, Майя видела, как им холодно в этой их глупой тряпке. Да и летом им тоже несладко. И у них такой вид, будто надо куда-то бежать, но без брюк бежать неудобно, а тут ещё балконы на плечах…
И ещё им надоедали голуби и всякие воробьи. Фигуры, конечно, могли их схватить своими руками, они у них такие длиннющие. Но руки заняты!
Ей было жаль несчастных, до слёз жаль.
— Эй, летите отсюда, что вы тут уселись! — бегала Майя, отгоняя птиц. — Что расселись? Деревьев вам не хватает на заднем дворе? Там три дерева и ещё одно сломанное. А этим и так тяжело, хулиганы вы этакие!
Она бежала во двор, набирала из песочницы мелких камешков в фартук и бросала в упрямых птиц.
— Ты что безобразничаешь? Ты что хулиганишь? А ещё девочка! — укоряли её прохожие. И спешили по своим делам.
— Это я хулиганю? Это птицы хулиганят, — объясняла Майя в спину прохожим.
И удивлялась непонятливости взрослых. Делают вид, что всё на свете знают и понимают. А сами ну ничегошеньки не видят под своим носом. Будто глаза завешены шторами. Нет, шорами, как у коней.
Уже давно она стоит под аркой возле чугунных ворот с узкой калиткой сбоку. Калитка массивная, и раньше на ней ловко катались все мальчишки с их двора. По очереди. Когда не видел всевидящий дворник.
Завыл ветер. С тусклого неба посыпалась снежная крупа. Вокруг сделалось светло и чисто.
А Фридька не идёт.
Она чувствовала, что коченеет. Скоро не сможет двинуть ни рукой, ни ногой. Чтобы немного согреться, она начинает старательно топать ногами и хлопать в ладоши.
Эхо, с незапамятных времён живущее под аркой, начинает вслед за ней повторять каждый звук глухим простуженным басом. Это ей нравится. Она топает, хлопает и слушает. Ноги отошли, в кончиках пальцев покалывают иголки.
Арка в последний раз отозвалась и вдруг засвистела, завыла, задребезжала калиткой. Майя удивилась. Переменился ветер, арочное эхо послушно ему подчинилось.
Снег уже повалил хлопьями. Она отодвинулась в самый уголок, прижалась к холодной облезлой стене продрогшей спиной.
Майя увидела в двух шагах от себя дворника. Он проходил мимо, покашливая в рукавицу.
Софроныч, так запросто звал дворника весь дом, уже не раз проходил, всматриваясь в закутанную до глаз фигурку. И не узнавал. Под аркой полутемно, и Майя всякий раз отворачивалась от строгого дворника. Она вовсе не желала быть узнанной. Он может в домовый пикет отвести. Маме нажаловаться. За ухо отодрать. От Софроныча всего можно ждать.
Когда он приближался, шаркая подшитыми валенками, девочка опускала голову и, глядя вниз, старательно ковыряла ботинком ледышки.
Дворник Софроныч коротконогий, приземистый, у него зоркие глаза и длинные цепкие руки. Мальчишки в доме боялись его пуще огня. Казалось, идёт себе и ничего не видит, не замечает. Потом вдруг разворачивается и хватает именно того, кто ему нужен. И больно треплет за шиворот. Мальчишка подскакивает на месте, голова его жалко мотается из стороны в сторону. Как у цыплёнка.
Майя видит Фридьку. Он появился, словно вынырнул из сугроба, с ног до головы облепленный снегом. Издали Фридька кажется низким и толстым, а очутился рядом и словно похудел, вытянулся. В руках у него сумка от противогаза. В ней что-то железно брякает. Безбровое Фридькино лицо мрачно, конопатины недовольно вытянулись.
Майя возмутилась.
— Что ты не шёл так долго? Я окоченела тут… в сосульку превратишься, пока тебя ждёшь. А он не идёт и не идёт! Софроныч бегает злой и всё вынюхивает. Я уж думала, что в пикет меня отведёт. Как шпиона какого…
Фридька ей не отвечает. Не считает нужным. И не смотрит.
Руки его в карманах, от холода он притопывает ногой и ловко сплёвывает через выпавший давным-давно зуб. Новый зуб у него не растёт. Наверное, не хватает калорий, чтоб зуб рос.
И что это насмешливый Фридька такой мрачный?
— Ты заболел? — спросила Майя.
Это Фридьке не понравилось.
— Разговорилась тут… не остановишь… — огрызнулся он. — Некогда мне с тобой разгуливать по подвалам. Пойдём за банкой с конфетами, — передразнил Фридька Майю совсем непохожим на Майин писклявым, как у мыши, голосом. — Трещотка! Мне на фронт торопиться, а то война без меня кончится. Поняла?
— Может быть, она не успеет кончи… — ляпнула Майя и поняла, какую несусветную глупость вдруг сказала. — Нет, я не то хо…
— Совсем дура, — невежливо сказал Фридька.
Он замолчал. Девочка тревожно уставилась на него. Она, конечно, не ждала, чтобы он извинился за опоздание, но чтобы так?… Она же хотела как лучше. Может быть, не показывать ему банку с конфетами?
— Условия помнишь? Половина — моя, — напомнил Фридька. И снова деловито цыкнул сквозь дырку в зубах.
Майя обрадованно кивнула, боясь снова что-нибудь ляпнуть.
— То-то, — сказал Фридька и направился к подвалу. На двери мрачного подвала висел ржавый амбарный замок. Фридька присвистнул, разглядывая его. Майя огорчённо замерла. Она отлично помнила, что вчера, когда выносила во двор мусор, на двери не было замка.
— Всё из-за тебя. Недаром, значит, дворник вертелся. Что-то заподозрил. Может, догадался, что мы туда собрались. Я же видела, что подвал стоял открытым. Я своими глазами видела. Не веришь?
— Дура ты, Майка. Заткнись. Сегодня надо было глядеть. Я собью эту рухляндию, а ты не стой пугалом. Дура!
— Сам дурак.
Фридька махнул рукой и задумался.
Замок как-то косо висел на кривом пробое.
— Я собью, — сказала Майя. — И гвоздь, смотри, кривой.
Фридька негодующе фыркнул.
— Заткнись. Лучше погляди, где дворник. Живо!
— Раскомандовался! Домой он ушёл. Надоело ему меня караулить. Он сидит, чай пьёт, — обрадовалась Майя своему и Фридькиному мудрому решению.
— То она видела, то она не видела. Ступай, куда сказал!
Она выглянула во двор, повертела головой.
— Я ж говорю, нет его.
А Фридька времени не терял. Из противогазной сумки достал отцовские клещи, деловито постучал со всех сторон по пробою, гвоздю, потом ещё раз постучал покрепче и вдруг, ловко схватив шляпку гвоздя, вытащил его.
— Вот здорово! — восхитилась Майя.
Пробой с замком в их руках. Путь в мрачный подвал свободен.
— Видела? В противогаз его, как миленького, спрячу, и дело с концом. Видела? — хвастался Фридька.
— Тебя и на фронт запросто примут! Командир скажет: как не взять такого ловкого, который запросто амбарные замки сбивает! — скромно польстила Майя.
— На фронт не принимают, а мобилизуют. Вот чукча, — не оценил Фридька. — Дворник тоже не дурак, придёт и закроет нас на этот замок. И будем сидеть в подвале до скончания войны. Значит, пробой надо положить в сумку. Вместе с замком. Вылезем и снова закроем. А если он придёт, увидит, то пока он ищет новый замок, мы уже дома будем. Поняла? Про банку не наврала?
— Провалиться мне, я сама видела, как Алька-Барбос… как она влетела как миленькая в открытый подвал. Как сумасшедшая влетела. Честное пионерское, не вру.
— Не врёт! Все врут. Только одни настоящие вруны, а другие — чуть-чуть…
«А вот и не чуть-чуть», — вспомнила она про карточку и пробормотала:
— Я лишь умалчиваю.
Открыли тяжёлую скрипучую подвальную дверь, и Фридька спустился на одну ступеньку. Из чёрного мрака пахнуло пронзительным запахом сырости, густой, устоявшейся вони.
— Может, не пойдём? Ну её, банку, может, крысы съели.
Майя оробела и потянула Фридьку за рукав.
— Крысы железо не прокусывают. Иди уж, переставляй ноги! Да меня не дёргай, загремим вниз без остановки. Спички, небось, забыла?
— Не забыла.
Майя давно примирилась с командирскими замашками Фридьки. Она только хмурилась, чтобы показать ему, что не вполне согласна, но в подвале было темно, и Фридьке на её обиду наплевать. А ещё недавно они всем звеном его прорабатывали за двойки и всякую другую чепуху.
Война спутала всё. Ненужная раньше банка стала желанной, недосягаемой, а двойки — чепухой. Важное отступило, потеряло своё значение, а незначительное прежде раздулось до ужасающих размеров.
— Не толкай меня, дура!
— Сам дурак. Я не толкаю. Пусти вперёд меня. Я знаю, куда она скатилась.
— Надо было раньше, перемешали всё давно. Забыла? — зашипел Фридька и больно стукнул локтём Майю в бок.
Осенью жильцы дома несколько дней подряд носили заготовленные на зиму дрова в свои квартиры. Из сараев в подвале. У кого они, конечно, были или кто успел запасти с весны. Кто не успел — те тоже носили. По ночам. Из чужих сараев. Они тоже запасались дровами, но за счёт соседей.
Шум и ругань стояли несколько дней.
Управдом Черпаков звал на помощь милиционера. Пожилой милиционер стыдил, обещал не пойманных воров посадить в тюрьму.
И судить по законам военного времени.
— Нас чего стыдить? Ты воров отыщи!
— Вы же ленинградцы, граждане сознательные, — говорил милиционер. — Тащите, как дикое кулачьё. До зимы война должна окончиться.
— Если окончится, зачем ворюги растаскивают у трудящих людей чужие дрова?
— Как с малым ребёнком в холоде сидеть?
— С малым ребёнком эвакуироваться надо было.
— Тебя не спросили. Отдать своё дитя в чужие руки?
— А он живёт на казарменном положении. Ему поднесут, за ним уберут.
— Спит, небось, в тепле. Им на всех трудящих плевать. Что трудящие маются, что разводится всякая нечисть.
Участковый устало закрывал глаза. Но выдержка не изменила ему. Жильцы успокоились тогда, когда в подвале не осталось ни щепки.
Фридька всё стоял на первой ступеньке. Майя толкнула его.
— Что встал? Стоит и стоит… — зашептала Майя сердито, тревожно вглядываясь во мрак.
Фридька спустился ещё на ступеньку. У него закружилась голова. Рукой он нащупал стену и привалился к ней, другую руку цепко держала Майя. Если он загремит вниз, то и её утащит, надо ему теснее прижаться к стене. Редкие мысли лениво толклись в мозгу. Как он раньше мог без еды бегать целый день? В футбол гонять даже легче было. Вечером, наевшись, он отяжелевал как бегемот и валился на диван. Даже интересную книжку не хотелось читать. И было не до уроков. Был он злой и сонный.
Неужели были такие времена, когда его заставляли есть?
— Опять встал, — подёргала руку Майя.
Мир сузился. Война уходила на второй план. Теперь все его мысли были о еде. Ему не лежалось, не читалось, не игралось. Он уставал, мог часами лежать на диване и глядеть безразлично в потолок, мысли об отце стали вялыми, он пугался своего равнодушия, но сделать с собой ничего не мог. Все его мысли начинались и кончались едой.
Слабела бабушка. Она всегда совала ему что-нибудь съестное в рот, когда Фридька уж очень долго и тоскливо глядел на неё. Он запомнил это своё выражение, однажды поглядев так на себя в зеркало. Лицо у него было такое жалостливо-противное, что он со стыда плюнул в своё отражение.
Он понимал, что бабушка отрывает ему от своего иждивенческого пайка, что он брать не должен. Но сделать ничего с собой не мог и — брал.
Он решил, что найдёт банку с монпансье и сам угостит бабушку. Он явственно увидел во мраке, как в комнате топится печурка, кипятится пузатый чайник, а он, Фридька, гордо подаёт к чаю конфеты. Вот она удивлённо морщится, вот она улыбается. И Фридька чувствует себя мужчиной. Вместо убитого отца. Вот только где эта распроклятая банка?
— Всё стоит. И чего стоит как пень, — шипит осмелевшая, принюхавшаяся к запахам из подвала Майя. — Я дёргаю, а он стоит…
— Куда? Налево или направо?
— Налево стена. Ты что, совсем уж?…
Фридьке неловко. Головокружение и мечты прошли, он снова твёрдо стоит на ногах. Спускаясь со ступеней, он шарит вокруг себя рукой. Стена куда-то исчезла. Он опускается на корточки и щупает сырой рыхлый пол подвала. За другую руку держится Майя. Ей тоже приходится наклониться. Вообще-то девчонок Фридька не любит. Всех они учат, завалены всякими нагрузками и изображают из себя великих тружениц. А сами часами шепчутся с опилочными куклами или шушукаются о чём-то между собой. Он не представлял, как можно часами возиться с куклами, словно они живые. От самой крохотной опасности девчонки визжат так, что в ушах лопаются барабанные перепонки. Или перепонные барабанки? В общем, что-то там в ушах лопается от визга. Нет, девчонок Фридька не уважал. Он уважал футбол и доберман-пинчеров.
— Ты в куклы тоже играешь?
— Какие куклы? Опять встал!
— Не дёргай, руку выдернешь. Идти, спрашиваю, куда?
— Откуда я знаю, в какой стороне стою! В такой темноте разве увидишь? Куда она свалилась, я не знаю: я сверху, с перил, за Алькой-Барбосом наблюдала. Здесь ещё кирпичи были… все об них запинались, когда дрова таскали и перегородки ломали. И все очень некрасиво ругались. Спички зажечь?
— Зажигай. Давно пора сообразить.
— Чего зря жечь, когда ты столбом стоял целый час! — огрызнулась Майя и похвастала: — Хорошо, что я отсыпала, правда? А ты все «дура, да дура»!
— Закудахтала. Давай мне спички, я сам… Оглохла?
— Злой, как… как… старый мерин…
— Что! Повтори! Что ты сказала? — рассвирепел Фридька.
— Это я не про тебя. Я дворника вспомнила, — нашлась не на шутку встревоженная Майя. Чтобы задобрить Фридьку, она сунула ему в руку весь коробок со спичками.
Фридька чиркнул спичкой, поднял вверх руку, и они огляделись. Стало жутко. Мрак напирал со всех сторон. Он давил, не давал вздохнуть, таил в углах грозную невидимую непонятную опасность. Вблизи кирпичей не было, недалеко лежат какие-то штуковины. Протяни руку, и взять можно. А банки с монпансье не видать.
— Наврала! Твою банку нашли давно и съели. А это что лежит? — вдруг удивился Фридька и зажёг новую спичку. — Вроде железяки какие-то. И тряпка.
Он ткнул ногой штуковины.
— Чем звякаешь, нашёл банку? — зашипела Майя. Ей не было видно из-за Фридькиной спины, и она пожалела, что отдала ему спички. — Быстрее, а то звякает и звякает!… Придёт дворник, закроет, и крысы съедят…
— Заткнись. Не мешай соображать. Дворник побежал в бомбоубежище, слышишь, наверху сирена завыла. Свети, я взгляну на эти железяки!
Майя, сжавшись, слушала сирену и покорно светила Фридьке. Он запихивал в противогазную сумку непопятные длинные штуковины, потом ногой стал ворошить под тряпкой. Больше ничего не оказалось. Рядом тоже ничего не было.
— Лучше свети, сказано! Светит себе под нос!
Оскорблённая Майя засопела, но руку с горящей спичкой подняла выше.
— Вон кирпичи. Небось, всё перепутала?
Майя ещё сильнее засопела, но молчала.
Наверху смолкла сирена воздушной тревоги. В наступившей тишине вдруг послышалась недальняя озлобленная возня. Потом кто-то пропищал нечеловечески тонко и протяжно. И вдруг, совсем неожиданно раздался такой вопль, что Майя в страхе ткнулась Фридьке в грудь. Он не устоял и свалился в мусор. Пока он поднимался, злой и взъерошенный, Майя, цепенея от ужаса, спросила:
— Это кто, черти?
Майя зажгла новую спичку.
— Разоралась тут, как «щука» дворовая.
— Я шёпотом ору. Сам не ори. Я спрашиваю, кто это?
— В кирпичах крысы твою банку доедают. И к тебе подбираются. Да отцепись ты от шеи, задушишь, дура!
Но Майя, вцепившись в него обеими руками, бормотала:
— Я и чертей боюсь, и крыс, и привидений. Ну её, банку с конфетами! Уйдём давай. Только как? Вдруг оно нападёт сзади?
Фридька таращил в темноту глаза и напряжённо слушал.
— Это крысы. Тут всегда полчища крыс. Они с кошку ростом. Дом давно построен, они живут себе и живут. Вот и выросли…
— Я и с мамой боялась ходить. Если бы не банка… Какие наглые, людей вовсе не боятся…
— Чего им бояться? Они у себя дома. Это нам уходить надо. А то как бабахнет фугаска — тут под развалинами и останемся…
— Если живут крысы, то не разбомбят. Я читала.
— Они с корабля бегут.
— Может быть, и из домов, откуда ты знаешь?
Фридька не знал.
Ещё более злобный писк взлетел к самому потолку подвала. Затем неподалёку послышалась чья-то остервенелая возня. Майя присела, а Фридька, очумев, ничего не соображая, заколотил что есть силы клещами по противогазу. Майя боялась шевельнуться. Страх сковал все мысли, все её движения. Она одного боялась: как бы Фридька не убежал, не бросил её тут одну в страшном, битком набитом крысами и чертями подвале. Как она тут останется?
И тут земля неожиданно вывернулась из-под ног. Ощущение у ребят было такое, что земля, твёрдая и надёжная, вдруг стала живой и не захотела их держать на себе. Майя свалилась с ног.
— Это фугаска. Она на нас?
— Ты бы не болтала, если бы на нас, — мудро отчеканил Фридька. — Она недалеко упала.
Всё-таки вдвоём не страшно.
— А если другая в нас упадёт? — зашептала Майя.
— Может и в нас. Война.
Где-то наверху гремели зенитки, выли самолёты. А может быть, и не самолёты. В подвале тоже происходило непонятное и чудное. Земля больше не дергалась, образумилась и не уплывала из-под ног, не хотела сбросить с себя.
— Фугаска свалилась. Вот ужас там. А бомбоубежище, Толя говорил, заваливает. Фугаска пробивает этажи и уходит в землю на несколько метров. В одном доме воду не отключили, и все люди в бомбоубежище утопли. Ты слышал? Это на Дровяной улице.
Мальчик молчал. Ему вспомнилось: всеобщая мобилизация… Женщины плачут. Мужчины горько думают. Молодёжь молодцевато переглядывается. Мальчишки возбуждённо перекликаются и гоняются друг за дружкой. Откуда им, мальчишкам, знать. Война для них как в кино. Победное шествие танков, мчащаяся с саблями наголо лихая конница, и пулемётный треск с отчаянных тачанок… Они ведь не знали, что всё будет не так…
— Всё не так!
— Чего не так?
— Ничего.
Тут в ноги Майе ткнулось что-то сильное и мягкое и, отскочив, с пронзительным визгом исчезло в глубине подвала. Она от неожиданности упала навзничь, перевернулась на живот и поползла на четвереньках, не зная куда.
— Что ползаешь, хочешь меня свалить, спичку зажигай, дура! — не своим голосом орал Фридька, толкая Майю ногой.
От его окрика Майя опомнилась, полезла в карман за спичками и с ужасом поняла, что они были у неё в руке, когда она свалилась. Теперь в кулаке, кроме зажатого мусора, ничего не было. Пропали спички. Целое богатство по нынешним временам пропало в зловещем подвале. Вдобавок они остались в темноте. Она ползала по кругу, шарила руками в сыром противном мусоре.
— Зажигай, недотёпа! — орал Фридька, колотя ногой по её боку.
Она ползала и плакала и шарила руками вокруг себя. Тут её опять кто-то толкнул в другой бок, и она завопила пронзительно и тонко, уже не помня себя от ужаса, охватывавшего её всё больше и больше.
— Во, орёт! Сиреной работать надо — фашисты и в город не сунутся! — откуда-то сверху донесся злой насмешливый Фридькин голос. — Спички давай, говорю. Здесь кто-то живой…
— Крысы и черти. Кто же ещё. Он меня с ног свалил и коробок унёс, а она в другой бок толкнула… Он меня как ударит, коробок и выпал…
— То унесли, то выпал. Врунья несчастная, — шипел Фридька, — нужен чёрту или крысе коробок, как вчерашний день. Разиня беспросветная! Никуда больше с тобой не пойду.
Она хотела огрызнуться, но опомнилась и виновато замолчала. Злить Фридьку она боялась. При мысли, что он может уйти и бросить её тут одну, по спине забегали не мурашки — целые собаки. Она поползла, чтобы Фридька слышал, что она ищет злосчастный коробок. Она уже забыла, где она свалилась.
— Небось, в варежку сунула, прежде чем растянуться, — ехидничал Фридька.
Майя уже второй раз уперлась головой в кирпичи.
— Дальше некуда. Везде почему-то одни кирпичи…
— Ползает поездом курьерским и отыскать хочет. Ой, ой, ой, — вдруг закричал Фридька.
Она рылась в скользком мусоре и позлорадствовала: вот и сам заорал, небось, испугался тоже. Пальцам было больно и неприятно, но она терпела — ей страстно хотелось отыскать коробок.
— Майка, ко мне ползи. Я нашёл!
Она облегчённо вздохнула и поползла на Фридькин голос. Под руку попалось что-то непонятное, холодное и твёрдое, она торопливо ощупала его и, не поняв, что это такое, сунула в свой карман. Наткнувшись головой на Фридькины ноги, она по ним поднялась с колен. Лестницу они отыскивали долго, держась за руки, свободными руками шаря вокруг себя по воздуху. Так же дружно и тесно поднялись на площадку. Было темновато, наступали короткие зимние сумерки.
Они поднялись на второй этаж и уселись на подоконник.
Облепленный мусором, Фридька поглядел на Майю и обидно засмеялся. Он хохотал, широко открыв рот, хлопая себя ладонью по животу, и всё не мог остановиться. Пока не заикал.
— Ты, Майка, что, мордой мусор перебирала?
И Фридька снова захохотал.
Майя поглядела на него хохочущего, икающего и счастливого, хотя банку они так и не отыскали, и сама улыбнулась.
— Посмотри на себя — сам не лучше! — добродушно огрызнулась она.
Пальто было грязное, рейтузы на коленках продраны. Руки чёрные и липкие, словно она не в подвальном мусоре рылась, а в саже.
Вспомнив, она вытащила из кармана какую-то непонятную металлическую коробку, которая попалась ей в мусоре. Она вертела её, разглядывала, и коробка, как в волшебной сказке, вдруг засветилась желтоватым светом.
Фридька присвистнул. Глаза его округлились, буйная насмешка исчезла. Он близко-близко придвинулся к девочке, засопел. Она отодвинулась. Фридькино поведение было непредсказуемым. Удаль, насмешка и вместе с тем добрые хитро-наивные глаза.
— Дай поглядеть. Чего в подвале не включала? Дай, говорю!
— Откуда я знала? Сам он под руку попался, я только в карман сунула. Я сама ещё не насмотрелась. А ты чего орал?
Она светила себе и оттирала налипшую на одежду противную вонючую дрянь. Диковинный фонарик, сияя, разгонял в углы сгущавшиеся сумерки. Фридька деловито доставал свои находки из противогаза. Какие-то странные длинные металлические штуки.
— Свети мне. Видишь, что я нашёл. Патроны какие-то. Какое ружьё к ним надо иметь? Совсем неправдоподобное. Стой, да это же… Глянь сюда, видишь метки?
Майя посветила на странные штуки.
— Вижу, дай мне поглядеть, — попросила заинтересовавшаяся Майя. — Что это? Никогда таких не видела. А ты?
— Понял. Сами как сигары, — обрадовался Фридька. И вдруг испуганно оглянулся. — Здесь метки должны быть. Цветные, поняла? — понизив голос сказал он и опять осмотрелся. — Кто же в подвал спрятал, какой гад схоронил в пустом подвале?
— Да что это?
— Кто фашистов здесь ждёт? Хотел бы я знать.
— Да что это?
— Тише, разоралась тут! Осветительные ракеты. Дядя Лёша показывал мне картинку.
— Как страшно. — Майя съёжилась. — Может быть, он прячется в подвале. Может, это был не чёрт, а диверсант? Знаешь, как он толкнул меня в ноги.
— Дура, что он, ростом с карлика?
— И правда. Может, он сидит в кирпичах? Может, он поджидает?
— К этим патронам должна быть ракетница, — размышлял Фридька, не слушая Майю. — Где ракетница, хотел бы я знать?
Майя, ошарашенная этой находкой, всё ещё светила фонариком.
— Ой, а у тебя руки в крови. А может, грязь? Нет, кровь.
— Я ещё что-то нашёл. Совсем забыл, а оно шевелится…
Майя отодвинулась.
Фридька полез за пазуху, вытащил странный топорщившийся комок, сунул Майе в лицо.
Она попятилась.
— Ой, ты что, дурак, это крысёнок! — с ужасом зашептала она. — Брось его. Какая гадость!
— Ха, стал бы я брать крысёнка! Оно мяукает, слышишь. Правда, еле-еле… Крысы, по-твоему, мяукают?
— Котёнок?
Теперь Майя сопела от зависти.
— Дай потрогать…
— Кошка в кирпичах, оказывается, гнездо устроила. С трёх сторон кирпичи, а с четвёртой — она. Зубы и когти наружу выставила. Вход загораживала.
— Откуда ты знаешь? — не поверила Майя.
— Что я, не понимаю? Я так думаю. Я шарил везде руками. Кошка мёртвая, ей крысы почти отгрызли голову… Вот этого одного нашёл за ней…
Майя еле слышно проговорила:
— Она была с котятами. Что она ела?
— Откуда я знаю? Крысы её штурмовали, понимаешь, а она своё гнездо защищала. Они как фашисты, наступали со всех сторон. Бр-р-р!
— Как же в темноте?
— Кошки видят в темноте.
— А крысы?
— Не знаю.
Майя протянула руку, взяла крохотный комок. Котёнок щурился на свет одним еле прорезавшимся глазом. Открывал смешной маленький рот. И молчал.
— Он без голоса?
— Откуда я знаю? Может, при опасности кошка запретила ему мяукать.
— Мы же не крысы. Они же их по запаху чуют.
— И мы крысами пахнем. Ты же валялась в подвале.
— Я не валялась. Я свалилась.
— Кошка в кирпичной крепости сама их поджидала. Война у них шла. Как у нас.
— Что она ела?
— Не знаю. Может быть, сама крыс жрала. Чего плюешься, дура? Вот связался с чумазой ослицей.
— Сам чумазый осёл, — нехотя огрызнулась Майя.
Она осторожно дышала тёплым воздухом на котёнка.
Сердце её замерло от острой жалости к малышу.
— Как ты разглядел его в такой темнотище? А как ей было страшно одной, да ещё с грудным котёнком… Как она додумалась его спрятать в кирпичи…
— Говорю, шла война. Может, остальных котят крысы съели. Чем кормить его? Нам и самим нечего есть.
— Ой, как это я забыла: ему же молоко нужно. А где взять?
Вспомнив найденную карточку, добавила нерешительно:
— Может, на хлебе перебьётся?
— У меня хлеба ни крошки не остаётся.
Может быть, сейчас сказать Фридьке про карточку?
— Бери свои патроны, а котёнка отдай мне. Я найду хлеб для него. Патроны и фонарик надо сдать в милицию.
— Надо найти ракетницу, а то, что мы принесём? Одни патроны? Что нам скажут, понимаешь? Может, она лежит себе полёживает в подвале. Отдай мне фонарик, я с ним отыщу ракетницу. Вот тогда будет здорово.

Они спорили. Майя упрямилась. Ей хотелось котёнка, и с фонариком жаль было расставаться. Вон как надёжно и ласково освещает всё вокруг. Тьма забралась в углы и там злобно притаилась.
— Отдай! — наступал Фридька. — А то хуже будет.
Ей не хотелось портить отношения с Фридькой. Она вздохнула.
— Бери. Только не теряй. Когда пойдём за банкой и ракетницей? Теперь не страшно.
— Ты крыс боишься. Впрочем, может быть, тебя возьму.
— Как это возьму? Сам взял фонарик, а сам…
— Отвяжись. Сам скажу. Ну, я пошёл.
Он сунул фонарик в карман, уложил в противогаз патроны и ушёл. Сразу же на цыпочках вернулся.
— Ты что? — испугалась Майя.
Было тихо. Воздушная тревога давно кончилась.
— Тише. Там дворник ходит.
Майя выглянула. На чёрной лестнице, у подвала, топоча ходил дворник. Вот он стукнул дверью подвала, выругался и ушёл. За ним захлопнулась дверь на лестницу.
Подождав немного, Фридька пошёл вниз. Майя заторопилась за ним. Спускаясь вслед за Фридькой, она пожалела об отданном фонарике. Но, погладив за пазухой котёнка, успокоилась. Ведь она нашла хлебную карточку и фонарик, а Фридька котёнка и патроны. Будет справедливо, если фонарик получит Фридька к своим патронам. А она — котёнка, который хочет есть, — к найденной карточке.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Чёрный рояль. — Догадливая лотошница. Кусок булки с маслом
Коммунальная квартира, в которой проживала Майя, закрывалась на легкомысленный французский замок из жёлтого металла. Когда-то замок мягко и галантно щёлкал, пропуская в квартиру бездельников-буржуев, и на его стёршихся боках еле виднелись непонятные буквы. Теперь замок совсем состарился, местами выщербился, словно его проела моль. Не замок — одна видимость! И открывался он без ключа. Была бы в запасе десятикопеечная монета. Она вставляется в прорезь — щёлк! — и замок открылся.
— Какое счастье, что никто из местных злоумышленников не догадывается, что у нас никудышный замок, — ораторствовала на общей громадной кухне Софья Константиновна. — Ведь у меня в комнате стоит такой дорогой инструмент…
Эта небольшого роста пухлая женщина с любопытным острым носом напоминала Майе большую ухоженную мышь. Семья Софьи Константиновны Николаевой занимала в квартире две смежные комнаты. В одной из них с незапамятных дореволюционных времён стоял блестящий чёрный рояль, на котором в семье никто не играл.
Её сыновья, Сергей и Игорь, любили технику. К музыке относились насмешливо-снисходительно, не считая это занятие стоящим. На все просьбы Софьи Константиновны не губить свои таланты и поступить в музыкальную школу только презрительно улыбались. Нечего, мол, в век бурно развивающейся техники отвлекаться на всякие там дореволюционные глупости. Рояль достался им вместе с комнатами после революции, и его давно надо подарить Майке. Это она мечтает тренькать на нём.
— Нет, — гневно сказала Софья Константиновна. — Внуков буду учить. Они будут умнее вас. И потом я не могу с ним расстаться, он так украшает комнату.
— Это плохо, — сказала другая жиличка — Эмилия Христофоровна.
Она была латышка, говорила с небольшим акцентом. Вместо «плохо» выходило «плёхо».
— Что плохого нашли вы в моём разговоре? — недовольно прищурилась Софья Константиновна и в упор поглядела на соседку. — Я буквально вас не понимаю.
— Зря бездельничает инструмент. Как говорится, ни себе, ни людям. Когда ваши внуки подрастут — коммунизм у нас будет. Мне мой Янис рассказывал. А девочке учиться музыке хочется. У них инструмента нет. Он пока дорого стоит и не всем по карману. — При слове «пока» Эмилия Христофоровна высоко подняла указательный палец. — Кстати, и воров у нас не будет. Этот пережиток уйдёт из нашего общества. Должен уйти. За светлую жизнь погибли лучшие люди. Мне Янис говорил…
— Ах, оставьте ваши агитационные речи. Мы с вами не на митинге жертв революции, — невежливо перебила её Софья Константиновна. И недовольно добавила: — Обернитесь лучше на себя. У вас стоит прекрасный полированный комод. Между прочим, он из красного дерева. И вам он тоже даром достался. Вот вы и отдайте его!
— Но это же глупо. Комод — утилитарная вещь, в нём бельё хранят, на нём не играют.
— Вот-вот, и отдайте. Что, жалко, жалко? — кипела Софья Константиновна.
— Но зачем Майечке комод? — спокойно улыбнулась Эмилия Христофоровна. — Рояль — это музыка. Это Бах, Бетховен, Моцарт.
— Вот-вот, всех фашистов перечислила. Революционерка!
— Что общего у фашистов с великими немцами? Кроме того, жили они давно. А музыка наших композиторов: несравненного Чайковского, богатыря Мусоргского, великие латыши…
— Нечего вам выкручиваться, голова от ваших слов разболелась! Хвалить фашистов…
— Не переиначивайте и не подбирайте мне статью… уж как вам объяснить, что фашисты Гитлера и гении немецкой культуры — это небо и земля. Вы о них не слышали? Тогда зачем всех немцев валить в общую кучу? А у Майечки способности к музыке. Ей надо учиться.
Эмилия Христофоровна побледнела, схватилась за сердце и пошла в свою комнату пить валерьянку. После кухонных стычек с Софьей Константиновной все жильцы квартиры пили валерьянку.
Однажды в весенний праздничный день к Николаевым пришли нарядные гости. Майя стояла в коридоре и втягивала в себя тонкий ускользающий запах дивных духов, исходивший от красивых улыбавшихся женщин. Потом подошла к самой двери комнаты Николаевых. И замерла, не решаясь пошевелиться. Чёрный рояль за дверью рокотал бархатно и грустно. То жалуясь, то тихими нежными звуками вспоминая о чём-то далёком и несбывшемся… Майя стояла под дверью, слушала, пока на неё не налетела с горячим пирогом на подносе Софья Константиновна.
— Фи! Подслушивать — самое некрасивое занятие для девочки! — шипела, чтобы не слышали гости, она. — Не бери пример с некоторых: буквально, пирог чуть не упал на твою голову. Страшно подумать, что бы с пирогом стало!
«А что стало бы с головой?» — хотела сказать Майя, но не осмелилась. Пристыженная, она отошла от двери.
С того самого момента Майя потеряла покой. Она всё время думала о музыке. Она стала приставать к маме, чтобы та устроила её в музыкальную школу, благо школа недалеко от дома. Так надоедала маме, что та рассердилась:
— Подумай сама, учиться музыке можно, но где взять инструмент? Твоя тётка с Мойки могла бы дать на время, но у них конфисковали рояль вместе с комнатами, и её Оле не на чем играть. Учись играть на гитаре. Тебя папа научит.
— Не хочу на гитаре… Она безголосая.
В прошлом году Майя сама пошла в музыкальную школу. Без мамы.
Это была знаменитая в городе музыкальная школа. Открыта по указанию В.И. Ленина для одарённых детей петроградских рабочих. Отворив тяжёлую дверь, она очутилась в просторном гардеробе. Робко и нерешительно глядела на всех, не зная, к кому ей следует обратиться. Она стояла долго, и пожилая гардеробщица сама ею заинтересовалась.
— Из какого класса?
— Я?
— Ты, — улыбнулась добрая старушка.
— Я ни из какого.
— Тогда зачем стоишь? — удивилась старушка.
— Зачем стою? — переспросила Майя, не зная, как начать разговор.
— Ну, батюшки-святы, с тобой, прежде чем говорить, надо пообедать…
— Спасибо, я обедала.
— Батюшки-святы! — воскликнула старушка смеясь. Майя догадалась.
— Я учиться пришла. Я хочу играть на чёрном рояле.
— Эка, хватилась. Какой уж месяц? — спросила старушка. И сама себе ответила: — Уж сентябрь, приём закончен весной, поняла? И надо с мамой приходить.
Тут в гардеробную, напевая, прибежала красивая тётя с белым бантом на красной блузке, и старушка-гардеробщица, выдавая ей белое пальто, рассказала про Майю. Тётя улыбнулась и сказала, что Майя опоздала. С улицы вошёл дядя с некрасивыми клыкастыми зубами, и нарядная тётя рассказала ему про Майю. Майя, красная, смущённая, стояла в углу. Клыкастый дядя поглядел на неё долгим взглядом, и вдруг, взяв её за руку, повёл наверх по широкой лестнице. Он крепко держал за руку, чтобы Майя от него не убежала. Она и хотела убежать, даже попыталась выдернуть свою руку. Её до смерти напугали некрасивые дядины зубы.
Он сел за рояль, такой же прекрасный, как у Софьи Константиновны, и заиграл. Майя оцепенела. Мощные звуки лились, словно водопад с высоченной горы.
— Нравится?
— Это водопад?
Дядя улыбнулся, и она опять увидела его клыки. Но они уже не были такими страшными.
Потом он стучал по роялю отточенным карандашом, заставлял её перестукивать пальцем. Она удивлялась, но послушно перестукивала, только боялась поцарапать рояль. Потом её заставили петь, от волнения голос её сипел и надрывался. Клыкастый дядя сказал:
— Приму в виде исключения. Приходи с мамой. Инструмент у тебя есть?
Она зорко глянула, отрицательно мотнула головой.
— Худо, — сказал он. — Но ты приходи, придумаем что-нибудь. И обязательно с мамой. А теперь иди. Найдёшь дорогу?
Майя успокоенно кивнула. Клыкастый дядя стал даже чуточку красивый. Не помня себя от радости, она словно полетела на крыльях. Встречным она хвасталась:
— А я учусь в музыкальной школе!
И встречные улыбались, видя её счастливые глаза и улыбку до самых ушей. Но счастье, увы, было коротким. Заданные уроки учить было негде. Софья Константиновна наотрез отказалась подпускать Майю к роялю.
— У меня от её треньканья буквально мигрень образуется.
— Роялю полезно, Сонечка. Он застоялся, — уговаривал её муж Пётр Андреевич.
— Что он, конь, чтобы застояться?
В музыкальной школе в пустом классе стояло пианино, облезлое и обшарпанное. Для общего пользования. К нему вилась очередь. Майя робко пережидала, но в самый последний момент кто-нибудь побойчее проскальзывал перед ней. Она стояла до вечера, и поиграть никакой надежды у неё не оставалось. Она стояла с новой папкой в руке и с ужасом сознавала, что поздно, что надо идти домой делать уроки, а она так и не позанималась. И что играть ей не на чем.
Майя нашла выход: завернула на обеденном столе клеенку, по памяти нарисовала клавиатуру и начала играть на ней. Как на пианино. Но звуков не услышала, ей стало тяжело и неинтересно. И однажды она не пошла в музыкальную школу.
Через две недели к ней пришла та красивая весёлая тетя. Теперь бант у неё был красный, а блузка — белая. Тётя говорила с мамой.
— Почему ты перестала ходить в школу? — спросила мама.
— Ты способная, — грустно сказала тётя. — А способным надо учиться.
— Не хочу.
— Стало лень?
Майе горько, но она твердит своё. Её не спросили, а она не захотела объяснить, что к роялю её не подпускают, а на обеденном столе играть неинтересно. Разве что глухим.
— Вечные капризы, — рассердилась мама.
Весёлая тётя стала грустной.
До самого вечера Майя глядела из окна кухни на двор.
— Есть же некоторые, которые как собаки на сене, — сказала Эмилия Христофоровна, увидев Софью Константиновну. И погладила Майю по голове.
В комнате Эмилии Христофоровны было тихо, чисто и уютно. Негромко звучал репродуктор. Обстановка красивая. У окна — мягкий диван в светлом чехле с вышивкой. Кровать на колёсиках с блестящими изогнутыми шарами. У двери стоял чёрный платяной шкаф. По другую сторону — жёлтый буфет со множеством разноцветных стёклышек на дверцах. Посредине комнаты круглый стол, на нём старинная фарфоровая ваза на белой крахмальной скатерти.
Но самым роскошным предметом был комод. В него можно было глядеться, как в зеркало. Над комодом в овальной раме висел портрет молотого мужчины с умными глазами. Это был её муж Янис, латышский революционер. Память о нём в семье свято чтилась. Всякий раз, глядя на портрет, Майя удивлялась: Янис молодой, красивый, а Эмилия Христофоровна немолодая и некрасивая. Но она уважала справедливую добрую латышку и, встречаясь с ней, всякий раз здоровалась. По нескольку раз в день. Чем Майя могла ещё выразить своё уважение?
Эмилия Христофоровна жила вдвоём с сыном Арвидом. Они в квартире занимали самую маленькую комнату, бывшую буржуйскую детскую. Комната была солнечной и выходила окнами на двор-колодец. Остальные комнаты, кроме кухни, выходили на север. Эмилии Христофоровне откровенно завидовали.
С войной всё переменилось.
— Вы буквально теперь проигрываете.
Софья Константиновна скорбно поджала губы. И предложила один из многочисленных пуфиков. Эмилия Христофоровна твёрдо отказалась, подумав, поблагодарила и ещё раз очень твёрдо отказалась.
— Оставьте для себя. Я не болонка.
— Возьмите, возьмите же. Обстрелы с вашей стороны, а на нём удобно и мягко сидеть в коридоре.
Сторона Эмилии Христофоровны при артиллерийском обстреле района была опасной.
— Мы можем погибнуть от фугаски, а она, бедная, от простого обстрела… Наши кельи, тёмные и холодные, стали надёжны. Это радует. И проспект перестал быть шумным.
Проспект давно не был шумным. Притихла и большая коммунальная квартира. Из неё на фронт ушло трое взрослых мужчин и три юноши. Среди них Майины папа и старший брат Валентин.
Редко хлопала входная дверь. На кухне в ряд выстроились безработные примусы и керосинки: варить было почти нечего. Потом их забрали в комнаты. Керосин стали отмерять чуть ли не каплями. Его берегли для освещения. По карточкам керосин не выдавали с начала войны.
…Майя медленно поднимается по лестнице. Она осторожно ступает, загребая ботинками, словно древняя старушка. Ступени залиты водой, она круглыми озерцами тускло поблёскивает замёрзшей коркой.
Она думает. Неужели были времена, когда конфеты спокойно лежали в магазинах и у лотошниц. Не надо выстаивать очереди, чтобы получить сто граммов изюма или твёрдых, как камень, подушечек. На углу проспекта Газа перед войной повадилась сидеть с лотком роскошная лотошница с розовым газовым шарфом вокруг шеи. Она так красиво выкладывала на лотке конфеты, что не хватало сил пройти мимо неё. Зловредная лотошница поджидала сладкоежек, чтобы выманить у них школьные деньги.
Никто не мог устоять перед ней.
Майя начала ходить в школу другой дорогой. Пробовала прятать монеты под носовой платок в потайной карман. Ничто не помогало. Ноги сами несли её к лотошнице. В застеклённом лотке выставлялись мучительные соблазны: жёлтые, словно облитые мёдом, ириски, загорелые стройные батончики, хрустящие полосатые раковые шейки. И вовсе сказочное лакомство — грильяж.
Когда она приходила в школу, ни конфет, ни денег не было. К концу уроков злились и дергались в животе кишки, и тогда она давала себе самое распоследнее слово — ходить через Таракановский сквер в школу. Но утром нетерпеливые ноги сами несли её к лотошнице.
А может, это происходило не с ней? И в другой, невсамделишной жизни? Майя долго поднимается по ступенькам. От досады на самое себя она неожиданно щёлкнула зубами. Здорово. Надо ещё раз попробовать. Но больше не получалось. Наверное, и волк не сразу выучился щёлкать. Везде тренировка нужна. А всё фашист. Папа сказал: ждите месяца через три, начистим фашисту зубы и вернёмся. А последнее письмо было горьким. В нём папа с ними прощался.
Мама часто достает его и читает с мокрыми глазами. Зачитанное, ветхое, оно завернуто в бумагу и спрятано в комод.
Идти по тёмной лестнице неприятно. Водопровод тоже не работает, жильцы дома носят воду в разных посудинах с другой улицы. Вода разливается, и лестница становится очень опасным катком. Жильцы скользят, падают и снова разливают воду.
Она обходит толстую многослойную смёрзшуюся лужу возле второй квартиры. Здесь все почти проливали воду — толкается пружинистая входная дверь.
Мимо подвала она всегда идёт с сожалением. Однажды весной она прибежала из школы пораньше. Мама отрезала ей кусок булки, намазала маслом, и Майя уселась на кухне возле открытого окна, перед собой она положила удивительную книгу про Робинзона Крузо. Приготовилась есть и читать, что было особенно вкусно и интересно, как вдруг со двора послышался Манин голос.
— Чего тебе? — высунулась в окно Майя.
— Выходи. Я тебе секрет расскажу.
— Говори.
— Разве секреты орут на весь двор!
Вкусная булка с маслом, интересная книга — всё это прочно удерживало её на кухонной табуретке. Книгу она выпросила у Гальки Гехт, а взамен дала списать диктант. Чуть не попалась. Хорошо, Мария Николаевна отвлеклась на распустившееся дерево за окном. Толстая Галька умудрялась отставать по трём предметам. Майя удивлялась. Галька пишет корявые крошечные буквы, а сопит так, словно копает траншею.
Манин секрет подождёт. Майя сначала доест булку и посмотрит в книжке картинки. Но Маня тоже упрямая. Она кричит и мешает сосредоточиться. Майя не выдерживает, останавливается с сожалением на самом интересном месте, где Робинзон Крузо увидел на земле необитаемого острова каннибальские следы. Она захлопнула книгу и помчалась через ступеньку по чёрной лестнице во двор. За свежим секретом. Она совсем недавно выучилась так здорово скакать по лестнице. И в руках её недоеденный кусок булки с маслом… Она почти каждый день вспоминает об этом с сожалением и досадой. Не успела доесть, как домчалась до первого этажа. Чтобы не выскакивать во двор с недоеденным куском, что во дворе считалось некрасивым, она размахнулась и зашвырнула огрызок в открытый подвал. В чёрный, пахнувший сыростью и кошками подвал. Она это помнит. И с каждым днём всё больше раскаивается.
Тогда она каждый день набивала живот вкусной едой. Теперь, когда еды не стало, и она постоянно голодна, ей трудно поверить, что когда-то она могла швыряться булкой с маслом. Теперь, едва проснувшись, она глядит на маму. По маминому лицу определяет: есть еда? Если от её напряжённого взгляда мама отворачивается, начинает возиться с посудой или очень прилежно начинает вязать, Майя понимает — завтрака не будет.
Если же мама жмурит глаза, Майя вскакивает с холодной постели, как сумасшедшая, и усаживается за стол. Мама гонит её одеваться, сполоснуть ледяной водой лицо, но Майе уже весело. Ей уже всё нипочем. Теперь самые интересные книжки не отвлекают от еды. А в книжках, как назло, только едят и пьют лимонад.
Еда стала наваждением. Майе снится много вкусной еды, она протягивает руку, сразу же набегают неведомые существа на паучьих ногах. Она понимает — это фашисты, ищет, чем бы в них запустить, но ничего под руку не попадается. Она просыпается с колотящимся во всём теле сердцем и слушает темноту. Ровное дыхание спящей рядом мамы, лёгкий храп брата на диване не успокаивают. Такие сны видятся под утро. Тревоги были частыми, ночи сделались бессонными. От хождения взад-вперёд по крутой чёрной лестнице очень уставали, готовы были под утро свалиться и спать где угодно, хоть на ступеньках, лишь бы спать.
Лежит кусок с маслом в каком-нибудь укромном уголке подвала, полёживает себе, а сам высох, сморщился, но пропитался насквозь сливочным маслом.
Мама говорит, его давно крысы съели, нечего, мол, думать о бесполезном. Вон у Софьи Константиновны валялись в сарае старинные ботинки с высокой шнуровкой. Когда ломали сараи, она увидела вместо ботинок одну металлическую шнуровку.
— А мой кусок лежит, — упрямилась Майя.
Она спросила брата:
— Что теперь в подвале?
Тот насмешливо ответил:
— Танцевальный крысиный зал.
— Ничего нет?
Брат рассердился на её непонятливость.
— Крысы, кошки, несъедобные железки. Впрочем, кошек, переловили крысы.
— Ты что! Это кошки ловят крыс.
— Теперь наоборот. Переловят кошек, станут кирпичи жрать.
— А банку с леденцами монпансье? Что, у крыс зубы стальные?
Вопрос остался без ответа.
Маня наотрез отказалась искать в подвале банку.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Сомнения. — Странный дворник. — Инженер Арвид
Жгучий вопрос не даёт покоя Майе: а как бы с найденной карточкой поступил Тимур? И если бы не голодал?
Хлеб по карточке надо выкупать. Она не может оставить хлеб не выкупленным. При этой мысли, внезапно озарившей сумрак её тревог и волнений, она встрепенулась. Хлеб сам свалился на неё. Она его ещё раз выкупит, а потом обязательно начнёт поиски владельца, этого растеряхи. Сначала она сходит в сорок восьмую квартиру, а потом — в восемнадцатую.
А в её таинственных кишках началось несусветное!
— Нельзя думать о еде, — строго сказала себе Майя. — От этого еда сама по себе не появится, а известись можно. Это сказал недавно на кухне муж Софьи Константиновны, художник Петр Андреевич.
Майя скинула пальто и уселась на диван. От разорённых окон несло таким диким холодом, что, уже через минуту продрогнув, она снова надела пальто. Ни лежать, ни сидеть стало невмоготу. А тут ещё найденная карточка не давала покоя, требовала немедленных действий. Но у Майи язык не поворачивался рассказать обо всём маме или Фридьке. Ему она чуть не проговорилась: язык сам хотел ляпнуть, она его еле укротила…
Может быть, сходить к управдому, узнать о судьбе жильцов из сорок восьмой и восемнадцатой квартир? Может быть, они давно эвакуировались? Или все до одного ушли на фронт? И дворник всё знает о жильцах дома. Но его Майя опасается.
Рассказать о карточке Мане Будкиной? Маня тоже бывает иногда тимуровкой Женей. Вдвоём по квартирам ходить не так страшно и даже почти вовсе не страшно. А перед этим они выкупят хлеб и съедят его. Чего ему зря пропадать. Мыслимо ли, чтобы хлебный паёк пропал. Такое и в страшном сне не приснится.
Она вскакивает как сумасшедшая. Не найдя маминого платка, натягивает свой красный берет до глаз, на все пуговицы застёгивает бобриковое пальто и поднимает свой роскошный заячий воротник, не забыв ласково погладить его по ворсу.
Через десять минут она уже у подруги. Манино лицо от Майиной новости всё вытягивается и вытягивается, пока из круглого не делается продолговатым. Круглые Манины глаза тоже красиво удлинились, а рот, наоборот, стал некрасивым и глупо открылся.
— Тебе хлеб дают по ней? Какая ты счастливая. Майка, — твердит девочка.
Трудно Мане. Она голоднее подруги. И не может удержаться от зависти, обшаривает подругу вытаращенными глазами. Потом едко спрашивает:
— У тебя, конечно, нет кусочка… ну, маленького?
— Нет. Мы с тобой вместе сходим в булочную. Собирайся. Почему ты не идёшь и не идёшь? Я тебя жду, жду, а ты не идёшь?
Из единственной комнаты Будкиных пополам с кашлем донеслась странная песня. Даже не песня, а какое-то завывание:
Кхе, кхе. Почечали мы кафе, рестораны.
А и во всех аргентинских портках, портка, порта-ах…
Послышалась ругань на непонятном языке, потом загнусавили дальше.
— Он у тебя иностранный язык знает? — удивилась Майя.
— Он только ругаться знает. Валяется пьяный, поёт, что придёт в голову. Пришёл ночью после комендантского часа. Кого забирают, а его нет… Хлеба на наши карточки не принёс, сам съел. Бабушка с Зоей больные, а он орёт всё утро. С трёх карточек можно орать и не так…
— Он вам карточки не отдаёт?
— Не отдаёт. И почему его не забрали в комендантский час? Нашли бы карточки, нам бы отдали. Хлеб весь сам съел.
Мелко наколотые полешки дров сложены в невысокую поленницу. Поленница на длинной, в полкухни, холодной плите. Темно в кухне. Стёкла целые, но затянуты толстой изморозью. Застоявшийся вонючий воздух мешает Майе сосредоточиться. Она морщит нос и глядит со страхом на туалет — он тут же, в кухне. Этот высокий зелёный грубо сколоченный ящик, немного не доходящий до потолка, производил неприятное впечатление. Маня перехватила её взгляд.
— Это несёт из уборной. Наверное, со всех этажей к нам свалилось. Раньше бабушке нравился первый этаж, а теперь она его ненавидит. А ты дашь хлеба?
Серые Манины щёки оживились, синяки рассосал бледный румянец. Майя кивнула, прислушалась. В комнате, кашляя, завывал Будкин:
Увидавши её, кхе, кхе, кхе, на борту,
Капитан направляется к рубке,
И проходит он, кхе, кхе, кхе, с трубкой во рту
Мимо девушки в серенькой юбке…
— Он всегда… такой?
— Почти. Но он не был таким, — торопливо и горько шепчет Маня. — Когда в загранку ходил. Ещё до моего рождения. В одном заграничном порту выбили в драке глаз и списали с корабля. Ну он и запил. Раньше он не злой был, не дрался дома.
— Почему другие не пьяницы? У Петра Андреевича язва желудка, а он не пьёт. Мой папа в германскую войну контуженный, он и сейчас плохо слышит, а на фронт пошёл добровольцем. Слышала про ополчение Ленинского района? Разве все они не могли спиться?
Манины глаза налились слезами. Майя опомнилась, завнушала ей расстроенно:
— Ты не виновата. Ты же не могла выбрать себе отца… ну, который бы не пил. Правда?
Маня кивнула, вытерла глаза висевшей на веревке тряпкой и покачала головой.
А через несколько минут они дружно барабанили в дверь управдомовой квартиры. Колотили дружно четырьмя руками и двумя ногами, но управдомова дверь так и не открылась.
— Оглох. А был такой бдительный, такой бдительный… Своих за шпионов считал.
— Может, его на фронт забрали?
— Дурак он, думаешь? Мама говорит, что он прикрылся какой-то болезнью.
— Она что — простыня?
— Она может быть с две простыни и одно одеяло, если он моложе моего папы, а дома сидит. Нет, где-то шлындает…
В дворницкую они направились с сомнением в успехе задуманной разведки. Дворницкая дверь обита чёрным войлоком, удары в ней вязли, как в вате, и не было задорного интереса слышать перестук.
— Все оглохли. Что нам делать?
Майя глядела на Маню. Та отвела взгляд.
— Ты чего?
— Просто так.
— Нет, говори. Ты хочешь сказать, что вовсе не надо никого искать. Да? Ты думаешь, мне самой очень хочется искать? Давай сходим к тёте Броне. Она всё на свете про всех знает. Как я о ней позабыла?! Ты думаешь, что мне очень хочется отдать? Но…
Она хотела сказать, какой она сама будет после этого. Как та тётка, укравшая сумочку?
Мимо высоких сугробов они направились по узкой тропке на задний двор. Впереди шла Майя в ботинках с блестящими галошами, за ней — Маня в разношенных бабушкиных валенках, то и дело застревавших в снегу на узкой тропинке…
Но и тёти Бронина дверь упорно не открывалась. Они, было, собрались уходить, когда за соседней дверью глухо и недовольно спросили:
— Кого чёрт тут носит?
— Чёрт? Никого не носит. Мы сами пришли, — растерялись девочки.
Они переглянулись и хотели уже уйти, но тот же голос спросил:
— Кто это мы?
— Мы к тёте Броне. Откройте, дяденька.
— Я вам не дяденька.
— Ну, не дяденька. Мы хотели спросить у тёти Брони. Мы можем ей чего-нибудь принести. Мы тимуровки…
— Эка, хватились, тимуровки! Прибрал господь её на прошлой неделе. Хватились!
— Куда прибрал? — не поняла Майя.
— Ну, вылитая чукча — будто не в городе живёт. Куда сейчас прибирают? Раньше додуматься надо было за водой сходить. Или протопить. Ходют тут всякие… тимуровки, выглядывают, что плохо лежит. И так злодей Софроныч уволок Бронины карточки. Как просила её перед смертью отдать мне, ведь всё равно помирает… Нет, упрямая, выжить надеялась. А этот дворник, песье отродье, сказал, что их сдавать надо. Брешет, выжига. Знаю, как они сдают с Черпаковым — себе в карман. Жиреют на людском горе, нехристи. Я так ослабла, а они…
Продолжая говорить, женщина ушла в глубь квартиры.
— Какая злая. А говорит, ослабела. Видишь, как одной неприятно ходить по квартирам. Софья Константиновна рассказывает такие ужасы, что мама не хочет меня никуда пускать. И говорит, чтобы я ходила подальше от парадных и подворотен. Говорит, что…
Майя замолчала.
— Что?
— Говорит, что могут запросто уволочь!
— Куда? — с тихим ужасом простонала Маня.
— Не знаю, — огрызнулась Майя. — Что ты ко мне пристала? Она говорит, что на студень. Савина сказала — на мыло. Как могла хорошая тётенька умереть, а эта злая…
— Да, — согласилась Маня. — Разве она сама у неё не могла протопить?
Несмотря на неудачи и грустное известие, они возвращались с заднего двора с чувством исполненного долга. Появилась робкая надежда. Они подумали, кажется, об одном и том же.
— А что, вполне может статься, — неуверенно проговорила Маня, неловко загребая валенками. — Правда?
— Вполне, — с охотой согласилась Майя.
Робкая надежда исчезла. Потом накатила волной и мгновенно определилась в чёткую ясную мысль: хозяина не отыскать, значит, отдавать карточку некому.
— Ты это что распрыгалась в своих санях? Потеряешь.
— Это валенки. А ты что веселишься?
— Ничего не веселюсь. Я сегодня хлеб отдам вам, себе оставлю для котёнка. А завтра…
Тут Майя поперхнулась. Она увидела дворника.
Он шёл от ворот им навстречу. Худой, востроглазый, с тусклой нечищеной бляхой на грязном дворницком фартуке. В руке дворник держал широкую деревянную лопату для снега.
— Когда он нужен… А когда уже не нужен!
Они в растерянности остановились. Дворник неумолимо приближался. С узкой тропинки не улизнёшь. Очутишься в сугробе, из которого и до вечера не выберешься. Они вытянулись на самом краю, остолбенело глядя на дворника.
— Софроныч, — неожиданно для себя сказала Майя, когда дворник поравнялся с ними.
— Чего надо? — неласково буркнул он. — Умер кто? В какой квартире?
— Нет, что вы! — испугалась Майя. — Нет, конечно, умерла добрая тётенька.
— Умер — не умер. Надо чего? — колючие глаза дворника не мигая уставились на Майю.
— Скажите, кто в сорок восьмой квартире проживает. И ещё в восемнадцатой. Списки убрали, а раньше мы бы не спрашивали…
— Раньше бы не спрашивали, — эхом отозвалась Маня.
— Они за стеклом висели под аркой, никому не мешали, — вежливо продолжала, до смерти напуганная злым видом дворника, Майя.
— Они за стеклом висели, — снова отозвалась Маня.
— Вам пошто знать? Может, вы есть шпионы? Может, вы есть воры? Хотите обворовать чужую квартиру?
Дворник прищурил глаза, и они у него стали острыми и узкими шипами.
— Мы не шпионы, — стала уверять Маня, прячась за Майю. — Мы пионеры, мы учились в четвёртом классе… Мы…
Маня замолчала под взглядом дворника.
— В военное время нельзя спрашивать про военные тайны.
— Может быть, управдом знает?
— Не знает.
— А участковый Сергей Иваныч?
— Ушёл на фронт.
— Милиция вся ушла? — не поверила Майя.
— Кому надо, тот ушёл. Опять расспросы про военные тайны? Вот отведу, куда следоват…
— Мы не шпионы. Я — Женя. А это — Оля. Нет, не Оля…
— Запуталась, своих имён не знают! Придётся отвести вас в тюрьму. — Дворник сдвинул брови, они сделались треугольниками. — Вон идёт военный. Сдам вас, и дело с концом.
— С каким концом? — эхом отозвалась побледневшая Маня, выглядывая из-за Майиной спины.
Майя оглянулась. Сквозь решётку скверика виден был идущий военный.
— Мы не шпионы, — глядя на приближающегося военного, забормотала Маня. — Мы ищем, кто потерял целую хлебную карточку, мы…
— Стоп, это уже разговор! Какую, говоришь, карточку нашли? Покажь! Я власть!
Дворник цепко вцепился в Майю. Глаза широко открылись, брови уползли под шапку.
— Покажь. Я должен знать. Может, она фальшивая. Может, уворовали? Кому говорю!
Он тряхнул Майю за шиворот пальто.
— Не фальшивая, — стала уверять Маня. — По ней хлеб дали. Разве по…
— Молчи, дура. Ничего я не находила!
Майя спиной изо всей силы толкнула подругу. Та мешком осела в рыхлый сугроб.
— Не нашла? Давай, скважина, а то башку вместе с шеей откручу, — шипел дворник. — Добром лучше отдай!
Холодные руки зашарили по Майиному телу, вывернули наружу карманы, потом цепкая тощая рука стала шарить у неё за пазухой.
А там, в потайном кармане, лежала свернутой найденная карточка. Майя остервенело рванулась.
— Стой, скважина, стой, паршивка!
В распахнутом пальто она мчалась на улицу. Пока не налетела на человека. Это был тот самый военный, и он намеревался свернуть в ту же парадную.
— За тобой вся фашистская свора гонится? — вежливо поинтересовался военный, потирая руку, ушибленную Майиной головой.
Испуганно отпрянув, она поскользнулась и упала бы, если бы этот же военный не подхватил её. Сконфуженная, растрёпанная, она попыталась застегнуть пальто, а сама не мигая уставилась в лицо военному. Она узнала его. Это был улыбающийся Арвид, сын Эмилии Христофоровны.
— Это вы? — смутилась Майя.
— А я подумал — метеорит. Откуда так резво? Хлеба прибавили? Война кончилась?
— Что вы! Хлеба не прибавили.
Лицо инженера Арвида стало озабоченным.
— С него не разбегаешься, а ты меня чуть не опрокинула. Правда, я смертельно устал.
— Я не хотела. Я нечаянно. Я не хотела уронить, — покаянно бормотала Майя. Ей было неловко за свой встрёпанный вид.
— Что стоишь? Пойдём. Нам, кажется, в одну квартиру? — пошутил инженер Арвид, глядя на Майю усталыми грустными тазами.
И очень серьёзно, когда они поднимались по лестнице, останавливаясь чуть ли не на каждой ступеньке отдохнуть, попросил:
— Прошу, заходи почаще к моей маме. Я — на Кировском заводе, навещать часто не могу. А она слабеет… Фронту очень нужна наша работа, понимаешь? Ты славная, поймёшь, как трудно старой женщине одной остаться. Может быть, надо воды принести или ещё что. Договорились? Поможешь мне?
Майя кивнула головой. Вот и дождалась настоящего тимуровского поручения. И кто его дал — сам военный инженер Арвид. Завод работает для фронта. Значит, и поручение фронтовое.
Инженер Арвид порылся в кармане шинели, достал монетку и открыл дверь.
— Не забудь, я на тебя надеюсь, — уходя в глубь коридора, напомнил он Майе.
Какой умный и симпатичный инженер Арвид! Очень нужный Кировскому заводу человек.
От бомбёжек рушились вековые стены, не выдерживал металл, а Кировский завод работал. Смелые ленинградские рабочие не выходили неделями из своих цехов. Чтобы не падать от слабости, привязывали себя верёвками к станкам. Всё больше фронту требовалось танков. Всё больше требовалось гранат и снарядов. Фронт требовал, и рабочие отдавали всё, что могли. Даже свои жизни. Они были уверены, что бойцы отстоят город. За последние две недели в нём от голода умерло несколько тысяч ленинградцев.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Эмилия Христофоровна. — Серый котёнок. — Поход в столовую
Как тихо и надёжно дома! Изредка покашливают расстроенным басом старинные часы. Идут они теперь, как им задумается, заводятся редко, да и старый фигурный циферблат еле просматривается в полутьме. И мамы нет дома, наверное, выдают шерсть на фабрике. С октября мама устроилась на фабрику, где вяжут военным перчатки. Получаются у неё смешные полуварежки-полуперчатки. С указательным пальцем для стрельбы из винтовки. Серые или бежевые перчатки, одинаково грубые, жёсткие и толстые. А норма на фабрике строгая — пара перчаток в день.
Дни сейчас серые, вечера ранние, и стёкол в комнате нет. Вот и приходится Наталье Васильевне вязать свою строгую норму с чадящей коптилкой. Глаза у неё постоянно красные, слезятся от напряжения и недосыпания.
Но зато она получает рабочую карточку. Одну на всю семью. И это очень хорошо для них. И очень хорошо для красноармейцев в промозглых землянках, потому что это для них она вяжет перчатки с указательным пальцем. Или, скорее, варежки с указательным пальцем.
Трюмо в простенке мрачно отразило очертания Майиной фигуры со съехавшим на одно ухо беретом, в расстёгнутом пальто. Без пуговиц. Нет, одна, кажется, болтается на одной нитке.
На столе записка. Майя еле разобрала написанное мамой:
«Если задержусь — вынеси помои и принеси воды.
Приду — покормлю. Закройся на ключ.
Мама».
Майя сняла пальто, потрогала чудом оставшуюся пуговицу. Хотела её пришить, но, подумав, решила, что темно, да и пуговиц таких нет. Где-то валяются они в глубоком снегу. Всё равно придётся теперь пришить другие, незнакомые пуговицы, а если так, то зачем сейчас зря стараться?…
Она не могла понять, с чего вдруг разозлился дворник, стал сам не свой, когда услыхал про найденную карточку. Ангельским характером он никогда не отличался — это знает весь их дом. Но не до того же, чтобы озвереть. Конечно, люди сейчас нервные, ожесточённые от свалившихся на них неурядиц, но ведь жить-то надо в любой обстановке, даже самой страшной и безвыходной, и оставаться людьми. Даже если не получается, даже если страшно.
Очень сильно хотелось есть. Их с Маней планы провалились, они так и не дошли до булочной. И хлеб остался не выкупленный.
Она открыла буфет, мрачный и скрипучий, проверила все его пустые полки, заглянула во все стоящие чашки и кастрюли. Съестным в буфете и не пахло, исключая горсть какой-то затхлой крупы на дне железной банки. За старыми газетами на комоде она нашла засохшую корку. Не корку, а скорее кору, такая она была несимпатичная. Майя пожевала сырую крупу, попробовала откусить от корки и, грустная, уселась на диван. Все мысли сосредоточились только на еде. И очень хотелось знать, чем же её собирается накормить мама.
Мысли бестолково роились в голове. А булочная на Курляндской улице ещё открыта, ещё можно было бы сходить за хлебом, но как это сделать? Как быть с дворником? Он, наверное, караулит её у парадной. Он хитрый, сразу сообразил, где она живёт, если выбежала на улицу. А может быть, вытряс её адрес из Мани. И что зовут её не Женей, а Майей. Манька такая — от застенчивости она вдруг начинает болтать без умолку. Ну, кто тянул её за язык, ведь трясли не её.
Неожиданно она встрепенулась: она же про котёнка забыла! На цыпочках она направилась в уголок за этажерку, заглянула в коробку. Котёнок серым комком неподвижно лежал в ней. Майя очень испугалась: вдруг он умер, пока её не было?… Поднесла лёгкий комок к уху и услыхала, что он еле-еле посапывает, даже не посапывает, а посвистывает.
На клочке ваты рядом с ним лежала крохотная корочка. Он к ней не притронулся, корка засохла, а котёнок был голодный.
Девочка слегка потормошила его. Котёнок пискнул. Она обрадовалась, нежно подышала на него. Он зашевелился, стал принюхиваться. Она видела узкую полоску туманного глаза, оглядела его со всех сторон, поднеся к замёрзшему оконцу. Он ей понравился. Шерсть подсохла, выпрямилась, он стал прехорошеньким. И вовсе не казался противным крысёнком.
Она сидела на корточках перед коробкой, баюкала, шептала ему нежные прозвища. Он запищал, наверное, хотел есть. А у них на двоих две засохлые корки и чайная ложка затхлой крупы. Правда, если размочить хорошенько корки, они с ними расправятся.
Майя живо принялась за дело. Она разломила корки на крохотные кусочки. Взяв одну, принялась добросовестно её жевать, боясь ненароком проглотить. Тёплой черноватой кашей она кормила его, заталкивая жижу ему прямо в рот. Он отворачивался, давился, плакал. Со слезами плакал. Вот глупый котёнок, плачет, а ей скулы свело от желания проглотить эту жижу.
Она немного развела её теплой водой и начала поить котёнка с чайной ложки. Он встрепенулся, жадно засосал, проливая полезную хлебную воду. Потом он неожиданно чихнул и уснул. Майя положила его в коробку с ватой, доела кошачье месиво, подумав, допила за котёнком сытную кошачью воду и в животе у неё немного успокоилось.
Пять раз прокашляли часы. Она вспомнила, что не зашла к Эмилии Христофоровне, как обещала инженеру Арвиду. В наспех наброшенном на плечи пальто гулким полутёмным коридором она направилась в комнату Эмилии Христофоровны. На её тихий робкий стук никто не отозвался. Она потянула за дверную ручку и вошла в комнату. Здесь было светлее, чем у них. Стёкла целые, но в самом углу с потолка отвалился порядочный кусок штукатурки, обнажились жёлтые деревянные рейки. Даже красиво. Рейки лежали ровными крестами, и полосы бумажные на окнах тоже приклеены ровными крестами.
Майя посмотрела на кровать и увидела на ней неподвижно лежащую женщину. Она даже не сразу узнала Эмилию Христофоровну.
Немного покашляла, чтобы привлечь внимание, а сама робела от взгляда, в упор смотревшего на неё латышского революционера Яниса. Он всегда так строго глядел на неё.
Эмилия Христофоровна повернула голову к Майе.
— Это я, — конфузливо сказала Майя.
— Очень рада, голубушка. — Эмилия Христофоровна немного помолчала, затем продолжала: — Арвид сказал приходить, или сама?
— Вы заболели, вы лежите? — вежливо поинтересовалась Майя, старательно обойдя прямой вопрос пожилой женщины.
Нечаянно взглянув на обеденный стол, встрепенулась. На двух тарелочках, аккуратно прикрытых салфетками, что-то лежало. Майя старательно отвела глаза от тарелок. Эмилия Христофоровна между тем тяжело поднималась. Стонали, ныли, гремели пружины старого матраца. Эмилия Христофоровна встала, заправила сбившиеся седые волосы в узорную шерстяную шапку и долго закутывалась в толстый стёганый халат с поблекшими китайцами в широкополых шляпах. Его она надела поверх фланелевого лопухастого халата, в котором лежала под двумя ватными одеялами.
Женщина взглянула на Майю и приветливо улыбнулась. На взгляд Майи, она была некрасивой, но её приветливость, а главное, справедливость, располагали к ней людей, живших с ней рядом.
«При ней и ругаться неудобно», — задумчиво говорили мужчины в их коммунальной квартире.
Здесь не было некрасивых шумных ссор, и немалую роль в этой доброжелательной атмосфере играла Эмилия Христофоровна.
Она перехватила взгляд Майи, снова брошенный на тарелки.
— Слышишь меня, голубушка? У меня к тебе необыкновенно важная просьба. Ты меня слышишь?
Майя кивнула.
— Оказия с ногами моими. Стали бессильные и ватные мои ноженьки. Арвид пришёл навестить меня, а я лежу, как колода.
Она сказала — «колёда».
— Вам воды нужно принести?
— Воду Арвид принёс. В столовую надо сходить, а я не смогу. И он не мог, торопился обратно на свой Путиловский завод. Он принёс мне талоны на кашу, от себя отрывает. Разве такие драгоценные талоны могут пропасть невыкупленными? Я говорила ему, чтоб он не носил. Сколько раз моему сыночку говорила, чтоб от себя не отрывал… Ты знаешь столовую на углу Огородникова и Степана Разина? Там, я слышала, без прикрепления отоваривают талоны.
— На талоны без карточки дают? — Майя критически оглядела два помятых крупяных талона. — Вы думаете, дадут?
— Надеюсь. Я не брала, а он и слушать не захотел. А мужчине еды больше требуется. Ты сходишь, Майечка? У тебя ножки резвые.
Поохивая, постанывая, держась тощей рукой за поясницу, Эмилия Христофоровна достала из шкафа судок на круглой дужке, спрятала его в чёрную клеёнчатую сумку. Туда же в кармашек положила крупяные талоны.
В сумерках Майе никуда идти не хотелось. Кроме того, она опасалась Софроныча. Она стояла в замешательстве. Соседка по-своему расценила её молчание и явное нежелание идти в столовую.
— Я вознагражу. Арвид принёс мне какие-то дрожжи. Называются они странно: белковые. На безрыбье и рак — рыба. Так надо понимать эти белковые дрожжи! — Она взглянула на тарелки под жёлтыми салфетками.
— Дрожжи? Я никогда про них не слышала, — удивилась Майя.
— Я тоже. Что за диковинка? Арвид говорит, что от дистрофии. Чего только не придумают взамен нормальной пищи. Ещё шрот соевый появился. Тоже блокадный… деликатес… Мы славно с тобой попируем, когда вернёшься.
Над Майей нависло ощущение неотвратимости: так люди не хотят, а идут, не хотят, а делают… И она не может отказать больной женщине, но страх уже забирается в неё. Сразу стало знобко и тоскливо.
— Я схожу, — услыхала она свой голос.
В голосе Эмилии Христофоровны мягкость, но и убеждённая строгость. Разве могут талоны, оставленные недоедающим сыном, пропасть зря?… Она пристально взглянула, устало произнесла:
— Не ходи, если не хочешь или боишься. Ты маленькая, тебя грешно осуждать. Только пшеничка — уж очень калорийная каша. Жаль будет, если она пропадёт. Вот горе-то! И зачем он оставляет, сколько ни прошу, а он и слушать не хочет…
Майя поняла: если она сейчас же не пойдёт за калорийной пшеничкой в столовую, то никакая она не тимуровка. Слюнтяйка и трусиха. И ещё самозванка. Это её просит жена погибшего латышского революционера, а она боится. Если пойти по чёрной лестнице, то, может, дворник караулит её у парадной. Надо взглянуть, и будет ясно. Не может же всё видящий и всё слышащий дворник разорваться на две части.
— Схожу, — сказала она сама себе.
И сама себе понравилась.
— Побыстрей, успешно получишь до темноты кашу. Резвым ножкам недалеко. Я буду ждать, — ласково проговорила Эмилия Христофоровна, провожая Майю.
На чёрной лестнице темно, словно ночью в лесу: окна намертво забиты фанерой. На третьем этаже фанера оторвалась или кто-то стащил её на дрова, и зимний ветер свободно гуляет по всем этажам.
Она спускалась, крепко держась за перила, нащупывая ногами каждую ступеньку. Заодно Майя решила выкупить хлеб в дежурной булочной на Курляндской: там идти совсем недалеко, если свернуть на улицу Газа. А дворника она обхитрит, она стала хитрая, как Баба-Яга.
В столовой было пусто, окно раздаточной закрыто. На её упорный, негромкий стук окно слегка приоткрылось, но тут же снова захлопнулось. Раздатчица даже не взглянула на протянутые ей талоны и пустой судок. Слышно было, как через минуту где-то в глубине сильно хлопнула дверь.
Майя упорно стояла. Она не могла уйти. Она должна получить эту пшеничку. Она стала постукивать согнутым пальцем по окошку, потом стала стучать всеми согнутыми пальцами. Окошко оставалось глухим и закрытым. Зато рядом с ним открылась желтая облупленная дверь, и в ней возникла носатая тётка в пуховом платке и грязно-белом халате.
— Где была раньше? Закрыто. Всё давно кончилось…
— Дверь открыта, я и подумала, что…
— Мало ли что открыто, — неприветливо глядя, изрекла тётка.
— Мне две порции пшенички для больной жены латышского революционера. Он в тюрьмах сидел, он революцию делал…
— Все мы чьи-нибудь жены. Что с того? А талоны твои без карточки. Тут и прикреплённым не хватает… Откуда они?
— Ей сын свои дал.
— Вот дурак! Скоро в городе ничего не будет. Что станем жрать? А если и немец пожалует — передохнем, как мухи!
— В столовую пожалует? — пролепетала устрашённая Майя.
Тётка зло усмехнулась.
— В город, недотёпа! Завтра приходи. Может, наскребу тебе за два талона одну порцию. Может, они ворованные, может, они фальшивые? А мне и своим прикреплённым не хватает…
— Разве на Кировском заводе выдают фальшивые карточки?
— Ладно, уходи. Мне талоны клеить надо. Моя доброта меня погубит, — просипела тётка сморкаясь.
— Завтра дадите?
— Сказано, жужелица. Топай домой.
В дежурной булочной на Курляндской она выкупила хлеб и решила принести его целым куском. Аккуратно завернула в носовой платок и сунула в боковой карман. Довесок она, не жуя, проглотила.
Оказывается, лиха беда начало. Пока она шла до дома, от куска хлеба остался огрызок. Она отщипывала, отщипывала, благо он лежал под рукой. Было противно, она обзывала сама себя самыми некрасивыми прозвищами, но… ела.
У своих ворот от неожиданности она чуть не подавилась. Колени её сами собой согнулись, и она замерла.
У ворот стояло трое, и дворник Софроныч среди них. Она узнала его сразу по фартуку и лохматой, из неведомого зверя шапке. Рядом с ним стоял мужчина в бурках и в полупальто. Он размахивал кулаком перед носом длинной и тощей женщины и что-то ей в лицо шипел. Дворник повернулся спиной к Майе, и это было для неё счастьем. Она живо спряталась за большой ящик с песком и присела на корточки, придвинувшись к самой ограде. Если они пойдут к ней, она от страха сразу умрёт.
Темнело. Дежурных у парадной нет, может быть, сам дворник решил дежурить. Он в доме распоряжался всеми дежурными, как своими рабами. Майя видала однажды, как он орал на всех, особенно на профессора Этингофа. Орал как на мальчишку, а тот поддакивал и сконфуженно улыбался.

«Что останется от меня, если они вцепятся в меня втроём. И клочка от меня не останется», — ужасалась Майя, сидя за ящиком.
Она осторожно выглянула. Теперь дворник махал кулаком перед носом тощей женщины, а мужчина в бурках, отвернувшись, видно, отдыхал. Майя втянула в плечи голову, чтобы казаться поменьше. Хорошего для себя она ничего не ожидала.
Через минутку она снова выглянула. И не поверила своим глазам: эти трое уходили в сторону Лермонтовского проспекта. В противоположную от неё сторону.
Окрылённой от счастья Майе добраться до пятого этажа было сущим пустяком. Ничего, что в темноте ушиблась. Ничего, что поскользнулась и чуть не скатилась по лестнице. Ведь она вышла целой и невредимой из страшной опасности.
Эмилия Христофоровна лежала в той же позе. На столе горела коптилка. Она еле освещала стол и часть кровати. И бросала странные блики на портрет её мужа. Эмилия Христофоровна глядела на него и о чём-то думала. Увидев Майю, всполошилась, поднялась и тяжело заходила по комнате.
— Не томи. Принесла? Отоварили талоны?
Майя рассказала. Эмилия Христофоровна слушала печально, лицо её сморщилось, слёзы покатились по впалым щекам.
— Везде простого человека обижают.
Майя успокаивала её.
— Завтра пойду. Она обещала за два крупяных талона одну порцию. Ей, говорит, самой не хватает. Такая противная тётка. И бородавка, как оса, у неё на подбородке. А на бородавке три ежиные иголки. Такая противная тётка. Не плачьте, Эмилия Христофоровна, я принесу. Она обещала мне…
— Одну порцию за два крупяных талона? А сынок от себя оторвал! И перед тобой я виновата, понадеялась на пшеничку, сама съела с тарелок всё, бессовестная я женщина. И не наелась! Господи, что делается!
Руки Эмилии Христофоровны тряслись, она суетилась.
— Забыла совсем сказать, — Майя не могла смотреть на виновато суетящуюся женщину. — Вот, она сунула мне хлеб. Правда, он весь некрасиво ощипанный. Но не беда, правда? А завтра… Такая противная носатая тётка с бородавкой. Вот хлеб, возьмите…
Удивляясь, будто слушая себя со стороны, будто над своим языком она уже не хозяйка, Майя вытащила замызганный кусочек хлеба. На две трети ощипанный. Ей сразу захотелось засунуть хлеб обратно. Она увидела изумление на заплаканном лице Эмилии Христофоровны, которая взяла хлеб, погладила его, ощупывая худыми длинными пальцами. И поглядела на Майю. Та съёжилась. Она проклинала свой язык, то и дело вылезающий без спросу. И готова была вовсе его проглотить. Тут взгляд её упал на портрет латышского революционера. Она увидела, что лицо его стало суровым, приветливое выражение лица сменилось укоризненным.
— Не верите мне? — закричала она. — Почему? Вот ваши талоны. Хлеб не вместо каши. Берите! Не верьте, раз вы такие!
Майя бросила талоны на стол и убежала прочь из комнаты.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Поход за хряпой. — Фашистские листовки. — Упавший хлеб
В смятении ворвалась она в свою комнату. Мама удивлённо на неё взглянула и снова занялась вязанием.
Вспышка энергии вдруг у Майи сменилась такой апатией и усталостью, что ноги еле держали её. Захотелось сразу лечь и никогда не вставать. Ещё была вина перед мамой за невыполненные поручения. Она робко бросила на маму взгляд, но мама на неё не глядела.
Вид мирно топящейся «буржуйки», местами раскалённой до бурого цвета, подействовал ещё более расслабляющее. Но и немного успокоил. А вина перед мамой ещё усилилась.
Трещали чурки, смоляными каплями плевалась «буржуйка». И это было так хорошо, что у Майи от волнения запершило в горле.
У открытой дверцы на опрокинутой табуретке, сгорбившись стариком, сидел Майин брат Толя. Он неотрывно глядел на догорающие чурки. Жаркие красные угли то и дело меняли свои затейливые очертания и оттенки.
Майя молча раздевалась. Теперь она старалась не встречаться с мамиными глазами. Она видела, что маме не до разговоров. Отложив вязанье, она торопливо стряпала: чурки горят стремительно, и сварить ужин, не подбрасывая драгоценных полешек, — это настоящее искусство. Но мама успевала бросить недовольный взгляд на потупившую глаза Майю.
Немного постояв в нерешительности, Майя взяла ещё не сожжённую низкую скамеечку для ног и уселась рядом с Толей. Она попеременно вытягивала и поворачивала руки перед жаром. Она пропитывалась животворным теплом «буржуйки». Когда ей стало жарко, она спрятала руки в колени и так сидела, блаженно раскачиваясь из стороны в сторону разогревшимся телом. Тепло расходилось по самым отдалённым клеточкам. Тревожные и покаянные мысли всё реже всплывали в разомлевшем мозгу.
Искоса она бросала короткие взгляды на брата. Он сидел, не обратив внимания на неё. И думал. Думал о чём-то твёрдо решённом, но невесёлом. Выражение это она знала. Уголки Толиного рта упрямо опустились, замерли. Круглое добродушное лицо брата как бы похудело, приняло незнакомое очертание. Скулы, почти незаметные раньше, вдруг разрослись до самых ушей. Серые глаза с неправдоподобными ресницами тонули в них.
Сколько себя помнит, всегда она завидовала длине Толиных ресниц. Жуткой завистью завидовала.
Как-то он готовил уроки. Ресницы лежали у него на щеках, закрывали чуть ли не пол-лица. Майя не вынесла. Она глядела на не принадлежащую ей красоту, трогала свои амёбьи реснички и горько выспрашивала:
— Скажи, зачем они тебе? Ты же не девчонка. Отдай их мне. Видишь, какие у меня огрызки. Я бы их красиво поднимала и ещё красивее опускала. А у тебя они зря пропадают. Ну, скажи…
У Толи не выходила задачка по геометрии. Он морщился, кусал губы, взглянул на Майю непонимающе:
— Отстань! Вот привязалась, невеста без места.
Бесчувствие к её горю возмутило Майю, и она не нашла ничего умнее, как бросить в брата огрызком яблока. Огрызок попал в его умно наморщенный лоб и свалился на тетрадку с нерешённой задачкой. Толя разъярился, погнался за Майей, убегавшей от него со всех своих коротеньких ног.
Они бегали вокруг длинного стола, и Майя так ловко увёртывалась, что брат долго не мог её догнать. Уже свалились на пол учебник геометрии с тетрадкой, тарелка с яблоками, угрожающе ёрзала клеёнка, намереваясь тоже съехать на пол, когда Толя ухватил её за косичку.
Косички у неё были толстые, но короткие. Но даже самым невзрачным девчонкам неприятно, когда их больно дёргают. А Толя ещё и щёлкнул по носу. И тоже сильно. Майин нос сразу стал толстым и красным, как перезрелый помидор.
Майя вспоминала те прекрасные яблоки и вздыхала.
Толя по-прежнему не обращал на неё никакого внимания.
Подошла мама, тронула за плечо Майю.
— Где ты целый день болталась?
Майя вспомнила мамину записку.
Наталья Васильевна потрясла её за плечо.
— Уснула? Отвечай, где пропадала целый день. Разве можно в твоём возрасте бегать целыми днями по тёмным улицам блокадного города? Записку читала? Или так и не появлялась до сего времени?
— Я появлялась. А сейчас я была у Эмилии Христофоровны. Ходила ей за пшеничкой, а она уже вся кончилась.
— Я запрещаю уходить без спросу. Поняла? Долго ли до беды. В кромешной темноте люди лбами сталкиваются. А если нелюдь…
— Что ты, военные ходят с фонариками! И ещё на пальто некоторые прикрепляют светящиеся бляшки. Как светляки. Вот бы мне такой самогорящий! А патруль с автоматами ходит…
— От патруля нелюдь в подворотнях укроется. Забыла про сквозные дворы и глухие парадные? И на улице опасно. Дежурная говорила, женщину убило три недели назад. Вышла она свою булочную закрывать, а тут… снаряд. Убило. Он на другой стороне улицы разорвался, а её достал осколок. Дома ребёнок остался. Кажется, из сорок восьмой квартиры.
Дремота соскочила с Майи.
— Из какой квартиры, мамочка?
— Тебе что?
— Из какой квартиры?
— Из сорок восьмой. А может быть, я не дослушала.
— Как убило?
— Как убивают. Сверху бомба свалится, снаряд невесть откуда прилетит. Сказано, не ходить понапрасну, поняла? — рассердилась Наталья Васильевна. — И ходи по стороне неопасной. Если воздушная тревога, а нас с Толей дома нет — беги в бомбоубежище. Поняла?
— Сейчас перестали ходить в бомбоубежище. Все говорят, лучше погибнуть от фугаски, чем от голода.
— Это ещё что за настроение?
Мама потрогала лоб Майи, заглянула в её всполошённые глаза. Заговорил Толя:
— У нас ночью на посту Мишка Виленский умер. Думали, у него простой голодный обморок, а он — умер. Ему исполнилось семнадцать. Борька Окунев ходил проситься на фронт. Всеобуч — это ерунда. Кому мы здесь нужны? Сидеть ждать голодной смерти. На фронте фашистов бьют, а не пустые дома охраняют. И склады, где и мыши делать нечего.
— Господи, теперь этот начал! Что вы хотите от меня? Чтобы я с ума сошла? — сказала Наталья Васильевна горько. — Тебе нет восемнадцати, перетерпим зиму, а весной прогонят фашистов от города. Ты помнишь, сынок, что папа говорил? Кто будет о нас заботиться, если и ты уйдёшь? Пожалей меня, сынок! Я на фронт уже двоих проводила…
— Не могу сидеть и ждать голодной смерти, мама. Ты понимаешь? Ты знаешь, что творится в городе. Собак, кошек переели, к людям подбираются. У одного нашего парня отец в подвал пошёл, крысу хотел поймать…
— Крысу? — перебила Майя.
Наталья Васильевна перекрестилась.
— А потом его с обгрызенными руками и лицом самого вытащили.
Толя умолк, задумался.
— Я не могу всех своих мужчин провожать на фронт, — снова начала Наталья Васильевна. — Вырастет у тебя сын, узнаешь, каково это. Я перестала понимать, сынок. И ещё эта ослушница где-то бегает по ночам.
— Ночью я сплю, — уточнила Майя.
— Знаю, сынок, мало у меня еды. Я всё делаю. Я всё продаю. Самое лучшее не жалею. Господи, какой негодяй придумал одну норму хлеба старушкам и подросткам. Разве это равные категории? Лишают страну будущего. Или начальству до нас никакого дела нет. Вон какие гладкие. Вы видите, я выменяла сегодня две луковицы, правда немного подмороженные, кусочек конины принесла. А на прошлой неделе — хлеба солдатского.
— Нашим солдатам такой не дают хлеб. Я у ребят спрашивал. Это ты отцовской шапкой облагодетельствовала какую-то сволочь. Или недобитка, прихвостня фашистского. Ты не запомнила человека?
— Я была так рада, что и сказать ничего не смогла. Да разве запоминаешь, кому что продаёшь? Конечно, этот негодяй не голодает. Морда сытая, наглая, хотя и скромно опущены глаза. Кончится война, и вернётся наш папа. А мне лишь бы вас сохранить…
— И часы дедушкины променяла? А дедушка их мне оставил.
— Толенька, из чего же я лепёшки пеку?
Майя глядела и думала о Мишке Виленском. Тощий очкарик, член учкома, он всегда куда-то спешил. Очки у него то и дело съезжали с тощего носа. Надо же, взял и умер! Молодой, не убили ни снарядом, ни бомбой. Страшно жить. А Толя маму переупрямит, уйдёт на фронт. А часы дедушкины жаль, папа так гордился ими. А брелок у часов из золотистого камня, весь он искрился, особенно на солнце. Променять за неполную тарелку муки! В сорок восьмую квартиру надо сходить. И ещё в восемнадцатую. Как отдавать карточку, если она к ней стала привыкать? Но тогда кто она будет? Как та толстуха, укравшая сумочку. Какие крысы на человека напали? Разве так бывает?
Вкусно запахло лепёшками. Булькало что-то в кастрюльке. Наверное, варятся хряповые щи. Хряпа давно выручает их. Мама варит её, но и сырой её жуют, хотя она горькая и жёсткая. Она нужна как единственный источник витаминов.
Майя помнила, как она упрямилась, ни за что не хотела ехать за хряпой. Её на пригородных полях ещё было много.
Она отлично помнит тот осенний день и громадное капустное поле на Средней Рогатке. В тот день с утра было неспокойно. Но горожане упрямо собирали в мешки хряпу, топором рубили мёрзлые кочерыжки. Где-то слышались автоматные очереди, грохот каких-то разрывов, но люди уже ко всему попривыкли и не уходили. Кроме того, началась блокада.
Майя с Натальей Васильевной сначала прислушивались и оглядывались по сторонам. Было страшновато. Особенно осенью. Мёрзлые кочерыжки торчат по всему полю диковинными пеньками вырубленной капустной рощицы. Майе трудно рубить топориком эти пеньки. Она отдирает от мёрзлой земли капустные листья, тёмные и продрогшие, помогая себе тупым широким ножом. Грубые толстые листья то и дело хрупают и ломаются, если к ним неловко подступиться.
Они дошли до противоположного конца поля, где было больше листьев, когда из стоявшего неподалеку приземистого, развороченного снарядом кирпичного зданьица повалил дым. Послышалась стрельба.
— Куда мы забрались? Здесь и людей-то нет, господи! — испугалась Наталья Васильевна. — Идём быстрей, а то убьют.
— Здесь такие толстые кочерыжки. И листьев много, — заупрямилась Майя.
— Чует моё сердце, что есть их будет некому, — дёрнула за руку Майю Наталья Васильевна. — Бежим, нельзя медлить!
Она взвалила распухший мешок себе за спину и быстро пошла, почти побежала в обратную сторону.
Майя застряла. Она не могла сковырнуть наполовину оторванную здоровую белую кочерыжку. Толстая, она отливала сахарной изморозью. Кочерыжка тоже была упрямой и не хотела рубиться.
— Дура толстая!…
Майя увидела, что мама уже далеко, плюнула на паршивую упрямицу, поддала её ногой. И кочерыжка неожиданно отвалилась. Майя злорадно сунула её в противогазную сумку и бросилась догонять маму. Она спотыкалась и скользила по хряповым листьям, как по льдинам. Всегда так: когда их некогда брать, они, как назло, попадаются.
Не успели они добежать до середины громадного поля, как начался артиллерийский обстрел.
С жутким воем пронёсся снаряд.
Наталья Васильевна толкнула Майю в спину. Девочка споткнулась, шлёпнулась лицом на острые кочки. Сверху мама бросила мешок с хряпой и свалилась на неё сама. Майя сильно ушибла лицо, но ей было не так больно, как страшно. Ей хотелось раствориться среди неподатливых кочек. Какая зимой страшная земля! Не пускает в себя, не хочет прятать.
— Если снаряд воет над головой — это мимо, — глухо донеслись мамины слова. — Наш снаряд свалится на нас неслышно.
Вот это обрадовала! Ничего себе — успокоила!… Но Майя приободрилась, попыталась поднять голову. Один снаряд упал недалеко от развороченного зданьица, откуда они только что прибежали.
— Не судьба умереть, — сказала Наталья Васильевна, глядя туда же.
— Фашистам жаль, что мы хряпу собираем? — спросила Майя.
— Под мешок спрячься и не высовывайся, — приказала мама.
Майя плотнее прижалась к промёрзлой земле. Как ни странно, но холода она не почувствовала, она вообще перестала понимать и чувствовать. Лежала себе, как осиновая чурка, и лежала.
Наступила тишина, и в небе загудело. Майя очнулась, подняла голову, вгляделась в небо.
Высоко над полем кружил самолёт.
Они вдвоём тревожно следили за ним, гадая, свой или фашистский. Что он делать станет, если это фашист? Бомбу сбросит им на голову?
Самолёт начал снижаться. От него отделилось белое облачко. За ним — второе. Подхваченные верховым ветром, эти два облачка неспешно снижались и рассеивались на множество мельчайших белых осколков. Нет, не осколков. Это над бывшим капустным полем рассеивались, летали белые бумажки.
Майя оцепенело глядела на них, не понимая, и ждала со страхом, что же будет дальше.
Рядом с ними тихо приземлился белый листок. Майя хотела вскочить, схватить бумажку.
— Не трогай. Это фашистская листовка! — испуганно закричала Наталья Васильевна.
Майя отдернула руку, словно это была не бумажка с четверть тетрадной страницы, а ядовитая гадюка.
Листовки кружились над полем и тихо приземлялись. Скоро они усыпали всё бывшее капустное поле.
Фашистский самолёт улетел.
— А зачем это они? Хотят, чтобы мы на фашистскую сторону перешли? Ну, мама же, говори! Хотят?
— Не мытьём, так катаньем взять хотят. Панику им нужно посеять, — горячилась Наталья Васильевна. — Негодяям — это же готовый пропуск. Поняла?
— Куда пропуск? — не поняла Майя.
— Отстанешь от меня? — рассердилась на Майю Наталья Васильевна. — Замучила совсем дурацкими вопросами. Видишь, с поля уходят последние люди. Скоро темнеть начнёт… Зимний день короткий, а нам ещё добираться и добираться. И как бы бомбёжки не было. Иди же быстрей! Еле волочит ноги…
— Куда пропуск? — не отставала Майя.
Отряхиваясь от налипшего мусора, она бежала за быстро идущей Натальей Васильевной. Самой ей размышлять некогда, поэтому она хотела получить готовый ответ.
— Пропуск куда?
— Господи, вот упорная! Отстанешь? Фашисту сдаваться, поняла? Они такого негодяя обратно в город зашлют делать диверсии.
— Зачем? Он трус, но он же наш?
— Он трус и не наш. Он диверсантом будет. Но почище самих немцев. Он же всё в городе знает. Взрывать, убивать, корректировать бомбёжки станет. Помнишь, пускали ракеты осенью?
— Так его поймали!
— Одного поймали, а другие?
Майя споткнулась и чуть не свалилась в ров. А Наталья Васильевна страстно мечтала об одном: чтобы сейчас не было бомбёжки, и чтобы им засветло попасть домой…
Дома они вымыли оттаявшую хряпу и потом рубили её с солью, мелко-мелко. Тёмно-зелёную кашу мама ещё мяла руками. И выставила на подоконник, где теперь очень кстати дуло из разбитых окон. У них получился целый горшок не очень вкусной, горькой, но зато полезной противоцинговой хряпы. Уже давно они варят по вечерам жидкие щи. Словами не передать, какие получаются вкусные щи, хотя и без мяса…
Она подремывала перед истопившейся печуркой.
— Ужинать, — коротко позвала мама.
Она разлила по трём тарелочкам тёмные щи, рядом с каждой положила по куску испечённой дурандовой лепёшки. Майя понюхала и вонзила зубы в чуть сыроватую тёплую лепёшку.
— Осторожнее, там могут попасть твёрдые крошки! Лучше ешьте со щами. Господи, как дует от окон. Из подворотни меньше. Никакое тепло не спасти без стёкол. Толя, взгляни, наверное, матрац отошёл, закоржевел и отвалился… К утру закоченеем в кроватях. Майя, дай хлеб!
— Где он?
Майя ещё хотела добавить, что она всё перевернула, а хлеб не обнаружила. Но спохватилась. Ей было стыдно. Наталья Васильевна внимательно глянула на неё.
— На комоде под зелёным блюдом. Я положила туда, чтобы он не зачерствел.
И Наталья Васильевна снова взглянула на Майю пристальным взглядом. Девочка не вынесла маминого изучающего взгляда и отвернулась. А если бы она нашла?
Ей стало нехорошо от этой мысли. Но её разморило перед печкой. Кроме того, она устала и изнервничалась за сегодняшний день, и ей не хотелось двинуть ни рукой, ни ногой, хотя она не наелась. Скоро в голове не осталось ни единой дельной мысли. Она была тому рада.
— Хлеб дай к чаю. Не слышишь? — донеслись до неё, как сквозь вату, мамины слова.
Она сонно и нехотя встала, на комоде нашла три кусочка хлеба под блюдом и уже несла их к столу, но зацепилась ботинком за ножку стула, на котором сидела Наталья Васильевна, и чуть не упала.
Хлеб выпал, и один из кусочков попал в ведро с невынесенными помоями. Помои лениво всколыхнулись, пропустили в себя хлеб и тут же застыли, словно сожрав хлеб, сразу успокоились и задремали. В комнате стало тихо, только слышно было, как Толя, взглянув на сестру, затем на ведро, собирает с тарелки прилипшие листики.
Потом стало совсем тихо. Раньше про такую внезапную тишину бабушка Эльфрида говорила: «Тихий ангел пролетел». Майя тогда внимательно глядела на окна, потолок, открывала шкаф, залезала под кровать, выискивая залетевшего и невесть куда спрятавшегося ангела. А все смотрели на неё и смеялись.
— Вылавливай, неумёха! — жёстко сказала Наталья Васильевна. — Пока он сам в помои не превратился…
«Буржуйка» вдруг злорадно плюнула смоляной жвачкой.
Майя остолбенела. Дремота враз прошла. Но лицо Натальи Васильевны было непреклонным.
— Там же… Как же…
— Всё знаю. Но в этом куске вся твоя дневная норма.
Майя хотела напомнить, что в ведре не просто помои, а… Нет, Майя не оправдывалась, не ругала себя за невынесенные помои. Мыслей вообще в голове не было. Она просто стояла. Она не могла сунуть руку в противную жижу.
— Я достану, — тихо сказал брат.
Готовность брата помочь словно толкнула её к ведру. Она сразу сунула руку по самый локоть, не успев завернуть рукав маминой кофты. Она шарила, отталкивая пальцами какие-то непонятные штуки. Скользкие, отвратительные. Она торопилась, хлеб может развалиться на части. Из её растопыренных пальцев что-то выскальзывало, разваливалось, наконец, на самом дне она нащупала что-то похожее на хлеб.
На её ладони лежал отвратительно пахнущий кусок хлеба, облепленный всякой дрянью. Он и не подумал развалиться. Блокадный хлеб был спрессован, как глина.
Наталья Васильевна покачала головой, взяла хлеб и стала мыть его в нескольких водах, и вода всякий раз темнела. Промытый хлеб положила на горячий бок «буржуйки» подсушиться. Хлеб подсыхал совсем плохо, пока Наталья Васильевна не догадалась разрезать его на тоненькие ломтики.
Нет, в сегодняшний день Майе определенно не везло. В сегодняшний день жить вообще не стоило. Хорошо бы бесследно вычёркивать из жизни неприятные, невезучие дни. Они у всех найдутся в избытке. Или забыть о таких днях навсегда.
— Спасли. Он даже сделался вкусней. Я в этом уверена, — раздался в тишине бодрый мамин голос. — Я его себе возьму. С повидлом сойдёт. — И тихо простонала, как бы себе: — Господи, что же это есть приходится? Как жить дальше? Надолго нас хватит?
Майя осталась гордой до конца. Она сама съела этот хлеб, нарезанный мамой в виде тонких подошв. Губы её дрожали, когда она подносила его ко рту, есть было противно даже с земляным повидлом.
— Сейчас каждая крошка питает, — утешительно сказала Наталья Васильевна и погладила её по голове.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Пётр Андреевич. — Добровольцы-десятиклассники. — Больше шуток, если на душе скребут коты Софронычи
Утром Наталья Васильевна сказала:
— Иду на фабрику, попрошу шерсть помягче. Мозоли кровавые на руках, не могу больше вязать перчатки! Господи, как их бойцы бедные носят целыми сутками в промёрзлых окопах?
— Они сидят в землянках без перчаток, — со знанием дела поправила её давно проснувшаяся Майя. Вылезать из-под тёплых одеял ей не хотелось. Она следила за мамой, прикрыв глаза жидкими ресницами.
— Много стала знать, ослушница, — усмехнулась мама. — Помни: до моего прихода не вставай. Бежать тебе некуда, а в постели — теплей. Я вернусь с фабрики, затоплю, тогда встанешь. Поняла?
— А хлеб выкупать?
— Сегодня я по дороге сама выкуплю.
— Вдруг мало привезут, и тебе не хватит.
— Сказано, не высовывать носа. Добегалась — один нос и остался. На пальто одна пуговица на нитке болтается. Что тебя, собаки рвали?
Если бы Наталья Васильевна знала!
Майя свернулась клубочком, поджав ноги к подбородку. И, подумав, маму поправила:
— Собаки пуговицы не откусывают. А пуговицы я другие пришью. Они взяли и оторвались. Все вместе, чтобы дружно. А одна задержалась, наверно позже была пришита. Мамочка, меня Эмилия Христофоровна ждёт, ей надо сходить в столовую за полезной пшеничкой. Или гороховой кашей. Что дадут на талоны. Она же меня ждёт.
— Носа не высовывать. Утюг холодный?
Это Наталья Васильевна спросила про утюг в ногах. Майя насупилась.
— Ладно, не высуну. До тебя. А утюг давно холодный, я даже ноги от него отняла. Лёд на Северном полюсе теплее этого утюга.
Попробуй тут быть тимуровкой!
Хорошо взрослым — что хотят, то и делают.
Майя получше укуталась в одеяло и лежала, раздумывая о том о сём. У неё уйма всяких дел, а тут лежи колодой с холодным утюгом в нетопленной комнате и зря теряй время. Не раздумает ли носатая тётка отоварить талоны? Вдруг скажет, не хватило снова каши?
От этой мысли, набежавшей внезапно, словно ураган, Майя встрепенулась. В квартире ходить запрета не было. Она может в своей квартире ходить, куда ей вздумается. Майя повеселела, вскочила и сунула ноги в мамины валенки, накинула на плечи своё бобриковое пальто необыкновенно красивого болотного цвета и заторопилась к этажерке. Как она могла забыть про котёнка?
В комнате заледенелый сумрак. В углах — неприветливые тени. Они уже прячутся, и она их давно не боится. Майя отодвигает уголок маскировочной шторы над небольшим оконцем с форточку. Стало посветлей. Угол ватного матраца набряк сыростью, задубел, закоржевел, а крохотное оконце покрылось пуховым морозным одеялом.
Вата в котёночьей коробке скомкана, дно сырое, а котёнок лежит в самом уголке и мелко-мелко дрожит. Она его жалостливо погладила. Малыш зашевелился и мяукнул. Взяв его в руку, она поцеловала дрожащую котёночью мордочку и сунула его за пазуху, чтобы хорошенько отогрелся.
— Совсем замёрз. Лежишь, мой голодненький, совсем голенький. А ватное одеяло разбросано по углам. Сейчас я кашу сделаю. Ты полюбишь кашу из дуранды. Знаешь, какая она вкусная. Я нажую тебе, и ты будешь сытеньким. Как бы мне самой зубы не сломать об эту дуранду! Эта дуранда от слова «дура». И твёрдая, эта дуранда, как камень. Но она полезная, и ты растолстеешь. Будешь у меня как поросёночек…
Она ласкала тощего котёнка и залезла с ним под одеяло, погрелась сама. Разжёванной серо-зелёной кашей она кормила дрожащего зверёныша. Тот ел жадно, с присвистом, чмокал, давился и снова жевал. Девочка переворачивала его на пузо, хлопала легонько по спине ладонью, чтобы он вовсе не подавился.
— Научился есть дуранду. Но какой же ты голодный! — удивлялась Майя. — Этак мы не наедимся, а карточка тебе не положена. Кончится война, ты вырастешь, станешь гордым блокадным котом, станешь рассказывать на своём кошачьем языке, как твоя мама-кошка с крысами отважно дралась, как ты ел дуранду и спал под бомбёжками. Никто тебе верить не будет, скажут: как это жить, если нечего есть, и сверху падают бомбы?
Она гладила котенка и дула тёплым воздухом на него, вздымая негустую шерсть.
— Теперь ты сытый. Весёлым должен быть. Сейчас все весёлые, когда наедятся.
Котёнок снова лежал в коробке на шерстяной тряпке, а она, надев пальто как следует, отправилась по тёмному коридору. У комнаты Николаевых она остановилась в нерешительности. Осмелившись, она постучала негромко в дверь. Было тихо, на её стук никто не отозвался, никто не разрешал ей войти. Стоять стало страшно в темноте, но обратно идти от безмолвной двери ещё страшней. Она раскаивалась, что пришла. Тут за дверью послышались тяжёлые шаркающие шаги, и дверь приоткрылась.
— А, демуазель Маюми пожаловала! Проходи, не студи убогие сии апартаменты. Прибыла-таки высокая гостья сирого и убогого проведать.
Непонятно шутил Пётр Андреевич. И ещё было непонятно, почему она сразу же становилась на себя не похожей: жеманной, глупой и неизвестно чему начинала улыбаться.
— В кресло садись, дорогушка, — переходя на обычную речь, сказал Пётр Андреевич. — Ты по делу или как?
Майя во все глаза смотрела на Петра Андреевича. Уж он точно на себя не похож. И толстый свитер, немного поднявшийся на спине. И поверх свитера какая-то женская кацавейка. И ватные брюки с завязками. Голова Петра Андреевича спряталась в тёти Сонину шапочку с кокетливыми зелёными ушками.
Девочка вглядывалась в малознакомого ей Петра Андреевича и внезапно поняла, что он больной. Он так изменился, лицо его сделалось толстым, налитым, словно стеклянным.
— Не комильфо?
— Что?
— Шокирую затрапезным видом?
— Что?
— Пугало?
Он перестал улыбаться, некоторое время грустно и внимательно её разглядывал. Майя почувствовала себя неловко. Опустила голову.
Петр Андреевич успокаивающе резюмировал:
— Сейчас все на себя непохожи. И ты похожа на замарашку. Совсем немного.
— Я даже перепутываю тётенек с дяденьками, — обрадовалась Майя. — Знаете, тётеньки не обижаются, а дяденьки…
Пётр Андреевич тихонько свистнул.
— Я тоже похож на тётеньку. А разве тётеньки умеют так свистеть? — невесело пошутил Пётр Андреевич.
Майя пожалела его. Пётр Андреевич был всегда красиво одет, аккуратно выбрит. А тут, словно Плюшкин, и свистит, как дворовый мальчишка. В комнате все вещи стоят на своих местах. И всё же произошла перемена к худшему. Стёкла целые и пропускают дневной свет. Но заваленный посудой стол, неубранные диван и кровать, серые толстые одеяла на полу и на двери делали комнату неприятной.
Один чёрный рояль царствовал в комнате — недосягаемый, надменный, безразличный к холоду, голоду и войне.
Майя уважительно на него поглядела. Вот с кого надо брать всем пример!
— Не нравится? Не прибрано? Неважно чувствую себя. Придёт Сонечка, наведёт порядок, и станет у нас славно. Сейчас холодно, но мы потерпим. Правда?
Небритые щёки его в двух местах были залеплены пластырем.
— И тогда побреемся. Бриться стало мучением, словно это не моё лицо, а совсем незнакомого человека. Нехорошо жаловаться, но уставать сильно начал, руки дрожат, как у алкоголика. Видишь, бритвой порезался. Всё моё, словно — не моё. Лежать тянет, сил не стало противиться. А ведь ходил пять остановок пешком до работы и не уставал. К ногам словно гири привязали, а худые, как палки. Ты не знаешь, Маюми, почему я стал брюзгой?
Она не знала.
— И никто не знает. Одна война всё знает, но молчит. От папы с братом писем нет? Впрочем, что это я? Потом сразу мешок писем получите.
— Толя у нас ходит на Всеобуч. У них Мишка Виленский умер, на посту. Взял и умер. Они думали, он упал в голодный обморок. Борис Окунев собирается на фронт идти добровольцем. Толю зовёт, а Толю мама не пускает. А папа в последнем письме с нами попрощался. Всегда писал, что скоро приедет, а тут — попрощался. Как он может знать наперёд? Мама плачет. Правда, что мой папа вернётся? Не может мой папа быть убитым, правда? Все вернутся, а он — убитый. Правда?
— Нам тоже нет писем. Откуда им быть в блокаде? Ты лучину умеешь драть? — перевёл разговор Пётр Андреевич.
— Конечно.
— Отлично. Тебе и карты в руки.
— Какие карты? — не поняла Майя.
Она уважала Петра Андреевича. И пришла она к нему не просто из любопытства. А по важному делу. Она решила рассказать ему про найденную карточку. Что он посоветует, так она и поступит.
Она строгала занозистую сосновую лучинку, а сама мучилась мыслью, что она трусливая и нечестная. Поминутно отрывалась от опасного дела, чтобы посмотреть, не догадался ли Петр Андреевич о её мыслях.
Он тем временем расхаживал по комнате, глубоко задумавшись. Потом начал наливать из ведра в чайник воду, что-то переставлял на столе. Охнув, присел на корточки и начал складывать крест-накрест полешки в печурке. Сложил, сел на стул, положив руку на грудь. Лицо напряглось, он словно прислушивался к чему-то, происходившему внутри него.
У Петра Андреевича была язва желудка. И на фронт его не взяли по этой причине, ему было неловко ловить на себе недобрые взгляды: почему он, ещё нестарый мужчина, не на войне…
Его жена Софья Константиновна дольше других хозяек задерживалась на общей кухне. Еду для мужа ей приходилось готовить отдельно. Каши и пудинги получались у неё замечательные.
Однажды Майя караулила закипающее на примусе молоко. В это время Софья Константиновна вытаскивала из чудо-печки творожный пудинг. Бело-румяный, он сам казался Майе чудом. Она загляделась и проворонила своё молоко. Молоко полилось из кастрюли сразу со всех сторон, залило примус, плиту, Майино голубое сатиновое платье. Пудинг источал удивительный аромат, а примус плевался, злорадно шипел, пока не выдохся от злости.
Она уже получила свой подзатыльник, но всё равно не могла отвести восторженных глаз от пудинга. Он дрожал и весь сиял матовым светом. Сам лез в рот. Майя тёрла затылок: среди такого всеобщего благополучия, представленного сказочно-прекрасным пудингом, она должна получать тычки!
Пришёл на кухню Пётр Андреевич, уяснил обстановку, поглядел в затуманенные глаза Майи и отрезал ей большой кусок пудинга. Всё это не спросясь Софьи Константиновны, хотя она стояла рядом и не улыбалась.
И сейчас она перед своими глазами увидела тот несравненный пудинг. Перестала строгать трещащую лучинку.
— Какой он был вкуснющий — я чуть язык не проглотила!…
— Ты о чём? — не понял Петр Андреевич.
— Когда я вырасту, буду каждый день печь такой пудинг. Война кончится весной? А то есть нечего.
— По макушку сидим. Стыдно, как глупо веселились. Надо бы бочку катнуть с горы, убавить прыти и краснобайства. Писал Игорёк, что с тремя винтовками на отделение погнали против фашистских танков. Дивизии в землю ложатся… вот горе…
— Как ложатся! Окапываются?
— Если бы. Но ты помни, мы всё равно победим. Русские люди и не такое выдерживали. Фашизм противопоказан прогрессу. А прогресс остановить невозможно, не в силах это человеческих. Потому фашизм обречён. Но осенняя муха злее кусает!
— Война весной не кончится?
— Думаю, что нет.
— А как же мы? А на фронте? Их же всех поубивают…
— У нас не все умрут. И на фронте не все погибнут…
— Это несправедливо, почему одни… а другие…
— Надо надеяться. Ведь ты надеешься?
Майя остолбенело молчала. В папины проводы на фронт мама всю дорогу до клуба имени Ногина, где был сборный пункт, проплакала. Она шла съёжившаяся, маленькая, а папина сильная рука, обнявшая маму за плечо, вздрагивала часто-часто. Он бодрился, успокаивал их, а глаза папины смотрели вдаль и будто что-то видели недоступное им. Майя гордо поглядывала на встречных, смотрят ли они, как она провожает на фронт своего папу.
Проводы Игоря Николаева были веселее. Почти весь его десятый класс уходил на фронт добровольцами. От неожиданного известия Софья Константиновна внезапно так ослабела, что еле двигалась по комнате, оцепенело и бестолково перебирая необходимые на фронте вещи. Пётр Андреевич задерживался на работе.
Сам Игорь пришёл за Майей и, весело улыбаясь, попросил её напрокат. Так он выразился. Майя хотела обидеться, чувствуя обидный смысл в его словах, но мама, не обращая на неё внимания, быстро согласилась. Тогда, тоже поняв важность события, Майя перестала дуться и в один миг собралась.
Через полчаса они втроем уже были на Красноармейской улице, возле недавно построенной школы-десятилетки. Это и был сборный пункт добровольцев. По проспекту они шли тесно в ряд, с боков поддерживая тётю Соню, у которой буквально подкашивались ноги, и она поминутно останавливалась.
На сборном пункте было оживлённо. Сияло утреннее солнце. Парни и девушки весело перекликались через металлическую решётку, обменивались записками, пели под баян и гитару военные песни.
Их матери ловили взгляды своих сыновей и горько плакали. Прозвучала команда. Оркестр, неизвестно откуда вдруг взявшийся, заиграл бодрый и одновременно грустный и нежный марш «Прощание славянки». Послышались крики, плач. Они почти забивали громко играющий оркестр. И Майя расстроилась. Всё, оказывается, происходит не так радостно, как она предполагала и как видела в кино.
Неожиданно к ним подбежал куда-то пропавший Игорь. Он торопливо целовал мать, гладил её по голове, а она, обхватив его руками за шею, повисла на нём, уткнувшись заплаканным лицом в молодое плечо сына. Он неловко отрывал её, уговаривал, как маленькую, не плакать. Ведь он скоро придёт домой с победой.
Поцеловал он и Майю. Она жарко смутилась. Тогда он поднял её и звонко крикнул:
— Расти, невеста!
Майя неожиданно для себя кивнула головой, а все вокруг напряжённо засмеялись. И даже Софья Константиновна сквозь рыдания светло улыбнулась. Игорь смеялся громче всех и был в это время красивее всех. Он тоже погладил Майю по голове, но она снова смутилась. Теперь от досады.
Через мгновение он скрылся за большими школьными дверями. Словно ушёл на урок.
Долго не расходились провожавшие, всё ждали — может, выйдут к ним дорогие их сердцу добровольцы. Но те больше не появились.
Обратно шли медленно. Тётя Соня всхлипывала, тёрла платочком глаза и оглядывалась. Словно Игорь пошутил и сейчас их догонит. Майе чуть ли не силой пришлось тащить домой Софью Константиновну…
— Чай закипел, Майечка. Станешь со стариком убогим и небритым пить чай?
— Стану, — застенчиво сказала Майя, улыбнувшись. В гости её редко брали. А она любила в гости ходить, пить из праздничных чашек вкусно заваренный чай, есть пироги и пирожные. И ещё любила, когда в гостях с ней разговаривали. Немного напыщенно и приторно-ласково. Она чувствовала некоторую фальшь, сверхзаинтересованность, но охотно отвечала. Особенно она любила ездить к маминой тётке на Мойку. К этой тётке, побочной дочери генерала, воевавшего на Балканах, они ездили к горячему пирогу. Так было у неё заведено. Тётка сидела в кресле, курила длинные папиросы и беззастенчиво разглядывала Майю, делая замечания маме насчёт Майиной невоспитанности.
В комнату робко пробрался лучик солнца. Они с Петром Андреевичем пили чай из синих чашек. Портрет Игоря на стене от лучика сразу повеселел, а Сергея — насупился. Когда Майя снова взглянула на портрет Игоря, он ей подмигнул.
— Портреты разве могут подмигивать? — спросила она.
— Сахару нет, а чай Сонечка спрятала. Невкусно пить один голый кипяток? Уж не взыщи, дорогушка.
— Портреты подмигивать могут?
— О чём ты? Не знаю, чем разнообразить наш скудный стол.
Вдруг он тряхнул головой и, тяжело поднявшись, вышел в соседнюю комнату. Вернулся нескоро. Майя успела выпить целую чашку голого кипятка. В руках Петра Андреевича был крохотный пакетик, перевязанный суровой ниткой крест-накрест. Он развязал этот пакетик, бережно отогнул края красной бумажки, и перед изумлённой Майей оказались три длинные конфеты в ярко-голубой одёжке. Сердце её замерло от восторга.
— Нравятся? — улыбнулся Пётр Андреевич, видя её радость.
— У вас есть такие конфеты?
— Бери. Мне нельзя. Они ёлочные, но настоящие. Игорёк на ёлку купил. Больше нечем угостить. Бери, дорогушка, не стесняйся. Мне нельзя.
Майя знала, не то время, чтобы угощаться в гостях, но удержаться от соблазна съесть конфетку не смогла. Мятный леденец оказался до такой степени мятным, что огнём палил язык. Но кипяток стал совсем другим.
— А кот съел у Будкиных студень. Вкуснющий был студень. Из довоенного столярного клея. Как раньше не додумывались варить? — начала чинно Майя светский разговор за чаем.
Пётр Андреевич помешивал ложечкой в чашке, хотя сахару там и в помине не было.
— А Софроныч съел у Будкиных студень, — опять начала Майя. — И свою шерсть оставил в тарелке. Наверное, евонная шерсть приклеилась к тарелке, и он оторвать не мог! — Повысив голос, она добавила: — Вкуснющий студень был!
И тронула тихонько Петра Андреевича за короткий рукав тёти Сониной кацавейки.
— Что дворник съел и шерсть оставил?
— Не дворник Софроныч, а кот Софроныч. Его инженерша Касаткина назвала в честь дворника. Она сказала, что кот такой же прощелыга, как и дворник. Скажите, как он мог съесть студень из запертой квартиры?
— Какой студень? — задумчиво спросил Пётр Андреевич.
— Я же рассказываю, что клеевой студень. Вкуснющий. У Мани.
— У какой Мани. Я её знаю?
— У Будкиной. Как он мог забраться через закрытую на засов и цепь дверь? Как один съел целую тарелку вкуснющего студня? А Будкин сказал, что его самого он съест.
— Интересно, — оживился Пётр Андреевич. От горячего кипятка он разогрелся, мелкие капельки пота выступили на его носу. Щетина на подбородке стала вроде длинней. — Кот и Будкина пообещал съесть?
— Нет же! Это Будкин пообещал съесть Софроныча, — растолковывала Майя, удивляясь непонятливости Петра Андреевича.
— Кроме кота, он и дворника съесть хочет?
— Это кот Софроныч.
— А ведь запросто может поймать и съесть.
— И Маня говорит, что он может кого угодно съесть. Он стал жадный до ужаса. Отобрал у них карточки и сам по ним хлеб выкупает. Им почти ничего не даёт и ещё грозится выгнать на мороз. Говорит, что едят они много!
— Кот или дворник?
— Нет же! Я сейчас про Будкина говорю, это Манин отец. Он одноглазый пьяница.
— Негодяй. Почему он не на фронте? — насупился Пётр Андреевич.
— Я же объясняю, что он безглазый. Ну, без одного. Ему иностранные пьяницы выбили в драке глаз. Он торгашом плавал на большом белом пароходе. Его выгнали с парохода. А Манина мать — она похожа на ворону и тоже дерётся — бабушку ругает. Мол, выродила на её шею пьяницу. А разве, когда он рождался, сказал, что будет одноглазым пьяницей? Правда?
Майя замолчала.
— Негодяй он, твой Будкин.
— Не мой, Манин. А Манина бабушка ответила: чтоб он пропал. А разве можно ему пропадать, если у него все их карточки. Кроме материной. Она у них на казарменном…
И тут Майя решилась спросить:
— Вы художник. Вы умный и всё знаете. К примеру, нашли вы хлебную карточку. Шли себе, шли… Что тогда?
— Надо в булочную бежать, — усмехнулся Пётр Андреевич.
— Так просто? — удивилась Майя.
— К сожалению, карточки на дороге не валяются. Их выдают строго по одной. Конечно, есть и литерные и доппайки всякие, но это нашего брата не касается…
— А что нас касается?
— Исполнять приказы.
— А если кто потерял. Ну, шёл… — снова начала Майя.
— Сказать фортуне спасибо. Сия капризная дама повернулась своим очаровательным личиком…
— Не поняла, — пожала плечами Майя. — Вы всё шутите.
— Больше шуток, если душу скребут коты Софронычи! Если серьёзно, то надо отдать хозяину. Ему по нынешним временам может грозить голодная смерть.
— А как хозяина найти?
— Адрес с фамилией имеется.
— Фамилии нет и адрес почти размытый… И если на проспекте…
Майя внезапно смутилась и стремительно ушла, забыв поблагодарить Петра Андреевича за кипяток и голубой леденец.
Она уже привыкла к тому, что находка может стать её собственностью. Разговор с соседом её взбудоражил, но ничего не прояснил.
Пётр Андреевич глядел вслед, тёр на подбородке щетину и недоумённо покачивал головой.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Кадик. — В парк за хвоей. Второй день войны
Котёнка Майя назвала Блокадником. Но имя было костлявым и грубым, и она стала звать его сокращенно Кадиком. Она ухаживала за ним, меняла подстилку, кормила, чем сама питалась, но хорошо понимала, что ему нужна совсем другая еда. Кадик целыми днями не вылезал из коробки. Если Майя ставила его на лапы, они сами собой расползались в стороны, и он оставался лежать на брюшке. Но шерсть его расправилась, оба глаза открылись. Очень голубые котёночьи глаза.
Майя ласкала его, жарко дыша в усатую мордочку. Кадик прикрывал оба глаза, журился и неожиданно чихал. Однажды он замурлыкал монотонно, бархатно, с еле слышными взвизгивающими нотками. Майя счастливо удивилась и сама стала напевать грустную революционную песню «Замучен тяжёлой неволей». Оба они были довольны друг другом. И счастливы.
Несчастьем было полное отсутствие котёночьей еды. Он и не обманывался насчёт неё, не любил жевать дуранду, даже жёваный-пережёваный хлебный мякиш. От полезных витаминных щей из хряпы отворачивался. И всё-таки Майя ухитрялась кормить его. Кадик жил и даже немного подрос. Но у неё от жалости перехватывало дыхание, когда она брала его на руки. Это всё-таки был комочек костей, обтянутых шкуркой.
В последние дни Кадик пировал и роскошествовал. Он ел немыслимо вкусную кашу-пшеничку. Жадно поедал её с Майиного пальца, он чавкал, давился, потом долго и смешно обсасывал Майины пальцы по очереди.
Целых две порции отвалила на талоны носатая тётка из столовой. Майя этому крайне удивилась. Она некоторое время постояла перед захлопнувшимся окошком. Она думала, вот сейчас откроется окошко, тётка спохватится и половину каши отберёт. Но тётка в глубине комнаты сердито гремела поварёшкой о край кастрюли и отбирать не собиралась, видно у неё за ночь появилась совесть.
Подгоняемая этой славной мыслью и ветром, Майя весело несла Эмилии Христофоровне кашу, а Майины ноги ещё веселее несли её саму. Ещё она думала, что носатая тётка — ничего себе тётка. И бородавка её не такая противная, как показалась в первый раз.
Эмилия Христофоровна нетерпеливо ждала Майю. Она удивилась, даже прослезилась, увидев две порции. Она уже не ожидала ничего хорошего. Женщина радостно ахала, охала, раскладывая кашу по двум тарелочкам. По самым маленьким тарелочкам, чтобы каши казалось побольше.
Одну тарелочку с двумя розовыми каёмочками она протянула Майе:
— Ешь, девочка. И прости меня, недобрую. Я была так неправа, так неправа. Прямо в уме повредилась…
Майя не хотела брать драгоценную кашу, она видела, как Эмилии Христофоровне живётся на голой иждивенческой карточке без всякого, самого малого приварка, без запаса продуктов. Но она взяла. Было стыдно, она ругала себя самыми последними словами, но взяла. Она помнила о карточке.
— Я принесу ещё хлеба. Если…
Она хотела сказать, что если не найдётся хозяин карточки. Но и Эмилии Христофоровне она не проговорилась про карточку.
— Ещё я принесу немного хряпы. Говорят, она полезнее луковиц и лимонов. В парке много хвои, хватит на весь город… Хвою настаивают в кипячёной воде и потом пьют… От цинги. У вас дёсны распухшие. Из-за ваших дёсен даже не стало видно ваших зубов. Будто их совсем во рту нет.
Эмилия Христофоровна печально и ласково кивала, ела кашу и глядела на Майю. Бросив быстрый взгляд на девочку, Эмилия Христофоровна прикрыла глаза и вылизала свою тарелочку. Майя после угощения посидела немного, потом начала хозяйничать у Эмилии Христофоровны. Вынесла ведёрко с помоями, вылила его в большую снежную яму в углу двора. Туда все выливали или просто выбрасывали с лестницы мусор. Затем Майя принесла с Курляндской улицы бидон чистой воды. Она устала, но была уверена, что и тимуровка Женя поступила бы точно так.
— Славная растёшь. Добрые люди на свете ох как нужны. Мой Янис добрым был человеком. Да не пожилось ему на белом свете. Видел бы он, как исхудал наш сынок. Одни глаза остались. Легко ли ему столько остановок идти с Путиловского? В бомбёжки, в обстрелы идёт. К своей матери. Говорю ему: пожалей себя, не ходи, не отрывай от пайка, ведь ты молодой. А он: ты одна у меня. Я и жить не смогу, если тебя не проведаю. Правда, Майечка, хороший сынок вырос у нас с Янисом? Ненаглядный мой мальчик.
— Он же взрослый! — удивилась Майя.
— Тебе он кажется взрослым. А мне — выросшим мальчиком. А про хвою мне Арвид рассказывал… Подумать надо, раньше и слыхом не слыхали. У меня ослабли зубы в гнёздах, того и гляди начнут вываливаться. Арвид обещал хвойного настоя принести. Ты не беспокойся, голубушка. Поройся на полке, посмотри книжки. «Княжну Джаваху» читала? А французские сказки любишь? Там есть и о Королеве ужей. Очень интересная сказка. Ласковая и печальная…
— Я потом. Днём читать темно, вечером тоже темно. А ночью словно сидишь в саже по макушку. Вот кончится война, будут белые ночи в Ленинграде, и я перечитаю все ваши книжки. Я очень люблю сказки читать. Они добрые. В них злой человек всегда наказан. И читать весело. Правда?
— Вот оно что, — Эмилия Христофоровна погладила Майю по голове. — А в жизни не так?
— Да. Не так, — вздохнула Майя. — У вас так холодно, я в пальто замёрзла. Вы будете топить?
— Видишь, сколько чурочек наколол Арвид. Сложил возле печурки, чтобы удобней брать. А у самого за проходной — фронт. Как там они? Ну, наговорилась я с тобой, повеселей стало на душе. Иди, детка, а то мама гневаться станет.
Майя возвратилась домой, забралась с ногами на диван, укуталась в одеяло. В комнате стало слишком прохладно. Пар изо рта валил, как из заводской трубы. В голове закопошились неприятные мысли: как она выкупает хлеб по чужой карточке и радуется, что можно под всякими предлогами не искать хозяина этой карточки? У неё кончается каша-пшеничка, а тогда чем кормить Кадика? И почему не даёт о себе знать Фридька? Они уже должны идти в этот разнесчастный подвал за банкой и ракетницей. Особенно важно найти конфеты. А самое главное — она не хочет идти в эти две квартиры. Её ноги не хотят идти. Она, конечно, может им приказать, и никуда они не денутся, умники.
Лучше ничего не находить, если потом надо отдавать!
Вот к какому неутешительному выводу пришла Майя.
На глазах у Софьи Константиновны один мальчишка вырвал у девчонки выкупленный ею хлеб. Эта растяпа выкупила паёк и несла его неспрятанным, незавёрнутым, прямо в руках. Мальчишка тут же на её глазах запихал хлеб в рот.
— Как он у него поместился? — говорила, вздыхая, она.
— Боже мой! — простонала Наталья Васильевна. — Боже мой!
— Представьте, буквально в рот запихал и побежал. С таких лет никакой моральной выдержки.
— Как же, — простонала Наталья Васильевна.
— Он живёт буквально инстинктами. Он меня буквально чуть не уронил в снег…
— Кого не уронил? Хлеб? — спросила устрашённая Майя.
— Почему хлеб? Меня, — недовольно ответила Софья Константиновна. — Хлеб у него во рту, как кость у собаки.
— И никто не задержал, — грустно сказала Наталья Васильевна.
— Кто? Я должна задержать? — удивилась Софья Константиновна. — Мне больше всех надо? Буквально вы меня удивляете, милочка!
— Никто не догнал, — тревожно сказала мама. — Что же это с людьми делается?
— А кто побежит? Кому надо? Он же его в рот — целиком. И как не лопнул…
— Кто лопнул? — опять невпопад удивилась Майя.
— Может быть, его за углом дружки ждут. А у меня в сумочке лежит паёк. А мальчишка грязный до невозможности, замаранный до последней степени. Как беспризорник двадцатых годов!
— А девочка? — спросила, сердясь, Майя.
— Она стоит и глазами хлопает. Словно ей совсем не жаль хлеба. Стоит и хлопает глазами, такая дурёха!
— Ресницами, — поправила Майя и отвернулась от Софьи Константиновны.
— Как пень стоит. Я бы плакала, догоняла бы маленького негодяя. Люди поохали и разошлись. Буквально, как растаяли в тумане. По своим норам. Помнится, когда война началась, кто на фронт заявление сел писать, а кто в магазины сообразил бежать… Вечером в магазинах одна соль и спички остались. В эвакуацию рванули самые сообразительные. Они там с голоду не умирают на одной иждивенческой карточке.
— А девочка? Девочка бедная…
— Наивная вы, Наталья Васильевна, — пожала плечами Софья Константиновна. — Вы верите всему, что по радио говорят. Вы знаете, что в городе собак и кошек переели… Нехристи к людям подбираются…
— Как — переели? Как — подбираются? — не выдержала Майя, похолодев.
Наталья Васильевна молчала. Лицо её вытянулось.
— Наталья Васильевна, не будьте наивной! Вот и мой Петенька играет в благородство, кому оно сейчас нужно!
— Почему я играю? Негодяи водились во все времена. Вспомните, как тревожно отозвалась на войну страна, поднялся весь народ, вы же этого не будете отрицать. Что это, игра в благородство? Побойтесь бога, Софья Константиновна. Конечно, много спорного, кто это станет отрицать, но вспомните, как шли мужчины, да и женщины тоже… записываться добровольцами? И у вас двое сыновей ушли, и мой муж… Но вы в чём-то правы, не все шли на фронт, бывало и другое… Нет, не под силу мне настраиваться на иной лад, — горько сказала Майина мама. — В горькую годину Родину должен защищать каждый, как может.
…Лето 41-го было сухим и жарким. Город задыхался, спал с настежь открытыми окнами. Горожане изнывали, ждали дождя, как манны небесной. Воздух от бензиновых выхлопов, дыма заводских труб сгущался, земля стала серой пылью, плавился асфальт под женскими каблучками…
Уже на второй день войны по проспекту пошли нескончаемые колонны красноармейцев, с вещмешками, скатками шинелей, винтовками за спиной. Они шли помногу человек в ряд. С командирами впереди. Шли в такую одуряющую жару, заняв всю ширину проспекта. Колонны бойцов шли в порт грузиться на баржи.
Несколько часов подряд они шли. Иногда движение колонны замедлялось, она замирала. Бойцы устало и обречённо глядели в сухое знойное, без единого облачка небо, садились, кто где остановился: на мостовой, на обочине. Некоторые присели на корточки. Они тяжело дышали, вытирали пилотками красные потные лица, поправляли гимнастёрки, ослабляли лямки вещмешков.
Измученные зноем и нескончаемым маршем мужчины, идущие на фронт.
Немного передохнув, они принимались пить из фляжек. У многих фляжки были пустыми.
Прохожие на проспекте замедляли шаги, останавливались и тревожно глядели на бойцов. Но очень скоро в воротах, подъездах домов появляются женщины. Торопясь, они несут, разбрызгивая на ходу, вёдра, бидоны, чайники, полные вкусной невской воды. Они стремятся напоить бойцов. И с тайной мыслью встретить родных или знакомых. Бойцам из колонн выходить не разрешается.
В это самое время Майя с Маней стояли в воротах своего дома.
— Давай, Манька, сбегаем за водой. К тебе на первый этаж пустяки, а то тётенькам не успеть напоить…
Маня кивнула головой.
Через минуту-другую они бежали с чайником и бидончиком к бойцам.
— Вот дуры, не взяли кружек!
— Ещё какие дуры… Как пить станут?
Но бойцы потянулись к воде и пили без кружек. По очереди. Негромко крякали и вновь тянулись к холоднющей водопроводной воде. Затем вытирали подбородки, губы и, довольные, доставали кисеты с махоркой.
Командиры не мешали. Они молчали и скупо улыбались. Некоторые пили воду.
В одно мгновение проспект запестрел ярким ситцем, вкраплённым в однообразную зелёную массу, слышались негромкие разговоры, сыпались вопросы.
Но вот послышалась команда.
Необозримая колонна мужчин пришла в движение. Бойцы встали, колонну выровняли, и, колыхаясь, она пошла дальше, в порт.
Маня с Майей ещё дважды бегали за водой. Теперь они поили на ходу и, подпрыгивая и спотыкаясь, успели напоить ещё несколько бойцов. Никто не ворчал, что пить неловко на ходу, что даром проливалась вкуснющая вода. Девочки же семенили рядом, заглядывая в лицо бойца.
Они хотели во что бы то ни стало запомнить героев на всю свою жизнь.
Командиры не отгоняли подружек. Хорошие командиры! Они понимали, как важно в знойный день напиться воды. Как не просто шагать по жаре с полной выкладкой и пустой фляжкой.
— Спасибо, подруги, — крикнул им пожилой боец.
— Славными вырастете! — сказал молодой боец, возвращая Мане пустой бидон.
Где сейчас они воюют?
Может быть, ранены и лежат в госпиталях? Или убиты?
Нет, они возвратятся с войны героями!
С того дня Майя каждый день думает об отце Дмитрии Александровиче и о старшем брате Валентине, который бьётся с врагами на Карельском фронте. И в ней утверждается надежда, что весной кончится война, и они, как обещали, вернутся домой победителями.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Смерть Зои. — Обыск. — Будкин съел кота Софроныча
За ночь дворы и проспекты завалило снегом. Лёгким, пушистым, слабо искрящимся на декабрьском боязливом солнце.
Сколько раньше было радости у людей с первым настоящим снегом! Из потаённых углов извлекается всё, на чём можно ходить, ездить и кататься на снегу. Сколько ребячьего шума, визга во дворах. Весь дом высыпает во двор, все тут же начинают суетиться, играть в хоккей, в снежки, лепить снеговиков. К вечеру снеговик стоит в углу двора. Под мышкой — дворницкая метла, которую бдительный Софроныч забыл в углу парадной, на голове снеговика красуется мусорное ведро, выброшенное на помойку. Нос — пожертвованная или утащенная у матери крупная яркая морковка. Чудо, как хорошо слеплен снеговик!
На заднем дворе устраивается снеговая горка. Её усиленно поливают водой, чтобы образовалась ледяная корка. На такой горочке Майя выучилась кататься, стоя на ногах. И не падала. Она съезжала с горки и очень собою гордилась. Но все были заняты собственными делами, и на неё, такую ловкую, никто не обращал внимания.
Сейчас она останавливается, грустно оглядывает теперешний, словно вымерший, двор. Узкие тропинки несмело разбегаются от арки к двум подъездам второго флигеля. Третья, пожалуй самая утоптанная, ведёт на задний двор, к единственной парадной третьего флигеля.
Майя сворачивает на левую тропку, входит в тёмный холодный подъезд. Снова бросается довоенная щемящая надпись на сырой стене: «Женя и Оля». Майя читает её уже с некоторой уверенностью. Это потому, что она взяла на себя заботу о больной Эмилии Христофоровне. Она считает себя почти настоящей тимуровкой Женей. Правда, загвоздка в найденной карточке.
Вообще у Тимура с Женей всё обстояло проще. Не было блокады в их дачном посёлке. Не было бомбёжек и обстрелов, когда не знаешь, будешь ли жив в следующую минуту. У них всё было ясно. Война шла где-то там, на фронте, а в садах посёлка зрели дивные яблоки. И хлеба они ели досыта, и молоко пили не во сне. Мужчины с той короткой войны возвратились с орденами. Наверное, тогда приносили и похоронки, на войне без этого, видно, не бывает. Но всё равно она была как бы далёкой и как бы нереальной для ребят.
Теперь иначе. Война влезла в город, сидит в каждом дворе, в каждой квартире. Убитых и умерших от голода прибавляется с каждым днём. С каждым часом.
Майя постучала в Манину дверь. Сразу лязгнул засов, грохнула цепь, и Манина бабушка, молча посторонившись, пропустила Майю в квартиру. Резко опустился полог-одеяло, повешенный на дверь для тепла, грубо мазнул мороженым краем Майю по носу. Крохотным тёмным коридорчиком она пробирается в единственную комнату. Здесь посветлее, но холодно, почти как на улице.
Её подруга в зимнем пальто и варежках сидела на стуле возле холодной «буржуйки». На Майю она не посмотрела. Та в нерешительности топталась около двери. Невысказанные упрёки вылетели из головы. Девочка оторопело глядела на Маню.
— Зоя умерла, — бесстрастно сказала Маня, кивнув на диван.
В самом уголке большого дивана лежало что-то маленькое, накрытое простынёй.
— Как умерла? — не поняла Майя.
— Как умирают? — грубо огрызнулась Маня. — Не понимаешь?
И потише продолжала:
— Она в последние дни вставать совсем не хотела. Говорила, что очень устала и хочет полежать… А все дни и так лежала. Вчера тихая-тихая была… такая ласковая… А сегодня не проснулась…
Вошла в комнату Манина бабушка, немного постояла у двери рядом с Майей, потом прошла к дивану, отогнула край простыни, проговорила скорбным голосом:
— Иди, дитятко, простись с нашей безгрешной душенькой. Успокоилась, родненькая. Всё поесть просила, а сама уже без сознания. Неужто можно без сознания просить хлеба… помнила, значит, что хочет есть. А в доме ни единой корки хлеба. Что я дам? Кусок с себя срежу?! Идите обе сюда, а то я убирать её стану. Не увидите её личика более никогда…
Старушка наклонилась, стала разглаживать невидимые морщинки на лице худенькой девочки, сухими пальцами ласково гладила синее личико умершей.
Майя подошла, боязливо вгляделась в Зою, и её поразили Зоины заострённые черты и отрешённость от всего, что творилось в комнате. Старушка встала на колени перед диваном, прижалась к Зое лицом и так замерла. Майя, не мигая, всё глядела, а Маня вдруг начала раскачиваться всем телом и что-то про себя бормотать.
Майе приходилось видеть мёртвых людей на заснеженных улицах. Их везли почему-то на детских санках. Санки были малы, и ноги умерших волочились сзади по снегу. Всякий раз Майе казалось, что они сопротивляются неизбежной своей страшной участи.
Вчера она видела упавшего на углу застывающего мужчину. Худое серое лицо, ко всему безразличный взгляд долго стояли у неё перед глазами. Шли мимо прохожие, бросали на мужчину один-единственный взгляд. Они понимали: у того всё кончено. Кто крестился, кто отворачивался боязливо, а кто тупо и безразлично ковылял мимо.
Но все прибавляли шаг, даже обессиленные и немощные. Невидимая смерть словно стояла возле погибшего. Словно она безжалостно поджидала всякого замешкавшегося.
— Почему все идут мимо него?… Ну все!
Майе было тяжело и неловко. Она и сама не понимала ясно, отчего ей было неловко перед умирающим. Может быть, потому, что она идёт мимо, а он униженно лежит внизу и не может подняться? Она понимала, что никакая сила не может вернуть его к жизни, но чувство вины перед умирающим возникало у неё снова и снова.
— У вас гроба нет? — не зная, что сказать, но уже не в силах молчать, спросила Майя. — Как вы, ну, её…
— В одеяло ватное придётся… — глухо проговорила Манина бабушка. — В одеяльце всё помягче станет дитятке…
Маня сняла варежки, вытерла ладонью слезинку. На её руках Майя увидела тёмные пятна.
— Что это у тебя, — испугалась Майя.
— Будкин дрался, — ответила безразлично Маня. — Потом ещё дворник добавил…
Майя шла к подруге, чтобы высказать свои нелестные мысли о Манином поведении, когда дворник, вдруг неизвестно отчего озлясь, начал её обшаривать жёсткими цепкими пальцами. Но вся обида улетучилась при виде горя в семье.
Маня монотонно рассказывала:
— Он вцепился в меня, когда ты убежала. Потом подбежал к нему на помощь дядька в бурках.
— В полупальто? — возбуждённо спросила Майя и оглянулась в испуге на диван.
— Тише. Откуда ты знаешь? Ты же убежала, бросила меня! Они меня схватили, повели к нам домой. Рылись во всех ящиках в комоде, весь шкаф перетрясли, всё повыбрасывали…
— Как они смели причинять людям обыск? Кто они такие? Может, ГПУ? — Майя в тревоге пожала плечами.
— Ты, Манюша, — сказала бабушка, — не видала, куда Зоинька материну брошку задевала? Она с ней весь вечер играла, в кулачке потом держала. Всё любовалась на красоту перед смертью. Нету нигде её. Меня, Манюшка, твоя мать сживёт со свету за эту брошку. Посмотри, дитятко, закатилась куда? Ох ты, горе горькое. Дитятко моё бедное!
Майя вновь глянула на Зою. Казалось, девочка уснула. Сейчас проснётся, откроет глаза и скажет, где брошка, о которой спрашивает старушка.
Не откроет глаза Зоя, не скажет ничего. Она уже не живёт. Её нет на земле. От этой пронзительной мысли стало вдруг нечем дышать.
Маня всё бубнила.
— Потом они ушли, а я от них в туалет спряталась… Хорошо, что бабушка была дома.
— Надо в милицию сходить, — махнув на брошку рукой, говорила старушка. — Почему они причиняли людям обыск? Что они — с «чёрного ворона»? Он дворник, он не имеет прав. И этот толсторожий, весь пол истоптал. Видать, не голодает. Я его никогда и в глаза не видала.
— На Будкина надо тоже заявить в милицию, чтобы не дрался и чтобы карточки отдал ваши. Пусть его с ГПУ пошлют на фронт. Правда? — мстительно выпалила Майя. — Или пусть в тюрьму посадят! — шёпотом докончила она, оглянувшись снова на диван.
— Будкин, ирод, накарался. На смерть мать и детей своих… на голодную смерть… ирод, накарала его судьба…
Старушка ещё что-то бормотала себе под нос.
— Он поймал кота Касаткиной, — забубнила Маня. — Кот так орал, так орал, вырывался у него из рук, слушать было невозможно. Он его головой об стенку и стал обдирать прямо на кухне. Потом варил на плите… бр-р-р! Столько дров спалил, торопился…
— Торопился нажраться? — грубо спросила Майя.
— Матери боялся, вдруг придёт… Ещё клочья Софронычевой шкуры на кухне валяются… Я боюсь заходить туда. Он и нам предлагал суп из кота. «Тьфу, говорит, зря отказываетесь, дуры голодные. Кот вроде зайца, правда одни кости, тощий до остервенения!» И сейчас становится страшно, как вспомню дёргающегося кота! Зоя тоже отказалась. «Я, — сказала она, — знала его в лицо». Так и сказала Будкину.
— Кого в лицо знала?
— Кота.
Майя в ужасе слушала, потом задумчиво сказала:
— Сколько несчастий сразу. Кота всё-таки съел. А те искали карточку, теперь я поняла. Но почему? А я опоздала. Принесла вам хлеба, а Зоя… Зоя…
Старушка заплакала.
— Откуда у тебя для нас хлеб? Я знала, что она умрёт, у неё вошки смеретные завелись… Как обсыпало… Чистая беда…
Но руки её напряглись, задвигались, разглаживали концы платка, фартук поверх ватной кацавейки.
— Ты вправду принесла хлеба? Нам? За что?
Маня что-то бубнила, даже не услыхав про хлеб.
— Будкин с карточками куда-то пропал. Мама на своём заводе гранаты делает. Мы бы с бабушкой свезли Зою в морг, но надо подождать маму. Ей проститься с Зоей надо… В нетопленой комнате невозможно уже сидеть, а топить — нельзя. И на кухню вытащить Зою нельзя, там грязь, кровь и клочья Софронычевой шкуры…
Майя достала из кармана кусок, сунула в Манины руки. Та безразлично стала жевать и всё говорила:
— Он уроков не давал делать… От его скандалов у меня болела голова на уроке. У тебя отец не пьяница, тебе непонятно. Почему не берут его в тюрьму? И на фронт не берут. Он и одним глазом видит на два метра сквозь землю…
До неё вдруг дошло, что она жуёт, и Маня зачавкала жадно, заторопилась. Внезапно подошла к бабушке и, отломив половину краюхи, сунула ей в ладонь. Старушка встрепенулась, положила кусочек в рот, начала дробно жевать, подбирая с передника невидимые крошки.
— Я ещё вам дам, — сказала Майя. — Я сегодня на всю рабочую карточку вам отдам… Но надо сходить в сорок восьмую квартиру. И в восемнадцатую… Меня заколотило у вас от холода…
— Нельзя топить. Может, не надо ходить, искать? Ну, этого хозяина…
— Вдруг он тоже умирает с голода. Но тогда почему хлеб не выкуплен? В эти две квартиры я схожу. Надо. Понимаешь, я не могу не идти в эти квартиры.
Маня глядела понимающе.
— Не могу, — рассердилась неизвестно почему Майя.
Она сунула в руки Мани оставшийся кусочек хлеба, взглянула на понурую закутанную до глаз бабушку и вышла.
Дверь квартиры тяжко хлопнула.
Уже очутившись на дворе, среди сияющего снежного безмолвия, она со страхом взглянула на Манино окошко. Она словно вылезла из жуткой ямы, заполненной горем и безысходностью.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Жильцы сорок восьмой. — За водой на Курляндскую улицу. — Фридька темнит
Сорок восьмая квартира находилась в третьем флигеле на втором этаже. Окна её выходили на глухую, без окон, кирпичную стену рядом расположенного соседнего дома. Дом этот выходил на Курляндскую улицу. Он тоже был последний в своём ряду.
Так, два рядом стоящих дома относились к разным улицам.
На нарядной, обитой чёрным блестящим материалом двери, ярко голубела почтовая кружка. На стенке — кнопка электрического звонка. Чуть ниже — ещё звонок. Он расположен в золотистой круглой впадинке. Повернёшь бронзовый язычок, и в квартире раздаётся высокий скрежещущий звук. Точно такой звонок и в Майиной квартире, но звонят только посторонние люди. Жильцы открывают монетой.
Лестница здесь ещё более неприятная, ещё более вымершая. Стоять, когда на тебя смотрит множество дверей в мрачных тёмных закоулках — вдвойне неприятно. Майя прислушивалась, то и дело оглядываясь через плечо. Ей было по-настоящему страшно. И с каждой минутой становилось всё тоскливей, потому что именно сейчас могла решиться судьба найденной ею карточки.
Сколько можно стоять под дверью. Пока не умрёшь от страха?
Она ещё раз повернула бронзовый язычок звонка. И опять юркнула в ближайшую тёмную нишу и прижалась в уголке. Она должна сначала посмотреть на человека из сорок восьмой квартиры.
По-прежнему тихо. Майя выходит из угла и опять звонит. Понастойчивей и подольше. И уже не прячется. Сколько можно! А может быть, любопытство уже пересилило страх. Чтобы себя ободрить, разогнать вязкую, липнувшую к ушам тишину, она что есть силы заколотила ногой в нарядную дверь.
— И что бухает? Как зенитка палит!…
Дверь соседней квартиры приоткрылась, показалась закутанная до глаз голова нестарой ещё женщины с нахмуренными бровями.
— Чего не даёшь людям покою? Чего рвёшься? Старуха болеет, носа не высовывает, а дочка… Нет дочки. Тю-тю. Её поубивало снарядом. Скоро всех поубивает, всех разбомбят. Или сами вымрем… Ты чего по квартирам шастаешь?… Небось, за хлебцем… Тут давали, если что взамен притащишь поценней. И что матеря смотрют? Ведь разденут, как пить дать, разденут и уволокут… Или хуже того — съедят.
Майя отшатнулась.
Женщина, увидев недоверчивые, испуганные глаза, с довольной ухмылкой протянула:
— Так и не слы-ы-хи-и-ва-а-ла-а-а. И не ви-и-ды-ы-ва-а-ла-а? Не знаешь, что творится. Небось, свалилась с Луны. У этой Верки, как мужа ейного убили… патефон крутится с утра до вечера… Про парк Чаир всё распевал, про море, которое прощалось. Без хле-е-ба не сиживала… И хахалей кормила!
Майя видела, что женщина злая, болтливая, но вместо того чтобы уйти, противно улыбнулась и сказала:
— Я из… я из команды. Я пока одна. Я сама по себе тимуровка. Я — Женя. Меня есть нельзя. А у них кто ещё на фронте? А я тимуровка Женя. Мне надо…
— Что лепечешь, тимуровка. Здесь не голодают, поняла? Здесь сами пиры задавали, что чертям тошно. Пришляндала тимуровка. И что матеря смотрют? Ведь съедят и не поперхнутся! Как пить дать, вон какая ты ещё упитанная…
Майя попятилась.
Под ощупывающим, недобрым взглядом замотанной злой женщины она чувствовала себя кроликом. Но в голове отчётливо зазвенело: в сорок восьмой квартире голодных нет. Вот здорово! Остаётся ещё восемнадцатая квартира.
Обрадованная, но и напуганная, она на цыпочках начала пятиться. Тут за дверью сорок восьмой квартиры щёлкнул замок, и низенькая старушка в чём-то меховом, накинутом на плечи, поглядела вопросительно и пристально на Майю. Прошло две-три секунды. Замотанная женщина хмыкнула, дверь её квартиры гулко захлопнулась.
— И ты, Карповна, не шибко голодная, — вдогонку ей проговорила старушка. — Ходишь, выманиваешь у ослабевших людей хорошие вещи для продажи. Им отдаёшь за это кроху, а себе — львиную долю. Сколько же в тебе неизбывной злости и зависти, а на них — тоже сила нужна. Ты ко мне? — обратилась старушка к Майе.
— Ты… вы… я спросить… Можно? — растерялась Майя.
— Ты ко мне? — повторила старушка, закутываясь в меховую шубку. — Говори, а то я продрогла.
— Я тимуровка… Женя. Я спросить… Помните, в кино были тимуровцы? Они помогали красноармейским семьям, сады от хулигана Квакина защищали, телеграммы разносили. Вы ничего не теряли? — неожиданно выпалила Майя и замерла в ожидании ответа.
— Какие сады? Какие телеграммы? У тебя с головой всё в порядке? Тогда скажи прямо, зачем ты пришла. Тебя мама послала к Верочке? Заходи…
В прихожей старушка неожиданно заплакала. Майя немного осмелела. Удивляясь своей смелости, спросила:
— Вы карточку не теряли? Никакую?
Заплаканная старушка отрицательно покачала головой.
Майя обрадовалась.
— Хотите, я принесу вам за это воды или дров. Или за хлебом схожу. Я сейчас для вас что угодно сделаю. Вот здорово!
— Ты и вправду пришла помочь. Странно. Такая маленькая…
Она вздыхала, разглядывая сквозь очки Майю. Она чувствовала к этой девочке доверие, захотелось выговориться, поделиться своими несчастьями, пожаловаться на одиночество. Она интуитивно почувствовала готовность к сопереживанию: даже лучше, что она такая маленькая, легче говорить.
— Проходи в комнату. Дочку Верочку убило… Вышла она, закрывает дверь своей булочной, а тут — снаряд. Разорвался-то он на другой стороне улицы… Осколком Верочку убило, вот горе-то! Никогда она мне не улыбнётся. Никогда на руки не возьмёт, не приласкает своего сыночка. А мужа-то её немцы ещё в сентябре убили. С фронта товарищи написали. Как теперь внучику расти без отца, без матери. Разве я могу растить его… А ты пришла помочь? Такая маленькая?
В комнате, уставленной красивой плюшевой мебелью, около буржуйки стояла детская кроватка. В ней спал ребёнок. Старушка то и дело вытирала слезившиеся глаза.
— Осиротели мы с ним. Пошли с осени несчастья, только успевай отворять ворота. Феденьку убили, Сашеньку ранили, побежала я в госпиталь на Фонтанку, а он уже за час до моего прихода скончался. Обратно ноги не шли, полдня сидела на ступеньке госпиталя. Раньше Верочка занималась дровами, а тут некому. Пошла я в сарай, а сарая вовсе нет. Дрова утащили, и сам сарай украли, на дрова разломали. Видно, кто ближе живёт, тот и попользовался. Может, ещё при Верочке, не хотела меня расстраивать…
— У вас и дров нет? — испугалась Майя. — Дрова дорого стоят. Мама моя говорила, что вязанка дров — хлебный паёк. Сейчас деревянные дома стали разбирать на дрова. У вас на фронте двое, вам должны… Вы старая, а у вас маленький ребёнок…
По старушкиным щекам опять покатились слёзы.
— Никого у меня на фронте нет. Мой Сашенька скончался… А я не верю… Тебе не понять… А дрова есть, на кухне они сложены. Да уже кончаются, ребёнку тепло нужно, а где его набраться? И продукты кончаются. Что с нами будет?
— А карточки?
— Они у Верочки были. Её на куски разорвало, какие карточки уцелеть могут, бог с тобой!
— Надо дружинниц позвать, они ребёнка в дом малютки определят. И карточки, я слышала…
— Что ты, бог с тобой, — испугалась старушка. — Я не могу и дня прожить без Юрика. Он у меня кругом один остался… А Верочку я вижу живой… Стоит она передо мной, красивая, глаз отвести невозможно… По ночам бессонница. Да и мёртвой я её не видела и представить не могу… Ночью жду, вот придёт моя доченька, а днём уже не надеюсь. Нельзя ей умирать, у неё сынок маленький. А я уж не жилец!
Старушка говорила и говорила. В кроватке закряхтел мальчик. Майя осторожно заглянула в кроватку, завешенную с боков пелёнками.
— И не плачет. Сколько ему?
— В марте год исполнится. Как не плакать? Мать свою ищет. Он всё понимает, знает, что такое мать родная. Её не спутаешь ни с кем.
Серьёзные глаза мальчика без улыбки разглядывали Майю.
— Какой он! Учёным будет. Или командиром Красной Армии.
Старушка, внезапно охнув, села не неубранную, горой вздымавшуюся от подушек и одеял кровать.
— Что-то долго не могу стоять, так и тянет полежать. Ты с нами посиди, Женечка. Всё же живой человек рядом! Юрик, наверное, мокрый. Сейчас тобой занялся… потом заплачет…
— Печурку затопить? А то как в холоде таком ребёнка переворачивать. Я умею топить… И за водой схожу вам…
О хлебе она не заикалась. Кто сейчас кому выкупает хлеб? Есть и родные, что друг другу не доверяют…
Уже через полчаса гудела, румянилась «буржуйка». Майя тревожно поглядела на сурово замкнутое лицо старушки. Подумав, по собственной инициативе отодвинула кроватку с мальчиком подальше от печки. Сунулась было в ведёрко, стоявшее на стуле, а воды в нём не было. Не было её и в чайнике на конфорке. В доме воды совсем не было.
— Как вы живёте? У вас же совсем воды нет! — очень громко удивилась Майя.
Старушка зашевелилась.
— Я ходила, да половину разлила… Споткнулась. Сердце так и рвётся, тело колышет… Ты сходить хочешь, тимуровка Женечка?
— Схожу. От вас даже ближе вода. Не надо через два двора идти…
Она критически оглядела ведро. В широком и большом ведре ей воду не донести не разлив. Надо взять что-нибудь другое из посуды. Чайник и ещё что-то, подходящее по размеру.
На кухонной полке нашлась высокая начищенная кастрюля, узкая и с носиком. Майя поставила её в авоську и получилось длинное ведёрко с крышкой. В левой руке она понесёт чайник. Для равновесия. Чувствуя себя нужной и значительной, сказала:
— Не скучайте. Я скоро.
На Курляндской улице из отрезка водопроводной трубы с краником лилась день и ночь струйка воды. Если её не закрывали. Жильцы с двух улиц брали здесь воду. С рассвета и до темна возле трубы толпился народ. Воду брали строго по очереди. Суеты и давки никогда не было.
За последние снегопады здесь образовалась крутая смёрзшаяся, то и дело поливаемая водой наледь-воронка. Закутанные обессиленные люди осторожно карабкались на неё. Всюду вокруг валялись вмёрзшие в снег бидоны, чайники, даже вёдра.
Неловко взобравшись на крутую наледь, человек мог сорваться и скользнуть по выбитым во льду ступеням прямо под льющуюся струю ледяной воды.
Майя боком, как опытный лыжник, поднялась на наледь, немного потоптавшись, чтобы не соскользнуть, спустилась к трубе. Встав поудобнее, подставила кастрюлю под несильно льющуюся струю воды, вздохнула, и неожиданно съехала вниз, угодив под ледяную струю. Чайник она уже набрала, а кастрюля в авоське вылетела из рук и куда-то исчезла. Наверное, закопалась в рыхлый снег.
Она искала и не могла сообразить, куда исчезла красивая кастрюля. И как она придёт без неё? А сзади торопили и подталкивали в спину.
С гудящей коленкой, в мокрых рейтузах она стояла на наледи и мешала замёрзшим и торопившимся людям набирать воду. Её сильно толкнули, она опомнилась, стала выбираться, сердясь на невезучую кастрюлю, на свою ушибленную коленку и на весь белый свет.
Она стояла с наполненным чайником в одной руке, не зная, что предпринять для розыска чужой кастрюли.
За её спиной неожиданно раздался слабый голос:
— Возьми моё… Не плачь!
— Я не плачу, — сердито обернулась она на голос.
В трёх шагах от неё полулежал, опираясь на руку, пожилой мужчина. Почти глубокий старик. Возле него стояло полное ведёрко.
— Тебе говорю, девочка! Бери мою воду, мне она, видно, уже не потребуется…
Майя недоумённо покачала головой. Она не могла взять у обессиленного упавшего человека его воду. Она поискала свою варежку, тоже неизвестно куда запропавшую, и замёрзшей ладонью вытерла мокрую ушибленную коленку. Мужчина прикрыл глаза.
Неожиданно повалил густой снег. Через несколько минут замёл бы и торчащую из снега разбросанную посуду и лежавшего на снегу человека.
У трубы послышался короткий заполошный крик. Это поскользнулась и съехала к воде пожилая женщина. Майя увидела, как она на четвереньках выползает наверх, срываясь и плача.
Вдруг кто-то Майю толкнул.
— Ха, опять фонарным столбом стоишь?
Она оглянулась и увидела перед собой Фридьку. Запропавший Фридька целёхонек и живёхонек маячил перед ней.
— Это ты, Фридрих? — обрадовалась она.
— Нет, не я, — убеждённо хмыкнул он и заморгал запорошенными ресницами. Затем, выпятив нижнюю губу, ловко сдул снег с носа и ресниц.
— Чего, говорю, верстовым столбом стоишь? Делать нечего?
— Хочу и стою! — обозлилась Майя. — Ты куда пропал? Я уже думала, что ты на фронте. Котёнок живой и подрос, только стоять не хочет, лапы у него в стороны расползаются… Дистрофиком стал. За ракетницей когда пойдём? И за конфетами. Я жду, жду, а ты не идёшь… Там же конфеты!
— Тише. Разговорилась тут… Сказал, сам тебя найду, когда будет нужно. Поняла? И не болтай, как громкоговоритель. Пожевать у тебя нет?
Майя пожала плечами: я, мол, про Фому, а он про Ерёму…
— Фонарик работает?
— Батарейка хорошая, здорово светит… Пожевать нечего?
Кто же сейчас спрашивает пожевать? Ах да, у неё же ничейный хлеб, но неужели он знает?
— Я тебе потом, сейчас у меня нет, — заторопилась она.
Он удивлённо посмотрел на неё. Он спросил так, просто, и не ожидал такого ответа.
— Пойдём когда?
— Помалкивай. Тут и взрослому не разобраться.
— Надо участковому сказать.
— Где его возьмёшь? Он на фронт ушёл.
— Вся милиция ушла? — с ужасом Майя справиться не могла. — А как же мы? Кто нас охранять будет от воров… от диверсантов? Тогда давай расскажем Арвиду. Он инженер, он всё на свете знает. Он на Кировском…
— Знаю. Они там ремонтируют танки.
— Всё ты знаешь. А как спросить… Хочешь без меня ракетницу найти и медаль получить? Хочешь диверсанта один поймать? А котёнка подбросил мне, чтобы я его кормила. Котёнок есть просит, а фонарик сам светит. Скажи, кто фонарик нашёл? Хитрый ты, Фридька!
— Сказал, сам найду, когда нужно. Пожевать ничего нет? Кишки прямо свело…
Майя покачала головой.
— Сейчас нет.
— Ну, я пошёл.
Майя ухватила Фридьку за рукав балахона.
— Видишь, мужчина старый упал. Видишь, он встать не может. А его снегом заметает…
— Он давно умер, — равнодушно сказал Фридька, мельком взглянув на полулежащего в прежней позе мужчину.
— Сам ты, дурак, умер! Он только что говорил со мной, воду свою в ведре предлагал. Видишь, я мокрая. И, вдобавок, кастрюлю чужую потеряла… А ты говоришь, что мёртвый! Надо помочь ему встать.
— Умер он. Да и некогда мне. У меня такие дела! А я с тобой тут заболтался.
— Не уговаривай мальца, дочка! Давай с тобой поднимем старика. Его и правда заметёт. Замёрзнет у всего белого света на виду. Слыхано ли дело — не помочь человеку. Темнеть начинает.
Коренастая женщина решительно наклонилась к лежащему в неудобной позе мужчине:
— Вставай, товарищ, не спи, глаза открой. Так и замёрзнуть не долго. Хватайся за мои руки, отец. Ты, дочка, и малец поддержите его, не давайте завалиться…
Фридька с Майей поднатужились, поддержали мужчину, не дали ему упасть навзничь. Он открыл глаза, безразлично на них поглядел. Подошли ещё две женщины. Одна в старинном офицерском башлыке не давала ему упасть вперёд, другая поддерживала сбоку. Все вместе они стали мужчину поднимать.
— Живой. Соберись с силами, помогай нам поставить тебя на ноги. Нам и впятером не под силу тебя удержать, если повалишься. Сами с тобой свалимся, вот дров-то будет…
Приговаривая, они поставили мужчину на ноги.
— Фашистов прогонят, а ты — не живёшь. Обидно! Они только того и ждут, чтобы мы все тут перемёрли…
— Держите, не давайте снова завалиться, — хрипло сказала женщина в башлыке.
— Малец, — устало проговорила коренастая женщина, — беги на угол! Там пункт сандружинниц. Пусть живее идёт сюда «скорая» на санках. Пусть поторапливается, скажи — человек ещё живой. Они в стационар поместят. Беги живей.
— Я не могу живей, — угрюмо и упрямо бросил Фридька.
Он ушёл. Мужчина стоял, чуть покачиваясь, сонно и безразлично глядел на окружающих. Скоро пришли торопливые девушки в красноармейских шинелях и шапках, с санитарными повязками на рукаве. Они усадили мужчину, деревянно придвинувшегося к санкам, прикрыли его ноги куском ватного одеяла, завязали ему ушанку под подбородком и увезли.
— Дай бог, оклемается, — устало проговорила коренастая женщина и перекрестилась.
— Ветром сдувает людей, — поддакнула женщина в башлыке. — А мужчины? Те и вовсе мрут, как мухи. Вот тебе и сильный пол. Что-то ещё будет с нами, господи!
К Майе, смотревшей вслед санкам с мужчиной, подошёл Фридька. Он запыхался.
— Что, Майка, замотана? Со спины — вылитая старуха древняя. И не узнаешь тебя.
— Глупый, а на фронт собрался, — обиделась Майя за древнюю старуху. — Думаешь, не догадалась? Ракетницу без меня. Прославиться один хочешь. А меня зовут теперь Женей. Понял? А то Майка да Майка. Надоело. И некогда с тобой прохлаждаться, меня с водой ждут. И так хожу целый год.
Фридька удивился, хотел что-то сказать, раскрыл рот, но потом передумал, свистнул насмешливо прямо Майе в лицо и растаял за пеленой снега.
Майя рассердилась:
— Отобрал фонарик, подбросил мне котёнка голодного и ещё свистит!
Ведёрко увезённого мужчины, полное воды, одиноко стояло в снегу.
На улице быстро смеркалось. Снег лениво падал рыхлыми хлопьями, которые было не так-то легко стряхнуть. Закутанных людей у водопроводной трубы заметно поубавилось. Майя заторопилась. Мысли её закрутились вокруг дома, вокруг сорок восьмой квартиры. Отлив немного из ведёрка воды, чтобы не плескалась, она взяла в другую руку чайник и пошла на свою улицу, помрачневшими от сумерек переходами. Шла осторожно. Она здорово замешкалась, становилось темно, как бы не наткнуться ей на что-нибудь и не разлить драгоценную воду.
Было тяжело, но она упрямо несла воду. Ведь её ждали.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Воры. — При чём тут Верочка
Квартира открылась без труда. Ключ удивительно точно вошёл в замочную скважину. И это в кромешной тьме! Прежде чем сделать один шаг, приходится выставлять вперёд руку. А если руки заняты, как у неё, то надо ощупывать ногами почти каждый сантиметр под ногами. Только теперь Майя поняла, как непросто жить на свете слепому человеку.
Первым делом ведёрко воды она занесёт на кухню. И всё надо делать тихо, вдруг малыш спит. Город уже который месяц жил в темноте, люди попривыкли, выучились ходить и довольно неплохо ориентироваться в этом мраке. Недоразумения, конечно, были, и довольно часто, если забудешь со сна, в какой стороне находится дверь и врежешься лбом в шкаф. Или налетишь на стенку, которая почему-то очутилась совсем в другой стороне.
Ведро она поставила на полу кухни, а синий старушкин чайник понесла в комнату, чтобы поставить на печурку. Старушка сразу вскипятит себе и Юрику чай.
Майе давно пора быть дома. Она представила мамино лицо и сердитый голос. Мама снова станет упрекать Майю в ослином упрямстве и непонятной, по военным временам, склонности к бродяжничеству — для мамы непонятном. Майе, наоборот, всё понятно и единственно правильно. А если в этот час у них в комнате случайно окажется Софья Константиновна или Савина? Что они станут говорить о ней? Первым делом Софья Константиновна скажет: если Майя носится по жутко тёмным улицам, то буквально в неё запросто попадёт артиллерийский снаряд. Или буквально нелюди подкараулят её в подворотне и запросто съедят. Она это скажет спокойным голосом, а маму в это время передёрнет всю от страха за Майю.
Савина станет кивать головой и подтверждать каждое слово Софьи Константиновны. Нечестная Карповна, соседка старушкина, тоже толковала про каких-то людоедов, которые будто бы появились в городе. Какие они старорежимные люди! Софья Константиновна преувеличивает, но она не злая, только жадная. Карповна подлая, она у обессиленных людей выманивает дорогие вещи, чтобы продать на «чёрном рынке». И разве обязательно нелюди должны подкарауливать именно Майю? И вообще, разве живых девочек есть можно?
Утешив себя таким образом, она вспомнила, что выкупленный хлеб она весь отдала Мане. Правда, хлеба немного, его можно проглотить очень быстро. И даже за один раз, если хорошенько разинуть рот. Если же делить его на крохотные кусочки, как сейчас почти все делают, то можно подольше его жевать. И крохотный кусочек превращается в солидный кусок.
Обычно паёк так и делят: для утра, для обеда, для ужина. И — прячут от себя подальше, чтобы не съесть весь паёк за один присест.
Отдышавшись, Майя с чайником в руке направилась в комнату. Старушка рыдала в голос. Майя от страха оцепенела.
— Был бы живой Сашенька, — рыдала старушка. И тут она услышала, как вошла Майя. — Где ты, Женечка?
Старушка, высоко подняв руку с коптилкой, стояла посредине комнаты. При колеблющемся свете её впалые глаза стали ярко-оранжевого цвета.
Она увидела Майю, перекрестилась.
— Тебя не увидали нехристи, слава Богу!
Майя поставила на «буржуйку» чайник с водой. Вздохнула.
— Я принесла ещё и ведро воды. Только оно чужое, вы не удивляйтесь. Я кастрюлю вашу в снегу потеряла. Я упала и выкарабкалась, а кастрюля же не может… Я вся мокрая, особенно рейтузы, но вы не беспокойтесь, они шерстяные и скоро высохнут… А ведро с водой мне мужчина подарил. Насовсем. Теперь оно ваше. А мужчину увезли дружинницы в стационар. Правда, если он по дороге не умер.
Она вздохнула и, присмирев, выжидательно поглядела на старушку.
— Вы что, плакали? И почему у вас такой разгром в комнате?
— Умница, что задержалась. Тут такое было!
Первый раз Майю похвалили за задержку. Вот услышала бы мама, удивилась бы!
Старушка в полной растерянности толкалась по углам, заглядывала в ящики комода, перебирала в шкафу, в ящиках и на полках. Тяжело поднявшись, рылась и на полках буфета. И мысли у неё, видно, были невесёлые, потому что она качала головой и что-то горестно шептала себе под нос.
Майя некоторое время глядела на неё, потом начала действовать. Она налила немного воды в маленькую кастрюльку и тоже поставила её на конфорку. Открыла дверцу и подула на затянутые дымкой горячие угли. Подумав, положила на них тонкие сосновые щепочки и поверх них три сухие чурки, стоявшие на попа возле бока буржуйки — для просушки.
Через несколько мгновений печурка довольно загудела. Майя устала и продрогла. Она присела на корточки, подставила теплу, льющемуся из открытой дверцы печурки, свои отсыревшие коленки и стала размышлять. Сколько событий за эти дни, а что дальше? Она со страху поёжилась, вспомнив колючие, как шипы, глазки дворника, вспомнив беспощадные слова и длинные, как щупальца спрута, холодные пальцы…
Волны тёплого воздуха поплыли по комнате, обволокли усталую Майю. Басом загудел чайник.

— К погоде, — обернувшись, сказала машинально старушка.
— Я не поняла, — беспокойно сказала Майя. — Что тут было без меня?
— Хамелеон. Я плохо соображаю, не могу в толк взять, какие такие дела у них с Верочкой. Постой! Не то ли они искали, что она дала мне спрятать и просила никого не пускать и ничего никому не отдавать… Какие у неё могли быть дела с этими людьми? Я в девятнадцатом году бедствовала с ней, совсем крошкой, в Петрограде. Но не запятнала себя ничем недостойным. Что же это, господи, за напасти навалились…
Охнув, она вдруг повалилась в кресло. Проснулся Юрик.
Ничего не понимая, не зная, чем помочь, Майя бестолково засуетилась возле старушки. Та открыла глаза и с Майиной помощью села в кресле поудобнее. Остолбенело глядела прямо перед собой, а её морщинистые руки беспрерывно и беспокойно двигались.
Требовательно заплакал Юрик.
Тревожно поглядев на старушку, Майя подошла к кроватке мальчика. Он плакал тонко, жалобно. Лицо сморщилось, он напоминал маленького старичка, а крупные для такого личика слёзы катились по щекам.
Майя удивилась. Она всегда думала, что малыши плачут без слёз. У Судаковых, Лерка ихний вопил день и ночь. Соседи за стенкой затыкали ватой уши. А если бы он со слезами плакал? Сколько воды проливалось бы за сутки? А за неделю? Наверное, на одни бы Леркины слёзы уходило не меньше ведра.
Она погладила Юрика по мокрой щёчке, потом нерешительно и неумело его развернула. На неё пахнуло тёплой младенческой прелью, которую сразу же забил неприятный запах. Она догадалась, поморщилась, потрогала сырые холодные ножки ребёнка.
Он замолчал и стал с интересом её разглядывать, что-то лопотать, отчаянно мотая прутиками-ручками перед её носом. Всё это он проделывал, захлёбываясь от непонятного восторга, не сводя с неё голубых, а может быть и карих глаз. При таком свете разве разглядишь цвет глаз. Она прикрыла ручонки краем одеяла и стала разглядывать висевшие возле «буржуйки» тряпки. Перепеленать ребёнка в сухое трудно, но она постарается, она не раз видела, как заворачивали вечно оравшего Лерку. И даже клали его вниз лицом, чтобы он на секунду умолк, сделал бы себе и матери передышку.
Тряпок было много на верёвке, но все они были сырые или грязные. Возле стенки нашлась сухая и чистая пелёнка, и скоро ребёнок был в неё завёрнут. Но и заворачиваться он не желал, поддавал ей руками и ногами прямо в лицо, цеплялся за её нос, за берет на голове и что-то гукал. Майя рассердилась.
— Чуть нос не оторвал. Если каждый будет хвататься за мой нос, что от него останется? Развалился тут мокрым барином и мешает. Сухая пелёнка и еда — вот и всё, что тебе нужно… И ещё — защита. А когда вырастешь, станешь сам мужчиной, тогда сам будешь защищать кого захочешь. Понял? И не мешай, не тыкай мне в глаза своей ногой. Думаешь, это приятно? И сам простудиться можешь. Тогда и не вырастешь, не станешь мужчиной, глупый, лежи и не разматывайся, будь человеком. Я устала от тебя!
— Женя, Женя, Женечка! — слышалось всё настойчивей.
Она обернулась.
— Я зову тебя, а ты всё не откликаешься. Ты не ушла?
— Нет. Я переворачиваю Юрика…
А она, видно, не откликалась на имя «Женя».
— Испугалась я, Женечка. Не ушла ли ты! Ироды совсем меня погубили… Какие им карточки? Если есть минутка, покорми ребёнка. На окне молоко, за шторой. Подними немного штору и сразу увидишь баночку. Кипяток остуди, не обожги ребёнка. Я не могу, на меня… на меня, словно могилой пахнуло…
Старушка умолкла.
Какое белое густое молоко. Может быть, опять ей снится? Она даже потрогала себя рукой, чтобы убедиться, что на этот раз не спит. Она переливает кипяток из стакана на блюдечко и еле удерживается, чтобы не положить приготовленную ложку молока себе в рот. Она даже сжала губы крепко-крепко и прикрыла глаза. Как слепая стала размешивать молоко в остужённом кипятке.
Искушение всё нарастало. Во рту скопилось уже столько слюны, что она не умещалась там, хотела выплеснуться сквозь крепко сжатые губы. Майя помотала головой, проглотила слюну. У неё дрожали руки, когда она, удержавшись и так и не попробовав молока, стала бестолково поить ребёнка с ложки.
Не попробовала она потому, что за себя не ручалась.
Юрик жадно пил и чмокал. Снова открывал рот и пил.
Напившись, он мгновенно уснул.
Майя тайно облизала ложку, вылизала пустой стакан и блюдечко, в котором молоком уже и не пахло. Язык сам высовывался что-нибудь полизать. На банку, вновь поставленную за штору, она старалась не глядеть, но невыносимый, звериный инстинкт то и дело направлял её глаза к окну. К Юриковой банке со сгущённым молоком.
Стемнело за окном. Дома ждут, а идти ей отсюда не хочется. Ноги не идут, всё ждут чего-то. И идти надо через два тёмных, почти чёрных двора, без единой щёлочки света из окон. Обернувшись, она увидела, что старушка качает головой, задумчиво и горестно.
Майя решилась спросить:
— Кто к вам приходил? Воры? Вы закройтесь покрепче и больше никому не открывайте, вода у вас есть, дрова тоже… Значит, я пойду? Вы поправляйтесь, вам болеть нельзя. У вас ребёнок… Карточку не вы потеряли, наоборот, их у вас ищут. Как странно и непонятно… Ой, ключ я забыла отдать. Такой ловкий ключ у вас, что сам скважину находит… К вам прийти ещё?
— Ключ оставь, Женечка, у себя… И приходи к нам обязательно. У нас с Юриком, кроме тебя, никого нет. Я угощу тебя чем-то.
И продолжала горько:
— А ведь Вера никогда никаких дел не имела с дворником и тем мужчиной. Недавно шубку беличью принесла. Почти новёхонькую. Купила, говорит. Постой, зачем я тебе говорю? Ты ещё маленькая, зачем головку забивать тебе людскими пакостями? Женечка, если мама тебя отпустит, приходи. Мы с Юриком теперь ждать тебя станем. Господь тебя вознаградит. Придёшь?
— Уже вознаградил, не знаю, как и живой выпутаться, — бурчала под нос Майя.
— Что ты говоришь, не слышу?
— Приду, говорю. Ну, я побегу, а то комендантский час начнётся…
— Ещё до него долго. Вот темно уже на улице — это хуже.
Майя сильно хлопнула входной дверью. На всякий случай немного постояла и подёргала дверь за ручку: квартира закрылась крепко, надёжно.
Страшно было Майе на безмолвной лестнице. Ещё страшнее было выйти из парадной во двор. Только бы не споткнуться и не сломать себе шею. Только бы не зайти в громадный сугроб, где и застрять можно до утра.
И ещё. Пусть мама не ругает её сегодня, она и так устала. Толя тоже пусть не смотрит из-под своих дармовых ресниц, как на неисправимую бродяжку из французской сказки Перро.
Пробираясь, она озиралась и каждую минуту оглядывалась. Было вокруг черно и пустынно, но она боялась, что сзади набегут на неё дворник и мужчина в бурках. И схватят…
Было безлюдно, беспокойно, крепчал мороз, хотя крепчать ему было уже некуда, и она почувствовала себя одинокой и бесприютной на всём белом свете.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
За спичками. — Картина
Хмурым утром случилась у них ужасная неприятность. У мамы из кармана потерялся полный коробок спичек.
В крохотном окошке ещё не пытался заниматься рассвет. Майя в кровати слышала, как Наталья Васильевна нервно металась по углам комнаты в поисках такой необходимой днём и ночью пропажи — в поисках спичек. Мама обзывала себя коровой, ослицей и даже каким-то насекомым.
— Не спишь, Майка? — спросила она, сев на стул возле Майи. — Без спичек — как без рук! Бывало, включишь электричество и ищи в доме любую пропажу, что днём, что ночью. Господи, шишку набила, все пальцы на руках пообстучала!… И левый бок ушибла!
Майя сочувственно прислушивалась в полудрёме.
— Раньше и батареи в домах были горячие день и ночь. Правда? — поддакнула она, открыв глаза и выбираясь из-под груды наваленных одеял. — Сейчас я тебе помогу!
Теперь они искали вдвоём. И вдвоём соображали, где спички могут находиться, а где — совсем не могут. Они то и дело натыкались друг на друга. Правда, натыкалась Майя, мама успевала разминуться. Если мешкала секунду — они сталкивались, и мама ворчала, а Майя виновато ойкала.
Им стало тепло, они даже запыхались. Когда же сели на диван, чтобы передохнуть, у наспех одетой Майи сразу зуб на зуб перестал попадать, словно сама зима заглянула к ним в комнату.
— Как без спичек плохо! Я даже не подозревала об этом, — уныло тянула Майя. — Мама, у тебя украли, а ты ничего не почувствовала.
— Я не бегемот. И они лежали в жакете. Не могли в жакет залезть, не расстегнув пальто. Господи, надо вязать, норма не ждёт. И Толя скоро придёт со Всеобуча, а в комнате темно и холодно. И так еле-еле с нормой справляюсь, а тут ещё и спички потеряла…
— Как быстро на фронте перчатки рвутся, — вздохнула Майя.
— И рвутся тоже. С каждым днём всё больше требуется их, а шерсть толстая и жёсткая. И в то же время пухлая и непрочная. Тепла и крепости в них нет. Бойцы вовсе не виноваты, им стрелять надо, а не веером в перчатках обмахиваться… Господи, им тяжело, нам в городе тяжело. Когда же весь этот ужас кончится?
— И папа с Валей носят такие же перчатки?
— Я всякий раз вяжу, словно для них. Может, моя перчатка им попадётся когда-нибудь. Всякое же случается в жизни.
Майя оживилась после маминых слов, начала быстро одеваться.
— Давай, мама, я в каждую перчатку буду класть по записке. Я тоже помогаю тебе шерсть разматывать. Как бы ты без меня перемотала её в клубки? Правда. Папе или Вале попадутся, а в них записка от нас. Здорово, правда?
— Им только твои записки и отыскивать. Куда же могли спички пропасть? Всё обыскала.
— Отыщутся, когда мы ослепнем от темноты и замёрзнем. Так всегда бывает в жизни, — мрачно поддакнула Майя. — Есть ещё такой закон…
— И в магазине не купишь. На рынок бегать целый день из-за одних спичек. Как выйти из несуразного положения? Мне вязать надо, у меня карточка рабочая, и мне надо выполнять норму. Зря рабочую карточку сейчас не дают… Сходи к Николаевым: я на прошлой неделе одалживала им стакан керосину. Скажи, что нам надо всего три спички. Пустой коробок, чтобы чиркнуть — найду. Скажи, куплю на барахолке…
— Думаешь, даст?
— Конечно.
Приунывшая было Майя повеселела, накинула своё бобриковое пальто с роскошным воротником из «косого» и отправилась к Николаевым. В коридорах было неуютно и темно, но она ловко нашла дверь комнаты Николаевых.
На её стук никто не отозвался. Дверь комнаты чуть приоткрыта. Девочка потянула ручку и вошла. Здесь полутемно и тихо. Неприятно и унизительно что-нибудь просить у соседей, даже в самых безвыходных положениях. И Майя чувствовала неловкость и скованность.
— Тётя Соня, — громким шёпотом позвала Майя. — Вы дома или вас нет? А я к вам по делу. Меня мама послала…
Это был выход. Она не сама пришла просить, а её мама послала. Она только выполняет поручение.
Неловкость сразу прошла.
В глубине большой комнаты заворчал, топко завыл пружинный матрац. Пётр Андреевич! Она сразу узнала голос, он спросил её:
— Это кто пожаловал? Демуазель Маюми?
Это и лучше, что нет Софьи Константиновны. Уж Пётр Андреевич не станет приставать с расспросами и охать, он-то обязательно даст спичек, хотя бы у самого осталась в коробке одна спичка. Майя так обрадовалась этому, что даже пальто чуть не соскочило у неё с плеч.
— Это я. А это вы? К вам можно? Вы один?
— Вошла уже, а спрашиваешь разрешения. Небось, лежишь целыми днями с утюгом в ногах…
— Что вы! Это Толя лежит после ночных дежурств на своём Всеобуче, ног под собой не чувствует от усталости. А мне лежать некогда. Знаете, сколько у меня дел накопилось? Я даже не хожу, а бегаю… И ещё я стала…
Она хотела похвастать, что стала тимуровкой, но вовремя спохватилась и зажала себе ладошкой рот.
— Как ваше здоровье? Как поживаете? А где ваша Софья Константиновна?
— Рад слышать. Мама всё вяжет? Присядь.
— При коптилке очень темно вязать. У мамы такие стали глаза красные… такие красные…
Она не могла подобрать подходящего слова.
— Словно у удава…
Она пожала плечами. Какое неудачное слово, — наверное, мама, услыхав такое сравнение, обиделась бы на неё.
— Нет, как у плотки, — поправилась она. — Шерсть дают пухлую, но жёсткую. В ней нет ни крепости, ни тепла. Мама говорит, что на фронте жутко рвутся перчатки… А норму увеличили… А кто вяжет носки, тем шерсть ещё и с мусором дают. Мусор жёсткий, его надо выдёргивать…
— Да, невесело. А кто такой плотка?
— Какой плотка?
— Ну, ты сказала, что глаза у мамы твоей, как у плотки.
— Я про удава сказала.
— И про плотку. Кто такой плотка?
— Сказала? — обрадовалась Майя. — Я забыла. А плотка — это же плотва, так называется не по-научному.
— Не по-научному? Вот не знал. Благодарю покорно, теперь уж я точно знаю, что плотка — это не по-научному плотва.
Чувствуя в серьёзном голосе Петра Андреевича какой-то подвох, Майя перевела разговор:
— А какие на фронте герои? Те, которые ничего не боятся?
— Как не боятся! Надо. Слышала такое слово?
— Слышала. Мы в комнате мёрзнем, а они — в окопах. Они все там герои, правда?
— У них землянки сделаны. В землянках — печки.
— Но это же зе-е-мля-я-нки-и. Они из зимней мороженой земли.
— Не сладко, конечно, но война вся состоит из теневых сторон.
— Из чего?
— Я только сейчас понял, что от себя, в отличие от бомб и снарядов, нет укрытия и спасения. Жизнь моя — это упущенные возможности. Оглянулся назад, благо теперь уйма времени… Сколько можно сделать было, создать картин, если бы тогда время не растаскивалось безжалостно на разные пустяки… Что стоишь? Проходи…
Натыкаясь на разную, стоящую не на месте мебель, Майя подошла к самой кровати, на которой лежал Пётр Андреевич.
— Вы болеете. И голос у вас печальный и одинокий… Я немного приоткрою штору, а то мне вашего лица не видно совсем. Мне неприятно разговаривать, если я никого не вижу.
— Ого. Заявка на тонкого психолога. Сделай милость, — сказал Пётр Андреевич.
Чёрная матерчатая штора криво и нехотя поползла наверх. Да и то после того, как Майе пришлось немного повисеть на ней и подрыгать для утяжеления ногой. Некрасиво повисеть и некрасиво подрыгать. Как собаке на заборе. Хорошо, что в комнате темно и верёвка оказалась прочной.
— Упрямая ваша штора, как осёл, — недовольно сказала она, запыхавшись и еле справившись с трудным делом.
— Сил довоенных требует. Ещё Игорёк в начале войны сие соорудил. А ты молодец, переупрямила штору.
При голубоватом свете бледного утра она увидела, что сосед с доброй улыбкой её разглядывает. Ей стало неловко, и она начала излишне пристально разглядывать предметы, окружавшие её. В комнате полный беспорядок, даже стул с табуреткой валяются на полу.
— Беспорядок, а лежу… Осуждаешь? И я себя осуждаю, а лежу… Силы исчезают, словно мне не сорок шесть, а все сто… Да ещё с хвостиком… Стул и табуретку разбить не мог. Куда это годится?
— На дрова? — испугалась Майя. — Такой красивый стул!
Рояль, недосягаемый царственный рояль одиноко и грустно стоял, словно чужой в этой комнате. А если его сожгут?
Пётр Андреевич перехватил её встревоженный взгляд, украдкой брошенный на рояль, понял её страх.
— Никогда! Кончится война, и я сам привезу его тебе. Видишь, какие у него отличные колёсики на ногах. За пять минут примчится к тебе… Ты станешь учиться музыке, а по вечерам будешь играть для меня. Я, старый ворчун, буду тебя слушать, как ты будешь играть прелестные ноктюрны Шопена. Станешь старика баловать?
— А Софья Константиновна?
— Слыхала про восстание рабов? Так мы поднимем ещё ужасней.
Она раздумывала над словами Петра Андреевича, с сомнением смотрела на него.
— Поднимем! Твой будет! — успокоил он её. И печально пошутил: — Вы, демуазель Маюми, зачем пожаловали? Молодые особы, если они не наследницы, стариков не навещают… Правильно говорю?
Майя смутилась.
— Ой, я совсем забыла, — она хлопнула себя ладошкой по губам. — Я же пришла к вам за спичками, мама потеряла, где — не знает. А другого коробка у нас нет. Мне бы всего три штуки… Она так и сказала…
Пётр Андреевич откинул толстое одеяло, посидел немного, потом, окунув ноги в обрезанные короткие валенки, которые мама называла поршнями, пошёл к заваленному всякой всячиной обеденному столу, стоявшему посредине комнаты. То, что он лежал в постели одетым, не поразило её. Она уже навидалась лежащих днём, одетых в тёплое людей. В Петре Андреевиче её другое потрясло: его руки! Не сгибаясь, слепо и топорно шарили они между кастрюлями и тарелками, беспорядочной грудой громоздящимися на столе. Вот что-то, мягко брякнув, свалилось на пол.
Майя быстро подошла, подняла коробок со спичками. Пётр Андреевич облегчённо сказал:
— Возьми весь… И без отдачи. Поняла? У нас ещё есть, а курить я давно бросил…
— А тётя Соня?
— Заладила своё! Уехала, вернее, ушла на Выборгскую сторону. У неё там сестра умерла. Племянница приходила. Сонечка заночевала у них. Теперь пешком трудно добираться, улицу замело, сколько сил требует дорога. Вот и снег пошёл, теперь теплее на улице станет!
Снег за окном валил, а не шёл. Хлопья вертелись в воздухе, как ненормальные, а потом тихо и безмятежно присаживались в сугробы. И просто на тропинки. Дворы уже по уши завалило снегом. Скоро и вход в парадные занесёт. Начнут люди по-эскимосьи лазить в дома. Майя развеселилась:
— Как дома эскимосьи называются?
— Что? Дома? Ах, эскимосьи? Зачем тебе? Вигвамы, кажется.
— У индейцев вигвамы, — поправила Майя.
— Ты и это знаешь? А я знаю одно: у эскимосов и индейцев нет блокады.
И совсем грустно продолжал:
— Скажи мне, всезнайка, отчего мои ноги и мои руки перестали слушать меня? Что им во мне разонравилось? Разве такое может быть у живых людей?
Майя пошевелила своими ногами и пальцами. Они её слушались. Огорчённая за Петра Андреевича, она сказала неуверенно:
— Может быть, они у вас устали?
— У человека, который лежит, разве могут устать ноги?
— Я не знаю. Сейчас все даже и утром усталые…
— То-то.
Художник сел на кровать, кряхтя, стал стаскивать с ноги коричневый шерстяной носок. Майя глянула и замерла в страхе за него. Нога Петра Андреевича распухла, побагровела и вся была в светло-синих и тёмно-багровых пятнах. Ступня блестела. Майя сморщилась, вгляделась: она блестела от множества мелких капель бесцветной липкой жидкости. Словно нога художника была в странной утренней росе.
Майя глядела и не в силах была отвести глаз.
— Что же ты? — с укоризной сказал Пётр Андреевич. — Отвернись. Мне и самому жутко… Дистрофия и цинга — отвратительные и безжалостные дамы. Блокадные. А вместе — ещё и убийцы. Это, дитя моё, лицо блокады. Глупо жаловаться, но предупреждаю: не допускай у себя…
— Как?
— Ходи но улице, не залёживайся… Ты ещё молоденькая, от жизни и болезней не устала. И чтобы мама тебя кормила, тряпок не жалела.
— Она не жалеет.
— А Соня жалеет, бережёт тряпки сыновьям. Говорит, что они станут носить, как с фронта вернутся. А сейчас, брат, и луковица может на ноги поставить… Отвернись! Противно!
— Не противно, а жалко и неприятно, — беспокойно начала Майя. — К примеру, мама за золотое кольцо кусок конины получила. А в куске — ловко спрятанная кость. Вы всё знаете, скажите, почему люди обманывают? Мы кость эту варили три раза в хряповых щах. Правда, ничего себе кость оказалась. Но её же не съешь! И почему одни голодают, а другие — продают. Одни воюют, а другие складами всякими заведуют. Надо поочерёдно. И скажите, почему это одни продают в блокадном городе продукты, а другие — умирают с голоду.
— Соображаешь, если ставишь на разные полюса. Честность и воровство, они всегда на разных полюсах. Вот до войны жили люди, хлеба ели вволю, песни красивые пели, друг к другу ходили в гости. И все хорошо и славно говорили о честности, справедливости. А случилась в стране великая беда, и очутились эти люди по разные стороны баррикады. И плохо стало вовсе не плохим людям.
— Это же несправедливо, — горячилась Майя. — Это же…
— Правильно, не успели построить социализм, а трусы, воры, лодыри сейчас храбро подняли головы, храбро заговорили. Я непонятно говорю?
— Не очень.
— Если бы люди во всём мире жили честно и справедливо, исчезли бы богатые и бедные. Исчезли бы, кроме того, сами войны, когда целые народы уничтожаются взаимно…
— Фашист Гитлер, правда, бесноватый? Что такое бесноватый?
— Среднее между ненормальным и псом бешеным. Много их, оголтелых, на Русь ходило, да возвращались на костылях… Если возвращались. Но горя, слёз, разрухи оставляли после себя на долгие годы.
— Почему немцы поверили Гитлеру, если он бесноватый?
— Горы золотые народу наобещал. Фанатиков и кретинов во все времена — пруд пруди…
— Что такое фанатики?
— Стадо баранов, ввергнутых в иллюзии…
— Разве люди бывают баранами? — удивилась Майя, и вдруг, спохватившись, подскочила на стуле: — Ой, меня же мама ждёт в темноте… наверно, меня ругает! А у вас холодно и «буржуйка» холодная. Я у вас замёрзла. А у вас хлеб выкуплен уже?
— Сонечка вчера в дорогу взяла.
— Вы не ели сегодня и не пили чай. А вчера вы ели? — строго спросила Майя и ужаснулась: — Как же это мы разговариваем про политику, а вы ещё не ели?
— На голодный желудок мысли острее, — сжав губы, едко сказал Пётр Андреевич. — Я лежу, не трачу сил. А у Сони дорога дальняя.
Майя притихла, задумался и Пётр Андреевич.
— Ну, я пойду?
Наталья Васильевна сердилась:
— Тебя за смертью посылать, — непонятно сказала она и хотела поддать Майе, но та ловко увернулась. Она беспечно сказала:
— Мы про политику беседовали. Весь коробок можешь тратить. И без отдачи. Так сказал Пётр Андреевич, а тёти Сони нет дома. Она кого-то ушла хоронить… Мама, я буду чай пить с Петром Андреевичем. Мы с ним о политике не договорили, — со значением сказала она.
Наталья Васильевна не успела возразить, не успела приструнить вконец разболтавшуюся дочку, как та, схватив с блюда кусочек хлеба, отсыпала из чайницы крупных чаинок и убежала. Хозяйничать у Петра Андреевича ей было приятно.
Первым делом она поставила табуретку со стулом, как полагается, чтобы они не путались под ногами. Подумав, нашла в коридоре за занавеской три сухие чурки. Ещё две нашла в тёмной каморке без окна. Чурки она сложила в «буржуйку» крестиком, поверх — тоненькие щепки, отломленные от чурок. Опять подумав, щепки сняла сверху и положила под чурки и добавила к ним бумажек. Всё это подожгла и стала глядеть, как они разгораются. Потом стала прибирать на столе. Сложила кастрюли, прибрала блюдечки к чашкам, на самый край сдвинула грязные банки.
Этот наведённый порядок немного напугал её саму, и Майя присела на кончик стула. Пётр Андреевич некоторое время следил за нею смешливыми глазами, затем встал и начал ей помогать. Он поставил на середину стола две сине-голубые красивые чашки. Этими чашками Софья Константиновна очень дорожила. Пить из них разрешалось несколько раз в году: в дни именин и по другим большим праздникам. Сине-голубые чашки подарила ей на свадьбу щедрая одесская барыня, у которой она служила когда-то горничной.
Стало совсем красиво, и Майе приятно было глядеть на порядок, наведённый собственными руками.
Печурка тоже усердно поглощала сухие чурки и насвистывала свою бесконечную огненную песню. На конфорке закипал малюсенький чайник. За приподнятой маскировочной шторой уныло слезились стёкла. Но снег за окном не казался теперь безнадёжно стылым.
В чашки она положила по шесть чаинок, крупных и мохнатых, как гусеницы. Немного подумала, наклонив голову, и высыпала свои чаинки в чашку Петра Андреевича. В буфете нашла самую мелкую тарелку, положила на неё кусочек хлеба. Он на тарелке выглядел невзрачно. Тогда она переложила его с тарелки на синее блюдечко. Он стал вполне приличным куском. Выглядел даже внушительно.
Очень собой довольная, она отправила в рот прилипшую к тарелке крупную крошку и налила в чашки кипяток.
Пётр Андреевич грел отсыревшие ноги перед открытой дверцей печурки. Он поминутно вытаскивал из опорок то одну, то другую ногу, на короткое время подносил к жарко дышавшей печке.
— Ногам теперь хорошо. Даже жарко. А спина — словно осталась на морозе. А я в двух толстенных свитерах…
Майя взяла вязаную тёти Сонину шаль со стула, набросила её на плечи Петру Андреевичу.
— И со мной такое бывает, — попыталась она подбодрить Петра Андреевича. — Я, к примеру, отогреваю замёрзшие руки, а дрожь у меня появляется в ногах. Или карабкается на спину. Это, мама говорит, выходит из тела холод. А хлеб вам она оставила. Он себе полёживает на блюдечке, прямо зачерствел от тоски.
Пётр Андреевич не поверил.
— Я вчера везде искал…
И умолк. Брови его поползли вверх, стали лохматыми запятыми. Майя смутилась.
— Вы, наверное, не заметили?
И тоже замолчала, — врать всегда неловко.
Они чинно пили чай. Художник отщипывал от своего кусочка крохотные крошки, задумчиво их жевал и удивлённо разглядывал Майю, словно видел её впервые. Словно до этого чаепития он ничего не знал и не слыхал о ней.
Ей стало приятно. Неловкость всё же не прошла.
Отпив несколько глотков заваренного чая, он сказал очень решительно:
— В буфете стоит синяя ваза. В ней — горсть изюма. Сонечка не велит его брать. Я и не беру. Но такую высокую гостью, с которой я чаёвничаю, я не могу не угостить. Несмотря ни на что! Сделай милость, пошарь в вазе, возьми себе изюма…
— Что вы! А тётя Соня?
— Я здесь хозяин. Или мы не поднимем восстание рабов?
— Ну, разве одну всего ягодку, — сдалась с радостью Майя, — я забыла, какой он, изюм, бывает на свете. А две можно ягодки?
Она полезла в синюю вазу. И буфет стоял на месте, и ваза была в буфете на месте. Только изюма не было.
Майя чихнула то ли от пыли, то ли от разочарования. Пётр Андреевич может подумать о ней плохо. Она, мол, съела этот несчастный изюм, запихала его в рот, пока тут лазит по вазе рукой. Она притихла, не зная, что предпринять.
— Ну что, нашла?
Майя засопела. Свой изюм Софья Константиновна, наверно, куда-то переложила. Или с собой взяла на поминки.
— Пусть ваша Софья Константиновна ест свой изюм! А мне некогда. Меня и так мама моя заждалась, — сказала она.
И убежала, громко хлопнув дверью.
Пётр Андреевич мелкими глотками допивал чай и огорчённо глядел вслед Майе, не понимая, отчего она стремительно ушла и какая муха её укусила.
Печурка остывала на глазах. Он встал, ещё как следует не отогревшийся, не сытый, и отошёл от тёплой печки в холодный угол к открытому окну. В уголке на высоких козлиных ножках стоял мольберт с незаконченной картиной. Пётр Андреевич посидел бы возле тёплой печки, согрелся бы как следует, но работа торопила его.
— Теперь, когда я с горем пополам сыт и вами, демуазель, обласкан и согрет, я стану трудиться. Моё время ждать меня не хочет, а дел тут непочатый ещё край, — сказал он себе.
Глаза художника в отёкших, словно стеклянных, веках задумчиво смотрели на безлюдный двор, на густо валивший безразличный снег, а видели великое человеческое счастье. Невиданное до сих пор, безграничное. Художник видел Победу.
Что она придёт, он не сомневается. Сомневается, что доживёт. А он хотел её увидеть. Своими глазами. Он хотел пережить её, перечувствовать всё, что доведётся увидеть и пережить счастливчикам. Уцелевшим и дожившим.
На сером холсте уже угадывалось праздничное настроение. Сочно расцвечено ультрамариновое небо, яркие мазки уже лежат на холсте. Но картина ещё не вобрала в себя всю палитру художника. Не отобразила его видение великого людского счастья, пришедшего на смену нечеловеческому страданию и бедам.
На холсте множество человеческих лиц. Они кричат, смеются, плачут. Радость людей будет большой, но и горе от страданий и потерь тоже безгранично. Потому что почти каждая семья послала на фронт дорогого ей человека. А то и нескольких.
Художник еле стоит на опухших ногах. Но он счастлив. Наконец он поймал нечто, ускользавшее от него всю жизнь. Чувство это светлое, удивительно цельное. Жаль, что это приходит только сейчас. Когда сама жизнь уже уходит, когда слово «счастье» не воспринимается.
Надо ещё продержаться.
Он подумал: хорошо, что Сонечка задерживается, не попрекает его в пустом времяпрепровождении. Благодаря славной Майе он попил чайку, поел хлебушка, согрелся и теперь хорошо поработает.
Он присел на краешек дивана. Слабые, словно ватные ноги плохо держат тело. Несгибающиеся пальцы дрожат. Кисть то и дело выскальзывает из распухших пальцев.
Хорошо, что он догадался привязать кисть к шнурку, а сам шнурок забросить на шею. Славно придумано. Кисть из пальцев выскальзывает, а на пол не падает.
Художник ловит болтающуюся на длинном шнурке кисть, щурит с каждым днём всё хуже видящие глаза и кладёт на холст мазок за мазком. Счастливые глаза его смотрят ясно и живо. Яркие краски в них отражаются.
Иначе и быть не может. Ведь художник пишет Победу!
Как жаль, что Майя не видела его сейчас!
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Отчего я такая? — Квартиру — за муку. — Фрески
Ночью Майя проснулась. Не было воздушного налёта фашистских самолётов. Не было грома артиллерийской канонады. Ничего не было, а она — проснулась.
Она лежала в кромешной тьме, чутко прислушиваясь к звукам, зорко вглядываясь во тьму широко открытыми глазами. Потом, не слыша и не видя ничего подозрительного, она стала успокаиваться. Но спать расхотелось, а вставать ночью, когда все вокруг спят, — глупо.
Майя думала о себе. Что она такое? Трусливая? Нервная и вечно куда-то стремящаяся. А может быть, вовсе ненормальная?
Маленькой она всё вокруг себя очеловечивала. Она ходила осторожно, боялась раздавить букашку, наступить на цветок, сломать зелёную ветку. Она думала, что им, как и ей, так же больно. Ведь они тоже живые. Они бегают, растут, красуются.
Она разговаривала со всеми предметами в комнате. Широкому дивану, занимавшему четверть комнаты и мешавшему ей бегать, она говорила сердито: не можешь, что ли, днём съёживаться, а вечером, когда я на тебя ложусь спать — расширяться? И обеденному столу доставалось: не можешь, что ли, стоять на одной ножке? Видишь, как я стою! О твои толстые, как у бегемота, четыре ноги я всё время спотыкаюсь. Посмотри, как я, даже прыгаю на одной ножке! Видишь?
Если она глядела на какой-нибудь предмет долго-долго, то и он начинал её пристально разглядывать. Однажды она смотрела на стул, который только что её уронил. Стул скрипнул. «Тебе стыдно?» — спросила она. Стул скрипнул посильнее. Майя недоумевала. Почему он сам обижается? Может быть, он считает, что это я его уронила, и он сломал свою ножку.
Она смотрела на него строго и укоризненно. Стул ответил неприязненным взглядом. Кто из них прав? Пушистую кошку Алису Майя недолюбливала. Она постоянно спрашивала: мадам Алиса, почему ты сходила в мои игрушки? А не в свой песок, который скучает в одиночестве, прямо застыл. Мало мне таскать его на пятый этаж, так ещё надо игрушки с мылом мыть. И скрести в каждом углу по очереди.
Алиса щурила прозрачные, цвета бутылочного стекла глаза и отворачивалась. Зрачки её твердели, намагничивались и вытягивались в длину. Она меньше всего заботилась о своей репутации, но она была хитрая. При маме делает вид, что она добрая и простодушная, как веник.
Ещё Майе не нравилось в себе то, что она меняется по нескольку раз в день. То она подвижная и весёлая. То она печальная, и рук поднять ей не хочется. А то вдруг становится злой и разговорчивой.
А её никто не веселил, не обижал, вообще, вокруг ничто не изменялось. Она уставала от своих настроений. Ей хотелось всегда быть одинаковой. Как управлять собой?
Военная зима установилась безжалостная. Что может быть хуже мороза! В домах холодно, скоро станет нечем топить, когда сожгут деревянные дома. И есть будет нечего. Как-то с мамой они бежали по лестнице в бомбоубежище. Вдруг Майя остановилась. Мама недовольно подтолкнула её. Тогда Майя совсем заупрямилась. Она спросила маму:
— Вдруг бомба сегодня на нас свалится?
— Не болтай, быстрей иди!
Но Майя глядела на маму.
— Скажи, ведь такое может быть?
— Всё может быть. Иди же.
И мама сильно дёрнула её руку.
Майя ухватилась за перила двумя руками.
— Если нас разбомбят, зачем с нами пропадать хлебу?
Как взрослые сами не могут об этом догадаться?
Раньше ей нравилась всякая погода. Погода приходила и сразу давала понять, что она — явилась. Но она была не вечная и когда-нибудь убиралась. Всякому было ясно, как одеваться. В холодное время надо лучше есть, побольше топить. Чтобы не заболеть. И ещё: не было бы зимы, разве люди сами догадались бы построить тёплые дома, догадались бы сшить себе столько красивых вещей? Так и сидели бы до скончания света в своих пещерах, продуваемых ветрами.
Почему нынешняя зима особенно жестокая? Может быть, она думает: идёт, мол, война, а люди бестолковые, сами плохо едят, плохо топят. Она ждёт, что с ними будет дальше. Но люди тоже ждут, когда самой зиме придёт конец. И сражаются с ней, и падают.
Что она фашистов морозит — это очень хорошо! Но почему она своих замораживает насмерть? Ведь она русская зима! И почему это земля, которая крутится и вертится без передышки, не поднатужится и не сбросит всех фашистов со своим фюрером в какую-нибудь подземельную дыру.
Ещё у неё появилась одна странность, которая всё больше беспокоит её. Она стала видеть себя со стороны. Словно сбоку неё идут ещё одни Майины глаза и смотрят на неё. И случилось это сразу после того, как она нашла хлебные карточки.
Майя носила древние мамины валенки. Ей неприятно их надевать, они длинные, разношенные и некрасивые. И впереди на самом видном месте круглая дырка, которая проедена молью. И платок некрасивый — она теперь это видит. И карточку в потайном кармане. Три — как бы в тумане, а одна, свёрнутая пополам, видится отчётливо. И мысли свои она видит. Они серого и тёмного цветов. И вздохи, которые тоже не розовые.
Откуда это видение? Разве человек нормальный может видеть себя со стороны?
С кем ей посоветоваться? Кому рассказать про такое?
Мама обычно слушает её вполуха. Толя послушает и начинает обидно крутить пальцем у виска. Маня в толк не возьмёт, о чём идёт разговор.
Найденная карточка её бесконечно радует. При мысли, что не отыскался пока хозяин — она радуется откровенно. Но улыбка её со стороны — тёмно-сиреневая.
Обычно она съедает выкупленный на карточку хлеб, если не надо делиться с кем-нибудь неотложно. Тогда она не решается взять с тарелки свою долю хлеба на иждивенческую карточку. Мама долгим взглядом ощупывает её, удивляется. Она, Майя, ненавидит себя, а берёт.
Невозможно себя понять, ещё трудней понять других людей, особенно тех, которые наперёд всегда знают, что делать нужно, а что — нельзя. Как ей понять непонятное, как отделить хорошее от плохого?
Она с нетерпением ждёт утра. Сегодня она сама пойдёт к Петру Андреевичу и расскажет ему обо всех своих приключениях. Он добрый.
Во сне заворочалась мама. Чёрная пелена тьмы расползается по углам. Неожиданно Майя засыпает.
У Николаевых жарко топилась «буржуйка».
Пётр Андреевич сидел на скамеечке у открытой дверцы печки. Он задумчиво гладил подбородок и глядел на огонь. На пожелание доброго утра он посмотрел на Майю коротко, отстранённо и ничего не ответил. Она почувствовала неладное, и ночные страхи, все её сомнения разом вылетели из головы. Она присмирела, не решаясь ни выйти из комнаты, ни пройти вперёд.
Софья Константиновна стояла у стола и что-то раздражённо размешивала ложкой в крохотной кастрюльке. Глаза у неё были круглые, как у рассерженной курицы. Она говорила длинные фразы и не обратила никакого внимания на оробевшую Майю, застрявшую у двери.
Майя услышала:
— Все люди сейчас делают стоящие дела. Не витай, Пётр, в облаках… Надо пережить, понимаешь? Пе-ре-жить. Надо найти что-нибудь стоящее… Все это понимают, один ты, как с луны свалился.
— Я и переживаю. Не пойму, что тебя не устраивает. Объясни мне свою мысль. И потом, я очень спешу…
— Вот-вот! Ну, кому нужна твоя картина? После войны в каждой семье и так будет праздник. И без твоей картины. Сейчас любой ценой выжить надо!
— О чём ты, Сонечка? Грабить идти? Сейчас всем трудно, что с этим поделаешь, я художник, что я могу предпринять? Я могу рисовать…
— Глупо, Пётр, ведёшь себя. Буквально. Так и впрямь не доживём. А есть люди, которые имеют лишнюю муку. Да, ты не ослышался. Вон Подстаканников за муку купил у Черпакова двухкомнатную квартиру. Правда, на пятом этаже. Но с балконом. А мы с тобой всю жизнь сидим в коммуналке. Подстаканников и сам сыт по уши, и жена золотой браслет на чёрном рынке купила. Не смотри, что косо повязана.
— Откуда ты всё знаешь? — насторожился Пётр Андреевич.
— Знаю. Дежурная рассказывала, она рядом с ними живёт.
Майя вытянула шею, заволновалась. На неё по-прежнему не обращали внимания. Ободрённая этим немаловажным обстоятельством, Майя уселась на краешек табурета, стоявшего у двери.
Глаза тёти Сони ещё округлились, хотя округляться им было некуда.
— Как немец захватил пригород, Подстаканников и побежал с семьёй в город… Много тогда убегало с пригородов… Он, не будь дурак, остановился у родственников и живо сориентировался, как жить. На базу устроился грузчиком и, представь, в карманах штанов наносил муки… Теперь понимаешь? Вот мужик, вот добытчик для семьи! Ухитриться нашить потайные карманы в брюках!
— Он вор, а ты им восхищаешься. Ты ли это, Сонечка?
— Ты и меня обрекаешь, интеллигент, тряпичная душа.
— Да, я русский интеллигент. Что же в этом позорного?
Майя не могла больше смотреть на Софью Константиновну. Та передёрнула плечами в ответ, платок с её плеч свалился на пол. В другое время Майя подбежала бы и платок с пола подняла. Но сейчас она с места не сдвинулась, только съёжилась.
Подняв платок, Софья Константиновна продолжала разговор:
— Ничего ты не понял. Времена меняются, надо к ним приспосабливаться — иначе пропадёшь. Так и останешься идеалистом. Сейчас надо не умереть с голода. Надо перенести эту ужасную бесконечную зиму… Сидишь и ждёшь, что я тебе сварю. А из чего варить? Я не могу продавать вещи, ты их мне немного нажил. И ты бездарен, Пётр, только в Одессе когда-то казался мне богом. Интеллигент ты, ни к чему не приспособленный!
Пётр Андреевич кротким взглядом смотрел на жену, затем произнёс гордо:
— Да, интеллигент. И воровать не приучен!
Он перестал гладить подбородок, и руки, положенные на колени, мелко вздрагивали. Он и сам видел, что в последние дни всё в нём раздражало жену. И его опухшие ноги, и мольберт с неоконченной картиной, так физически ему трудно дающейся. Он всё делал, чтобы не раздражать её. Нарочито бодрой походкой расхаживал на непослушных ногах, насвистывал бодрый марш, а распухшим дёснам было больно от резкого прикосновения языка. Он всё видел. И терпел. Он теперь и есть старается медленно, чтобы не раздражать её жадностью и неукротимым аппетитом.
— Дрова кончатся, и я первым делом картину сожгу, — донеслась до него беспощадная угроза. — Ты жизнь испортил. Буквально. Я поняла, что поезд мой ушёл давно. Раньше я ещё надеялась…
Пётр Андреевич, усмехнувшись, горько сказал:
— Надеялась стать женой знаменитого художника. Я честно работал, зарабатывал тебе и детям на жизнь, а для себя… что я сделал для себя?… — Он махнул рукой. — На себя не оставалось времени. Я не рассчитал свои силы, а твоё сердце закрылось на амбарный замок.
— Какие глупости! Амбарными замками закрываются деревенские амбары. Ну, Пётр…
— А сердца любимых закрываются изящными французскими?
Он опять усмехнулся.
— Я об одном жалею, что не мог пробудить в тебе чувство прекрасного. И увлечённость художника — это не всегда средство для прокормления. К сожалению. Но это смысл существования художника. Вечная человеческая трагедия, — оценивать и жалеть о том, что уже невозможно исправить. Всё в мире имеет постоянную, устойчивую цену. Но однажды это привычное сметается и появляется другая мера добру и злу…
— Спустись на землю, — перебила его Софья Константиновна. — Война и блокада.
— А добро всегда по земле ходило в обнимку со злом. Но беда должна людей сближать, а не разъединять… Потерявшим веру в добро жить труднее во много раз.
— О чём ты? Спустись на землю, повторяю. Я не могу видеть сытые рожи в умирающем городе. Откуда эти рожи? За счёт кого? Литеры, всякие доппайки. Почему при социализме такая социальная несправедливость?
— Столько вопросов, а я и на один не могу ответить. И социализм мы ещё не построили. Успокойся, родная, переживём. Я вот боюсь дойти до самого крайнего… пощади…
Он пошёл к двери, задел ногой в опорке пустое ведро, растерянно остановился. Ведро гулко задребезжало — это его остановило, он вернулся и сел на прежнее место.
«Буржуйка» пялила на него жаркие глаза. Майе захотелось спрятаться или исчезнуть, не сходя с места.
— Твоё равнодушие буквально меня поражает.
— Подстаканников не равнодушен. Он молодец.
— Не иронизируй. Ты прекрасно понимаешь, о чём я говорю. И не такая серая… Я знаю французский, служила в лучших домах Одессы. Со мной считались, как с камеристкой…
— Прости, Сонечка. Я сорвался, я не хотел тебя обидеть. Об одном я жалею. Не сумел за нашу с тобой жизнь свозить тебя в древний Суздаль, в Новгород, во Владимир. Сколько в них чудес. На всём — притяжение старины. Тайна в самих названиях: Ярославово дворище, Перынь, Синичья гора. Древняя русская история. Её вдыхаешь, как воздух. Ты бы, Сонечка, не осталась равнодушной. В Новгороде сейчас немцы. Как там Спас на Ковалёве? А изумительная древняя русская мозаика. Она же не имеет себе равной во всём мире. Как она уцелеет? А фрески Феофана Грека? Как они выстоят — гордость русской земли? Успели их спрятать или вывезти? Эти мысли мне не дают покоя…
— Очнись ты. Есть сегодня нечего, а ты о фресках…
Софья Константиновна с досадой бросила кастрюлю, стала переставлять пустые тарелки.
Пётр Андреевич, нежно улыбаясь, говорил:
— А какая тишина в древних русских городах. На городской площади ранним утром можно услышать, как звенят полевые жаворонки. Услышишь это, и счастьем наполнится жизнь на долгие годы…
— Очнись, Пётр. Вон Подстаканников плюёт и на твоих жаворонков, и на все в мире фрески. Подумать, какой умный и хитрый, живо приспособился в городе и квартиру хапнул за ворованную муку. Подумать только — за сворованную у блокадников муку!
— Не поймали с поличным. Ладно, забудь на минутку о Подстаканникове. Подумай, родная, как будет славно. Кончится война, и я увезу тебя отсюда, хватит писать мне лозунги и рисовать никому не нужные в конечном счёте глупые плакаты. А комнаты оставим сыновьям…
— Ну, блаженный! Ты хоть видишь, что нам сегодня нечего есть? Хлеб мы съели уже на завтра, продукты по карточкам не дают, доходяги стали… до точки, говорю, дошли. Дальше что? Что за рабская покорность у тебя?
— Всё вижу, родная. Надо потерпеть. И другим тяжело, как и нам. А есть я сегодня совсем не хочу. Можно завтра поменять на рынке моё пальто, например. Или серый костюм. Не жалей, родная! Всем тяжело.
— И Подстаканниковым тяжело? И тому, кто серый твой костюм купит — тоже тяжело? Рехнулся совсем или за дуру меня принимаешь? Болтаться на старости лет по монастырям, умиляться птичкам-жаворонкам… Господи, вот наказал Бог…
Майя слезла с табурета, боясь зацепить неуклюжими валенками ведро, вышла, тихо прикрыла за собой дверь.
Тайна, волновавшая и терзавшая её совесть всю ночь, исчезла непонятно куда. Но настроение испортилось. Она была на стороне умного и доброго Петра Андреевича. В словах Софьи Константиновны тоже звучала жестокая убеждающая правда. Но эту правду хотелось побить палкой. Опять она запуталась. Разве на свете бывают две правды?
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Два взгляда. — Человек на ящике
Воровать в блокадном городе.
Ворованное отдавать другому вору.
Ставить воров в пример!
В этом Майе не разобраться, как ни думай. Хоть тресни.
Эмилия Христофоровна! Она поможет ей понять непонятное, не желавшее укладываться в голове.
Пожилая женщина встретила девочку приветливой улыбкой, внимательнее поглядев, спросила, отчего она такая нахмуренная и сама на себя не похожая. Со вздохом, добавила:
— Я вот расхаживаюсь помаленьку. Мне нельзя залёживаться, долежаться можно до чего угодно. Как без меня Арвид? Надо, надо бодриться… нельзя поддаваться болезням, а то полезут, как из лукошка. Ты согласна?
— Я всегда с вами согласна. Как это у вас получается?!
— Спасибо. Вот не думала об этом. А что хмурая-то?
— У Николаевых была, — коротко ответила Майя.
— Тебя обидели?
— Они меня даже не заметили. Я посидела у порога и ушла. Знаете, Пётр Андреевич картину пишет. Он больной, голодный, а рисует. Он говорит: картина — венец жизни. Что такое венец жизни?
— Лебединая песня.
— Что?
— Она, как глоток воздуха… последнего… для задыхающегося. Только настоящий мастер способен в этом страшном мраке представлять победу над фашизмом. Такую далёкую!
— Что вы, — испугалась Майя. — Война кончится весной. Мой папа говорил… И другие…
— Всё обернулось не так.
— Я вас не понимаю. Что обернулось?
— Всеобщее затмение. Эшелоны с хлебом фашистам отправляли. Разве это дело? Ой, что это я…
Эмилия Христофоровна нервно зажала рот рукой, опасливо поглядела на дверь.
— Забудь, сразу забудь! Это не для твоих ушей. Я сказала глупость… поняла?
— Не поняла, — жалобно сказала Майя. — Я всех перестала понимать. А Софья Константиновна хочет, чтобы Пётр Андреевич не рисовал, а воровал…
Эмилия Христофоровна укоризненно покачала головой:
— Ты в своём уме?
— В своём, — кивнула Майя.
— Тогда почему ты так говоришь? Ты сама слышала?
— Сама. Устроился бы на мучную базу, как Подстаканников с заднего двора… И носил бы в карманах муку. Горстями. У него к брюкам с изнанки пришит потайной карман для муки. Ну, он в него и кладёт. А из муки нам пекут хлеб. Понимаете?
— Ворует?
— Ну да, — обрадовалась Майя.
— Чему радуешься? — снова укорила Эмилия Христофоровна.
Она заходила по комнате, еле волоча правую ногу, но голову и спину всё равно старалась держать прямо, хотя ей это плохо удавалось.
— Я не радуюсь, что он ворует, — смутилась Майя. — Вы не поняли. Я радуюсь, что вы поняли, что Подстаканников — вор. Он купил у Черпакова квартиру на пятом этаже в третьем флигеле. В той квартире уже все умерли, а на фронте нет никого. Скажите, почему воров не посадят в тюрьму? А тётя Соня хвалит Подстаканникова, говорит, что уж он, наверняка, от голода не умрёт. А его жена, которая косо повязана, купила себе на чёрном рынке браслет.
— Хвалить подлых воров?
— А Петра Андреевича назвала бездарностью. Сказала, что заботится о нём… не хочет, чтобы он совсем обессилел.
— Хвалить подлого и ругать честного. Даже для Сони это уж слишком…
— Она хочет, чтобы он работал грузчиком на мучной базе, как Подстаканников.
— Он не может. У него язва… его и на фронт по этой причине не взяли. Тяжести нельзя поднимать совсем… а заботу ей надо начинать с другой стороны, не жадничать… мужчине много еды требуется…
— С какой стороны? — недоумевает Майя.
— Не жалеть купить луковицу. Пётр Андреевич художник божьей милостью. Он сомневается, что до победы доживёт. А он своими глазами хочет увидеть её, успеть наглядеться, порадоваться ей. Он хочет кистью своей выговориться…
— Надо же. Он и себя рисует. Он говорит, если жив останусь, заменю на знакомого, не вернувшегося с войны. Пусть погибший будет среди живых… он помог победить, жизнь отдал. Так бывает?
Эмилия Христофоровна задумалась, потом сказала, поморщившись:
— Соня всегда была эгоисткой. Для любящего — весь мир в одном любимом. Боюсь, она недостойна такого человека. Она горничной служила в одном известном одесском доме. К её хозяевам в гости ходил молодой талантливый художник. Ей льстило, что её заметил, полюбил такой человек. Видишь, как жизнь противоречива и сложна. Боюсь, что тебе по малому твоему возрасту не надо бы говорить об этом. Но сейчас и на детские души свалились взрослые невзгоды. Боюсь, ты меня не поняла, да и хорошо, если не поняла. Рано. Здесь и взрослые…

— Она его не любит и не жалеет, — убежденно отчеканила Майя.
— Вероятно, и любит, и жалеет. В том-то и беда!
— Я и вас не понимаю, — помрачнела Майя.
Она сразу засобиралась уходить, но задержалась у двери и спросила:
— А почему немцы стали фашистами?
— И умная голова запутается в твоих вопросах. Видишь ли, немцы — умная и талантливая нация. Они…
— Умная и талантливая? — невежливо перебила женщину Майя. — Что вы говорите! Зачем они на нас войной пошли? Что, им у себя делать нечего?
— Эта нация дала миру гениальных поэтов, музыкантов и мыслителей. Гёте, Гейне, Бах, Бетховен. Она дала миру Маркса и Энгельса.
— Фридьку назвали в честь Фридриха Энгельса. Они в один день родились. Вот повезло Фридьке.
— Ну вот. Немец Тельман в Германии борется с фашизмом. Он коммунист. И мой Янис коммунистом был…
— И мой папа коммунист. Он добровольцем пошёл на фронт.
— Маркс с Энгельсом жили в прошлом веке. Я уверена, живи они сейчас, Германию до фашизма не допустили бы. Хотя полной уверенности у меня всё-таки нет. Все почти европейские войны начинались немцами… Янис говорил, что у них в крови милитаризм…
Майя насторожилась, вытянула шею.
— Что в крови?
Она была озадачена. Она знала, что в крови есть много вредных свойств: лень, обжорство, воровство, пьянство. Про милитаризм она слышала впервые.
— Сама не знаю толком, — задумалась Эмилия Христофоровна. — Янис всё на свете знал. Он кончал университет, он бы сейчас и нам с тобой всё разъяснил. Наберись немного терпения. Вот придёт Арвид, он тоже много знает. Договорились? Бедный сынок. Тяжко им на Путиловском, рабочие и инженеры днюют там и ночуют. И до передовой — подать рукой. А он ходит проведать меня. Туда и обратно пешком идти. Это вместо отдыха-то после тяжелейшей ненормированной смены!
Каждый приход сына для неё — великая радость. И страх. Она не слепая, видит, как он меняется на глазах, похудел, сынок ненаглядный. Она ему не в силах помочь, вот горе-то! Только просит, чтобы не ходил, берёг бы свои силы. И не отрывал от своего пайка крохи.
А нет его — она ждёт не дождётся, тревожится, не случилось ли с ним беды. И места себе не находит. Дождавшись, а затем проводив его, она волнуется, прикидывает, где он в дороге, в каком месте находится в эти минуты. И с ужасом ожидает воя сирены.
Со своего, скудного для молодого мужчины, пайка он ухитряется приносить ей то талон крупяной, то горстку странных шрот с не менее странным сиропом. А в прошлый раз он положил перед ней кусочек настоящего сахара.
Она не сахаром — приходом его счастливая, целовала русую голову сына, заглядывала в его весёлые измученные глаза. А он гладил её по голове, как маленькую, и настойчиво просил о нём не тревожиться.
И сегодня он должен прийти. Ему надо помыться с мылом, переменить бельё. Не забыть бы дать ему чистое полотенце с собой.
— Ну, расходились мои ноженьки… Вот и славно. Сейчас стану топить, и запахнет в комнате жильём. Ты не сходишь мне за водой? А как придёт мой Арвид, помоется, переоденется, и мы все вместе сядем пить чай. — Немного лукаво поглядела на Майю и добавила: — С сахаром…
— У вас сахар есть? Настоящий? — удивилась Майя.
— Конечно, есть. Арвид принёс. Я сахарок расколю щипчиками на три равные части. Ты, голубушка, сходи за водичкой.
Майя пришла в замешательство. У неё самой есть срочное и неотложное дело — идти в восемнадцатую квартиру. Она раздумывала. Тут в голову ворвалась очень умная мысль: если придёт Арвид Янович, он может подсказать, как поступать в дальнейшем с найденной карточкой. Маня говорила, что в восемнадцатой квартире жильцов не видно с самого начала войны. Может быть, они давно эвакуировались. Арвид Янович посоветует, как ей быть с дворником Софронычем. И с подвалом, где водятся крысы, фонарики и патроны от ракетницы.
Она облегчённо вздохнула, взяла бидон для воды и отправилась на Курляндскую улицу.
На лестнице возле четвёртого этажа в её голову ворвалась ещё одна мысль. Ехидная. А не посадят ли её вместе с Софронычем в тюрьму за то, что она столько дней выкупает хлебный паёк не по своей карточке? Мама с горя заболеет, перестанет вязать для фронта. Как тогда бойцы станут стрелять на морозе голыми руками? И вообще, всё вокруг становится хуже и хуже. Толя целыми днями пропадает на Всеобуче. Теперь они не караулят пустые склады, а разбирают деревянные дома на дрова. Где-то на улице Розенштейна. И Фридька хорош. Не подаёт вестей. Наверное, с её фонариком удрал на фронт. Нужен он там, хвастун несчастный!
Эмилия Христофоровна некоторое время находилась в мучительном раздумье. Потом осуждающе покачав головой, она как бы подытожила свои невесёлые мысли и заторопилась. Быстро собралась, и даже в комнату соседки постучать забыла.
— Голубушка Наталья Васильевна! Сегодня должен прийти сынок, я хватилась, а хлеб у меня на карточке не выкуплен, правда, хлеб уже завтрашний. Но сынок придёт… Глупо и преступно просить хлеб в долг, но у меня создалось невыносимое положение. А в обеспечение своего долга я оставлю вам свою хлебную карточку. Надеюсь, вы поверите? За последние дни память у меня ослабела, иногда кажется, что её начисто отшибло. Я хватилась, а оказывается — не выкуплен, и в доме ни крошки.
— Ах, как неприятно, — поморщилась Майина мама. — Я утром отдала Толе. Он сейчас на очень тяжёлой работе. Семнадцатилетние мальчишки деревянные дома на дрова ломают. Только кому дрова дают, непонятно. Но у меня есть дурандовая лепёшка, думаю, вам её хватит. А за вашим хлебом моя Майя сходит, если, конечно, ей доверите. А свою карточку спрячьте в карман, а то потеряете в тёмном коридоре. Куда она запропала опять? Прямо горе!…
— Куда запропала карточка?
— Какая карточка? Я о Майе говорю. Горе с таким неслухом!
— Она ушла мне за водичкой. Не сердитесь на меня, голубушка Наталья Васильевна. Арвид придёт домой помыться, переодеться, а воды в доме нет. А лепёшку вашу я не могу взять, тем более, ваш мальчик на такой тяжёлой работе. Придёт, и поесть нечего. Я сама добреду до булочной. Потихоньку. Только бы там ещё был хлеб. Уже вечер, вдруг он кончился, голубушка?
— Может, мне сходить?
— Что вы! Премного благодарна вам. Скольких вы бойцов обвязываете. Как жить с вами рядом легко. Я дойду. Дверь я не буду запирать, вдруг Арвид без меня придёт. Может быть, он ключ потерял или забыл. Время военное, зимнее, всякое может приключиться. У него столько забот.
Уже сильно смеркалось, когда, выкупив крохотный кусок хлеба на иждивенческую карточку, Эмилия Христофоровна возвращалась домой.
Зимнее время — неожиданное. Днём оно быстрое, мгновенное. Ночь — целая вечность, а вечера словно и нет. В зимнем городе вечер — это та же беспросветная ночь.
Вот и сейчас. Недавно было ещё светло, а тёмное одеяло мрака уже наползает.
Эмилия Христофоровна устала до крайности, еле бредёт по снегу, а сердце в груди неистово колотится от радости. Сейчас она увидит сыночка. Он, конечно, уже дома. Он помылся и ждёт её с чаем. Как раньше ждал её с работы. Какая же она стала беспамятная. Ни воды, ни хлеба в доме не оказалось.
Тропинка, по которой она бредёт, узкая. Приходится то и дело уступать дорогу то женщине с ребёнком, то ещё более старому и слабому человеку, чем она сама. Один раз ей пришлось забраться на обочину тропинки, где особенно глубокий рыхлый снег. Она неудобно и неловко стояла, а мимо неё на фанерном листе везли умершего. Он был завёрнут в синее одеяло с белыми узкими полосками. Почему-то эти полоски бросились ей в глаза, и она не отрывала от них глаз. Она поняла, что погибший — мужчина. Измождённая серая женщина, замотанная до глаз, тяжко дыша, везла нарядную жёлтую фанеру с великим трудом, поминутно останавливаясь то ли от слабости, то ли от горя. Фанерка с умершим неуклюже застревала на узкой тропинке то одним углом, то другим. Женщина тогда дёргала её двумя руками, обречённо глядела себе под ноги.
Эмилия Христофоровна перекрестилась и побрела дальше к своему дому.
У ворот на высоком ящике со смёрзшимся песком полусидел, скорее даже полулежал, мужчина. В очень неудобной позе. Его голова была слегка повёрнута к стене дома, а рука свешивалась с ящика.
Женщина очень спешила. И так не по своей воле пришлось останавливаться в недлинном пути до булочной и обратно. Но её толкнула жалость. Она остановилась возле мужчины, на секунду задержала на нём взгляд, потрогала бессильно опущенную руку в брезентовой варежке.
— Вставай, голубчик, — шёпотом проговорила она. — Нельзя на морозе таком лежать, замёрзнуть недолго, вставай, пересиль себя, голубчик. Иди с богом домой. Ждут тебя дома. Вставай же, открой глаза…
Стало темно. Она потёрла рукой в варежке свои слезящиеся на сильном морозе глаза. Под аркой уже совсем черно, она забыла дома очки и даже не проверила, как ей отрезали талон на карточке.
Она ещё поговорила, потормошила бесчувственного мужчину.
Был он в шинели без погон. Шапку и обувь она не разглядела, да и вглядываться не было времени. Дома ждал её сынок, а она и без того задержалась непростительно.
Словно в ответ на её уговоры мужчина шевельнулся, что-то простонал. Надо было его растолкать, помочь ему подняться с ящика, но чем она могла ему помочь? Дунь ветер — и она сама свалится рядом с бедолагой. Он, видно, в голодном обмороке, посидит, соберётся с силами и встанет, или кто посильней ему поможет. Она оглянулась с надеждой. Но никого не было близко. А ей не под силу. Но она сама бы на коленках поползла к своему Арвиду, если бы вдруг узнала, что он сидит у чьих-нибудь чужих ворот.
Она беспокойно думала о мужчине и несколько раз оглянулась, но было совсем уже темно, и она ничего уже не могла увидеть.
Она шла и ругала себя. Зачем было идти в булочную, обошлась бы лепёшкой. Вечно её подводит наиглупейшее интеллигентское самокопание, боязнь лишний раз причинить кому-нибудь беспокойство.
Дома её ждёт не дождётся единственная радость — сынок, а она непростительно задерживается. Вдруг у него мало времени и, не дождавшись её, он ушёл на свой завод.
В комнате сына не было. Посреди комнаты стоял бидон с водой, принесённый Майей. Самой девочки тоже не было.
А в её душу властно закрадывалось непонятное сомнение и беспокойство. Измученная и ещё больше отяжелевшая от этого, она стала прислушиваться к каждому звуку, который доносился снаружи. Немного посидев на стуле, она стала топить печурку. Вскипела вода для мытья и чайник для чая. Она не стала закрывать крышкой перегревшуюся воду, чайник же укутала махровым полотенцем, чтобы он не остыл до прихода Арвида. Всё так же размеренно, заставляя себя что-то делать, чтобы не остаться наедине с беспокойством, она мелко наколола щипчиками сахар, красиво разложила на розетку для варенья. Подумав, отложила пару кусочков для Майи.
Она снова присела и некоторое время сидела без дела в темноте, чутко слушая тишину. Даже выключила репродуктор и сняла с головы толстую вязаную шапочку. Белые языки бликов бросала через открытую дверцу протапливающаяся «буржуйка». Скоро стало совсем темно, и она дрожащими руками зажгла коптилку. Ей показалось, что та нехорошо подмаргивает. А может быть, и это ей только казалось. Пламя коптилки клонилось то в одну, то в другую сторону, вытягивалось вверх и нагибалось вниз. С портрета хмурился Янис.
Она взглянула ещё на портрет мужа и вдруг осязаемое, как надетое на потное тело жёсткое бельё, её охватило сильнейшее волнение.
Она ясно поняла, что Арвид не придёт. Странным образом привиделся мужчина на фанерном ящике — он её звал. Она успокаивала себя, что это наваждение: на Арвиде надето гражданское пальто с цигейковым воротником и перчатки, а на этом мужчине — военная шинель и грубые брезентовые рукавицы. Арвиду просто не дали увольнения, вот он и не смог прийти. Кроме того, работа у них срочная для фронта. Да мало ли, что может задержать сына на военном заводе в военное время.
Мужчину на ящике тоже ждут дома. Мать на коленях поползла бы к нему, если бы знала, что он обессиленный сидит на морозе у чужих ворот.
Успокаивая себя, обзывая себя паникёршей, она накрыла газетой собранный для чая стол и решила немного прилечь, чтобы ещё получше всё обдумать. И неожиданно забылась в чуткой тревожной дрёме.
Вдруг привстав, она стала прислушиваться.
В коридоре определённо слышались шаги. В дверь постучали. Она всполошилась.
— Пришёл, сынок! Я же знала, что хоть поздно, а всё равно он придёт, если обещал. Погоди минутку, сейчас я отопру дверь…
Но тут же вспомнила, что дверь не закрыта на ключ. И он никогда не стучит…
С непонятной боязнью спросила:
— Сынок, дверь же не заперта, не стучи…
А сердце колотилось от радости, секундное сомнение исчезло, и силы в неё вливались вместе с радостью.
На пороге стояли две незнакомые девушки в шинелях с повязками сандружинниц. Сзади виднелись лица Натальи Васильевны и Анастасии Савиной.
Эмилия Христофоровна, удивлённо и разочарованно глядя на девушек, спросила:
— Вы ко мне? Извините, я здорова и… мне очень некогда, жду сына.
Они, она это видела отчётливо, испуганно переглянулись. Лица Натальи Васильевны и Савиной куда-то исчезли. Эмилия Христофоровна пожала плечами, ждала, когда они уйдут.
Девушка повыше спросила:
— Вы Эмилия Христофоровна?
— Я. Чем… чем обязана?
— Арвид Янович ваш сын?
— Почему вы спрашиваете? Он военный инженер, он служит на заводе. Он не пришёл, но он… он обязательно завтра… его не отпустили дела… Он слово держит… он обязательно…
Она говорила, а тревога уже топила сознание, путала речь.
Девушки снова переглянулись.
Она, словно боясь чего-то, продолжала торопливо:
— Вы знаете, он на Путиловском. Сами знаете, какой важный завод. Он обещал, но, видно, не смог. У них фронт. Он не смог, конечно, не смог. Я завтра буду…
Она понимала, что говорит никому не нужные слова, но не могла остановиться. Сердце трепетало, дыхание перехватывала тревога.
Она не выдержала, шёпотом спросила:
— Что вы пришли? Что с ним?
— Послушайте: Арвид Янович умер. У ваших ворот. На ящике. Наши его в морг повезли и там… по документам узнали ваш адрес. В морг на Лермонтовский, — заговорила молчавшая до этого девушка, тревожно глядя на замершую перед ней женщину. — Вы меня понимаете? Вот его документы. Вот его пропуск. Посмотрите его фотографию. Это ваш сын? Мы не ошиблись? На работу мы сами сообщим…
Голос девушки звучал глуше, словно отдалялся или уши Эмилии Христофоровны закладывало ватой. Слой за слоем.
Она потрясённо шептала:
— Так это мой сын был… был… на ящике? Мой Арвид был… там?
Она схватилась за горло дрожащей рукой:
— Этого не может быть. Я прошла мимо умиравшего сына? Я не могла узнать? Этого не может быть, не может быть, слышите?! Мы все очерствели в этом блокадном мраке… но… но не до такой же степени! Нет, вы ошиблись, вы по злобе! Это не он, не он! Он завтра…
Мука была невыносима. Перед её глазами меркло. Как во вспышке яркой молнии и отчётливо, и ясно, до мельчайших подробностей она увидела лежащего на ящике сына.
И потеряла сознание.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Горе неизбывное. — Блокадный морг
За окном едва забрезжил рассвет, а Эмилия Христофоровна уже была на ногах. Не оправясь после страшной бессонной ночи, она, бестолково суетясь, собиралась в морг. Надо отыскать сына, наглядеться на него в последний раз и по-христиански с ним попрощаться, навсегда.
Тихая, опустошённая, с запавшими глазами, с ещё более ввалившимися щеками, она посидела на кровати, чтобы унять сильно колотившееся сердце, крепко прижимая к груди собранный узелок. В узелке лежала свёрнутая кружевная детская простынка и синее пуховое одеяльце.
Майя со страхом уставилась на женщину, как только вошла — так изменилась и постарела за ночь Эмилия Христофоровна.
— Это, голубушка Наталья Васильевна, я собрала, чтобы его личико не царапала мёрзлая колючая земля, — виновато объясняла она. — Зимой земля такая жестокая…
Та укоризненно покачала головой, посоветовала взять байковое одеяло, вместо этих, не нужных теперь вещей.
— Я не прощу себе, что вас одну оставила, — виновато сказала Наталья Васильевна.
— Не беспокойтесь, голубушка моя, ненужным порицанием. Меня никто и ничто утешить не может. И забыться не могу, моя боль с новой силой ко мне возвращается… Потому что деться ей некуда. Вы правы, я ещё и байковое одеяло возьму. Есть у меня новенькое, чисто шерстяное.
В комнате тихо. Жёстко и чётко стучит метроном. В оконную щель надуло снежный бугорок со странными очертаниями. Заинтересованная Майя пристально вглядывается в него, пытается определить, на что может быть похож этот забавный домашний сугробчик.
Эмилия Христофоровна нерешительно топталась у комода.
— Есть у меня образок Божьей матери. Ещё моей мамы! — проговорила она с сомнением. — Вложить образок сыночку в руку? Ах, что это я говорю? Он же коммунист. И Янис меня бы не одобрил…
— Пошли, дорогая, уже рассвело, — мягко и настойчиво попросила Наталья Васильевна. — Пусть останется с вами образок.
— Голубушка, он жить хотел. Он был убеждён, что выстоит, всё выдержит. Он и меня уговаривал, когда я совсем падала духом. Мистика? Не-ет. Они оба, моих дорогих, считали: чем больше интеллигентности в человеке, тем больше у него жизненной активности. Духовной и физической. Они забыли, мои дорогие, что ещё нужны силы. Обыкновенные человеческие силы, которых может и не хватить. Блокада беспощадна и рубит под корень самых лучших, самых горячих и неприспособленных к подлости и грубому быту. Ах, о чём я? Может, я и ошибаюсь, но в малом. Всё поздно, всё теперь слишком поздно. Ничто их мне не вернёт. Теперь мне отыскать его… только бы отыскать сыночка!
По проспекту она шла впереди них.
Майя удивлялась. Запыхавшаяся, она еле поспевала за Эмилией Христофоровной. Словно само горе несло мать на крыльях к сыну.
Майе показалось, что из щелей и дыр разбитых домов на проспект повылезало неизбывное человеческое горе. Она спиной чувствовала беспощадные взгляды. Странные мысли затолкались в Майиной голове. Зачем люди умирают? И она умрёт? Странно, все останутся жить, а она должна умереть…
Но она не хочет верить в собственную смерть.
Ледяной ветер толкал их туда-сюда. Подняв свои воротники, закрываясь от него варежками, они дошли до угла Лермонтовского проспекта и в нерешительности замедлили шаги. Они не знали, в какую сторону им идти дальше. Навстречу шла пожилая женщина в ватных брюках, серой стёганке и лохматой мужской шапке. Она остановилась.
— Что ищете? Ах, морг. Дождаться не можете, когда вас отвезут, сами торопитесь? — недобро пошутила она, разглядывая их слезящимися от ветра глазами. Увидав смятенное, застывшее лицо Эмилии Христофоровны, вдруг осеклась, сразу заторопилась, скороговоркой произнесла:
— По этой стороне и до забора. Там снова направо, не доходя до Обводного… Торопитесь! Там уже похоронная команда в машину грузит…
— Что грузит? — не удержалась Майя.
Наталья Васильевна толкнула её в спину.
Блокадный морг располагался под открытым небом.
В огороженном зелёным забором пространстве бойцы похоронной команды складывают в машину с высокими бортами страшный блокадный урожай из запелёнатых человеческих тел. Клали аккуратно и ровными рядами. Издали штабеля из погибших казались разноцветной невинной поленицей.
Ойкнув, Эмилия Христофоровна стремительно заковыляла к забору, откуда грузили. Там ещё порядочно осталось страшного груза. Кое-как спелёнатого в порванные простыни или запелёнатого с любовью, чисто и аккуратно.
Там же лежали несколько убитых, застигнутых смертью на улице. Эмилия Христофоровна, стеная на одной высокой тягучей ноте, кидалась то к одному, то к другому телу. В её лице было страстное желание отыскать во что бы то ни стало своего сына.
Наталья Васильевна потерянно за ней ходила, пристально вглядываясь с жалостью и болью в спокойные или обезображенные смертной мукой лица погибших ленинградцев.
Майю оставили у входа. Она не решалась переступить невидимую черту, отделявшую улицу от страшного и жалкого прибежища умерших и убитых. Ноги Майе не повиновались, думать стало ещё трудней. Похолодев от ужаса, она стояла и глядела.
Бойцы похоронной команды сели на бревно передохнуть. Первым делом они из карманов шинелей достали кисеты с махоркой и начали крутить самодельные папиросы. Разглядывая женщин, негромко переговаривались.
Эмилия Христофоровна не нашла Арвида. Она в который уже раз просматривала все ряды погибших. Сначала на земле, потом в машине. Пожилой шофёр и молодой хромоногий боец открыли поочерёдно оба борта машины, чтобы она могла получше вглядеться в одежду и лица. Они не торопили её, стояли рядом молча и терпеливо. Только один раз хромоногий боец обернулся к Майе подошедшей наконец немного поближе, и печально подмигнул ей.
Майя глянула на него коброй.
Неожиданно пошёл крупный, лохматыми хлопьями, снег. И мёртвые стали удивительно походить друг на друга. Исключение составляли окровавленные и искалеченные, которые погибли на улицах. Но и они постепенно прикрылись белой простынёй безразличного ко всему — к жизни и смерти — холодного снега.
Страшная погрузка окончилась. Раздалась негромкая команда, бойцы, торопливо потушив свои недокуренные самокрутки, забрались в машину, и она, надрывно воя, ушла за ворота.
Эмилия Христофоровна растерянно прижимала к груди узел.
— Может быть, в другой морг увезли? Или на более ранней машине. Как же не нашли… Что же делать, господи!
Наталья Васильевна заговорила, не глядя на Эмилию Христофоровну:
— Как же много умирает, а мы и не подозревали. Как много! Кто же в этом виноват? Неужели опять Гитлер? Бедные мы, что с нами будет, бедные ленинградцы… Мы всех пересмотрели…
— В первом ряду я не видела, — поникнув, сказала Эмилия Христофоровна. — Не могла я раненых бойцов просить, чтобы они сняли несколько рядов в машине. В самой машине…
Наталья Васильевна покачала головой, а Майя подняла голову, быстро спросила:
— Он там лежал?
Наталья Васильевна сердито взглянула, и Майя закашлялась в смятении.
На мать инженера Арвида Майя посмотреть не осмеливалась. Та была вся — боль и отчаяние. Она как-то сгорбилась, совсем сникла. Со своим узлом она, наконец, рассталась. Поцеловав его несчётное количество раз в лихорадочном беспамятстве, она сказала просто:
— Может пригодится кому.
Обратно возвращались они медленно и молча.
Редкие прохожие бросали изредка хмурые понимающие взгляды. Эмилия Христофоровна еле волочила ноги, тяжело опиралась на руку Натальи Васильевны. Отчаяние на её лице уступило место тупому равнодушию. Майя недоумённо на неё взглядывала.
Дома Эмилия Христофоровна долго неживым взглядом смотрела на бельё и полотенце, приготовленные для сына. Потом медленно положила вещи в комод и легла в кровать не раздеваясь.
— Холодно. Я сейчас затоплю, — заторопилась Наталья Васильевна.
— Голубушка, я не узнала сына… прошла мимо умиравшего сына. И шинель попутала, я же думала, что он в пальто… И бессердечие, какое невероятное бессердечие! Мы что, в блокаде так очерствели, что голос крови затих? Бог меня наказал. Я его отвезти должна была в стационар, а я… мимо. Он поправился бы, мой мальчик. Правда, голубушка, он бы выжил?
Наталья Васильевна молчала, тревожно переводила глаза с Эмилии Христофоровны на Майю. Она не знала, что сказать матери, навек потерявшей сына. Какие могут существовать для этого слова? Эмилия Христофоровна глядела вопрошающими глазами, и рот у неё страдальчески был сжат.
Наталья Васильевна засуетилась, затопила печурку, разогрела гороховую кашу-размазню. Каши было со столовую ложку, но это была еда. Посреди стола она нашла два талона на крупу. Видно, их вытащили из документов Арвида. Он нёс талоны матери.
Эмилия Христофоровна снова заговорила. Словно сама с собой, ровным, неокрашенным голосом:
— Неужели всё вернётся? Наступит мир, и лица людей станут счастливыми. Матери будут любоваться своими детьми. Неужели всё это снова будет? Больно сознавать, хочется только надеяться, что они не повторят наших ошибок… Столько испытаний — и ничему не научиться? Неужели снова будет человеческое счастье, смех…
На потолке и в углах комнаты искрился иней. На подоконнике намело уже два странных сугробика. Майя зябко жмётся к печке.
— Отодвинься, — просит мама. — Недолго и сгореть…
И робко, но настойчиво обращается к замолчавшей Эмилии Христофоровне:
— Выпейте, дорогая, чаю. И сахар наколот, и хлеб нетронут… поешьте… Надо жить, несмотря ни на что. Сделайте над собой усилие… Мы пойдём, мне топить «буржуйку» и работать… Вы попейте чаю, у вас стало тепло, а завтра Майя и вам выкупит хлеб, принесёт воды.
Эмилия Христофоровна тихо и лихорадочно стала говорить:
— Нереальным кажется минувшее. Словно другая эпоха. Да и было ли оно — это время? А если было, то я жила ли в нём? Вам, голубушка, великий поклон. Попейте с Маечкой сами, а меня не уговаривайте, увольте…
С этого дня она словно на глазах таяла.
Скоро без помощи Натальи Васильевны она не могла подняться с кровати.
— Опять не съели? — укоризненно выговаривала Наталья Васильевна, входя в комнату Эмилии Христофоровны по утрам.
Ни никакие уговоры не могли заставить её проглотить хоть один кусочек хлеба. Однако чай она выпивала.
— Зря переводить. У меня нет будущего. Всё осталось далеко.
— Но так нельзя человеку поступать!
— Человек волен поступать, как ему подсказывает его совесть. Так оно, голубушка. Какая жуткая тоска, как она давит на сердце! И боль, которой некуда деться. Хочется одного — забвения. Не чувствовать, не видеть, не слышать… Любой ценой! Я не верила, что так бывает… Жизнь ещё тянется, такая бесполезная и никому не нужная. Голубушка, Наталья Васильевна, какая жуткая тоска — жить на свете одной. И моя вина не даст мне покоя, я знаю, жить не даст. Да и зачем жить, ведь они, мои дорогие, больше не улыбнутся никогда… Оставьте меня!
— Может быть, надо отвезти в стационар? — спросила Майя.
— Умоляю, оставьте меня в покое, — попросила Эмилия Христофоровна.
В один из очень вьюжных дней по лицу Эмилии Христофоровны бродила необъяснимая полуулыбка. Мелькало в ней грустное — отблеск тяжкого пережитого. И — светлое, надеющееся…
Она говорила тихо. Майя встрепенулась, глядела со страхом: Эмилия Христофоровна говорила с портретом мужа, словно с живым человеком.
— Видишь, я укачиваю нашего сыночка. А ему по-прежнему одиноко. Ты простишь ли мой великий грех, скажи? Я прошла мимо него. Ты простишь великий грех? Скажи… Я прошла мимо умиравшего сына… А ты называл меня чуткой, нежной… Ты бы не прошёл.
Собрав всю свою храбрость, всю решимость, Майя прикрылась ими как щитом. Но её всё больше охватывало чувство неотвратимости, надвигавшееся неумолимо и упрямо. Она, путаясь в словах, пыталась объяснить, но Наталья Васильевна её поняла.
— Надежда — это последнее, что умирает с человеком, — непонятно объяснила она.
— Почему ей теперь не хочется есть?
Взгляд её сам собой останавливался на крохотных усохших кусочках хлеба на стоявшей рядом с Эмилией Христофоровной тарелке.
— Отстанешь ты от меня? — отчаянным шепотом закричала мама. — Вот привязалась…
Во время сильного артобстрела Майя с Натальей Васильевной вышли в коридор, чтобы переждать его. В этом грохоте тихо угасла Эмилия Христофоровна.
— Разве так бывает? Разве так бывает, да скажи же, мама? — спрашивала Майя. — У неё сох хлеб, а она умерла с голоду!
— Не с голоду. Есть люди с обострённым чувством долга, — опять непонятно говорила Наталья Васильевна. — Им во все времена нелегко живётся на свете. Вину свою им не пережить. Поняла?
Майя вышла из себя. Она заплакала, затопала ногами, закричала, как сумасшедшая.
— Не поняла! Не поняла! Не поняла! Она не виновата ни в чём. Она хорошая. Она лучше всех!
В дверь постучали, и закутанная голова Анастасии Савиной заглянула в комнату.
— Зайдите, Анастасия Максимовна. — Помогите мне собрать в последний путь Эмилию Христофоровну. Это не для Майиных глаз. Это не для детских глаз. Для детей и жить сейчас — непосильная ноша. И отвезём…
— Что вы, — испугалась Савина. — Я еле хожу сама. И рука болит…
Её глаза обшарили комнату, минуя кровать с лежащей мёртвой Эмилией Христофоровной, задержались на стоявшей тарелке с высохшим хлебом.
— Вот сухарики бы за помин души приняла, а везти… увольте, сама еле-еле хожу…
Мама отвернулась. Голова скрылась, дверь захлопнулась.
Эмилия Христофоровна похудела до неузнаваемости, но выражение лица было мягким, одутловатость куда-то подевалась…
Они с Майей завернули её в одеяло, и Наталья Васильевна крупными, неловкими от волнения стежками зашила длинный страшный свёрток. Следующим утром они повезли его в тот же морг.
Снова снимала очередную жатву блокада. Опять работала в морге похоронная команда. Так же суетились бойцы возле машины.
Первым их узнал шофёр. Сильно прихрамывая, он подошёл, мягко тронул Майю за плечо. Она недовольно дёрнулась и отвернулась.
— Нашли того парня? Вам надо было в другой морг. Что, опять привезли? Несладко живётся вам. Привезли-то кого, спрашиваю?
— Его мать, — коротко ответила Наталья Васильевна.
В голосе шофёра слышалось участие. Он простуженно хлюпал носом. И не уходил.
Майя обозлилась на него.
— Вот оно что? А узелок её у забора лежит…
Он снова захлюпал носом и отошёл, неловко загребая хромой ногой рыхлый снег. Отойдя к бойцам, закурил и отвернулся к забору.
Лёгонькое тело Эмилии Христофоровны положили наверх.
Опять появилось ощущение неотвратимости, она словно липкая пелена окутывала Майю. Майя прижалась к маминой руке.
— Я не хочу. Я не хочу, мамочка, — страстным шёпотом заговорила Майя. — Пойми, я не могу лежать с закутанной головой. Мне же нечем будет дышать! Я не могу… а они будут жить… и курить!
Майя заплакала.
— Успокойся, люди смотрят! Будь умной и сильной. Ты уже большая. Ну, не дам тебе умереть, родная доченька моя, успокойся!
Бойцы молча глядели.
— Я не хочу вот так лежать… Как дрова! Я не могу… мне же…
— Не плачь, пойдём, валерьянки дам тебе целых тридцать капель… не плачь…
И гладила Майю по голове, как маленькую.
— Война кончится?
— Кончится.
— Она ждёт, когда мы все умрём?
— Вытри слёзки, успокойся.
— Война кончится весной?
— Да.
— Значит, мы умереть не успеем?
— Конечно.
— Правда, весной мало еды нужно. И трава вырастет. Я мокрицу буду собирать. Её ведь едят поросята… Мне нельзя умирать, правда, мама? Кто же на могилы цветы будет носить. Только денег у меня нет…
— Я стану давать, успокойся.
— Ты станешь давать? Вот хорошо. Видишь, мне нельзя умирать.
— Господи, какая ты глупая! А может быть, и очень хорошо, что глупая, а то волком хочется завыть…
Наталья Васильевна обняла вздрагивающую крупной дрожью Майю, и они в последний раз оглянулись на машину, в которой лежала Эмилия Христофоровна, вышли за ворота морга.
Санки они поставили рядом с узелком.
Бойцы похоронной команды негромко переговаривались, курили, глядели им вслед.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Тайна чёрного подвала. — В западне. — Нападение
На цыпочках она проскальзывает мимо своей двери. Её ждёт мама разматывать шерсть для перчаток. Мама с фабрики принесла такую жёсткую, такую плохо разматывающуюся шерсть с колючками, что было чистым мучением перемотать её в клубки, прежде чем вязать. Особенно для Майи. Это ей приходится держать моток шерсти на поднятых к самой голове широко расставленных руках. Руки уже через десять минут затекают, немеют, и когда она их опускает, ей кажется, что они отстают от подмышек.
Дома её ждёт срочная работа, а она отлынивает.
Но, если разобраться, у неё самой уйма всяких неотложных дел, и она не знает, как ей с ними справиться. У мамы же в запасе клубок вполне приличной шерсти. Клубок такой большой, что из него выйдет целых две красноармейских перчатки. А к тому времени Майя уже будет дома.
Таким образом, усыпив свою совесть, она поворачивает налево по коридору и через мрачную безлюдную кухню выбирается на чёрную лестницу. По ней мало ходили. Разве что вынести ведро с мусором на задний двор, где имелась помойка с громко бабахающей тяжёлой крышкой.
С начала блокады крутая чёрная лестница стала неузнаваемой. Она сама превратилась в помойку. На площадках, на ступеньках — везде мусор, грязные тряпки, подозрительно пахнущие свёртки. Всё это ледяное и вонючее. И на всём слежалась, как одеяло, липкая серая пыль.
Майя добралась до первого этажа. Возле подвальной двери она задержалась, вспомнив её с Фридькой поход за конфетами.
На двери подвала висел новый замок. Откуда дворник их берёт, если в магазинах ничего давно не продаётся? По её соображениям, замок этот крепче и сложнее прежнего, сорванного Фридькой. А что если во дворе бродит непонятный дворник?
Майя осторожно трогает замок. Пробой прилажен на толстые новые гвозди. Конечно, если хорошо постараться, они сумели бы сбить и этот пробой. Но нет Фридьки. Майя оглядывается на дверь.
Если её увидит дворник, что он с ней сделает? Церемониться с ней он теперь не станет, спустит в подвал вниз головой. Кто догадается, где она валяется? И станет она прохлаждаться в чёрном страшном подвале до тех пор, пока не разбомбят дом или не сожрут её остромордые и зубастые, как акулы, крысы. Бр-р-р. Да она от одного их вида сразу помрёт со страху!
Был бы у неё фонарик, они с Маней вдвоём спустились бы в подвал. Манька от голода стала похрабрее. Но фонарик остался у Фридьки, а сам Фридька исчез. Может быть, они с Валькой Лезжевым на фронт убежали?
И значит, ракетница и банка с конфетами так и будут без пользы в подвале лежать? А она будет мимо ходить и облизываться.
Хорошо бы ей самой найти ракетницу и шпиона подкараулить. Целая банка конфет — тоже неплохо. И стала бы она сразу знаменитой. Но она не очень задавалась бы и форсила. Она бы всем скромно улыбалась, слегка пожимала бы кончики пальцев, протянутых для приветствия рук. Она умеет вести себя гордо, но скромно.
Сегодня Манина дверь безмолвствовала, сколько бы Майя ни лупила по ней ногами. Открылась соседняя дверь, и высунулась голова хозяйки сожранного Будкиным кота Софроныча. Голова эта внимательно изучила Майю. Девочка, завороженно следуя за взглядом головы, тоже посмотрела на свои ноги. Но ничего такого в них не обнаружила. А свою голову она, при всём своём желании, не могла увидеть без зеркала.
Надежда Фёдоровна нахмурилась и захлопнула дверь квартиры так, что на Майю упал порядочный кусок отсыревшей штукатурки. Майя пожала плечами, отряхнулась и в отместку высунула язык. Чем она не угодила хозяйке сожранного Софроныча? Ей кота жаль. Может быть, она берегла своего кота на чёрный день? Или он дорог ей как память?
При чём тут Майя?
Да она сама, бессовестная, забыла покормить сегодня Кадика! Утром было нечем, а потом — забыла. Может быть, Надежда Фёдоровна догадалась об этом — передаются же мысли на расстоянии.
Обеспокоенная этим обстоятельством, непредвиденным и неприятным, она одна отправилась в сорок восьмую квартиру. Хотя без Мани идти ей туда было боязно.
В сорок восьмой квартире на её стук никто не отозвался. Сегодня все как будто дружно вымерли в своих квартирах. Или они хотят, чтобы у неё ноги отвалились от стука? И злой Карповны или Сергеевны не видно, наверное, меняет на барахолке чужие вещи.
Расстроенная, она повернулась, чтобы уйти, как вдруг вспомнила о ключе, данном старушкой. У неё же лежит-полёживает в кармане ключ, а она стоит под чужой дверью и злится! Вот какая у неё стала память. Вернее — никакой. А старушка знает, что у неё есть ключ от квартиры, и потому открывать не торопится.
Если откровенно, Майя обрадовалась приглашению посетить ещё раз сорок восьмую квартиру. Она ни на минуту не забывала про обещанное угощение. Кто же сейчас от него откажется? Она и раньше любила угощаться в гостях. Сидит сначала и всем улыбается. Дура! Только время тянула, вместо того чтобы сразу наброситься на пироги и пирожные. У старушки Майя немного поест сама, а всё отнесёт Кадику. Кадик не похож на котёнка — это мешочек поросших шерстью костей. А живот — словно надутый резиновый шарик. И тугой, словно каменный.
И опять чужая квартира открылась без труда. Майя ещё дверную ручку не отпустила, как лестничный пол сделался вдруг потолком. Она пошатнулась и обеими руками крепко ухватилась за ручку. Перед её глазами всё плыло, словно в хороводе.
— Вот глупая, о пирожных размечталась. Хорошо хоть на пол не свалилась!
Она немного постояла, и всё вокруг опять встало на свои места. Открыв вторую дверь, она влетела в коридор. Из комнаты слышался приглушённый плач Юрика. Пока она соображала, где дверь, он последний раз пискнул и умолк. Небось, с бабушкой прислушиваются, как она в темноте возится, всё никак не найдёт дверь в комнату. На дворе давным-давно день, а тут — кромешная тьма.
В комнате не подняты шторы на окнах и коптилка не горит.
— Бабушка, — негромко позвала Майя, — вы дома?
Нет ответа. Майе стало неуютно в чужой тёмной комнате. И тишина непонятная. И ребёнок замолк — живой человек рядом.
Чутко слушая неприятную тишину, она стала пробираться к окну, задевая всё, что стояло на её пути. Ухватившись за шнурок от шторы, потянула вниз. Штора нехотя поползла вверх. Майя оглянулась, уже спиной чуя неладное. Сумрачный день заглянул в комнату, при его скупом свете она увидала лежащую на кровати старушку, пристально за Майей следящую.
— Вы дома? Вы болеете, а я вас разбудила…
Старушка молчала. Рука её аккуратно положена на грудь, другая сжимает одеяло.
Ничего не понимая, Майя подошла поближе, вгляделась и от ужаса зажала рот, чтобы не закричать. Юрикова бабушка была мёртвой.
Тонко и жалобно запищал Юрик, но Майя оцепенело стояла на месте. Ребёнок заплакал требовательно и громко. Тогда она, не теряя из виду умершую, на сделавшихся деревянными ногах, боком неловко пробралась к мальчику. Он загулькал радостно, едва её увидел. Ей стало страшно: весёлый ребёнок рядом с мёртвой бабушкой.
Он, видно, продрог. Размотавшиеся руки и ноги его были синими. И лежал он на мокрой ледяной подстилке. Может быть, сходить за Маней? — пришла в голову мысль. Но выходить из квартиры сейчас было ещё страшней. И как оставить ребёнка, он без неё замёрзнет!…
Она лихорадочно начинает искать сухую пелёнку, а сама поминутно оглядывается на умершую. Чистых пелёнок нет, грязных — целый угол. Она немного подумала и пошла к комоду. В нижнем ящике нашлась чистая простыня. Майя обрадовалась: если её свернуть, то получится сразу четыре слоя пелёнок. Целое одеяльце! Она начала растирать ребёнка, дуть горячим воздухом на ручки и ножки. И не забывала поглядывать на его мёртвую бабушку.
Она так старалась, что ребёнок морщился, кривил губы, собирался снова заплакать. Тогда она сделала весёлое лицо и стала его уговаривать:
— Терпи, — говорила она шёпотом, — когда я замерзаю, я точно так свои руки и ноги тру… Терпи, говорю. И не собирайся заорать. А то я сойду с ума или убегу от тебя!
Мальчик словно понял. Он молчал, кряхтел, голова его дергалась в такт Майиным движениям. Из синего он становился ярко-красным.
— Видишь, какой ты молодец! Твоего папу убили, дядю убили, маму убили… Теперь вот…
Она покосилась на кровать.
Ребёнок стал икать. Она в растерянности оглянулась на умершую, словно искала поддержки или совета. Но та безразлично и отрешённо глядела неподвижными глазами на окно.
Тогда Майя сняла с себя своё прекрасное бобриковое пальто и завернула в него ребёнка.
— Теперь-то уж согреешься… Знаешь, какое оно у меня тёплое? Я прямо сразу в него влюбилась, когда увидела в магазине. Тебе в нём жарко станет.
Прошло всего несколько минут, как она почувствовала, что озноб пробирается к ней под кофту. И на спине забегали одинокие мурашки, потом их сделалось много, и они перестали на спине помещаться — разбежались по всему телу. Тогда она стала топать ногами и бегать на одном месте.
Она сразу запыхалась, но не согрелась. Юрик икать перестал, он разглядывал её и облизывал губы. Она догадалась, что он хочет пить.
Майя отпила глоток из чайника, но не проглотила, а вылила согревшуюся таким образом воду в столовую ложку и дала ребёнку. Он проглотил с жадностью несколько ложек, и, сразу успокоившись, неожиданно уснул.
Девочка прислонилась к шкафу. Ей хотелось есть, ей хотелось пить. Она уже попривыкла к обстановке, только теперь старалась не глядеть на умершую Юрикову бабушку.
Буфет привлек внимание. Она подошла поближе, открыла дверцу, заглянула внутрь. В стеклянной банке находилось немного манной крупы. В сухарнице — длинные белые сухари. И больше ничего не видно. Поколебавшись немного, она откусила от сухаря и продолжала искать. Она помнила слова Юриковой бабушки, и вначале ей в голову не пришло, что рыться на полках в чужом доме по меньшей мере некрасиво.
На комоде, покрытом кружевной скатертью, стояла чёрная лаковая коробка. В ней находились разноцветные стекляшки. И опять съестным не пахло. Ещё откусив сухаря, она принялась искать на кухне, обследуя каждый уголок, каждую кастрюлю и чашку. Заглянула даже под клеёнку па кухонном столе. И обомлела: под клеёнкой лежали несмятые хлебные карточки. И все рабочие.
Она осторожно села, держа их в руках. Сколько же хлеба!
Она захотела их пересчитать, но, взглянув мельком в окно, увидала стоявшие за шторой банки. Сверху их было не видно, а когда она села на табурет, они словно вытаяли.
Карточки она отложила.
Банок было три. Две с ячневой кашей и с мясом. Одна со сгущёнкой. Это же богатство! По сравнению с ним клад Монте-Кристо — нуль без палочки. Совсем спрятавшись, прижавшись к оконной раме, стояла ещё банка. Та самая, из которой прошлый раз Майя поила Юрика. Она заглянула внутрь банки, и во рту набежало столько слюны, что язык стал лишним, а в животе похолодело, и дружно задвигались кишки.
Она ещё пошарила за шторой, нашла маленький пакетик с белой-пребелой крупчаткой.
Она расставила это богатство на столе, и руки её сами собой залезли в муку, захватили горсть и отправили в рот. Всё это они делали, не спросясь её. Она даже не подумала, хорошо это или плохо. Мука растворялась, и вкус сырых блинов её потряс. Не справляясь с собой, она начала отправлять в рот горсть за горстью…
Громкий стук во входную дверь отрезвил её.
С не проглоченной кашей она замерла.
В дверь продолжали громко бухать.
Чуть не подавившись, она на цыпочках начала пробираться к двери, чтобы узнать, кто пришёл. За дверью были люди. Она услыхала, как они негромко переговаривались:
— Говорю, нет. Верки нет, надо самой ползать…
— Ломать надо.
— Днём? Спятил, кретин!
— Сейчас и днём ломают. Как иначе забирать мертвецов?
— Это мертвецов. А может, они у Варвары? Врёт и увиливает. Она глупа, труслива и опасна. А может, сам руки нагрел. Дохнуть никому не охота…
Дальше не стало слышно, Майя спустила головной платок на плечи, отвернула край берета. Она поняла, что попалась, если начнут ломать дверь. Сиплый тенор — это дворник. Вот он покашливает. Баритон незнаком.
— Сегодня дежуришь? — спросил баритон.
— Я всегда дежурный начальник. Тут с фомкой надо. И без шума.
— Уговорил. Идём, а то высунутся из квартир… дохлая братия.
Хлопнула дверь парадной.
Майя перевела дыхание: так это о них говорила старушка! Она поняла, что смерть задела её костлявой ладонью. И ещё поняла, что дворник и незнакомый баритон — блокадные воры. А может быть и бандиты. Что там забулдыга Будкин! Невинный кролик, вот он кто.
Ужас пересилил голод. Бежать быстрей! Сдвинуть на самые глаза платок и бежать… Но в пальто спит Юрик. А они могут поджидать старушку на улице. Они уверены, что она ушла ненадолго. Они не знают, что она умерла. Если бы они знали!
Надо уходить. Майя дома всё расскажет, пусть заберут Софроныча и его приятеля. И ещё какого-то Фомку.
Вот какие карточки они ищут.
Майя нашла под вешалкой в коридоре большую клеёнчатую сумку, сложила в неё банки и кулёк. Но сама она как пойдёт без пальто? Она в кофте, не может же она вытряхнуть из пальто спящего мальчика.
На вешалке одиноко висела прекрасная беличья шубка. Майя подумала, погладила её и затем неожиданно надела. Она утонула в ней, но обрадовалась. Разве дворник с бандитом узнают её? Шубка была мягкая, шелковистая, лучше её бобрикового пальто с прекрасным заячьим воротником.
На раздумье времени не оставалось.
Она взяла в охапку спящего Юрика и оглянулась в последний раз на старушку. Та всё так же отрешённо глядела на окно, её уже ничего на свете не касалось. Сумку с продуктами Майя повесила на сгиб локтя. И, поднатужившись, открыла дверь на лестницу.
Худенький ребёнок казался ей пудовым. Сумка била по коленям. Длинные полы шубы запутывали ноги, мешали идти.
Девочка вернулась, благо дверь не захлопнулась, положила Юрика на стол в прихожей, сумку поставила на пол. Она закуталась в лежавший на столе пуховый платок, а своим подпоясала шубу, чтобы та была покороче.
Стало немного лучше. Теперь и родная мама не узнает Майю, не то, что какой-то вор Софроныч.
Она вышла из парадной, словно прыгнула в ледяную воду. Её подгонял страх. И тяжеленная громоздкая ноша не стала вдруг ни тяжёлой, ни более громоздкой.
Этой зимой многие ленинградские квартиры не закрывались на замки. Обессиленные их хозяева лежали в нетопленых комнатах, но надежда не покидала их до конца. К ним на помощь могут прийти дружинницы. И соседи хоть чем-то помогут. Девушки с красными крестами на рукавах шинелей ходили той злою зимой по квартирам. У кого были открыты двери и кому повезло — отвозили в стационары.
Если же непоправимое уже произошло — отвозили в морг. Поэтому Майя не проверила, захлопнулась ли за ней дверь сорок восьмой квартиры, закрылась ли на замок.
Во дворе не было ни души. Она обрадовалась и стала пробираться по плохо умятой тропке мимо высоченных, выше её роста, снежных сугробов.
— Бабка, как пройти за водой? — раздался резкий ломкий голос, — Эй, бабка, оглохла? Я спрашиваю, как пройти на Курляндскую? Глухая совсем, дура старая!
Она повернула голову и обомлела, узнав Ромку Чернопузова из своего подъезда. Он был таким на себя непохожим, таким тощим и грязным, что она не поверила своим глазам. Неужели так могут меняться люди? Волосы у Ромки грязными косицами болтались по бокам.
Ромка, увидав её, удивлённо свистнул, остановился и зашарил по её странной фигуре удивлёнными глазами.
Он подходил всё ближе, забыв про пустое ведро в руке и Курляндскую улицу. Майя отодвигалась от него, её пугали едкие прищуренные Ромкины глаза. Вот он заметил клеёнчатую сумку на её согнутом локте.
Глаза Ромкины стали щёлками.
— Фея Обводного канала в старуху переоделась. Так подают больше? Или тащишь младенца на прокорм? Что в сумке, говори?
Он воровато оглядывался. Майя поняла, что попала из огня да в полымя. С Ромкой шутки плохи.
— Не подходи ко мне! Видишь, я с ребёнком и мне не до тебя. Иди на Курляндскую, иди вон по той тропке. Разве я тебе мешаю?
— Покажи, что в сумке. Слышишь?!
— Не подходи ко мне, не подходи. Пузо! — вырвалось у Майи.
Она спохватилась, но уже было поздно.
— Ах, ещё и оскорбление! За него надо платить. Отдавай сумку. Ты её украла?
— Дай пройти. Ничего я не крала. Дай, говорю, пройти. Видишь, мне и так тяжело.
Ромка вплотную подошёл, схватил тощей рукой сумку, стал её ощупывать, прищуренные глаза сразу засветились хищным блеском.
Майя отшатнулась. И… села в сугроб.
Он к ней наклонился, стал молча и злобно стаскивать сумку с локтя. Майя сопротивлялась, и снять он не мог, не уронив Юрика. Или надо было оторвать у сумки ручки и сломать ей руку. Мальчик замешкался, а она ещё крепче вцепилась в ребёнка.
— Отдай, хуже будет, — угрожающе шипел он. — Убью, зараза!
И снова повертел головой в разные стороны.
— Не отдам. Убивай!
— Вот зараза! — удивился он и замахнулся пустым ведром.
Она инстинктивно прикрыла голову. И тут случилось непоправимое — выпал Юрик. Она наклонилась, не выпуская сумки, стала поднимать чудом не развернувшегося на морозе малыша. В отчаянии крикнула:
— Что не убиваешь, Пузо? Убивай, не отдам! Не отдам, не отдам…
Она частила словами, этим она защищалась и даже переходила в наступление. Так ей казалось.
Ведь есть же в городе кто-нибудь живой!
— Вором и бандитом стать хочешь? Это не моё. У ребёнка еду отбирать?
Пришла спасительная мысль. Девочка всё время сопротивлялась, а теперь сама поглубже засела в сугроб, и когда Ромка наклонился, чтобы содрать с локтя сумку, она что есть силы пнула его ногой в живот. Он согнулся пополам, покачался на месте, но не упал, затем, оскалив зубы, бросился к ней. Ведро у него выпало из руки, он мычал что-то нечленораздельное не то от боли, не то от ярости. Стал выламывать ей руку.
Она с криком вырвала руку, сумка с локтя упала в снег.
Ромка торопливо рылся в сумке, потом помчался под арку, бросив на тропке ведро.
Слёзы застилали глаза Майе. Она тихо по-собачьи подвывала, пыталась встать. Ей это долго не удавалось, тогда она выползла на коленках на тропку и кое-как поднялась с колен, чуть не упав теперь лицом. Поднялась с ребёнком. Как ей удалось, она не поняла, но положить на снег малыша ей и в голову не пришло.
Под аркой она видела Ромку. Он стоял к ней спиной и торопливо рылся в сумке. Увидев, что она поднялась, выбросил что-то на тропку. Погрозив кулаком, исчез, словно его и не было.
Она увидела входящую под арку женщину.
Ей надо бежать, глянуть, что это он выбросил из сумки, но руки и ноги дрожали и словно приросли к месту. Она стояла в замешательстве.
Женщина добрела до места, где только что был Ромка, остановилась, начала разглядывать что-то под ногами. Потом быстро наклонилась, схватила что-то и спрятала в сумку. И тоже быстро оглянулась по сторонам. Совсем как Ромка.
Майя онемела. Женщина — куда подевалась её немощь? — быстро проходила мимо. Майя в отчаянии загородила женщине дорогу, сделать это было трудно, она устала, и мешал Юрик. Но она бы в женщину и зубами вцепилась.
— Тётенька, отдайте, это Юрика… нас Пузо обобрал, тётенька, отдайте! Юрик же умрёт, он же маленький! Это Пузо выхватил… он из шестой квартиры. Он мазурик и вор! Он для Юрика выбросил! Будьте добреньки, отдайте…
Женщина молчала, прижимая к груди сумку, сначала она хотела оттолкнуть Майю, чтобы пройти, потом вдруг замешкалась, сказала быстро и нервно:
— Что же это… что же это со мной? Грабить, что ли, на большой дороге… ребёнка… Прости меня, девочка, бери скорей, а то… а то я могу убежать…
Она выхватила из сумки банку со сгущёнкой, пакетик и сунула Майе поверх пальто. Майя не веря, не спуская с женщины глаз, подбородком придвинула пакет поближе к плечу и пошла, не чувствуя ни ног, ни ноши. Она не оглянулась, было страшно: она чувствовала, что женщина глядит ей вслед… В парадной на лестнице она облокотилась на перила, перевела дух и так постояла немного.
Мама вязала. Тревожно стучал метроном. Стоявшая на краю стола коптилка освещала мамины руки, всё остальное в комнате было сумрачно и неясно.
Недоумённо мама взглянула на ввалившуюся запыхавшуюся низенькую фигуру в пуховом платке и длинной до пят шубе. Платок сполз вошедшей на глаза, а в руках она держала что-то, завёрнутое в очень знакомое пальто. Сама не зная почему, Наталья Васильевна заволновалась.
— Вы к кому, гражданка? Я вас спрашиваю, что молчите? Кто вы?
Она отложила вязанье, встала и ждала, чем странная фигура объяснит своё появление в её комнате. Та, не отвечая, подошла к дивану и уложила то, что несла в руках, потом сдернула на затылок платок.
— Господи, Майка, ты ли это? — узнала мама запропавшую дочку.
Не веря своим глазам, она обошла её, потом подошла к дивану. Майя виновато забормотала:
— Не пугайся, это я. А это — Юрик. У него никого нет. Все у него убитые и умершие. А это шуба, я её не украла, мамочка, мне просто нечего было надеть. Видишь… лежит в пальто Юрик… он чуть не замёрз в доме… в квартире. Разве не узнаёшь? Это чтобы меня дворник не узнал. Не идти же мне по такому морозищу в одной твоей кофте? А Юрик живой… он бы умер, мамочка, если бы я не принесла его сюда. И потом, туда придут воры или бандиты… я не знаю…
Майя видела, что мама готова взорваться шумными упрёками, но пока молчит. Майя торопилась, объясняла, у неё прохватывало дыхание, она останавливалась, чтобы секунду передохнуть.
— Мамочка, какая ты стала непонятливая! Это всё очень просто. Дай отдышаться, у меня и в голове шумит. Знаешь, меня ведром по голове ударили, хорошо, что в нём не было воды, правда? А может быть, не ударили, я уже забыла…
Наталья Васильевна понемногу успокаивалась.
— Ты не беспокойся, мамочка, он умный. И у него есть еда. Правда, это хорошо, что есть немного еды? Пузо несчастный оставил, мазурик. Я теперь знаю, как защищаться. Если бы он мне сломал руку или убил, я бы его первая убила. Это Пузина бабушка тогда на лестнице лежала. Они выбросили свою бабушку, а сами грабят людей и чуть ведром не убивают.
Она бестолково суетилась. То начинала снимать кофту, то бросалась к дивану. Быстро выставила банку и пакетик с мукой. И поминутно подбегала к Наталье Васильевне, гладила её по щеке, целовала.
— Так это они выбросили бабушку? Как кошку на лестницу. Все об неё запинаются. Хотя бы… То-то я чувствую… О, Господи, нелюди. Ты что мне зубы заговариваешь, откуда это всё?
— Они вся семья мазурики, правда, мамочка? Кроме бабушки, правда? А это я… я потом всё расскажу. Ты не поверишь, как было страшно!
В потёмках — а на парадной лестнице и днём потёмки — Майя наскочила на настоящего мертвеца. Старая женщина с незакрытыми глазами лежала вдоль стенки на ступенях. Мимо стенки Майя как раз и пробиралась на свой пятый этаж.
Майя споткнулась и упала на неё. Сначала она не поняла, на чём лежит, потом, ощупав рукой холодное задубевшее тело, вгляделась, вскрикнула и кубарем слетела вниз.
Только на улице она пришла в себя и отдышалась. Сердце колотилось везде, только не на своём обычном месте. Домой она вернулась по чёрной лестнице, тщательно ощупывая ногой и рукой каждую ступеньку. Мама тогда горестно сложила руки, словно в молитве, и печально сказала:
— Не знаешь своей судьбы… Как же выбросили на лестницу? Господи, неужто все нити рвутся между людьми, господи помилуй, не дай дожить до этого!…
Вспомнив сейчас мамины горькие слова, Майя уже не боялась, что она выставит её с Юриком, заставит унести его обратно.
Майина мама взяла со стола коптилку, подошла с ней к мальчику.
Он вытаращил на свет глаза и залопотал что-то восторженно и быстро.
Наталья Васильевна крепко призадумалась.
— Мамочка, можно он моим братом будет? Я буду его нянчить… сама. Я буду кормить, пелёнки… ну… грязные эти стирать… я сумею…
— Мы не имеем на него прав. Ладно, разберёмся, пусть пока побудет у нас. Не нести же его обратно к покойнице… К тебе приходила бабушка Фридриха. Говорит, пропал он, не ночевал дома три дня. И ты добегаешься, неслух! Чтоб носа не высовывала, понятно?
От неожиданности Майя села. Как — пропал? Он же на фронт убежал с патронами и с её фонариком… И вовсе он не хулиган, жаль, что у него жёлтые глаза и на носу много веснушек ростом с муху.
Она думала и глядела, как её мама качает головой и пеленает Юру.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Пропал Фридька. — Болезнь. — Толя ушёл на фронт
— Кто там? Ты, Фриденька?
— Откройте, пожалуйста. Это я.
— Кто «я»?
Упал засов, щёлкнул замок, дверь квартиры приоткрылась. На лице Фридькиной бабушки тревожный вопрос. Под её взглядом Майя оробела, съёжилась, хотя вины никакой за собой не чувствовала. Фридькина бабушка отвела устало взгляд, разочарованно сказала:
— Это ты. А я думала, что дитятко моё заявилось. Где он?
— Где он? Нет, я хотела спросить, он не приходил три дня?
— Стало быть, не знаешь? А зачем пришла? Подскажи, где мне его искать. Покой потеряла от безвестности, чует сердце недоброе …
В её глазах печаль и застоявшаяся свинцовая усталость. Она вытирает ладонью слезящиеся глаза, руки нервно теребят конец шали. Вдруг она встрепенулась.
— А может, негодник к матери сбежал. На завод. — И снова засомневалась: — Так вернуться пора, время военное. Слыхано ли дело, не ночевать дома. Что он, подзаборник? Никогда такого не случалось. Взял и исчез. Спаси и сохрани его, господи!
Её тревожная убедительность словно подстегнула Майю.
— Не бойтесь. Может, он на фронт сбежал. Он туда давно собирался. Правда, осенью…
Тут она вспомнила про чёрный подвал и замолчала.
— Какой фронт? Что ты выдумываешь? Ракеты не ты ли с ним искала? И фонарик… Девочка, а по подвалам бегаешь. Может быть, и на фронт ты его подбила?
— В подвал мы ходили за конфетами. Мы разве знали, что там лежит?
Она защищалась. Заплаканные водянистые глаза бабушки недоверчиво и недобро разглядывали её.
— Я сама не знаю, где он так долго. Он самой мне нужен. Я подумала, не на фронт ли он сбежал с Валькой Лещёвым. Они давно собирались…
И со всё возрастающей надеждой, убеждая Фридькину бабушку, а заодно и себя, продолжала:
— Осенью он хотел мстить за убитого отца. А сейчас до фронта можно и пешком дойти. Правда, мальчишек и сейчас ловят, но вы не беспокойтесь. Его вернут обязательно. А может, он в подвале ловит ракетчика. Их сейчас в городе много. Но почему без меня? Он обещал зайти за мной.
Фридькина бабушка закричала:
— Какой фронт? Какой ракетчик? Ты в своём уме?
Майя кивнула. Ну, сколько можно её об этом спрашивать!
— Это ты подговорила, негодница! Отец убитый, мать с завода не выходит. Сказывай, где живёт этот твой Валька Лещёв?
— Он не мой, — сухо поправила Майя всполошившуюся старушку. — Он тоже… — И замолчала.
— Говори, где живёт этот Валька. И твоя мама на тебя жаловалась: шастаешь где-то целыми днями. А ещё девочка!
Фридькина бабушка негодующе облизывает губы, глядит на Майю в упор. Майя затараторила.
— На проспекте Газа. Угловой дом над магазином. На втором, а может, на третьем этаже. Окна на улицу. Он мыльные пузыри на прохожих любил пускать… Да вы не бойтесь, найдёте. Его все в доме знают!
— Хорош гусь, если все в доме его знают!
Фридькина бабушка встрепенулась, заторопилась, и дверь перед Майей захлопнулась.
На чёрной лестнице Майя остановилась возле подвала, длинным проникновенным взглядом уставилась на дверь. Но дверь не прозрачная, сквозь неё не очень-то проникнешь. Она приложила к замочной скважине ухо, терпеливо слушала. Но из чёрного подвала не доносилось ни звука. Если бы Фридька ловил там диверсанта, сколько было бы шума, что творилось бы там!
А вдруг Фридька умирает, искусанный крысами или тяжело раненный ракетчиком? Разве немецкие шпионы знают пощаду? А крысы, каждая ростом с кошку!
Она содрогнулась от омерзения, представив крысью морду.
— Он удрал на фронт, — громко сказала себе Майя. — Его совсем скоро вернут домой.
Продрогнув, она заторопилась домой.
Наталья Васильевна с Толей разговаривали. Прикрытый беличьей шубкой, поперёк кровати спал Юрик. В комнате топилась печурка, вкусно пахло кислыми щами.
Майя зорко глянула на родных.
— Поговори с ней, как старший брат: меня она слушать перестала, — укоризненно поглядев на Майю, сказала мама и принялась за вязание.
— Как средний брат, — поправила Майя. — Старший брат — Валентин, бьёт фашистов на Карельском фронте.
Она разделась и сразу почувствовала себя маленькой и очень усталой. Поглядела на брата беззащитно.
— Откуда всё это? Таскает и таскает. Не знаешь, что за это бывает по законам военного времени? — начал монотонно и размеренно Толя и поглядел на маму.
И Майя взглянула на неё.
Мама молча вязала, не глядя на детей. Толя говорил, и каждое его слово чётко влетало и сразу зацеплялось за разбухшие мысли девочки. Майя тоскливо поглядывала на маму, брата, на стол. Там стояли пакетик с мукой, начатая банка со сгущёнкой. И лежали веером разложенные хлебные карточки. И её найденная тоже была там, но лежала поодаль. А хлеб сегодня она выкупить по ней так и не успела.
Странно, что мука и сгущёнка уже не вызывали неукротимого желания есть. Ей стало холодно в тёплой комнате, она ёжилась под взглядом Толи. Затем мысли стали вязкими, потекли, как патока, медленно и лениво. Потом вовсе исчезли.
Она оглянулась на пальто, без дела висевшее на стуле, но взять не решилась, боялась рассердить Толю, и так глядевшего на неё в упор.
— Что молчишь?
Она пожала плечами.
— Где всё взяла?
И Толя подбородком указал на кровать и на стол.
Майя сосредоточенно глядела, мысли всё не появлялись.
— Вот ненормальная, будто не знает, что за это бывает…
Ненормальная — значит не в своём уме. Что они все, сговорились?
— Говори, Майя, — попросила Наталья Васильевна тихо. — Мы должны всё знать.
— Всё само собой.
— Не понял!
— Меня дворник мог узнать. Он вор. А Юрик мог простудиться, он же был раздетый и мокрый… Я случайно карточки нашла. Их и дворник с мужчиной в бурках искали. Я совсем не воровала. Я искала, чем меня старушка угостить хотела… Все только ругают, чуть ведром по голове не убивают!
Тут её словно прорвало. А потом она заплакала, и чем больше она плакала, тем больше ей хотелось плакать. А может быть, страшное было позади, и она не могла выносить свалившиеся на её плечи передряги.
— Перестань. Москва слезам не верит.
— Фридька пропал, — плакала громче Майя. — Взял и пропал. А мы с ним хотели в подвале ловить ракетчика. Взял и сбежал на фронт.
— Господи, на фронт, ловить ракетчика! — охнула Наталья Васильевна и отставила вязанье.
Толя умно наморщил лоб и красиво взмахнул ресницами, и Майя, увидев это, опять пожалела, что у неё такой красоты нет.
— На фронт бегали?
— Мы не знали, что на трамвайном кольце уже начинался фронт. Мы же за картошкой…
Её ещё долго обо всём расспрашивали. Она отвечала на вопросы, пожимала плечами, устало кивала головой. И раздумывала.
Она стала замечать в себе непонятную лень. Было неприятно подниматься по лестнице, в коленях стали дрожать ноги. И спина стала ныть. Воды она старалась носить меньше чем по полведра. Смеяться и громко разговаривать уже не хотелось. Так бы и сидела кулёмой неповоротливой.
Она сердилась на себя за это непонятное, происходившее с ней.
На улице она внимательнее стала вглядываться в молчаливо бредущих прохожих. Неужели и она станет ходить усталая, от всего отдалённая. Будет бороться со снегом на дороге, словно это горы неприступные. Бороться с наледями, которых она раньше не замечала под ногами или шутя через них перепрыгивала.
Бросалась в глаза энергичная походка прохожего.
«Досыта ест, как лось бегает», — приходило на ум однажды сказанное Софьей Константиновной.
Это её тело от недостаточного питания становилось вялым и смирным. Но смерть она исключала. Жизнь должна быть у неё долгой, силы её неистощимы. Только вот пройдёт головокружение, исчезнет слабость, перестанет дрожать тело. И снова будет всё в порядке.
По-настоящему она испугалась только, когда несла Юрика. Тогда на четвёртом этаже её охватило такое безразличие и апатия, что она прислонилась к стене. Лестница помчалась в диком хороводе, а во рту накопилось столько вязкой, не глотающейся слюны, словно она съела паука.
Она вцепилась в Юрика. Казалось, не она держит малыша, а он, стена и пол все вместе держат её.
— Она спит. Ладно, завтра доскажет…
Ночью она чувствовала, как её знобило. Но свернуться калачиком, согреться было лень, натянуть пальто, сползшее с одеяла — тоже. А озноб усиливался. Приходилось сжимать зубы, чтобы они не гремели в темноте, не пугали её. Вдруг сделалось ей жарко, словно она очутилась в Африке. Майя готова была сбросить с себя всё, что на неё навалено. Вместе с кожей. Снова наступала слабость, и безразличие ко всему охватывало её.
Опять тряслась она в мерзком ознобе. Её позвоночник стонал и выгибался, как прут. Она подложила руку и стала его держать, чтобы он не переломился.
Это был не тот холод, что стоял на улице. Холод был внутренним, исходил из её тела. От него было трудно дышать.
Она стала тихонько подвывать, становилось легче, звуки стали поглощать часть боли. Потом её охватило забытье, в него она проваливалась с нетерпеливой радостью. В нём был покой, похожий на смерть. И она испугалась.
Опять она в деревне и пьёт парное молоко, вдыхает полной грудью неправдоподобный запах. Кот Валет с Узнаем, странно подобревшие, подсовывают ей свои полные молока плошки.
— Неужели, — спрашивает она, — желудок так управляет умным и талантливым человеком? Какое несчастье человека — зависеть от глупого мясного мешка.
Видится мужчина с высохшей бородкой клином, с раздутым стеклянным лицом. Он получал паёк хлеба. Не отойдя от продавщицы, он сразу вонзил зубы в крохотный кусок, ел со звериным чавканьем, пока не съел весь. Потом он долго стоял в углу булочной, не наевшийся, даже не утоливший многодневный голод, царапая зрачками получавших паёк людей.

Был он интеллигентен, милостыню просить не мог. Воровать — тоже. Но и не мог оторвать неистовых глаз от чужого пайка. И не мог уйти из тепла в промозглый мрак своей квартиры.
Майя отчётливо его видит.
Потом наступает ночь, хитрющая и злая. И такая чёрная, что дальше чернеть некуда. Она бьётся не на жизнь, а на смерть, отпихивает от себя вязкую и душную ночь руками и ногами. Но темень обволакивает её. Устрашённая Майя лезет под одеяло с головой, подтыкивает его со всех сторон, чтобы не осталось ни единой щёлки, чтобы ночь не могла ни забраться к ней, ни просочиться. И темень, устав пугать Майю, напоследок ухмыляется и пропадает в углах.
Пузатый комод — это ступа с Бабой-Ягой и с её простодушными зловредными друзьями. И шкаф — чудище с кривыми тощими лапами.
И они отступают.
Майя радостно и освобождённо вздыхает.
Но и днём и ночью её настигал дворник Софроныч. Он хотел дотянуться до неё длинными, как у спрута, волосатыми ручищами. Она не могла крикнуть, только хрипела, и в её горле болели и хрипели ссадины.
Но девочка надеется ускользнуть от него.
Перед ней словно в тумане бледное лицо. Знакомое и близкое. Оно неясно. Дворник тотчас исчезает. Бледное лицо улыбается, не разжимая губ. Это даже не улыбка, а колеблющаяся тень от неё.
— Ты вернулся. Война кончилась? — радостно удивляется она.
— Не вернусь. Я погиб шестого сентября, утонул в болоте, — слышится неясный голос.
Это голос её папы. Она вглядывается в печальное смутное лицо, хочет его спросить, почему он с ней говорит, если погиб. Бледное лицо исчезает, слышится мамин голос:
— Слава Богу, в себя пришла. Узнаёшь меня?
— Мама, — слышит свой голос Майя. — Мамочка моя.
Наталья Васильевна с вязаньем к ней наклоняется. Мамино лицо удлинилось, а морщины растянулись на лице как рыболовные сети. Майя хочет сказать, как ей хорошо с мамой, но Наталья Васильевна закрыла рот жёсткой ладонью. И Майя поцеловала её.
— Молчи, — строго сказала мама.
— Я болела?
— Да.
— Ты подумала, что я умру? Что ты! Я не могу умереть.
Тупое смирение, промелькнувшее на прекрасном морщинистом мамином лице, поразило Майю. Вызвало недоумение и неприязнь.
— И ты могла подумать?
Майя глядела в крохотное окошко. За ним было бело, светло и празднично. Но краткий миг радости вновь затмило сомнение.
— Война не кончилась? — спросила она.
Мама не отвечала.
— Не кончилась. Знаешь, мамочка, я с тобой никогда, слышишь, никогда не расстанусь!
— Все так говорят, пока не вырастут, — усмехнулась Наталья Васильевна. — Тебе молчать надо.
Майя хотела подняться, но тело ей не повиновалось.
— Вот это да, — только и проговорила она.
— Тебя надо поправлять. Тебя можно оставить одну, бредить больше не станешь? Ты совсем не любишь себя.
Наталья Васильевна достала из шкафа поношенную меховую жакетку, погладила мех ладонью и решительно начала заворачивать её в наволочку.
— Ты и её продашь?
— Надо тебя поправлять. Молчи.
Но Майе хочется вырваться из молчания, ей хочется сейчас вырваться из собственной кожи. Она поднимает руку, вертит её перед глазами.
— Что это за рука? Одни кости остались. А ногти выросли и почему-то голубые. Бывают ногти голубыми?
— Молчи. Я ушла. Вечером согрею воды и вымою тебя: ещё что-нибудь в голове заведётся! Сейчас это не новость. Господи, ты так болела… Придёт папа, что бы я ему сказала?
Радость Майи померкла, словно вокруг потемнело.
— Мама, ты думала, что я могу умереть. Не-е-ет. А наш папа не придёт. Он погиб шестого сентября, утонул в болоте. Он сам мне сказал. Недавно.
— Снова бредишь? Господь с тобой.
Наталья Васильевна отложила наволочку, глядела на Майю со страхом и жалостью. Потом она долго щупала Майин лоб, глядела в затуманенные Майины глаза, вздыхала.
— Бред опять? — с сомнением в голосе, наконец, произнесла она.
— Что ты, мамочка. Я не брезжу, не бредю… фу, не знаю, как сказать… — упрямо сказала Майя. — Он мне сам сказал… правда, будто в тумане был. Но я узнала его, узнала его голос! Только он был не окрашенный.
— Безжизненный?
— Не знаю. Только он мне это сказал сам, — настаивала Майя.
Мама задумалась.
— Вещий сон?
— Что?
— Говорят, в вещих снах судьба сообщает что-то. Или приоткрывает будущее… Но тебе, и во время беспамятства? Мне ни разу за всю мою жизнь не приснился ни один такой сон. А в истории известно. Химику Менделееву периодическая система увиделась во сне. Пушкину снились стихотворения… Рафаэлю мадонна увиделась во сне, и утром он, чтобы не забыть её, сел писать… И с Горьким это случалось. Но это люди, увлечённые делом. Нет, рано кончать тебе лечение. Лежи и не шевелись. Я постараюсь вернуться побыстрей!
Она стала торопливо одеваться.
— Скажи, откуда там продукты? Ведь блокада. Что, все там воры Подстаканниковы? А я, правда, принесла Юрика, котёнка и карточки? Или мне это тоже приснилось? Я забыла…
— Всё — потом.
— Я не могу столько ждать. Ответь мне!
— Юрик в доме малютки. Воровские карточки в милиции, там с ними разбираются. Воров забрали. Они, негодяи, что удумали: на умерших людей получали новёхонькие карточки на следующий месяц. Вовремя не давали на них сведений. Вера их отоваривала. Но в последний месяц у них вышла осечка… а потом её убило.
— Без меня всё узнали. А я хотела…
— Там не малые дети. А на рынке водятся такие сытые рожи! Трудно представить, что они жители блокадного города. Такие сытые рожи! И Толенька, сынок, ушёл… Ещё только семнадцать исполнилось.
— Куда ушёл?
— На фронт.
— Ты не переживай, мамочка. Война кончится весной, и его не успеют даже ранить.
— Какая весна? О чём ты говоришь? Лежи, поправляйся.
Гулко хлопнула дверь. Это Майина мама ушла продавать жакетку. В наступившей тишине отчётливей застучал метроном.
Майя раздумывала. Она перебирала в памяти все события последнего времени. Что было явью, а что — сном. Вспомнился мужчина с бородкой в булочной, его больные обречённые глаза, глядевшие на её хлеб. Уж он-то не приснился. Она ещё споткнулась под его взглядом. Почему она не дала ему довесок, ведь хлеб был на найденную карточку? Она жадная, противная и раскаивается, когда уже ничего нельзя вернуть. И Толя ушёл на фронт, а она с ним не попрощалась. Ну всё, поздно!
Поплакав, она успокоилась и незаметно уснула.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Шайка воров. — Нет Петра Андреевича. — Надо помогать фронту
Очень трудно выздоравливающему человеку лежать неподвижно в постели. И Майя — не исключение. Просто невыносимо трудное занятие — лежать чуркой. Она ёрзает по матрацу, то и дело шевелит пальцами рук или ног. И радостно жмурится. Но скоро выбивается из сил, и остаётся одно занятие — смотреть в потолок. Потому что резвыми и не уставшими остались только глаза.
На потолке, если хорошенько в него вглядеться, есть много интересного.
Прямо над прохудившимся коленом «буржуйки» удобно расположилось пятно от копоти. Словно лягушка присела на задние лапы и приготовилась к прыжку, но загляделась на длиннорылого комара. Майя напряжённо всматривается в соседнее пятнышко. Может быть — это стрекоза в детстве?
Хорошо лягушкам. И стрекозам с комарами. Они спят себе в норках и не подозревают, какая по земле идёт страшная война.
Мысли опять навеяли уныние. Она отвлеклась плесенью, возле окна. Для этого ей пришлось опасно скосить глаза. Она испугалась. Глаза сами собой крутанутся, и она останется косой. Как Райка с заднего двора, у которой от аппендицита умерла весной мать. Жалостливые женщины из их дома дарили ей пряники, конфеты, заплетали в тощие косички новые красивые ленты. И она победно глядела на девчонок. А когда ей совали шоколадки, она, прежде чем съесть, высоко поднимала немытую руку, показывая её девчонкам. И те отчаянно ей завидовали.
У окна потолок, словно волнами, изборождён потёками сырости. Вперемежку с инеем. Это северное бурное море. Среди круто завитых поседелых волн не хватает древней викинговой лодки с бородатыми морскими разбойниками. Майя закрыла глаза, чтобы в кромешной тьме поподробнее представить их, но вдруг отчётливо увидала задиристые глаза Фридьки. Радость от выздоровления, переполнявшая её, мгновенно испарилась. В комнате захозяйничала тревожная тишина, такая жуткая и неожиданная, что ей захотелось убежать или спрятаться под одеяло. Она пересилила свою слабость, привстала немного, и вещи в комнате закружились. Она испугалась, со всхлипом шмыгнула носом и уткнулась боязливым растревоженным взглядом в сразу надоевшее до смерти пятно копоти.
Кто-то сел на её кровать. Не поворачивая головы, она спросила:
— Ты уже вернулся с фронта?
— С какого фронта, — сказал Манин голос. — Это же я.
Майя удивилась.
— Ты ещё не умерла?
— Совсем уж! — обиделась Маня.
И пересела на стул.
— Мне теперь кажется, что все в мире сейчас или воюют или умирают с голоду. Ты вот боишься умереть?
— Кому хочется, — безразлично ответила Маня. — А ты чего спрашиваешь, ты же поправляешься?…
Майя поглядела на подругу. Та ей не понравилась, она превратилась в Кощея. Только один Манин нос толстым барином расселся на лице.
— Почему это носы не худеют? Вот странно…
Она разглядывала свою тощую тяжёлую руку и удивлялась. Кожа как у бегемота повисла, только складочки тоненькие.
— Чего молчишь? Села и сидит! Отпустили ко мне?
— Некому отпускать. Страшно одной в квартире…
— А бабушка?
— Умерла бабушка… Ночью так страшно было, просто жутко одной. Я с головой дрожу под одеялом, а мне слышится, будто мёртвая бабушка ходит по комнате и всё брошку разыскивает… А потом ко мне наклоняется… Она добрая, а всё равно я её боюсь. Почему это мёртвых боятся, они ж мёртвые! Ты когда-нибудь ночевала с умершим?
— Бабушка Эльфрида умерла, когда мне было три года. А потом, у нас же коммунальная квартира, в ней всегда кто-нибудь болтается… Не могут умереть все сразу. Если, конечно, разбомбят — тогда другое дело.
Маня уныло сказала:
— Тебе хорошо, у вас коммуналка. А другой ночью я видела Зою, хоть опять накрылась с головой и дрожала… Она просила хлеба. Я теперь не понимаю, мне это снилось или она приходила.
Понизив голос, произнесла:
— Они же без гроба похоронены…
— Они же мёртвые, они же не могут по улицам разгуливать. И дверь в квартиру закрыта — вон сколько у вас запоров.
— Всё равно боюсь. Пришла к твоей маме, попросилась пожить. А ты так болела, я думала — умрёшь.
— Дура, нельзя мне умирать. Столько у меня дел!
— Всем нельзя, а умирают… Будкин пропал. Как кота съел, так и пропал… Может, кот заколдованный был. Вот жил он с нами, и я его ненавидела. А пропал… Надо было сажать его в тюрьму, тогда бабушка с Зоей не умерли бы, правда? И карточки у нас были бы. Я маме записку написала, что у вас живу. И бабушку тогда свезём в морг.
— Она лежит в квартире? — испугалась Майя.
— А где же? Так на кровати и лежит под одеялом мёртвая… Мы станем у маминой подруги жить. И дров надо на троих меньше… Знаешь, как дорого стоят дрова? Целых сто пятьдесят граммов… А Будкин замёрз, где-нибудь валяется, а люди и не знают, что у него целых три хлебных карточки…
— Ты что? Четыре, — поправила Майя. — Не мог он замёрзнуть, ел он хорошо.
— Правда, четыре. С ума сойти, столько хлеба на одного, правда?
— Ты его теперь жалеешь, что ли?
— Мне всех жалко. И тебя тоже. Я думала, что ты не вы…
— Уже говорила, — перебила Майя. — А возле военного завода фашисты разбомбить могут…
— Сейчас везде могут, — миролюбиво сказала Маня. — Зачем в войну люди должны умирать насильно? Кому хочется? А завод не успеют разбомбить, весной же кончится война. А я, Майка, думала, что ты…
— Дура, — невежливо перебила опять Майя. — Вот заладила как попугай. Говорить, что ли, не о чем?
— Я забыла. Уже Новый год прошёл.
— Врёшь опять?
— Зачем мне врать, если он прошёл? Его не удержишь, он же не конь. А я стихи научилась сочинять. Сказать?
В новых галошках, в рубашке горошком
Воробей Тимошка скачет по дорожкам.
И ещё:
Мышка в кружечке коричневой
Наварила каши гречневой…
Дальше не успела. Нравятся?
— Хорошо бы сейчас каши поесть гречневой, — задумчиво отозвалась Майя. — Не надо больше сытых стихов писать…
— А от Москвы фашистов отгоняют…
— А от Ленинграда? — с надеждой спросила Майя, вспомнив Толю.
— Москве всё первее. А на фронте тушёнку американскую дают…
Сморенная слабостью, потрясённая новостями, Майя закрыла глаза. Но Манина убеждённость её озадачила.
— Хорошо бы! Дай Кадика и сходи к Фридьке. Спроси, где он болтался.
Майя открыла глаза. Маня странно на неё глядела.
— Ну, что уставилась?
Майя удивилась своему тонкому сварливому крику, даже не крику, а писку. Маня съёжилась.
— Нет, ты язык проглотила? Скажи, проглотила?
Она почувствовала что-то неладное. Манино молчание сгустило её подозрение. Манька всегда так: держится, а в самый нужный момент прокисает, как молоко.
Маня тихо и монотонно заговорила:
— Пропал Фридька ещё с того дня. Может, шпион поймал его. Его бабушка каждое утро ищет. Идёт растрёпанная и везде заглядывает, даже в старую помойку между сараями… Скажи, разве могут в городе пропадать люди? Что Фридька — иголка?
Майя, похолодев, слушала.
— Столько новостей! Дворника с мужиком в бурках забрали. И какую-то Варвару ихнюю… и убитую заведующую забрали бы. Это воровская шайка, оказывается.
Майя медленно осмысливала сказанное подругой. Сердце её сжалось, она представила Фридьку замерзающим на улице.
Подруга подала Кадика.
Майя погладила его, поцеловала в тощую морду, в слезящиеся глаза, а перед ней стояли задиристые глаза Фридьки.
Внезапно у двери послышался голос Софьи Константиновны.
— У вас дверь приоткрыта, тепло выходит. Слава Богу, очнулась. Мы буквально приготовились к самому печальному…
— Не умерла, — неласково отрезала Майя. — А он пропал!
— Кто пропал? Господи, у вас есть котёночек. Какой чудный, буквально душка. А где мама?
Увидев расстроенное лицо девочки, повернулась к Мане.
— Её нельзя волновать. Тебя пригрели, облагодетельствовали, а ты себя как ведёшь?
Маня опустила голову.
— А может быть, он на фронте? Не мог же он заблудиться. Дурак он, что ли, пропадать в своём городе? — засомневалась Майя.
— Ты жестокая девочка. Маня, — громко отчеканила Софья Константиновна.
Майя настороженно глянула на неё, и тут её словно прорвало. Словно она нашла отдушину, чтобы её горе и бессилие перед судьбой выплеснулись.
— Сами вы жестокая, — с ненавистью сказала она, глядя в глаза Софье Константиновне. — У вашего Петра Андреевича ноги в ваши опорки не влезают, с них вода течёт, такие они синие и опухшие. А вы не видите. А лицо его вы тоже не видите? Почему вы его не кормите, свои тряпки жалеете?
Она вспомнила слова Петра Андреевича.
— Луковица сейчас может человека поставить на ноги. Или, например, мясной бульон. И картину не даёте писать, а это его лебединая песня… И ещё вором хотите сделать… Не надо мне вашего рояля. У вас мамикрия, вот!
— Мимикрия, — потерянно поправила Софья Константиновна. — Господи, она бредит. Кто же сейчас купит рояль? Разве что на дрова. Я приду позже…
Она вышла из комнаты, забыв закрыть за собой дверь.
— Ты чего? — проговорила Маня.
— Ты не могла Кадика покормить? Он же еле живой! — накинулась взбудораженная Майя на подругу. — Скажи, Юрика при тебе уносили?
— Ага. Им манную кашу дают. Со всего города собирают… у кого матери умерли… А молоко тебе оставили, ты же болела. Твоя мама тебя, как маленькую, с ложечки поила. Ты не глотаешь, проливается… Я думала, думала и Кадика подложила, когда твоя мама не видела… Он преспокойно слизывал у тебя с подбородка. Я и сама думала слизывать, да неудобно. Он и щёки твои облизывал. И нос. Прямо не оторвать было, так он тебя полюбил! Знаешь, среди двора накопилось столько мусора! Как гора! А твоя мама меня кормила два раза хряповыми щами. Такие они вкуснющие, все пальчики перелижешь! У вас и повидло земляное, и хряпа уже кончаются. Что вы будете есть?
— Скоро фашистов прогонят. Не каркай.
— Я говорю, а не каркаю. Что я, ворона, по-твоему? — обиделась Маня и замолчала.
— Скажи, я жестокая? — спросила Майя.
Подруга выпучила глаза
— Молчишь, — презрительно выдавила Майя. — Все вокруг пропадают, умирают, а я радуюсь, что не умерла.
— Это организм твой радуется. Тебя не спросясь.
Это сказала Наталья Васильевна. Она уже пришла и раздевалась у вешалки.
— Продала?
Наталья Васильевна устало села на диван, покачала головой.
— Облава была… Кого забрали, а кто убежал. Кому хочется в пикет? Вот за деньги купила кусочек дуранды. И то в переулке возле рынка. Денег-то немного было…
Она положила на стол кусок дуранды. Маня судорожно сглотнула, разглядывая искоса твёрдый, как камень, жмых. Он был весь в остатках семечек, непонятных зеленовато-бурых частицах, серо-чёрных тростинок и вовсе непонятных, но съедобных кусочков.
— Как дальше будем жить?
Как горько сказала это мама, как устало закрыла глаза, как бессильно опущены её руки!
Девочки с испугом глядели на неё.
— Как протянем зиму, — продолжала Наталья Васильевна, — сколько можно терпеть такое человеку? Ладно. Маня, подай чашку со стола, топориком кусок разобью на мелкие части и замочу. А потом мы наварим вкусной каши.
Маня сразу повеселела.
— Вы и варите в этой воде, а то много питательных средств пропадёт. А я принесла кожаный ремень, бабушка его приготовила… Его тоже можно варить, ведь он из кожи… заграничной. А то вы меня кормите…
Маня отстегнула ремень с пальто, положила на стол.
— Не средств, а веществ, — поправила Наталья Васильевна. — Оставь пока у себя…
Маня, стесняясь, не брала назад свой ремень.
Дверь в комнату распахнулась, шумно вошла Софья Константиновна. Она была очень встревожена.
— Наталья Васильевна, помогите мне, Христа ради. Богом прошу. У меня…
— Что случилось? — встрепенулась Наталья Васильевна. — Что у вас?
— Неловко просить, но я в таком отчаянии!
— Да, что с вами?
— Не со мной, с Петенькой. Упал возле своей несчастной картины и молчит. Не отвечает, понимаете?
— Что, умер? — испугалась Наталья Васильевна.
— Нет. Не знаю. Может, у него голодный обморок, но почему глаза закрыты? Вы ходили на рынок, принесли мяса? Умоляю вас, дайте для Петеньки. Ему нужен мясной бульон. Как никогда нужен! И пойдёмте, пожалуйста, он лежит у окна, он простудиться может… его поднять надо, а одной…
— Не принесла я мяса. Облава была, разбегались все. Простите, но вам надо самой туда ходить. Сейчас я наброшу пальто и платок…
Софья Константиновна часто-часто заговорила:
— Вы знаете, как было трудно доставать приличные вещи. С шести утра занимали очереди в промтоварные магазины. Помню, неделю ходила, чтобы купить костюмы. Серёже купили синий шевиотовый, а Игорьку и Петеньке, но уже в другой раз, купили по коричневому… И пальто с трудом доставали. Разве я могу их продавать? У Петеньки скромная зарплата, а мне ещё двух мальчиков воспитывать! Придут с войны, скажут, что мать единственные костюмы проела.
Тут глаза Софьи Константиновны вдруг заметили котёнка. Майя тревожно накрыла малыша краем одеяла и следила за Софьей Константиновной. Маня придвинулась к подруге.
Софья Константиновна подходила всё ближе. Её набрякшие слезами глаза остановились на Майе. Та напряжённо следила за нею и затискивала котёнка под кофту. Котёнок тонко пищал от боли и царапался.
Вдруг женщина упала на колени, протянула Майе худые руки.
— Отдай его. Спасать надо. Отдай, — глупо просила она.
Майя отодвинулась к стенке, с тревогой уставилась на её руки.
— Милая, отдай!
— Зачем?
Вопрос сухо и напряженно прошелестел в тишине. Наталья Васильевна с пальто в руках замерла у вешалки. Маня заикала.
— Мама, она же, она же…
— Наталья Васильевна, это для Петеньки! Это же мясо, понимаете? А ему нужен бульон. Петеньки не станет, и я не буду жить! Понимаете? Ему бульон нужен… Петеньки не станет, зачем мне жить? Христа ради прошу!
— Нет! — ужаснулась Майя. — Какой он кусок, видите, в нём одни косточки?!
Она вытащила пищавшего котёнка из-под кофты.
— Его крысы не съели. Его мама погибла, защищала его от них. Какой он кусок? Он — одни косточки… он не кусок…
Наталья Васильевна быстро подошла, погладила Майю по голове исколотыми крючком шершавыми пальцами.
— Успокойся доченька.
Мягко тронула оцепенелую Софью Константиновну за плечо:
— Пойдёмте, прошу, — сказала она. — Пусть успокоится, подумает, попривыкнет…
— Не попривыкну, — упрямо ответила Майя.
Софья Константиновна тяжело поднималась с колен, она постояла секунду, и, ни на кого не глядя, поплелась за Натальей Васильевной.
— Он лежит, замерзает, а она… — сердито проговорила Маня.
Она сидела выпрямившись, словно кол проглотила. Вдруг Маня спросила:
— А если художник умрёт, кто тогда станет рисовать картину про Победу? Вдруг она тогда не наступит? Правда?
Майя озадаченно уставилась на подругу. Манина мысль её поразила, и она долго не могла вникнуть в суть её. Тревога за котёнка перебивала все её мысли.
— Глупая, понимаешь, что ты сказала? Ну, кто тянул тебя за язык? Ты не понимаешь, что ты сделала! Теперь я не могу…
Котёнок выбрался из-под кофты и укусил Майю за палец. Он сопротивлялся.
— Я не могу теперь его не отдать!
Возвратилась Наталья Васильевна. Она куталась в пальто и была далёкая, отстранённая. Девочки не спускали с неё глаз. Наконец она сказала:
— Сколько нервов надо, чтобы просто жить, а тут… Прими лекарство, успокойся. А Петру Андреевичу уже ничем нельзя помочь. Я говорю страшные вещи спокойным голосом. Ну, неужели мы становимся такими чёрствыми, ко всему безразличными? Сколько можно умирать людям?
— И кто станет встречать победу, если мы умрём, — удивилась Майя.
— Почему от Ленинграда не могут отогнать! — поддакнула Маня.
— Победа придёт, как не прийти, если за неё отдают такие жизни! Надо выжить, выстоять, а ей — как не прийти? Я одна на фронт троих проводила, — бормотала Наталья Васильевна, принимаясь за вязанье.
— Может, и нам на фронт попроситься? — сказала Маня.
— А, может быть, на твою фабрику нам пойти? — спросила Майя, отмахиваясь от Мани. — Ты, Манька, глупая. Кто нас возьмёт? А носки вязать мама научит. Их проще вязать, чем перчатки.
— И карточку рабочую дадут? — обрадовалась Маня. — А то сидим без дела.
Обрадованные девочки заговорили, перебивая друг друга. Наталья Васильевна задумалась, но спицы продолжали ловко мелькать в её руках.
Внезапно замолк метроном.
Все настороженно уставились в чёрную тарелку репродуктора, ожидая, что последует за паузой.
— Вдруг тревога, а у нас поставлена каша вариться. Придётся огонь залить… Зря сколько дров переведу, — досадливо сказала Наталья Васильевна. — Ещё тебя собирать…
— Давно не ходят в бомбоубежище. А бомба этажи пробивает и ещё уходит в землю на пять метров, — со знанием дела сказала Майя.
— Кто уходит в землю? — не поняла Маня. — Разбомбят, и каши наесться не успеем. И вязать не научимся. Может, хлеба прибавили? Или фашистов отогнали, как в Москве?
Не спуская глаз с молчащего репродуктора, они гадали. Неизвестность и тревожна, и заманчива.
Репродуктор хрипло закряхтел, и вдруг из него полились страстные, полные веры и боли стихи:
Ленинградцы, дети мои,
Ленинградцы, гордость моя!
Запомнилось:
К вам в стальную ломится дверь,
Словно вечность, оголодав…
Потрясло и обрадовало:
Сдохнет он у ваших застав,
Без зубов и без чешуи!
Они слушали жадно. Это ведь про них. Страна знает, как им сейчас трудно, знает, как в осаждённом фашистами городе они падают и умирают.
Когда кончились стихи, они с надеждой ели нипочем не провариваемую дурандовую кашу. И котёнок ел, кротко поглядывая на Майю. Она его гладила и ласкала, думая о Петре Андреевиче.
— Какая длинная зима. Тянется и тянется, а если сосчитать, прошёл всего один зимний месяц, — удивилась Майя.
— Всего один месяц, — поддакнула Маня, аккуратно слизывая с ложечки кашу и робко поглядывая на Наталью Васильевну. — Такого длинного месяца я даже не помню.
— Съели, а теперь спать! Я устала и не могу вязать, а керосин зря жечь ни к чему. Ложиться всем на кровать и получше укрываться. А то к утру в сосульки превратитесь. Утюг горячий?
— Мамочка, а каши на утро осталось? А то я не могу…
— Тётя Наташа, вязать тяжело?
— Спать. Спокойной ночи!
— Спокойной нам ночи. Спокойной нам ночи. Спокойной нам ночи! — как заклинание твердили девочки.
Они крепко прижались друг к дружке и долго щупали ногами чугунный утюг. В коробке, зарывшись в вату, спал Кадик.
Блокадная зима сорок первого года продолжалась.
Невыносимая, нечеловеческая зима.
2003
