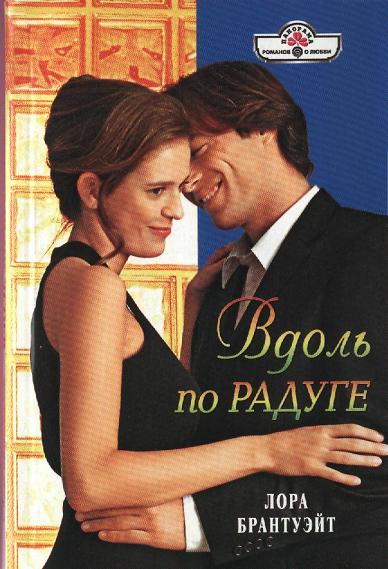
Лора Брантуэйт
Вдоль по радуге
1
Город жил своей неспешной жизнью, и ничто не могло нарушить ее размеренного ритма. Это так обычно для маленьких городков, и не важно, о какой стране идет речь: об Австралии или Голландии, о Мексике или Франции… Все течет, все меняется — но в то же время по большому счету не меняется ничего. Те же короткие, неширокие, будто ножом вырезанные из картона улицы, те же дороги, те же тонкостенные домики — и как только они до сих пор стоят? В этих домиках жили и умирали люди, но до того, как они умирали, они рождали и растили детей, и их дети занимали в свою очередь другие домики, и там тоже рождали, и растили, и умирали… Человеческие жизни текли и изменялись, но город стоял, хотя и маленький и неказистый, — он стоял непоколебимо. И не было ему дела до того, что творилось с людьми.
А с людьми определенно что-то творилось.
Если бросить в озеро камень, вода взволнуется, пойдет кругами, но с берегами и дном не произойдет ничего.
Камень был брошен. И с городом не стало ровным счетом ничего — но вот люди, люди… Как текучая, подвижная масса воды, они пришли в движение, и по всему Огдену разошелся шепоток: странная, странная новенькая.
«Новенькой», чтобы ее прозвали странной, не нужно было иметь третий глаз во лбу, ходить по улицам босиком или говорить стихами. Ей достаточно было приехать в Огден, причем приехать, чтобы поселиться. Огден — местечко из тех, куда не приезжает никто и никогда, или же приезжает на несколько дней, чтобы вкусить красот природы и укатить восвояси.
Но нет, Кэтрин Данс— весь городок в два дня уже знал ее имя — приехала в Огден, чтобы жить здесь. Последние «поселенцы» появлялись здесь года три-четыре назад, правда, исчезли где-то через полгода или год, что и понятно: работы мало, развлечений — еще меньше, пейзажи вокруг городка — на любителя, красивый, но суровый край гор и пустынь. Не место для одинокой молодой женщины, тем более одинокой молодой женщины с ребенком; те, кого ничто не держит, изо всех сил рвутся в города покрупнее, в Солт-Лейк-Сити, например, а не в заштатный, «одноэтажный» городишко. И что только могло ее привести в эту глушь?
День выдался прескверный. Грэй Грэхем не любил дождя, видимо, душа его была чужда поэзии. Крупные, протяжные капли, что сеялись с небес, не рождали в нем сладкой тоски по уюту и не дарили ему умиротворения, напротив: они раздражали его, частый тихий перестук по лобовому стеклу машины будил в нем досаду и злость, а уж когда он вылез из своего «мустанга» и дождь настойчиво и бесцеремонно полился ему за шиворот, — Грэй и вправду готов был проклясть все на свете, и круговорот воды в природе в первую очередь.
Впрочем, о естественном круговороте воды Грэй имел очень расплывчатое представление, так как в школе звезд с неба не хватал, устройство мира его особенно не интересовало, уроки естествознания он пропускал мимо ушей так же, как и все остальные, кроме физкультуры, потому что физкультуру надо не «слушать ушами», а «делать руками и ногами». Руки и ноги у него работали преотлично, что и дало Грэю возможность развернуться на бейсбольном поле, то есть поприще. Грэй принадлежал к числу тех людей, которые сами лепят свою судьбу, а потому он свою «возможность» превратил в «звездный шанс», воспользовался им — и действительно стал звездой. В масштабах Огдена. Благоразумие у Грэя всегда одерживало верх над честолюбием, поэтому на большее он и не рассчитывал: жил себе преспокойненько, почивал на лаврах «лучшего бейсболиста» трех сезонов, клеил хорошеньких, по-провинциальному непритязательных девушек, которые почитали за счастье прокатиться с «та-аким па-арнем» в кино или появиться на вечеринке… И был вполне доволен жизнью.
Его бейсбольный талант, надо сказать, поспособствовал не только его личной жизни и спортивной карьере — Грэй еще и образование умудрился получить. В тот год, когда он окончил школу, команда университета Вебера как раз пребывала в полном упадке и ждала своего спасителя, как истовые сектанты — нового мессию. И он пришел… Грэй, который в силу своего равнодушного отношения к граниту науки даже и не думал о высшем образовании, стараниями тренера университетской сборной и сложной цепи знакомых, которая их связывала, угодил на отделение социологии и управления и спустя четыре года даже получил диплом бакалавра. Диплом ему не пригодился, а вот возможность играть на университетском поле — очень даже. Так что Грэй убежденно верил: что ни делается, все к лучшему.
Это было некое знание из тех, что прекрасно работают вообще, в масштабах лет и даже десятилетий, разводов, родов и измен, но абсолютно неприменимо к мелочам. По крайней мере, что хорошего в этом досадном дожде, Грэй никак не мог увидеть…
Хотя, может быть, смысл всего этого небесного мероприятия с бледно-свинцовыми тучами и каплями, которые сеются сверху, как мука через сито (Грэй видел такое, его бабушка была очень щепетильна в вопросах кулинарии и потому пекла лучшие в Огдене пироги), заключался в том, чтобы под крышей непритязательного кафетерия Грэю довелось встретиться с единомышленником.
Единомышленник приходился ему также однокашником и лучшим другом. Сейчас, правда, они с Грэем пребывали в ссоре. Ссоре исполнилось всего-то три дня, но она грозила перерасти в долгий, на несколько недель, муторный конфликт: повод был слишком уж серьезен. Точнее, серьезен он был в глазах общественности, а Грэй и Сэм просто шли на поводу у этого распроклятого «а что люди скажут».
Дело в том, что три дня назад Сэм отмечал свой двадцать восьмой день рождения. Сам он не отличался выдающимися талантами, которые так или иначе привели бы его в стены университета, а потому работал скромным менеджером в книжном магазине, но с Грэем его связывала долгая, со времен детского сада, дружба. Дружба бывает порой очень неравноправной, например, когда один из друзей — звезда, а другой — простой обыватель, но Сэм считал, что даже такое отношение («я всегда первый, а ты всегда последний») лучше, чем полное отсутствие отношений. Кроме Грэя, близких друзей у него не было, но он полагал, что это вполне справедливо: нельзя, чтобы одному человеку выпало счастье иметь много друзей, среди которых был бы сам Грэй Грэхем… Так что Сэм мирился со своей участью «младшего товарища» (как это называлось, когда Грэй пребывал в добром расположении духа) и как мог выражал ему свою преданность.
Но всякому смирению и терпению когда-нибудь приходит конец.
Как оказалось, источник смирения в его сердце иссякаем. Произошло нечто такое, что заставило Сэма поднять бунт на корабле. И не то чтобы Эвелин была любовью всей его жизни… Да, красивые ножки, ротик и глаза тоже ничего, да и встречались они — нешуточное дело — уже три месяца, однако по большому-то счету ничего особенного, таких в меру хорошеньких девчонок миллионы.
Но нельзя, невозможно терпеть, когда твой самый-лучший-на-свете-друг на глазах у всех тридцати человек (рекордное число гостей для скромного дома Сэма) клеит и уводит твою девушку!
Сэм не стал терпеть. Правда, ему пришлось изрядно себя накрутить, но в конце концов он преуспел — в этом ему помогли два бокала вина, — и устроил скандал. В лучших традициях. С оскорбительными воплями, разбитой посудой и даже коротким мордобоем (Грэй скрутил его в пятнадцать секунд). В общем, гости были довольны. Многие уходили домой с насмешливыми (мужчины) или мечтательными (женщины) улыбками на устах. Еще бы, такая славная история, такие сладкие пойдут сплетни…
Грэй уехал раньше всех, демонстративно прихватив с собой Эвелин.
Сэма посетила смутная догадка, что она была рядом с ним главным образом потому, что иногда он брал ее в компанию Грэя Грэхема.
— И замечательно, что он избавил меня от этой мелкой шлюшки, — говорил он после, уже сам себе, полулежа в кровати с бутылкой пива в руке. Дрянь это — пить пиво после вина и шампанского, к тому же в гордом одиночестве, к тому же в свой день рождения, а что делать?
Пожалуй, если бы Грэй сделал это по-тихому, ну в крайнем случае в узком кругу, Сэм еще и спасибо бы ему сказал. Подулся-подулся, а потом сказал. Или с самого начала сделал бы вид, что ничего не произошло. А так… гнусно получилось. Когда Сэм был маленьким, его тетка как-то сказала ему, что у него больное самолюбие. Кажется, дело было в том, что он наотрез отказался идти на детский праздник с распухшим от пропущенного мяча носом. Это было еще до того, как он близко сошелся с Грэем. В последующие годы он с усмешкой вспоминал этот случай. Если у него и больное самолюбие, то уж не в смысле «ранимое», а в смысле «странное до крайности».
В общем, это странное до крайности самолюбие, которое он долго и старательно заталкивал в самые отдаленные уголки своей души, иногда вдруг неожиданно давало о себе знать. Выпирало наружу, как воздушная подушка в автомобиле его дяди… Вот и на этот раз тоже. Спустя ночь и полдня Сэм уже искренне корил себя за то, что так бурно отреагировал на… мм… бестактность Грэя и беспардонную подлость Эвелин. Если бы он вовремя себя обуздал, у него сейчас не было бы девушки, но был бы друг. А так — ни того, ни другого.
Об этом Сэм печалился и теперь, сидя в кафешке и поедая свой ланч под тихий шум дождя, громкое урчание допотопных кофе-машин и каких-то еще машин на адской кухне, которая располагалась прямо за стойкой кассы, и выкрики официантки-кассирши. Сегодня дежурила Мэган, самая голосистая из всех девушек в «Одиноком желуде». Этого недостатка не покрывал даже внушительных размеров бюст, очень мягкий на вид (изрядная его часть виднелась в вырезе форменной блузки).
Сэма удручало все, начиная с того, что ему уже стукнуло двадцать восемь, и на носу уже кризис тридцати лет, то есть пора бы задуматься о том, что работа так себе, ни дома своего, ни жены, и заканчивая дождем. Естественно, шум в запруженном любителями дешевых и калорийных ланчей кафе включен в список.
Когда Грэй вошел — стеклянная дверь, тугая, между прочим, распахивается, и на пороге появляется он, в футболке с темными пятнами от воды и до крайности недовольным лицом, — Сэм напрягся. Это естественно: любой самец напрягается, когда видит самца крупнее, сильнее и опаснее себя. Самки, как правило, реагируют обратным образом: расслабляются. Это и понятно: сильный самец для другого, более слабого, — угроза, а для самки — надежда. На счастливое продолжение рода и собственную безопасность под его могучей защитой.
Спасаясь от чувства опасности и напряжения, с ним связанного, Сэм всегда стремился быть к Грэю поближе. Вот и сейчас он ощутил почти непреодолимое желание подняться ему навстречу или хотя бы небрежно эдак махнуть рукой.
Грэй его увидел почти сразу и насупился пуще прежнего. Как будто это ему, а не Сэму, приходится тональным кремом замазывать скулу с кровоподтеком, чтобы покупатели не пугались.
За синяк он обижался едва ли не больше, чем за Эвелин.
Мысль об этих двух неприятностях навеяла на Сэма такую тоску, что ему захотелось напиться пива, устроить пьяный дебош и никогда не вернуться на работу. Пусть его уволят, тогда уж точно никто не посмеет смеяться над внушительным списком его неприятностей.
Он сделал вид, что смотрит вовсе не на Грэя, а куда-то ему за спину. Вроде бы и взгляд отводить не нужно, но и в глаза можно не смотреть…
И Грэй никогда не подошел бы первый, если бы проклятый дождь не разбудил в нем досады, которую нужно было куда-то излить. Может быть, он отчасти даже искал продолжения ссоры. И еще ему было чуть-чуть, самую капельку, стыдно перед Сэмом. Все-таки девиц вроде этой Иви, Евы или Лины у него может быть сколько угодно, а Сэм — только один.
Заказывая у стойки двойной салат из свежих овощей, двойной бифштекс без гарнира и большую диетическую колу — как-никак за формой надо следить, — он обдумывал, с чего бы начать.
Размышления его вылились в хрипловатую от легкого неудобства, отрывистую фразу:
— Ну, как жизнь?
Фразу эту он бросил Сэму, как иногда зарвавшаяся и злая, как фурия, уборщица в кафе бросает перед носом у клиента тряпку на стол — прежде чем с усилием, но без усердия его протереть.
Вслед за приветствием последовал поднос с условно-диетическим ланчем. Грэй явственно продемонстрировал Сэму, что намерен расположиться именно здесь. И если Сэм имеет что-то против, то это его, Сэма, личные проблемы.
Однако если у него и имелись некоторые опасения по поводу того, что Сэм станет возражать или как-то еще выразит свое недовольство, они оказались совершенно напрасны: весь запас бунтарства, которым обладал Сэм, уже иссяк. Он был безмерно счастлив тому, что друг, который едва не перешел в разряд бывших, все-таки вот-вот снова станет лучшим. Ему пришлось держать себя в руках, чтобы не выплеснуть на Грэя весь свой восторг по этому поводу.
— Нормально, — сдержанно сказал Сэм и многозначительно вздохнул. Вздох должен был обозначить печаль по поводу того, что они с Грэем повздорили, но в нем уместилась еще и радость от нежданной-негаданной встречи. — А ты как?
— В порядке, — буркнул Грэй.
На этом этикетный разговор можно было считать законченным. Повисло молчание. Грэй сделал большой глоток колы.
— Кхм… Как закончился день рождения? — неуклюже поинтересовался он. Непонятно, что это было: задиристая грубость или «мостик» к примирению.
— Да-а… — Сэм неопределенно пожал плечами. День рождения закончился по-настоящему скверно, и ему не хотелось вдаваться в подробности. — Гости разошлись довольно рано, ничего особенно интересного больше не было.
— Ясно, — буркнул Грэй. — Ты… это… девица та звонила тебе?
— Какая?
— Ну… твоя.
— Моя бывшая? Нет, не звонила. И черт с ней. — Сэм насупился.
— И правильно. — Грэй хотел было добавить, что незачем уважающему себя мужчине путаться с девицами легкого поведения, которые, не думая дважды, готовы в любой момент прыгнуть на шею — и в постель — к другому, но сдержался. Все-таки он хоть чуточку, да виноват. — Мы тебе новую найдем, получше, посимпатичнее. Не переживай.
Сэм хмыкнул и покраснел от удовольствия. С ума сойти, Грэй заботится о нем!
— Моя тетка говорила, что у нее соседка новая. Приезжая. Хорошенькая — прелесть. Она ее, конечно, мне сватала, но мне не надо: по всему видать, умная очень, да к тому же с ребенком. А тебе, может, и подойдет: ты ж у нас голова…
Сэм ушам своим не верил. Грэй, бывало, знакомил его с девушками из своих бывших, но это происходило как правило случайно и никаких последствий не имело.
Грэй со своей стороны сам не вполне понимал, что такое говорит, но все равно говорил — может быть, это был тихий и неуверенный голос его совести. В кои-то веки она проснулась… Возможно, если бы он чаше с ней общался, то научился бы как-то противостоять ее требованиям, а так — был абсолютно перед ней беззащитен.
— Она врач, — продолжил он с удвоенным энтузиазмом: молчаливая, если не сказать немая, радость Сэма его и забавляла, и умиляла. — Блондинка. И очень деловая, и машину водит аккуратно, и как мать заботливая.
— Ну у тебя и разведка, — вздохнул Сэм.
— Не разведка, а тетка. А это, сам понимаешь, еще надежнее. Кстати, думаю, тетя Пэт с восторгом возьмется и за твое сватовство, если ей намекнуть. Ты ей, помнится, приглянулся.
Сэм сглотнул, вспомнив маленькую сухощавую женщину, из которой энергия била ключом и еще иногда — крупными искрами, почти что с треском, как когда проводка сгорает… Она напоминала небольшой своевольный ураган, сопротивляться которому абсолютно бесполезно. Все события, люди и вещи с ее появлением начинали вращаться вокруг нее. Сэм подозревал, что, если к ней поднести компас, стрелка взбесится и пойдет плясать кругами. Магнитная аномалия по имени Пэт…
В свое время она произвела неизгладимое впечатление на Сэма, когда ущипнула его за щеку, будто десятилетнего школьника, чтобы проверить, как у него с кровообращением, и мимоходом проинспектировала чистоту воротничка, пробормотав: «Сразу видно, холостяк, надо передать в надежные женские руки».
Сэм подозревал, что уж она-то передаст, стоит ей только захотеть по-настоящему. Причем в самое ближайшее время. Возможно, еще до того, как он успеет запомнить имя дражайшей дамы.
— Я бы не стал беспокоить твою тетю Пэт такими просьбами, — осторожно высказался Сэм.
— Да брось! К тому же беспокоить придется мне, а не тебе. — Грэй уже достал из кармана куртки сотовый.
Сэм прикрыл глаза, но возразить другу не решился. Все-таки Грэй старше его и добился в жизни большего, и стоит, наверное, прислушаться к его мнению. Тем более что спорить с Грэем Грэхемом, если того увлекла какая-то идея, просто бесполезно.
Он рад был, конечно, что примирение с лучшим другом произошло так легко и быстро, но на душе скребли кошки, эти маленькие когтистые создания, невероятно милые, когда сидят на коленях и позволяют гладить себя по шерсти, но совершенно пакостные, стоит их подпустить поближе к сердцу. Чутье уже подсказывало ему, что что-то будет. И это что-то наверняка отразится на его шкуре.
— Алло, тетя Пэт? Привет, да, это я, твой непутевый племянник. Послушай, у меня к тебе щекотливое такое дельце…
«Вот так Сэмюель Симмонс угодил в переплет», — с пафосом сказал сам себе Сэм.
И тут он не ошибся: Сэмюэль Симмонс действительно угодил в переплет.
2
Кэтрин лежала и смотрела в потолок. Обычно она презирала подобные занятия, но сейчас ей стало плевать на все. Она бы и в потолок плюнула, да боялась, что не долетит плевок до сероватого, давно не беленного потолка, а упадет прямо на нее, повинуясь не ее воле, а извечному закону тяготения.
Так почему-то происходило всегда. Хотя не «почему-то»… Кто такая она, Кэтрин Данс, в масштабах мироздания? Песчинка, пылинка, молекула, атом. И с чего бы событиям в мире равняться на ее волю? Абсолютно не с чего. Ветер не дует туда, куда желает песчинка, ветер подхватывает ее и несет, потешаясь, мешает с другими песчинками, перетирает, откалывая крохотные кусочки, превращает в пыль, день ото дня, час от часу. Или, напротив, — слеживается песчинка с другими песчинками, сдавливается, скрепляется, превращается в камень, крошистый, но все-таки камень.
«Когда-нибудь я умру, — подумала Кэтрин. — Может быть, даже очень скоро. Хотя какая в общем-то разница? Пять дней или пятьдесят пять лет… Век песчинки короток. Стану ли я пылью или камнем? Наверное, пылью. Камнем — не судьба, можно было бы, если бы всю жизнь на одном месте жила, держала связь с большой семьей, а так…»
Больше всего на свете Кэтрин хотела иметь большую семью.
Но — не всем нашим желаниям суждено сбыться. Не слушает ветер желаний песчинки и все тут…
Кэтрин поморщилась, ощутив легкий приступ тошноты, и перевернулась на живот. Это не очень умно, переворачиваться на живот, когда тебя тошнит, но ей хотелось сделать себе хуже. Больнее, страшнее, хуже. Чтобы стало невыносимо…
С тех пор как они с Томом приехали в Огден, она ни разу не плакала. А зря. Надо было, надо было выплакаться, вскрыть нарыв, который болел и пульсировал где-то рядом с сердцем, очень-очень близко. Но у нее не получалось. В ее глазах как будто наступила засуха. Сезон дождей прошел.
Под веками чуть-чуть скребло, как от песка, а слез не было. Она пробовала даже поднести к глазам разрезанную луковицу, но это нисколько ей не помогло. Все закончилось тем, что она, кусая губы и проклиная свой упрямый организм, мыла глаза холодной водой из-под крана.
Она уже все выплакала с Дэвидом. Ничего не осталось.
Иногда ей начинало казаться, что она выплакала и свою душу, и внутри теперь — одна пустота. И это были сладкие мгновения. Она тогда улыбалась и мечтала о том, как Дэвиду в следующий раз захочется ее помучить, а она ничегошеньки не почувствует. То-то будет весело!
Но следующий раз наставал, и все ее мечты рассыпались в прах. Она чувствовала, и еще как чувствовала, причем не только физическую боль, но и то, как мучительно сжимается что-то внутри, сжимается в маленький жалкий комок и переворачивается, как переворачивается ребенок во чреве матери. В ней ворочалась исстрадавшаяся душа.
Кэтрин и теперь приходилось трудно, но спасения в виде слез у нее не было. Приходилось стискивать зубы и быть сильной. И только иногда, в минуты никому не видимой слабости, как сейчас, например, она позволяла себе закрыться в спальне или хотя бы в ванной и тихонечко повыть, искажая сухие щеки и рот в оскале раненого животного.
Какая сложная штука жизнь. Какая простая штука жизнь. Все имеет свою причину и свое следствие, вещи, события и поступки спаяны в одну цепь, вьющуюся из прошлого и постоянно пополняемую новыми звеньями, которые образуют настоящее и будущее.
Цепь ее судьбы была основательно потравлена черными пятнами. Интересно, а могло бы все сложиться иначе? Наверное, могло бы, если бы она в нужные моменты выбирала другие шаги. Или нет?
В детстве Кэтрин мечтала о братике и двух сестричках. Как весело было бы играть с родными, такими же золотоволосыми и зеленоглазыми, как она, девчушками, играть днями напролет, засыпать в одной комнате, рассказывать друг другу смешные, таинственные и откровенно страшные истории. Как задорно они подтрунивали бы над старшим братом, с визгом бросались бы врассыпную, когда ему вздумалось бы учинить шутливую расправу, а потом все равно шли к нему со своими девчачьими трудностями и обидами, чтобы помог, объяснил, заступился.
Родители других детей не хотели. На второго, а тем более — третьего или четвертого, не хватило бы сил и времени, да и, признаться, денег тоже.
Кэтрин росла одна, страстно тянулась к другим детям, бурно дружила с ними, не менее бурно ссорилась, детская ее жизнь расцвечена была яркими вспышками ликования и счастья — и горьких обид и даже драк.
И все же это не удовлетворяло ее острой тоски по родным братьям и сестрам.
По вечерам, перед тем как лечь спать, она читала книги вслух. Мама с папой были весьма довольны: они с большим облегчением переложили эту обязанность на саму Кэтти. Кэтти не требовала, чтобы с ней кто-то сидел перед сном. Она воображала, что читает для своих маленьких сестричек и те слушают ее затаив дыхание.
В мире ее фантазий у нее был шумный, веселый дом, полный детского смеха, звука легких бегущих шагов и звонких голосов.
Ее родители к детской беготне и неудержимому хохоту, а также голосистому плачу и играм относились иначе. Они называли это «трудностями» и делали из «трудностей» главный аргумент в пользу того, что трое человек — уже полноценная семья и большего не надо.
Однако дом все же сделался шумным. Там стали много шуметь, но не дети… Так шумят в доме, где живут озлобленные, уставшие друг от друга люди, которые никак не могут что-то поделить и не хотят решать вопрос миром. Когда причинить боль другому человеку становится важнее собственного покоя, дело плохо.
Когда ей было десять, отец с матерью развелись. Бывают расставания тихие, можно сказать, полюбовные, когда люди понимают, что вместе им много хуже, чем было бы поодиночке, и дальше мучиться не стоит. Они тогда расходятся с миром и остаются едва ли не друзьями, и жизнь их дальнейшая течет спокойно, лишь чуть-чуть приправленная горчинкой-печалью. Но бывает иначе: мелкие ссоры превращаются в скандалы, скандалы становятся крепче и злее, как мороз на Аляске, раз от разу выплескивается в них все больше злости, и, как ни тяжело это, все больше злости остается внутри. Скандал, подобно снежному кому, катится под откос неудержимо, пухнет, набирает скорость, набирает силу и падает вниз холодной, колючей массой острого, мокрого, неприятного снега. Будто лавина сошла.
Такая лавина и погребла под собой родителей Кэтрин. Когда-то она старалась забыть тот ужасный период бурливой ругани, что предшествовал разводу, и как превратилась в истеричку ее некогда веселая и энергичная мать. Воспоминания поблекли, но осталась тяжесть на сердце и беспрестанная, беспричинная тревога, терзавшая ее каждую минуту жизни. Кэтрин поняла, что забывать нельзя, лучше помнить, отчего больно, чтобы не считать себя сумасшедшей и не строить у себя в голове болезненный мир, где все вещи и события разрозненны и ничто не имеет причины и следствия.
Когда ей исполнилось тринадцать, мать погибла в автокатастрофе. От отца уже почти два года она не получала ни писем, ни подарков, ни даже открыток к Рождеству и дню рождения. Где он и что он там делает, ей было неизвестно, и она со всей яростью озлобленного и обиженного подростка уверяла себя, что ей это неинтересно, но часто просыпалась в горячих слезах на холодной сырой подушке: ей снились сны о том счастливом времени, когда они с папой и мамой жили вместе, ездили за покупками по выходным и слова «развод» она не знала.
Кэтрин забрала к себе бабушка, добрая в общем-то, очень религиозная и при этом страшно ворчливая женщина. Кэтрин, как и положено подростку, бунтовала против запретов, которые стали теснить ее, как те свинцовые пластины, которые в средневековой Испании накладывали на ночь девочкам на грудь, чтобы вырастали похожие на мальчишек фигурой — по моде. Как и любой подросток в свои самые злые, нервные годы, она чувствовала, что бабушке не хватит сил, чтобы сломить ее враз прорезавшуюся волю, и при других обстоятельствах, может быть, стала бы совсем несносным существом. Но Кэтрин чувствовала также — то ли сердцем, то ли совестью, кто знает, что есть в нас такое чуткое и мудрое? — что бабушка единственный родной ее человек, человек, в котором теперь заключается вся ее мечта о семье. Маленькая семья, посмотреть грустно, а все же — много лучше, чем ничего.
И Кэтрин бунтовала… вполголоса.
И это «вполголоса» крепко привязалось к ней, вошло в ее жизнь, в манеру держаться, говорить и действовать. Прошло время, из разумной, говорливой и быстрой в мысли и движениях девочки, из беспокойного, зло сверкающего глазами подростка с недевичьими желваками на скулах Кэтрин выросла в неразговорчивую, замкнутую девушку, строгую и серьезную, которая всю энергию, что прежде свободно лилась из нее, направляла на учебу.
Училась она, можно сказать, с остервенением, просиживала над книгами дни и ночи, спала с учебником химии, вместо Библии читала «Естественную историю» и решала задачки по генетике, лежа в горячей ванне. Ребята, с которыми она училась, считали ее малость сумасшедшей, девчонки втихомолку посмеивались, но если кто-то шел на открытую провокацию, то в ответ получал только рассеянный, ничего, кроме легкого презрения, не выражающий взгляд. Кэтрин была по-настоящему красивой: высокая, с тонкой, костью, лебединой шеей и умопомрачительно длинными ногами; классически правильное лицо украшали огромные зеленые глаза в густой опуши ресниц, под тонкими изломами бровей. Но красоту она никогда не считала своим главным достоинством, точнее, наверное, не обращала на нее внимания. Умопомрачительные ноги всегда скрыты были под длинными, до пола, юбками, которые любовно выбирала для Кэтрин бабушка, или в бесформенных джинсах, которые выбирала она сама. Глаза и губы не знали косметики, а золотистые волосы она долгое время стягивала в невзрачный хвост, а потом и вовсе коротко остригла. Ее не приглашали на свидания, она носила титул самой непопулярной девчонки в параллели, но, если Кэтрин это и заботило, она своей печали ничем не выдавала. Еще бы, ей же лучше: меньше развлечений — больше времени на книги.
На уроках литературы она была странной, молчаливой… звездой. Художественные произведения она любила не меньше научных опусов, читала страстно, запоями. Говорить не любила, отвечала, если ее о чем-то спрашивали, тихо и немногословно, но вот сочинения, сочинения… Их обычно читали вслух, но не она сама, а мистер Картленд, преподаватель, или Эмили Лангвайр, которая небезосновательно метила в актрисы: талант у нее был, и немалый, для Денвера, по крайней мере.
Кэтрин окончила школу, имея в аттестате высший балл по всем предметам, кроме физкультуры, и получила стипендию от муниципалитета для продолжения образования, она без всяких сомнений отослала документы в университет Денвера, и ее так же без сомнений туда зачислили. На медицинский факультет.
Кэтрин задумчиво закусила уголок подушки. Интересно, а если бы она, скажем, подалась в Новый Орлеан? Или в Нью-Йорк? Или на Аляску? Могла бы ее жизнь сложиться иначе? Или Дэвид всё равно, по какому-то невероятному стечению обстоятельств, рано или поздно оказался бы в то же время и в том же месте, что и она?
Ей этого никогда не узнать. Все было, как было. И глупо сожалеть о прошлом, тем более когда в нем столько счастливых моментов…
Кэтрин вспомнила своего наставника профессора Роунсона, первую практику в больнице, сладостно-мучительный год после университета, когда она жила при больнице и работала все время, когда не спала, а иногда и вместо сна, то человеколюбивое вдохновение, знакомое врачам и миссионерам, когда трудишься для других, забывая себя, вспомнила триумфальную защиту диссертации и…
И, конечно, первую встречу с Дэвидом.
На тот момент она была очень молодым — всего-то двадцать четыре! — специалистом, подающим большие надежды — еще бы, защищенная диссертация по онкохирургии!
А еще она была очень одинокой двадцатичетырехлетней девушкой, не женщиной, потому что девственность ее до сих пор никто не востребовал.
А природа неумолима и требовательна, и особые требования она предъявляет к женщине, и Кэтрин уже начала задумываться о своей «биологической бесполезности» и оглядываться на чужие коляски.
И подоспел день рождения подруги, Мэдлин, одной из первых, с кем Кэтрин подружилась в университете. И если бы она выпила на один бокал вина больше, то, возможно, все пошло бы иначе. Она тихо продремала бы до конца вечера на диванчике в углу, потом подруги вынесли бы ее из бара, усадили в такси, довезли до дома, уложили спать, и на следующее утро она проснулась бы с больной головой, выпила таблетку аспирина и пошла бы на работу, как всегда… Но нет же.
В тот вечер она выпила вина. Чуть больше, чем обычно, но ненамного, правда. Однако именно это «ненамного», каких-то полбокала кьянти, сыграло с ней шутку, которая затянулась на шесть долгих лет. Они развязали ей язык и зажгли дьявольский огонек в глазах, разрумянили щеки и добавили ленивой грации обычно сдержанным движениям. Кэтрин из строгой, одержимой медициной девицы превратилась в привлекательную сексуальную девушку, которая ищет приятных приключений. И она нашла себе приключение. Конечно, это было наполовину случайно…
Но дальше события развивались, как в захватывающем фильме. Конечно, «захватывающим» этот «фильм» можно было назвать только в масштабах жизни Кэтрин. У других подобные вещи случаются нередко и особой ценности не имеют. Но для Кэтрин этот вечер перевернул все.
Он пришел с друзьями чуть позже них. Он сидел напротив нее и просто смотрел. Смотрел два часа подряд, и Кэтрин поначалу не знала, куда деваться от этого пронзительного, но вроде бы ни к чему не обязывающего взгляда. Потом по-обвыклась, и он даже стал ее согревать. Так согревает раскаленный металл: можно поднести руку и ощутить тепло, но упаси Бог дотронуться…
Кэтрин сразу же выделила его. У нее вошло в привычку рассматривать людей и по лицам, жестам, посадке головы, развороту плеч угадывать черты их характера, воображать, какую жизнь они ведут. У Дэвида было лицо недоброго человека, который способен на исключительные поступки. Орлиный нос, густые брови, холодные серые глаза, упрямый, чуть презрительный рот. Он не смеялся вместе со всеми, лишь чуть-чуть улыбался краешком губ, но Кэтрин видела, что и эта полуулыбка высоко ценится его друзьями, а редкие замечания, которые он делал, они выслушивали неизменно внимательно. Судя по всему, он умел шутить с серьезным лицом, потому что после некоторых таких замечаний за его столиком повисала пауза, а потом все взрывались хохотом. Все, кроме него, — он так же снисходительно улыбался. Кэтрин подумала тогда, что из него вышел бы великолепный отрицательный персонаж для какой-нибудь романтичной легенды, а потом не один раз смеялась над своей глупостью.
В последний год, правда, смеяться перестала.
И вот этот персонаж сидел и изучал ее взглядом. То пронзал насквозь, то подбадривал, то будто бы трогал, причем под одеждой… И Кэтрин сидела смущенная и завороженная его глазами и купалась в ощущениях, новых, необычных для нее, как в теплом море, по поверхности которого бегают электрические разряды. И ей это нравилось, чертовски нравилось, и чем больше было выпито вина, тем яснее становилось, что удовольствие одерживает верх над смущением.
Но потом неизбежно настал момент, когда ей понадобилось выйти попудрить носик, и она прошла мимо него и его друзей, покачивая бедрами, — господи, и откуда только у нее эта походочка?! — и бросила на него необычайно смелый и чуть-чуть игривый взгляд.
Он ждал ее у дверей дамской комнаты.
Она растерялась, столкнувшись с ним нос к носу, но еще больше растерялась, когда он небрежно уперся в стену руками — по обе стороны от ее плеч — и преградил ей путь.
— П-простите? — Кэтрин неуверенно захлопала ресницами.
— Вам не за что просить прощения, — ответил он густым негромким голосом, но рук не убрал.
Кэтрин забыла все слова. Тем более что она и раньше не знала, что говорят в подобных случаях.
— Как вас зовут?
— А зачем…
— Как вас зовут? — повторил он с мягким нажимом.
— Кэтрин, — произнесла она. Как выкуп за свободу…
Свободы она не получила. Молчание.
Хлопает за спиной дверь дамской уборной. Кэтрин вздрагивает. Мужчина — даже не моргает.
— Пустите меня, — тихо выдохнула она.
— Не пущу.
— Как вы…
— Смею, — подтвердил незнакомец. — Я встретил самую красивую женщину на свете и буду последним идиотом, если позволю ей вот так запросто уйти.
Кэтрин залилась краской до ушей. Своими словами он будто окунул ее в теплую, с шелковистой пеной ванну. Приятно… Но все-таки это очень неприлично, когда незнакомый мужчина купает тебя в ванне.
— Кэтрин… — повторил он ее имя, будто пробуя на вкус.
Ей представилось, что в эту воображаемую ванну он сейчас погрузится вместе с ней. А она там, между прочим, без одежды…
— Кхм… А вас как зовут? — поинтересовалась она тоном врача, принимающего пациента.
Это была естественная защитная реакция, выработанная месяцами общения с мужчинами самых разных возрастов и характеров. Участливо, деловито, абсолютно асексуально. Такой тон заставлял подобраться и выкинуть из головы всякие глупости, как, например, пригласить хорошенькую докторшу куда-нибудь поужинать…
— Дэвид, — с улыбкой представился он. Судя по этой улыбке и мурлыкающему тону, ее уловка не сработала и пыл его не остыл ни на десятую градуса.
— Дэвид, позвольте, я…
— Не позволю.
— Ну пожалуйста! — воскликнула Кэтрин почти что в отчаянии.
— Неужели вам и вправду так этого хочется? — цинично осведомился он.
— Хочется.
— Не верю, — сказал он и легонько погладил ее по левой щеке.
Кэтрин будто ударило током. Никто никогда не касался ее так. Так нежно и властно. Как хозяин касается любимого животного. Как сильный мужчина касается женщины, которую считает своей.
Во рту у Кэтрин моментально пересохло, жар ударил в голову… и не только в голову. Она задрожала от стыда и удовольствия, ощутив, как где-то глубоко внизу живота растекается тяжелое, влажное тепло. Она прикрыла глаза, чтобы как-то справиться с собой, — не помогло.
Дэвид не облегчил ей задачу, придвинувшись ближе. Теперь она ощущала его дыхание с легким запахом ментоловых сигарет и алкоголя. Ее предательское тело… В нем будто разом пробудились все дремавшие до сих пор инстинкты. Как одолеть противника, который внутри тебя? Тем более если совершенно не умеешь еще с ним бороться…
Кэтрин едва сдерживалась, чтобы не сделать шаг ему навстречу. Большого не нужно — хватило бы самого маленького, чтобы покрыть разделявшее их расстояние, и тогда можно было бы утолить то сладкое, сосущее томление, которое сочилось по всему телу под кожей.
И будь что будет.
В этот момент он ее поцеловал. Сначала — совсем легко, будто пробуя ее губы на ощупь, будто самим поцелуем спрашивая, как много она ему позволит.
И это только иллюзия, что она могла в этот момент сказать ему «нет». Не могла. И не сказала.
Кэтрин влажно вздохнула и все-таки сделала этот маленький шаг в его объятия.
Ее опыт поцелуев был совсем небогат, но что-то подсказывало ей, что, даже если бы она перецеловала двадцать человек, ни один из этих поцелуев и отдаленно не был бы похож на то, что делал с ней Дэвид. Она таяла. Она исчезала. Она сгорала и воскресала. Она едва не плакала. Сознание затмила теплая, ноющая мгла, мир отступил на второй план, и остался только этот бесподобный мужчина, который ласкал и терзал ее рот губами и языком, сжимал в объятиях так, что трещали ребра, но это была сладкая, сладкая боль. Кэтрин готова была разрушиться, умереть, продать душу дьяволу, если это требовалось, чтобы поцелуй продолжался.
Кто знает, чья вина: алкоголя, поцелуя ли, но в ней наконец-то проснулась женщина, голодная, жадная до ласк и ощущений женщина, бесстыдная и очень податливая. Прежней Кэтрин не стало. Хладнокровный, сдержанный, замкнутый в себе и в науке синий чулок умер навсегда.
Кэтрин опомнилась только в машине. Естественно, в машине Дэвида. Ее опалило стыдом: а как же Мэдлин и девчонки? Как же она так ушла, сбежала не попрощавшись? Но рука Дэвида лежала у нее на колене, и жар, исходивший от нее, мучил сильнее, чем угрызения совести. Сильнее — и в тысячу раз слаще.
— Куда мы едем? — спросила она слабым голосом.
— А куда ты хочешь? — Он сверкнул хитрым глазом и краешком волчьей улыбки.
— Д-домой… — неуверенно предположила Кэтрин.
— Нет, неверный ответ. — Он повернулся к ней и подмигнул.
Кэтрин вжалась в кресло. Ей вспомнились сразу все истории про маньяков-убийц, которые она когда-либо читала, слышала или видела в кино.
— Не бойся, я не причиню тебе зла, — спокойно сказал Дэвид и потрепал ее по коленке. Будто прочитал ее мысли.
— Тогда останови машину, — севшим голосом потребовала она. Требование прозвучало скорее как мольба.
— Прямо здесь? — шутливо изумился он. Они проезжали через тоннель, полупустой в этот поздний час. — У тебя странные представления о том, как нужно спасаться от злобных незнакомцев. Хо-хо-хо, — раскатисто и дурашливо рассмеялся он. — Я злой и страшный маньяк, сцапал маленькую Кэтти и теперь везу на расправу. На, держи, — добавил он уже нормальным голосом и вытащил из кармана бумажник. — Можешь позвонить маме и продиктовать номер моего водительского удостоверения и социальной страховки.
— Ты псих? — поинтересовалась Кэтрин, которой никто никогда не делал таких знаков доверия.
— Нет. Или да. Не важно. Просто я собираюсь прожить с тобой долгую и счастливую жизнь. — Дэвид усмехнулся.
Кэтрин вросла в кресло. Но как ни сильны были страх и потрясение, где-то внутри у нее шевелилось что-то горячее, пылкое, светлое.
Ту первую ночь Кэтрин вспоминала, как самое сладостное волшебство. Она никогда прежде не думала, что отношения между мужчиной и женщиной могут развиваться так. Когда утром Дэвид отвозил ее на работу, она все еще была девственницей. Но, право, не стоит вот так сразу перескакивать через сладкие, даже через годы вызывающие дрожь воспоминания.
Она решила про себя: будь что будет. Все равно от нее ничто не зависит… Так может же она хоть раз в жизни насладиться тем, что ее несет течение, несет уверенно и быстро, а ей не нужно и пальцем шевелить, чтобы двигаться куда-то.
Он открыл дверь квартиры и легонько подтолкнул ее в спину. Она вошла. Дэвид, не зажигая света, мягко захлопнул дверь — негромко щелкнул замок, — и прижал ее всем телом к стене, начал целовать…
«Это уже где-то было», — пронеслось в голове у Кэтрин. Было, было что-то подобное, всего час назад или и того менее, в прокуренном баре, среди десятков чужих людей… Было, но не так. Даже тогда кровь шумела в ушах чуть тише, и не так сильно кружилась голова. Сейчас Кэтрин казалось, что она вот-вот потеряет сознание, или сойдет с ума, или закричит, как плененная похотью самка дикой кошки.
— Подожди, — попросила она на грани яви и сладкого бреда. Как последний отчаянный вдох человека, которого затягивает под воду.
— Что?
— У меня это впервые, — прошептала Кэтрин и сама поразилась собственной смелости. — Пожалуйста, не торопись, я хочу… все понять.
— Распробовать?
На фоне окна Кэтрин могла рассмотреть только темный его силуэт, но угадывала, где глаза, и почти видела, как он улыбается волчьей своей улыбкой. Его плечи под ее руками ощущались, как разогретый металл.
— Не бойся. У нас ведь вся жизнь впереди, правда? Успеется. Все успеется. — Он снова поцеловал ее, но на этот раз как-то иначе, трепетнее.
В этом трепете, волнении, сладострастном забытьи, когда вот-вот провалишься куда-то, в какую-то божественно прекрасную бездну, но никак не нащупаешь края, и прошла вся ночь. Дэвид целовал ее с упоением, наверное, на две жизни хватило бы этих поцелуев… Целовал, гладил, доводил до неистовства — и при этом даже не расстегнул ее блузки.
Потом они сидели на кухне и пили чай, и она рассказывала ему взахлеб о своей работе, детстве, учебе в университете… Она боялась, что если замолчит, то произойдет что-то непоправимое, между ними вырастет стена, а этого нельзя допустить. Ей хотелось раздеться перед ним, словами раздеться до самой души, и где-то рядом с ее мыслями кружил стыд… но никак не подходил ближе чем на три шага. Кэтрин пребывала в уверенности, что нашла своего человека. И от этой уверенности внутри все нежно и сладко звенело.
И если бы не страх, что завтра все будет по-прежнему — по-прежнему пусто, по-прежнему одиноко, по-прежнему… тоскливо, — если бы не этот страх, Кэтрин была бы сейчас самой счастливой из всех потерявших рассудок женщин на планете Земля.
А страх был. По закону жанра карета должна была вот-вот превратиться в тыкву, а прекрасный принц, то есть страстный и бесшабашный мужчина-всей-ее-жизни — в дым, прах, тянущую боль воспоминаний. И Кэтрин всерьез опасалась, что стоит ей заснуть, и не важно, в его ли квартире, или у себя, если он отвезет ее домой, — стоит ей заснуть, и эта история навсегда отойдет в прошлое.
Но больше всего на свете Кэтрин хотелось, чтобы она продолжалась! Ей еще никогда в жизни ничего не хотелось так сильно, только, может быть, в детстве, в первые недели после развода родителей, она с той же горячностью тосковала про прошлой, прекрасной жизни…
— Ты ничего про себя не рассказываешь, — с грустью сказала она то ли Дэвиду, то ли сама себе.
Действительно, зачем человеку что-то про себя говорить той, кто через несколько минут или часов исчезнет из его жизни навсегда?
— Я показал тебе права и социальную страховку, — отшутился он, искривив бровь и уголок рта: мол, чего еще тебе нужно?
— Думаешь, мне это пригодится, когда я начну преследовать тебя, мистер Дэвид Энтони Данс?
— Думаю, тебе не придется меня преследовать, потому что я сам не дам тебе покоя ни днем ни ночью…
Кэтрин фыркнула. Ей хотелось за этим пренебрежительным звуком скрыть смущение и страх. Страх, что этого никогда не случится, — и страх, что все будет именно так. Что-то ей подсказывало уже тогда, что этот человек, ее случайный знакомый, загадочный парень с волчьей улыбкой, бесшабашный до легкого сумасшествия, мужчина-всей-ее-жизни… что этот человек способен на все, когда преследует свою цель.
Преследует цель, преследует добычу…
Кэтрин глухо застонала, закусив уголок подушки. Она, конечно, о чем-то догадывалась, что-то предчувствовала, но кто бы знал, что ей придется пережить такое!
Она превратилась для него в добычу. В дичь. Какие чувства могут быть у волка к самке лесного оленя? Никакой нежности, никакого уважения. Если и вожделение — то исключительно гастрономическое. Простой закон природы… Глупо кого-то в этом винить. Волк не плохой и не хороший, он всего лишь хищник, такова его натура, таков смысл его жизни. Как говорил герой одного фильма, волк не знает, почему он волк, а олень не знает, почему он олень. Вот только она не считала себя оленем, хоть убей. Даже когда он открыл охоту на нее.
Так неужели же она все равно олень, только сумасшедший?
На первый взгляд — конечно нет. Она ходит на двух ногах, у нее гладкая кожа, она обладает даром речи, и у нее, вообще говоря, неплохой шанс получить степень доктора медицины… Кэтрин вздохнула. Ее мысли приобретают оттенок бреда. Но это ничего, это нестрашно. Бред иногда придает жизни легкость. Наверное, Господь задумал его специально для таких моментов, когда становится слишком тяжело. Эдакий воздушный шар для мыслей. Бывают, конечно, случаи, когда бред тянет ко дну, как привязанный к ногам камень, или затуманивает восприятие темным, как чернила — воду. Но это мы уже проходили. Хватит.
Кэтрин прислушалась. Тишина — это только на первый взгляд тишина. Там, где есть хотя бы воздух, тишины нет. Молекулы движутся и сталкиваются друг с другом, и в принципе это броуновское движение тоже сопровождается какими-то звуками. Человеческое ухо, конечно, не приспособлено их улавливать, но ведь тогда вопрос уже не в тишине, а в ограниченности чьих-то возможностей… Да и без того достаточно звуков погромче: за окном изредка, но все же проезжают машины, соседские дети играют в мяч, то есть, как это обычно бывает с детьми, планируют и осуществляют очередное разрушение, орудием которого является мяч… Лает собака. В ванной подтекает кран, и из него неумолимо, прямо-таки безжалостно падают капли и с тихим звоном разбиваются о пожелтевшую раковину.
Она не одна. Вокруг нее — огромный мир. И более того, в этом мире есть кто-то, кто очень ее любит…
Как раз в этот момент «кто-то» тихонько поскребся в дверь.
— Заходи, — позвала Кэтрин и улыбнулась.
Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель на нее глянул пытливый карий глаз.
— Ты спиш-шь? — шепотом поинтересовались оттуда, из-за двери.
— Нет, не сплю.
— Точно?
— Совершенно. Ты же видишь, я с тобой разговариваю.
— А может, ты во сне… — Раздалось хихиканье.
— Ну не хочешь, не входи. — Кэтрин напустила на себя равнодушный вид.
— Нет, мамочка, что ты! — Том влетел в комнату как маленький ураган, порывисто бросился к ней и обеими руками схватил за локоть. — Мамочка, пожалуйста, поговори со мной!
Кэтрин улыбнулась сквозь боль и ласково потрепала его по волосам. Том был, как говорят учителя, детские психологи, социальные работники и прочие умные дяденьки и тетеньки, очень эмоционально нестабильным ребенком. Он моментально переходил от абсолютного спокойствия и погруженности в свои мысли к тревожному волнению, эйфорической радости, гневу, мрачной подавленности… Его смех в мгновение ока сменялся слезами, а слезы — невозмутимым молчанием. Кэтрин иногда впадала в глухое отчаяние от таких перепадов настроения, непредсказуемых и частых. Она знала, что Тому в его недолгой жизни пришлось очень и очень несладко, и в такой ситуации простительны и непостоянство его настроения, и бурное выражение эмоций, и замкнутость, которая иногда тоже на него нападала. Но она очень боялась, что никогда не сумеет его узнать, постичь, понять те законы, по которым живет его хрупкий, сложный и прекрасный внутренний мир.
— Конечно, милый. — Она притянула его к себе и поцеловала в темно-русую макушку, которая почему-то пахла одуванчиками. Разве его шампунь пахнет так? Наверное, так, потому что одуванчики уже давно отцвели и облетели белыми парашютиками. — О чем ты хочешь поговорить?
— О чем-то очень важном, — ответил Том.
Кэтрин улыбнулась. Это была ее фраза. Она говорила так: «Я хочу сказать тебе что-то очень важное. Я тебя люблю».
Но разговор повернул в совсем другое русло.
— Мама, что ты думаешь насчет собак? — осторожно спросил Том.
— Что они милые, — так же осторожно ответила Кэтрин. — Что собаки — славные создания, преданные и добрые…
— Но бывают ведь и злые!
— Бывают, конечно. Люди тоже есть разные, добрые и злые, я имела в виду, что добрых собак, как мне кажется, больше.
— Давай заведем собаку, мам.
Кэтрин прикрыла глаза. Да, она догадывалась, что все мальчишки с ума сходят от желания иметь друга-собаку, но малодушно надеялась, что, может быть, ее минует чаша сия.
— Я хочу злую собаку. Чтобы она защищала нас от злых людей.
Кэтрин распахнула глаза и вздрогнула, как от удара током. Так непривычно, так горько, так страшно было слышать от девятилетнего Тома такие слова… Она понимала, к чему он клонит. Слишком хорошо понимала.
— От каких злых людей, милый? — Кэтрин хотела задать этот вопрос нейтральным тоном, но голос внезапно сделался сухим, прошелестел, как сентябрьский кленовый лист по асфальту.
Том насупился. Только не замолкай, не сейчас!
— Томми, про каких злых людей ты говоришь? — Кэтрин буквально заставила себя это спросить.
— Про папу. — Том опустил глаза.
— Сынок, папа — не злой человек! — Кэтрин покачала головой. — Ты меня слышишь, Том?
— Злой.
Кэтрин собралась с силами и села на постели:
— Послушай меня, — строго начала она, и строгость эту ей не нужно было изображать, — послушай меня внимательно. Кто тебе сказал, что папа злой? Я что-нибудь подобное говорила? А?
— Нет, — буркнул Том. — Я сам понял.
— Ах ты сам понял? — Кэтрин начинала кипятиться не на шутку. Меньше всего на свете она хотела этого разговора. Но разговор нужен, необходим, жизненно важен для Тома, потому что если он не случится, то мальчик всю жизнь будет чувствовать к отцу смесь обиды и ненависти, а этого нельзя допустить, ни в коем случае нельзя! — А скажи-ка мне, пожалуйста, как ты до этого дошел?
— Он тебя обижает.
— Неправда.
Он меня не обижает. Он меня пугает, загоняет в ловушку, в клетку, хочет, чтобы я всегда, всю жизнь сидела в клетке, хочет сделать из меня не-меня. Но он меня не обижает. Он хочет меня уничтожить.
— Правда! Я же не маленький, мам! Ты думаешь, я не понимаю, почему мы уехали из дома?
— Нет, не понимаешь, — твердо сказала Кэтрин. — И ты маленький, вот именно, ты — маленький, Том! Сколько тебе лет, ты помнишь? Сколько?
— Девять.
— А папе — тридцать шесть, Том. Это в четыре раза больше. Это на двадцать семь лет больше. Ты еще не знаешь, что такое двадцать семь лет. Ты столько не жил. Вот проживешь — примерно поймешь. А пока — не понимаешь. Но это много, Том. Он уже был взрослым мужчиной — а тебя еще даже не было на свете. И что ты возомнил о себе? Что ты имеешь право его судить? Называть его злым? Лезть в наши дела? Тоже мне, защитник нашелся! К твоему сведению, я старше тебя на двадцать один год. Это почти так же много, как двадцать семь. И я вполне в состоянии разобраться со своими проблемами сама!
Том плакал, тихо и надрывно, но не уходил. У Кэтрин щемило сердце от его всхлипов, от дрожи худеньких плечиков: все-таки он еще такой ребенок… Но ей очень хотелось, чтобы Том усвоил урок отношения к отцу. Как бы там ни было, как бы ни сложилась их жизнь, он должен уважать отца, чтобы быть мужчиной. По справедливости, Том видел от Дэвида только хорошее. Так пусть же будет благодарен человеку, который его растил и воспитывал. Меньше всего Кэтрин хотела, чтобы ее сын вырос неблагодарным, никого не уважающим, незрелым выскочкой, который мнит себя выше и лучше отца. Их с Дэвидом дела — это и правда их дела. А у Тома должны быть отец и мать. Хотя бы «в голове». Даже если папа с мамой, даст Бог, никогда больше не встретятся.
Том не выдержал: прижался к ней и заплакал еще громче. Кэтрин почувствовала, что у него словно лопнул в душе нарыв, долго и мучительно болевший. Хорошо. Очень хорошо. Пусть дурное уходит, вымываемое слезами.
— Ну, мальчик мой, милый мой, ты поплачь и выздоравливай, слышишь? — приговаривала она, гладя его по голове и взмокшей спине.
— Мам, неужели… мы больше… никогда не увидим папу? — с трудом проговорил Том.
— Я не знаю, хороший мой.
— Я так… скучаю по нему…
Лучше бы он этого не говорил. Кэтрин показалось, что у нее сейчас разорвется что-то в груди. Такая адская боль…
— Понимаю, Том. Понимаю. Мне сложно ответить на твой вопрос. Жить вместе мы с папой больше не можем. Я объясню тебе чуть позже почему. Но я уверена, что, когда ты вырастешь, ты его найдешь, встретишься с ним, поговоришь… И это будет уже совсем другая история о совсем других отношениях.
— Так будет? — с надеждой спросил Том.
— Так будет, — подтвердила Кэтрин и затаила в душе короткую, но пылкую молитву: Господи, сделай так, чтобы это не было ложью! Пожалуйста, Господи!
И, Господи, если ты меня слышишь, пожалуйста, дай мне силы, хотя бы еще чуточку силы! Я никогда не думала, что мне придется воспитывать сына одной. А это трудно, так трудно, Боже…
3
Кэтрин не помнила, когда именно ее семейная идиллия превратилась в кошмар. Это произошло как-то постепенно, незаметно. Как будто Дэвид с легкой улыбкой занимался каким-то своим делом — мастерил что-то, — и обходил ее с той и с этой стороны, ободряюще подмигивал, молчал, чтобы не помешать ей заниматься медициной, а иногда говорил о важных вещах и о пустяках, смешил ее, сладко-сладко целовал, а потом р-раз! — и она обнаружила, что построил он клетку, клетку вокруг нее, крепкую, добротную, не разогнуть прутьев, не вышибить с разбегу дверь.
Сначала она безмерно удивилась, а потом безмерно испугалась.
Но только ее чувства уже ничего не значили.
Наверное, вся эта драма начала разыгрываться в его голове задолго до первого разговора, от которого веяло безумием ревности. Да, она замечала, что, если кто-то из его друзей бывал с ней улыбчив и любезен, Дэвид всерьез ссорился с ним, а потом этот человек постепенно исчезал из их круга общения. И он всегда проявлял болезненный интерес к ее окружению, недолюбливал ее коллег-мужчин и выражал глухое недовольство, если она с восторгом говорила о чьих-то успехах, будь то даже успехи ее пожилого научного руководителя профессора Роунсона.
Но завязкой послужил тот самый разговор, после которого Кэтрин впервые ушла плакать в ванную.
— Ты красавица, Кэтти. Настоящая красавица, — сказал ей Дэвид и задумчиво провел пальцем по ее щеке, шее, изящной ключице, скользнул к еще разгоряченной после ласк груди. Это было воскресенье. Они лежали на кровати, разморенные послеполуденной жарой и долгими занятиями любовью. — Драгоценность, жемчужина, чистой воды изумруд в филигранной оправе. А еще ты гениально умная красавица. И это делает тебя редкостью из драгоценностей. Я нашел тебя, я разглядел тебя под слоем пыли, в которой ты скрывалась. Ты моя. Слышишь? Ты — моя. По праву. И я вовсе не хочу, чтобы мою драгоценность трогал кто-то еще.
— Но, Дэйв, я же люблю тебя! — Она перевернулась на бок и ткнулась носом ему в плечо, коснулась губами солоноватой от пота кожи. Его запах до сих пор заставлял ее забыть обо всем, кроме самых простых вещей: что она самка, а он самец и что продолжение рода бывает важнее жизни. — Я сама никому не дамся в руки. Неужели ты не веришь мне?
— А разве драгоценности не все равно, кто ею владеет?
— Нет! — Кэтрин не понимала, к чему он клонит и что именно пытается сказать ей, но ей это уже не нравилось, чертовски не нравилось, так, что внутри, в животе, скручивался тугой узел — страх.
— Ах, ну да. Есть тысячи мужчин богаче меня. Красивее меня. Сильнее меня. Моя драгоценность хочет найти более достойного хозяина?
Он глядел на нее с холодным прищуром, и Кэтрин поразилась: она видела уже этот взгляд, но всегда он адресовался кому-то еще, кому-то из чужих, неприятных людей, врагов, которых нужно обойти или убить. А теперь вот — ей. Ну надо же!
— Я не камень, Дэйв, не тщеславный холодный камень, живая женщина, у меня есть ум и сердце! И они говорят мне, что я очень-очень тебя люблю. Правда, Дэйв. — Кэтрин готова была разреветься.
— Ты живая женщина, это верно. Но мозг и сердце — это не единственные органы, которые скрываются под относительно тонким слоем твоих кожи, мышц и костей. И я помню, что иногда эти самые другие органы могут говорить громче других… — Дэвид недвусмысленно погладил ее между бедер.
Кэтрин вспыхнула.
— Но, Дэвид, я же была девственницей, я ждала тебя…
— Нет, ждала ты не меня. Ты даже не подозревала о моем существовании. Нужен был кто-то достаточно сильный и смелый, чтобы взять тебя. И это оказался я. По чистой случайности.
— Нет же! Это судьба, Дэвид! Мы предназначены друг для друга!
— Увы, золотко мое, я в этом не уверен. Иначе мне не о чем было бы беспокоиться. А так — лучше подстраховаться. Ведь я так тебя люблю. Вот и ты говоришь, что любишь меня. Значит, это надо беречь. Очень беречь. Чем я и занимаюсь, милая. Только и всего. Берегу наше счастье. Берегу свое сокровище. — Он влажно и властно поцеловал ее в губы. — Признаюсь честно, я бы хотел, чтобы мою драгоценность никто даже не видел, — усмехался он.
В тот раз Кэтрин вспылила. Слишком сильно жгла изнутри обида: он ей не доверяет. Ну неужели ее слово ничего-ничего для него не значит? Неужели ее обожание и преданность — пустой звук для него?
— Тогда ты родился не в той стране, Дэйв, — ответила Кэтрин, глядя Дэвиду в глаза. Тогда она еще делала это часто и смело, без тени страха. — Но твои желания сделают тебя своим человеком в регионе Персидского залива. Не думал поселиться где-нибудь в Йемене?
За эту дерзость она получила пощечину, и это был первый раз, когда он поднял на нее руку, и ей было не столько больно, сколько обидно и страшно: а что же дальше? Из глаз брызнули слезы, и она убежала в ванную, но Дэвид не извинился — ни тогда, ни после.
А потом как-то получилось — и получилось очень быстро, не прошло и трех месяцев, — что она уже не могла без него выйти из дома после восьми вечера. Ее подруги словно растворились в разреженном воздухе, да и немудрено: Дэвид не позволял ей встречаться с ними, говорил, что эти «развратные кобылы» — люди не их сорта и нечего ей с ними водиться, если она честная женщина. Дэвид забрал у нее ключи от машины: ему проще было самому отвезти ее утром в больницу и забрать оттуда, чем предоставить свободу самостоятельного передвижения. Дэвид повадился наезжать к ней на работу, чтобы проверить, там ли она. Он контролировал ее телефонные разговоры, и Кэтрин знала, что если в журнале звонков на сотовом появится незнакомый Дэвиду номер, ему в течение нескольких часов станет известно, кто звонил и по какому делу.
Он изводил ее своей безумной ревностью без всякого повода, и от этого делалось еще невыносимее. Кэтрин поначалу тщетно искала в себе причину такого его поведения — и не нашла, не помог найти даже семейный психолог. Дэвид, кстати, просто отказался с ним, то есть, конечно, с ней встречаться. Он считал, что у него все хорошо. А будет еще лучше, когда он сможет наконец-то поверить, что его благоверная не наставит ему рога при первой возможности.
Кэтрин казалось, что она угодила в тюрьму строгого режима, да, пусть большую: в нее умещаются ее дом и больница. Она плакала от обиды, отчаяния и тоски, ощущая, как сжимаются тиски, что сдавили ей грудь. Когда-то в детстве она видела кошмары, в которых стены ее комнаты медленно сдвигались и раздавливали ее, она кричала, заглушая воплем хруст ломаемых костей, и удивлялась: почему же она не чувствует боли? Теперь ее кошмар воплотился в жизнь. И она не орала больше. Но боль — чувствовала. Боль ют незаслуженных пощечин. Боль от унижения. Боль от одиночества. Боль от заламываемых рук. Боль от того, что он таскал ее за волосы. Это были на удивление тихие скандалы — он всегда заставлял ее молчать, а сам говорил приглушенным, рычащим голосом и предостерегал: не вопи, напугаешь Тома.
Кэтрин думала: а что же она в своей жизни натворила такого, что ей приходится терпеть все это? Неужели все из-за того, что тогда, в тот памятный вечер, она поддалась чувствам и покорилась ему, поехала с ним? Как в старинных сказках: она открыла злому колдуну свое имя — и передала свою душу, свою судьбу в его руки.
Черт, но она ведь и вправду хотела, жаждала отдать ему власть над собой, как издревле женщина отдает власть над собой мужчине — чтобы он распоряжался ею, защищал ее, хранил ее и детей от бед и опасностей.
Вот именно. Защищал. Защищал, а не самодурствовал и истязал, лишал доверия, тепла, свободы. Свобода — она ведь как воздух, без нее не живет ни одно живое существо.
А звери в зоопарке — это уродство.
А люди за решеткой — это наказание за преступления.
Ах, снова эта проклятая тема «тюрьмы»!
Беда была в том, что Кэтрин не совершала преступлений, и даже не замышляла ничего дурного, и очень любила Дэвида. Почти до самого конца. Она с ума сходила по мужу даже спустя годы после свадьбы. И от этого — просто сходила с ума. Потому что когда жена любит мужа — это правильно, как правильно и то, что жертва боится и ненавидит палача. А когда жена превращается в жертву и начинает любить, бояться и ненавидеть мужа-палача, это уже слишком.
Кажется, тот, кто кроил человеческую душу, немного в этом напортачил. Впрочем, стоп. Еще чуть-чуть — и она дойдет до богохульства. А этого допустить никак нельзя. Кроме Бога, ей не на кого сейчас рассчитывать. Если она лишится этой опоры, то станет чем-то наподобие плюща, содранного со стены. Жалкое будущее.
Только когда Дэвид стал ревновать ее к девятилетнему сыну Тому, Кэтрин заподозрила, что он, вообще говоря, ведет себя как сумасшедший. И у нее словно глаза открылись. Может быть, с них спала любовная пелена-поволока… Ей не хотелось вспоминать все те мучительные, тягучие, грязные, похожие на мазут «разговоры», которые он вел с ней об этом.
Когда Дэвид как бы между прочим упомянул, что подумывает сдать Тома обратно в приют, Кэтрин поняла, что это — конец. Всему. Всему, что связывало их в одно целое. Всему, что делало их семьей.
И теперь, когда она больше — не часть его, когда она больше не принадлежит ему, потому что нельзя принадлежать такому человеку, он не способен ничем владеть и распоряжаться, и именно поэтому сумасшедших лишают права собственности и объявляют недееспособными… когда она поняла все это, прочувствовала всем сердцем и наконец-то ощутила себя свободной внутри, Кэтрин поняла также, что пришло время бороться за свободу полную и настоящую.
За свободу и за любовь. Ту, что еще осталась. Любовь к сыну. Пускай он и приемный, пускай они прожили вместе всего два года, она не имеет права предать его. Она так долго и больно предавала себя, и это ее право, никто не возразит…
Но вот предать ребенка — это поистине невозможно.
Как бы сильно она ни боялась Дэвида. Слава богу, теперь — только боялась и ненавидела. И даже не как палача — как опасного врага. Наконец-то их отношения вновь стали естественными!
И эти отношения — «враг и враг» — дали ей силу, и смелость, и осторожность, и хитрость. Пришло время начинать новую жизнь. Сбросить с себя оковы, как уже сбросила она наваждение, и зажить свободной. Пусть израненной в битве, но свободной.
А битву еще нужно было выдержать. А терпеть стало уже почти невыносимо… Кэтрин чувствовала себя будто на краю пропасти. Одно неверное движение — и земля вывернется из-под ног, взметнется куда-то вверх, а она ухнет вниз, а внизу, после ужаса, — непременно смерть.
Она стиснула зубы. Она сделала Тому жестокий, несправедливый выговор за две оценки «хорошо» в табеле за учебный год, после чего они почти перестали друг с другом разговаривать. Сердце разрывалось от происходящего, но, по крайней мере, можно было не опасаться, что ее одержимый муж в порыве безумия схватит его и отвезет в приют прямо сейчас.
Кэтрин сняла со своего счета все деньги. Возить с собой в сумке столько наличных — опасно, но куда опаснее в ее ситуации светить где-то свою банковскую карточку.
Она даже кощунственно — или благоразумно — подумала, что хорошо, что ее бабушка уже умерла. Иначе ей пришлось бы бояться за ее благополучие. Кэтрин знала, что, когда Дэвид обнаружит пропажу своей «драгоценности», он будет вне себя от бешенства и использует любые рычаги воздействия, чтобы заполучить ее обратно.
Она выбрала день, когда у Дэвида было очень ответственное и сложное слушание — у адвокатов не бывает затяжных переговоров и командировок, зато бывают долгие слушания, а это уже что-то, — ускользнула с работы, ни с кем не прощаясь, как воровка, по черной лестнице, поймала такси, доехала до школы, где Том получал последние наставления перед летними каникулами, опять-таки как воровка, подстерегла его у ворот, усадила в машину и велела водителю ехать в Брумфилд. Том злился, вырывался из ее объятий и затыкал себе уши, чтобы не слушать, что она ему говорит, и это была поистине самая ужасная поездка в ее жизни. Переломный момент наступил, когда она сказала, что специально подстроила ссору с ним, потому что это была часть ее «секретного плана».
При упоминании о таком важном атрибуте всех шпионских игр, как «секретный план», Том оживился, точнее, наоборот, затих и стал ее слушать. Кэтрин сказала ему, что им придется некоторое время пожить без папы, потому что…
— Только не ври, — мрачно сказал Том и взглянул на нее исподлобья.
— Я больше не хочу, — сказала Кэтрин и поразилась тому, насколько просто прозвучала эта правда.
Господи! Ведь это же так! Она не хочет больше страдать. Не хочет жить с человеком, который ее не уважает и мучит. Что тут непонятного?
— А папа?
— Он хотел бы, чтобы все было по-прежнему, но мы вряд ли сумеем с ним договориться об этом, — с торжествующим видом провозгласила Кэтрин. И чему только она так радуется?
— А я?
— А ты мой сын, и тебе придется пока делать так, как я скажу.
— Ну… с биологической точки зрения я не твой сын, — выпалил Том и зажал рот рукой: сам испугался своих слов.
Кэтрин будто огрели плетью по лицу. У нее вспыхнуло перед глазами от внезапной боли.
— Мама! Мамочка, прости, пожалуйста! — Том вцепился в нее обеими руками и легонько затряс. — Мам, я глупость сказал, прости!
— Я тебя люблю, — глухо проговорила Кэтрин. — Очень сильно люблю. И мне плевать сейчас на биологию, как никогда в жизни.
И вот уже позади осталось это стремительное и рваное пересадками бегство: такси, автобусы, попутки. В последнем «пункте» перед Огденом Кэтрин купила видавший виды микроавтобус и загрузила в него кое-какую мебель, утварь, белье, — в общем, все, что полагается иметь при себе приличной женщине при переезде: нечего давать пищу кривотолкам. Оттуда же она позвонила профессору Роунсону, единственному человеку, которому доверяла абсолютно, и попросила его загладить инцидент с ее исчезновением в больнице и переслать по факсу ее рекомендации. Он очень волновался за нее и журил по-отечески, но просьбу выполнил быстро, и благодаря этому Кэтрин потом без проблем устроилась на новую работу.
Они жили в Огдене уже почти месяц, и Кэтрин постепенно приходила в себя. Иногда ей начинало казаться даже, что все события последнего года ей привиделись в муторном кошмаре. Она была бы рада поверить, что это так, но до сих пор вздрагивала всем телом от резких звуков и испытывала безотчетный, тупой страх, когда долго не видела Тома.
Она точно знала, что уже никогда никого не полюбит, но это не пугало ее. Жизнь без любви… Что ж. Когда-то она именно к этому стремилась: жизнь без любви, жизнь во имя науки, во имя чужих жизней. Все возвращается на круги своя. Она уже попробовала иначе, с любовью. Сначала была любовь, а потом — ад. Спасибо, хватит. Дальше она попробует как-нибудь по-другому. Благо у нее по-прежнему есть любимое дело… и Том.
У Кэтрин до сих пор в голове не укладывалось, как Дэвид мог дойти до мысли отказаться от Тома. Он ведь его искренне любил. Раньше, по крайней мере. Пока был в своем уме. Он так сильно хотел ребенка, сына… Кэтрин пыталась забеременеть с первого года замужества — не получалось. И снова не получалось. Она ненавидела эти белые палочки — тесты на беременность. Во сне ей виделись тесты с двумя красными полосками. В действительности всегда была одна. Они проверились — Дэвид оказался стерилен.
Это был крах. Катастрофа для них обоих. Кэтрин страстно желала стать матерью, Дэвид мечтал стать отцом, но этим простым желаниям не суждено было сбыться. Может быть, еще тогда с ним произошло что-то непоправимое? Кто знает, да и какая разница? Все равно все получилось так, как получилось. И, наверное, даже к лучшему. Ведь у нее теперь есть Том, чудесный мальчишка с тонкой, сложной душой, не по годам разумный, невозможно переменчивый. И он ее любит. Так что не совсем она и без любви…
Кэтрин хотелось бы, чтобы сейчас была весна. Весной так здорово мечтать о будущем, весна дает силы, чтобы начинать что-то новое, большое, прекрасное, вроде новой жизни. Но впереди ее ждет конец лета и осень, а значит, снова придется собрать волю в кулак и справляться самой. Без всякого весеннего вдохновения.
От этих мыслей, пришедших перед сном, Кэтрин расплакалась. Первые ее слезы в Огдене…
4
На работе она еще не освоилась до конца, но Кэтрин знала, что это лишь вопрос времени, причем времени небольшого. Это была маленькая больничка: в городишке, подобном Огдену, большой и не нужно. Кэтрин с ее специализацией взяли в штат с превеликой радостью. Онкохирург — человек, который, увы, нужен даже в Огдене.
Она проснулась утром в этот вторник со странным ощущением — как будто была растением, пережившим засуху. Сил ни на что нет, но в истомившемся, исчахшем теле все еще теплится жизнь, и ясно уже, что жизнь эта — останется, а значит, хочешь не хочешь, а нужно делать, что положено природой: ловить листьями капли благословенной влаги, высасывать ее из почвы корнями, наполняться соком, расправлять стебель, выпускать новые листья. Может быть, когда-нибудь удастся расцвести и заплодоносить.
Все-таки инстинкт жизни — сильнее всего на свете.
Она удивлялась тому, что эта неуловимая перемена в ее отношении к себе и миру произошла будто помимо ее воли. Или же те усилия, которые она так долго прикладывала, чтобы вернуть себе хоть какое-то подобие внутреннего равновесия, наконец принесли плоды?
Кэтрин торопливо приняла прохладный душ и еще больше ощутила свое сходство с тем самым растением. Что-то в ней очень-очень любит воду, особенно холодную, особенно когда ее много…
Она вышла в кухню и принялась жарить омлет, чтобы порадовать сына. Том его любит и не любит тосты, предпочитает мягкий хлеб. Ее новая посуда уже успела стать привычной, а это добрый знак: неизбежно, неотвратимо все будет хорошо. Теперь — точно. Она пустит здесь корни, она будет жить и радоваться… Господи, что же с ней произошло? Что происходит и еще произойдет? Кэтрин замурлыкала себе под нос легкомысленную песенку, которую помнила еще из детства, и была в этом абсолютно искренна.
— Том! То-о-ом! Вставай! — закричала Кэтрин, когда завтрак был готов.
И сама себе удивилась: она никогда так прежде не делала. А ей всегда хотелось. В этом есть что-то от простой, не обремененной многочисленными правилами жизни, по которой Кэтрин долго, с отрочества, тосковала. И кто сказал, что нужно говорить всегда тихо? Глупости! Она у себя дома на кухне, а не на официальном банкете после медицинского симпозиума, и незачем ей строить из себя чопорную леди. Можно наконец-то стать попроще. Можно уже! Можно делать очень многое из того, что так долго оставалось для нее «за закрытой дверью». Ключик-то от этой запертой двери теперь у нее в руках!
И здорово, что у нее теперь домик в один этаж. В трехэтажном домище, в котором они жили с Дэвидом, кричи не кричи, а все равно никого не дозовешься.
Позади нее по полу прошлепали чьи-то легкие босые ноги. Том обнял ее:
— Привет, мам!
— Привет, соня! — Кэтрин обернулась и чмокнула его в макушку. — А ну марш в ванную! Живо, живо!
— Ну, мама! Сейчас же каникулы, что ты меня гоняешь?
— Выспишься после моего ухода, если захочешь. В чем я, правда, сильно сомневаюсь. Ну же, давай беги!
Том что-то проворчал и вышел из кухни нарочито медленным шагом.
— Это будет необыкновенный день, — задумчиво проговорила Кэтрин себе под нос.
И она даже не подозревала, насколько ее интуиция права.
Они с Томом позавтракали под невнятное, но бодрое бормотание телевизора. Утренние программы — они всегда такие, вроде бы ни о чем, но заряжают хорошим настроением. Когда начался блок новостей, Кэтрин щелкнула пультом. Дэвид всегда смотрел по утрам новости, а она их ненавидела: ей хотелось в начале дня подумать о своих делах, о Томе, о пациентах и больнице… В общем, о том, что непосредственно касается ее. Ведь от того, что она отвлечется на события мирового масштаба, ее собственные проблемы не станут решаться быстрее и эффективнее!
А теперь это ее дом. Она тут полноправная хозяйка. И все будет происходить по тем правилам, которые установит она.
Кэтрин ощутила ликование. Вот оно! Кажется, она наконец-то начинает осознавать свою свободу и осваивается с ней! И это чудесно, потому что она дорого заплатила за эту возможность. Все оплачено, оплачено сполна: слезами, болью, страхом, невероятным напряжением, от которого, кажется, вот-вот лопнут и мышцы, и нервы, и само сердце надорвется.
Ей хотелось верить, и более того, она по-настоящему верила, что самое трудное в ее жизни осталось позади. Да, наверняка будут еще неприятные моменты, но это уже мелочи по сравнению с тем, что пережито.
Из дома она выходила в превосходном настроении. Вот что называется «жизнь налаживается». И еще больше крепнет эта уверенность в погожий денек, когда лучи летнего солнца ласкают лицо и плечи, согревают душу и пробуждают в ней зерна надежды на лучшее. Скоро они прорастут, а потом побеги станут так сильны, что в них можно будет найти опору…
У соседнего дома дежурила мисс Грэхем. Впрочем, именование «мисс» было какой-то насмешкой над ее персоной. Когда мы говорим «мисс», то невольно представляем себе нежное юное создание, которое только готовится к тому, чтобы вступить в серьезную пору жизни, где вместе с титулом «миссис» ее ждут семейный очаг, любящий муж, опора и защита, и конечно же дети.
Мисс Грэхем ни на что подобное рассчитывать уже не могла. Конечно, надежда умирает последней, но иногда здравый смысл лишает ее возможности даже зародиться. Ей, наверное, уже стукнуло шестьдесят пять, совершенно седые волосы она завивала в тугие по-девичьи локоны, немного сутулилась, отчего создавалось впечатление, что она в любой момент готова то ли сунуть свой нос в какое-нибудь интересное ей дело, то ли наброситься на обидчика, имела очень острый взгляд и говорила подчеркнуто вежливо, но таким пронзительным голосом, что неизменно становилось не по себе.
Кэтрин по приезде в Огден сочла необходимым завязать с ней добрососедские отношения, ведь в ее положении очень важно иметь поблизости союзников, пусть даже условных, на случай, если Дэвид — не приведи господи! — все-таки каким-то чудом ее найдет. Однако это оказалась задача не из легких, и не потому, что мисс Грэхем была недружелюбна и замкнута. Напротив. Она была чересчур открыта и чересчур дружелюбна. Настолько, насколько способна проявлять эти качества пожилая женщина, лишенная семьи: мужа, детей, внуков — но наделенная недюжинной жизненной энергией. Жизненную энергию нужно куда-то вкладывать, это понятно, иначе она убьет самого человека мучительно и быстро: взрывчатка, если ее употребить в пищу, сработает не как взрывчатка, а как отличный яд…
Но Кэтрин вовсе не хотелось, чтобы мисс Грэхем вкладывала свои жизненные силы в нее! Поначалу мисс Грэхем показалась ей милой, общительной женщиной, но потом события стали развиваться почти как в старой комедии «Кабельщик» и стало как-то трудно выпроводить мисс Грэхем за дверь. Она приносила им с Томом попробовать пироги по своим «авторским рецептам». Она разрешала Тому прийти поиграть со своими пятью кошками. Она вызывалась посидеть с «мальчуганом», когда Кэтрин уходила на работу. Она подарила Кэтрин несколько горшков со своими страстно любимыми фиалками и принялась учить ее за ними ухаживать. Ей не нравилось, как Кэтрин наводит порядок и убирает на кухне. По ее мнению, Кэтрин неправильно подобрала постельное белье к шторам в своей спальне. Она отчитывала Кэтрин за то, что та потакает желаниям сына. В конце концов между ними состоялся короткий, но пренеприятный разговор о том, что «все понятно, ты так рано родила, когда одно дитя родит другое, ничего хорошего не получается, но ведь ты же должна была поумнеть за прошедшие годы…», и о том, что «вот если бы у вас были дети, тогда бы я с вами поговорила, а так — какой смысл?». Разговор, естественно, привел к разрыву отношений, чему Кэтрин была несказанно рада.
Никогда она ни с кем не ссорилась с таким наслаждением!
Правда, мисс Грэхем оказалась на редкость не обидчивой особой — или попросту притворилась — и вскоре стала вновь здороваться с Кэтрин и заговаривать о том о сем.
Кэтрин держалась с ней предельно холодно, но любезно. Ей не хотелось, чтобы мисс Грэхем вновь тихой сапой проникла в ее дом, но еще меньше ей хотелось нажить такого энергичного врага в доме по соседству. Тут тебе и шпионаж, и диверсии, и открытые боевые столкновения…
И сейчас мисс Грэхем явно разворачивала какую-то операцию. Кэтрин поняла уже по ее позе, что мисс Грэхем что-то от нее нужно.
— Кэтрин!
Ну вот оно. Настал тот день, когда мисс Грэхем назвала ее полным именем. Не Кэт и не Кэтти. А ведь Кэтрин давным-давно говорила, что ей не нравится, когда соседка обращается к ней как к маленькой девочке или собственной дочке. Она все-таки врач, уважаемый человек.
Да, мисс Грэхем определенно что-то от нее нужно.
— Доброе утро, Кэтрин! — Мисс Грэхем поспешала к ней с самой миролюбивой улыбкой на устах.
Если бы Кэтрин чуть хуже ее знала, она бы сдалась перед таким обаянием.
— Доброе утро, мисс Грэхем, — кивнула Кэтрин, всем своим видом показывая, что никаких долгих разговоров быть не может. Она очень торопится. Нет сейчас ничего важнее, чем закрыть дверь на два замка и…
— Как Том?
— Прекрасно, спасибо.
В другой раз мисс Грэхем, пожалуй, поинтересовалась бы, как мальчик может быть «прекрасно», когда ему позволяют есть попкорн и смотреть телевизор каждый день. Но сегодня у нее была другая цель…
— О, я очень рада. Он чудесный мальчуган.
— Да. — Кэтрин спустилась с террасы, решительно стуча каблучками. Пусть мисс Грэхем видит, что она не собирается сдавать свои позиции.
— Кэтрин, послушай, мне кажется, наши отношения могли бы стать намного лучше, чем сейчас…
— Они уже стали. Намного лучше, чем были. От добра добра не ищут, знаете такую поговорку?
— Кэтрин, по-моему, ты думаешь обо мне хуже, чем…
— Нет, что вы, ни капельки не хуже.
— Не груби старшим!
— Будь хорошей девочкой?
— Кэтрин, я устраиваю в субботу маленькую вечеринку и хочу видеть на ней тебя.
— А по какому поводу?
— Ну… просто так.
— Боюсь, что…
— И не говори, что у тебя другие планы.
— Почему это не говорить?
— Лгать нехорошо, особенно детям и старшим.
Кэтрин проглотила следующую реплику.
— Ну так как? Ты придешь? Я испеку луковый пирог, который так понравился вам с Томом. Том, естественно, тоже приглашен.
— А кто-нибудь, кроме меня и Тома, приглашен? — с подозрением спросила Кэтрин. Она опасалась, что это лишь маневр, чтобы вновь опутать ее сетью вражеского влияния.
— Естественно! — почти обиделась мисс Грэхем.
— А кто?
— Кое-кто из соседей: Армстронги…
Забавная пара: самые-пресамые среднестатистические американцы на свете. Они выглядят так, точно только что сошли с экрана телевизора, где шел какой-то комедийный сериал из тех, где «зрители» громко смеются за кадром.
— Мистер Боул…
Кэтрин удержала гримасу недоверия. Если бы мистер Боул родился в Европе несколькими десятилетиями раньше, он наверняка подружился бы с Кафкой. Подобное притягивает подобное. Мрачный тип со следами глубокого душевного страдания во взоре, донельзя молчаливый, гениальный в своих суждениях, когда все-таки заговаривает, но вообще — почти невыносимый. Говорят, он пишет «Великую книгу». Кэтрин почти жалела, что знакома с ним лично. Может быть, книга отдельно от своего странного автора по появлении на свет произвела бы на нее не такое гнетущее впечатление.
— …несколько человек из цветоводческого клуба, моя родня… А вообще ожидается очень спокойный вечер, но ты не заскучаешь, не переживай.
— Мы с Томом подумаем, — уклончиво ответила Кэтрин. В случае чего можно будет сослаться на то, что Том уперся и не захотел пойти.
— Замечательно, — просияла мисс Грэхем. — Чудесно. Я еще тебе напомню. Завтра. Или в четверг. Или в пятницу.
Кэтрин кивнула, правда, без привычной холодности. Не то чтобы она рассчитывала, что человек может измениться за одну ночь и старая дева, которая помешана на своем несостоявшемся материнстве и потому с каждым встречным-поперечным ведет себя как «Большая Мамочка», способна враз превратиться в милую пожилую леди, общительную, но не более того. Просто сегодня мисс Грэхем вызвала у нее какую-то особую симпатию. И вправду необычный день.
На работу Кэтрин приехала заранее. Она вообще ненавидела опаздывать и потому всегда приходила в числе первых: в школу, в университет, в больницу. Ей проще было встать на полчаса раньше, чем нервничать, кусать губы и мчаться на всех парах куда-то, понимая при этом, что вряд ли успеет. Дежурный регистратор, хорошенькая, но глуповатая девушка по имени Элли, красила ресницы, глядя в карманное зеркальце. По мнению Кэтрин, третий слой был уже лишним, но она промолчала. В конце концов, у всех свои представления о прекрасном, а каждой женщине хочется быть красивой… А ей самой хочется быть красивой? Кэтрин помрачнела и чуть-чуть ускорила шаг. Она торопилась, еще не вполне осознавая, куда спешит.
— Так и есть, — сказала Кэтрин сама себе, взглянув в зеркало, что висело у нее в кабинете в шкафу.
Прятать зеркало в шкафу — это этично и неэтично одновременно. Этично — потому что врач-хирург приходит на работу не для того, чтобы любоваться своим отражением. Больница — это серьезное место, где работают серьезные люди, которые занимаются самым серьезным делом: спасают другим людям жизнь.
Неэтично — потому что, будь она хоть десять раз врач, она в первую очередь женщина.
Когда-то давным-давно Кэтрин могла жить с обратным убеждением. До того как в ее жизни не появился Дэвид и не научил ее кое-чему.
Потом, правда, он захотел уверить ее в том, что в первую очередь она не женщина и тем более не человек, а его собственность, ну да ладно, не об этом речь.
Неужели это постыдно для женщины — смотреться в зеркало? Настолько постыдно, что его повесили на дверцу шкафа с внутренней стороны?
Ответ на этот вопрос вопреки ожиданиям многих неоднозначен.
Для женщины, конечно, очень важно знать, что с ее внешностью все в порядке. Но если не в порядке, не в порядке сильно, уже давно и исключительно по ее вине, то смотреть в зеркало действительно стыдно. Причем перед самой собой.
Кэтрин ужаснулась тому, что пропустила мимо себя все изменения, которые с ней произошли за последнее время. Ее глаза стали как будто больше и глубже, но вокруг них прибавилось морщинок, кожа сделалась какой-то тусклой, волосы — невзрачными, а количество седых волосков, которые она раньше наивно принимала за блики, впечатляло и ужасало. Неужели ее тело решило преждевременно состариться с горя? Похоже на то, очень похоже…
— Но горя-то больше никакого нет, — задумчиво проговорила Кэтрин.
Она провела ладонью по лбу, стараясь снять напряжение, разгладить его, пощипала себя за щеки, зарылась пальцами в волосы и слегка взъерошила их.
Получилось бледное лицо с розовыми пятнами на щеках и большими усталыми глазами под взлохмаченной шевелюрой. Кэтрин подавила стон досады. Тремя движениями тут делу не поможешь. Нужно что-то более радикальное.
Она порылась в сумочке в надежде отыскать косметичку, но проблема в том, что, чтобы что-то где-то найти, нужно сначала это туда положить. Из косметики ей попался только дезодорант-стик, бальзам для губ и баночка с увлажняющим кремом.
Элли вволю посмеялась бы над ней.
Но Элли совершенно не обязательно знать, как наплевательски относится — то есть относилась — к себе доктор Кэтрин Данс.
Ах черт, она ведь уже это знает: у доктора Данс все написано на лице. Почти в буквальном смысле слова.
Хорошо одно: что Элли это никоим образом не касается. А саму Кэтрин мнение Элли тоже не очень-то волнует.
Она пообещала себе, что во время перерыва съездит и купит себе новую декоративную косметику. Да, именно во время перерыва. Не станет даже дожидаться конца рабочего дня. Потому что после рабочего дня она отправится к парикмахеру.
— Доктор Данс, пожалуйста, пройдите в приемную девять! — Элли распахнула дверь даже без стука, и лицо у нее было очень растерянное, почти испуганное.
— Что случилось?
— Авария! Человек разбился на машине. А доктор Филипс в отпуске, доктор Мартинез тоже, а доктор Хант болен, других хирургов сейчас нет…
— Поняла, бегу!
У Кэтрин душа ушла в пятки. Нет, конечно, она врач-хирург, но она все же хирург не для экстремальных ситуаций. Одно дело наблюдать пациентов, подолгу готовиться к операциям, изучать инновации в своей области медицины, и совсем другое — когда действовать нужно быстро, очень быстро и очень четко, и от того, насколько ты быстр и спокоен, зависит жизнь человека.
— Сейчас, Элли, я переоденусь!
— Да, доктор Данс!
Никогда в жизни Кэтрин не переодевалась в такой спешке. Она корила себя за внезапно проснувшееся внимание к собственной внешности. Если бы не это, она уже успела бы сменить блузку и брюки на форму и настроиться на рабочий лад… А ведь день так чудесно начинался!
Ладно, она справится. Обязательно справится. Она талантливый врач, общую хирургию она знает хорошо, нужно только успокоиться и довериться себе. Вдох — выдох. Только как тут успокоиться, когда сердце глухо стучит, кровь бросилась в голову, и больше всего ей хотелось бы сейчас вновь стать практиканткой на операции у гениального хирурга доктора Гарольда Симпсона… Учиться, внимать, но ни за что не отвечать.
Это малодушие.
Хватит уже бояться ответственности. Она взрослая женщина. Может, опыта экстренных операции ей и недостает, но у нее ясный ум и послушные мозгу и сердцу руки.
И больше всего ее пугает неизвестность. Страх — это отсутствие информации. Значит, нужно бежать скорее!
Давно она не бегала по больничным коридорам…
К чести Кэтрин нужно сказать, что, когда она распахнула дверь приемного покоя, она уже взяла себя в руки и паника в ее душе совсем улеглась.
Однако тут же накатила новая волна, и Кэтрин с трудом проглотила большой неудобный ком, подступивший к горлу.
На каталке лежал мужчина с очень бледным лицом, его возраст она не сумела определить: то ли двадцать пять, то ли сорок… Черты лица обозначились резкими, изломанными линиями. Он был без сознания, но, несмотря на это, на лице отпечаталось выражение сдерживаемой боли, и от этого он выглядел необыкновенно серьезным. У Кэтрин мелькнула мысль, что он очень красив, и она поразилась сама себе: надо же, какие глупости в такой ответственный момент!
Потом она поняла, что весь смысл этого «трюка сознания» сводился к тому, чтобы отвлечь ее внимание от того страшного, что было в его облике: залитая кровью чуть пониже сердца рубашка, вывернутая под неестественным углом рука. Судя по тому, как в месте слома набрякла от крови ткань рукава, открытый перелом.
Кэтрин привиделись обломки кости, которые придется извлекать из раны.
Конечно, будь она просто девушкой с улицы, на нее это произвело бы куда большее впечатление. Она же была врачом-хирургом, и ей приходилось извлекать из человеческого тела вещи пострашнее костяных осколков, кость, по крайней мере, это естественно и необходимо в организме, а вот раковая опухоль, которая поселяется в человеке и, как тупое, жадное и злобное животное, хочет его пожрать изнутри, — это совсем другое, чужеродное, противоестественное.
Воспоминания о том, что она по-настоящему привыкла работать с этой мерзостью, придали ей сил. Не впервой ей видеть кровь и раны, пусть они и не такие аккуратные, как бывают от скальпеля…
— Что? — отрывисто бросила она медсестре, которая вынырнула из операционной палаты, сообщающейся с этой приемной.
— Открытый перелом предплечья, тяжелый перелом ребра: осколок прошил кожу и предположительно вонзился другим концом в левое легкое, возможно внутреннее кровотечение. Состояние пациента тяжелое…
— Готовьте его к операции! — сказала Кэтрин каким-то чужим голосом и будто услышала себя со стороны. Это не ее слова, так говорит какая-то незнакомая, хладнокровная, уверенная женщина, может быть, с большим опытом работы в экстремальных условиях…
«Успокойся, — одернула она себя. — Экстремальные условия — на Северном полюсе или в горячих точках на Ближнем Востоке, а здесь всего лишь неожиданная операция. Да, ты не готовилась, но тебя не зря считали одной из самых талантливых на курсе, и даже заядлые женоненавистники от хирургии мало-помалу стали тебя уважать».
И все же она порадовалась, что рядом Стейси — опытная медсестра доктора Филипса. Ее помощница Марджори только что окончила колледж, она до сих пор бледнеет при виде крови, хотя, надо признать, вообще держится молодцом.
Дальше все было как во сне, странном сне из тех, что помнишь всю жизнь.
Кэтрин отдавала команды, брала инструменты, что-то делала руками, заглядывала туда, куда человеку вообще-то и заглядывать не положено, смотрела на то, на что человеку лучше бы не смотреть: ведь слишком сильно похоже это тело на ее собственное, пусть она женщина, а перед ней лежит мужчина, но если бы ее изувечило в автокатастрофе, она выглядела бы примерно так же.
Смотреть на развороченные костью мышцы — страшно. Страшно вообще смотреть на тяжело раненного человека. Внутри собственного тела, в животе, что-то туго сжимается от первобытного ужаса. Тело твое смутно догадывается, что так же легко уязвимо… и смертно. И сколько бы ты ни гнал от себя подобную мысль, как бы истово ни веровал в бессмертие собственной прекрасной души, это не помогает, когда видишь, что могут сделать с человеческим телом, в том числе и твоим, несколько тонн взбесившегося металла.
Она делала десятки вещей, которые оставляли у нее ощущение дежавю. Будто что-то подобное уже было — хотя Кэтрин готова была поклясться, что никогда не проводила подобных операций. Впрочем, клясться не стоит, первый год практики в больнице открыл ей жизнь с новой стороны в буквальном смысле слова — со стороны поврежденного человеческого тела. Может быть, тогда ее и вызывали на похожие операции… Сейчас это уже не важно, важно лишь то, что ее глаза, руки и мозг помнили то, чего она вроде бы даже не знала. Или это дух доктора Симпсона не оставил ее своим заступничеством?
Так или иначе, а операция прошла успешно. Кэтрин поняла это по удовлетворенному взгляду Стейси, по долгому выдоху Марджори и по лучезарной улыбке Робин — третьей медсестры, которая помогала в операционной.
Она раздала последние указания и на почти негнущихся ногах вышла за дверь.
За дверью был воздух, мягкий свет и прочие прелести жизни-не-на-грани-смерти. Кэтрин в очередной раз убедилась, что, когда смерть близко, становится не важно, своя или чужая. Нервы звенят одинаково, и одинаково бесятся мысли в голове.
Она вышла из предоперационной приемной в коридор. Там кроме «живого» света были еще и запахи, и это было восхитительно. Конечно, специфический запах больницы доминировал, но Кэтрин улавливала еще тонкие нотки духов — здесь прошла какая-то женщина с очень изысканным вкусом, а тут совсем недавно кто-то пронес пончики.
Она дошла до своего кабинета, повалилась на кушетку и взмолилась всем святым, чтобы никто не трогал ее в ближайшие пятнадцать минут. Ну хотя бы десять…
Марджори впорхнула как птичка. Она выглядела очень довольной. Неизвестно, чему она больше радовалась: тому, что с пациентом, вероятно, все будет хорошо, — или же тому, что закончилось то страшное, что она так не любила, и больше не нужно смотреть на кровь и делать вид, что тебе она безразлична.
— Доктор Данс, вы были великолепны! — провозгласила она. — Такой потрясающий экспромт…
— Это была несложная операция, — устало проговорила Кэтрин.
— Несложная?! Собрать кость из осколков…
— Всего пять.
— Так бы и сказали, что не любите комплименты. — Марджори слегка надула губки, точно общалась с кавалером.
Кэтрин подумала, что это, наверное, привычка.
— Такой мужчина красивый, правда? — мечтательно добавила она, и Кэтрин поняла, что да, привычка.
И чуть-чуть пожалела, что сама не была такой.
— А вам что, не понравился? — удивилась Марджори.
— Не обратила внимания, — ответила Кэтрин. И почувствовала, что слова будто царапнули горло. Ложь. Ведь обратила же! И по правде говоря — красивый.
— Хотя, возможно, ты и права, — примирительно добавила она. — Пожалуйста, принеси мне кофе. И пончики. Я учуяла в коридоре их запах, значит, где-то поблизости они есть. По крайней мере, кто-то поблизости знает, где их найти — горячие и вкусные.
Марджори рассмеялась и легко упорхнула за дверь.
Благословенно будь, уединение!
5
Естественно, ни за какой косметикой Кэтрин в этот день не поехала. После безумного утра начался прием пациентов, а на вечер у нее была назначена еще одна операция, правда, маленькая, под местной анестезией и по ее профилю. Кэтрин забыла о том, как она любит зеленый чай и ненавидит растворимый кофе, и пила последний пинтами.
Перед тем как уйти домой, она пошла проверить, как поживает ее утренний незнакомец. Надо же, она ведь даже не узнала, как его зовут! Карту после операции заполнила, а на имя — даже не взглянула. Кэтрин стало стыдно. Она осмелилась копаться в ранах этого человека, но даже не подумала выяснить его имя.
— Мардж!
— Да?
— Как зовут парня, которого мы утром оперировали?
— Авария?
— Так и зовут? — усмехнулась Кэтрин.
— Мистер Грегори Даллас, — отчеканила Марджори. — Правда, очень мужественно?
— Да. Прямо-таки парень с Дикого Запада.
— Он прокурор, я узнавала.
— Ну у тебя и разведка. — Кэтрин покачала головой, почему-то раздосадованно. Потом поняла, что досада эта направлена именно на Марджори и носит какой-то странный, почти ревнивый характер…
Да, она уже думала сегодня о том, что никогда не была такой: очаровательной жизнерадостной девчонкой с незамутненным разумом и страстным желанием поскорее найти жениха. Но неужели она станет теперь ревновать? Ревновать свою медсестру-помощницу к пациенту? Это же просто смешно!
— И если у тебя такая хорошая разведка и наверняка отличная память, — добавила Кэтрин, — то напомни мне, пожалуйста: в какую палату я его отправила?
— В восемнадцатую, на втором этаже, — бодро отрапортовала Марджори.
Все-таки это очень здорово, что у нее такой незамутненный разум и хорошая память.
Кэтрин поднималась на второй этаж и думала, что ему сказать. Разумеется, она идет исполнить свой врачебный долг: проверить состояние больного, то есть пострадавшего. Почему тогда ей неловко это делать? Почему она собирается с последними силами, чтобы изобразить «строгую докторшу»? Почему хочет спрятаться за эту неприглядную маску?
Спрятаться, чтобы наблюдать. Чушь, она что, охотник в засаде? Так и не придумав, что сказать и как себя вести, она открыла дверь восемнадцатой палаты. Там было занята только одна койка. Сквозь поднятые жалюзи в палату лились лучи заходящего солнца: окна выходили на запад. На противоположной стене отпечатывался золотисто-огненный прямоугольник в тонких полосках параллельных горизонту теней. Помещение, выдержанное в скромных и прохладных больничных тонах, от этого казалось по-летнему теплым.
Мужчина — нет, не просто мужчина, у него есть имя: Грегори Даллас, — лежал, прикрыв глаза, но, когда Кэтрин вошла и остановилась у порога, его веки дрогнули.
— Привет, док. — Голос у него был густым и хрипловатым, и усталость не делала его слабым, только придавала оттенок чайльд-гарольдовского сплина.
— Привет. Как чувствуете себя?
— Живым.
— Это прекрасно. — Кэтрин сдержанно улыбнулась. — Как рука?
— Болит, — равнодушно ответил он.
— А обезболивающее вам приносили? — забеспокоилась Кэтрин.
— Приносили. — Он улыбнулся уголками рта. — Я не стал пить.
— Но почему? — поразилась Кэтрин.
— Мне нравится чувствовать боль.
Кэтрин скептически изогнула бровь. Он ничем не походил на парня из тех, что носят стринги, ботинки с шипами вовнутрь и млеют от щелчка плетки.
— Боль говорит, что я еще жив. И мне это чертовски нравится. Даже если она твердит об этом во весь голос. Я дышу, и это тоже больно. Но, если бы больно уже не было, мои дела обстояли бы куда хуже, так, док?
— Святая правда. — Кэтрин улыбнулась и подошла поближе, отрегулировала подачу лекарства в капельнице…
Она замялась. Ей необходимо было проверить частоту сердечных сокращений, состояние кожных покровов и роговицы глаза, но она представила, как будет прикасаться к нему, и испытала необыкновенное смущение. Это смущение вызвало еще большее замешательство, и Кэтрин с трудом справилась с собой. Хорошо, что ей удалось взять себя в руки быстро, возможно, он ничего и не заметил. Хотя не факт. Как минимум Грегори заметил, как вспыхнули ее до того бледные щеки и как нервно она взяла его за запястье, чтобы проверить пульс.
— Что такое, док?
Кэтрин не совсем понимала, ее или его сердце колотится так часто. Она вздохнула и сосредоточилась. Оказалось — ее. Слава Создателю. У Грегори была умеренная тахикардия, что вполне понятно: он не принял болеутоляющее, начал подниматься жар. Нужно будет сделать ему инъекцию, раз уж от таблеток он отказывается. Она обратила внимание на то, что задержала пальцы на его горячем запястье, и смутилась пуще прежнего.
— Док? С вами все в порядке?
— Да, с вами все в порядке, — невпопад и, может быть, даже дерзко ответила Кэтрин. — И со мной тоже, — добавила она примирительно. — Но я пришлю медсестру, чтобы сделала вам укол. Нельзя допустить, чтобы началась лихорадка… — Кэтрин старалась не смотреть ему в глаза.
— Док, меня не оставляет ощущение, что что-то не так. По-моему, вы темните. Говорите уж начистоту.
Кэтрин встретилась с ним взглядом:
— А по-моему, вы слишком подозрительны. Уверяю вас, все идет хорошо. Завтра утром у вас возьмут анализы и сделают перевязку. А пока не отказывайтесь от лекарств. Они нужны вашему организму.
— Моему организму нужен калорийный ужин и несколько часов крепкого сна. Можно еще вечернюю газету.
Кэтрин сдержанно улыбнулась и подумала избитую мысль: «Все вы, мужчины, одинаковые».
— Это вы меня оперировали?
— Да, я.
— Спасибо, док. Отличная работа.
Кэтрин усмехнулась:
— Как будто вы что-то в этом понимаете.
— Полагаюсь на интуицию.
— Интуиция — это женское качество.
— Не обязательно. Интуиция очень близка к мудрости, а мудрыми бывают как мужчины, так и женщины. Согласны?
— Пожалуй, да. Если вы не сведете разговор к тому, что умными при этом бывают только мужчины…
— Нет, это было бы очень… неумно с моей стороны. Отрицать в присутствии умной женщины существование умных женщин — нет, я не стану этого делать.
— Надо же, вы, оказывается, мастер делать комплименты.
— Комплимент — это вежливая лесть, то есть ложь, а я говорю правду. Женщина с такими глазами и с такой профессией просто не может быть глупой.
Он говорил очень просто и спокойно, а Кэтрин сидела перед ним как загипнотизированная и слушала, хлопая ресницами. Он был такой… такой… уверенный. Скала не может сомневаться. Скала стоит себе и стоит, и от нее веет твердостью, какой-то извечной незыблемостью, скалу невозможно расшатать… В общем, он напоминал ей такую скалу. А еще он говорил ей очень приятные вещи, а она не понимала для чего. С ней никогда не заигрывали пациенты. Тут играли роль и манера «очень серьезной докторши», и то положение, в котором пребывали ее пациенты: тем, кто обращается за помощью к хирургу-онкологу, как правило, не до флирта.
Она не стала бы с уверенностью утверждать, что Грегори с ней заигрывает. У него не горел в глазах тот масленый огонек, который обычно сопровождает разного рода поползновения в сторону женской юбки. Нет, напротив. Он был не слишком любезен и не груб, уверен в своих словах, но… Но Кэтрин чувствовала, что маска «неприступной докторши» никак на ней не держится. Рядом с ним она чувствовала себя не как врач рядом с пациентом, а как женщина рядом с мужчиной.
И ее безмерно раздражало это чуть небрежное и дружеское «док» в его устах. Кто это — «док»? Уж во всяком случае не существо женского пола, это точно.
Впрочем, кого он видит перед собой? Довольно молодую женщину, которая некоторое время назад махнула на себя рукой, серую от усталости, с глубокими траурными тенями под глазами, в зеленом медицинском костюме…
Да, «док» все-таки подходит.
— Значит, вы мне доверяете, и это радует, — сказала Кэтрин. — Впрочем, выбор у вас невелик, из всех хирургов я осталась сейчас одна. Так что завтра мы снова встретимся.
— А это радует меня.
— До свидания, мистер Даллас. Выздоравливайте.
— Спасибо, доктор Данс. До завтра.
Кэтрин встала и вышла из палаты, тщательно следя за тем, чтобы не споткнуться о порог.
В коридоре она, правда, все равно налетела на пробегавшую мимо медсестру. Это оказалась Элли. Элли извинилась и помчалась дальше. Наверное, торопится к кому-то на свидание. Или приглашена на вечеринку… А ее дома ждет Том, и это просто прекрасно. Чудесно. Восхитительно. Она мечтала стать матерью и теперь пожинает счастливые плоды своего осуществившегося желания. А свидания, вечеринки… Все это должно остаться в юности. И то, что она вместо беззаботной юности, полной романтики, устроила себе учебный марафон, — это исключительно ее проблемы. Нечего теперь завидовать.
Кэтрин осеклась — если можно осечься не на слове, а на мысли. Неужели она позавидовала этой молоденькой девчушке?
Бред, безумие — и позор. Зависть — большой грех, и она раньше за собой такого не замечала. Впрочем, сначала она вообще мало что замечала, кроме учебников и пациентов, потом была абсолютно счастлива с мужем, потом была с ним очень несчастна… И вот мир, в том числе и ее внутренний мир, открывается ей с новой стороны. Приятно познакомиться. Нет, черт подери, неприятно.
Кэтрин, хмурая, спустилась на первый этаж, в кабинет, и очень любезно попрощалась с Марджори. Мардж в чем-то такая же, как Элли, и Кэтрин хотелось загладить вину перед обеими сразу. Она не совсем понимала, в чем виновата, но что виновата — чувствовала очень отчетливо.
Мысли ее возвращались к Грегори Далласу с тем упорством, с каким волна набегает на прибрежные камни. Набегает, разбивается в пену, в брызги, отступает, набегает вновь… И что в нем такого особенного?
Ответ на этот вопрос пришел к Кэтрин словно сам собой, но гораздо позже.
Она читала Тому сказку на ночь, точнее это была не сказка в привычном понимании слова, а очень драматичная и завораживающе жестокая история про войну людей с вампирами и прочей нечистью, воплощенная в комиксах японскими художниками. Вот и купила сыну японскую мангу для расширения кругозора… Сын, конечно, был в восторге, его глаза сияли, щеки разрумянились. Кто бы мог подумать, что все эти кошмары произведут на него такое благостное действие?
Кэтрин рассматривала вместе с ним картинки и удивлялась тому, насколько главный герой похож на своего антагониста, лорда вампиров, кровопийцу и злодея.
Грегори Даллас в чем-то очень похож на Дэвида.
Эта мысль оформилась в ее сознании буквально в одно мгновение, как будто щелкнул выключатель и комнату залил свет. Ну и ну… Как же она раньше этого не заметила?
И хорошо, что не заметила. Иначе как она делала бы ему операцию? Хорошо, что все случилось как случилось, лучше не придумаешь.
И хотелось бы, конечно, чтобы Дэвид уже отыграл свою роль злодея и на сцену вышел положительный герой…
Кэтрин в этот вечер никак не могла заснуть. Она ворочалась в кровати, беспокоилась о чем-то, сама не зная о чем, и страстно желала увидеть сон про детство, то детство, когда мама и папа еще любили друг друга, а она была веселой и беззаботной девчушкой. Эти сны всегда дарили ей успокоение…
Уже на грани яви и сна она вдруг подхватилась и потянулась к будильнику, чтобы перевести его на час раньше. Ей обязательно нужно перед работой успеть к парикмахеру. И за косметикой.
Кэтрин нутром чуяла, что от этого каким-то образом зависит, сумеет она общаться с Марджори и Элли не скрежеща зубами или нет.
Ей снилось, как дерутся волки. Огромные злые звери, две серые смерти с желтыми глазами и оскаленными зубами, ненависть во взгляде, слипшаяся от крови густая жесткая шерсть, страшный рык, от которого леденеет кровь. Они дрались так отчаянно, так жестоко, как дерутся только лишь за самку.
И Кэтрин чувствовала себя этой самкой.
Она стояла поодаль и была, как ни странно, в своем обычном, человеческом теле, видела неестественно белые свои руки с длинными ногтями, крашенными в янтарный цвет, наблюдала с веселым волнением в крови, как катаются по земле двое волков, сражаются за нее не на жизнь, а на смерть.
Ей нравилось то, что она видела. И в то же время ее это пугало.
Она никоим образом не была уверена, что победитель пощадит ее.
Она вдруг поняла, что может стать для него как подругой, так и добычей. И он сам еще этого не решил.
Вот один из волков поднялся, а другой так и остался лежать. Янтарно-желтые глаза-угли обратились к ней. Кэтрин проснулась в холодном поту.
Она боялась заснуть, боялась, что сон повторится, точнее, что он продолжится и ее растерзают в клочья, но ей стала сниться какая-то бессвязная чушь, и волков она больше не видела. В ту ночь, по крайней мере.
Утро наступило жемчужно-пасмурное и строгое, прохладное. Кэтрин не удалось вытащить сонного Тома из постели. Она немного посидела на краешке его кровати, полюбовалась расслабленными от сна линиями его лица, чмокнула в лоб и отправилась завтракать в одиночестве. Это тоже бывает приятно иногда — но только не тогда, когда в голове роятся тревожные мысли. Кэтрин вспоминала сон, вспоминала вчерашний день, своего харизматичного пациента — и вспоминала Дэвида.
Неужели Грегори Даллас произвел на нее такое впечатление именно потому, что чертовски похож на Дэвида?
Но похож чем? Дэвид на несколько дюймов ниже его ростом и тоньше в кости, и волосы у Дэвида гораздо светлее. Ну, может быть, глаза… Но разве мало на свете сероглазых мужчин? Или мужчин с горбинкой на носу? Тем более у Дэвида нос гораздо тоньше, острее.
То, что она так явственно запомнила лицо Грегори — стоит только закрыть глаза, и оно встает перед ней, — это странно. И странно, что она так реагировала на него. Может, дело в том, что ее надпочечники просто привыкли выделять адреналин, гормон страха, и теперь им не нужно мало-мальски значимого повода, чтобы заработать по-старому? Это многое объяснило бы… Да, она так привыкла шарахаться от мужчины, бояться его, что стоило только встретить кого-то отдаленно похожего на Дэвида, — и ей подсознательно хочется реагировать на него так же.
Проблема в том, что эта реакция — не просто страх. Если речь и идет о гормональной буре и том, что она во время этой бури чувствует… Кроме гормона страха, адреналина, у нее выделяется еще в изрядных количествах окситоцин и тестостерон.
А это значит, что она ощущает себя рядом с ним женщиной — женщиной, которая хочет покориться мужчине, прижаться к мужчине, отдаться мужчине.
Естественно, она сама — взрослая, образованная, обжегшаяся в любви Кэтрин Данс — ничего такого не хочет. Это просто набор телесных реакций, объяснимый гормональным всплеском. Почему именно этот человек вызывает в ней такую бурю — не важно. Кажется, медицина еще не знает ответов на подобные вопросы. Может быть, дело в этих феромонах, о которых все только и твердят в последнее время… Возможно, у него у самого какой-то особенный гормональный обмен, и она подсознательно улавливает…
Улавливает что?
Кэтрин едва не пронесла вилку с кусочком яичницы мимо рта. На стол рядом с тарелкой шлепнулась теплая капля: Кэтрин всегда предпочитала глазунью с жидким желтком.
Улавливает, что это самец, с которым имеет смысл продолжить род. Нет, не так: что это самец, обладающий набором генов, которые в комбинации с ее генами дадут самое жизнеспособное потомство.
Ну или что-то в этом роде: что этот самец обладает достаточно высоким уровнем тестостерона, чтобы успешно защищать ее и детей от врагов, но при этом не настолько высоким, чтобы впасть в бешенство без причины и причинить вред ей или детенышам…
Стоп. Хватит аналогий из мира животных. Похоже, сон произвел на нее слишком сильное впечатление и она уже готова смириться со своей ролью самки. У нее помимо инстинктов есть могучий интеллект, если верить диплому и многочисленным похвальным грамотам, и бессмертная душа, если верить Библии. Инстинкты — это здорово, это просто прекрасно, это необходимо для выживания, но, если они вступают в конфликт с голосом разума или порывами души, нужно слушать…
А что, кстати, нужно слушать? Сердце, разум — или то первобытное, что осталось в нас, что человек пронес через сотни тысяч лет эволюции? Может быть, именно это называется чутьем, шестым чувством, которое право всегда, во все времена?
И, может быть, животное начало в ней, которое сигнализирует о том, что Грегори Даллас — очень привлекательный самец, просто не способно человечьим голосом сказать, что это, возможно, ее мужчина?
Нет, нет, нет! Был уже один… мужчина-всей-ее-жизни. И чем это обернулось? Нет, не вдаваясь в подробности, нужно просто признать, что ее чутье на мужчин исковеркано какими-то перипетиями внутриутробного или постнатального развития. Точка.
Словом, на этот раз она ни за что не станет его слушать.
6
В салоне красоты, который Кэтрин выбрала потому, что он находился как раз по пути в больницу, ее встретили: сонный администратор, очень ухоженная дама лет под сорок, и несколько нервозная мастер-парикмахер, которая жадными глотками пила кофе из бумажного стаканчика. Кэтрин опасалась нервных парикмахеров, и небезосновательно: все-таки человек с ножницами, который не держит себя в руках, — это опасно. Однако несложно было догадаться, что Кэтрин суждено общаться именно с ней: других мастеров в этот ранний час в салоне не было.
— Здравствуйте, — веско сказала Кэтрин. Ей кивнули.
«Странные у них здесь порядки», — подумала Кэтрин. В Денвере между подобными заведениями такая конкуренция, что за клиентов там едва ли не дерутся. Поэтому клиент, точнее клиентка, всегда чувствует себя королевой мира. Тут, кажется, ситуация обратная…
Кэтрин взглянула на себя в большое зеркало и подумала, что покрасить волосы она может и дома, а стрижка не так уж сильно и отросла…
— А вы новенькая? Та самая женщина-врач, которая въехала в дом на Рокивуд-стрит? — поинтересовалась девушка с кофе.
Кэтрин захлопала ресницами:
— Очевидно, да.
— А какая дорога вас к нам привела? — поинтересовалась дама-администратор.
— Извилистая, — ответила Кэтрин, может быть, несколько резковато. Растерянность сменилась раздражением. Куда она попала, на ток-шоу или в парикмахерский салон? — Я хотела подстричься и покрасить волосы. Вы предлагаете такие услуги или я ошиблась дверью? — поинтересовалась она с вызовом. Она не привыкла к тому, что парикмахеров нужно ставить на место. Но если действительно нужно — что ж, она готова.
В крайнем случае всегда можно уйти с гордо поднятой головой. Кэтрин искренне надеялась, что это не последнее подобное заведение в достославном городе Огдене.
— Ну конечно, — почти обиженно сказала девушка с кофе. — Меня зовут Андреа, и я с удовольствием вами займусь. — Она сделала еще один глоток кофе. На лице у нее было написано «все равно больше делать нечего». — Итак, чего изволите?
Кэтрин попросила убрать длину и осветлить волосы на два тона. Это будет гармония. Более решительная стрижка — и более женственный цвет. Когда-то бабушка убеждала ее, что с такими пропорциями — узкие плечи, длинная шея, — нельзя носить короткие стрижки и высокие прически. Кэтрин в пику ей коротко подстриглась, и оказалось, что это — ее прическа. С длинными волосами, какими бы густыми и пышными они ни были, она проигрывала себе новой. Теперь в ее облике появилось что-то воинственное. Если бы не мягкий, медовый цвет волос, она бы выглядела, может быть, излишне агрессивно. Хотя в ее ситуации это вовсе не лишнее. Потому что сейчас ей нужна вся ее сила и вся решимость. Непонятно, почему сейчас, ведь самое трудное вроде бы позади, но именно такое убеждение выплыло на поверхность сознания. Ладно, в этой ситуации грех не довериться чутью, если не послушать его — можно и беды нажить, а послушаешь — так, может быть, и будешь готова к трудностям.
— А визажист у вас работает? — спросила Кэтрин, рассматривая в зеркале свое новое лицо.
Конечно, новым в полном смысле слова оно не стало, но и прежним его назвать уже было нельзя. Что-то изменилось. Неуловимо, но сильно. Да, жизненные испытания действительно оставляют свои отпечатки. И дело не в прозрачно-голубых тенях под глазами, не в тоненьких морщинках, которых раньше, кажется, не было, — дело в новом выражении, в той сосредоточенной, очень женственной силе и каком-то дьявольском упрямстве, что проявились в ее чертах. Может быть, всему причиной открытый теперь лоб и подчеркнутые скулы… Но вряд ли, вряд ли.
Скорее уж из зеркала глядит новая Кэтрин. Женщина, которой прежде не было — и которая стала теперь на место униженной, покорной Кэтрин. До свидания, малышка Кэтти Данс, миссис Дэвид Энтони Данс. Здравствуй, новая я!
Кэтрин так углубилась в свои размышления, что не расслышала, что ответила ей девушка-без-кофе Андреа. Она не постеснялась переспросить.
— Да говорю же: нет, была одна, да сплыла, как говорится. Так что красимся сами.
— Понятно.
Рейд по косметическому салону Кэтрин совершала в темпе какого-то быстрого латиноамериканского танца. Не дело это, но она твердо решила, что уже сегодня отправится на работу при макияже, и решения этого менять не собиралась: хватит и того, что вчера все ее планы полетели в тартарары.
Косметика — загадочное явление природы, почти как украшения: денег выкладываешь кучу, а взамен тебе дают пакетик, который занимает не так уж много места в пространстве… Кэтрин получила такой пакетик — и почувствовала себя женщиной. Господи, как давно она этого не ощущала! Почти забыла, как это волнующе, легко и сладостно! Говорить вещи, едва ли связанные между собой человеческой логикой, тратить большие деньги на маленькие предметы — прелесть…
Она явилась в больницу в прекрасном расположении духа и минута в минуту к началу рабочего дня. Точнее — все-таки за три минуты.
Их она и использовала, чтобы подвести глаза, ресницы и накрасить губы.
Конечно, когда наносишь макияж, пусть даже настолько простой, в безумной спешке, и особенно — непривычной рукой, неизбежны некоторые ошибки… Кэтрин не почувствовала ожидаемого удовлетворения: линии получились шероховатыми, неровными, лицо, конечно, стало ярче — но теперь это было уже совсем незнакомое лицо.
— Доктор Данс, доброе утро. А что это с вами? — поинтересовалась Марджори, которая впорхнула в кабинет, как райская птичка. У нее было, как всегда по утрам, превосходное настроение. — Какие-то неприятности? Ой, а как вам новая прическа идет!
— Все в порядке, Мардж. Привет. Спасибо за комплимент.
— Нет, правда. А вот тушь и тени вы слишком густо положили, — с неким смущением выпалила Марджори. Не удержала язык за зубами.
Кэтрин почувствовала себя студенткой, провалившей экзамен по генетике.
— Ничего страшного, — процедила сквозь зубы Кэтрин.
— Давайте поправим, а? У вас косметика с собой?
— С собой, но сейчас…
— Нет-нет-нет! Красота превыше всего. У вас лосьон есть?
Через пять минут все действительно было в порядке, и на Кэтрин из зеркала смотрела уверенная, сильная женщина глубокой натуры. Прекрасно. Вот теперь она себя узнает…
Марджори, обнаружившая новую сферу деятельности, с энтузиазмом взялась просвещать Кэтрин: как подбирать тени и подводку, как их между собой комбинировать, как правильно красить губы. Оказалось, что Кэтрин пропустила мимо себя огромный пласт информации в виде глянцевых журналов! Она и не подозревала, что такое нехитрое дело, как прихорошиться, может включать в себя столько тонкостей…
— А как наш красавчик? — поинтересовалась Марджори, когда краткий экскурс в мир декоративной косметики был закончен.
Кэтрин почему-то сразу поняла, кого она имеет в виду.
— Еще не знаю, хотя мне кажется, все должно быть в порядке.
Кэтрин позвонила дежурной медсестре и выяснила, что мистер Грегори Даллас чувствует себя удовлетворительно, ночью начиналась лихорадка, но сейчас температура тела нормальная, давление чуть занижено, инъекции он получил в обычном порядке, позавтракал с аппетитом.
Похоже, операция прошла на самом деле успешно. Браво, доктор Данс, великолепный дебют!
Около полудня Кэтрин не утерпела — да, на самом деле не утерпела, будто ее кто-то подталкивал в спину и торопил: «Ну же, ну же, скорей, скорей!» — и пошла проведать пациента Грегори Далласа.
Шла к нему с тем же жарким волнением, что и вчера. Кэтрин вспоминала вчерашнее откровение о его сходстве с Дэвидом, странный «волчий» сон и утренние размышления о своей животной половине. Это, конечно, все безумно интересно и занимательно, но у нее к нему есть дело: врачебный долг. И все. Она давала клятву Гиппократа. И теперь хочешь не хочешь, а с Грегори Далласом у нее завязались почти деловые отношения: врач — пациент. Все очень просто и предельно ясно.
Она решительно простучала каблучками по плиткам пола и распахнула дверь его палаты.
Негромкий, но резкий звук и движение в палате вырвали Грега из сонного оцепенения. Ему виделись какие-то расплывчатые, но в целом красивые картины, отдаленно похожие на ожившие полотна импрессионистов.
То, что он увидел наяву, было, несомненно, много красивее и живее.
— Привет, док.
— Добрый день. Как поживаете, мистер Даллас?
Наверное, вчера он не отдавал себе отчет в том, насколько тяжело его состояние. Потому что он видел перед собой женщину, похожую на докторшу из вчерашнего мутного кошмара, но лишь отдаленно. Вчерашняя могла бы быть старшей сестрой или вылинявшей копией сегодняшней. К нему подошла свежая, молодая, сдержанно-энергичная женщина.
— Простите, док, мне не дает покоя один вопрос.
— Какой? — Она настороженно свела брови.
— Вы сменили прическу?
Зарделась.
— Мистер Даллас, давайте лучше поговорим о вашем состоянии! — выпалила она почти рассерженно.
Смущается…
— Конечно, поговорим. Вы не подумайте дурного, я пытаюсь понять, что со мной такое: ошибка восприятия или все более-менее в порядке.
Она просверлила его взглядом.
— У меня другая прическа сегодня.
— Великолепно. Я могу быть спокоен за состояние своего рассудка. А вам идет. Очень.
Может, такие взгляды бывают только у женщин-хирургов? Кажется, до спинного мозга пронзила, рассекла, рассмотрела его.
Да, сложно от нее что-то скрыть. Мыслям категорически некуда прятаться. Разве что рассеиваться по нервам… Хотя, наверное, она так сильна в анатомии, что и там найдет то, что ее заинтересовало.
Любопытно, а как справляется с этим ее муж?
А есть ли у нее муж?
Грег скользнул по ней, еще менее знакомой сегодня, чем вчера, взглядом. Горделивая посадка головы, очень прямая спина, причем естественно прямая, ей не приходится делать вид, что осанка у нее лучше, чем есть на самом деле. И взгляд такой… Он напряженный, это очевидно. Она нервничает из-за чего-то, может быть, чувствует себя не в своей тарелке рядом с ним, может быть, еще что-то… Но она не цепляется за него взглядом, не зовет, не предлагает чего-то… У одиноких женщин — и даже у многих замужних — бывает такой особенный взгляд, как будто они в толпе всегда ищут своего суженого и в собеседнике пытаются разглядеть его черты…
С ней другое. Наверное, она все-таки замужем.
Грег бросил взгляд на левую руку: кольца нет. Может быть, она по какой-то причине его не носит? Хотя, по правде говоря, не похожа она на счастливую в браке женщину. Время от времени в ней проскальзывает что-то от затравленного зверька. А в другие мгновения она выглядит как амазонка — гордая женщина, готовая воевать. С кем же она воюет? И не эта ли война причиной тому, что она не ищет взглядом мужчину? Может быть, ее жизнь уже заполнена до краев?
Любопытно, очень любопытно.
Грег отметил, что наблюдает за ней с удовольствием: она красива и необычна. Женщина-хирург — вообще огромная редкость, но этим ее неординарность не исчерпывается. Она так по-особому наклоняет голову, когда вслушивается в то, что ей говоришь, или задумывается. У нее очень мягкая пластика пальцев — и при этом движения то порывисты, то замедленны. Как будто она все время сдерживает в себе что-то… Она неуловимо похожа на ласку — гибкого, шелковистого зверька, подвижного, как ручеек ртути, который изо всех сил старается выглядеть «прилично» и вести себя, как все другие люди. Ласка не станет от этого больше похожа на человека, но отчасти потеряет сходство со своими сородичами и от этого превратится в какое-то третье существо. Хотя нет, наверное, не превратится, как бы ни вела себя ласка — она останется лаской. Да и вряд ли кого-то из этих зверьков возможно убедить подражать в повадках человеку…
Все это Грег обдумывал, пока Кэтрин подробно расспрашивала его об ощущениях в прооперированных органах, про общее самочувствие и прочую дребедень. Он не был склонен жалеть себя, и его не особенно интересовало, что и насколько у него болит, поэтому он отвечал на ее вопросы… равнодушно, что ли. Безучастно. Состояние тела было важно только с той точки зрения, как быстро он сможет вернуться к работе. На нем висит несколько важных дел, и он страшно рад, что не отправился на тот свет, потому что у него есть реальный шанс надолго посадить за решетку пару негодяев. А уж если шанс есть, он им воспользуется, это точно.
Кэтрин позвала медсестру и во время перевязки осмотрела его грудь.
— У вас поразительно сильный организм, мистер Даллас. — Она покачала головой, будто ей было сложно поверить в то, что она видела. — Рана очень быстро заживает. Вы отлично справляетесь. — Она одарила его сдержанной улыбкой.
— Спасибо, док. Мне есть куда спешить. — Он ухмыльнулся. — И, пожалуйста, зовите меня Грег.
— Хорошо, Грег.
— А как мне вас называть?
Она опешила. Он смотрел на нее без улыбки. Ему правда важно было, что она ответит. Как далеко впустит его в свою жизнь. Он дал ей ключик к своей — имя для близких.
— Доктор Данс, — был ответ.
С ума сойти. Холодно, как вода в горной реке. В марте.
На «синий чулок» она не похожа. Значит, у нее и вправду кто-то есть. Кто-то очень значимый для нее, даже если она и не особенно счастлива с ним. Грег задумчиво потер лоб пальцами свободной от гипса руки.
И откуда взялась в нем эта досада, от которой сейчас хочется скалить зубы?
Холодность в отношениях между ними, однако, продержалась недолго, как недолго держится комковатый снег под лучами весеннего солнца.
«Доктор Данс» с благородным, как ювелирное украшение из европейской скани, именем Кэтрин приходила к нему каждый день, обычно дважды, но иногда даже чаще.
И Грегу это нравилось, очень нравилось.
Она подробно расспрашивала его о самочувствии и проводила свои медицинские изыскания с величайшим тщанием. Грега это умиляло, как умиляет взрослого пресерьезная возня малыша с домашним заданием по любимому предмету. Он точно знал, что все будет хорошо — с ним, с его рукой, с его ребрами, с легкими. В общем, со всем. Но мало-помалу он стал воспринимать свое состояние как отличный повод видеться с Кэтрин. И даже через это примирился с вынужденным бездействием на больничной койке. Конечно, он с превеликим удовольствием отправился бы домой и занялся бы там своими делами, но раз уж нельзя — нужно, как сок из апельсина, выжать из момента максимум плюсов.
Кэтрин очень ему в этом помогала.
Ему было интересно вести с ней, как он называл это про себя, переговоры через дверь. Она как будто возвела вокруг себя прочную, высокую, добротную стену — не пробиться.
Но в этой стене была… не брешь — дверь. И через эту дверь с надписью «Долг врача» с ней можно было поговорить.
Что уже приятно.
— Привет, доктор Данс, как дела?
— Спасибо, Грег, все о'кей. А как вы себя чувствуете?
— Великолепно. Я всегда чувствую себя в дождь особенно живым. А вы?
— А мне в дождь очень хочется сидеть дома и читать.
— А что вы читаете, доктор Данс?
— Классику… и профессиональное. Не поверите, даже учебники люблю. А вы?
— А я — вы не поверите — люблю детективы. Они мне страшно нравятся тем, что всегда к концу становится ясно, кто злодей — и кого сажать за решетку.
Улыбается.
— Вам нравится сажать людей за решетку?
— Всякую мразь — да, обожаю.
— А вы не боитесь ошибиться? Что из-за вашей ошибки невиновный человек отправится в тюрьму на несколько лет?
— А вы не боитесь, доктор Данс, ошибиться? Что из-за вашей ошибки человек умрет на несколько лет или даже десятилетий раньше?
Темнеет лицом.
— Боюсь, Грег. Очень боюсь. Поначалу с этим вообще был кошмар, хоть на работу не выходи. Я панически боялась врачебной ошибки. Страшно боялась своего невежества и неопытности. Что я по незнанию могу причинить вред. Потом я привыкла. Знаете, как ни крути, а все в руках Господа. Я всего лишь человек, хоть и без пяти минут доктор медицины. В моих силах попытаться. Если есть на то воля Божья, все будет хорошо — и с пациентом, и со мной.
— И это говорит мне человек, который, я убежден, не раз и даже не десять спасал чьи-то жизни?
— Это не я спасала, это Бог спасал. Моими руками.
— Вы очень религиозный человек, доктор Данс, как я погляжу.
— Знаете, чем больше лет проходит, тем больше я понимаю свою бабушку. В юности я такой не была. Ей, помнится, неделями не удавалось затащить меня в церковь… Впрочем, я и не припомню, когда была там в последний раз.
— Тяжело приходится вам в Огдене, наверное.
— В каком смысле?
— Здесь все ходят в церковь. Вас разве еще не просили определиться с выбором прихода?
— О, кажется, что-то подобное было. Вот на что намекала моя соседка, когда говорила, что какой-то пастырь должен взять на себя смелость вернуть в стадо отбившуюся овцу!
— Подождите-подождите, скоро эти самые пастыри начнут наведываться к вам с ненавязчивыми беседами.
— О, знаете, один уже приходил! Прощупывал почву. Вел ни к чему не обязывающие разговоры о пагубности медицинского цинизма. Как будто если я знаю, что у него внутри, причем довольно подробно представляю, потому что он примерно такой же, как все, и сердце — это сердце, гортань — это гортань, а простата — это простата… Как будто если я легко могу представить его в разрезе, я теряю от этого понятие о его бессмертной душе, уж не знаю, насколько грешной…
— О, поверьте мне, святых нет, особенно среди тех, кто не очень хочет ходить в стаде и потому лезет в пастыри. В моей практике был случай…
В дверь входит медсестричка — молоденькая, хорошенькая, но, увы, почти ничем не отличающаяся от той, что дежурила вчера, и от той, что будет дежурить завтра. Грег не любил одинаковых женщин. Конечно, можно пойти по легкому пути обобщения и сказать, что все женщины одинаковы, но это была бы неправда. Не все. Но одинаковых много.
— Доктор Данс, вас срочно вызывают в ординаторскую! — говорит медсестра слегка даже укоризненно.
— Боже мой, уже без четверти час! Как я могла забыть! — Кэтрин вскакивает. — Будьте здоровы, Грег! — выпаливает она на ходу, бросает через плечо слова, как ленточку, и ленточка эта вьется в воздухе еще несколько мгновений.
Даже после того, как Кэтрин убегает.
Даже после того, как она уходила, от нее будто оставался в палате неяркий отсвет, и какое-то время Грег им любовался. А может быть, вдыхал? Кто поймет…
Или такой разговор:
— Ну как там погодка на улице, в мире живых, доктор Данс?
— В мире живых светит солнце и к обеду наверняка будет очень жарко. Так что наслаждайтесь прохладой.
— В царстве теней всегда прохлада. Я рад был бы согреться.
— Сказать, чтобы вам принесли дополнительное одеяло?
— А вы язва, док.
— Нет. Но мне не нравится «док».
— Хорошо, док. Я учту.
— Вы невыносимы.
— Тогда зачем вы пришли?
— Исполнить свой долг.
— Во второй раз за день?
— Увы! Мой долг главенствует надо мной и моими желаниями по девять часов подряд.
— Я бы не отказался, если бы вы все эти девять часов просидели у моей постели.
— Увольте. Медицина медициной, Грег, а я вам не сестра милосердия.
— Да уж, я заметил. Милосердия в вас ни на йоту.
— Грег, вы меня злите.
— Да.
— А зачем?
— Хочу посмотреть, какая вы, когда злая.
— Не дождетесь. — Фыркает. — Эмили, неси перевязочный материал!
Неожиданно откровенные разговоры перемежались пикировками, но Грег до сих пор не знал ничего о том, как она живет. Странно. Он услышал уже столько важного о ней: что она думает, как смотрит на мир, на свою профессию, — но при этом и знать не знал, в каком супермаркете она делает покупки, для кого готовит ужин, какую музыку слушает по утрам, любит ли комиксы. А ведь из этих мелочей складывается наша жизнь, как складывается внутренний мир из чувств, мыслей, желаний и воспоминаний.
Через три дня после операции его пришла проведать секретарша. Они были в хороших в общем-то отношениях, если не считать того, что Айвори вечно ворчала, главным образом из-за того, что Грег никак не желал слушаться ее материнских советов. Она была, может быть, года на три или четыре старше его, но, право слово, не может сорокалетняя женщина приходиться матерью тридцатисемилетнему мужчине. Да, безусловно, есть женщины с гипертрофированным материнским инстинктом, который не дает им покоя ни днем ни ночью, и они неустанно ищут, ищут, ищут — кого бы прицепить к своей юбке. Да, есть мужчины, которые так сильно любят свою мать и так мало уважают отца, что никак не хотят до конца стать мужчинами, а всеми силами стремятся вернуться в детство, и потому такая женщина — прямо-таки сокровище для них. Встретившись, они уже не расстаются. Да, у мужчины — который очень скоро станет мужем своей «мамочки», разумеется, — могут появиться любовницы, молоденькие и легкомысленные или зрелые и сексуальные. Но «мамочку» он не бросит никогда. Они живут в очень крепких браках, которые кому-то кажутся умильными, кому-то — уродливыми.
Айвори с превеликим удовольствием разыграла бы эту партию с Грегом. Но — вот беда, ай-ай-ай! — он был взрослым независимым человеком, который ощущал себя на все свои тридцать семь, любил мать, уважал отца и меньше всего хотел обзавестись второй матерью. А потому он регулярно ставил Айвори на место, а она часто сетовала, что он не слушает ее мудрого женского совета, но в целом жили они мирно.
Айвори нарядилась как на праздник: небесно-голубой костюм нескромно облегал ее богатое тело.
— Ты решила меня порадовать? — поинтересовался Грег.
— Да. Я же помню, что голубой — твой любимый цвет, — гордо ответила Айвори.
— В основном — в интерьере. Люблю голубые обои и диванные подушки.
— Сделать в офисе ремонт к твоему возвращению?
— Нет, спасибо. А почему ты без цветов?
— У тебя же аллергия.
— Я солгал тебе в тот раз. Когда женщина дарит мужчине цветы на день рождения — это, прости меня, странно. Мне нужен был предлог, чтобы избавиться от них.
— Ну ты и скотина!
— Вот-вот-вот! Теперь я тебя узнаю. А то все какой-то зефир с крем-брюле. Ладно, рассказывай, что там творится, в большом мире. Пришли ли документы из Техаса по Ньюмарку?
— Да, я принесла.
— Ты умница!
— Давно бы так…
— «Давно» ты еще не заслужила.
Как раз в этот момент в палату вошла Кэтрин. Она смутилась так, будто застала их за чем-то неприличным.
— Привет, доктор Данс! Нет, постойте, куда же вы?
— Я лучше потом зайду, у вас посетительница… — Кэтрин попятилась к двери.
— Она нам совершенно не помешает.
— Нет на самом деле лучше потом… Хотя… завтра выходит на работу ваш лечащий врач, доктор Хант. Он великолепный специалист-травматолог.
— Погодите, а вы?
— А я буду больше времени уделять своим больным. Но не переживайте, я передаю вас в надежные руки, гораздо более опытные, чем мои. Счастливо.
— Док! Спасибо вам…
— Пожалуйста. Удачи.
— Грег, а чего ты так разволновался? — с подозрением поинтересовалась Айвори, когда Кэтрин исчезла за дверью.
— Разволновался? Глупости какие.
— Именно! У тебя крылья носа побелели, как бывает в суде, когда ты речь говоришь.
— Отстань!
— Интрижка с докторшей? — Айвори прищурилась.
— Не дури.
— С тебя станется. С тех пор как Марта ушла…
— Заткнись.
— А что, я неправду говорю?
— Заткнись и дай мне бумаги, ручку, ежедневник и ноутбук.
— Откуда ты знаешь, что я все это принесла?
— Ты ведь первоклассная секретарша. Когда не суешь свой нос куда тебя не просят.
Грег был рад, что она принесла ему работу. Работа ему сейчас очень пригодится. Он еще не осознал до конца, что с ним не так, — но что-то определенно было не так, и сильно «не так».
Кэтрин больше не будет к нему приходить. Вместо нее ему придется иметь дело с каким-нибудь толстым усатым парнем, который привык к своей высококвалифицированной, но все-таки мясницкой работе. Или с тощим сухарем с глазами и руками садиста.
Да, к нему будут приходить те же медсестрички. Но какое ему до них дело? Куколки, хорошенькие, не то чтобы пустые, но очень несложные в своей внутренней организации создания. Он не испытывал к ним ни неприязни, ни влечения, как многие мужчины. Они просто не были ему интересны, и этим все сказано. Грег знал, что многие из них, если не все подряд, смотрели на него с восхищением и не отказались бы завести с ним ненавязчивый романчик. Но ему это не нужно. Когда ему хотелось ощутить вкус женского тела, он покупал это удовольствие за деньги. Когда-то даже дал себе зарок, что этим его интимные отношения с женским полом ограничатся. Он не хотел больше боли, не хотел предательства, не хотел никому подставлять свои уязвимые места. Кто-то из хищников делает так: демонстрирует партнеру перед спариванием живот и горло, мол, погляди, я смертоносен, как и ты смертоносна, но я доверяю тебе, доверься и ты мне.
Он и получил свое: клыки в горло и когти в живот. После того как Марта…
Смешно. Такое пуританское имя для такой распущенной женщины. Какая ложь! Все равно что вульгарно накрашенная продажная девка в платье монашки — причем которая корчит из себя монашку, пытается убедить всех вокруг, что она монашка и есть. Мерзость какая.
Марта пыталась убедить всех — но его, конечно, в первую очередь — в том, что она откровенная, честная и верная. Бывают, видимо, женщины, которые не способны на верность, как не способен человек отрастить себе крылья и нимб и сделаться ангелом. Прикинуться и нацепить какой-нибудь муляж — запросто. А перевоплотиться в существо иного порядка — нет, хоть убей.
Марту он действительно готов был убить. Разумеется, ничего такого он не сделает, но вот если бы они оказались на необитаемом острове, он нисколько не сомневался бы насчет того, оставить ее жить или… Лучше провести остаток дней в полном одиночестве, чем с ядовитой гадиной, которая подождет, пока ты заснешь, а потом убьет тебя, беззащитного, с особой жестокостью.
Он никогда не называл ее красавицей, но от нее веяло такой притягательностью, таким зноем, что ему не нужно было никого другого. Не хотелось. Войдя в его жизнь, Марта стала самой привлекательной… нет, единственной женщиной на свете.
Спустя три месяца после знакомства он сделал ей предложение.
Она вопреки всем ожиданиям его не приняла — сказала, что им нужно получше узнать друг друга, прежде чем заключать брак.
Однако переехала к нему на следующей же неделе.
Грег поверить не мог своему счастью: ему встретилась удивительная женщина, которая не стремится его окольцевать и сделать навеки своей собственностью.
После он узнал, что Марта не делала ничего такого, что было ей невыгодно.
Ей было невыгодно выходить за него замуж, потому что она вовсе не собиралась жить с ним до конца дней долго и счастливо, а лишний брак за плечами, тем более с прокурором, женщину не красит. Однако с него было что взять: с комфортом обставленный дом, деньги, связи, секс, в конце концов, — не зря же его так любили женщины… И она хотела это взять.
И он с радостью давал ей. Давал, давал, давал… Марта была великолепной любовницей, причем не только в постели: она с изящным достоинством общалась с его друзьями и коллегами, выходила с ним в свет, прекрасно готовила, делала ему массаж по вечерам и устраивала его жизнь так, что ему по-настоящему хотелось возвращаться домой. Каждый день.
Пока совершенно случайно он не узнал, что она спит с его близким другом и коллегой. Не из-за денег, не из-за связей, не из-за социального статуса — просто так, ради новых острых ощущений.
Грег скрипнул зубами при воспоминании об этом унижении. Естественно, он избил Марвелла. Естественно, Марвелл рад был бы подать на него в суд, но ему что-то не позволило: то ли остатки совести, то ли страх.
Самое возмутительное во всей этой истории, что Марта повернула скандал таким образом, будто бы она сама хотела от него уйти — и вот наконец уходит.
Она, как оказалось, была женщиной нещепетильной: прихватила с собой все подарки и опустошила счет в банке.
И вот теперь все, включая Айвори, этот комбайн по переработке достоверной информации в весьма сомнительную, вплоть до откровенных сплетен, и специалист по распространению «продукта», говорят ему: «После того как Марта ушла»…
— Черт бы вас всех побрал, — прошипел Грег и с силой шваркнул на пол стопку бумаг.
Они жалко, неопрятно рассыпались, будто обиженные. Ну и что, что ценные документы. Бумага — не человек, все стерпит.
Грег вспомнил о последнем визите Кэтрин — и ему стало совсем паршиво.
7
Кэтрин ехала домой медленно, очень медленно. У нее было двадцать минут на то, чтобы убедить себя кое в чем. Она хотела сделать из них тридцать пять. Потому что задача перед ней стояла не из простых.
Она хотела обрадоваться тому, что Грег Даллас больше не ее пациент.
Не получалось.
Конечно, она испытывала некоторое облегчение оттого, что теперь не придется общаться с ним каждый день. Все-таки каждая встреча с ним вызывала в ней сильнейшее волнение, после которого она с трудом приходила в свое обычное, собранное и спокойное состояние.
Теперь волноваться не придется, и это плюс, ее нервная система будет целее.
Хотя, по правде говоря, лучше бы она волновалась. Как ни крути, а это приятное волнение. И ей хотелось бы испытывать его вновь и вновь, тем более что те симптомы, что так мучили ее поначалу — сердцебиение, скованность движений, будто ее мышцы заморозились, — уже исчезли.
Ей больше не придется смущаться от его неожиданных вопросов о чем-то сокровенном. Не придется парировать его словесные выпады, игнорировать крючки-поддевки.
Кэтрин закусила губу и посмотрелась в зеркало заднего вида. Ну хоть убей, не похожа она на человека, который только что избавился от большой ответственности из смежной профессиональной области, по правде сказать, не досконально изученной. Хотя она за последние три дня и провела в обшей сложности часов шесть за чтением статей о подобных ранениях и операциях…
Ладно, для очистки совести она завтра позвонит доктору Ханту и узнает, как дела у Грега и что он думает о проделанной ею работе.
Нет, по правде говоря, ее интересует не оценка коллеги, а дела Грега. Сам Грег.
Господи, ну это же просто смешно! Она ведет себя так, будто влюбилась в него!
Но она не могла, не могла, не могла влюбиться! Нет, никогда, ни за что, ни в кого, даже в Брэда Питта, буде ей случится встретиться с ним лично! Мужчины, влюбленность, любовь — все это пройденный этап ее жизни. Хватит!
Умиротворения Кэтрин не нашла. Домой она приехала раздосадованная, растерянная, в глубине души испуганная — и от этого немножко злая.
— Кэтрин! Кэтти, привет! — махнула ей рукой мисс Грэхем. Не иначе снова дежурила на крыльце, ожидая ее появления.
— Добрый вечер, — кивнула Кэтрин, вышла из машины и с чувством захлопнула дверцу.
— Ну как насчет завтра? — плотоядно улыбнулась мисс Грэхем.
— А что насчет завтра? — не поняла Кэтрин.
— Моя вечеринка! — обиженным тоном напомнила соседка.
— О, простите, сумасшедшая неделя выдалась, я совсем забыла…
— Ничего, я тебя прощу, если ты придешь.
— Но…
— Не спорь, тебе необходимо развеяться, отдохнуть!
Кэтрин с гораздо большим удовольствием отдохнула бы в горячей ванне с книгой в руках. Но она подумала, что если сейчас откажется, то мисс Грэхем вместо перемирия устроит ей… блицкриг. Будет, например, в воскресенье с раннего утра слушать свою любимую музыку на полную мощность вынесенных во дворик динамиков. Или натаскает кошек, чтобы они ходили в туалет исключительно у нее под окнами. Или же пробирались в форточки и…
Кэтрин подумала, что сегодня непременно нужно лечь спать пораньше, а то она от усталости уже как пьяная.
Лучше прийти на полчасика, потом скроить постную мину, пожаловаться на головную боль и с честью удалиться.
— Я приду, мисс Грэхем.
— Великолепно! — Та просияла, словно Кэтрин пригласила ее в круиз по экзотическим островам за собственный счет. — Гости будут часам к шести, ты можешь прийти пораньше, если хочешь помочь мне с готовкой…
— Не хочу, — отрезала, будто ножом, Кэтрин.
— Ну нет, так нет, — поспешно согласилась мисс Грэхем. — Ты девушка молодая, занятая, все понятно: свои дела, свои интересы.
— Именно. До завтра, мисс Грэхем.
— До свидания, золотце.
«Надо же, золотце! Подумать только! Что-то нечисто. И зачем я только согласилась?» — распекала себя Кэтрин.
Позже она поняла, что согласилась исключительно потому, что подсознательно хотела сбежать… от своих мыслей. От своих мыслей о Греге Далласе. Как будто, если она будет куда-то бежать, голову с собой брать не придется! Глупость какая. От своей головы деваться некуда. Но в эту голову можно вложить все, что угодно.
Кэтрин провела вечер за чтением Гессе. Интеллектуальная проза шла ей на пользу. Она полностью погрузилась в мир «Степного волка».
Но, по-видимому, она ошиблась с выбором романа.
Ночью ей снова снился «волчий» сон.
Она лежала на лесной поляне и видела схватку серых хищников, жестокую и беспощадную, и видела ее итог: один из волков не поднялся, так и остался лежать с осклизлой от крови шерстью и потухшими, тускло-желтыми глазами. Второй посмотрел на нее — плотоядно, весело, даже с некоторой симпатией — и ушел.
Кэтрин взглянула вниз и сквозь дымчатую реальность сна увидела, что у нее не руки, а покрытые серой шерстью лапы, и испытала пронзительную, почти невыносимую тоску от того, что ее самец, волк-победитель, предпочел уйти, но не сделать ее своей.
А ей так остро это было нужно… Именно здесь, именно сейчас. Чтобы жизнь ее наконец принесла заветные плоды. Чтобы у нее появились маленькие волчата.
Кэтрин проснулась среди ночи в слезах — и не захотела остановиться, проплакала еще где-то с полчаса, а потом на цыпочках прокралась в комнату к Тому и уселась в кресло у кровати с единственной целью: смотреть на него, смотреть как можно дольше, насмотреться. Но тоска не утихала. Волчонок у нее, скажем, уже есть. Но этого ей почему-то показалось мало.
Она кляла себя за ненасытные аппетиты и страстно хотела удовлетвориться тем, что есть. Не получалось, и от этой тщетности, безысходности ей хотелось биться лбом о деревянный уголок кровати.
Кэтрин не стала этого делать. Она, будучи врачом-хирургом, слишком живо представляла себе, как будет выглядеть после того, как осуществит это свое желание. И ни один коллега ей уже не поможет.
Вечеринка у мисс Грэхем напоминала то ли заседание цветоводческого клуба, то ли собрание в церкви, то ли скромный семейный праздник.
Конечно, среди приглашенных было достаточно цветоводов-садоводов, чтобы всякая там растительность была в центре разговора, и то, что стол был накрыт во дворе, среди клумб, только подливало масла в огонь. Кэтрин догадалась, что это цветоводческий триумф мисс Грэхем.
Конечно, мисс Грэхем пригласила и пастора своего прихода, отца Джулиана, который времени даром не терял и пытался наставить на путь истинный еще одну заблудшую овечку. После вчерашнего сна Кэтрин никак не желала смириться с ролью овцы.
И конечно же нашлись на этом празднике жизни двое парней, которые окружили ее своим вниманием и заботой. Кэтрин даже заподозрила, что ее неугомонная соседка устроила своеобразные смотрины.
Один из парней, его звали Грэй, носил ту же фамилию, что и хозяйка дома, и был о себе очень высокого мнения, но явно не поэтому, а потому, что был выше среднего дюйма на четыре, обладал великолепной мышечной структурой и носил агрессивно короткую прическу. Как оказалось, он считался звездой местной бейсбольной команды и, видимо, привык к различным почестям.
Другой, кстати, по всему видать, близкий друг и товарищ Грэя, был абсолютным середнячком. Из таких получаются идеальные наемные убийцы и телохранители: они совершенно незаметны в толпе. Их почти невозможно узнать при второй встрече, потому что они чем-то похожи сразу на всех ваших знакомых. И незнакомых. Его звали Сэм, и у него была рубашка точь-в-точь такого же голубовато-стального оттенка, как та, что она подарила Дэвиду на прошлое Рождество.
Это ей досаждало, как заусенец на пальце, и в то же время казалось смешным. Дэвид был волком, а Сэм… Ей не хотелось думать ничего обидного про этого незнакомого в общем-то человека, который не сделал ей ничего обидного. Но все-таки волк в овечьей шкуре — это опасно, а овца в волчьей — нелепо и абсурдно.
Поначалу он все усилия приложил к тому, чтобы показаться крутым парнем. Кэтрин это даже умиляло, особенно в свете того, что Сэм и Том очень быстро нашли общий язык, и Том сиял довольной мордашкой, как будто обрел замечательного, большого, взрослого друга, о котором всегда мечтал.
Грэй, по мнению Кэтрин, был гораздо больше похож на крутого парня, однако и пальцем не пошевелил, чтобы укрепиться в этом амплуа.
Кажется, он «держался» изо всех сил. Однако держался очень стойко и расхваливал своего друга, как талантливый рекламщик:
— Знаете, Кэтрин, Сэм обожает детей.
— Надо же…
— Да вы только посмотрите, как он возится с вашим сыном!
— Да, впервые вижу, чтобы взрослый и ребенок баловались, как два десятилетних сорванца, — задумчиво ответила Кэтрин, наблюдая, как Сэм и Том увлеченно оборудуют в аккуратно подрезанных кустах шиповника позиции для перестрелки из автоматов и винтовок, которые уже притащил из дома Том.
— Признаться, я тоже.
— Вы же сказали, что Сэм обожает детей. — Кэтрин подозрительно прищурилась. — Значит, должны были уже когда-то наблюдать его возню с другими малышами.
— Ну… Он говорил, что хочет завести троих. Или четверых. Я и подумал…
Грэй обмирал, сочиняя на ходу. Он, признаться, чувствовал себя не в своей тарелке с этой женщиной. Он привык общаться с девчонками совсем другого склада: легкомысленными, болтливыми, восторженными… В общем, с теми, кто всегда был от него без ума. А рядом с этой женщиной он робел. Нет, естественно, он мог бы перешибить ее одним пальцем, да и она была не из тех, кто лезет из кожи вон, лишь бы доказать мужчине свое превосходство. Она вела себя спокойно и естественно, но немного отстраненно, как будто ее мало интересовало происходящее вокруг, эдакая мелкая человеческая суета. Он чувствовал, как она умна, что она, возможно, одна из самых умных женщин, которых он видел, включая преподавателей из университета.
И Грэй был несказанно рад, что тетя Пэт в настоящее время пыталась свести с ней Сэма, а не его. Он на месте Сэма чувствовал бы себя прескверно — как оробевший школьник на первом свидании.
Однако Сэм чувствовал себя просто замечательно, судя по всему. Вначале он мялся и краснел, то бросал на Кэтрин восхищенные взгляды — надо признать, она была очень интересной, хотя Грэю и нравились девицы попышнее, помягче, по крайней мере, в некоторых местах, — то опускал глаза.
Но потом с ним заговорил Том. Мальчуган был классный. Он сидел за столом рядом с Кэтрин, напротив Сэма, и в конце концов запулил в него шариком, скатанным из салфетки. Без всяких агрессивных намерений. Похоже, это были просто «учения»: он проверял, как летает бумажный снаряд, если щелкнуть по нему пальцем. Грэй испугался, что Сэм впадет в полный ступор, но он сильно ошибся в друге. Сэм дал ответный залп хлебным шариком. Грэй подумал, что на этом его «жениховство» закончится. По крайней мере, по сути. Но нет же! У Кэтрин его выходка вызвала улыбку, у Тома — бурный восторг.
Грэй решил, что его друг умнее, чем он о нем думал. Подкатить к мамаше через ее любимое чадо — это план!
Позже он, правда, разуверился в этом: Сэм, кажется, забыл, что изначальная цель всего мероприятия — завязать отношения с Кэтрин Данс. И стал завязывать отношения с ее сыном Томом Дансом. И эту задачу в отличие от первой он решал виртуозно! Не прошло и часа, как Том вытащил Сэма из-за стола, за которым восседала вся честная компания, и вовлек в какую-то свою игру.
И, глядя на сияющее лицо Сэма, Грэй понимал, что того это устраивает абсолютно.
Он злился. Он терпеть не мог, когда Сэм ему не подчинялся. А в данный момент Сэм именно это и делал. Только Грэй решил угомонить свою совесть и взамен уведенной девушки подсунуть Сэму новую — и пожалуйста, Сэм все испортил. Можно подумать, что ему больше нужен ребенок, чем женщина! А между прочим, первое без второго невозможно, надо будет просветить Сэма на этот счет!
Грэй пытался как-то подправить положение и ненавязчиво донести до сведения Кэтрин, какой замечательный парень этот Сэм, который сейчас перестреливается с ее сыном из водяных пистолетов: и добрый, и начитанный, и в музыке разбирается, и детей любит…
Кэтрин явно не принимала всерьез ни его слова, ни его самого, и это было обидно, но не очень: Грэй ведь изначально решил, что это не его тип женщины и у них ничего не будет. Он вообще решил держаться подальше от тех девушек, с которыми завязывает какие-то отношения Сэм. Все равно их не так много, этих девушек. Ради преданного друга вполне можно пойти на такую жертву.
Но время идет, а Сэм еще не сделал такого необходимого шага навстречу Кэтрин. Грэй вздохнул и ощутил себя как на поле перед решающим броском.
— Кэтрин, мы с Сэмом и еще несколько наших друзей собираемся завтра на пикник. Вы не хотите поехать с нами? — поинтересовался он, доливая ей в бокал вишневый сок из графина.
— Грэй, по-моему, вы сватаете мне своего друга. С чего бы? — задумчиво поинтересовалась Кэтрин. В ее вопросе не было претензии. Она улыбалась уголками рта.
— Вы очень ему понравились, — выпалил он.
— По-моему, Том вызывает у него гораздо большую симпатию.
— Вы так думаете? — глупо спросил Грэй.
— Да.
— Но почему?
Кэтрин досадливо поморщилась:
— К примеру, потому, что за последние четверть часа он ни разу на меня не взглянул. Зато от Тома не отходит ни на шаг. Впрочем, я не в обиде: похоже, взрослые разговоры интересуют его не больше, чем Тома.
— Да ладно, он просто увлекся игрой!
— Вот именно. Это нетипичное поведение для взрослого мужчины, находящегося в обществе женщины, которая ему нравится.
— Ну… Сэм — он немного странный…
Кэтрин изогнула бровь.
— …но очень хороший! — убежденно закончил Грэй.
— В этом я не сомневаюсь. Был бы он девушкой — я бы пригласила его к Тому в няньки. Честное слово, доверила бы самое ценное, что у меня есть! — Кэтрин рассмеялась. В смехе явственно чувствовалась горечь.
— Напрасно вы смеетесь. Ему можно.
— Я не над этим, — нервно ответила Кэтрин.
Она вспомнила про Дэвида. Вообще-то говоря, это чудовищно: она и вправду скорее доверила бы свое сокровище, сына, этому парню, которого видит впервые в жизни, чем… чем собственному мужу.
Нет. Бывшему мужу.
Кэтрин так и не удалось уйти до конца вечера. Том, у которого отношения со сверстниками складывались не очень, не желал отходить от Сэма ни на шаг. Кажется, он нашел то, чего ему не хватало для полного счастья, — друга. Оставить его тут и уйти самой было неприлично. Поэтому Кэтрин мужественно сносила «бархатные» атаки пастора и всеобщие разговоры о цветоводстве. А Грэй оказался неплохим парнем — после того как все карты были открыты. Он выпил вина и под хмельком разоткровенничался и рассказал ту трагикомическую историю, которая и привела к тому, что теперь он подыскивает для Сэма подходящую партию.
Кэтрин часто чувствовала на себе взгляд мисс Грэхем. Взгляд этот выражал яркое недовольство. Причем адресовалось оно и ей, и Грэю, и Сэму. Потом Грэй перемолвился с ней словечком, наверное, объяснил, что Кэтрин уже примерно в курсе их «тайного плана» и не надо на нее давить. Все равно Сэм ведет себя как мальчишка. В прямом смысле слова. Никакой серьезности в вопросах обустройства личной жизни!
— Мама, поехали завтра в музей динозавров! — Том подскочил к ней с сияющими, как звездочки, глазами. — Пожалуйста, Сэм нас отвезет! Он обещал! — Том бросил на него восторженный взгляд через плечо.
Кэтрин посмотрела в ту же сторону. Сэм смутился. Кэтрин поняла, что Грэй не был с ней нечестен, когда говорил, что она очень понравилась его другу. Под взглядом женщины, которая тебе безразлична, взрослый мужчина не краснеет. Впрочем, взрослый мужчина не краснеет и под взглядом своей пассии. И не носится весь вечер с десятилетним мальчишкой по двору. Хотя кто его знает, может, он и впрямь без ума от детей!
— Отвезу. Соглашайтесь, мисс Данс!
Кэтрин обожгло, будто огнем. «Мисс»… Как давно ей не говорили «мисс». Она поразилась собственной реакции: как?! На ней не написано, что она замужем, что она — собственность Дэвида? Смешно и горько.
— Кэтрин. Или уж доктор Данс. — Она через силу улыбнулась. — Кстати, а как же пикник, куда меня приглашал Грэй? Или вы собираетесь раздвоиться?
— Н-нет, но… можно сначала в музей, как у нас тут говорят, на динозавров, а потом на пикник.
— Отличная идея! — воскликнул подоспевший Грэй. — Великолепная! Сэм, ты просто гений.
— Скажите, пожалуйста, а друзей вы выдумали — или они и вправду существуют? — серьезно спросила Кэтрин.
— Существуют, — ответил Сэм с таким обреченным видом, что Кэтрин поняла: если и существуют, то ни о каком пикнике слыхом не слыхивали.
— Не верю, — вздохнула Кэтрин. — И какой пример вы подаете своему юному другу и моему сыну?
Сэм, судя по выражению лица, хотел найти у Тома поддержку — но не нашел. Равно как не нашел и Тома. Грэй втихомолку утащил его куда-то и оставил Сэма наедине с Кэтрин.
Кэтрин даже посочувствовала Сэму. Тот с шумом втянул воздух. Со стороны казалось, что по мере поступления кислорода в легкие его кровь отступает к щекам. Почему — непонятно.
— Может быть, прогуляемся? — предположил он севшим от волнения голосом.
— Давайте, — легко согласилась Кэтрин. Она знала, что далеко Сэм ее не уведет и зла ей не причинит.
Они неторопливо двинулись по дорожке, которая вела к дому. «Вот тебе и прогулка», — подумала Кэтрин.
Сэм тер ладонью кадык, словно ему что-то сильно мешало дышать.
— У мисс Грэхем великолепный розарий, как вы думаете? — начал он.
— Сэм, у нас ничего не получится, — сказала Кэтрин без обиняков. Зачем мучить беднягу? Ей эти простые слова ничего не стоят, а ему не придется пыхтеть и лезть из кожи вон, чтобы изобразить из себя что-то такое, что ей понравилось бы. — Точнее не так: между нами ничего не будет.
— Я не в вашем вкусе? — печально спросил он.
— Во-первых, я сейчас не ищу ни с кем романтических отношений. Мне это не нужно. Во-вторых — да. Не в моем. Я уверена, что вы замечательный человек, добрый, и веселый, и еще даже не знаю какой, но при всех ваших мыслимых и немыслимых достоинствах я вижу в вас прежде всего нового друга моего сына. Но никак не своего потенциального партнера.
— Ну что ж я такой невезучий? — вопросил он шепотом. К кому обращался — неясно, может быть, к небесам.
— А вот это глупости. Если вы положили глаз на уставшую женщину, у которой за плечами неудачный брак и куча проблем, то тут вопрос не в вашем невезении, а в моем… — Она улыбнулась. — И не стоит делать из этого трагедию. Даже я не делаю.
— У вас необыкновенный сын.
— Это правда. — Кэтрин улыбнулась, согретая изнутри оправданной материнской гордостью. — И знаешь что, Сэм? Я не могу предложить тебе ни руку, ни сердце, но вот дружбу — запросто и с огромным удовольствием. Думаю, дружбу Тома ты уже завоевал.
Сэм просиял так, что чуть не ослепил Кэтрин улыбкой. Видно было, что ему еще немножечко больно, но мир стремительно расцвечивается новыми красками.
— Я буду очень-очень рад! Это… это… — Казалось, он сейчас заплачет.
— У тебя нет друзей, кроме Грэя? — догадалась Кэтрин.
— Нет, — честно ответил Сэм.
— Теперь — есть. А если Грэй будет возражать — ему придется иметь дело со мной!
Сэм смотрел на нее счастливыми глазами, и вскоре такими же глазами стали смотреть на нее подошедшие Том и Грэй.
И только мисс Грэхем осталась недовольна: она уже придумала, какое платье сошьет себе на свадьбу Кэтрин и Сэма.
8
В понедельник Кэтрин собиралась на работу, мучимая странной тревогой. Эта тревога заставила ее задолго до звонка будильника открыть глаза, будто присыпанные песком. Она минут тридцать стояла под душем, включала то горячую, то холодную воду, намыливала себя тем ароматным гелем и этим, но тревога не утихала. Она высушила волосы феном, тщательно подобрала одежду (переоделась три раза), аккуратно нанесла макияж…
В кухню она вышла в таком виде, что не стыдно было бы идти и на собственную свадьбу. Или развод.
С тех пор как Сэм, оговорившись, назвал ее «мисс», она затосковала. Ей очень хотелось бы освободиться от Дэвида. Вообще. Развестись, стать снова свободной женщиной, вернуть девичью фамилию, в конце концов! Лучше носить фамилию своего отца, чем бывшего мужа-садиста.
Проблема в том, что развод ей не светит. В ближайшее время, по крайней мере. И когда это «ближайшее» время закончится, неизвестно.
Подать на развод — это значит дать знать о себе Дэвиду. Протянуть ниточку, по которой он ее непременно найдет. Нить Ариадны, которая приведет к ней чудовище, минотавра. Кажется, она что-то напутала с мифом, но в ее положении это простительно.
Кэтрин глубоко вздохнула. Даже если она когда-то и станет настолько сильна и независима, чтобы осмелиться связаться с Дэвидом и подать на развод, она его вряд ли добьется. Усмешка. Как добиться расторжения брака с одним из самых удачливых адвокатов в своем городе? С его-то связями и деньгами…
В то, что Дэвид даст ей полную свободу по доброй воле, Кэтрин верила не больше, чем в то, что она когда-нибудь станет княгиней Монако. Помечтать приятно, но рассчитывать на такое наивно, если не сказать — глупо.
Она приготовила плотный завтрак. Когда-то Кэтрин прочитала в одной из очень толковых книг о здоровом образе жизни, что завтрак должен быть самым главным приемом пищи. Тогда она решила, что непременно попробует. Когда-нибудь.
А почему все новые и интересные вещи нужно откладывать на это неопределенное «когда-нибудь»? Которое к тому же, вероятнее всего, никогда не наступит!
Да, сегодня она слишком рано встала и теперь необыкновенно голодна, обычной тарелкой хлопьев, тостами и омлетом не обойтись. И это счастливое стечение обстоятельств, благодаря которому одно «когда-нибудь» все-таки наступило. Но бессчетное множество их, этих «подходящих моментов», так и не придет. И приползет ее жизнь к концу, выцветшая от однообразия, тусклая, блеклая — стыдно за такую.
Она делает всегда только то, что уже когда-то делала. Ну почти всегда. По крайней мере, раньше они с Дэвидом путешествовали, причем по новым маршрутам, а недавно она сбежала от него… И это уже хорошо. Но что будет дальше? Она готовит одни и те же блюда, говорит одни и те же слова, наблюдает, лечит, оперирует пациентов с одними и теми же болезнями, носит одну и ту же одежду, а если покупает новую, то она похожа на старую. Почти все ее время уходит на повторение того, что уже когда-то было — сделано, сказано, подумано. «Все как всегда». Но… господи, ей уже тридцать, в лучшем случае ей осталось два раза по столько же! А сколько она успеет? А сколько она не успеет? Она горько усмехнулась. А сколько она не успеет, если будет и дальше делать все так же, как уже когда-то делала? Сколько ее «когда-нибудь» никогда не наступит? Сколько всего интересного и нового с ней не случится?
Что это — кризис тридцати лет или пробудившееся сознание?
Она будет дурой, если это забудет. Если, уже осознав все, проживет жизнь, где вместо живописных полотен и неповторимых гравюр — трафаретные рисунки. Где сегодня неотличимо от вчера и очень похоже на завтра. Ну уж нет!
Кэтрин разбудила Тома спортивным свистком, который в субботу подарил ей в качестве талисмана Грэй. Никогда не делала ничего подобного!
— Мама, я столько не съем! — в ужасе выдохнул он, увидев салат и отбивные с пюре. Чего он так испугался, непонятно.
— А ты попробуй, — предложила она. — Ты ведь не проверял. К тому же ты мужчина, тебе нужно мясо.
— Я хочу мясо на обед…
— Мужчины не хнычут.
— Я еще маленький!
— Правда? Я напомню тебе об этом, когда в следующий раз попросишь посмотреть телевизор до одиннадцати.
Том с достоинством принял поражение и с удивительным аппетитом начал уплетать салат. Кэтрин, удовлетворенная, последовала его примеру.
Опыт показал, что та книжка о здоровом образе жизни была и вправду толковой. Позавтракала она с удовольствием, и это удовольствие даже заглушило тревогу, которая тихо дребезжала внутри, как колокольчик, который трясешь, зажав в кулаке.
Она дала себе обещание начать выписывать по памяти все дела, которые отложила на «когда-нибудь потом» — и, конечно, искать для них реальное время, которое отлично измеряется в координатах этого мира годами, месяцами, днями, часами… Ну или хотя бы понятиями «завтра» и «через три месяца».
На работу она ехала, подпевая Мадонне, чья песня звучала из динамиков. Раньше почему-то стеснялась петь даже наедине с собой. А почему? Разве все обязаны быть совершенством? Ну нет у нее слуха, что же, навсегда отрезать себе путь к пению?
В больнице Кэтрин встретили интересные новости. Новости, можно сказать, уже превратились в сплетню: об этом с энтузиазмом шептался весь медперсонал.
Пациент хирургического отделения (да, отделение имело весьма скромные масштабы, если не сказать — было условным, но все же…) Грегори Даллас устроил скандал: он отказался проходить лечение у доктора Бенджамина Ханта и потребовал вернуть его под наблюдение доктора Кэтрин Данс.
Довольных этим обстоятельством не нашлось. Кэтрин была уважаемым специалистом, но при этом оставалась человеком новым, чужим среди своих. К ней не привыкли пока, пройдет время, прежде чем она превратится из «приезжей дамочки с претензиями» в «члена команды».
Особенно странным казалось все это ввиду того, что Кэтрин была специалистом в другой области и Даллас угодил к ней по чистой случайности.
Согласно официальным правилам Грег имел право сделать то, что он сделал. В Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе ему бы и слова против не сказали, как не сказали бы и Кэтрин. Пациент платит за лечение — пациент выбирает, кто его будет лечить. Все логично.
В заштатном, «одноэтажном» городке, где всего одна больница и та на две сотни стационарных мест, из которых, естественно, заняты только десятки, это вопиющий случай.
Кэтрин смекнула это не сразу, ей объяснила Марджори. Кэтрин сидела за столом как в столбняке и думала только о том, что могло подвигнуть Грега на этот… эту… эту выходку. В голове мыслей не было, но почти оглушительно дребезжало то, что еще несколько минут назад Кэтрин считала тревогой. Теперь тревога превратилась в панику. Кэтрин не понимала, что делать, и ей нужно было время, чтобы обдумать ситуацию.
А времени не было, надо было действовать уже сейчас.
— И доктор Хант, естественно, очень зол сейчас. Он слишком дорожит своей репутацией. И если мистер Даллас, человек в нашем городе известный, отказался от его услуг, то это о чем-то говорит… Доктор Данс, а о чем это говорит? — заговорщическим шепотом добавила Марджори.
— Я н-не… не знаю. — Кэтрин чувствовала, что зажглась краской, как алый китайский фонарик.
— Мистер Даллас сказал, что у вас возникло такое взаимопонимание, какого им с доктором Хантом не достичь ни за что, что вы очень компетентный специалист, что он уже к вам привык и ему хотелось бы и дальше выздоравливать под вашим присмотром.
Кэтрин показалось, что она сейчас сползет со стула.
И тут из хаоса паники выкристаллизовался гнев.
Как он посмел?!
— Как он посмел?! — прошептала она. — Как?! Он?! Посмел?! — Ее голос набирал силу и глубину, как будто кто-то поворачивал невидимый регулятор громкости. — С тем же успехом он мог повесить у кофе-автомата на первом этаже объявление «Доктор Данс — шлюха хоть куда»! Или рекламу на щит в центре города! — Она вскочила и сделала круг по кабинету.
— Док, да успокойтесь вы! Поговорят-поговорят — и перестанут. Скоро все забудется. А доктор Хант вам ничего не сделает, главный врач сам его недолюбливает.
И немудрено, пронеслась в голове мысль-усмешка. По доктору Ханту за полмили видно, что в детстве он был страшным ябедой, что он ненавидит все человечество и в профессию пошел только для того, чтобы получить полное моральное право резать человеческое тело. Этот процесс интересовал его сам по себе.
— Док, у вас такой вид, как будто вы сейчас наделаете глупостей! — испугалась Марджори. — Давайте я вам успокоительного принесу.
— Не надо! Не хочу успокаиваться! — выпалила Кэтрин и пулей вылетела из кабинета.
«По крайней мере, я не успокоюсь, пока все ему не выскажу», — подумала она.
9
Грег ждал Кэтрин. Ждал с вечера пятницы, ждал упрямо, как-то даже тупо. Сначала он не понимал, что это ожидание. Потом он осознал, что скучает, а значит, ждет.
Мысль о том, что у нее не будет больше повода зайти к нему в палату, мучила его, как жажда. Он чувствовал глухое отчаяние сродни тому, что испытывает человек, которого завалило камнями. Почему он ощущает безысходность? Почему? Ведь она все равно будет близко. Позже он встанет с постели и спустится к ней в кабинет на первый этаж. Он будет вставать регулярно — и регулярно заходить к ней сам. Если захочет. А он захочет, уже хочет этого. Чтобы она отвлекалась от дел, поднимала голову, взглядывала на него, и узнавание сменяло на ее лице серьезную сосредоточенность. Может быть, она узнавала бы его с улыбкой…
Но Грег попал в какую-то ловушку своего сознания. Он понимал, что так ничего не получится. Что именно должно получиться — неизвестно, по крайней мере, он не задумывался об этом.
Увидев доктора Ханта в первый раз, он испытал отвращение, точно ему показали непомерно большого, жирного таракана, отвращение не настолько сильное, чтобы вздрогнуть или ощутить тошноту, но достаточное, чтобы непроизвольно отвернуться и скривить рот.
Этот человек способен на злое. Способен на преступление. Не ради какой-то там цели, не ради денег, как многие, и не ради власти, и не в порыве ярости — просто так, пакость ради пакости. Грег в силу своей профессии научился отлично распознавать таких людей. Он чуял их нутром, и это было мерзкое ощущение.
И этот человек станет его лечить?
Нет, не так: и этого человека он подпустит к себе, поверит в то, что он способен помочь ему, сделать его тело сильнее и здоровее, поверит просто потому, что так принято? Грег искривил губы в усмешке. Черта с два.
А потом пронеслась в голове шальная мысль: а вот и повод. Вот и оправдание!
И он очень жестко побеседовал с доктором Хантом — о, он умел жестко разговаривать с людьми, умел разговаривать так, что у этих самых людей начинало сосать под ложечкой и тряслись поджилки, какое бы положение они ни занимали и что бы из себя ни корчили.
Доктор Хант любезно прислал медсестру с формой заявления, и Грег с удовольствием его заполнил уверенными, жирно вдавленными в бумагу буквами.
Медсестры приходили, но врачи — нет. То ли бойкот, то ли обстоятельства не позволяют: действительно нет других хирургов. Грег ждал Кэтрин. У него снова начался жар, ему что-то кололи, он по большей части спал и во сне разговаривал сам с собой: продумывал, что скажет Кэтрин, когда она придет.
«Я рад. Безмерно рад вас видеть, док. Вот видите, док, какой я беспокойный больной. Нет, я хорошо себя чувствую. Нет, док, я вполне в состоянии работать. Док, не глупите, отдайте ноутбук. Или забирайте, если он вам нужен. Мне все равно. Ты такая красивая. От тебя глаз не оторвать. А у тебя есть муж? Нет? О, как хорошо, как удачно-то, а! Хо-хо! Я чувствую себя на пятнадцать лет моложе. Правда. А может, и на все двадцать. И я еще глуп, горяч, прямолинеен, абсолютно уверен в том, что меня ждет долгая, интересная и счастливая жизнь. А вообще? Нет, не очень, интересы у меня есть, и есть даже интерес в широком смысле слова, но иногда я чувствую свою беспомощность, потому что всех мерзавцев не пересажать. Да, ты прости, я как остолоп, опять о работе. Все-таки мне показалось, что моложе. В двадцать два я думал немного об учебе, чуть больше о карьере и очень много — о девушках. Нет, повесой не был, но… Ладно, Кэтрин, это все чушь. Я хочу видеть тебя. Каждый день. И потому заварил всю эту кашу… Нет, конечно, авария не в счет — я ведь тогда еще не знал, что встречу тебя».
В подобных монологах и проходили все его полусны, сны и бредовые состояния. Странно, что это были именно монологи, он говорил сам с собой, а Кэтрин не видел.
Но он ждал. Хорошо ждать того, кто обязательно придет. И она конечно же и вправду пришла.
Дверь палаты распахнулась, и почти одновременно Грег раскрыл глаза. Отзвуки «…ведь не знал, что встречу тебя» еще шелестели в голове. Дверь за Кэтрин захлопнулась.
Она была особенно, ошеломляюще, безукоризненно красива. И разрумянившиеся щеки только придавали ей привлекательности.
— Как ты посмел?! Что ты наделал?
И злой изгиб приоткрытых губ, между которыми видны влажные зубы, тоже завораживает. А почему, кстати говоря, она так зла?
— Наделал — что?
Она метнулась к окну, не в силах успокоиться в неподвижности.
— Издеваешься? — Рванулась к койке, сверкнула глазами сверху вниз. — Эгоист! Идиот!
— Я?!
— Да!
— Доктор Данс, вы… — Он хотел сказать «забываетесь», но не успел.
— Имею полное право здесь орать после того, что ты учинил!
— Можно подумать, я оскорбил действием твою маму! — проворчал Грег. Он понимал, что причиной ее состоянию — его требование заменить его лечащего врача, — и в то же время не понимал причин такой ярости.
— Не трогай уж мою маму! — Кэтрин выдохнула и огляделась по сторонам. Грег предположил, что она ищет, что разбить. — Эгоист, эгоист!
— Не всегда, — сдержанно возразил ей Грег. — Кстати, вот теперь я тебя узнаю. А то все как угли, присыпанные пеплом: внутри горячо, а снаружи — ничего не видно.
Кэтрин проигнорировала его замечание:
— Ты зачем это сделал?
— Что? Отказался от услуг этого неприятного типа? Имел право, вот и сделал!
— Юридическое, может, и имел! А человеческого — никакого! — тихо, но яростно ответила Кэтрин.
— Почему же? — удивился Грег. — Я буду платить по счету. Из своего кармана. Имею право выбирать, за что мне платить.
— Выбери лоботомию, — прошипела Кэтрин.
— Доктор, доктор, вы сами себе противоречите. Если так не хотели, чтобы я выжил, могли бы пойти попить кофе вместо того, чтобы меня оперировать. Или в горы на пикник прокатиться.
— Вы бы не умерли.
— Ну это да. Хотя… сложно сказать на самом-то деле.
Кэтрин устало села на стул рядом с ним. Уронила голову на руки.
— Вам плевать на меня, вам важно только, чтобы вам самому было хорошо. А мне что теперь делать? Я тут работаю месяц, я в этом городе — месяц, связей нет, друзей нет, репутация — только рождается. А вы меня так подставили. Меня теперь с костями съедят. И что мне делать? Опять срываться с места и искать другой город? Тут же нет других больниц, а я врач, у меня скоро степень будет, я не хочу работать официанткой!
— Не позволю, — сказал Грег просто, но при этом какая-то интонация в его голосе заставила Кэтрин поднять голову и посмотреть ему в глаза.
А в голове у него уже завертелись два колеса-маховика. Одно: он столько всего узнал о ней за эти минуты! Приезжая, чужая в городе, только что приехала, и приехать ее заставили обстоятельства. «Опять срываться с места»… Второе: да никто ее и пальцем не тронет. Не посмеют. Придется с ним дело иметь — а этого господа врачи из городской больницы делать не станут. Но если кто-то все же затеет возню, откуда ждать опасности в первую очередь?
— Ну-ну. Кто вас спросит теперь. Раньше надо было думать.
— Прекратите истерику, Кэтрин.
Она расплакалась. Точнее Грег увидел, как навернулись на глаза слезы, задрожали капельки влаги в уголках — но не пролились на щеки. Сильная. Держит себя в руках. Он слабо улыбнулся, вспомнив приступ ее бешенства. Хорошо. Пусть лучше кричит, чем плачет.
— Вы в курсе, что в больнице теперь только и разговоров, что о вас и обо мне? Все решили, что у нас… шашни какие-то. — Она выплюнула это слово с таким страхом и отвращением, что Грега покоробило.
— И что? Вам завидуют все женщины, а мне — все мужчины? — цинично поинтересовался он.
Кэтрин несколько мгновений смотрела на него не мигая — вникала в смысл сказанного. Потом покраснела, густо, от шеи до ушей.
— Думают, что я зарвавшаяся шлюха, которая нарушает врачебную этику.
— А как они себе представляют процесс нарушения врачебной этики, когда я в таком состоянии на больничной койке? — Грег то ли возмутился, то ли развеселился, сам еще не понял.
— Это вы у кого-нибудь другого спросите. Что у вас, жар?
— Переводите разговор?
— Да, чего уж там. — Кэтрин вздохнула и махнула рукой.
Движение кистью — легкое, плавное, небрежное — заворожило Грега и что-то в нем разбудило.
И он понял, что тот самый «процесс нарушения врачебной этики» — не такая уж и фантастика с точки зрения объективной реальности.
Если бы только она хоть когда-нибудь…
Грег сидел в кабинете у доктора Паттерсона, главного врача больницы Огдена. Он был бледен, загипсованная рука висела на перевязи, и больничная пижама не придавала ему солидности — но ни в какой дополнительной солидности он и не нуждался.
Он был человек правды.
Он с юности хотел иметь дело с Законом. Хранить его. Он изучал юриспруденцию не для того, чтобы за деньги — малые ли государственные, большие ли чьи-то там — защищать кого ни попадя, правых и виноватых, больше, конечно, виноватых. Он точно знал, что против своей совести не пойдет. Он должен идти с Законом и со своей совестью, законом внутренним. И он это делал.
Ему важнее всего было, чтобы человек получил наказание по правде. По заслугам. И по преступлениям.
Готовить обвинение и вести следствие оказалось делом по нему. Странно. Может, потому, что виноватых в суд попадает больше, чем невиновных?
И он научился отличать виноватых от невиновных буквально на нюх. И он делал свою работу так безукоризненно строго, так безжалостно и справедливо, что его боялись, многие — почти суеверным страхом.
И вот он сидел перед доктором Паттерсоном, прямой, сухой, жесткий, словно вырезанный из твердой древесины, и веско говорил о том, как гладко сработала доктор Данс, как он ей благодарен, — и еще о том, как строг закон о дискриминации на рабочем месте.
Доктор Паттерсон при упоминании о докторе Ханте едва заметно морщился: тоже не любил паршивца, что и понятно. Когда речь заходила о Кэтрин, линии его напряженного рта немного смягчались. Добрый знак.
Грег чувствовал, что этот умный, властный и многоопытный человек, что сидит сейчас перед ним, немного похолодел сейчас, потому что чувствует страх, — и это понятно. Грег не был тщеславен и не был глуп. Он понимал, что доктор боится не его, а той силы, которая стоит за ним. Правосудия. А то, что сейчас все правосудие сошлось для доктора Паттерсона, как сходится в точку конус, в пациента Грегори Далласа, окружного прокурора, — так это естественно.
Грег вышел от него уверенный, что с Кэтрин все будет в порядке, по крайней мере, на работе. Он чувствовал какое-то глубокое удовлетворение от этого, как человек, которого долго мучил голод и который наконец сытно поел. Горячего. Внутри было хорошо, и от простоты этого ощущения — тоже хорошо. Нечто подобное он чувствовал, когда выигрывал принципиально важный процесс.
И совершенно не важно, что в масштабах заштатного городишки. Главное — смысл победы, вкус победы, когда правда на твоей стороне, а тот, кто преступил закон, получит свое наказание. Чтоб неповадно было.
Грега ощутимо трясло, не от лихорадки, а от слабости, и он чуть-чуть постоял за дверью кабинета, чтобы собраться с силами для обратного пути. Нужно было спуститься на второй этаж с третьего. Великолепно. Спускаться — это тебе не подниматься… Рассуждая так, он отделился от опоры-стены и двинулся в нужном направлении — к лестнице.
На площадке столкнулся нос к носу с доктором Хантом, который, суетливый, куда-то спешил.
Торопится, голубчик, подумал Грег. Ничего, успеет. Все успеет.
— Мистер Хант?
Подчеркнуто презрительное «мистер» вместо «доктор». Грег не желал признавать его врачебное звание и не скрывал этого.
— Мистер Даллас? — Тараканьи глазки уставились на него зло и отстраненно, стали немного стеклянными, как будто он таким образом пытался отгородиться от Грега.
Встречаются очень наглые тараканы, такие не бегут, едва завидев, услышав или учуяв человека, а останавливаются, лениво поводят усиками, словно выясняют, недовольные: а в чем, собственно, дело?
— Мистер Хант, знаете поговорку: у каждого хирурга есть свое кладбище?
— Вы на что-то намекаете, мистер Даллас? — Злые стеклянные глазки прищурились.
— Только на то, что все мы совершаем ошибки и за них рано или поздно приходится платить, — со значением сказал Грег.
Он отчасти блефовал, потому что никакого материала на Ханта у него не было. Но он был уверен, что, если захотеть и покопаться, что-то да найдется. Доктор Хант слишком любит свое дело. Самозабвенно. Наверняка были случаи в его практике, когда можно было обойтись консервативным лечением, а он прибегал к помощи скальпеля.
Есть вероятность, что он просто фантазирует, но, увы, — небольшая. У человека с такой профессией, как у Грега, фантазия мало-помалу заменяется жизненным опытом.
— Мне не нравится… — запальчиво начал доктор Хант.
— Вы мне тоже не нравитесь, — оборвал его Грег. — Поэтому я с огромным удовольствием лишил бы вас права врачебной практики, а потом засунул за решетку. Имейте в виду.
Он обогнул своего собеседника-противника и, прилагая недюжинное волевое усилие, чтобы держаться прямо и уверенно, медленно двинулся по лестнице вниз.
Он ощущал между лопаток горячий взгляд доктора, и ему казалось, что Хант вот-вот лопнет от злости и страха. Но хлопка не было, и вообще звуков не было: доктор Хант молчал, словно язык проглотил. Грег понял, что победил.
Кэтрин зашла ближе к вечеру. Она выглядела измученной.
— Ты устала? — спросил Грег. Он хотел прощупать почву: а что ему можно после сегодняшней ее вспышки?
— Да.
Сдалась?!
Сдалась!!! Ликование прокатилось по его жилам вместе с кровью.
— Я чувствую себя ведьмой, которую приволокли к столбу, привязали, обступили со всех сторон, послали уже за факелом, а потом раз! — и все поспешно разошлись. По неизвестной причине. Сделали вид, будто ничего не произошло.
— Неужели ты не рада? — поинтересовался Грег с удовлетворенной улыбкой: дело свое он сделал. Она в безопасности. Он ее защищает. Она не подозревает об этом, а тень его нависает над ней как магический покров.
— А ведьма, между прочим, так и осталась стоять привязанной, — продолжила Кэтрин, будто не услышав его последних слов, глядя в стену над головой Грега.
— Пусть ослабит путы. Она же ведьма.
Кэтрин усмехнулась:
— Ты же знаешь, что ведьм не бывает. Даже мой Том в них не верит.
— А кто он — твой Том?
— Мой сын.
Повисло молчание.
У нее есть сын. Эту простую мысль Грег повторял про себя вновь и вновь, будто тщетно пытался отыскать в ней какой-то скрытый смысл. На самом деле это был только конец веревки. За него можно потянуть и распутать многое.
Если у нее есть сын, значит, она его родила. Родила от кого-то. Сына она любит, значит, и того, от кого родила, любит или любила. Ведь ее мальчик такой же, как его отец. Любит одного, значит, любит и второго…
Грег внезапно разозлился на себя. Да, черт подери, она не девственница, что же, делать из-за этого личную катастрофу? Пойди найди в наше время двадцатипятилетнюю девственницу такой красоты… В нем еще живо Средневековье. Неспроста Кэтрин заговорила про охоту на ведьм. Все оттуда.
Что способны сделать несколько веков цивилизации и несколько десятилетий сексуальной свободы с глухими первобытными инстинктами и потребностями? Мужчине хочется быть у женщины первым и единственным. И ничего уж тут не попишешь.
Грег посмотрел на нее влажными, блестящими глазами. Ладно, чего уж гам… Но почему, почему он не встретил ее лет десять назад?
10
Для Кэтрин наступила новая жизнь.
Наступила тихо и незаметно, будто не хотела ее, Кэтрин, спугнуть. Так приходит после ночи утро.
Ей раньше казалось, что новая жизнь — это что-то, что бывает после разлома, перевала, какого-то стихийного бедствия. Что старое нужно как топором отсечь чем-то страшным и… коротким: скандалом, разводом, операцией, смертью.
А тут она опомнилась только тогда, когда новая жизнь полностью вступила в свои права. Так утром сначала отступает тьма, а потом всходит солнце.
И если в рассветном молочном тумане кто-то еще способен обмануть себя — мол, еще ночь, потому что на небе нет солнца, — то после восхода этот трюк уже не пройдет.
Ее ночь закончилась.
Они с Томом затеяли необычную игру, отдаленно напоминающую фанты: они придумывали друг для друга задания, и задания эти объединяло только одно: такого они никогда прежде не делали.
Кэтрин даже в медовый месяц не изучала поваренную книгу с таким тщанием, как теперь. Ей хотелось готовить что-то новое каждый день.
Они с Томом раскладывали на полу в гостиной подробную карту Штатов и выбирали, куда съездить: в августе, на Рождество, на пасхальные каникулы. Сколько всего они еще не видели в этом мире!
Сколько всего еще увидят!
Кэтрин пробовала есть мясо руками, пить горячий кофе через трубочку, играть яблоком в футбол, здороваться с незнакомыми людьми на улице, говорить коллегам нелицеприятную правду в лицо, ободрять шуткой пациентов, у которых подтверждался страшный диагноз, оперировать под классическую музыку. И чем больше этих новых и необычных вещей она пробовала, тем приятнее и красочнее становилась ее жизнь. Поначалу было стыдно и страшно, как будто она мялась на берегу, прежде чем войти в холодную речную воду. А потом возникало ощущение легкости и свободы — так бывает, когда даже в горной реке перестаешь чувствовать холод.
И, конечно, ее новая «новая жизнь» не обошлась без Грега.
Неприятный инцидент в больнице был скоро предан забвению.
Грег быстро шел на поправку. С того переломного дня они стали на «ты» — когда рядом не было посторонних. Кэтрин догадалась, что Грег имеет непосредственное отношение к тому, что «гонения» на нее прекратились, не успев начаться. Грег выписался и съездил на консультацию в Солт-Лейк-Сити, тамошнее светило подтвердило, что кости срастаются правильно, выздоровление идет полным ходом.
Вернувшись из Солт-Лейк-Сити, он, не заезжая домой, поехал в цветочный магазин и заказал огромный букет из белых орхидей. Повез его Кэтрин лично.
Марджори ахнула, вспыхнула и упорхнула куда-то. Сообразительная девочка.
— Спасибо, — сказала Кэтрин столу, за которым сидела.
— Спасибо — тебе. И цветы — тебе. Не нравятся?
— Нравятся.
— А в чем дело?
— Ты мог бы прислать их с доставкой.
— Тогда я не увидел бы твоего лица.
— Погашенного счета за лечение вполне достаточно.
— Медицинскому работнику — да. Но я принес цветы красивой женщине, которую хочу пригласить на ужин.
Грегу показалось, что она сейчас расплачется. Повисло молчание.
— Сегодня же. В семь, — сказал он уверенно.
— Но уже пять!
— И замечательно.
— Я заканчиваю только в полседьмого! — Кэтрин вскинула руки то ли в отчаянии, то ли в попытке защитить себя — и оттолкнуть его.
— Отлично. Я заеду за тобой прямо сюда! — невозмутимо проговорил Грег, но эта невозмутимость ему дорого стоила: ее жест отозвался в нем болью. Что же он, чудовище какое-то?
— Но мне нужно переодеться, — почти жалобно сказала Кэтрин.
— Отвезу домой, и переоденешься. Я подожду.
— Ты настроен очень решительно. — Она улыбнулась, и в улыбке сквозили робость и удовольствие: женщине всегда приятно, когда мужчина настроен решительно. Тогда она наконец-то может расслабиться и почувствовать себя женщиной.
— Да, это так, — подтвердил Грег. — К тому же… я очень хочу познакомиться с твоим сыном.
Он уже знал, что Кэтрин живет с сыном, но без мужа. Она не стала распространяться, куда подевался муж, но по ее реакции Грег понял, что на эту тему расспрашивать не нужно. Пока, по крайней мере. Пусть отболит то, что в ней еще болит по нему.
Кэтрин выдохнула, и лицо ее вмиг смягчилось.
— Хорошо. — Она подняла на него лучистые глаза. Они блестели, как воды горного озера под лучами солнца. На дне притаилась боль, но с этим он будет разбираться как-нибудь позже. — Мой ответ «да».
— Как в церкви? — пошутил Грег и осекся. Кретин! Только что думал, что не нужно заговаривать с ней о муже. И на тебе!
— Не совсем. Но все равно. Буду ждать тебя.
— Это превосходно! — Грег наклонился к ней и понял, что ему нестерпимо хочется поцеловать ее в губы. Ну хотя бы в щеку.
Вместо этого он осторожно взял ее ладонь и прикоснулся губами к тыльной стороне. Он знал, что сейчас большего нельзя. Но это малое стало для него обещанием грядущего блаженства.
Близится тайфун.
Кэтрин стояла перед зеркалом и чувствовала себя Золушкой, которая собирается на свой самый главный бал. В ее возрасте Золушкой можно побыть только во сне, поэтому ее не оставляло ощущение ирреальности происходящего. Конечно, это должно было рано или поздно случиться. Грег перестал быть для нее обычным пациентом — если вообще когда-то был. С тех пор как он добился ее… то есть возможности проходить лечение у нее, все неуклонно шло к тому, что наконец случится сегодня.
Свидание.
Она старалась не смотреть на свое лицо, розовое от смущения, и придирчиво разглядывала платье цвета морской волны. Конечно, если захотеть, можно найти пятна даже на солнце. Но Кэтрин твердо верила, что если бы…
Если бы Дэвид узнал, что она собирается в таком виде выйти куда-то с другим мужчиной, он бы ее убил.
Впрочем, будь на то воля Дэвида, он убил бы ее уже давно, полтора месяца назад, и убивал бы много раз — за обман, за бегство, за Тома, за Грега, за эту потасканную машину, на которой она ездит…
Кэтрин глубоко вздохнула. Надо же, как далеко Дэвид запустил свои руки! Контролирует ее, даже понятия не имея, где она находится… Но ведь это не настоящий Дэвид — а даже если бы и был настоящий, что бы он смог сделать? — а тот, что живет у нее в голове. Набор мыслей, чувств, всего того, что ей известно о Дэвиде, и всего того, что она пережила вместе с ним. И что? Что дальше?
А ничего. Она пойдет на свидание с Грегом и будет чувствовать себя преотлично.
— Нет надо мной твоей власти, — прошептала она, глядя себе в глаза.
Наверное, она говорила это тому образу Дэвида, что до сих пор жил в ней.
Грег привез ее в лучший ресторан Огдена.
Он был отделан в староевропейском стиле, и из окон открывался удивительный вид на горы.
— Можно подумать, что мы где-нибудь в Швейцарии, в Альпах, — сказала Кэтрин, усаживаясь на тяжелый и удивительно удобный стул.
— Ты бывала в Европе?
— Нет.
Подошел официант, молчаливый, но очень ловкий, похожий на хорька в белоснежной рубашке, принес меню. Кэтрин попросила Грега заказать ей то же, что и себе.
— Почему? — поинтересовался он.
— Мне интересно узнать, какую еду ты любишь. Узнать… в подробностях, так сказать. Мне кажется, так я смогу лучше тебя понять.
Грег заказал отбивные с кровью. Хищник. Просто, незамысловато, недвусмысленно связано с убийством. Выбор волка. Кэтрин вспомнила свои сны и заерзала на стуле.
— А откуда знаешь, что там именно так? — вернулся он к разговору, прерванному официантом. — Я имею в виду Швейцарию.
— Просто чувствую. По атмосфере, наверное. А ты много путешествовал?
— Не очень. Не так много, как мне хотелось бы. Я видел гораздо меньше того, что хотел бы увидеть в этой жизни.
Кэтрин кивнула:
— Понимаю. Я недавно поняла, что жизнь пройдет, и скорее рано, чем поздно, и что мое время очень и очень конечно. И что я столько всего не успею…
— Ты еще очень молода, поверь мне.
— Брось, ты заговорил, как умудренный опытом старец.
— Старец не старец, а опыта у меня достаточно.
— Ты не намного старше меня.
— Мое воспитание не позволит мне спросить, сколько тебе лет, но сегодня, увидев Тома, я очень удивился.
— Чему?
— Что ты родила в шестнадцать.
— А я вообще не рожала, — ответила Кэтрин без улыбки.
Повисла пауза. Грег сдвинул брови. Кэтрин могла видеть по его лицу, с какой скоростью несся у него в голове поток мыслей, и скорость эта впечатляла.
— Приемный? — спросил он в конце концов.
Она кивнула. Она не совсем понимала, зачем рассказала ему, но… Наверное, потому, что захотелось. Она давно ни с кем не разговаривала по душам. Кэтрин поняла, что больше не хочет сдерживаться, не хочет запирать собственную душу в себе на ключ, не хочет быть рекой подо льдом, хочет быть живой, и открытой, и резкой, и веселой, и злой — всякой, чтобы при этом оставаться собой…
— Прости, я не хотел причинить тебе боль, — медленно проговорил Грег.
— А ты ни в чем не виноват, и вообще я не об этом.
В глазах у Кэтрин стояли слезы, слезы боли, радости, освобождения, гнева… Слезы всех ярких чувств, которые когда-то она не выплакала. Она весело, дерзко тряхнула головой — необычный для нее жест, но такой… настоящий.
— Ты совсем другая.
— Что ты имеешь в виду?
— Ты совсем не похожа на ту женщину, которой кажешься с первого взгляда.
— А какой я кажусь с первого взгляда?
— Сдержанной, строгой, замкнутой, спокойной и холодной, как стальной стержень. И при этом ломкой, как тонкая льдинка. Но это все — неживые предметы, я не хочу даже сравнивать тебя настоящую с ними.
— Сравни с чем-нибудь еще, — предложила Кэтрин с улыбкой.
Грег заметил, что, когда женщины кокетничают, они как будто поддевают мужчину острыми крючками, подкалывают, иногда весьма чувствительно. Или приглашают к чему-то «ну о-очень неприличному». А Кэтрин этой улыбкой тоже приглашала, но только… на праздник или на увеселительную прогулку.
— Ну, я думаю, сравнение со стихией подойдет. Она очень красивая, и у нее есть душа, что бы кто ни говорил.
Кэтрин улыбнулась так тепло, что как будто сама испугалась этой улыбки.
— Ты похожа на ветер. На ветер с дождем. Когда над равниной идет дождь, и ветер гонит его, колышет, как занавесь из струй. И на облака, которые быстро-быстро бегут по небу, подсвеченные солнцем. И на рассвет над морем, когда на лазурном небе розоватые облака, а вода в лучах солнца — как жидкое золото.
— Ты пишешь стихи?
— Нет.
— А ведь мог бы.
— Я не очень люблю стихи. Я люблю, когда женщина красивая. Предпочитаю красоту в такой форме.
— Почему?
— Ею можно обладать.
Если бы из-под Кэтрин внезапно выдернули стул, она чувствовала бы себя примерно так же.
— Я сказал что-то не то? — спросил Грег.
— Для вас, мужчин, обладание — это так важно?
— Как и для вас, женщин, принадлежность. Когда мужчина чувствует, что у него есть кто-то, за кого он отвечает, кого ему нужно защищать и оберегать, у него есть смысл жизни. Когда женщина чувствует, что она принадлежит кому-то, что он защищает ее, она может расслабиться и заниматься своими делами спокойно: рожать детей, хранить очаг…
— Тебя послушать — становится непонятно, почему мы ушли из каменного века. Неужели ты думаешь, что женские обязанности сводятся к тому, чтобы сидеть дома и воспитывать детей?
— Ты передергиваешь. Я ничего такого не говорил.
— Но…
— Я сказал — заниматься своими делами. Включая все остальное, будь то посещение солярия или написание диссертации по энтомологии. Но дети — это главное. Или ты со мной не согласна?
Кэтрин казалось, что от ее молчания у нее самой вот-вот лопнут барабанные перепонки. Она смотрела в тарелку, словно пыталась оживить взглядом кусок отбивной.
Проскользнула несвязанная с разговором мысль: а ведь вкусно. Есть простое мясо с кровью — вкусно и приятно, и никаких тебе угрызений совести. И как только Дэвиду удалось сделать из нее травоядное? Косуля, ничего не скажешь…
Грег воспринял ее сосредоточенное молчание как немой протест.
— Откуда же тогда появляются приемные дети? Почему их кто-то берет и воспитывает как своих? И любит?
— А ты жестокий. — Она посмотрела на него исподлобья.
— Да. Иначе я не смог бы делать свою работу.
— А тебе самому есть кого защищать? Смысл жизни у тебя есть? — спросила она, прищурившись.
— Я защищаю правду. Закон. Всех.
— Значит, никого.
Грег поставил бокал с вином на стол так, словно хотел вдавить его в столешницу.
— Квиты!
Кэтрин улыбнулась одной стороной рта:
— Это самое необыкновенное свидание, которое у меня было в жизни. Я уже начинаю опасаться скандала и драки.
— Драки не будет. Я сильнее тебя в пятнадцать раз.
Кэтрин нервно рассмеялась.
— И не думай, что я стану тебе поддаваться, — продолжил Грег, глядя на нее с таким выражением на лице, что было непонятно, подтрунивает он или говорит серьезно. — Я избавился от этой этикетной привычки. У меня часто бывают в суде противники-женщины. И с ними надо держать ухо востро. И правда мне намного дороже, чем образ джентльмена в их глазах.
— И что, изобьешь меня в туалете, скрутишь, затолкаешь в машину и повезешь к себе — обладать? — с кривой усмешкой поинтересовалась Кэтрин.
И этот бред поставил Грега в тупик. Он мотнул головой:
— Что ты такое говоришь?
Кэтрин одеревенела, будто ее облили жидким азотом. Грег видел, как напряжены ее плечи, как судорожно вцепилась она пальцами в край стола.
— П-прости. Я… я действительно что-то не то сказала. Чушь. Наверное, вино в голову ударило. Я сейчас. — Она стряхнула с себя ледяную корочку и выскользнула из-за стола.
— Ты куда? — Грег почему-то испугался.
— Какие нескромные вопросы ты задаешь! — Она улыбнулась. — Попудрить носик, конечно.
В дамской комнате было светло, восхитительно шумела в кране ледяная вода. Кэтрин хотелось улизнуть через форточку. Глупость, и, разумеется, она этого не сделает, но хотеть-то ей никто не мешает! Она смотрела в большое зеркало, будто специально созданное для тщеславных женщин, чтобы они могли полюбоваться лишний раз своим вечерним туалетом, и оно казалось ей ненужно огромным. Ее интересовало только собственное лицо. На нем резко выделялись ставшие огромными глаза. Отчаянные глаза. Да, это самое необычное свидание в ее жизни. У нее их и было-то не так уж много, но весь ее опыт, включая увиденное в фильмах и услышанное от подруг, подсказывал, что, когда мужчина ведет женщину на свидание, он пытается ее очаровать, и в ход идут все возможные приемы: любезности, комплименты… И вообще, ухаживать значит ухаживать. Во всех смыслах.
Грег ведет себя совсем иначе. Он не пытается ее обольстить, не стремится показать себя мягче, чем он есть на самом деле.
Кэтрин мыла лицо, не заботясь о макияже, словно старалась смыть лихорадочный румянец, проступивший на щеках.
Все это попахивает каким-то большим обманом. Нет, не с Грегом. Грег честен с ней. По крайней мере, не сглаживает острые углы, которые потом непременно проявятся — когда он устанет маскировать их многочисленными подушками. А вообще мужчины, наверное, хотят показаться женщинам безопасными. Чтобы женщины не боялись и доверились им. А потом и получается то, что получилось у нее с Дэвидом.
Может, Грег с его острым, как лезвие, умом и неприкрыто жестокими словами просто с самого начала показывает ей правду?
Кэтрин внезапно успокоилась. Где-то глубоко внутри. Естественно, ее волновала перспектива говорить с ним о своем прошлом — о его тяжелых моментах, — но она почувствовала, что в ней растет доверие к нему.
По крайней мере, он не показывает ей идеальную глянцевую картинку, чтобы она расслабилась, поддалась — и отдалась ему.
Грег умный, едкий, иногда ворчливый, иногда несносный, очень принципиальный и в чем-то безжалостный. А еще он не любит стихи, хотя способен их писать, и умеет видеть красоту и говорить о ней. Он опытнее ее и умнее, это очевидно — и это приятно.
И еще он наверняка умеет любить.
Кэтрин помотала головой. Ее посетила мысль, что чертами характера он тоже очень похож на Дэвида — но только у него эти качества и убеждения не гипертрофированы до уродства, не превращаются в гротеск.
Наверное, они все-таки одной породы. Оба волки.
Но только один из них болен бешенством, и это ее бывший муж.
Кэтрин улыбнулась себе и подмигнула. Наконец-то! Эти слова — «бывший муж» — вышли из ее сознания так легко и естественно…
Здравствуй, освобождение.
Выходя из туалета, она почувствовала, как в груди что-то екнуло: Кэтрин испугалась, что история повторится и Грег будет ждать ее у дверей, прижмет к стене, спросит о чем-то. Но нет. Все шло по-другому.
Грег сидел за столиком и нервно постукивал вилкой по краешку тарелки.
— Все в порядке? — спросил он, цепко глядя ей в глаза.
— Да, — смело ответила Кэтрин.
— Ты расскажешь мне, почему так разволновалась?
Ну вот, еще одна честная бестактность.
— Ты очень прямолинеен, — улыбнулась Кэтрин. — Мог бы сделать вид, что не заметил ничего странного.
— Не хочу делать никакой вид. И знаешь почему?
Пауза.
— Почему же?
— Потому что ты мне не безразлична.
Кэтрин опустила глаза.
— Может быть, расскажу. Когда-нибудь потом.
Ах черт, опять это проклятое «когда-нибудь»!
Грег непонимающе поднял брови, и Кэтрин рассказала ему о своем случайном открытии. В порыве откровенности даже показала блокнот, куда выписывала все дела, которые нужно обязательно сделать, и не «когда-нибудь», а… сделать в общем.
— А что последнее в списке? — полюбопытствовал Грег.
Кэтрин покраснела.
— Я начинаю предполагать невозможное, — улыбнулся Грег.
— Родить девочку.
Грег отвез ее домой. По дороге Кэтрин только и думала о том, захочет ли он ее поцеловать и что ей делать, если захочет.
Хочет ли она сама, чтобы этот поцелуй состоялся?
Она покусывала костяшку указательного пальца и смотрела в окно.
Конечно, хочет.
Так почему у нее такое ощущение, будто она собирается прыгать в воду с вышки? В первый раз к тому же…
Понятно почему: несколько лет назад она приняла решение — внутри себя и озвучила его потом перед алтарем, — что не будет у нее другого мужчины, кроме Дэвида. Почему Дэвид ей не поверил, непонятно. Она сама была в этом убеждена.
И даже сейчас, когда Дэвид исчез из ее жизни, когда начался новый этап, когда рядом Грег, такой притягательный и сильный, — все равно это данное себе и ему обещание держит ее, как пояс верности.
Может быть, потому, что она не сказала ему в лицо, что больше ему не жена?
Ладно, ни один пояс верности не мешает целоваться.
Грег мягко притормозил напротив ее дома.
— Спасибо за ужин, — сказала Кэтрин.
— Спасибо — тебе.
— Временами мне хотелось тебя убить, но даже это мне понравилось.
— Естественно, понравилось. Ты же как стихия. Иногда ей хочется убивать…
— Не строй из себя невинную жертву! Ты сам меня провоцировал.
— Нет, я просто был собой, — усмехнулся Грег.
— Ты плохо кончишь.
— Надеюсь, нет. — Он отстегнул ремень безопасности и наклонился к ней. — Ты позволишь?
Кэтрин опустила веки. Внутри что-то горячее и трепетное скрутилось в клубок или сжалось в пружину. Оно ждало, жаждало освобождения…
Он щелкнул замком ее ремня.
Ее глаза распахнулись. Она не верила в непроизошедшее. Его лицо было совсем рядом, в зрачках прыгали смешливые искры. Он не отстранялся, но и не приближал лицо.
И Кэтрин поняла, чего он от нее ждет. И что ей нужно, как ключ к тому проклятому — или проклятому? — «поясу верности», мужу, который потерял на нее право.
— Поцелуй меня, — прошептала она.
Он улыбнулся и как будто кивнул. И исполнил ее просьбу.
11
Кэтрин шла по дорожке к крыльцу и чувствовала себя так, будто ступает по подвесному мосту. Кружилась голова, и каждый шаг нужно было выверять. А еще она улыбалась. Хорошо, что Грег уехал, ей не хотелось, чтобы он видел, как светится глупым, безграничным счастьем ее лицо. По крайней мере, пока.
Сердцем она доверяла ему, умом — еще нет.
В окнах гостиной горел свет. Том просил разрешения позвать Сэма, и Кэтрин, конечно, позволила. В качестве то ли няньки, то ли лучшего друга ее сына Сэм ей очень нравился. Лишь бы не претендовал на ее руку и сердце.
Правда, странно, что они не во дворе перед домом, обычно они только и делали, что придумывали какие-то невероятные сюжеты и носились вокруг дома, воплощая их в жизнь.
Кэтрин позвонила в дверь — она любила, когда ей открывали.
И ей открыли.
Кэтрин показалось, что ее подвесной мост оборвался и она летит в пропасть. Летит непозволительно, невозможно долго, и полет почему-то ничем не заканчивается. Как в страшном сне. И ей уже пора бы проснуться. Жаль, что у нее довольно крепкие нервы и в обморок она не упадет. Это был бы великолепный способ хоть ненадолго уйти от реальности, потому как что с этой реальностью делать, Кэтрин не знала.
Перед ней стоял Дэвид и улыбался ей довольной, хищной улыбкой.
За его спиной маячил притихший Том.
— Здравствуй, мое сокровище.
Если бы не Том, Кэтрин бросилась бы бежать без оглядки — сорвала бы на бегу босоножки и помчалась куда глаза глядят. Нет, к мисс Грэхем. Нет, за Грегом. Господи, помоги!
Но Том был, и Тома отделяла от нее худощавая, поджарая фигура Дэвида.
— Почему ты стоишь? Проходи, пожалуйста, — сказал он вкрадчиво.
Кэтрин затрясло. Чем тише он говорил, тем страшнее было потом.
— Не бойся. Я не обижу тебя. Я хочу поговорить. Разве ты не рада меня видеть?
— Нет. — Кэтрин собрала всю волю, все силы в кулак и решительно шагнула в дом, так решительно и порывисто, что Дэвид инстинктивно отшатнулся.
— Том, где Сэм? — спросила она, будто оторвала кусок мяса зубами — зло, быстро.
— Ушел.
— Давно?
— Да, когда папа приехал.
— Марш к мисс Грэхем! — со сталью в голосе скомандовала Кэтрин. — И оттуда звони Сэму. Переночуешь у него. Попроси вежливо.
— Но, мама…
— Без «но». Давай бегом!
К дьяволу условности, приличия и всю остальную чушь! Главное — спасти Тома.
Хлопнула входная дверь.
Тома он не достанет. Хотя бы не так легко и быстро, как мог бы. А может, и вообще все обойдется. Хотя вряд ли. Не нужно быть слишком наивной, это ни к чему хорошему не приводит. Входя в воду, где водятся пираньи, ты можешь сколько угодно убеждать себя, что пираньи робкие, милые создания, которые боятся человека. Им это аппетита не испортит.
Кэтрин явственно поняла, что сегодня Дэвид, наверное, ее убьет. Он решил, что она его рабыня. А с беглыми рабами во все времена были жестоки. На глаза навернулись слезы, но не от страха — от горечи. Почему именно теперь, когда она только-только научилась жить для себя, с удовольствием, счастливо, свободно? И что будет с Томом? Неужели ему придется возвращаться приют, в прежний или в другой? И почему ей отмеряй только один поцелуй с Грегом? Она так хотела бы узнать его объятия, и ласки, и чувственную власть над собой! И ее девочка, дочка… Ей так и не суждено родиться? Вообще-вообще?
Кэтрин рванулась к двери, чудом не споткнулась об угол дивана…
Дэвид поймал ее за руку. Как будто сомкнулись на предплечье железные клещи.
— Нет! — властно сказал он. — Пожалуйста, не уходи.
— Отпусти меня, — прошипела Кэтрин. Слезы побежали по щекам, злые слезы. Она не стыдилась их.
— Нет, Кэтрин. Я так долго тебя искал. Не отпущу. Я не хочу, чтобы ты сбежала снова.
— А как ты думаешь, почему я сбежала? Не догадываешься? Нет? Потому, что я не хотела тебя видеть! Никогда в жизни! И почему я должна слушать твои желания, а не свои?
— Потому, что ты моя жена. Потому, что я люблю тебя.
Кэтрин разразилась истерическим хохотом. От этого звука ей стало страшнее, чем от стального взгляда Дэвида.
— Да ну?! — сумела проговорить она. — Любишь, говоришь? Жена, говоришь? Ты уже потерял на меня право, Дэвид! За все, что ты мне дал, я сполна заплатила! Слезами, болью, кровью…
— Прости меня.
— Что?!
— Прости меня, — так же ровно и тихо повторил Дэвид.
— Ты что, издеваешься надо мной? По-твоему, это смешно? Тебе никогда не нужно было от меня ни прошения, ни любви, только послушание!
— Любовь и преданность.
— Лжешь! Я ведь любила тебя! Любила до потери памяти. Только тебе не было до этого дела. Ты хотел только приковать меня к себе цепью и чтобы я служила тебе. И этими своими цепями разрушил все, что во мне было к тебе хорошего.
— Ты до сих пор меня любишь.
— Нет. Меньше бить надо было.
— Любишь, не ври себе и мне.
— Тебе я имею право врать сколько вздумается.
Он притянул ее к себе и заключил в железные объятия.
— А так?
Она попыталась оттолкнуть его, но с тем же успехом Кэтрин могла толкать гору.
— Кэтти, красавица моя, ну что же ты такая упрямая? — ласково спросил Дэвид у нее над ухом и провел губами по волосам. — Я так и не научил тебя покорности?
— Кулак — плохой учебник, — глухо ответила Кэтрин.
Он поцеловал ее в висок. Осыпал поцелуями щеку, поддразнил губами мочку уха. Кэтрин ненавидела его в этот момент. И себя ненавидела тоже, потому что у нее внутри жила предательница. Кэтрин думала, она давно умерла, эта маленькая, теплая змейка, которая шевелилась каждый раз, когда Дэвид касался ее с лаской. Дэвид приручил ее, она была предана ему, она тянула Кэтрин к нему, толкала в его объятия даже после того, как он в первый раз поднял на нее руку. Любовь в ней умирала, а страсть — нет. В последние месяцы жизни с Дэвидом Кэтрин уже не чувствовала этой потребности быть неподалеку от Дэвида, которая точила ее, и змейку посчитала мертвой, и обрадовалась, потому что она привязывала ее к Дэвиду крепче любой веревки, крепче любого страха.
И вот — опять. Кэтрин стиснула челюсти. Наверное, это потому, что у нее давно не было мужчины, и потому, что Грег разбудил эту потребность, которая на какое-то время впадала в спячку.
Дэвид коснулся ее губ пальцем.
Кэтрин с ненавистью посмотрела ему в глаза.
— Пусти меня.
Он поцеловал ее.
С точки зрения техники это был один из лучших поцелуев в ее жизни. Змейка, свернувшаяся кольцами где-то внизу живота, пришла в движение, и ощущать это было сладко.
Кэтрин вспомнила, что так было очень долго: стоило Дэвиду коснуться ее, обнять, поцеловать, погладить — и она теряла голову. Она будто погружалась в теплое море, и все прочее оставалось на берегу. Она готова была преступить любые границы, преодолеть любой стыд, только бы единение произошло. Он был необходим ей, как половина себя, и сейчас накатило то же самое чувство.
Или не то же самое?
Разве может она перешагнуть через свой побег, эти дни и ночи отчаяния и всепоглощающего страха, которые сражаются с надеждой?
Разве может она перешагнуть через то утро, когда почувствовала себя живой — впервые за много месяцев?
Разве может она перешагнуть через Тома, который наконец-то нашел настоящего друга и стал счастлив?
Разве может она перешагнуть через понимание того, как мало ей осталось жить и как тщательно нужно выбирать, чем эти годы заполнить?
Разве хочет она этого?
И… Грег? Ураган чувств к нему, скандал в больнице, разговоры, белые орхидеи, сегодняшний поцелуй в машине…
Разве хочет она перешагнуть через все это? Предать только что обретенную жизнь? Только что обретенную себя?
Змейка в животе из теплой сделалась холодной. А потом исчезла. Туман перед глазами рассеялся, и Кэтрин показалось, что она воспринимает все ярко и четко, как никогда в жизни, и информации настолько много, что она сейчас, кажется, впадет в транс или сойдет с ума, потеряет связь между тысячами и миллиардами фрагментов реальности, которые ей сейчас открылись.
Нет. Нет!!!
Раньше она не знала, за что сражается. Она чувствовала только, что нельзя жить так дальше, и еще боролась за Тома, потому что рожала она этого ребенка или нет, а материнский инстинкт — он и есть материнский инстинкт.
А теперь она знала, ради чего ей нужно жить свободной. Прошлого не вернешь. Оно умерло. И умер тот Дэвид, за которого она, влюбленная как кошка, выходила замуж. Остался на его месте выгоревший изнутри труп, зомби, который сейчас хочет заставить ее поверить в то, что все будет прекрасно, как когда-то.
Черта с два.
Кэтрин прервала поцелуй.
Посмотрела в светло-серые с темными прожилками глаза Дэвида.
— Ну, малышка, что ты? — ласково спросил он.
— Убирайся к дьяволу. Если хочешь, я даже прощу тебя напоследок. Только, пожалуйста, убирайся!
Глаза Дэвида будто остекленели.
— Кэтрин… — проговорил он, и в этом слове была угроза, словно он произносил заклинание смерти.
— Что? — дерзко, с вызовом спросила она. Да, может, он убьет ее сегодня… Но она не станет жить предательницей самой себя. Хватит мягкотелости. Хватит страха.
И не убьет — не посмеет. Она не жертва. Не жертва! Она также ест мясо с кровью, и ей нравится!
— В чем дело? Почему ты отталкиваешь меня? А? У тебя кто-то есть? — Его глаза превратились в узкие щелочки. — Отвечай.
А есть ли у нее кто-то? Грег… Они только целовались и ни о чем не договаривались, но все-таки… Все-таки есть!
— Не твое дело! — сказала она, словно сплюнула.
Надо бежать. В конце концов, она уже один раз сбежала от него, и по-крупному! Осталось закрепить успех. Нет, не просто закрепить успех — выжить. Ей есть ради чего выживать!
Только бы выбежать на улицу! Там она поднимет такой гвалт…
Дэвид замахнулся, готовый нанести ей пощечину, — он мастер на пощечины и оплеухи. Кэтрин вздрогнула, зажмурилась — и тут же устыдилась своей реакции. Но Дэвид поставил ей четкий рефлекс. Надо будет с этим еще поработать.
Удара не последовало.
— Прости, — глухо проговорил Дэвид. — Я больше не хочу тебя бить. Прости меня.
Кэтрин открыла глаза и встретилась с ним взглядом. Она не верила в то, что видела.
— А чего ты хочешь? — спросила Кэтрин.
— Чтобы ты была моей.
Кэтрин поморщилась, как от зубной боли. Он удивил ее, но не настолько, чтобы она сразу ему поверила. Да и… какая разница, поверит она в то, что он изменился, или нет? Все равно вместе им больше не жить. Хорошо бы, конечно, получить развод, но эта тема не для сегодняшнего вечера.
Ее любовь умерла. В нее не вдохнуть новой жизни.
Кэтрин покачала головой.
Дэвид, казалось, хотел пробуравить ее черепную коробку взглядом насквозь. Он взял ее за плечи двумя руками.
— Нет.
— Вот именно — нет. Нет, Дэвид. Я больше не хочу. Я не люблю тебя.
— Кэтрин, подумай о Томе! Ему нужна семья, нужны отец и мать…
— Да. Тут ты прав, не могу с тобой не согласиться. Но в нашем случае лучше, чтобы отец и мать жили порознь.
— Тебе было хорошо, когда твои отец и мать жили порознь?
— Я думала об этом. Лучше так, чем они продолжали бы скандалить, как они скандалили.
— Кэтрин, ты совершаешь ошибку.
— Время покажет. Хотя… по мне, так давно нужно было это сделать. Если я о чем-то и жалею, то только о том, что затянула.
Кэтрин говорила все это и знала, что говорит правильные вещи, что это итог ее жизненного опыта, связанного так или иначе с Дэвидом. И все же ей было не по себе, и страшно щемило в груди.
Все мы люди, и все мы имеем право на ошибку, потом, правда, ошибки приходится исправлять — или платить за них, если они непоправимы. Кэтрин знала, что поступает так, как должна, как это необходимо, как это правильно.
Но в голове словно сидела маленькая птичка, которая чирикала противным, похожим на попугаичий, голоском: а вдруг он и вправду решил измениться? А вдруг все прекрасное можно возродить? А вдруг она до сих пор его любит, и это чувство возродится, когда она его простит?
Кэтрин очень старалась не слушать ее, эту маленькую птичку-мысль, но у нее не получалось, и эта гадость портила ей все дело. Судьбоносные решения и так сложно принимать, а уж когда не уверен или не до конца уверен в своей правоте — и подавно.
В ней осталась не только та часть, которая желает его как мужчину. В ней осталась еще… Нет, вряд ли это любовь, это только тень любви — воспоминания о светлых днях, воспоминания о тех чувствах, что она испытывала к нему. Воспоминания — и тоска. Она рада была бы пережить это снова.
И все-таки в одну реку дважды не войдешь.
Дэвид не причинял ей боли, но держал крепко, и Кэтрин видела, как бродят у него на скулах желваки, как будто он изо всех сил удерживался от чего-то. От чего? Ударить ее или поцеловать?
В этот момент в дверь позвонили. Кэтрин недвусмысленно дернулась к двери.
— Не открывай. Нас нет дома, — горячо и властно прошептал Дэвид.
— Я. Дома. Дэвид, — проговорила она, разделяя слова отчетливыми паузами. — А. Ты. В гостях.
Он будто хотел что-то еще сказать, но промолчал, только глаза сверкнули недобро, углями. Звонок повторился. Медленно, будто это слоило ему усилий, Дэвид разжал руки.
Кэтрин открыла дверь и с удивлением обнаружила там седоусого мужчину в форме полицейского.
— Добрый вечер, мэм. — Он вежливо кивнул и показал жетон. — Офицер Джереми Лукс. — Глаза под тяжелыми веками смотрели на нее с любопытством: приезжая, наконец-то ему представился шанс ее увидеть.
— Добрый вечер. В чем дело?
— Это я у вас хотел бы спросить…
— Миссис Данс. — Кэтрин не хотелось в присутствии Дэвида представляться под его фамилией, но выхода не было: это была правда, а лгать полицейскому Кэтрин была не в состоянии. Да и какой смысл? — Можно просто Кэтрин. — Она протянула ему руку.
— …миссис Данс, — закончил фразу полицейский. — Вы позволите?
— Да, разумеется. — Она отступила, пропуская его в дом.
— Поступил вызов по вашему адресу, — серьезно сообщил офицер Лукс и, смерив взглядом Дэвида, кивнул ему. — Шум, звуки драки, женские крики, громкие угрозы поджогом.
— Это какой-то розыгрыш, — сказал Дэвид.
— Кто бы мог вас так разыграть? — в тон ему, нарочито легкомысленно проговорил Лукс.
— Не совсем розыгрыш, — вступила Кэтрин. — Мы с бывшим мужем немного повздорили. Но нам удалось решить все полюбовно. Он уже уходит. Может быть, вы проводите его?
Слова приходили на ум сами собой, и откуда — непонятно. Кэтрин удивлялась, по крайней мере. В голове у нее было уже пусто от потрясения, и тишина эта наступила внезапно, будто кто-то со щелчком выключил магнитофон. Но она говорила, и в звуках, которые слетали с ее языка, был какой-то смысл, и Кэтрин чувствовала, что говорит нужное, то, что поможет ей выжить.
— Мистер Данс? — Офицер перевел строгий взгляд на Дэвида.
— Разумеется, — невпопад ответил Дэвид. Ответил сквозь зубы. — Спокойной ночи, дорогая.
— Не надо называть меня так.
— До свидания, миссис Данс. — Офицер Лукс водрузил на голову форменную фуражку и коснулся пальцами козырька.
— Да свидания, офицер. Спасибо.
Кэтрин проводила обоих, выдержала прощальный взгляд Дэвида, острый как шип и горячий как уголь, закрыла дверь на все замки.
Больше всего ей хотелось упасть на диван, расплакаться, накрыться с головой пледом, потерять сознание, завыть… Но нельзя было. Нельзя отдыхать, пока хищник рядом.
Снова раздался дверной звонок. Кэтрин подумала, что какой бы сильной она ни была, а второй встречи с Дэвидом может и не выдержать.
— Кто там? — спросила она через дверь, уверенная в том, что, если Дэвид, она сейчас же побежит в кухню и попробует скрыться через черный ход. И по дороге будет звонить в полицию. Офицер Лукс не мог далеко отъехать.
— Мам, это мы, — раздался голос Тома.
Кэтрин поспешно отперла дверь. Не важно, кто эти «мы». Главное, что среди них — Том.
На крыльце стояли Том и мисс Грэхем, и у обоих были одинаково перепуганные лица.
Том порывисто обнял ее.
— Как вы здесь оказались? — выдохнула Кэтрин.
— Прости, мы за вами подглядывали, — признался Том.
— В окна. Не знали, стоит вмешиваться или нет, — добавила мисс Грэхем. — Когда он тебя схватил, это было так… так…
— Ужасно! — воскликнул Том. — Знаешь, мам, я не верил, что вы помиритесь. Но папа сказал, что все устроит. Что он хочет исправиться и чтобы все стало как раньше, до того, как вы начали ссориться.
И ножом Том не сумел бы резануть ее больнее, чем этими словами.
— Том прибежал ко мне и рассказал, что приехал твой муж…
— Бывший, — вставила Кэтрин.
Она знала, какое коварство кроется в мелочах. Стоит один раз промолчать — и ты уже как будто согласишься: мол, да, муж. А потом пошло-поехало: брось, вы же семья, семья должна жить вместе, он наверняка раскаялся, прости его, ты же его любишь, посмотри, как страдает мальчик…
— Бывший муж, и бывший муж сказал, что хочет помириться с тобой, но вообще вы сбежали от него…
— Да, я знаю эту историю, — устало вздохнула Кэтрин.
— И я решила, что надо вызвать полицию. Если все пойдет хорошо, вы просто скажете, что произошла ошибка. Или… не откроете дверь. А в худшем случае помощь и впрямь может понадобиться.
— А пока полицейские ехали, мы смотрели в окна, чтобы папа ничего тебе не сделал, — добавил Том.
Кэтрин закатила глаза. Дэвид был очень близок к тому, чтобы повалить ее на диван прямо в гостиной, задрать подол платья и овладеть ею. Интересно, сочли бы они это за «что-то сделал»? И как бы она потом объясняла все Тому? Он еще не дорос до разговора о птичках и пчелках и тем более — о том, что это за странная форма борьбы, в которую иногда вступают взрослые.
— Вы проходите, — сказала Кэтрин.
В этот момент из-за поворота вылетел автомобиль. Водитель ударил по тормозам, раздался механический визг. Дверцы распахнулись, и оттуда выскочили с видом бойцов спецподразделения Сэм и Грэй.
— О, мальчики! — воскликнула мисс Грэхем. — Им я тоже позвонила, — призналась она Кэтрин.
Грэй держал в руках бейсбольную биту. Сэм был одет в огромную дутую куртку. Один явно намеревался наносить удары, другой — принимать их на себя. Вражеские, разумеется. Но лица у обоих были одинаково свирепые. Кэтрин не смогла сдержать улыбки. Защитники.
Улыбка из ироничной стала растроганной. Они ведь и вправду мчались ей на помощь.
— Где он? — прорычал Грэй, подбежавший первым.
— Спрятался, гад? — Сэм тяжело дышал, будто пробежал стометровку, а не несколько ярдов. — Ну мы его…
— Сэм, спокойно, опасность миновала, — заверила его Кэтрин. — Мисс Грэхем, что вы им сказали?
— Что в твой дом проник мужчина, подстерег тебя и удерживает там. Чистую правду.
— Да уж, ни слова лжи, — усмехнулась Кэтрин.
Том повис на Сэме. Вообще-то по законам жанра он должен был с пиететом относиться к Грэю. Тот был гораздо больше Сэма похож на супермена из комиксов. Но пути Господни неисповедимы… Может быть, Тому сейчас нужен был больше добрый друг, которому он мог бы доверять, чем кумир. Хотя Грэй мало-помалу занимал свое место в мире Тома — место приятеля-защитника, с которым шутки плохи.
— Опасность миновала, — сообщила она парням. — Пойдем выпьем чего-нибудь?
— И я? — обрадовался Том.
— И ты. Молока.
12
Кэтрин, конечно, сказала, что опасность позади, но сама в это не очень-то верила. Дэвид знает теперь, где она живет. Нетрудно догадаться, где она работает. Он пришел за ней — и не получил желаемого. Пока, по крайней мере.
Значит, он вернется. Это лишь вопрос времени.
Пока они сидели в гостиной — странная компания: молодая женщина, пожилая леди, ребенок, парень с бычьей шеей и парень с лицом агнца, — она чувствовала себя более-менее в безопасности. Ей очень хотелось успокоиться — и она успокаивалась. Но разум ее не спал.
Мало-помалу успокоились все. Том стал клевать носом, мисс Грэхем — тоже. Кэтрин понимала, что нужно отправлять сына спать, а гостей отпускать по домам, но панически боялась остаться одна. В чем она честно и призналась.
— Так нет проблем, дорогая! Мы все можем заночевать у тебя.
— Ага. Только мне надо встать пораньше, а то на работу в таком виде не пойдешь… — Сэм смущенно поправил черную толстовку, с которой злобно скалился получеловек-полуволк. Надел для устрашения врага.
— Спасибо. Спасибо, спасибо! — Кэтрин готова была расцеловать всех и каждого.
Она постелила мисс Грэхем в спальне для гостей, Сэму на кушетке в комнате Тома, а Грэю — на диване в гостиной.
Справившись с делами, Кэтрин пошла в душ и долго-долго стояла под струйками горячей воды, чувствовала, как она стекает по коже, включала воду такой температуры, чтобы становилось больно, потом, когда в голове уже мутилось от жара и пара, обливалась ледяной водой. Вышла из кабины, завернулась в огромное мягкое полотенце, протерла запотевшее зеркало рукой и увидела усталую женщину, которая вот-вот упадет и больше не поднимется — или же станет волчицей.
Ее пронзил, как длинная тонкая игла, внезапный страх. А что, если Дэвид явится с пистолетом?
Кэтрин похолодела. Повинуясь внезапному порыву, прошла в комнату, взяла телефон и по памяти — сама себе удивилась, она не заучивала его специально, — набрала номер Грега.
Он ответил почти сразу, как будто ждал от нее звонка.
— Слушаю. — Уверенное, спокойное, в то же время требовательное слово. В него верилось: Грег действительно слушает.
А что ему сказать?
— Привет, это Кэтрин.
— Привет… — Он растерялся, всего на секунду, но растерялся. Все-таки — не ждал звонка, а если и ждал, то не от нее.
Она не подумала заранее, что сказать ему, зря. Повисло молчание. Кэтрин хотела бы сказать какую-нибудь пустую, симпатичную глупость, чтобы завязать разговор, но не получалось: в горле будто застрял ватный ком. Это же чистое бесстыдство — звонить мужчине в такое позднее время, и тем более — жаловаться на свои проблемы. Но кто защитит ее, кроме него?
— Кэтрин, что-то случилось? — с неподдельной тревогой спросил он.
— Нет. Да. Не знаю, — честно ответила она.
— Господи… В чем дело?
— Долгая история.
— Расскажи мне конец.
— Мой бывший муж меня нашел.
— Это плохо?
— Очень.
— Ты одна сейчас?
— Нет. У меня полный дом народу, они все милые и замечательные, но… Но я все равно чувствую себя в опасности. Наверное, ты подумаешь, что это блажь избалованной девчонки.
— Я подумаю что захочу. И ты никакая не девчонка, тем более не избалованная. Я скоро приеду.
— Тебя не…
— Перезвоню тебе из машины. Пока. Держись там.
Гудки в трубке. Кэтрин выдохнула и легла на кровать, на спину. Стала ждать.
Он перезвонил всего через три минуты и разговаривал с ней все время, пока вел машину к ее дому. Ни Сэм в дутой куртке, которая делала его плечи много шире и отлично могла смягчать удары, ни Грэй с бейсбольной битой в гостиной, ни мисс Грэхем со своим неуемным темпераментом и предприимчивостью, ни пистолет в руке, ни целая армия полицейских под окнами не могли подарить ей такой уверенности и защищенности, как голос Грега в трубке телефона.
Голос — и еще то, что он ехал к ней.
Грег настоял. Кэтрин протестовала, отпиралась долго и нудно, но не очень энергично: она чувствовала, что Грег прав. После того как приличия были соблюдены и она продемонстрировала ему, что идет на это исключительно под его невыносимым давлением, а так она ни за что бы не согласилась, Кэтрин и Том переехали к Грегу.
Это был самый разумный выход, но Кэтрин все равно чувствовала себя неуютно. Только в нападении возможно победить. Она же просто пряталась, оттягивала Момент новой встречи с Дэвидом и раздувала в себе слабенькую надежду, что ему попросту надоест ее искать и он отступится.
Не отступится. Кэтрин знала. Том может надеяться, может делать вид, что его вообще все это не касается, может делать вид, что не боится… Хотя он боялся. Чувствовал каким-то своим детским чутьем, что над его маленьким миром нависла опасность.
Он только один раз спросил у Кэтрин:
— Мама, ты хочешь помириться с папой?
— Я хочу, чтобы я и папа жили мирно, — ответила она, подумав. — На разных континентах. Или хотя бы в разных городах. И чтобы вы встречались, если вам захочется. Или, если захочется, не встречались. И чтобы никто никого не боялся.
— Ты боишься папу?
— Да.
— А дядя Грег?
— Нет.
— А почему он не боится?
— Потому, что смелый и правда на его стороне.
— Ты знаешь, он мне нравится. — Том посмотрел на нее с хитрой улыбкой.
— Мне тоже.
— Я так и знал! Конечно, мне бы хотелось, чтобы ты вышла замуж за Сэма и мы с ним играли бы целыми днями, а по вечерам рассказывали друг другу смешные или страшные истории…
Кэтрин усмехнулась.
— Что? Что такое, мам? Ты не подумай, я тебя не заставляю, но…
— Что — но?
— Но мне бы хотелось, — повторил Том.
— Ты можешь играть с ним сколько душа пожелает. Сейчас все уляжется, и мы заживем по-другому, и вы с Сэмом будете видеться так часто, как захотите. Но я твоя мама, дружок. И я не могу выйти замуж за твоего лучшего друга только потому, что тебе с ним весело и интересно. К тому же… ты не думал, что он старше тебя на целых долгих восемнадцать лет? А ты себя с ним ощущаешь легко, как с ровесником. А что будет, когда тебе станет двадцать и двадцать пять?
Том задумался и замолчал, и в этом молчании удалился из комнаты. Кэтрин не обиделась: за Томом такое водилось. Он иногда так глубоко погружался в свои мысли, что становился непроницаем для внешнего мира. Когда он что-то решит, он вернется.
А вообще их с Грегом жизнь ладилась на удивление хорошо, но несколько странно.
Кэтрин узнала, что он вовсе не так уж невыносим, как ей казалось поначалу. Может быть, в такой манере он общается только с малознакомыми докторами? Кто знает.
Грег жил в просторном двухэтажном доме.
Когда Кэтрин вошла туда и огляделась, ей показалось, что это нежилой замок — или давно заброшенный. Нет, там было относительно чисто, и интерьер подобран со вкусом, но впечатления дома этот дом не производил.
Потом Кэтрин изменила это мнение: дом был жилой наполовину, как будто были протоптаны дорожки из гостиной в кухню, из кухни в кабинет, из кабинета на второй этаж, в спальню. Столовой и еще четырьмя спальнями наверху Грег не пользовался.
Ими стала пользоваться она. Конечно, не всеми сразу: спальня для нее, спальня для Тома, завтрак и ужин в столовой.
— Я прекрасно устроился, — поделился своими мыслями Грег во время их первого совместного ужина. — Теперь у меня в доме есть женщина, а у меня перед ней — никаких обязанностей.
— У нее перед тобой тоже, — отшутилась Кэтрин и сверкнула на него влажно заблестевшими глазами. Хоть бы не заметил, что голос у нее дрогнул. Еще припишет этому какой-то ненужный смысл…
И смысл этот конечно же не нужен, потому что он все только усложнит и запутает. Одно дело, когда она в трудную жизненную пору гостит у друга, который кое-чем ей обязан, потому что она спасла ему руку, и совсем другое — когда у мужчины, с которым у нее… некие романтические узы.
Грег, правда, к великому ее удивлению, делал вид, что никаких таких уз, а тем более романтических, не существует. Что они просто приятели, и как же не помочь подруге, которую, кроме него, некому защитить?
Иногда Кэтрин начинало казаться, что тот поцелуй в машине, который перевернул ее мир с ног на голову, точнее с головы на ноги, который подарил ей истинное освобождение от Дэвида — еще бы, она поцеловала в губы другого мужчину, и земля не разверзлась у нее под ногами, — что тот поцелуй ей просто приснился.
Иначе как можно после него — вот так?
Грег кивал ей, выходя утром на кухню, кивал, уходя на работу, спрашивал, как дела, когда они встречались вечером за ужином. С Томом он общался тепло, но с достоинством, не пытаясь развлечь его или как-то завоевать доверие. Это и не нужно было, Том ему очень доверял. Он чувствовал в Греге сильного мужчину, который по-доброму относится к нему и к его матери, а значит, станет защищать их.
Ни одного намека на ту искру, что между ними проскочила.
Ни одного нескромного взгляда.
Ни одного слова в том тягучем, низком тоне, который заставляет женское сердце трепетать и плавиться.
Грег рано уходил, поздно возвращался, ужинал, потом скрывался в кабинете. Он сказал, что у него поднакопилось работы за время, когда он «отлынивал отдел» на больничной койке. И теперь он взялся решать их все разом.
От Дэвида ничего не было слышно. Если бы им пришлось держать оборону, отстреливаться, в общем, жить по законам военного времени, Кэтрин хотя бы понимала, почему Грег не проявляет к ней никакого мужского интереса. Неужели она обидела его чем-то? Или ему не понравилось, как она целуется, черт бы его побрал?
Она злилась, злилась без всякой причины, иногда — на него, чаще — на себя, злилась с каждым днем все больше оттого, что не понимала до конца истинных причин своей злости и не давала ей выхода.
Если бы она знала, как несладко приходится Грегу, она, может быть, позлорадствовала бы.
Грег рад был бы забаррикадироваться в кабинете и выходить через окно, только бы не встречаться с Кэтрин. Эта женщина что-то с ним делала. Уже сделала. Она превратила его из «машины правосудия» в живого, пылкого мужчину, которого обуревали желания и страсти. И самым сильным из желаний, самой жаркой страстью было прижать к себе Кэтрин, овладеть ею и сделать своей женщиной навсегда, до скончания времен.
Почти так же сильно ему хотелось сказать ей «люблю».
Он давно уже перестал верить в силу этого слова, перестал считать его священным. Он даже начал немножко его презирать, как презирал Марту — так часто он ей его повторял.
Люди вообще так часто его повторяют, что уже затерли языками чуть ли не до дыр.
И все же именно оно, это изрядно избитое слово, вертелось в его мозгу, когда он смотрел на Кэтрин.
Он старался не смотреть, чтобы не искушать судьбу.
Когда он вез ей цветы, когда приглашал на ужин, даже во время самого ужина, он еще верил, что это просто симпатия к славному, интересному человеку в смеси с вожделением к красивой, необычной женщине.
Но в машине, когда он подвозил ее домой и чувствовал, как сокращается, как истекает ударами его сердца время, отмеренное до прощания, до прощания, которое непременно отмечено будет поцелуем… То, что поцелуй случится, было вне сомнения, под вопросом оставалось лишь то, что будет после.
Грег не рассчитывал сегодня же ночью остаться у нее ночевать. Кэтрин не из тех женщин, кто легко и беспрепятственно пускает в свою спальню мужчин. С такими, как она, секс возможен только после долгого знакомства или по глубокому взаимному чувству. В конце концов, именно женщина решает, будет секс или нет. А у такой женщины, как Кэтрин, не может быть много мужчин. Не потому, что немногие захотят, а потому, что она не захочет. И, значит, тех, кто все-таки будет, она станет выбирать с особым тщанием.
Грег точно знал, что он ее добьется. Но какой ценой? На какое место в своей жизни он согласен впустить эту женщину, чтобы она стала его, хотя бы ненадолго?
Ненадолго — не получится. Это было ясно как день.
А надолго он поклялся не связываться ни с кем. Спасибо Марте, научила.
И что же делать теперь, когда с ней приключилась вот эта беда? После того как она рассказала ему все о своем браке? Рассказала еще в первую ночь после появления Дэвида, когда он приехал, когда они сидели на кухне и пили: он — холодный чай, она — вино.
Кэтрин плакала… и плакала божественно. Он никогда не видел, чтобы женщина плакала так красиво: не искажалось лицо, не распухало от слез, они просто стекали по гладким щекам, и чуть заметно дрожали ставшие ярче губы, может, от красного вина, а может — от внутреннего жара.
То, что поведала ему Кэтрин, удивило Грета, но больше испугало. Ему сразу вспомнилось громкое дело, которое он вел несколько лет назад. Морис Шон, один из известных в Огдене людей, владелец сети бистро, страдал, как оказалось, легким психическим расстройством. Он пристрастился к наркотикам, и расстройство начало прогрессировать. У него было двое взрослых сыновей и молодая жена. Он начал ревновать ее к ним, ревновал все сильнее и сильнее, потом ревность приняла характер бреда. Однажды он впал в состояние психотической ярости и убил всех троих. Расстрелял из карабина. На то, что осталось от женщины, потом страшно было смотреть.
Наибольшее отвращение, граничащее с мистическим ужасом, вызвало у Грега то, что Шон ни на волосок не испытывал раскаяния, будучи уверенным в своей абсолютной правоте. «Двоим я дал жизнь, третью взял к себе в дом с улицы. Я имел право сделать с ними что хотел», — сказал он на последнем судебном заседании, после того как приговор был вынесен.
Грегу нелегко далась победа, все-таки требовать правосудия для преступников с именем, деньгами и связями — дело не для слабаков, но он все-таки победил, и Шон отправился за решетку — за решетку в специализированную тюрьму.
Он нутром чуял, что Дэвид Данс — человек той же породы. И меньше всего на свете Грегу хотелось увидеть тело Кэтрин или Тома, из которых этот безумец забрал жизнь.
Однако что он может ему противопоставить? Дэвид Данс, удачливый адвокат из коллегии адвокатов Денвера, против прокурора из заштатного городишки Огдена, штат Юта? Почти смешно, но больше горько.
Грег грыз локти и ломал карандаши, будто они специально для того и были созданы. Он искал выход, но он его не находил. Кэтрин и Тому нужна была охрана, вооруженная охрана, но на каком основании? Они не подвергались нападению. Жена сбежала от мужа, а он ее разыскал. Подумаешь! Наверное, крепко любит. Вот и сказке конец.
Но только Грег знал, что не конец, что Дэвид еще объявится, что он затаился где-то и ждет. Он гнал Кэтрин, как свора охотничьих собак гонит лисицу — и псы не уходят, когда лиса забивается в нору.
Грег заставил Кэтрин взять отпуск. Естественно, ее начальство было не в восторге: каких-то два месяца работы — и уже отпуск?! Но Грег лично разговаривал об этом с доктором Паттерсоном, вкратце описал ему ситуацию. Доктор Паттерсон забеспокоился. Грег понимал, что он в равной мере боится и за Кэтрин, и за себя — что же будет, если ее муж явится прямо в больницу и начнет угрожать оружием? Так что отпуск Кэтрин получила без проблем.
Позже Грег, правда, начал сомневаться: правильное ли принял решение? Да, в больнице ее найти проще простого, но там, по крайней мере, полно народу, и Дэвида могли бы задержать, не позволить ему сотворить что-то непоправимое.
У него дома она в большей безопасности в том плане, что Дэвид не вычислит ее местонахождение. По крайней мере, если и вычислит, то нескоро. Но что делать дальше? Глупо отсиживаться, нужно действовать, и действовать наверняка — но осторожно, чтобы враг ни о чем не догадался.
Ему даже пришла в голову мысль о ловле на живца, и он чуть не выбил себе зубы кулаком за такую глупость. Кэтрин — не наживка. Она женщина, которую ему нужно, любой ценой нужно защитить.
Он сменил тактику — постарался организовать все так, чтобы по большей части работать дома. Поговорил с ребятами-полицейскими, чтобы неподалеку от дома всегда дежурила машина. Он даже оборудовал дом «тревожной кнопкой». Будь его воля, он обнес бы его каменной стеной высотой в три этажа, выпустил во двор десяток тренированных доберманов-охранников и установил по периметру стены вышки для наблюдения, а взвод бойцов спецназа и установка ПВО вообще сделали бы его счастливым человеком.
Была еще пара вещей, которая сделала бы его счастливым человеком.
Он хотел бы увидеть Дэвида Данса за решеткой. Или еще лучше — мертвым.
И он страстно желал провести ночь с Кэтрин. И чем больше желал — тем с большей яростью гнал от себя эту мысль.
Чем больше он гнал от себя эту мысль — тем сильнее становилось желание.
Он уже не мог выносить ее присутствия. Точнее, конечно, ему приходилось с этим мириться, но он стал нервным и раздражительным. Сорвался на приходящую домработницу. Накричал на Айвори, которая потом полчаса рыдала.
Том почтительно обходил его стороной. И только Кэтрин ничего не боялась. Потому что ей с ним ничего не угрожало. При нем она без всякой видимой причины разбила стакан с молоком, выронила из рук, когда за окном громко проревел автомобильный гудок, и белая жидкость расплескалась по ковру вперемешку со стеклянными осколками. Кэтрин разразилась потоком почти беззвучных, но очень скверных ругательств.
— Извини, я сейчас уберу, — сказала она без тени раскаяния в голосе.
— Ничего страшного, — ответил он без тени раздражения: он испытал только интерес и некое умиление: надо же, такая скромница — а так бранится.
Но когда он разбил телефонный аппарат, швырнув его в стену только потому, что ему не понравился тон человека на другом конце провода, Кэтрин, похоже, не на шутку испугалась.
За ужином они с Томом были особенно молчаливы. Грег заметил, что Том старается есть побыстрее, чтобы как можно скорее убраться подальше из столовой, где висела грозовая туча. Может, она была не грозовая, и не туча вовсе, но очень уж высокое напряжение стояло в атмосфере.
Том в три укуса расправился с куском абрикосового пирога — Кэтрин в отпуске упражнялась в кулинарии — и попросил разрешения посмотреть телевизор в своей комнате.
— Да, конечно, милый, — рассеянно согласилась она и добавила строго: — А в десять чтобы свет был выключен и ты лежал в постели. Я проверю.
— Да, мам. Пока, дядя Грег. — Он опасливо покосился на Грега, будто легонько стрельнул глазами исподлобья, и помчался наверх.
— Он меня дичится. Я иногда смотрю, как он общается с этим парнем, Сэмом, и завидую.
— Сэм — еще мальчишка, даром что ему уже почти тридцать. Он очень мягкий, и у него явные педагогические наклонности. Он говорил, что намерен сменить работу — устроиться в школу.
— Это многое объясняет, — с присущей ему иронией, но несколько невпопад отозвался Грег.
— Мы живем у тебя уже полторы недели, — сказала Кэтрин.
— Да, — сказал Грег нейтральным тоном: он не знал, куда она клонит.
Кэтрин помолчала.
— Я чувствую, что мы стесняем тебя.
— Правда?
— Чистая.
— Странно. Потому что вы меня не стесняете нисколько.
— Странно, — с неожиданной язвительностью передразнила Кэтрин, — потому что ты всем своим видом показываешь, что это так.
— Неужели?
Кэтрин скомкала салфетку.
— Извини меня. Я нервничаю. Мне не нужно этого говорить, точнее — не нужно так говорить. Я понимаю твои чувства. У тебя была жизнь со сложившимся укладом, спокойная, важная, интересная работа, дома — все условия для того, чтобы доделывать незаконченные дела и отдыхать, а теперь все наперекосяк: ты взял на себя по моей просьбе огромную проблему — меня, да еще с ребенком. Том не хулиган, но все равно ребенок, и ему нужно бегать, прыгать и громко смеяться…
— Зачем ты мне все это говоришь?
— Чтобы ты видел: для меня очень ценно то, что ты взял меня к себе. Я благодарна тебе. Но дальше так продолжаться не может.
— Что ты имеешь в виду? — Грег ощутил, как что-то оборвалось внутри.
— Я думаю, что нам с Томом нужно уехать. Мы ничего не решим, сидя здесь.
— И куда ты поедешь?
— Не знаю.
— Что значит — не знаю?
— Именно это и значит. Только на этот раз я постараюсь спрятаться получше.
— Получше — это как?
— Сменю имя и фамилию. Может, профессию…
Про профессию она сказала с гораздо большей горечью, чем про имя.
— Пойдешь работать официанткой? Или продавщицей? Или уборщицей?
Грег все сильнее бесился с каждым своим словом. Эта женщина невыносима! Он готов убить любого, кто захочет поставить ее, великолепного, талантливейшего врача, за прилавок или дать в руки швабру — неужели придется убить ее саму?!
— А? Отвечай! Ты дура или нет?!
Он вскочил и выдернул ее из-за стола, крепко схватив за плечи. Тело Кэтрин напряглось как струна, он почувствовал это — и в нем вспыхнуло желание, да такое сильное, что опалило разум, затмило на мгновение сознание. Этого мгновения оказалось достаточно, чтобы притянуть ее к себе, близко-близко, и заглянуть в глаза, в самую глубину зрачков, и увидеть там…
Грег опомнился и оттолкнул ее почти грубо. Кэтрин ахнула.
— Что ты там себе надумала?! Прятаться до конца дней своих?! Позволить ему растоптать себя — не так, так эдак?!
— Да я уже прячусь! — взорвалась Кэтрин. — Только это бесполезно, он уже один раз нашел меня, и когда найдет во второй — вопрос времени! И ты меня не спасешь!
— Ты так в этом уверена?! Кэтрин расплакалась.
Грег остолбенел. Все его инстинкты шептали ему: обними, утешь, поцелуй, сделай что-нибудь… Его страх близости кричал в голос: нет, не делай этого, к черту все, если сейчас обнимешь — все, тебе конец!
«А почему конец? — отстранение подумал Грег. — Может, самое начало…»
Он сжал ее в объятиях и спрятал ее голову у себя на груди. Кэтрин дважды громко всхлипнула, а потом внезапно успокоилась. Это было так неожиданно, что Грег слегка отстранился, чтобы посмотреть: а правда ли она не собирается больше плакать?
— Я хочу убить его, — серьезно сказал Грег. Слишком серьезно. Да, эта мысль грешным делом приходила ему в голову, но он не додумывал ее до конца.
А это был бы выход…
Дьявол, что происходит? Это искушение ему, государственному обвинителю, человеку, который призван защищать закон и изобличать виновных?
Кэтрин покачала головой:
— Не надо. Я тоже хочу. Но не надо. Это грех. Том не простит, я не прощу — ни тебе, ни себе. Не так уж сильно я его ненавижу. Просто хочу, чтобы он оставил меня в покое.
Грег почувствовал, что она говорит чистую правду.
И тут же, почти без паузы, упала следующая фраза:
— Почему ты так переменил свое отношение ко мне?
— С чего ты взяла? — хриплым, чужим голосом спросил Грег.
— С самого начала я чувствовала, что ты мужчина, а я женщина. Между нами не то что искры — молнии сверкали. И не думай, что мне легко это говорить. Я слишком много выпила вина, наверное…
— С самого начала ты чувствовала… — подтолкнул он ее.
— Да.
— А теперь? Разве ты не чувствуешь этого теперь?
Много лет, даже будучи пьяным, Грег не испытывал головокружения. Он почти забыл, что это такое. Надо же — вспомнил… Ее тихий голос, казалось, тонул в грохоте его сердца. Тонул — но он все равно слышал. Или читал по губам. Он смотрел на движение ее губ — смотреть в глаза было нестерпимо.
— Теперь… чувствую. Но другое. Что ты мужчина, а я женщина, между которыми ничего нет и быть не может.
— Глупая женщина, — прошептал Грег и с тихим рычанием привлек ее к себе.
Это было как никогда.
Кэтрин хотелось умереть, чтобы спастись от того торнадо ощущений, что зрел в ней и готовился затмить разум, сорвать с нее все маски и приличия, закружить и перетасовать все мысли и представления о том, как это должно быть между мужчиной и женщиной.
Ей хотелось умереть — и тут же воскреснуть. Воскреснуть уже новой собой, лишенной стыда и стыдливости, жаркой, как лава в жерле вулкана, податливой, как разогретый руками воск. Чтобы отдаться Грегу, как она никогда никому не отдавалась. Чтобы он узнал ее настоящую. Она не знала наверняка, зачем это нужно, но догадывалась смутно, что без этого нельзя, не получит она и десятой доли того удовлетворения, которого жаждет, без которого изнемогает, сгорает изнутри…
Его первый поцелуй, которому исполнилось сегодня десять дней, подарил ей ощущение полета.
Его второй поцелуй, которым они отметили десятый день после первого, подарил ей саму себя.
Спальня была слишком далеко. Грег буквально втолкнул ее в кабинет, но она не сопротивлялась. Он не прекращал целовать ее и обнимать, и она радовалась этому, радовалась всем своим существом. Ей только хотелось раздеться, сорвать с себя одежду, чтобы полнее ощутить эту глубокую, животную радость.
Каждую ночь, что она провела в доме Грега, ей снились волки. Волки, которые занимались любовью. И самкой была она.
Кэтрин плавилась под его руками, под его губами, под его горячим, тяжелым и таким тренированным телом, плавилась и была счастлива этим, потому что она жаждала слиться с ним в единое существо, совершенное, прекрасное.
И ей это, кажется, удалось. Сегодня все ее желания исполнялись как по волшебству… волшебству, подаренному им самой Природой и Богом.
13
С этого вечера все стало иначе.
Иначе для Кэтрин. В ней словно разжалась некая пружина, которая не давала наслаждаться жизнью. Она сама удивлялась этому ощущению: ведь Дэвид все еще охотится за ней и Томом, ждет своего часа, может быть, ходит совсем рядом. Единственное объяснение, которое она видела, заключалось в том, что теперь ей стало не нужно тратить гигантское количество сил на удержание этой пружины.
Пружины, которая толкала ее к мужчине. К Грегу.
Он открывался ей с новой стороны — и ей очень нравилось то, что она узнавала. Оказывается, он бывает очень нежным, как теплый ветер, и тогда в его объятиях хочется раствориться и грезить наяву. А еще он бывает жестоким и яростным, даже в любовную игру переносит эти качества, и тогда ему так сладко подчиняться — или бороться, или самой превращаться в самку дикого зверя и мчаться вместе с ним навстречу блаженству. И еще Грег бывает веселым, смешливым, и тогда с ним одно удовольствие шутить и баловаться.
Кэтрин была счастлива, что они занялись любовью, потому что после этого она гораздо глубже узнала его как человека. И если раньше она тянулась к нему инстинктивно, как самка тянется к сильному самцу, то чем больше проходило времени, тем сильнее, пронзительнее, безогляднее она влюблялась в него.
Кэтрин молчала о своих чувствах. Она боялась все испортить. Им было очень хорошо вместе, так к чему усложнять? Даст бог, скоро закончится история с Дэвидом, и она сможет уехать от Грега.
Конечно, ей совсем этого не хочется, но ведь… Ведь он не звал ее к себе жить как любовницу. Наоборот, они стали любовниками во многом потому, что жили под одной крышей.
И каждый раз, когда Кэтрин отдыхала после ласк, скользя пальцами по безволосой мускулистой груди Грега, и слушала его мерное дыхание, она удерживала в груди три простых слова: «Я тебя люблю».
И пружина сжималась вновь.
Грегу казалось, что его закрутил водоворот. Мутная, горячая вода подхватила его и кружила, как щепочку. Происходило что-то важное, какое-то событие из тех, что меняют всю последующую жизнь, а он все не мог остановиться и понять — что это за событие и как оно повлияет на будущее.
С Кэтрин он словно помолодел лет на двадцать. И, как в семнадцать лет, ему не хотелось думать ни о чем серьезном. Он рад был бы, как беспечный юнец, блаженствовать в ее объятиях, наслаждаться ее близостью и ни о чем не думать.
Но не думать было нельзя — опасно. Он чувствовал теперь особенно остро, что ни за что на свете не отдаст ее Дэвиду Дансу. Потому что Дэвид, злодей и идиот, потерял всякое право на Кэтрин, на ее любовь, на ее ласки. И Дэвид не желал с этим мириться. Грег чувствовал это так же отчетливо, как чувствовал правую руку.
И Грег сам будет идиотом и злодеем, если позволит кому-то обидеть свою женщину.
Он хотел бы сказать — любимую женщину. Но не решался. Пока, по крайней мере. Пусть минет тревожная година, и тогда…
Кэтрин сломала в его жизни все: быт, отношение к женщинам, планы на будущее. В какой-то момент Грег явственно понял, что не желает планировать будущее без нее. Не желает — и все. Потому что ему повезло встретить красивую, умную, необычную, яркую женщину, упустить которую было бы величайшей глупостью на свете.
Нет, не поэтому.
Потому, что с ней его жизнь наполнилась красками, а еще ароматами и звуками, словно он вышел из душного, пыльного кабинета на цветущий горный луг.
Потому, что она такая… такая… Словом, он мечтал о такой женщине — верной, умной и всегда желанной.
И его святой долг как мужчины — защитить ее, ее и сына, к которому он тоже привязался, как к родному существу.
Вот только сделать это непросто.
Грег стал плохо засыпать по ночам. Утомленный любовной игрой, он часто подолгу лежал и глядел в потолок, ощущая, как сладко расплавляется, теряет четкие очертания тело там, где к нему прижимается Кэтрин. Он думал.
Дэвид ждет удобного момента, чтобы нанести удар. Грег знал это наверняка, мисс Грэхем на днях ходила в дом Кэтрин проверить, все ли в порядке, и обнаружила на автоответчике прелюбопытное сообщение: «Дорогая моя, ну неужели ты не соскучилась?»
Надежда на то, что Дэвид оставит их в покое, была нежизнеспособна. Надо было воевать. А Грег чувствовал, что у него за спиной ничего нет. То есть… Там только Кэтрин и Том, и он должен погибнуть, но спасти их. А погибать не хочется, особенно теперь. Значит, нужно думать, думать, выжидать тоже — и быть очень-очень умным.
Если бы у него были доказательства того, что Дэвид покушался на жизнь Кэтрин, все было бы в тысячу раз проще. Но доказательств не было. Его ходатайство судье о приставлении к Кэтрин вооруженной охраны не удовлетворили. Грег не раз задумывался о пистолете как об отличном способе решить проблему — в основном под утро после бессонной ночи, но потом гнал от себя эти мысли. Это не его оружие. В широком смысле слова.
И нужно найти свое — тот меч, который, как в древних легендах, ляжет в руку, словно специально созданный для нее, и поможет поразить врага.
Грег знал только один такой меч — Закон.
Это было волшебное утро, почти праздничное. Кэтрин обожала субботние утра, особенно такие солнечные, как сегодняшнее. В них равно приятно долго нежиться в постели и рано вставать, чтобы больше успеть.
Сегодня Кэтрин хотела успеть не так уж много, поэтому она, как и полагается заботливой жене и матери, проводила Грега на работу, где у него возникли какие-то срочные дела, настолько важные, что он весь будто горел огнем, сделала Тому, которого Грэй и Сэм брали с собой в музей авиации, несколько сандвичей в дорогу и вернулась в постель.
Сон не шел. Книга стихов Уитмена, которые Кэтрин так любила, сегодня оставила ее равнодушной. Кэтрин лежала на спине, заложив руки за голову, и смотрела в солнечные квадраты на стене и потолке.
Она устала сидеть в тюрьме. У этой тюрьмы нет решеток, но это не большое упущение.
Уже почти три недели она не выходила из этого дома. Даже на террасу! Грег не разрешал: говорил, что ни одна живая душа не должна видеть ее здесь. Кэтрин держалась изо всех сил. Хорошо, что в доме много комнат, хотя бы в этом она искала новые впечатления, да еще в Интернете и телевизоре. Никогда Кэтрин не смотрела так много ток-шоу и сериалов, как в эти дни.
— Все ясно, — сказала она себе. — Я превращаюсь в овощ.
Нет, пожалуй, во фрукт: метаморфозы делают ее сладкой и мягкой. Сидеть под домашним арестом — это одно, а сидеть под домашним арестом с любимым мужчиной — совсем другое…
— Грег, я тебя люблю, — прошептала Кэтрин.
Хотя бы так, хотя бы наедине с собой… Ей нужно было это сказать вслух. Кэтрин почувствовала в груди волнение, как будто она сделала что-то такое, после чего ее жизнь изменится.
— Ну наконец-то, — насмешливо проговорил Дэвид. — А я уж думал, ты всю жизнь будешь корчить из себя недотрогу.
Кэтрин вскочила с постели как ошпаренная. Больше всего она боялась увидеть в руке у бывшего мужа пистолет. Но Дэвид стоял в дверном проеме безоружный, по крайней мере, на первый взгляд.
Он скрестил на груди руки и небрежно оперся на косяк, наслаждаясь произведенным впечатлением. Дэвид всегда был немного позером.
— И что, правда любишь? — Циничная усмешка на губах Дэвида становилась все неприятнее.
— Не твое дело, — выплюнула Кэтрин. — Убирайся, иначе я вызову полицию.
— И что?
— Тебя посадят. Ты, как вор, пробрался в чужой дом…
— Ой-ой-ой, напугала! Знаешь, дорогая, если меня и посадят, то вовсе не за это. Наверное, в первую очередь все-таки за убийство. Жены.
Кэтрин отступила к кровати.
— Хочешь умереть на том самом месте, где он трахал тебя? Когда это было в последний раз? Вчера вечером? Сегодня утром? — Дэвид небрежно достал из-за пояса пистолет, сделал вид, что рассматривает ствол: не появилось ли новых царапинок?
— Не твое дело, — повторила Кэтрин и медленно опустилась на кровать.
Дуло пистолета, как глаз голодного хищника, мгновенно устремилось на нее. В животе что-то сжалось до боли. Как не хочется умирать. Как хочется жить! Особенно теперь…
— Не груби мне, золотце. Все-таки выбор за тобой. Видишь ли, ты умрешь непременно, потому что должна. Вопрос в том, будешь ты умирать медленно или очень медленно.
— Ты преуспел в искусстве пыток?
— На что ты надеешься, дура?! — Дэвид внезапно вышел из себя, его лицо исказилось в злобной гримасе.
«Боже мой, — подумала Кэтрин, — и это тот парень, который когда-то свел меня с ума… И это его я любила до беспамятства?» Она ужаснулась. Она не узнавала человека, с которым прожила шесть лет.
— Сказки кончились. Твой принц не придет. Он не успеет тебя спасти.
— Он усадит тебя на электрический стул.
— Не-а. Убийство в состоянии аффекта, знаешь ли… Так что не надейся. Он не спасет тебя. И даже не отомстит. А если попробует — что ж, будет дураком.
Кэтрин показалось, что она точно сейчас умрет, если не от пули, так от разрыва сердца. Но надежда у нее все равно была. Одна маленькая — или очень большая, она не понимала, — надежда, единственная, самая последняя.
И это был не Грег.
До сих пор она ничего не могла ему противопоставить. До сих пор она только бежала и пряталась от Дэвида. До сих пор она не сумела себя спасти!
— Дэйв… — сухим шепотом позвала она. Облизнула губы. Успеть бы… — Дэйв, ну почему все так?
Дэвид осклабился:
— Потому, что ты шлюха, из которой я хотел сделать королеву.
Надо же, королеву! Несвоевременно ироничная мысль.
А из королевы хотел сделать свою рабыню и возвыситься таким образом еще больше?
— Тебе не удалось, — одними губами проговорила Кэтрин.
— Не-е-ет! — разразился то ли воплем, то ли хохотом Дэвид и выстрелил в потолок.
Сразу за этим последовал другой выстрел.
Кэтрин снова лежала на спине и смотрела в потолок. Все ее тело было расслабленным, теплым, почти невесомым. Ей казалось, что она спит в горячей ванне, но только она не спала.
Грег сидел рядом и целовал ей руки.
— Милая моя, любимая моя… Прости, что меня не оказалось там.
Кэтрин ответила легкой улыбкой.
— Ты же видишь, я справилась.
— Да. Ты моя умница, ты моя отважная, ты моя…
— Скажи еще раз «любимая».
— Любимая!
— Как же хорошо… — Кэтрин глубоко вздохнула и прикрыла глаза. — Знаешь, у меня такое ощущение, будто я сейчас взлечу. Как думаешь, это от того, что мне укололи?
— Да, какое-то сильное успокоительное…
— Славная штука. — Кэтрин хихикнула.
— Прости меня, Кэтрин. Я не должен был уходить сегодня.
— Ерунда. Ты разве не понимаешь? Ты все равно меня спас, хотя и был в тот момент в другом месте. Если бы ты послушал меня и не клал под подушку, как последний псих, — Кэтрин блаженно улыбнулась, — заряженный пистолет, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. И… что еще важнее, ты подарил мне то, за что я готова бороться хоть с бывшим мужем, хоть с самим дьяволом. Знаешь, я рада, что его жизнь вне опасности. Если бы я его убила, моя совесть съела бы меня в полгода. А так… Я как будто убила свое прошлое. Себя слабую и себя униженную. И чуть-чуть убила его, своего мучителя. Отомстила.
— Я хотел рассказать тебе позже, но, наверное, надо сейчас. Дэвид в розыске в Колорадо. Хранение и распространение наркотиков. Дело серьезное. Из больницы его переведут в тюрьму.
— Возмездие сразу за все?
— Будем надеяться. А ты не удивлена, что он связался с наркотиками?
— Мне горько, но… Знаешь, сегодня я едва узнала в нем того человека, с которым прожила несколько лет. Он очень изменился. Наверное, так долго защищал негодяев за большие деньги, что сам стал негодяем. Надеюсь, все, кто с ним в одной связке, поплатятся, и поплатятся жестоко.
— А ты еще и беспощадная.
— Но справедливая. Мы с тобой очень похожи.
— Думаешь, поэтому я так сильно тебя люблю?
— Не знаю… Мне все равно почему. Ты только люби. Потому что я сама очень люблю тебя. И я надеюсь услышать те же слова завтра, когда безумное сегодня закончится и мы оба протрезвеем.
— Я люблю тебя. Ты услышишь. Обещаю.
Через год у Грега и Кэтрин Даллас родилась дочка.