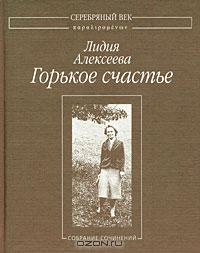
ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА. ГОРЬКОЕ СЧАСТЬЕ: СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
НАТАЛЬЯ СИНКЕВИЧ. ПЛЕМЯННИЦА АННЫ АХМАТОВОЙ. (Предисловие)
… И брошу в мир, как на последний суд,
В бутылку запечатанное слово –
И, может быть, у берега родного
Она пристанет и ее найдут.
Л.Алексеева
Мало кто из почитателей и даже из друзей известной поэтессы русского Зарубежья Лидии Алексеевой знал, что она — двоюродная племянница Ахматовой. Дед Алексеевой по материнской линии — Владимир Антонович Горенко — и отец Ахматовой, Андрей Антонович Горенко, — родные братья. То есть — мать Алексеевой и Ахматова были двоюродными сестрами.
С Лидией Алексеевой я познакомилась много лет тому назад в Нью-Йорке в ту пору, когда зарубежные писатели старшего поколения еще были полны жизненной и творческой энергии. В так называемом русском Нью-Йорке часто устраивались авторские вечера, лекции, чтения стихов. Иногда приезжали и заморские гости — русские парижане с громкими именами, например, Георгий Адамович, Ирина Одоевцева.
Лидия Алексеева почти всегда присутствовала на таких вечерах, нередко сама принимала в них участие, хотя выступать перед публикой не любила: неизменно кто-нибудь просил ее читать громче. «Не могу, такой у меня голос», — всё так же тихо отвечала она.
Голос у нее, действительно, был тихим, читала она монотонно, без всякой попытки драматизации; свои стихи «доносить» до слушателей не умела. Во всем ее облике была какая-то неяркость, старомодность — это касалось не только одежды и прически, но и манеры держаться и манеры говорить. Мне всегда казалось, что она идет куда-то мимо, многого не замечая. На литературных собраниях или в гостях сидела молча — сосредоточенная, спокойная и одинокая.
* * *
Лидия Алексеевна Девель (в замужестве Иванникова, Алексеева — псевдоним) писала мне, что родилась в Двинске в 1909 году, но считает своей родиной Севастополь, где провела все детство. Ее отец, потомок гугенотов (Dеvеllе), был полковником царской армии. В одиннадцатилетнем возрасте она, вместе с родителями, покинула Россию. Семья обосновалась в Югославии, где Алексеева прожила 22 года, окончив там русскую гимназию и получив филологическое образование в Белградском университете. В конце 1944 года она бежала от советских войск в Австрию; эмигрировала в Соединенные Штаты в 1949 году, приехала сюда с матерью и отчимом (муж остался в Югославии) — оба вскоре здесь умерли. Детей у нее не было. До самой смерти Алексеева жила в Нью-Йорке.
За свою долгую жизнь (поэтесса умерла 27 октября 1987 года) она опубликовала пять небольших поэтических сборников. Первый — «Лесное солнце» — вышел в 1954 году в издательстве «Посев», остальные она издавала сама на свои средства. В последний — «Стихи. Избранное» (1980 г.) — печатник забыл включить страницы содержания, что несколько огорчило автора. К сожалению, Лидия Алексеевна не дожила до выхода в России сборника «Поэтессы русского Зарубежья» (М., 1998), в который вошли почти все ее опубликованные стихи.
Я не знала никого из русских писателей в Америке, кто бы до такой степени, как Лидия Алексеева, существовал вне быта. На ум приходит имя лишь одного литератора: Вячеслав Клавдиевич Завалишин, который, живя в благоденствующей Америке, умер в беспросветной бедности. Алексеева не была бедна, но жила она в негритянско-пуэрториканском районе, где ютилась нью-йоркская беднота. Невероятно запущенная ее квартира помещалась на первом этаже некогда презентабельного дома и была легкой добычей грабителей-мальчишек: в отсутствие хозяйки они не упускали случая пробраться в квартиру. Тянули они все, что можно было продать, хотя бы за бесценок. В полной сохранности оставались только книги и бумаги — вещи совершенно бесполезные для их воровского рынка, будь они даже на понятном языке. Дважды мальчишки стащили и русскую пишущую машинку; третью Лидия Алексеевна не приобрела, махнула рукой: все равно унесут. (Стихи для редактируемого мною ежегодника «Встречи» присылала написанные от руки.) Уходя из дома, оставляла несколько долларов с запиской, что наличных денег в квартире больше нет. Говорили, что она не умеет сварить даже яйцо, и это не было гиперболой.
По приезде в Америку Алексеева недолго работала на нью-йоркской перчаточной фабрике, затем эстонский поэт Алексис Раннит устроил ее в славянский отдел Нью-Йоркской Публичной библиотеки, где она благополучно прослужила до выхода на пенсию. (У Алексеевой есть переводы стихов Раннита, она была хорошим поэтом-переводчиком.)
Долгие годы Лидия Алексеевна дружила с Ольгой Николаевной Анстей, первой женой поэта Ивана Елагина. Анстей не только сама писала хорошие стихи, но умела вдохновлять других.
Помню нью-йоркский авторский вечер Алексеевой, устроенный Ольгой Анстей в небольшом зале ныне уже не существующего Свято-Серафимовского Фонда. Зная, как трудно Алексеевой выступать перед публикой, Анстей сама читала многие стихи своей подруги, декламировала их с характерным для нее интонационным маньеризмом, немного резко, но уверенно и четко, всячески стараясь способствовать успеху вечера.
Почти двадцать лет Ольга Анстей боролась с тяжелой болезнью — раком. В последние годы ее жизни Лидия Алексеевна регулярно навещала больную. В одно из таких посещений она, войдя в квартиру Анстей, упала и сломала бедро. Для Алексеевой это было началом конца. Несмотря на операцию и все усилия врачей, Лидия Алексеевна по-настоящему уже не поправилась. Стихи перестала писать вскоре после смерти Анстей в 1985 году. Воля не только к творчеству, но и к жизни у нее постепенно угасла. И наконец она тихо скончалась в нью-йоркской больнице, категорически отказавшись от дальнейших врачебных усилий продлить ей жизнь.
Когда после похорон друзья поехали на квартиру поэтессы — торопливый «управдом» уже очистил ее для новых жильцов. Весь архив и все книги странной квартирантки он сжег вместе с другим мусором. Известно, что она ни о чем не позаботилась и ничего никому не завещала.
Сейчас сборники Лидии Алексеевой достать очень трудно. Те, у кого есть скромно изданные прижизненные ее книжечки, расставаться с ними не хотят. Тираж московского сборника «Поэтессы русского Зарубежья» уже разошелся. Я бережно храню пять сборников Алексеевой — три из них с дарственными надписями, выведенными легко читаемым почерком.
* * *
После выхода из печати последнего алексеевского сборника я специально поехала в Нью-Йорк, чтобы встретиться с ней. Помню, мы долго сидели в кафе и она неторопливо рассказывала о себе, называла свои стихи несовременными и непопулярными. Меня она причисляла к «модернистам», хотя благосклонно относилась к моим стихам, может быть, потому, что симпатизировала лично мне. Хорошо отзывалась о моей работе над поэтическим ежегодником «Встречи». Но многих поэтов, печатавшихся во «Встречах», не признавала. Лидия Алексеевна говорила, что не умеет «делать» стихи, заставлять себя писать, когда нет настроения, чему, по ее словам, научились «воскресные художники», сочиняющие свои опусы по выходным дням. «Заставить себя рифмовать можно, но это не будут подлинные стихи». Подборки для публикации во «Встречах» она присылала регулярно. Для этого ей приходилось рыться в своих архивных дебрях, раскапывать что-нибудь «печатное», так как последнее время уже ничего не писала.
В ту нашу нью-йоркскую встречу я впервые узнала, что Алексеева — родственница Ахматовой. На мой удивленный вопрос — почему она никогда об этом не говорит, ответила: «Зачем же мне быть в тени громкого имени»? И мало кто знал, что в Нью-Йорке с сороковых годов до смерти в 1979 году жил, приехавший из Китая, родной брат Ахматовой Виктор Андреевич Горенко.
Георгий Адамович в статье, посвященной «Реквиему», отмечает ту гордость, с какой Ахматова говорит о том, что народа своего в несчастье не бросила: «”Нет, и не под чуждым небосводом, / И не под защитой чуждых крыл” — была она в те годы…» И отвечает на это: «Мы совсем не оттого прожили свою жизнь и, конечно, умрем на чужой земле, что предпочли быть «под защитой чуждых крыл». Не оттого и не для того. Я уверен, что Ахматова это понимает. Если она утверждает, что выбор ее был продиктован ей совестью, то должна бы признать, что без всяких сделок с совестью можно было счесть единственно верным и другое решение». «Другое решение» принял эмигрировавший брат Ахматовой — Виктор Андреевич, с которым она переписывалась, получала от него посылки. Адамович о его существовании, по-видимому, не знал. Известно, что оба ньюйоркца — Алексеева и Горенко — ни разу не встретились.
* * *
Литературная судьба Алексеевой сложилась счастливо. Я говорила ей об этом, и она охотно соглашалась со мной. Стихи ее любили почти все, даже взыскательные критики. Явление это редкое, ибо собратья по перу не только хвалили друг друга в прессе, но часто и «подкалывали». Критиковали легко ранимого Елагина, упрекали Чиннова, придирались к Берберовой, известно, как воевали друг с другом Георгий Иванов и Ходасевич… Чаще всего критики были далеко не беспристрастны. Недаром Елагин писал: «…Критик в тебя влюблен, / Критик кричит "ура!", / Если с тобою он / Из одного двора. / Если же ты чужой — / Влепит тебе вожжой». Эти "писательские страсти" не коснулись Алексеевой. Поэзию ее хвалили в печати, читатели писали ей восторженные письма, поэты различных поколений относились к ней с большим уважением. Она участвовала в трех самых известных зарубежных поэтических антологиях: «На Западе» (1953), «Муза Диаспоры» (1960), «Содружество» (1966) и печаталась во всех серьезных зарубежных журналах.
Чем же объяснить такое всеобщее прижизненное признание? Разве в то же самое время не писали здесь другие поэты — драматичнее, своеобразнее, ярче, современнее (рискованное слово: что означает оно в поэзии?), разве не писали с большим техническим блеском, с большей тематической широтой? Да, писали. Но, пожалуй, никто из них не обладал той неподдельной честностью творческого выражения, какой обладала Лидия Алексеева. Не было у нее поэтической позы ни в жизни, ни в поэзии.
Любившая каждую букашку в траве, и лесные поляны, и рощи, и полевые цветы, волею судьбы она должна была жить в одном из самых больших и шумных городов мира, своими камнями уничтожающего любимую ею природу. Конечно, можно было куда-нибудь уехать. Но получить работу женщине не первой молодости, без ходкой профессии и без хорошего знания английского языка — довольно трудно даже для «пробивного» человека, коим Алексеева никогда не была. Держал и русский литературный Нью-Йорк, неотъемлемой частью которого была она сама.
О Нью-Йорке она не писала. Сказать о городе (где прожила она сорок лет!) было нечего. Есть, правда, стихотворение о памятнике Данте, который стоит перед зданием Нью-Йоркской Публичной библиотеки:
Черный Данте в облетевшем скверике
Замышляет бронзовый сонет.
Поздний вечер наступил в Америке,
А в его Италии рассвет.
Ветер над долиною этрусскою
Розовые гонит облака,
И проходит улочкою узкою
Тень твоя, блаженна и легка.
Беатриче, нет тебя желаннее…
Семь веков, как семь весенних дней!
И опять – любовь, стихи, изгнание,
Мокрый снег и быстрый бег огней.
Но это стихотворение, конечно же, не о Нью-Йорке. Из всего небоскребного города поэтесса выбрала «прямоугольную бездну» дома, в котором жила сама — не все ли равно как?
…Над двором, прямоугольной бездной,
Тусклый дом безрадостно возник,
Перечеркнут лестницей железной,
Словно неудачный черновик…
Из такого дома, этаж за этажом перечеркнутого зигзагом железной пожарной лестницы, поэтесса уезжала летом в отпуск — обязательно куда-нибудь на лоно природы — и привозила стихи о деревьях, о лесной живности, о грибах, о солнце… Или накапливала впечатления, рождавшие затем медитативно-созерцательную лирику с тихо звучащей элегической нотой.
Мир природы у Алексеевой хрупок и незащищен от человека, бездумно и бесцельно его уничтожающего: если растет цветок — сорви его. В мироощущении поэтессы было много от Швейцера, от его благоговения перед любой формой жизни.
…Я тройчатку желудей нашла,
Гладких, плотных, буровато-ржавых,
Тесно севших в чашечках шершавых, –
И домой в кармане привезла.
Пальцы их бездумно извлекли,
Бросили – случайная причуда –
Трех дубов несбывшееся чудо,
Отнятое мною у земли.
«Хочу упасть на эту землю ниц, / Просить прощенья у зверей и птиц…» — у этого художника не пустая фраза, не случайное поэтическое настроение, быстро проходящее со сменой впечатлений и мыслей. Нет, Алексеева по-настоящему любила зверей — домашних и диких. Она умела писать о них светло и просто, ощущая родство «кровное со зверем, травное с землей». «Но молюсь, как о малом чуде, / Богу милости и тепла, / Чтоб кота не спугнули люди / И чтоб ярче герань цвела», — пишет она.
Из домашних животных Алексеева особенно любила котов, постоянно кормила этих бездомных ньюйоркцев, находивших к ней дорогу. В одном из стихотворений она рассказывает о верности зверя своему, пусть разрушенному, пусть непригодному для жилья, но все же родному дому:
Старый кот с отрубленным хвостом,
С рваным ухом, сажей перемазан,
Возвратился в свой разбитый дом,
Посветил во мрак зеленым глазом.
И, спустясь в продавленный подвал,
Из которого ушли и мыши,
Он сидел и недоумевал,
И на зов прохожего не вышел.
Захрустело битое стекло,
Человек ушел, и тихо стало.
Кот следил внимательно и зло,
А потом зажмурился устало.
И спиной к сырому сквозняку
Он свернулся, вольный и надменный,
Доживать звериную тоску,
Ждать конца – и не принять измены.
* * *
Россию Лидия Алексеева помнить хорошо не могла, попав за рубеж в детском возрасте. Но тема родной земли у нее есть, и она так же подлинна, как и все ее творчество. Конечно, Алексеева не предавалась шаблонным вздохам по белым березкам. Нет, ее строки и здесь написаны с чувством настоящей, невосполнимой потери. Приведу одно из таких стихотворений, с характерной прописной буквой в обращении к России:
От родников Твоих ни капли нет во мне,
Питают кровь мою давно другие страны, –
И Ты – лишь быстрый вздох в передрассветном сне,
Лишь тонкий белый шрам переболевшей раны.
Но, может быть, не так? И это Ты зовешь
И под ноги бежишь, как вечная дорога,
И мне перешагнуть ревниво не даешь
Чужого, равнодушного порога?..
Нет ни одного серьезного поэта, не писавшего о смерти. Алексеева не кокетничала с этой темой, не драматизировала ее, как встречается это иногда у молодых поэтов, воздыхающих о близком конце, а затем здравствующих еще добрые полстолетия. Нет, она и здесь верна себе, своему чувству меры. Сборник «Время разлук» (1971) она закончила четверостишием, поразившим меня глубоким смыслом:
Не спрашивай, что будет там, потом,
Когда настанет миг прощанья и свободы, –
Ведь если что-то ждет – какое чудо в том!
А если ничего… Какой великий отдых!
Но покуда длилась земная жизнь — она любила ее просто и верно, в лучших своих стихах выпевая благодарность за все живое вокруг. В последнем стихотворении последней книжки (она знала, что ничего уже больше не издаст) она поблагодарила жизнь — «…За все богатство дружбы и любви, / И тонкий холод одиноких бдений, / И за броженье светлое в крови / Готовых зазвучать стихотворений, — / Со всем прощаясь — и не помня зла, / Спасибо, жизнь, за то, что ты была!»
СТИХОТВОРЕНИЯ
ЛЕСНОЕ СОЛНЦЕ (Франкфурт-на-Майне, 1954)
«Я привыкла трястись в дороге…»
Я привыкла трястись в дороге,
И не будят тоски во мне
Спящий кот на чужом пороге
И герань на чужом окне, –
Но молюсь, как о малом чуде,
Богу милости и тепла,
Чтоб кота не вспугнули люди
И чтоб жарче герань цвела.
«Хорошо бы снова…»
Хорошо бы снова
Стать веселой деткой –
Прятаться от няни
За сквозной беседкой;
Сторожа лягушек
Над прудом атласным,
Уронить в крапиву
Мячик синий с красным, –
И, ожегши пальцы,
Жаловаться маме
Светлыми, большими
Детскими глазами.
«Склянки над бухтой знакомой…»
Склянки над бухтой знакомой,
Чайки, дельфины, буйки…
Дом, называемый «дома»,
Многим домам вопреки.
Запах полыни, арбуза,
Моря, смолы и тепла,
Где босоногая муза
Первой подругой была.
Помнишь, стояли с тобою,
Муза, в идущей волне?
Рифмы, как шелест прибоя,
Свежие, плыли ко мне.
В бухте играли дельфины,
Черным мерцая горбом…
Странно с далекой чужбины
Глянуть в разрушенный дом.
Слышишь, сквозь грохоты шквала,
Видишь, за безднами вод, –
То, что разрушено, – встало,
То, что умолкло, – поет.
ЯЛИК
Там, где лодки на причале
Чуть поводят сонным дном,
На песке смоленый ящик
В блеске черном и тугом.
Бьет о берег влажным хрустом
И назад шипит прибой.
Теплый воздух пахнет густо
Высыхающей смолой.
Пахнет сочно, пахнет звонко, –
Черным блеском говоря
Сердцу чайки и ребенка,
Ялика и дикаря.
В ЗАХОЛУСТЬИ
За черешнями свежеющего сада
Золотая облачная стыль.
Промычало, протопталось стадо,
Поднимая розовую пыль.
У калиток, меж крапивы чахлой,
Поплескали звездчато водой, –
Беглым ливнем улица запахла
И молочной сладостью парной.
Замутился рдяный жар стекольный,
Острой струйкой зазвенел комар…
И неспешно с выси колокольной
Медным яблоком упал удар.
«Так тебя нетерпеливо…»
Так тебя нетерпеливо
Весело и тайно жду –
Словно вместе крали сливы
В вечереющем саду, –
И теперь в мою неволю,
В утомительную ложь
Ты мне краденую долю
Непочатою несешь.
ВЕЧЕР
Солнце ниже, ласковей, янтарней…
В нем медовое дыханье лип,
Теплый запах хлеба из пекарни
И дверей ее певучий скрип.
Печь внутри пылает зевом красным
Ярче, ярче… И блеснет тогда
В небе обесцвеченном и ясном
Легкой каплей первая звезда.
Перед сном скликаясь в гуще сада,
Защебечут разом воробьи
И уснут. И с медленной отрадой
Мирный день сомкнет глаза свои.
«К земле приникнув, теплой и шершавой…»
К земле приникнув, теплой и шершавой,
Пью мягкий шорох ветра надо мной.
Так тонко пахнут сохнущие травы –
Ушедшим детством, счастьем, тишиной –
Всем, что в потемках жизни растеряла –
И вот вдохнула в травяном тепле.
Ведь мне, покорной, надо очень мало
Для грустной благодарности земле.
«Ежевика, комары…»
Ежевика, комары,
Теплый рокот дома;
В роще крики детворы:
«Дома, дома!» – Дома?..
Нет, такому не бывать,
Всё взлетело дымом.
Не мечтай, моя тетрадь,
О неповторимом.
СЕСТРЕ
Промолчав, улыбнешься мне:
Не ответишь ненужно-резко.
У тебя цветы на окне
И узорная занавеска.
Хорошо с тобой отдохнуть
Помечтать в кружевном затишье, –
И опять в мой жестокий путь,
И опять всё круче и выше…
Голубеет моя гора,
Встал туман прохладный и тонкий.
Вот и ночь. Помолись, сестра,
О твоей бездомной сестренке.
«От жизни отойдя в сторонку…»
От жизни отойдя в сторонку,
Ее, как поезд, пропустив,
Я проводила тех, кто жив,
Платочком помахав вдогонку.
Так тихо на пустом перроне.
Быть может, поезд был во сне?
И ты, в исчезнувшем вагоне,
Как он, как жизнь, приснился мне?
«Адам и Ева изгнаны из рая…»
Адам и Ева изгнаны из рая
В пределы скорби, страха и забот.
Здесь смертью веет тишина ночная
И солнце лаской смертоносной жжет.
Весь дикий мир дарован нам на муку,
На черный труд. А горестный покой, –
Когда сжимаешь любящую руку
Усталою и любящей рукой,
Когда, без слов всю душу отдавая,
Родным и скудным греешься теплом, –
Последний дар утраченного рая
В огромном одиночестве земном.
«Дни летят, летят, не уставая…»
Дни летят, летят, не уставая,
Спотыкаясь, падая, спеша, –
А за ними еле поспевает,
Словно изумленная, душа.
И беспомощно влачится с ними
То в надежде робкой, то в тоске,
Как котенок на весенней льдине
В черной и взволнованной реке.
«Догорали елочные свечи…»
Догорали елочные свечи,
Пахло воском и паленой хвоей.
На дворе был светлый, синий вечер,
Озаренный снегом и луною.
Там, в морозной тишине, далёко
Поезда колеса простучали…
Я одна, но я не одинока –
Ты всегда со мной в моей печали.
«Остановилось солнце надо мной…»
Остановилось солнце надо мной
В молчании горячем и блаженном.
День светится сухой голубизной
И пахнет роща теплым, легким сеном.
Стучится дятел в гулкую кору,
И стрекоза на стебельке застыла…
Так странно знать, что скоро я умру,
Что я умру – и будет всё, как было.
И маленький упрямый муравей
Оступится под тяжестью былинки,
Переползая след ноги моей,
Последний след на солнечной тропинке.
И на коре березы волос мой
Всё будет виться и дрожать, играя,
Меня последней ниточкой живой
С оставленной землей соединяя.
«За мной гудок стремительный и грубый…»
За мной гудок стремительный и грубый,
Упругий гул: «Посторонись! Сотру!..»
Ты вся откинулась. Раскрыты губы,
И пестрый шарф трепещет на ветру.
И нет тебя. Лишь черная долина,
Да горный кряж в пылающей красе,
Да пыльный запах теплого бензина
Над призрачно белеющим шоссе.
ДАЛМАЦИЯ
Здесь море дышит тяжкой синевой –
В текучих блестках солнечного крапа.
Над ним обрыв рыжеющий. С него
Агава свесилась когтистой лапой.
Всё то же небо знойно–голубое
В зубцах, в бойницах крепостной стены,
А там, внизу, – то белый взрыв прибоя,
То миг солоноватой тишины.
И в тишине – прозрачный, легкий звук
Далекой песни, тающий, как эти
Живые брызги на песке столетий,
Как горизонта синий полукруг.
В ДОРОГЕ
В соснах солнечного сада
Разорвалось сердце звоном, –
Сохнет мертвая цикада
На пороге раскаленном.
Но душа ее в напеве
Из скорлупки вышла тесной
И теперь звенит на древе
Нашей родины небесной.
«Тонкий посох в руках, надо мной голубая пустыня…»
Тонкий посох в руках, надо мной голубая пустыня,
Ветерок в волосах, и весь мир – как родная страна:
Только в нем ничего-ничего не имея отныне,
Я впервые любить его мыслью и сердцем вольна.
Как росистый цветок, отделенный от ветки осенней
И свершающий в солнце последний, чудесный полет,
В свете славы Твоей так скольжу я, подобная тени,
Но весь мир в моем сердце пылающей каплей цветет.
«Лег черной глыбой, грубой и сырой…»
Лег черной глыбой, грубой и сырой,
Обломок горный в белом водопаде
И расчесал седое серебро
На две живых, на две кипящих пряди.
Разорванные грузною скалой,
Они сольются снова в пенном звоне,
Чтоб унести стремительно и зло
Свой зыбкий бег от каменной погони.
Но недвижим обломок древних гор,
Упрямо вросший в грохот и струенье,
Как в вечность устремленный взор
Поверх земного, тленного цветенья.
«Раскрыв тяжелый старый чемодан…»
Раскрыв тяжелый старый чемодан,
В его морщинистой и проржавевшей пасти,
В пыли и мусоре, я обрела роман, —
Он начинался прямо с пятой части.
Старинный перевод. Звучал его язык
Чуть-чуть неточно, важно и манерно.
Вот кто-то подчеркнул: «любовь – роскошный миг» –
И четко приписал: «Увы, как это верно!»
А в тонкой затхлости слежавшихся страниц
С зачитанными мягко уголками —
Сухая роза дедовских теплиц
Прозрачными крошилась лепестками.
«На дне морском, куда не смеет луч…»
На дне морском, куда не смеет луч
Свое легчайшее просеять пламя,
Лежит три века исполинский ключ
От крепости, разрушенной врагами.
Но ключ не знает. Он, считая дни,
Ждет мужа, облеченного в порфиру…
Так сердце верность тщетную хранит
Уже не существующему миру.
ГОД
Я люблю оборот многоцветной твоей карусели,
Год земной, золотой, и зеленый, и белый, как лунь, —
Бури терпкого марта, цветущие вишни в апреле,
Пьяный, солнечный май и спокойный зеленый июнь
Будет рушить июль свои жаркие грозы нещадно
И медвяный и светлый струиться из августа сок,
И сентябрь подойдет, и тихонько рукою прохладной
Он приспустит на небе сияющих дней колесо.
И сквозь иней еще просияет прощально природа
Золотым октябрем, ржавым пурпуром листьев горя,
И, как долгие, долгие сонные сумерки года,
Будут биться, и плакать, и мерзнуть дожди ноября.
Закружатся снежинки бесшумною, белою пляской,
И рождественской елкой запахнет декабрьская мгла,
И мохнатый январь, новогодней пленяющий сказкой,
Будет виснуть сосулькой за льдистым рисунком стекла.
Будут пышны сугробы и сини студеные тени,
Будут яркими искры и звонкой морозная сталь…
И сквозь белую смерть, сквозь глухую метель сновидений,
Как ребенок во сне, шевельнется несмело февраль.
«Деревянной кончил точкой…»
Деревянной кончил точкой
Дятел выстуки свои.
По стволу сквозной цепочкой
Заструились муравьи.
Прямо в легкую страницу
Бухнул ошалевший жук, –
Только лень пошевелиться,
Не поднять блаженных рук.
Мягкий ветер влажно-нежен,
И суставы все полны
Этой солнечной и свежей
Сладкой тяжестью весны.
«Сизый дым облаков…»
Сизый дым облаков
По весеннему небу ползет.
Влажный шорох кустов,
Мокрый лепет деревьев растет, —
Косо хлещет, шипит,
Нарастает упругая мощь,
В черных лужах кипит
Пузырьками плывучими дождь.
Вдруг — покой, ветерок,
Золотистого света волна,
В мокром блеске дорог,
В ярких каплях весны — тишина;
Выше ласточек лёт
И звончее детишки кричат,
А у самых ворот
Две лазурные лужи стоят.
ВЕСНА В БОЛЬНИЦЕ
Зазвенело капелью с утра, воробьи затрещали,
Небо приторно-сине, до боли, прилипло к стеклу.
Из палаты напротив — носилки, мертвец. Циан-кали…
Кто-то шторку отдернул, и солнце легло на полу.
Вот несут через двор, через снег, как-то тупо кивая всем телом.
Говорят — молода, хороша; говорят — только жить да плясать.
Всё весна. От нее в голове и в груди опустело,
Снова слабость, озноб, и в кривой — тридцать восемь и пять…
Все сиделки сбежали. Флиртуют опять с санитаром…
Вон белеют на солнце, смеются, галдят на крыльце,
Как здоровы, как грубы, как всё это пошло и старо!
Позвонить? Помешать? Боже, сколько досады в лице!
Оторвали от солнца, зовут к опостылевшей клетке.
Стынет скука в глазах: «Капли, грелку?» Бежит принести.
В одеяло уткнешься, шерстит… Слезы солоны, слабы и редки…
Хоть бы кто приласкал. Не пускают. От трех до пяти.
«Пень и ромашка. Убитая птица…»
Пень и ромашка. Убитая птица
Плоско припала к земле:
Ветер вчерашний высокий ей снится,
Пух ворошит на крыле.
Липко толкутся зеленые мухи
К сладости смертного сна…
В сочной крапиве и в пепельном пухе
В теплом пеньке — весна.
«На серой туче — дерево в цвету…»
На серой туче — дерево в цвету.
На тяжкой влаге — розовые ветки…
Вот капнул на щеку, разбился на лету,
Залепетал крупнеющий и редкий,
И так запахла черная земля,
Такою свежей сладостью и силой —
Над чуждым городом. Над башнями Кремля.
И над твоей потерянной могилой.
«Пахло сыростью свежей, грибной…»
Пахло сыростью свежей, грибной
И мохнато-корявою чашей…
Каждый шорох сбирала лесной
Тишина в кузовок шелестящий.
Расступились стволы не спеша,
Пни накренили сизые плешки.
Любопытством веселым дыша,
Розовели во мху сыроежки.
За прозрачной и зыбкой листвой
Зеленело прохладное солнце –
И один только луч огневой
Упадал в голубое оконце.
Сух и жарок был светлый поток —
И его золоченою пылью
Заплутавший степной мотылек
Полоскал свои зябкие крылья.
Свежей сыростью пахло в лесу.
Тишина обходила дорожки.
Мне казалось — я душу несу,
Словно птенчика, в сжатой ладошке.
А когда на опушке, у пня,
Теплый ветер навстречу мне хлынет, –
Серый птенчик порхнет от меня
И растает в пылающей сини.
В ЛЕСУ
Не боюсь ни растрепанных леших,
Ни зеленых болотных чудес, –
Словно крепкий кедровый орешек,
Пахнет солнцем полуденным лес.
Я иду и ладонью ласкаю
Розоватые сосен стволы,
В липких пальцах, как воск, разминаю
Удлиненные капли смолы.
Вдруг зажмурюсь на яркой полянке,
Травы теплые бережно мну…
Тонконогой и влажной поганке,
Словно старой знакомой, кивну.
Сбросит белка упругую шишку,
Сочно стукнет меня по плечу,
И – по веткам, комочкам, вприпрыжку…
И я быть этой белкой хочу.
ГРОЗА
Далекий гром, как встрепанный медведь,
Ворочался в глухом берложьем гневе.
Скользила зыбь по выжженной траве
И содрогались шорохом деревья.
И мгла сгустилась — и удар упал,
Короткий, ослепительный и грубый;
Ему навстречу, радостно-слепа,
Земля раскрыла жаждущие губы.
И шумный ливень рухнул и приник,
Запах листвою резаной и свежей,
И вымыл корни, и насытил пни,
И ослабел — стал ласковее, реже.
Затих совсем. И над сияньем луж,
И над узором млечно-рыжей пены —
От ветки к ветке, от ствола к стволу
Плыл ветерок прохладный и блаженный.
ЛЕТО
Арбуза розовая плоть
В седых крупинках влаги,
И хлеба черного ломоть
Над ручейком в овраге.
Короткое блаженство сна,
Горячий ладан хвои.
А с неба — зной и тишина,
Дыханье огневое.
Но Кто-то в серой синеве,
В молчаньи благосклонном,
Внимает, как в сухой траве
Сверчки исходят звоном.
Мне кажется — звеню и я,
И я — сверчок сегодня,
Вкусивший солнца бытия
Из пригоршни Господней!
«Белый камень горяч и покат…»
Белый камень горяч и покат,
Море шепчет все мягче и глуше…
Рядом старый смоленый канат
Свои петли удавные сушит.
Я в шершавую петлю уткнусь,
Укрываясь от синего зноя.
Свеж и груб ее запах. И грусть
Ветерком полыхнет надо мною.
Ты, размытый прохладой зыбей,
Ты, скитавшийся в море далече,
Ты, разлуку избравший себе
Для стократ возмещающей встречи.
Ты, овеявший бурей круги,
Побелевшие серо и чисто,
Ты, летавший арканом тугим
Обнимать долгожданную пристань,
Расскажи, что почувствовать мог
В час, когда подплыла величаво,
Словно каменный теплый цветок,
Золотая вечерняя гавань;
И еще, если можешь, скажи —
Если есть этим мигам названье, —
Как ты мог, как ты мог пережить
Смертоносное счастье свиданья?
ПОСЛЕ НАЛЕТА
Ударом срезана стена —
И дом торчит открытой сценой
Для улицы, где — тишина
Под ровно воющей сиреной.
Отбой… Но лестница назад –
Лежит внизу кирпичной грудой,
И строго воспрещен возврат
Наверх, в ушедшее, отсюда.
Смотри, на третьем этаже,
Вся розовая, как в Помпее
Раскрыта комната — уже
Не смеющая быть моею.
В сквозные окна льется свет,
Стоит на полке том Шекспира,
И на стене висит портрет
И смотрит из былого мира.
Мне не войти туда, как встарь,
И не поправить коврик смятый,
Не посмотреть на календарь
С остановившеюся датой.
…А здесь, внизу, под кирпичом,
В сору стекла, цемента, пыли,
Квадратный детский башмачок,
Который ангелы забыли..
«Твердый угол чемодана…»
Твердый угол чемодана.
Пальцы в рукава.
Крепкой дробью барабанной
Бьется голова.
И, колес внимая бреду,
Вытканному тьмой,
Я опять куда-то еду —
Только не домой.
«Прочь от цели, прочь от цели», —
Мне бормочет бред…
Дни, века, года, недели?..
Сроков больше нет.
ЗИМА НА БРОДВЕЕ
Ветер мусор несет по Бродвею. Дрожит негритенок
И сосет почерневший на пыльном морозе банан.
Веет ветер с Гудзона — и мечутся чайки, и тонок
Над свинцовой рекой океанский соленый туман.
В нем прошел пароход заржавелый, мечтая о доке,
Взбил недолгую пену усталой и круглой кормой…
Вот неоновый бар— апельсиново светятся соки.
Мальчик в клетчатой блузе вприпрыжку несется домой.
На киоске газеты кричат чернотой заголовка
О разводе актрисы – и шепчут, что сдали Китай…
А в окне небоскреба булавочной смотрит головкой
Кто-то верящий в мир, демократию, будущий рай.
В БРАЙАНТ-ПАРКЕ
Подводным светом голубеют бары,
То вспыхнет пурпуром, то гаснет вход,
А ветер, подметая тротуары,
Поземку черной копоти несет.
И, глядя сквозь мерцающие двери
В тепло, и свет, и молодость свою,
Уснул бродяга в облетевшем сквере,
Скользнув лицом на темную скамью.
ДОМ НА МАНХЭТТЕНЕ
Над двором, прямоугольной бездной,
Тусклый дом безрадостно возник,
Перечеркнут лестницей железной,
Словно неудачный черновик.
Но за мутью всех незрячих окон,
Слой над слоем и из года в год,
Кто-то вьет свой человечий кокон,
Кто-то плачет, курит и поет.
Чье-то сердце там упрямо бьется,
Чьи-то в копоти цветут мечты…
А на дне бетонного колодца
Бродят одичалые коты.
«Забытая газета под скамьей…»
Забытая газета под скамьей;
Ее листает перелетный ветер,
Чуть шелестнув передовой.
Что ветру в человеческой газете?
Шныряет белка в легкой скорлупе,
Напрасно ищет съеденные зерна, –
А я одна бреду в чужой толпе,
Ища, как белка, тщетно и упорно.
И думаю – быть может, я слепа?
Быть может, это братья, а не тени?
Но прошлого сухая скорлупа
Хрустит в ответ, хрустит листом осенним.
МОЙ ТИРОЛЬ
Дыханьем пью твой ветер, высота,
Что облаков касается крылами…
Здесь так прозрачное солнечное пламя,
А тишина блаженна и чиста.
Лишь медный колокольчик иногда
Бренчит внизу переходящим звоном,
Там, по уступам, по зеленым склонам,
Где ползают далекие стада.
А здесь, у солнцем выбеленных пней,
Где низки травы и цветы их дики, –
Коралловые бусинки брусники
В ладони собираются моей.
И, как монах, что шепчет древний стих,
Роняя четки струйкою янтарной, –
С молитвою простой и благодарной
Тебе, Господь, я посвящаю их!
ГОРНАЯ ПАРУБКА
Вот сливочные, длинные – по склонам
Повержены, разделаны стволы, –
И пахнет кедром, ладаном, лимоном
Роса светло сочащейся смолы.
К земле любимой, каменисто-бурой,
В последний раз припали тяжело…
От содранной коры – от снятой шкуры –
Идет живое, древнее тепло.
Тропинка вся в еловых колких лапах,
Мелькают шишки в тесной чешуе, –
Такой рождественский, щемящий запах,
Что дышишь детством в легком забытье…
В долине, в дымке, блеск речных излучин,
Голубизна слоящаяся гор.
И, с тишиной высокой неразлучен,
Упрямым дятлом звякает топор.
ЛЕСНАЯ ИЗБУШКА
Избушка с высоким крылечком
На свежей дремучей поляне,
И вырез на ставнях сердечком, –
Как пряничный домик у няни.
А если к обшивке из дранок
Прижаться доверчиво носом,
То пахнет и сухо и пряно –
Корицей, и солнцем, и тесом.
Мозаика древних дровишек
У леса, наколотых мелко,
И в грозди коричневых шишек
Висит любопытная белка.
А пышные ели опушки
Придвинулись нежно и тесно,
Чтоб тихой не выдать избушки
Не знающим сказки чудесной.
ОСЕНЬ
Вот осень подошла: листы считая,
Под кленом облетающим стоит.
С атласным шорохом воронья стая
Над пахотой развернутой летит.
В деревне мирно топчутся коровы,
И пахнет хлевом, теплым молоком,
Листом опавшим, пахотой лиловой,
Дровами, сеном, грушами, дымком…
Так мягко небо в пасмурных разводах, –
Тепло и грустно в мире и во мне…
Он подошел – земли желанный отдых,
Забывшей тихо о своей весне.
«Подушку мха беззвучно оторвав…»
Подушку мха беззвучно оторвав,
Я черный плат земли нашла под нею –
И, наклонившись, медленно пьянею
Прохладным соком нерожденных трав.
Смотрю, как нежная лесная тля
На корешок всползает невесомо, –
И, как она, в лесу я тоже дома,
И, как она, одно с тобой, земля!
ПЕРВЫЙ СНЕГ
Сереющая в облачном тумане,
Поленница на вырубке-поляне
Благоухает чисто поутру;
И мелко шепчет дождь в бору пустынном,
И я бреду по скалам и ложбинам,
Как лешачиха, в призрачном бору.
А завтра, в ясном розовом рассвете,
Разоблаченные вершины эти
Вдруг ровно вспыхнут острой белизной –
И крепкий холод молодого снега
Прозрачным ветром скатится с разбега,
В тепло долины поспешив за мной.
ЗИМА
Взметнулся лыжник и исчез, –
И над двойным скользящим следом
Сомкнулся глухо белый лес
Коралловым морозным бредом.
Но вот на синеватый наст,
Сквозящий в солнце аметистом,
С еловой лапы съехал пласт
И развалился прахом льдистым;
И ель вздохнула глубоко,
Упруго ветку разогнула
И солнцу низкому легко
С приветом лапу протянула.
«Посмотри налево, посмотри направо…»
Посмотри налево, посмотри направо –
Никого на дорожке, только елки одни, –
Отломи от сугроба кусочек шершавый
И с атласного склона столкни:
По бороздке голубой,
Обрастая сам собой,
Быстро, в искрах, удаляясь,
В ленту снежную мотаясь,
Кувыркаясь круто, прытко,
Докатился, лег, —
Как усталая улитка,
Снежный завиток.
И никто не смотрел ниоткуда
На веселое чудо, —
Только я, да синицы, да ели,
Затаив дыханье, глядели
На его полет.
Но ведь мы не в счет?
«Лужи мягко подтаяли к полночи…»
Лужи мягко подтаяли к полночи,
Утром снова ушли под кристалл, —
На душе и в лесу было солнечно,
Тихий, чистый мороз не мешал.
И на склоне под буками голыми
Рыжий лист посветлел и обсох —
В нем шуршала ногами веселыми,
Раскрывала оливковый мох…
И прозрачно синица чирикала,
Легкий мусор роняя с ветвей.
Эго были от жизни каникулы —
От заботы моей. И твоей.
МОЕЙ ЕЛИ
В памяти горек и крепок —
Просто забыть не могу —
Запах оранжевых щепок
В сером зернистом снегу.
Запах встревоженной чащи,
Свежих растоптанных хвой;
Ствол, на поляне лежащий,
Ствол опрокинутый твой…
Долго стояла, не веря,
У опустевшего пня, —
Словно любимого зверя
Кто-то убил у меня.
ЛАВИНА
Весь пестрый лес от солнца и от снега,
От сумрака и от проталин черных…
Из чащи треск испуганного бега —
Быть может, коз, быть может, духов горных?
Оборвалась подмокшая лавина
И, о стволы свой натиск разбивая,
Вся в брызгах низвергается в долину,
Скача, крутясь, пьянея, как живая…
И вот легла — крутой и пестрой грудой, —
Вся в бурых листьях и в щетине хвойной, –
А в мертвых льдинках солнечное чудо
Сияет влажно, весело и знойно.
«В Кайзертале синеют пролески…»
В Кайзертале синеют пролески,
Воздух свежим теплом напоен,
И кудрявится в солнечном блеске
Весь от вереска розовый склон.
Все дела с их земною корыстью
Позабуду — и слышится мне:
Шепчет ветер сквозь бурые листья
О желанной и близкой весне.
И том же, упавший с разбега,
Ручеек над ущельем поет,
И над серыми пятнами снега
Первой бабочки пьяный полет.
«Я в лесную часовню зашла помолиться…»
Я в лесную часовню зашла помолиться
И неловко присела на твердой скамье.
В голых буках звенели весенние птицы,
Бились хрупкие льдинки в холодном ручье.
Я сказать ничего не сумела Мадонне,
Подошла — и забыла святые слова, —
Но подснежник, что вянул на теплой ладони,
Положила у гипсовых ног в кружева, —
Весь зеленый и белый, с оранжевым глазом,
Удивленно расцветший над черным ручьем.
Пусть заменит он Ей своим светлым рассказом
Неумелую повесть о счастье моем.
ВСТРЕЧА
Оттаяла горная тропка,
Но лес еще светел и пуст,
Желтеет сережками робко
Прозрачный ореховый куст.
Крадусь — и боюсь оступиться,
Глотаю взволнованный вздох:
Как ярок под козьим копытцем
На солнце дымящийся мох!
Вот чуткая дрогнула шея,
Глядит широко, не дыша…
Чуть пепельных веток рыжее,
Как горный цветок — хороша.
Мгновенье — метнулся летящий
Стрелою из лука прыжок,
Провеял по солнечной чаще
Точеных копыт топоток…
Как взгляд ее теплый и дикий
Раскрылся в смертельной игре.
…Оглоданный кустик черники.
Шерстинки на грубой коре.
«Клок облака в ущелье, на рассвете…»
Клок облака в ущелье, на рассвете
И розовое солнце поутру.
Избушка над обрывом. Чистый ветер.
И зыбкий блеск березок на ветру.
Здесь отдохну – на солнечном пороге
Чужой избушки, и пойду опять
Во мшистом сумраке лесной дороги
Мои грибы и песни собирать.
«Там, внизу, в городке счастливом…»
Там, внизу, в городке счастливом
В полдень молятся колокола…
Здесь ползут по жарким обрывам
Сосен бронзовые тела,
Извиваясь в змеиной хватке,
Повисая над крутизной.
Я на вересковой площадке
Под такую сижу сосной.
Рядом – рыхлый и теплый конус –
Муравейник под солнцем спит,
Но тихонько рукой дотронусь –
Словно шелком зашелестит;
И, вскипая, как бисер черный,
В битву ринутся муравьи —
Побегут щекоткой проворной
И вопьются в пальцы мои.
Я разгневанных осторожно
С пальцев на землю отряхну.
Надо знать, под какую можно
На горе садиться сосну
И что в древнем лесном законе
Человек — самый страшный зверь…
Долго будут пахнуть ладони
Муравьиным спиртом теперь.
ПОДБЕРЕЗОВИК
Там, где бурый пень, как медведица,
На малинник теплый забрел,
В низком ельнике нежно светится
Черновато-молочный ствол.
А из наста хвой смугло-розовых,
Гладко слежанных зимним сном,
Встал на цыпочки подберезовик,
Словно пойманный солнцем гном.
ПО ГРИБЫ
После грозы, разразившейся днем,
Чистая звездная ночь за окном.
Капли, срываясь, лепечут в саду…
Я по грибы на рассвете пойду, —
Влажной тропинкой, в сырой тишине,
С облаком, спящим на сизой сосне.
Где у часовни под липой скамья,
Весело встретимся — солнце и я.
В первом тепле на скамье отдохну —
Облако тихо покинет сосну,
К легкой и новой плывя синеве.
А на опушке, в блестящей траве,
За ночь пробьется в зеленую брешь
Рыжик — молочно-оранжев и свеж.
Капля во впадине шляпки легла —
Так маслянисто и нежно кругла…
Пальцы зарою в сырую траву —
Ножку нащупаю, выну, сорву
И приложу осторожно к губам,
Солнцу смеясь, и земле, и грибам!
ГОРНЫЙ ДОЖДЬ
Весь лес дымится, капая, шурша,
Сквозя струящимися облаками.
Ручей, с горы навстречу мне спеша,
Промыл тропинки выщербленный камень.
И грохотом сорвался водопад,
Плеща по скалам влажной, белой пылью…
Промокший лес так пасмурно-мохнат,
Весь напоен грибной пахучей гнилью.
На перевале рвутся облака,
И солнце льется в мир сырой и тесный,
И в ветре — запах хвойного дымка,
И горных трав, и свежести небесной.
Так нежно-жарок солнечный припек,
Так ветерок тепло ласкает губы,
Когда, присев на сохнущий порог
Пастушьего заброшенного сруба,
Я вниз смотрю, где облачная мгла
Колеблется медлительно и вяло —
Она лежит, сияюще-бела,
Упавшим на долину покрывалом…
Внизу томится тленная тоска
И словно тянет щупальца к вершине.
Я счастлива так солнечно и сине —
Я ж хочу спускаться в облака.
«Лес рубили – и всё зверье…»
Лес рубили – и всё зверье
Дальше в горы ушло пугливо.
И я знала: счастье мое
Так же срубят – и вниз с обрыва!
Не останется даже пня
В тихой чаше моей любимой,
Чтобы вспомнило про меня
То зверье, возвращаясь мимо.
И от ладана свежих смол,
От прохлады высокой чаши —
Счастье мертвое, словно ствол,
Увезет грузовик пылящий.
«В последний раз целует ветер горный…»
В последний раз целует ветер горный
Мои глаза, горячие от слез, —
В последний раз смотрю на кряж узорный
Сквозь хохот убегающих колес.
Смотри, смотри — недолго длиться чуду:
Еще один скалистый поворот —
И мой Тироль, подобно изумруду,
С ладони жизни в память упадет.
В ПУТИ (Нью-Йорк, 1959)
«От родников твоих ни капли нет во мне…»
От родников Твоих ни капли нет во мне,
Питают кровь мою давно другие страны,
И Ты – лишь быстрый вздох в передрассветном сне,
Лишь тонкий белый шрам переболевшей раны.
Но, может быть, не так? И это Ты зовешь
И под ноги бежишь, как вечная дорога,
И мне перешагнуть ревниво не даешь
Чужого равнодушного порога?..
«Не жена и не любовница…»
Не жена и не любовница,
Не подруга и не мать –
Мне бесплодною смоковницей
Над источником стоять.
И, как лист на лист, похожие
Шелестят на солнце дни, –
Лишь случайные прохожие
Отдохнут в моей тени.
И, вставая, чуть оглянется
На приветную листву
Та неведома странница,
Для которой я живу.
«Где круто бьет и пенится…»
Где круто бьет и пенится
Поток над крутизной,
Мой стих растет поленницей
На вырубке лесной –
Пахучей, неотеcанной,
Увянувшей во мхи;
Крест-накрест в ней набросаны
Смолистые стихи, –
А под корой древесною
До срока залегло
Для очага безвестного
Таимое тепло.
«Свежий луг и теплый ветер…»
Свежий луг и теплый ветер,
И шмели на стебельках.
Что мне делать в утра эти
С книгой пасмурной в руках?
Что бумажные страницы,
Если нынче я могу
Божьей грамоте учиться
На нескошенном лугу?
Тайной азбукой цветенья
Раскрывается трава…
Вот еще, еще мгновенье –
И пойму ее слова!
«Кто в земном хозяйстве лишний?..»
Кто в земном хозяйстве лишний?..
Посмотри, – на гладь реки
От шатра цветущей вишни
Облетают лепестки.
И плывет вода густая,
Унося вишневый цвет,
Не жалеет, заметая
Навсегда прозрачный след…
Но в воде полощет ива
Зеленеющий платок –
И считает терпеливо
Каждый легкий лепесток.
«Передо мною всё богатство дня…»
Передо мною всё богатство дня –
Земля и лес, обрывы, травы, пчелы, –
Они тепло струятся сквозь меня,
Душа от них становится тяжелой.
Когда ж еще, лучиста и тиха,
В нее звезда вечерняя упала –
То ракушкой душа ее всосала,
Обволокла жемчужиной стиха.
«Вселенная умрет со мной?..»
Вселенная умрет со мной?..
Леса, и звезды, и метели,
Все, что сияли и звенели
Во мне одной, –
И душный мрак и Божья слава,
Что замкнуты во мне, как лава
В коре земной…
Но если я – не раб лукавый?
Но если я – не вся умру?
Но если слово жаркой лавой
Прорвет застывшую кору?
О, как я радостно верну
Мой дом – мой мир – мое жилище,
И поднимусь беспечной нищей
В Твою высокую страну!
«Белка носит желуди…»
Белка носит желуди
В теплое дупло.
От деревьев в золоте
И в лесу светло.
Листья веют шепотом
И летят к земле,
И смеются хлопотам
В беличьем дупле.
Их заботы кончены,
Их зовет покой.
Я листок подточенный
Перейму рукой, –
Чтобы тонким шепотом
Научил меня
Отойти без ропота
От земного дня.
«Крепчают синие снега…»
Крепчают синие снега,
Мороз каленым паром дышит.
Дымок чужого очага
Витой колонкой стал на крыше.
А под стрехой сосульки меч
Висит, прозрачный и огромный,
Чтоб дом вечерний уберечь
От нищеты моей бездомной.
«Кто из предков во мне проявляется больше?..»
Кто из предков во мне проявляется больше?
Кто глядит из моих неуверенных глаз?
Мой задор – от моей неуступчивой Польши,
Чувство меры – твое, виноградный Эльзас!
Где-то хитрая дремлет во мне Византия,
Синью греческих волн озаряется стих…
Но всех слаще мне имя Твой, Россия,
Все мои чужеземцы – у ног Твоих!
ПАМЯТЬ
Чуть стихами – магической палочкой –
Трону в памяти спящую быль –
Рыбный ветер над солнечной балочкой
Пронесет беловатую пыль.
И тугим сухоногим кузнечиком
Зазвенит по обрыву трава,
И за детским коричневым плечиком
Будет влажно мерцать синева…
Было, есть – для души одинаково, –
Даже, может быть, сердцу слышней
Хруст и шорох раздавленных раковин
Под ребячьей сандальей моей.
«Бывало, двумя руками…»
Бывало, двумя руками
Уцепишься за края
И сдернешь шершавый камень:
А вдруг – под камнем – змея?
Под камнем сыро и гладко –
Личинки да корешки,
Ругаясь, бегут с оглядкой
Заспавшиеся жуки.
Опустишь камень обратно
(Напрасен отважный труд), –
А в памяти всё же пятна
Извивом змеи ползут.
«Прозрачно море с пристани до дна…»
Прозрачно море с пристани до дна –
И в солнечном, солено-свежем утре
Смотрю, как осторожная волна
Расчесывает водорослям кудри;
Как их упругий изумрудный сад
Вздымается и опадает живо,
И пузырьки серебряно скользят,
И дно мерцает золотым отливом.
Ложусь на доски теплые ничком
И руки в море опускаю быстро –
И вот он, в пальцах, мертвый, бурый ком.
И это всё. И пахнет солью пристань.
«Наш спор был жарок и высок…»
Наш спор был жарок и высок.
Мы шли и луг топтали дикий –
Крутили в пальцах колосок,
Срывали венчик повилики,
И мертвой бабочки крыло,
Не видя, к свету поднимали
(Оно круглилось и цвело
Отливом бархата и стали).
И жизнь была так молода,
И мир чудесней и огромней…
О чем мы спорили тогда?
Ты помнишь? Я совсем не помню.
«Помню полустанок под горой…»
Помню полустанок под горой,
Солнечную, рыжую скалу.
Пахло углем, камнем и жарой,
Потный паровоз шипел в пылу.
И когда напился паровоз,
Дрогнул поезд, поползла скала, —
А на ней мой колокольчик рос –
Прямо так – из камня, из тепла.
Легкий, зыбкий, бледно-голубой
На сухом невидимом стебле…
Для того мы встретились с тобой,
Чтоб расстаться тотчас на земле?
Чтобы поезд вылетел рывком
На равнину от горячих скал,
Чтобы долго синим огоньком
Ты в вечерней памяти мерцал.
ОТЪЕЗД
По тревоге вышли из теплушек,
В кудри виноградника легли.
Смерть кружила то звончей, то глуше.
Мирным солнцем пахло от земли.
Грозди хризолитово светили,
Медленный вынашивая мед.
Отщипнула… Улетают? Или
Вот, сейчас, вернется — разобьет?..
Нет, ушли. Во рту свежо и кисло.
Долго длились эти полчаса.
Узкой белой радугой повисла
В отгремевшем небе полоса.
Пахнет полем, солнцем, виноградом.
Лезем в разогревшийся ковчег.
Грохот тормозов. И снова рядом
Бег земли – разлуки трудный бег.
«Старый кот с отрубленным хвостом…»
Старый кот с отрубленным хвостом,
С рваным ухом, сажей перемазан,
Возвратился в свой разбитый дом,
Посветил во мрак зеленым глазом.
И, спустясь в продавленный подвал,
Из которого ушли и мыши,
Он сидел и недоумевал,
И на зов прохожего не вышел.
Захрустело битое стекло,
Человек ушел, и тихо стало.
Кот следил внимательно и зло,
А потом зажмурился устало.
И спиной к сырому сквозняку
Он свернулся, вольный и надменный,
Доживать звериную тоску,
Ждать конца – и не принять измены.
«О, как вы бесконечно далеки…»
О, как вы бесконечно далеки,
Дни школьной и чудесной несвободы:
Уроки, переменки и звонки,
Переэкзаменовки, бутерброды…
«Что лучше — вовсе счастья не узнать
Или узнать и потерять навеки?»
Как светится каштановая прядь,
Как свежи незаплаканные веки!
……………………………………
Каштановое съела седина,
И веки долгим горем тяжелеют,
И я стою одна, совсем одна
Над разоренной радостью моею, —
И, кажется, вся выжжена дотла…
Теперь я знаю — лучше, что была.
«Снега деревенского простор…»
Снега деревенского простор.
По сугробам синим козьи стежки.
На горе большой крестьянский двор,
Желтым светом теплятся окошки.
Выбираю крайнее окно,
По сугробам пробираюсь ближе…
Будто бы ты ждешь меня давно,
И сейчас в окно тебя увижу.
Будто бы — я к нам войду домой
В запахе сосны, мороза, теса, —
И с улыбкою на голос мой
Встанешь ты и бросишь папиросу.
Недоверчивый залаял пес.
Вечер. Лес. Пустынная дорога.
Близко-близко до морозных звезд…
Далеко до твоего порога.
«Птица крепкое гнездо свила…»
Птица крепкое гнездо свила
Из сухих стеблей и станиола,
Что с весенних побуревших елок
В радости хозяйственной сняла.
Той весной окончилась война.
Выросли птенцы. Гнездо упало…
Было их, искристых гнезд, немало,
Где с надеждой гибель сплетена.
«Из каких четвертых измерений…»
Из каких четвертых измерений,
Из каких чудесных кладовых
Льется запах краденой сирени
С неуклюжей лаской слов твоих?
Та сирень поникла и увяла
Через день – но вот который год
Я над ней склоняюсь всё сначала –
И она цветет, цветет, цветет…
«Встречный поезд в нежданном споре…»
Встречный поезд в нежданном споре
Победил, провеял, умчал –
И опять несется цикорий
У обветренно-бурых шпал.
Словно в сердце железным градом
Рухнул мир покинутый мой…
И сказала девочка рядом:
«Мама, мама, хочу домой!»
Но тихонько вздохнула мама,
Развернула ей шоколад:
«Этот поезд бежит всё прямо,
Не умеет идти назад!»
«Вот, добралась. Еще шумит в ушах…»
Вот, добралась. Еще шумит в ушах
И крупной дрожью ломятся колени,
Еще один нетерпеливый шаг
К ребру последней солнечной ступени, —
И с крутизны, где снизу ветер бьет
И волосы, как водоросли, моет,
Слежу мой путь. Он непохож на взлет,
Он трудно и упрямо пройден мною.
И вновь неблагодарною мечтой
Я прохожу — не мирный склон пологий,
Но каменный карниз над пустотой,
Но зыбкий оползень, где вязнут ноги,
Но ели, что, царапая, спасли
Меня в паденьи, дружески и грубо,
И близкий запах камня и земли,
И ими в кровь разорванные губы.
Но разве одоленное в борьбе
Одно души и памяти достойно?..
А мы-то, Боже, молимся Тебе
О ясном небе и судьбе покойной!
УШЕДШЕЙ
Последним, не твоим письмом
Наш разговор остановили…
Твой город, улицу и дом,
Что так перу привычны были,
Могу забыть. И весь твой путь
В надежде, горечи, заботе —
Могу легко перечеркнуть
Теперь карандашом в блокноте:
Две тонких линии всего —
И больше нет тебя, родная.
А новый адрес? Я его,
Бог даст, в мой смертный час узнаю.
«Когда в лесу на соснах зрели шишки…»
Когда в лесу на соснах зрели шишки,
Я набрела на брошенный костер —
Пушистый пепел, черные култышки
И мелких прутьев обгорелый сор.
Вот на камнях придвинутых блеснула
В забытой банке дымная вода…
Я не пила — я только заглянула,
И заболела лесом навсегда.
«От листьев на ветвях весенних…»
От листьев на ветвях весенних,
Счастливых солнцем и собой,
Еще младенческие тени
Лежат прозрачною резьбой.
В молчаньи, смехе, разговорах,
Везде, куда ни обернусь, —
В ушах их первый влажный шорох,
Во рту их первый горький вкус.
И с каждой новою минутой
Сильнее их зеленый свет…
Ну, пусть не мне, но ведь кому-то
Сегодня восемнадцать лет.
«По настилу топкой хвои…»
По настилу топкой хвои,
В чаще розовых стволов,
Вновь шипенье дождевое,
Бледный шорох облаков, —
Но прозрачней вьются пряди,
Зеленей мерцают мхи,
Задрожал в озерной глади
Солнца ломкий малахит…
Грузный блеск последних капель
Отливает голубым, —
Лишь в моей промокшей шляпе
Пахнут сумраком грибы.
«Здесь пахнет лесопилкой пол…»
Здесь пахнет лесопилкой пол
И пряниками стены.
Здесь долог день, и легок сон,
И плавны перемены.
Здесь ветер с полымем зари
Шуршит по кабинету,
Как будто кто забыл внутри
Раскрытую газету.
Газета? Здесь? Газеты нет,
Но на столе день целый
Подсохший полевой букет
Пыльцой пушится зрелой,
И пчелы, ворошась на нем,
Внимательны, мохнаты,
Несут еще живой заем
В медовые палаты.
«Где пухлый снег у шалаша…»
Где пухлый снег у шалаша
Стянул под утро иней колкий,
Две лиственницы не спеша
Роняют рыжие иголки…
Топор на оснеженном пне,
Дымок пахучий и пушистый,
В морозно-синей вышине
Деревьев белые мониста,
И след лазоревый в снегу,
Прямой и легкий, вверх по склону –
От оттепели сберегу
В прохладе памяти плененной.
БАЛЛАДА
Где гремит ледяной поток,
В облака слетая со скал,
Эдельвейс — шерстяной цветок —
Человек для нее искал.
Но скользнул под ногой уступ…
Он упал далеко в реке —
С красной пеной у мертвых губ,
С эдельвейсом в мертвой руке.
Дети дали мокрый цветок
Строгой девушке с чистым лбом, —
С ним ворвался горный поток
В непорочный ее альбом.
Но никто не увидел слез
Под ресницами гладких век:
В них высокий сиял утес
И к утесу шел человек.
«Метелью веяло в бору…»
Метелью веяло в бору,
Шипело снегом в мокрой чаще.
Стволы, как чернь по серебру,
Сквозили в белизне летящей.
И мне казалось — я плыву,
Я на плоту, скользящем шатко,
А лес летит — не наяву, —
Кружится в обмороке сладком.
Но обернулась — а за мной
В часовне, снегом занесенной,
Темнел недвижной тишиной
Алтарь с лазоревой Мадонной.
Пока вокруг метель мела
И светлый снег кипел, бушуя,
Она стояла и ждала —
Нет, не меня, совсем чужую,
Меня уже нигде не ждут, —
Но словно белке, лани, птице,
Чтоб отдохнуть, остановиться,
Она и мне дала приют.
МЕДВЕДИЦА
Мокрый снег на солнце светится,
Талая вода черна.
В теплом логове медведица
Пробуждается от сна.
И хрустит в сыром валежнике
Зверь, дремотен и уныл,
И на первые подснежники
Сонной лапой наступил.
«Ах ты, туша неуклюжая», —
Затрещал под нею лед,
А она стоит над лужею
И весну из лужи пьет.
«Облетели кверху донцем…»
Облетели кверху донцем
Все сосульки, как одна,
И в глаза холодным солнцем
Дует ранняя весна.
И сугробы разом сели,
Как упавшие хлеба,
И под мокрый звон капели
Зацвела в снегу верба .
Не впервой цвести на стуже…
Не впервой скитаться там,
Словно ходишь не по луже —
По летящим облакам, —
И тебе в раскрытом мире
Внятен каждый блеск и вздох –
Словно глаз дано четыре
И ушей не меньше трех.
«Еще прозрачен, сер и пуст…»
Еще прозрачен, сер и пуст
Кипящий воробьями куст,
И желтый солнечный припек
Еще не жжет холодных щек, –
Но талой лужи чернота
Весенней синью налита,
И облако всплывает в ней
Всё круче, крепче и белей.
«Влажно ландыши дышали…»
Влажно ландыши дышали.
Крупный дождь шуршал по склону,
На прощанье гром по тучам
Бил чугунными шарами, —
Но далекие вершины
Озарились тихим солнцем,
Молодые листья буков
Налились зеленым светом.
Я из каплющей пещеры
Протянула солнцу руки,
Сорвала я ближний ландыш,
Самый свежий, самый белый,
Сорвала его — навеки,
Навсегда укрыла в сердце,
Вместе с каплей самоцветной,
И земли комочком черным,
И прилипшею хвоинкой —
И моим недолгим счастьем.
«Дождь отшумел. Зеленый свет…»
Дождь отшумел. Зеленый свет
В лесу сверкающем и влажном,
И круглых капель легкий след,
Припухший на листке бумажном.
Как жадно зеленеют мхи,
Прощальному внимая грому, —
И пахнут — даже и стихи —
Промокшим кружевом черемух.
«Лицо щекочут стебли трав…»
Лицо щекочут стебли трав
И пахнут сыростью и медом.
Я, золотой букашкой став,
Ползу под их прозрачным сводом.
Мой путь неспешен и тяжел:
Вот гладких желудей застава,
А вот шершавой башни ствол
И зоркий птичий щебет справа…
Дыханья душная струя,
Как бури колея двойная…
Ах да, ведь это тоже — я.
Кто больше я? Кто я? Не знаю.
«Спозаранку щебет слышно…»
Спозаранку щебет слышно
У раскрытого окна,
И цветет светло и пышно
На задворках бузина.
Облаков круглится стая
Снега крепкого белей,
И гудит трава густая
Теплым бархатом шмелей.
Почему же светлой вести
Я от них не приняла?
Всё как прежде, всё на месте –
Только молодость ушла.
ОКТЯБРЬ
Мир прозрачен, солнечен, пуст, –
Ни надежды в нем, ни тревоги.
В красных ягодах голый куст.
Завиток листа на дороге.
Теплый камень и блестки в нем,
А на камне плоская муха.
Вот и мы — так же тесно льнем
К блесткам памяти зябким ухом.
За углом холодная тень,
В ней легко голубеет иней.
И недолог октябрьский день –
Тихий-тихий и синий-синий.
«Истаял дождь в сыром угаре…»
Истаял дождь в сыром угаре,
В тумане дымные дома,
И яркий свет на тротуаре
Обводит влажная кайма.
То смерть, прервав земную пляску,
Склонилась и, тиха, чиста,
Снимает траурную маску
С еще прекрасного листа.
«Расточительных слов не надо…»
Расточительных слов не надо.
Строгой осени день пришел:
Из цветистого листопада
Вышел лес так прозрачно-гол.
Видны скал обомшелых глыбы
И стволы в исполинский рост,
Каждой ветки сухой изгибы
И комочки остывших гнезд.
Ветром пасмурным лес очистив,
Осень лето сожгла в кострах,
И остался от слов и листьев
Горьковатый и легкий прах.
«Вся жизнь прошла, как на вокзале…»
Вся жизнь прошла как на вокзале –
Толпа, сквозняк, нечистый пол.
А тот состав, что поджидали,
Так никогда и не пришел.
Уже крошиться стали шпалы,
Покрылись ржавчиной пути, –
Но я не ухожу с вокзала,
Мне больше некуда идти.
В углу скамьи, под расписаньем,
Просроченным который год,
Я в безнадежном ожиданьи
Грызу последний бутерброд.
В ПАРКЕ
1. «Под скамьей пустая бутылка…»
Под скамьей пустая бутылка,
И лицо в немытых руках.
Всё, что сердцем владело пылко –
Вдохновенье, и страсть, и страх, –
Отошло, чтоб в тени прохладной
Он разглядывать мутно мог
Голубей доверчиво-жадных
У его неспешащих ног.
2. «Доверив прихоти ножонок…»
Доверив прихоти ножонок
Знакомства первые свои,
Мне улыбнулся негритенок
И задержался у скамьи,
В своем большом и белом друге
Еще совсем не видя зла…
Но мать привстала и в испуге
Его к себе отозвала.
СКАРАБЕЙ
Маленький лазурный скарабей
Под стекольным холодом музея.
Сколько черных бездыханных дней
В саркофаге ждали скарабея,
Чтобы день пришел, и грянул свет,
И в ладони варварской, случайной
Понял он: ему возврата нет
В мир, лишенный мудрости и тайны.
Он дешевой пуговкой лежит
Под стеклом — и грубый, и чудесный, –
Но читать старательный петит
Никому о нем не интересно.
«У вечерних присев ворот…»
У вечерних присев ворот,
Жизнь, тяжелый клубок забот.
Из усталых рук уронить, —
И одну лишь распутать нить:
Шелковинку зеленых дней.
Что прошли по душе моей,
Что связали меня петлей
С этой злой любимой землей.
«Всё, во что мы верили, не верили…»
Всё, во что мы верили, не верили,
Что любили, знали, берегли, –
Уплывает, словно на конвейере,
С кровью сердца и с лица земли.
Или это мы летим неистово,
Или это нас волна несет?
Так порою отплывают пристани,
А стоит идущий пароход.
«Вот выпал снег – и растаял…»
Вот выпал снег – и растаял.
Вот жил человек – и умер.
И чья-то лодка пустая
Толчется в прибрежном шуме.
Но к ней не придет хозяин –
Уплыл он в страну иную.
Лишь небо светло зияет,
Не видя печаль земную.
«Я – первый серый щебет…»
Я – первый серый щебет,
Зажженная скала,
И мне навстречу – в небе
Два розовых крыла…
Но вот по веткам брызнет
Пытливым солнцем день,
И упадет от жизни
Отчетливая тень, –
И камнем будет камень,
И я – какой была,
И просто облаками
Два розовых крыла.
«Конец томительного дня…»
Конец томительного дня,
Пустой молчащий дом.
Кто это смотрит на меня?
Кто в зеркале моем?
Не я, о нет, – я выше их,
Глядящихся в упор:
Я тот, кто видел и постиг
Немой их разговор.
ДУША
Я спала, как серый мрамор в глыбе, —
Мысль невоплощенная Твоя:
Ты меня резцом из камня выбил,
Для отдельной жизни изваял.
И раскрылось мраморное око,
И увидело, что мир — вовне, —
Я сотворена. Я одинока.
Я свободна. Что же страшно мне?
Ветер, облака уже не братья,
И земля — не мой родимый дом…
Не оставь теперь меня, Ваятель,
В первом одиночестве моем!
«Замкнулся день благословенным кругом…»
Замкнулся день благословенным кругом
Земных своих чудес:
Всё розовее облако над лугом
И всё чернее лес.
Кто, райским пламенем над ночью рея,
Зовет и ждет меня?
«Уйди от ночи, поднимись скорее
До моего огня!»
Но на плечи прохладные ладони
Мне сумерки кладут:
«Нет, не уйдешь, не убежишь погони, —
Мы тут, мы тут!»
«Мы крошки с Божьего стола…»
Мы крошки с Божьего стола,
Осколки первой тайны —
Все наши жизни и дела
Так странны и случайны.
Но как, беспомощно любя,
К Тебе вернуться снова?
Как вылупиться из себя,
Из зеркальца кривого?
Забыть, что в нем отражено,
Разбить земные меры
И снова стать с Тобой одно
В огне плавильном веры?..
«Здесь, в саду таинственном Твоем…»
Здесь, в саду таинственном Твоем,
Я, как лист на дереве осеннем,
Вся дышу последним тихим днем,
Но ползут длиннеющие тени…
Скоро ветер колыхнет, шурша,
Сад ночной и, не противясь даже,
Лист увянувший, моя душа,
Подлетит к ногам Твоим и ляжет.
ТЕНЬ
Длинная тень убегает по лугу,
Лугу вечернему, золотому.
Утром мы обе с ней были молоды, –
Нынче устало шагаем к дому.
Тень на крыльцо поднялась и падает,
Словно сломилась своей любовью.
Я подожду – если будут рады ей,
Тоже вернусь под родную кровлю.
«То сверкнет, то затонет…»
То сверкнет, то затонет
Черным боком скала –
Плеск прозрачных ладоней
О нее без числа:
Приливают упруго,
Отступают, журча, –
Три столетья – и угол
Стал круглее плеча.
Семь столетий – и выем,
Крабу влажный навес:
Им не к спеху, стихиям,
Им не надо чудес.
«Да, безнадежность – тоже утешенье…»
Да, безнадежность – тоже утешенье:
Покой и легкость, нечего терять.
И только сердца теплое биенье
И под рукой послушная тетрадь.
А целый мир могуче и покорно
Цветет в моем распахнутом окне,
И созревает, и роняет зерна,
И прорастает песнями во мне.
ПРОЗРАЧНЫЙ СЛЕД. Третья книга стихов. (Нью-Йорк, 1964)
Посвящаю памяти моей матери
Клавдии Владимировны Девель
«Слоятся дыма голубые складки…»
Слоятся дыма голубые складки,
Опал костер, мерцает рыхлый жар, –
Но подметенных листьев отпечатки
Еще хранит осенний тротуар.
Сгорело всё, что эта жизнь дала мне,
Подметено. И пепел сер и чист.
И лишь стихов прозрачный след — на камне
Запечатленный лист.
«Собирать слова, как в поле маки…»
Собирать слова, как в поле маки,
Что зовут и тех, кто не искал?
Нет, в подводном пробираясь мраке,
Отрывать, как ракушки от скал, —
Чтобы в окровавленных ладонях,
Задыхаясь, вынести на свет:
Даже если их никто не тронет.
Даже если в них жемчужин нет.
«Согреться — да не знаю, где бы…»
Согреться — да не знаю, где бы…
Лишь снега синяя верста
Да замороженного неба
Оранжевая пустота
Вдруг первый огонек селенья
И запах дыма и костров, —
Как первый вздох стихотворенья,
Еще не слышащего слов…
Слова клубятся где-то выше,
Еще их темных, не прочесть…
Пусть над окном не видно крыши,
Но, если светит, крыша есть.
«Украдкой море удалилось…»
Украдкой море удалилось,
От черных скал отведено,
Для всех — на милость и немилость —
Открыв обманутое дно,
Брожу. Ракушки ноги колют.
В корытце каменном вода.
Лежит в теплеющем рассоле
И задыхается звезда.
Слова – как лужи, гнилью пахнут.
Мой дар — ты жив или не жив?
И ты глазам земли распахнут,
Как иссякающий залив.
И блекнут водорослей пятна.
И сохнет мелкий водоем…
О, как мы все волны обратной,
Воды животворящей ждем!
«Из моего дыханья…»
Из моего дыханья
И радуги сквозной
Он круглым колыханьем
Взлетает надо мной.
И ветер изобильный
Несет его, маня,
От блюдца пены мыльной,
Соломинки, меня…
Земные путы эти
На миг, но превозмог.
Прими, высокий ветер,
Мой самоцветный вздох!
«Всех дел не переделаешь…»
Всех дел не переделаешь,
Всех писем не напишешь,
Всех книг не перечтешь, —
Всё ближе стужа белая,
Зимой последней дышишь,
Последний ветер пьешь.
И вспыхнула магнезия,
Поймала блеском голову
Холодную в гробу, —
Но ты, моя поэзия,
Не в раме гладиоловой,
Не желтый блик на лбу, —
В тебе движенье теплое,
Тебе вольней и выше,
Чем побежденной мне:
Как в летнем небе облаку,
Как ласточке под крышей,
Хвоинке на сосне.
«Мальчик бросил камень в пруд…»
Мальчик бросил камень в пруд,
По воде круги идут:
Кольца зыби золотой
На воде его густой.
Кто о камне пожалел?
Камню – каменный удел.
Пусть лежит себе на дне
В безнадежной тишине.
«Лиловой кляксой ярко расплылось…»
Лиловой кляксой ярко расплылось
Написанное в день еще недавний –
Бессмысленно, и горько, и тепло
Химическим карандашом на ставне,
Когда уже решили, что — конец,
Когда прощать не стало больше силы.
Легко и пусто пальцам без колец,
Губам без слов «любимая» и «милый».
Осталась только ласковая есть
В округлых «л» подчеркнутого слова.
Шел ливень. Смыл. И вот – нельзя прочесть.
Всё утонуло в лужице лиловой.
«Так проходили дни впотьмах…»
Так проходили дни впотьмах,
Был плеск дождя несносен, —
Зевая, подошла зима
И заменила осень.
И вдруг в линялом феврале,
Совсем непроизвольно,
Как будто звон по всей земле
Пролился колокольный.
И жидкий, лиловатый лес,
Продутый сквозняками,
Стал чудом из семи чудес
И в заговоре с нами:
То пряча пальцы в рукава,
То растирая щеки,
Мы долго спорили сперва
О Бунине и Блоке.
И март зажег голубизну,
Овеял светом дали, –
Но лес таил свою весну
И мы свою скрывали, –
Пока не зацвели кусты,
И вдруг, в конце недели,
Мы очутились — я и ты –
В доверчивом апреле.
«Мы поднялись развилиной ствола…»
Мы поднялись развилиной ствола,
Но ты — на солнце, крепче, тяжелее,
А я — слабей, я к северу росла
И тенью счастлива была твоею.
Бывало, с ветром бросится листва
Моя к тебе — и этот теплый шорох
Был нам и хлеб, и ласка, и слова,
Ни в чьих не слыханные разговорах.
Но молнии высокий произвол
Нас расщепил и слабый сук отбросил,
И он лежит, безлистый, на откосе,
И одинок твой уцелевший ствол.
Ни слез, ни боли. Только пустота
И отдых на земле, которой стану…
А солнце на стволе залечит рану
И засверкает с каждого листа.
«Если б нам деревьями…»
Если б нам деревьями
Вырасти пришлось,
И тогда, наверное,
Мы росли бы врозь.
Мы молчим, послушные,
Жмуримся на свет,
Чтобы не подслушали
Те, кому не след.
Только в бурю, издали,
В сумерки и гром,
Чтобы нас не выдали,
Ветками кивнем.
И порой — таинственно –
С солнечных высот –
Лист, такой единственный
Ветер принесет.
«Наш город мягко смыт туманом…»
Наш город мягко смыт туманом,
Я в нем бреду, как в тонком сне…
Быть может, я – за океаном,
Опять в потерянной стране.
Быть может, ты сейчас нежданно
Ко мне сутулясь подойдешь
Из душной нежности тумана –
На призрак пасмурный похож.
И приглядевшись близоруко.
И узнавая: «Это ты?»
Но, как во сне, уронишь руку
У заколдованной черты.
В тумане может всё присниться,
И то, чего давно уж нет.
В тумане даже наши лица
Моложе на семнадцать лет.
«Любовь не кончилась — она…»
Любовь не кончилась — она
Живьем разлуке отдана,
Чтоб в снах и в песнях длиться, –
И влагой перья вороша,
Слетает к ней моя душа,
Как в летний полдень птица.
Она – прозрачный водоем
В именьи облачном моем
И с радугой в соседстве, –
Где всё былое во плоти,
Где можно бусинку найти,
Потерянную в детстве.
Где можно молодость опять
Цветком ромашки ощипать
По лепестку — до «любит»…
Любовь не кончилась — она
Мне светит с голубого дна,
Из самой тихой глуби.
«Подниму, и вздохну, и брошу…»
Подниму, и вздохну, и брошу –
Пусть другой найдет на пути.
Счастья слишком большую ношу
Не по силам уже нести.
Для таких вот – слабых, усталых
Есть у Бога иной запас:
Видишь россыпь радостей малых?
Видишь, сколько? Они – для нас.
«Я, странник запыленный…»
Я странник запыленный,
Ищу в пути приют,
А мне воды соленой
Напиться подают, –
Смеются у порога,
Но я покорно пью:
У всех своя дорога,
Я выбрала свою.
«Я всё дальше в море уплываю…»
Я всё дальше в море уплываю
И никто не ждет на берегу.
Я еще борюсь, еще живая,
Но вернуться больше не могу.
Море всё пустынней и огромней,
Глуше рокот отошедших скал…
Только бы меня никто не вспомнил
И теперь обратно не позвал!
«Пахнет горькой водой и медузами ветер прибрежный …»
Пахнет горькой водой и медузами ветер прибрежный
И спешит, и, споткнувшись, лохматится пеной волна.
Что мне сила моя, что моя бесполезная нежность, –
Мне она не нужна, потому что тебе не нужна.
Если верной волной я вослед поплыву пароходу,
И твои берега захлестнет мой зовущий прибой,
Ты, как эта скала, оттолкнешь мою горькую воду,
И она отойдет, не опознана даже тобой.
«Был зябок недоспанный…»
Был зябок недоспанный
Вокзальный рассвет.
В нем слезы, как оспины,
Оставили след.
А воздух подслушанный
Был горек и чист,
Как тонко надкушенный
Сиреневый лист.
Над болью напрасною
Блаженно горя,
Вставала прекрасная
Чужая заря.
Но, дрожью железною
Трясясь и звеня,
Мы были отрезаны
От нового дня.
«Пусть захлопнулась перед нами…»
Пусть захлопнулась перед нами
Самоцветного счастья дверца –
Не скудеет земля цветами,
Не скудеет надеждой сердце.
И под небом чужого края,
Немотой его светлой глуби,
Изнывая и умирая,
Мы живем. Мы поем. Мы любим.
Может – близится праздник света?
Новым хмелем вскипает чаша?..
Нет безумней мечты, чем эта.
Нет святее тоски, чем наша.
«По песчинке стачивалась боль…»
По песчинке стачивалась боль,
Размывалась медленными днями,
Притуплялась, – так морская соль
И вода шлифуют жесткий камень:
И теперь он гладок, словно плод,
Округленный, не остроугольный, –
В нем лишь тяжесть, что еще гнетет,
Но не может оцарапать больно.
«От горя удаляясь, отдыхая…»
От горя удаляясь, отдыхая –
Вдруг изумиться: всё еще жива?
Под инеем легла полусухая,
Но крепкая октябрьская трава.
А утром солнце иней растопило,
Его роса по-летнему светла, –
Трава живет. Ей тоже больно было,
Но боль прошла. Почти совсем прошла.
«Так взлетает по стеклу оса…»
Так взлетает по стеклу оса
И звеня скользит, скользя влетает,
Но стекло заклятое не тает,
Но стоит запрета полоса.
Вверх и вниз, как в безысходном сне,
Нетерпенье звоном выдыхая,
Чтобы стать, легчая, высыхая,
Летним сором на чужом окне.
«На осенний пойду пустырь…»
На осенний пойду пустырь,
Чтоб в траву золотую лечь,
Чтоб в глаза – только свет и ширь,
А себя – словно бремя с плеч.
Там плывут облака – ничьи –
Над тяжелой, пленной землей…
А потом в волосах репьи,
Словно пес, принесу домой.
ЛЕСНОЙ МАДОННЕ
Расцветает трава любовней,
Пахнут липы теплей и слаще
Над смиренной Твоей часовней,
Смело в диком лесу стоящей.
Ты добра к мотыльку и птице
И к больному лесному зверю…
Не умею Тебе молиться,
Просто тихо люблю и верю.
В чистый сумрак войду и стану,
Помолчу, и вздохну, и выйду,
И, как белке сквозную рану,
Ты залечишь мою обиду.
«Бывает день — уже с утра…»
Бывает день — уже с утра
Он радостью, как солнцем, налит, –
В нем неприглядного вчера
Вы никогда бы не узнали:
За каждым звуком тайный звон
И даже тень полна сиянья,
Как будто исполняет он
Все, все земные обещанья…
В закате он сгорит дотла,
Как дни, что до него сгорели,
Но радость все-таки была —
Она была на самом деле!
ПАМЯТИ Б. Л. ПАСТЕРНАКА
1. «В облетевшем лесу пустынно…»
В облетевшем лесу пустынно,
Лесу зябкие снятся сны.
На пригорке рдеет рябина:
Тесных ягод щитки грузны.
Снегири, как малые дети,
К ним прильнули, разинув рот,
И она им ягоды эти,
Словно грудь младенцу, дает.
Улыбаясь на трепет жадный
Чуть заметным движеньем век, —
Он — один в тайге неоглядной.
Он один в тайге — человек.
2. «Между небом (больше не взглянуть)…»
Между небом (больше не взглянуть)
И землею (не ступить с доверьем) —
Понесли Тебя в летейский путь
Горестно распахнутою дверью.
Листьями поспешно шевеля,
Что-то ветки вдаль передавали,
И вступились небо и земля
И Тебя себе на память взяли.
Словно жизнь, любимая сестра,
Отдает — как вечер жар полдневный —
Всё, чем Ты дышал еще вчера,
Каждый стих Твой, радостный и гневный, –
И на смертью заданный вопрос
Слышишь дивный перечень ответов:
Всех метелей, сумерек и гроз,
Соловьев, и ливней, и рассветов…
«Черный Данте в облетевшем скверике…»
Черный Данте в облетевшем скверике
Замышляет бронзовый сонет.
Поздний вечер наступил в Америке,
А в его Италии рассвет.
Ветер над равниною этрусскою
Розовые гонит облака,
И проходит улочкою узкою
Тень твоя, блаженна и легка.
Беатриче! Нет тебя желаннее…
Семь веков – как семь весенних дней!
И опять – любовь, стихи, изгнание,
Мокрый сквер и быстрый бег огней.
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
Словно кто-то, стоя за плечами,
Разбирает медленно хоралы, –
Белыми прозрачными лучами, –
Запинаясь, небо заиграло.
А потом – уверенней, стройнее, –
Наливаясь светом тихой бури,
Те лучи помчались, пламенея,
Словно пальцы по клавиатуре, –
И пылала тонко надо мною,
Радугой цвела и трепетала
Музыка, что стала тишиною,
Тишина, что музыкою стала.
«Вот моя лесная добыча…»
Вот моя лесная добыча —
Земляники легкой щепоть,
Голубое перышко птичье,
Шелковистого мха ломоть.
Вот синеющий гриб-кубышка,
А на шапочке три иглы,
И еще — еловая шишка
В беловатых блестках смолы.
Вынимаю, как горсть жемчужин,
Мой лесной, мой нелепый клад.
«И кому этот мусор нужен?» —
Удивленно мне говорят.
«Почему мне сладок дух древесный…»
Почему мне сладок дух древесный,
Настоящий?
Почему мне здесь, в лесу, не тесно
В самой чаще?
Почему зовут меня глубины Дробным стуком?
Или прежде я была рябиной?
Или буком?
Или дятлом, на стволе пахучем
Бьющим четко?
Или писком в норке бурундучьей
(Хвостик щеткой)?
Или звонким комаром, что реет
У болота,
А его, как я, убил на шее
Прежде кто-то?..
«Слепой ребенок на лугу…»
Слепой ребенок на лугу
Стоит, лицо подняв,
К нему летят, к нему бегут
Дыханья диких трав.
И шлет ему медовый вздох
Сквозь игол переплет
Сторожевой чертополох,
Что у межи цветет.
А ветер шевелит едва
Ресницы темных глаз
И шепчет мудрые слова,
Неслышные для нас.
«Люблю гулять с пустыми руками…»
Люблю гулять с пустыми руками —
Раздвинуть ивы свежие пряди
И, сев на прибрежный солнечный камень,
Озерную зыбь, как собаку, гладить.
И знать, что разлука еще не скоро.
Не скоро — но всё же разлука будет!
На то и стоят над озером горы,
А люди — приходят, уходят люди…
«Сух и желт и пылью серебрится…»
Сух и желт и пылью серебрится
Летний мир, заждавшийся дождя,
И гуляет беглая зарница,
И мутнеют тучи, уходя.
О, верни их медленную груду,
Что почти укрылась за горой,
Серую высокую запруду
Над землей запекшейся открой
И, потоки стройные обруша,
Этот мир бессильный оживи,
Так, как счастье насыщает душу
Грозным наводнением любви.
«Кто вылепил такие облака…»
Кто вылепил такие облака
Из мглы и белизны великолепной?
Чья легкая огромная рука
По ним скользила, медлила и крепла,
И вновь меняла облик, никогда
Таинственной не достигая цели?
…А время ветром гнало их стада
И нежно тени по земле летели.
«Вихрь без поклона…»
Вихрь без поклона
Спрыгнул, как вор,
Сбросил с балкона
Швабру во двор,
Щебет стекольный
И тарарам,
Стук недовольный
Спущенных рам.
Снова к постели –
В порванный сон:
Вдруг корабельной
Палубы склон,
Гавань и скалы
В дальней стране –
Той, что искала
Тщетно во сне!
«Ливень целился – и точно…»
Ливень целился – и точно
Рухнул в сумеречный сад,
И трубою водосточной
Рокотал, как водопад.
Пролетел – и всё безмолвно,
Просветлела веток вязь…
Я стою, над бочкой полной
Упоенно наклонясь:
Запах плесени, и хлеба
И, как будто, огурца,
И кружок родного неба
У склоненного лица.
Шлепну по небу – и к свету
Прянет искрами вода.
Кто же знал, что в рамку эту
Не вернуться никогда?..
ПОТЕРЯННЫЙ МЯЧ
Как я домой пойду,
Как улыбаться буду?
Мяч мой в чужом саду
Лег среди незабудок.
Только что был со мной –
Пахнул живой резиной,
Крепкой морской волной
Или веселой псиной.
Вот, теперь поиграй!
И за чужим забором
Пялься в мячиный рай,
В щель одноглазым взором:
Может быть, мячик мой
Видит меня немножко?
Как я пойду домой
С этой пустой ладошкой!
СЕВАСТОПОЛЬ
1. «Мне только память о тебе – наследство…»
Мне только память о тебе – наследство,
Мой дальний город, белый в синеве,
Где и сейчас трещит кузнечик детства
В твоей го камня выжженной траве.
Пыль по шоссе лежит как россыпь мела,
Босой ноге так бархатно-жарка…
И вот навстречу море зашумело
И дегтем понесло издалека…
На берег мой ракушечный сошла бы,
Где створки раскрываются в тепле,
Где мокрые оливковые крабы
Топырятся на солнечной скале, –
А под скалой лежит еще, быть может,
Мое колечко – много тысяч дней:
Я обручилась им, совсем как дожи,
Российской Адриатике моей.
2. «Табачно выцветающий картон…»
Табачно выцветающий картон –
Девчурка у воды с арбузной «скибкой»
Съедает время каменистый склон
И блески на воде густой и зыбкой.
Но я-то помню, время, погоди –
Полынный ветер, солнце на лопатках,
Холодноватый крестик на груди,
Волну, идущую вспенено, шатко, –
И легкий взрыв, и тонкий детский крик,
И капельки на смуглой, теплой коже,
И – в воду головой! Блаженный миг –
Зеленый мир, на лунный мир похожий…
На берегу уже горяч песок,
Усталость мягкая в прохладном теле….
На красный расплясавшийся буек
Две чайки ярко-белые слетели.
А здесь, у ног, – вот розовым кружком
Тылок арбузный в деревянном соре,
Вот бурых ленточек огромный ком
Пригнало и расчесывает море…
И навсегда желтеющий картон
С безбровою девчуркой сохранили
Далеких склянок чистый перезвон
И влажный запах свежести и гнили.
3. «Люблю, как ящерица камень…»
Люблю, как ящерица камень,
Открытый морю и ветрам,
Недвижный горизонт с дымками,
Сегодня тот же, что вчера;
Хруст раковин в песке лучистом
И рыб у солнечного дна,
Смолисто пахнущую пристань
И пятна нефти на волнах,
И пароход звонкоголосый,
Что режа масляный атлас,
Швырнет на сушу толстым тросом
Охрипший океанский бас.
«Дети мелом чертили“классы”…»
Дети мелом чертили «классы»
На усталых камнях Стамбула.
– В мире тлели иконостасы,
В мире смрадом убийства дуло,
Но, кивая бантом крылатым,
Скачет девочка так умело,
Что, по всем проскакав квадратам,
Меловой черты не задела.
ПРИВАЛЫ У ЧУЖИХ ДОРОГ
1. По Словении
Из ночи тряской и кромешной
Раскрылось утро надо мной
Такой улыбчивой, утешной,
Зелено-светлой тишиной.
К окну. В прохладном раннем свете –
Лесистых круглых гор кольцо…
И жжет и плещет дымный ветер,
Бросает волосы в лицо.
Гудит в ногах. На платье копоть,
А там — прозрачность, благодать:
Там в зелени змеятся тропы —
И каждой хочется взбежать.
Вот полустанок. Дрогнув туго,
Остановились. Ветер спал.
Как пахнет свежим медом луга
И солнцем от нагретых шпал.
И снова лязг и ветер с дымом,
В глазу колючий уголек, —
И нежность к ним, к неповторимым
Привалам у чужих дорог.
2. Бохинь
То леском, то зеленой поляною —
Быстрый воздух так весело синь:
Налетел тишиной первозданною
Спящий в каменной чаше Бохинь.
Горы хмуро и тяжко придвинулись
Тихой влагой озерной дышать —
И нежданно-легко опрокинулись
В темно-сизую льдистую гладь.
А от свежего луга с избушками,
С их сухим деревянным мирком,
Пахнет мятой, еловыми стружками,
Деревенским парным молоком.
3. Цикламен
В лесной темнеющий покой
Ведут берез далеких вешки.
Так влажно-крепки под рукой
Сиреневые сыроежки:
Здесь в папоротник забрели,
А вот у пня укрылись двое —
Во мшистый холодок земли
Под настом розоватой хвои.
О жизнь! Что можешь дать взамен
Душе и ласковой и жадной
За первый хрупкий цикламен
Чуть лиловатый и прохладный,
И за вершин струистый звон,
Плывущий высоко над нами,
В прозрачно-голубой затон
С недвижимыми облаками!..
4. На Адриатике
На молу и ветрено и ярко,
Пеной стынет моря влажный пыл.
В давний день здесь лев святого Марка
Омочил концы державных крыл.
С той поры плывут волнами годы,
Трепет волн всё так же чист и синь,
Так же о дарах святой свободы
Возвещает стройная латынь.
Этот звон — и этот камень серый…
Если ж взгляд на Локрум подниму –
Вижу в дымке царственной галеры
Плавно уходящую корму.
5. Дубровник
На старинный светлый камень,
Утомленный солнцем и веками,
Лег вечерний розовый покой.
Дышит море матово и сине,
От хвои пушисто-ярких пиний
Веет сонной теплотой.
И над путаницей линий
Разлилось оранжевой пустыней
Небо. В нем покойно вознесен
Башни вырезной прямоугольник,
И в проеме легком колокольни –
Черный колокол времен.
«На склоне лес крутой и стройный…»
На склоне лес крутой и стройный
Еще стоит, еще живой,
Верхушки шепчутся покойно
Бегущей по ветру листвой.
И бестревожен щебет птичий,
И гнезда кре пки и теплы…
Но тронул краскою лесничий
Приговоренные стволы.
«Так в первый день — последнего мы ждем…»
Так в первый день — последнего мы ждем:
Он не обрушится лавиной снежной, —
Он вызревает медленным плодом,
Что в должный час сорвется неизбежно
И в смертное паденье увлечет
Весь трепет темного земного вдохновенья,
Всю теплоту любви, всю тишину прозренья, –
И будет боль. И эта боль пройдет.
«Бессильны легонькие весла…»
Бессильны легонькие весла
И лодка вдруг побеждена,
По берегам помчались ветлы
И громом стала тишина,
И белой пылью водопадной
Клубится гибель впереди, —
И знаешь: это беспощадно,
И шепчешь: «Боже, пощади!»
«Запах сырости и воска…»
Запах сырости и воска,
В крестном знаменьи рука.
Плач ребенка, гнев подростка,
Взрослых смирная тоска.
Вьется ладан серовато,
Узко вечности окно.
Всё бессмысленно и свято,
Всё — не нами решено.
«Так трудится над тайной кулака…»
Так трудится над тайной кулака
Мальчонка, пальцы крестного считая,
И вот — разжал, и вот — ладонь пустая
И пустоты смущается рука.
Но ты напрасно шепчешь мне: «Не тронь», –
Я старше, я добрей и осторожней;
Чтоб не найти руки твоей порожней,
Я в бедную не загляну ладонь.
«Как тень горы, упала тень разлуки»
Как тень горы, упала тень разлуки
На светлый луг — и он померкнул весь.
В траву напрасно зарываю руки, —
Я здесь еще — и я уже не здесь.
А за горой, над самой острой гранью
Висит заката розовая прядь:
Я уложу ее в воспоминанье,
Прикрыв глаза, чтоб складок не измять.
«Ну и пусть — глупые, ну и пусть — злые…»
Ну и пусть — глупые, ну и пусть — злые, –
Но мы так одиноки, Господи!
Такая огромная черная ночь стоит над нами.
Прости нам наши жестокие игры земные,
Мы как дети, что спать боятся,
Из добрых рук вырываются
И с игрушкой в руках — засыпают.
Не отнимай у нас игрушек наших, Господи!
Если возьмешь их —
За что схватимся,
Что прижмем к сердцу,
Зажмурясь и падая-падая-падая
Из ночи в ночь?..
ВРЕМЯ РАЗЛУК. Четвертая книга стихов (Нью-Йорк, 1971)
Посвящаю памяти моего отца
Алексея Викторовича Девель
«Уходят лица, имена и даты…»
Уходят лица, имена и даты,
Смолкает звук любимого стиха.
Что было розой радости когда-то —
В листах альбома — ломкая труха.
Но я молю, забыв о расстоянье,
Забыв о тысячах ушедших дней, —
До моего последнего дыханья
Не уходи из памяти моей!
«Говоришь, что на нашем пути…»
Говоришь, что на нашем пути
Нам дороги домой не найти?
Говоришь, что мы нищи с тобой —
Нищи радостью, нищи судьбой?
Да, уже нам домой не успеть,
Нам чужие задворки приют, —
Но, привыкший бродить и терпеть,
Может нищий с отчаянья петь, —
А рабу – даже петь не дают.
«Степной бугор над бухтой синей…»
Степной бугор над бухтой синей
И высоты просторный свет,
И запах моря и полыни,
И мне, должно быть, восемь лет.
Здесь солнце крепче, ветер чище
И песня тайная слышней:
Сейчас она меня отыщет
И больше не расстанусь с ней!
ДОМА
В саду было всё, что надо
Простому людскому счастью, —
Беседка из винограда
И клумба со львиной пастью;
В тени запыленных елей
Качался легко и мерно
На зыбкой доске качелей
Дочитанный том Жюль-Верна.
Я семечки — на копейку —
В беседке грызу украдкой…
А дедушка поднял лейку
Над теплой вечерней грядкой.
«Цветет акация – тепло, обильно…»
Цветет акация – тепло, обильно;
Балкон в сору, в медовых лепестках.
А на перилах – блюдце пены мыльной
И, как свирель, соломинка в руках.
И он растет из моего дыханья –
Прозрачный, радужный, и заключен
В нем круглый мир и ветра колыханье,
Мое лицо, акация, балкон…
Вот, проведя по полу светлой тенью,
Он отделился, словно спелый плод, –
Еще не веря своему рожденью,
Еще колеблясь, в воздухе плывет.
И вдруг поверил, начал подниматься,
Смелее, легче, вовсе без труда…
Застыл. Исчез. Он жил секунд пятнадцать.
И нет его. И не ищи следа.
«Лесопилку бором обступило…»
Лесопилку бором обступило.
Розовеют россыпи опилок,
Пахнет бревен сваленных кора.
На пенек из чащи придорожной
Бурундук взобрался осторожный,
Рыжий горбик для прыжка собрав.
Пожелай себе звериной доли,
О, душа, забудь о прошлой боли
И о той, что зреет впереди, —
Стань покойней, зорче и смиренней,
И в потоке солнечных мгновений
Только будь — и ничего не жди.
«С орехом белка бросилась к дуплу…»
С орехом белка бросилась к дуплу,
И ласточка в гнездо нырнула — дома.
И муравей по серому стволу
Перебежал тропинкою знакомой.
А я без цели медлю на пути.
Легла в траву. Тепло. Глаза прикрыла.
И мне не то что некуда идти,
Но только вот зачем идти — забыла.
ОДУВАНЧИК
Головой прозрачно-серой
Приподнявшись над травой,
Мне навстречу вышел первый
Одуванчик луговой.
Из пушинок цепких сложен
Чисто высохший цветок –
Так умно неосторожен,
Так бесстрашно одинок.
И одна его забота,
Радость верная одна –
Что созрели для полета
Новой жизни семена.
«В малиннике под пологом жары…»
В малиннике под пологом жары
Таятся ягод розовые плети.
Пусть вдохновенно жалят комары,
Царапины пунктиром кожу метят, —
Сбирают пальцы теплый урожай
И пахнет он благословенным летом
И тишиной, что высится, дрожа,
И вся струится воздухом согретым.
И в памяти — сквозь грохот, пыль, тоску –
Еще лежит молчанье той долины,
Как на ладони в розовом соку
Светящаяся ягода малины.
ЯСЕНЬ
Вот свежий пень и щепок след:
Здесь ясень мой срубили.
Стоял он много тихих лет,
Крепчая в стройной силе.
И, так спокойно сожжены,
Золой распались жгучей
Все сорок три его весны
И осени летучих.
Мой друг, — с покорной простотой
Тепло отдавший людям,
Теперь твой дух за той чертой,
Где все мы вместе будем.
Теперь ты в облачном саду,
Где жечь и резать — нечем,
И я иду к тебе, иду
Для неразлучной встречи!
«Серый блеск ноября в лесу…»
Серый блеск ноября в лесу,
Желтой глиной скользят откосы,
И дождя студеную россыпь
Обронила ель на лису.
Рыжим огненным языком
Прометнулась она без звука
Меж стволов серебряных бука,
Где ей каждый корень знаком.
На тропинке мокрой стою,
А во мхи, в ледяную жижу,
Окунул простуженный рыжик
Безнадежно шляпку свою.
Дождь, туманы лесных дорог, —
Я недвижно сливаюсь с ними,
Я свое забываю имя
И роняю — как шишку в мох.
«Холод, ветер… А у нас в Крыму-то…»
Холод, ветер… А у нас в Крыму-то
У кустов – фиалок бледных племя,
И миндаль, как облако раздутый,
Отцветает даже в это время
Там, над морем. А у нас в Стамбуле
По террасам над Босфором синим
На припеке солнечном уснули
Плети распушённые глициний, –
Разленилось. А у нас в Белграде,
Хоть ледок еще по лужам прочен,
Но вороны с криком гнезда ладят,
И трава пробилась у обочин
Тех тропинок… А у нас в Тироле
Мутный Инн шумит в весеннем блеске,
И в горах, где дышится до боли,
Зацветают вереск и пролески.
И стоит сквозной зеленый конус
Лиственницы нежной на пригорке.
До нее я больше не дотронусь,
Не поглажу. А у нас в Нью-Йорке…
«У тайны воскресения…»
У тайны воскресения
Стоя потрясена –
Земля моя весенняя,
За что ты мне дана?
Земля моя, зеленая
Звенящая земля,
Любовь неразделенная,
Но лучшая моя!
«На весенних кленах даже листьев нет…»
На весенних кленах даже листьев нет,
Только красноватый неумелый цвет.
Не трепещет тенью серых веток взмах
И морщин слоновых лепка на стволах.
Под высоким солнцем медленно иду,
Ощущая радость остро, как беду,
И родство с косулей, крокусом и тлёй –
Кровное со зверем, травное с землей.
«На небе туч лиловый груз…»
На небе туч лиловый груз,
По саду дробный шелест градин, –
А хрустко взрезанный арбуз,
Как иней розовый, прохладен.
Когда же молнии косой
И быстрый трепет громом ахнет,
Не то арбузный сок грозой,
Не то гроза арбузом пахнет.
«Слетает легкий лист один»
Слетает легкий лист один,
За ним другой и третий тоже:
Их ветер вдруг освободил,
Но возвратить уже не может.
Летят, потерянно кружась,
Кренясь, взметаясь и вращаясь,
К высокой ветке обращаясь, —
Еще хоть раз. Еще хоть раз.
Но ветка в солнечном тумане
Над обреченными земле —
Всё выше, выше, всё желанней,
Всё невозможней, всё милей.
«Речка чернеет в снегу…»
Речка чернеет в снегу,
Льется муаром под лед,
Что-то звенит на бегу,
Что-то поет.
Солнце снега припекло,
В искорках потный сугроб,
Хрупких сосулек стекло
О землю хлоп!
Вербы цветут веселей,
Ширятся лужи синей, —
Скоро на волю земле —
Радуйся с ней!
«Я липовый лист в лесу сорвала…»
Я липовый лист в лесу сорвала
И с ним опустилась к земле, в траву.
Хвала тебе, мир весенний, хвала
За то, что я в солнце твоем живу!
И сыростью сочной несло с земли,
Комочки шуршали в моей горсти:
И мы зеленели, и мы цвели,
И, может быть, будем опять цвести.
Коснется нас мудрой рукой Творец —
И в жизнь облекается серый прах;
И ты, и земля, и лист, и скворец —
Мы все только глина в Его руках.
И горестно только время разлук,
И страха священного не побороть,
Когда вдохновенным касаньем рук
Нам новую Мастер готовит плоть.
«Мокрым камнем пахнет водопад…»
Мокрым камнем пахнет водопад,
Пенный шум висит в ущелье узком,
И слюдой дробленою блестят
Повороты каменного спуска.
Я иду на стройный этот шум,
Окунаюсь радостно и жадно
В легкий холод пыли водопадной
И бурлящей музыкой дышу.
В РОУДОНЕ
Держит еще упрямо
Жизни ушедшей тлен
Над прогорелой ямой
Прямоугольник стен.
И меж следов коровьих,
Сорных пахучих трав
Зреет еще крыжовник,
Тускло-румяным став.
Тлена не замечая,
Щурясь на самолет,
Мальчик-пастух, скучая,
Ягоды в полдень рвет.
«Слушай, Жизнь! Меня, твою родную…»
Слушай, Жизнь! Меня, твою родную,
Тоже где-то в мире сохрани, —
Я тебя к стихам моим ревную.
Я уйду — останутся они.
Ими полны многие страницы —
Легкий нержавеющий сосуд, —
Чей-то с ними взгляд соединится,
Чьи-то губы их произнесут…
Я беру лицо твое в ладони:
Посмотри и улыбнись опять.
Неужели ты меня прогонишь,
Словно невнимательная мать?
Мне недолго пить красу земную,
Но пока я вижу и дышу —
Я тебя, любимая, ревную
Даже к моему карандашу.
«Это было… Нет, уже не помню дат…»
Это было… Нет, уже не помню дат:
Это было двадцать лет тому назад.
Стих недавно эскадрилий тяжкий гул,
Мир еще не все воронки затянул,
И, споткнувшись на пороге перемен,
Наше прошлое дало смертельный крен:
Наш корабль прилег устало на волну
И пошел со всей поклажею ко дну.
С нами ж дивные свершались чудеса —
Нас небесные спасали пояса, —
И — не нужные ни другу, ни врагу —
Вот стоим на безымянном берегу.
Все заботы, сожаления и страх
Мы сжигаем на спасительных кострах.
Наша жизнь еще пустынна и вольна,
Наши где-то утонули имена.
Так чудесна бесприютность и легка,
Как несущиеся в небе облака.
Только нас, увы, заметили с земли
И отправили за нами корабли.
Снова вьется муравьиная стезя,
Снова в небо неоглядное нельзя, —
И лишь память потаенная остра
О блаженной невесомости костра.
«Говорят:“Пора привыкнуть. Что ты…»
Говорят: «Пора привыкнуть. Что ты
Смотришь, как дитя на карусель,
Как баран на новые ворота,
На обыкновеннейший апрель?»
Но, идя тропой навстречу маю
В легковейном вишенном снегу,
Я вполне барана понимаю —
К чудесам привыкнуть не могу.
«Снова весенние фокусы…»
Снова весенние фокусы:
Прямо из зимней земли
Нежно-лиловые крокусы
Вылезли и расцвели.
Что же из этого следует?
Критик нахмурился тут.
…Следует? Бог его ведает!
Фиалки, пожалуй, пойдут.
РЯДОМ С ВЕСНОЙ
Сеется редкий дождь,
Солнце сквозит за ним –
Позолотило рощ
Серокудрявый дым.
Робкую тень мою,
Под ноги бросив мне,
Отняло вновь. Стою
В пасмурной тишине.
Капли щекочут лоб,
Словно и я жива.
Вот и опять светло —
И подросла трава.
«Пусть шорох желтого листа…»
Пусть шорох желтого листа
Смиреннее и суше стона, —
Но кровь зеленая чиста,
А смерть легка и благовонна.
И столько мудрой простоты
В ветвях, подъятых к небу строго,
Как будто ветви и листы
Не солнцу молятся, а Богу.
«Ветер дергает зонтик из рук…»
Ветер дергает зонтик из рук
В моросящий снежинками холод,
Треплет полы унылых старух:
Он, как дети, стремительно-молод.
Им он — облака свежий глоток
И весны безрассудный предвестник,
Первый белый озябший цветок,
Первых птиц позабытые песни…
Ветер, ветер, — прости мне вину,
Что, от слез леденящих слепая,
Я в твою молодую волну
Осторожной старушкой ступаю!
«Нет, в ней разрыва нет…»
Нет, в ней разрыва нет
И даже узелков,
В той нити, что на свет
Вела из детских снов.
И это я в игре
Касаюсь ворса лбом
На вытертом ковре
На серо-голубом.
И это схвачен мной
У мокрых скал морских
Подброшенный волной
Мой самый первый стих.
И это отдан мне
Весь мир из Божьих рук,
И я стою в окне
Вагона всех разлук.
Старушечья скамья
И стайка воробьев…
И там, должно быть, я –
Не вижу без очков.
«Из норки бурундук метнулся и исчез…»
Из норки бурундук метнулся и исчез,
По небу облако переползло спокойно.
Нет, жизнь не только боль – она и этот лес,
Она и этот блеск, и этот шорох хвойный.
Вот шишка под ногой подсохшая хрустит.
Вот рыжики во мху и капли в паутине…
Нет, жизнь не только боль, не только ложь и стыд,
Она – и этот день благословенно-синий.
«Вошел, как вестник…»
Вошел, как вестник
Иных миров, –
Светло суров, –
Коснулся песни
Концом жезла –
И душу сузил
В горячий узел
Добра и зла.
Кто славу любит,
Он узел тот
Легко разрубит,
По нем пройдет.
Кто правды жаждет –
Тот занемог,
Того развяжет
Последний вздох.
«Говоришь – толпа. Но ведь это люди…»
Говоришь – толпа. Но ведь это люди:
Мать, жена, возлюбленный, брат, –
Кто-то где-то их ждет, волнуется, любит,
Их приходу, как солнцу, рад…
Если ж нет у кого в этой дольней стуже
И родной души на земле,
Если кто никому и нигде не нужен –
Их тем более пожалей.
«Снова одинокая…»
Снова одинокая
Провожаю я, –
Отплывает легкая
Лодочка твоя.
И одна на пристани
Я слежу за ней, –
Я смотрю всё пристальней,
Вижу всё мутней.
Не слышны уключины,
Ярок тихий плес…
А глаза приучены
Щуриться без слез.
Так светла излучина
Твоего пути.
… А душа приучена
Говорить «прости».
«Жизнь была натянута, как парус…»
Жизнь была натянута, как парус,
Полный ветром солнечного дня,
Но к поре закатного огня
Штиль упал – и наступила старость…
И она мой парус убрала,
Скрипнула уключиной весла,
И на мой недоуменный зов:
«Доплывешь теперь без парусов!»
«Сидел мальчонка маленький…»
Сидел мальчонка маленький
С удилищем в руке,
Другой повис зеркально к ним
В струящейся реке:
Подошвами приклеился
И в облако повис,
И даже не разделся он,
А головою вниз.
В воде один поблескивал,
Другой примолк на пне,
И связанные лескою
Задумались вдвойне.
А под пеньком мальчишечьим
Вода плыла, тиха, –
Еще, пожалуй, тише, чем
Рождение стиха.
«Если сядешь в лунный омут на полу…»
Если сядешь в лунный омут на полу –
Шелковинку вденешь запросто в иглу;
А заглянешь в опьяневшее окно –
Ночь висит, как голубое полотно.
И на землю льются лунные холсты,
А по ним теней прозрачные мосты.
За росистым, за мерцающим кустом
Вот бы мне к тебе прокрасться тем мостом:
Не манить тебя, не звать тебя ко мне –
Лишь разок привидеться во сне.
НОНА
Всё ярче неба розовые перья,
Прозрачная растаяла звезда…
За наскоро прихлопнутою дверью
В траве росы зернистая слюда.
Я не вернусь. Не обману доверья
Судьбы, смыкающейся, как вода,
Над оттиском последнего следа,
Последнего несказанного слова.
Пусть будет всё по-утреннему ново.
«Мокрый воздух снова полон блеска…»
Мокрый воздух снова полон блеска,
Солнце льется в облачный провал.
И лежит комочком занавеска —
Ветер грозовой ее сорвал.
Для него тесны коробки комнат,
Он еще о вольном небе помнит —
Он оттуда на крыле принес
Сладость вздоха после долгих слез.
«Свободна? О да, не спорю…»
Свободна? О да, не спорю, –
Да только что же!
И щепка в открытом море
Свободна тоже.
И щепкой кружусь одна я
В пустыне водной;
Плыву — а куда, не знаю –
Совсем свободно.
«Сну под утро вырасти…»
Сну под утро вырасти,
Днем темнеть во мне,
Словно пятнам сырости
На глухой стене.
Прерывая утренний
Беспричинный смех,
Тьмой клубиться внутренней,
Тайною для всех.
Всё мутней, огромнее,
Жутче, может быть;
Хоть его не помню я –
Не могу забыть.
«Из темноты и в темноту…»
Из темноты и в темноту,
Как по висячему мосту,
Бреду по жизни осторожно, –
И мост мой солнцем освещен,
Но хрупок он, но зыбок он,
И так легко сорваться можно.
И слева – черных туч полет,
А справа – радуга цветет…
Держусь за шаткие перила,
Иду – и откровенья жду,
Не знаю ведь, куда иду,
Откуда вышла – позабыла.
Идущих вижу впереди,
Идущих слышу позади –
Несчетна наша вереница, –
Но всех ведет единый путь,
И ни вернуться, ни свернуть,
И ни на миг остановиться.
«Говорили мудрые люди…»
Говорили мудрые люди,
Будто время только одно:
То, что было, и то, что будет,
В настоящее вплетено.
Значит, где-то еще вдвоем
Мы весенней рощей бредем…
Сколько света в первой листве!
Сколько белых фиалок в траве!
Хорошо, что памяти нет
О печали грядущих лет.
«Как шуршащий ворох разрывая…»
Как шуршащий ворох разрывая,
Боком скачет сойка голубая,
Как блестящ глазок и осторожен —
Я хочу, чтоб ты увидел тоже.
Как идет весна лиловым громом,
Плещет ливнем по лесным хоромам,
Бьет ручьем о каменное ложе —
Я хочу, чтоб ты увидел тоже.
Но живем с тобою параллельно:
Жизнь моя и жизнь твоя отдельно, –
Только там, в заоблачном пределе,
Говорят – сойдутся параллели.
«Так зябко было. И моя рука…»
Так зябко было. И моя рука
Тепла искала у тебя в кармане.
Мы проходили мимо кабачка,
Где надрывались тощие цыгане.
Вошли и столик заняли в углу,
Так хорошо – опять на нашем месте.
Мы радовались чадному теплу,
Тому, что вновь, на целый вечер вместе.
Мы заказали красного вина,
О чем-то говорили и молчали,
А музыка цыганская полна
Была извечной страсти и печали.
Теперь ничто не манит впереди,
Одна зола осталась от пожара.
Теперь за нашим столиком сидит
Другая очарованная пара.
«Как смирю грызущую муку?..»
Как смирю грызущую муку?
Сколько слез этой ночью вылью?
Как на казнь, мы шли на разлуку,
Ветер веял с развалин пылью.
Мы по улицам шли знакомым
Самых первых свиданий наших,
Но слова стали в горле комом,
Каждый шаг был тягуч и страшен.
Шли — не веря еще и веря —
Мимо прошлого, мимо, мимо…
Гарью дула в лицо потеря
Безнадежно, непоправимо.
На губах еще долго стыло
Ледяных твоих губ касанье, —
Потому что последним было,
Как последнее целованье.
«Дай руку из небытия…»
Дай руку из небытия,
Вернись в наш плотный, громкий день,
Ты, радость прошлая моя,
Без света свет, без тени тень!
Склонись к бессилью моему,
Мой ропот злой останови,
И снова на плечи возьму
Я бремя горя и любви.
«Грозы серебряная тьма…»
Грозы серебряная тьма,
Косой и щедрый ливень,
И похоронный аромат
Зеленоватых лилий.
Чернеет мокрая скамья,
Цветы мотает ветер.
«Родная, слышишь, это я!»
Не слышит. Не ответит.
Душа напрасно знака ждет, –
Он ею не заслужен.
И только облако плывет
В поголубевшей луже,
И солнце свежее в траве
Блестит таким покоем,
Что не смутить его вовек
Земной моей тоскою.
«Утром птица на кресте поет…»
Утром птица на кресте поет
И дымится ранняя роса.
В перьях птицы радугой восход,
А твои померкнули глаза.
Над тобой поставлен стройный крест
И венком петуньи расцвели,
И тебя давно корнями ест
Жадный пласт прихлынувшей земли.
Может быть, ты — лилий белый мед?
Шмель, гудящий в солнечном луче?
Может быть, ты птица, что поет
У креста высоко на плече?
«Теперь могу уйти во тьму…»
Теперь могу уйти во тьму,
Не причиняя зла, —
Я всех пережила, кому
Я дорога была.
Кто взмолится: «Не умирай!»
Кто запретит уйти?
Всё тихо. В заповедный край
Открыты все пути.
«Уходишь, всё легче во мглу скользя…»
Уходишь, всё легче во мглу скользя, —
Прости, прошу!
Казалось, дышать без тебя нельзя,
А вот — дышу.
Хоть радость неслышно ушла с тобой,
Есть жизнь во мне:
Должно быть, для жизни важнее — боль,
Нужней, родней.
«Позабудь и стоны и хрипы…»
Позабудь и стоны и хрипы
Тех, кто смотрит в лицо концу, —
Крупнолистую ветку липы
Притяни к своему лицу:
Есть в расцвете ее блаженном
То, что выше смерти и лжи, —
И так медленно, так мгновенно
Наше горькое счастье – жить.
«Там, шурша, струятся колосья…»
Там, шурша, струятся колосья,
Словно шелк, на сухом ветру.
Там находит тропинка лосья
Черный пруд в вековом бору.
Там, по пояс в низком тумане,
Над болотами, не спеша,
Утомленный проходит странник
С богомолья — моя душа.
«Над просохшим сидишь ручьем…»
Над просохшим сидишь ручьем,
Утомилась ты,
И лукошко легко твое:
В нем одни цветы.
Ты напрасно бродила тут,
У семи берез, —
Без дождя грибы не растут,
Как стихи без слез.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
О. Сергию Лягину
Чутко спит престарелый Иосиф.
Чтоб Ее он услышать не мог, —
Покрывало ночное отбросив,
Пробежала — не скрипнул порог.
К первым лилиям сонного сада
По ступенькам спустилась босой,
Где зари золотая прохлада
В скудных травах мерцала росой.
Вот источник — струя ледяная, —
Ей умывшись, легка и смугла,
С полным ковшиком, капли роняя,
Все на грядке цветы обошла.
Ветер дунул в тугих кипарисах
Ранним горьким дымком очагов,
И еще на ступеньках не высох
След неслышных девичьих шагов,
А она у простого налоя
В чистых сумерках кельи одна —
Вся молитвой над пылью земною,
Словно крыльями, вознесена, –
Отдавая смиренную душу
Богу — юной, но крепкой рукой…
Вдруг, молитвенный сумрак наруша,
Солнце хлынуло в тихий покой.
И, глаза ослеплен но зажмуря,
Их раскрыла, — и в пламени был —
Нет, не солнце, — небесная буря,
Горний ветер, гонец, Гавриил.
А в руке его лилия сада
В свежих каплях, стройна и бела,
Что сейчас сорвана у ограды
И в чудесном огне расцвела.
И над малым, над плотничьим домом,
Где Мария стоит чуть жива,
Грозной музыкой, радостным громом
Прозвучали святые слова.
И умолкли… Всё так же, всё то же,
Тесно, бедно простое жилье, —
Только стала избранницей Божьей,
Дух Господень сошел на нее.
Только радость земную отбросив,
Скорбь и счастье Ее вознесли, —
И взглянул в Ее очи Иосиф,
И склонился пред Ней до земли.
В ГОРОДЕ
1. «Черной пылью покрыт подоконник…»
Черной пылью покрыт подоконник,
В зябких сумерках замкнутый двор.
Воробьи на пожарном балконе
Торопливый ведут разговор.
Вдруг — молчок. Осторожно и быстро
Градом падают в крошки и — хвать.
И взлетают, как серые искры,
И поодаль щебечут опять, —
И щебечут, щебечут, щебечут,
Как людей они видят насквозь,
Как им темный подвох человечий
Быстротой обойти удалось…
И, готовя им новые крошки,
В одинокой своей тишине,
Он стоит, улыбаясь, в окошке,
Благодарный их звонкой возне.
2. «На стволах студеный зимний глянец…»
На стволах студеный зимний глянец.
В серых ветках ветер затяжной.
На пустой скамейке двое пьяниц
Сели тесно, к северу спиной.
Вот один откинулся и замер,
Вижу локоть выгнутой руки, –
А другой следит, и пьет глазами,
И считает долгие глотки.
Им обоим нет дороги к дому
И никто им на земле не рад…
Оторвался первый и второму
Молча, нежно отдает, как брат.
«Я стихов не пишу за столом…»
Я стихов не пишу за столом,
У меня просто нету стола:
Вечно близкий отъезд за углом,
Так и жизнь потихоньку прошла.
Но тетрадок плотнеющий вес
Я по свету возила всему, —
Только в самый последний отъезд
Даже этих стихов не возьму.
«Цвета серого железа…»
Цвета серого железа
Пухлый шрам среди ствола.
Боль от старого пореза
Посочилась и прошла;
Но тверды и кругло-грубы
Навсегда его края, —
И сочувственные губы
К ним прикладываю я.
«Не спрашивай, что будет там, потом…»
Не спрашивай, что будет там, потом,
Когда настанет миг прощанья и свободы, —
Ведь если что-то ждет — какое чудо в том!
А если ничего… Какой великий отдых!
СТИХИ. Избранное (Нью-Йорк, 1980)
«Здесь, в этом мире многосменном…»
Здесь, в этом мире многосменном,
Не забывай о небе звездном.
Со всех сторон объявшем нас,
О тайне, веющей оттуда
На жизни длящееся чудо,
На каждый день, на каждый час.
Будь тайне этой чуткой чашей, —
Пойми, нет будней в жизни нашей,
Дня мудрых в жизни будней нет, —
Сквозь боль, и гнев, и нетерпенье —
Свет изумленья и прозренья —
Неотвратимый звездный свет.
«Смотря альбом в осенней полумгле…»
Смотря альбом в осенней полумгле:
«Как хорошо мы жили на земле!» —
Подумала с улыбкой, забывая,
Что я случайно всё еще живая.
Но там, на снимках старого альбома,
С ушедшими давно, я больше дома.
О, память, память! Плача и любя,
Как мне за них благодарить тебя!
«В наш стройный мир, в его чудесный лад…»
В наш стройный мир, в его чудесный лад,
Мы принесли разбой, пожар и яд.
И ширится земных пожарищ дым,
Обуглен сук, где всё еще сидим.
Пока дышу, пока еще жива —
Прости мне, лес, прости меня, трава!
Хочу упасть на эту землю ниц,
Просить прощенья у зверей и птиц…
Последней жизни обрывая нить,
Прости нам, Боже! — Хоть нельзя простить.
«На людьми затоптанной полянке…»
На людьми затоптанной полянке,
Где окурком прожжена трава
И лежит, мерцающий едва,
Плоский перстень от пивной жестянки, –
Я тройчатку желудей нашла,
Гладких, плотных, буровато-ржавых,
Тесно севших в чашечках шершавых, –
И домой в кармане привезла.
Пальцы их бездумно извлекли,
Бросили – случайная причуда –
Трех дубов несбывшееся чудо,
Отнятое мною у земли.
«Двадцать лет — их как не бывало!..»
Двадцать лет — их как не бывало!
Снова я в любимом лесу,
И в ладони тепло-усталой
Смоляную шишку несу.
Пробираюсь знакомым бором,
Улыбаюсь. Грущу. Молчу.
Больше нет уже тех, которым
Я о нем рассказать хочу.
«Много желтых листьев попадало…»
Много желтых листьев попа дало,
В их сухом сугробе стою…
Милый друг, прощай — пусть нена долго, –
До свиданья в ином краю.
Где под вечным солнцем, как водится,
Нерушимо цветет весна…
Я не знаю, где он находится,
Но дорога к нему одна.
«Прощаясь мирно с радостью земной…»
Прощаясь мирно с радостью земной,
Я оставляю всю ее в наследство:
И солнцем позолоченное детство,
И молодость с лирической луной.
И зрелости свободной тишину,
И бледную прохладу увяданья,
И с тихой музой редкие свиданья –
Всё в малой го рсти бережно сомкну.
И брошу в мир, как на последний суд,
В бутылке запечатанное слово, –
И, может быть, у берега родного
Она пристанет, и ее найдут.
ПОСЛЕ ДОЖДЯ
Закипает каплями круглый водоем.
Каменная девушка мокнет под дождем.
В сумрак влаги шепчущей, в запах мокрых роз,
Раздвигая облако, солнце прорвалось.
Побежало искрами, остро и светло,
По воде, по девушке блеском потекло.
А в ладони каменной, вогнутой у ней
Пьет и озирается бодро воробей.
Я с веселой нежностью перед ней стою –
Словно я от свежести из ладони пью.
«Прикрыв глаза, сидеть в лесу на пне…»
Прикрыв глаза, сидеть в лесу на пне
И радоваться мшистой тишине,
Где только шорох млеющий один
Безудержного трепета осин,
Где солнце греет сеткой вырезной,
А на опушке ежевичный зной,
И, сенным духом сладостно полна,
Вплывает в лес горячая волна.
Прикрыв глаза, сидеть в лесу на пне
В бездумной и блаженной тишине,
Где, как осина легкая, шурша,
Без слов и мыслей молится душа.
«Огневой подобны парче…»
Огневой подобны парче
Облаков закатных хоромы.
В золотом вечернем луче
Пляшет мошек рой невесомый.
Свет последний — как он хорош,
Как с ним мошек движенья слиты!
Скоро луч погаснет — и что ж:
Нет от ночи у них защиты.
Где он спрячется, робкий рой,
Звездной выслеженный могилой?
Если слышишь — спаси, укрой,
Защити, сбереги, помилуй!
«В этом есть и своя услада…»
В этом есть и своя услада,
Если в жизни идешь одна, —
Мне спешить никуда не надо,
Никому всерьез не нужна.
И ничьей не связана властью,
Проживу, пожалуй, и так:
Улыбаясь чужому счастью
И гладя чужих собак.
«Ни к чьему не примыкая стану…»
Ни к чьему не примыкая стану
И ничьей не покорясь звезде,
Я уже нигде своей не стану,
Дома не найду уже нигде.
Сквозь земные горькие обиды
Чужестранкой призрачной бреду,
Как печальный житель Атлантиды,
Уцелевший на свою беду.
ПОЛДЕНЬ
Медово-зелен спелый виноград
На деревянном остове беседки:
На грузных гроздьях капельки горят,
К ним осы льнут, настойчивы и едки.
Так пьян и нежен летний аромат,
Так сонно-сухи солнечные ветки,
Что первых строк ликующий отряд
Летит в пылу лирической разведки —
И вот запнулся в жаркой тишине
И тайным эхом плещется во мне.
Неспешный день так ясен и отраден,
Что говорят не строфы, не слова,
Но вырезная крупная листва
И запах перегретых виноградин.
«В садах, где прохладные астры цветут…»
В садах, где прохладные астры цветут,
Где яркий отдельный листок подбираем,
Опавшие листья сгребают и жгут,
И пахнет дымок их разлукой и раем.
Последние солнцем прогретые дни,
Последняя в книге зеленой страница…
Но чем-то прощальная горечь пьянит
И радостью тайной по жилам струится.
«В прозрачном небе вещий холодок…»
В прозрачном небе вещий холодок.
Подсохшие деревья посветлели —
И вот плывут осенние недели,
Один шуршащий золотой поток.
Гоняет ветер пурпурный листок.
Упругие заброшены качели.
Забиты ставни. Птицы улетели.
И дом нахохлен, стар и одинок.
А я тропинкой медленно бреду,
Мне так просторно дышится в саду,
Отцветшем, отзвеневшем, отлюбившем.
От всех земных забот отрешена,
В усталый мир нисходит тишина,
Смиряя боль о бывшем и небывшем.
НА СТАРОМ КЛАДБИЩЕ
Плывет сияньем полдень мирный
Над жарким камнем стертых плит.
Жук синеватый, ювелирный
В огромной мягкой розе спит.
Подходит смерть, не скрипнув дверью,
Но жизнь рождается опять —
В сиянье, в горе, в благодать, —
И нет конца ее доверью.
«Дрожащим отливает серебром…»
Дрожащим отливает серебром
На берегу осиновая рощица
Над гладким непоседливым бобром,
Что деловито в озере полощется.
Стволы и ветки носит для запруд,
Сплетает их с неутомимым рвением,
И смотрит солнце на бобровый труд
Светло и тихо, с полным одобрением.
Но человек, упорный лиходей,
Разрушил дом и отнял жизнь звериную…
Ах, если б в мире не было людей,
А только теплый берег под осиною!
«Спасибо жизнь, за то, что ты была…»
Спасибо жизнь, за то, что ты была,
За все сиянья, сумраки и зори,
За мшистый бок тяжелого ствола
И легкий парус в лиловатом море,
За всё богатство дружбы и любви
И тонкий холод одиноких бдений,
И за броженье светлое в крови
Готовых зазвучать стихотворений, –
Со всем прощаясь – и не помня зла –
Спасибо, жизнь, за то, что ты была!
СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ
РАЗБОЙНИЧЬЯ ПЕСНЯ
Заря струит по гребню гор
Свой розовый огонь.
Ретиво бьет о мерзлый двор
Подковой звонкой конь.
В деревне крики петухов,
Что брызги серебра,
Пора оставить дымный кров.
Прощай, мой друг, пора!
Мой конь разбойничий крылат,
Летать его удел, —
Твоей любовью я богат,
Твоей молитвой смел.
Я полечу от синих гор
К далеким берегам,
И всё, что встречу, с этих пор
Кладу к твоим ногам.
Прощай, не плачь! Костями лечь
Не собираюсь я, —
Со мной мой конь, со мной мой меч,
Со мной любовь твоя.
Когда умолкнет в ранней мгле
Копытный гул и гром,
Ты припади к сырой земле
Младым своим челом.
И помолись, чтобы она
Благой была ко мне,
Чтобы летал я легче сна
На ретивом коне.
А если – если чей шальной
Мне сердце вырвет меч, –
Чтобы я мог к земле родной
В объятья мирно лечь.
Прощай, не плачь! Ползет туман,
Всё ярче блеск зари, —
Я привезу из дальних стран
Шелка и янтари.
Я привезу цветной огонь
Алмазного шитья…
Сверкай же, меч, скачи же, конь
Ликуй, любовь моя!
«Пряный запах моря и фруктовой лавки…»
Пряный запах моря и фруктовой лавки,
Дремлющая площадь в солнечной пыли.
На стене по карте — пестрые булавки:
«Отступили!» — «Взяли!» — «Снова в тыл зашли».
Полон дом газет, приносят телеграммы.
Карта вся в уколах. «Ей не больно? — Нет».
Я вчера видала, у знакомой дамы,
Как фата, прозрачный черный креп надет.
Покупала груши — я стояла рядом,
Посмотрела блестки непролитых слез,
А над лиловато-ржавым виноградом
Вился липкий танец охмелевших ос.
Видно, что-то знают, но молчат большие,
Сунут мишку, мячик — отведут глаза.
«Няня, как молиться надо о России?» —
«Нет такой молитвы — кушай, егоза».
«Последний лист на дереве сквозном…»
Последний лист на дереве сквозном,
А в ясном небе — злой, прозрачный ветер.
Порыв, еще — и желтым лоскутком
Кружится лист в осеннем легком свете.
И вот упал, и вот затоптан в грязь, —
Но не забыто светлое круженье.
Так помнит дух, над телом возносясь,
Святую боль освобожденья.
«Как в раковине замкнут темный гул…»
Как в раковине замкнут темный гул
Давно отрокотавшего прибоя,
Так в снах моих чудесно берегу
Твой образ, мне завешанный судьбою.
И скорбь моя, прозрачна и строга,
В одной сольется песне богоданной, –
Так только боль рождает жемчуга
В тяжелой бездне океана.
«Наш дух, с надеждой и сомненьем…»
Наш дух, с надеждой и сомненьем
Вонзивший в небо страстный взлет,
Мерцает голубым свеченьем
В тяжелом мраке вечных вод.
И кто-то страшный и безмолвный,
Склонившись над святой рекой,
Светломерцающие волны
Мутит задумчивой рукой.
И беглой молнии касаньем
Потрясена, ослеплена –
Душа навек воспоминанья
Невыразимого полна.
«Как эта ночь прозрачна и светла…»
Как эта ночь прозрачна и светла,
Вся звездная, вся неземная…
Прислушайся, поют колокола
Нам наяву приснившегося рая.
Он в легком мраке тайно растворен,
Он — звездный трепет и твое дыханье.
Молчи, молчи. И слушай горный звон,
Так скорбно светел, так приветен он,
Как будто эта ночь — уже воспоминанье.
«Больше ласки, простоты, покоя…»
Больше ласки, простоты, покоя, –
Всё на свете суета сует.
За тобою и перед тобою
Миллионы миллионов лет.
Всё пройдет, как тонкое дыханье
Ветерка, коснувшегося нас, –
Всё, и наше детское страданье
В этот горький и чудесный час.
Не печалься, дай мне эти руки…
Не бунтуй – всё суета сует.
Каждый миг наш – это миг разлуки
С тем, что было и чего уж нет.
Но, быть может, сердце достучится,
Отопрут – и время вдруг замрет,
В вечном солнце так отрадно спится
Без любви, без боли, без забот.
УЕЗЖАЯ
Я завидую склонам горным
И колючей пыльной агаве,
Кипарисам тугим и черным,
Даже ослику из Канавле.
Даже камню древней Минчеты
И рыбачьей лодке у мола,
Чьи ступени солнцем прогреты
По рисункам белым рассола,
И коричневому монаху, —
Все останутся здесь, не споря…
Помолюсь-ка святому Влаху,
Чтоб скорее вернуться к морю!
УМЕРШИЙ ДЕНЬ
Над землей — бархатистая тень,
Бездна неба стеклянно-пустая.
Остывает померкнувший день,
И душа его в рай отлетает.
Розоватым струеньем плывет
Снова к лону творящего Бога…
Кто их, легкие души, сочтет
У Его голубого чертога?
Был невиден земной его путь —
Однозвучный, неяркий, унылый…
Но подумай, — его не вернуть
Никакою волшебною силой!
И с ночной утомленной земли
Глядя вслед в безотчетной печали, –
С ним немножко и мы отцвели
И немножко души потеряли.
ИЗ «ТИРОЛЬСКОГО ЦИКЛА»
Апрельский снег так нежно-бел,
Так легок на лугу зеленом —
Он пылью тающей осел
По примулам и анемонам.
Лишь вереск розовый, сухой
Над ним пружинится кудряво…
О, что в сравнении с тобой,
Моя весна, земная слава?
— Как озорного ветра бег,
Несущего края метели,
Как этот удивленный снег
На расцветающем апреле.
ВЕСЕННЕЕ
Подо льдом пушистым и расколотым
Заходила черная река.
Голый куст расцвел пушистым золотом
И цветок зажегся от цветка.
Первый лист пробился неуверенно,
Улыбнулся — и других зовет.
Только ветер мчится, как потерянный,
И своей земли не узнает.
ЗАПОВЕДНЫЙ ЛУГ
За каменным хребтом,
За срывом сизых круч,
Где в топи облаков
Светло растаял луч, —
Есть заповедный луг,
Зеленый, золотой,
Весь ясной тишиной
И медом налитой.
Не смяла сочных трав
Еще ничья нога,
Никто их не сгребал
В пахучие стога, —
И только в суете,
Объята серым днем,
Когда я замолчу,
То замолчу — о нем.
К ВЕСНЕ
Еще студен, безароматен
Под солнцем мартовский простор –
Он лег узором снежных пятен
На опаленный косогор.
Но звучен гам в вороньем стане,
Но влажен хруст шагов на льду.
Но зелен сок травинки ранней,
Растертой в пальцах на ходу.
Стволы прозрачно-серой чаши
Мой путь весенний стерегут
Да от столба к столбу летящий
Упругий проволочный гуд.
И вот ушли сады и крыши,
Свежее ветра талый хмель,
А я иду всё выше, выше —
Туда, где солнце, жизнь, апрель.
«Нет во мне ни трепета, ни крика…»
Нет во мне ни трепета, ни крика,
Ровен шаг мой, бестревожен взгляд. –
Но любовью тихой и великой
Возлюбила я тебя, земля.
За твои смиренные дороги
В мягкой, теплой, солнечной пыли;
За мечту о милосердном Боге,
Древнем утешителе земли.
И за след ноги босой и грубой
На пути пустынном, полевом.
И за то, что помнят чьи-то губы
О случайном имени моем.
ИЗ НЬЮ-ЙОРКСКОГО АЛЬБОМА
1. «Три китайчонка — личики чуть намечены…»
Три китайчонка — личики чуть намечены
И прямые черные волосы в скобку —
Нашли на улице таз искалеченный
И от бисквитов большую коробку.
Влезли и, узко мерцая глазками,
Смеются и в гонг ударяют яро, —
Плывут за океан за драконьими сказками
От заплеванного тротуара.
2. «Злой локоть оттиснул прочь…»
Злой локоть оттиснул прочь,
В напоре сжатые челюсти…
Трясет железная ночь
Толпу в ее дикой прелести.
И где уж нам не позабыть,
Как небо зарей румянится.
Здесь жизнь земную любить
Умеют — дети да пьяницы.
ИЗ ЦИКЛА «СЕВАСТОПОЛЬ»
На колени просилась к няне,
Прижималась к ней, присмирев, —
Потому что в ночном бурьяне
Притаился и смотрит — лев…
Светляков проплывали искры,
Что глаза. А над срезом крыш,
Заметавшись, грозила быстро
Злым крылом летучая мышь.
И русалий хохот лягушек
Шевелил безлунную ночь,
Словно их зеленые души
Улетали с хохотом прочь…
…Пахла няня кофе и ситцем,
А ладонь как терка была.
Даже страхом легко томиться
Под оградой ее тепла.
«На песке рисую тростью…»
На песке рисую тростью
Дым витым столбом.
Полно быть смущенной гостьей, –
Где-то есть мой дом.
Или только боль разлуки
В долгом забытьи?
Никогда в родные руки
Не вложить свои?..
Пусто, пусто в мире новом,
Где одни бредем, –
На песке лишь нарисован
Наш ненужный дом.
«Боль за болью и за годом год…»
Боль за болью и за годом год,
Словно платье, душу износили, –
Даже странно, что весна придет
В неизменной свежести и силе,
Что и я к весне могу прийти,
Нищая, и сесть несмело с краю.
Пусть уже на солнечном пути
Я живых цветов не собираю, —
Память крепче жадности земной,
Что берет любимое насильем, —
Память медленным подобна крыльям
Над нетленно-радостной весной.
«Жарко небо дымно-голубое…»
Жарко небо дымно-голубое,
Жарок берег, каменист и крут.
Золотые метлы зверобоя
В жарком щебне полудня цветут.
Время сонное плывет без шума,
Как рекою плоские баржи…
Ты прикрой глаза, не жди, не думай,
Узелок заботы развяжи.
Шорох осторожного прибоя,
Брызги, сохнущие на лету.
Золотые метлы зверобоя
В неподвижном солнечном цвету.
«Пенек в чернике на опушке…»
Пенек в чернике на опушке.
Два мухомора. Муравьи.
В лесу — далекий зов кукушки
И след замшелой колеи.
В сиреневых потеках воска
Стоят еловые стволы,
Как терема смолистой мглы,
Вдруг озаренные березкой;
Коры прозрачный лоскуток
Срываю — шелковый и белый, —
Как раз на палец загорелый
Мне обручальный завиток.
Вздохну — и ухожу проворней,
Пока не побежали корни
От ног, а руки от земли
Сырой листвой не проросли.
ДЕТСТВО
Детство пахнет щенком,
Свежим морем, пчелиным гуденьем,
Самоварным дымком
И малиновым теплым вареньем,
Затхлым запахом книг,
Красноватою бронзой загара, —
Как у них, у живых
Благородных индейцев Эмара.
«Мне оттого зимой так одиноко…»
Мне оттого зимой так одиноко,
Что так прямы и узки тротуары,
Так пуст их лоск нечистый, сероватый:
Не разбегутся солнечным извивом,
Тропинкой росной в золотой орешник;
По мягкой осыпи не съедут к речке;
Не взгромоздятся холмиком зеленым,
Чтоб оглядеться и вздохнуть привольно…
Вокруг меня снуют чужие люди,
Снуют чужие люди и толкают.
Их суета мешает тихо мыслить.
И давят душу сплющенные стены
Домов, глядящих мрачными, пустыми
Глазами окон, плоско застекленных.
Нет у меня блаженной тяги к людям, —
А все мои друзья теперь далёко, —
Одни — сорвались с тонким щебетаньем,
Растаяли стремительным полетом
В воздушной, легкой, голубой пустыне,
Они сейчас, проворные, щебечут
В стране, где сухи и прозрачны дали,
Где солнечный песок хранит бездумно
Людской тщеты торжественные склепы,
Разграбленные хищником беспечным.
Другой мой друг — мохнатый — спит в берлоге
И лапу грузную сосет уютно, —
А третьи — там, под звонким, синеватым
Наречным льдом, во мгле, остановили
Упругих, блестких тел живые веретена,
Так пресно пахнущие сыростью глубинной.
Мне так внятна их жизнь, друзей моих далеких,
Не доверяющих любви моей по праву
Звериного чутья, звериной правды, — ибо
Бессмысленной и праздной им она
Должна казаться. Птица ищет птицу,
И вместе вьют гнездо, и птенчиков пискливых
В заботе резвой кормят червячками, —
Пока горластые не опушатся
И не распустят глупенькие крылья
Навстречу жизни вольной и тревожной.
Так ищет зверя зверь, и рыба рыбу ищет,
И мотылька цветистый мотылек.
И тянут стаи, и стада пасутся,
И табуны грохочут по равнинам…
Един закон – и он могуч и прост,
И в простоте таинственной божествен.
Но нет во мне блаженной тяги к людям,
Моим законным братьям. Тщетно я
К ним обращаю ищущую душу —
Иль немы души их, иль я для них глуха.
Мне сладостней, мне ближе гул прибрежный,
И шорох ветра в травах полевых,
И майского жука гуденье на закате,
И неуклюжий, молодой полет
Дрожащих крылышек под влажной, рыжеватой
Скорлупкою надкрылий. О, земля!
О, свежий дух над пахотою жирной!
О, дождь, пронизанный весенним легким солнцем.
О, радуги раскидистой цветенье
На теплой влаге сбитых облаков…
Нет у меня блаженной тяги к людям,
Моим законным братьям, о земля!
«Из щепочек аэроплан подклеен…»
Из щепочек аэроплан подклеен,
Пропеллеры бумажные пестры,
И негритенок на ветру аллеи
Летит на крыльях радостной игры.
Пропеллеры вращаются всё чаще
И дисками гуманными шурша, –
Глаза мальчишки выпукло-блестящи,
Летит, летит, взволнованно дыша…
И разом к матери – сейчас покажет:
Но до кафе полета не донес –
На щепке банты четырех бумажек
И на глазах густые капли слез.
«Из тьмы бездонной на короткий миг…»
Из тьмы бездонной на короткий миг
Раскрыть глаза и а синеватом блеске
Увидеть стул, и столку пестрых книг,
И крылья кружевные занавески.
А за окном веселый детский крик
И колокол по ком-то мерно плачет…
И, распахнув одну из многих книг,
Спросить – зачем? И что всё это значит?
Нет мудреца, которому ясна
Его дорога в странном мире этом,
И колокол, и дети, и весна…
И книга тоже не спешит с ответом.
«Я всё утро бродила в неясной тревоге…»
Я всё утро бродила в неясной тревоге
И рассеянно слушала улицы гул:
Почтальон оступился на нашем пороге,
Покачал головой и письмо протянул.
И когда уходил, осторожно ступая,
И болталась тяжелая сбоку сума, –
Он не видел, как разом надежда слепая
Прозревает – и счастьем глядит из письма.
ПАМЯТИ Б.Л. ПАСТЕРНАКА
Последний вздох, как взмах крыла –
Начавшийся полет.
Погоня близко – догнала –
Взяла… Но дух живет.
Был пленом твой земной удел –
И вот закончен плен.
Но ты не к смерти отлетел –
Ты словом смерть преодолел, –
Отдав себя взамен.
ПЕРВЫЙ СНЕГ
Вот снежинка слегает разведчицей
И в полете кивает второй,
А за ними толчется и мечется
Серой вьюги развязанный рой.
Шелестит, и кружится, и падает,
Словно в обмороке или сне…
Почему он, как музыка, радует?
Чьим ответом слетает ко мне?
«Задержался в окне вагона…»
Задержался в окне вагона
Меж акаций, цветущих тесно,
Дачный домик с косым балконом
И продавленным низким креслом.
На перилах — костюм купальный,
По газону — литые гномы…
Почему мне за них печально,
Словно были во сне знакомы?
Но колеса грохочут слитно, —
Вот проселок, сосна, болото.
Как чужая жизнь беззащитна!
Как беспомощно жаль кого-то!
МУЗЕ
В сердце постоем стала
Властная жалость,
А для тебя в нем мало
Места осталось, —
Лишь уголок укромный
В дальней светлице,
Чтобы моей бездомной
В нем притулиться.
Темен твой угол, тесен.
Что же, родная!
Жалость не хочет песен,
Не понимает.
1918
Склон в сухой полыни
И соленый зной.
Помнишь, морок синий
Плоской полз волной?
Наши скалы щупал,
Трогал берег наш,
Чуть толкая трупы
На пологий пляж.
Было море ярко
И ворсила гладь,
Но земля подарка
Не могла принять.
Море ж ей твердило:
Ох, не лицемерь, —
Тех, что породила,
Мучила, убила,
Забирай теперь!
«Перебирая пальцами траву…»
Перебирая пальцами траву,
Как шерсть любимого большого зверя,
Я ничего цветущего не рву,
Мне даже серый одуванчик верит.
И бабочка, мне на руку садясь,
Подробно шарит хоботком по коже, —
Рука роняет травяную вязь,
Рука от счастья двинуться не может.
Ведь для меня в доверьи малых сих —
Предчувствие, воспоминанье рая:
Оно, как в детстве незабытый стих,
Горит в душе и греет, не сгорая.
«Как влюбленный, кого забыли…»
Как влюбленный, кого забыли,
Кто на холоде ждет давно,
Белой горстью мраморной пыли
Брошу ночью в твое окно.
И сквозь сон, свернувшись тепло,
Ты подумаешь, чуть зевая, —
Это веткой клен задевает,
Клен стучится в мое окно.
«Я смотрю на солнечное пламя…»
Я смотрю на солнечное пламя, –
Ты уже забылся где-то сном.
Где-то – за морями, за долами
В лунном свете спит наш старый дом.
Лунный свет котом ползет по крыше,
Черепицу трогает легко…
Может быть, во сне меня услышишь, –
Наяву, пожалуй, далеко.
«Свежий ветер идет, и вздыхают легко занавески…»
Свежий ветер идет, и вздыхают легко занавески,
В теплых зайчиках пол, в узкой рюмке подснежник цветет.
И сосульки бренчат, обрываются в тающем блеске,
И усами дрожит на весенних воробушков кот.
А над мутной рекой – вербы в мягких серебряных точках,
И теплеют деревья и тянутся сладко от сна…
И, как белый цветок, запеленатый в тесных листочках,
Расцветает душа, потому что сегодня весна.
«Трещит костер и рвется, золотея…»
Трещит костер и рвется, золотея;
Смотрю на пламя, не смыкая глаз.
В прохладе ночи, за спиной моею,
Пасется мой стреноженный Пегас.
Привал в пути. Мы оба отдыхаем
От дня земного и его забот.
И ласковым, глубоким черным раем
К огню костра спустился небосвод.
ПО НЬЮ-ЙОРКСКИМ СКВЕРАМ
1. «В плюще запыленного сквера…»
В плюще запыленного сквера
Обертки дешевых конфет,
Окурки, и скомкано-серый
Платок, и разбитый браслет;
И узкий отрез городского
Неловкого солнца лежит
На мусоре спеха людского –
Объятий, обетов, обид.
2. «В городском цветнике было скудное лето…»
В городском цветнике было скудное лето:
Темный жилистый плющ припылен, недвижим,
И петуньи такого дешевого цвета,
Что хотелось заплакать от жалости к ним.
А ребенок в очках, с голубым пистолетом,
Всех прохожих в индейцев легко превратил –
И доверчиво счастлив и парком, и летом,
И храпящим мустангом садовых перил.
3. «Парк черен, убог – растертый рисунок…»
Парк черен, убог – растертый рисунок.
У входа бульдог, тяжелый но юный.
Белея, к нему вдруг облачко шпица
Сквозь грязную тьму по воздуху мчится.
Нос к носу дыша, знакомятся – зная,
Сейчас их, спеша, растащит хозяин:
Мечта без границ, а жизнь – одни точки.
И облачный шпиц уже на цепочке.
ДИАЛОГ С ЖИЗНЬЮ
С миною довольной
Мучит, как всегда.
Спрашивает: «Больно?»
Отвечаю: «Да».
«Очень больно?» – «Очень».
«Что ж, погасим свет?
Отвечай же – хочешь?»
Отвечаю: «Нет».
«Гладко обласканный морем…»
Гладко обласканный морем
Смугло-серебряный корень
Брошен в песок на покой, –
Море заботилось много –
Каждую веточку рога
Влажной ваяло рукой.
Вот он – почти невесомый, –
Я положу его дома
Между бумаг на столе:
Пусть он коснется чудесно
Плотью морской и древесной
Песен моих на земле.
«На подоконнике синеет…»
На подоконнике синеет
От солнца теплый переплет, –
Укрытый им, веками зреет
Стихов Гомера дикий мед.
И всё древнее и моложе
Они звучат весенним днем,
На ветер солнечный похожи
На подоконнике моем.
«Старый дом — и кот на крыльце…»
Старый дом — и кот на крыльце,
И в садовой тени — качели…
Для того ли мы о конце
И начале спорили, пели, —
Чтобы сесть на теплый порог,
Отодвинуть пустую лейку,
И коту, разгоняя блох,
Почесать осторожно шейку,
И на облако посмотреть,
Что горит над вечерним садом, —
И простую песенку спеть
Про клубок, мурлычащий рядом?..
МОЛИТВА
Не прошу, — но за всё, что дал мне,
Говорю покорно: спасибо!
За песок на прибрежном камне,
Влажно пахнущий блесткой рыбой,
За суровый берег и море,
Синий шорох твоих сокровищ,
За слезы огневую горечь,
За живое биенье крови, —
Когда ласточкой дух — к пожару,
В облаков закатное пламя, –
И за легкий летящий парус
В ту страну, где смолкает память.
«Блеск ящериц на парапете…»
Блеск ящериц на парапете.
Сухой олеандровый сад.
А в море сквозь парусный ветер
Взволнованно чайки летят.
В слияньи двух ровных лазурей
Дымок по границе ползет, —
Глаза от сиянья прищуря,
Я вижу большой пароход.
Он тянет на черточку мола,
На гавань, мечтая давно,
Как ринется якорь тяжелый
У пристани теплой на дно.
Как радостно это прибытье
И город родной наяву…
А я сквозь года и событья
Плыву, и плыву, и плыву.
«Небо в отсветах янтаря…»
Небо в отсветах янтаря,
Облаков темны веретёна.
Вот уходит, ушла заря, –
А в кустах запищал котенок.
В их сырых мохнатых потьмах
Он настаивал крепким писком, –
Нужен только единый шаг,
И он будет тобой отыскан.
Черной ночи спустился цвет,
Стали звезды точней и чище…
У котенка сомненья нет,
Что его кто-то добрый ищет.
«Шла веселая, молодая…»
Шла веселая, молодая,
Уронила цветок из руки.
Он лежит и ждет, увядая,
Морща нежные лепестки.
Умирает малое чудо!
Подберу, поставлю в стакан
И весь день удивлять буду
Оживающим лепесткам.
Ведь не только для пчел рабочих
Или бабочки и шмеля
В щедрой радости, как и прочих,
Сотворила его земля, —
Для меня, для тебя, для взгляда
Благодарных и зорких глаз, —
Чтоб запомнил и эту радость
И цветок от забвенья спас.
«День лежит лазурной повязкой…»
День лежит лазурной повязкой
На глазах, притворяясь раем.
С ним, слепящим солнечной маской,
Мы, как дети, в жмурки играем.
И, как дети, забыв тревогу,
Шаря в воздухе торопливо,
Над обрывом заносим ногу,
И — не вскрикнув, летим с обрыва.
ПОСЕЩЕНЬЕ
Здесь сонной комнаты застой, —
Давай окно раскроем,
И ветер, свежий и простой,
Войдет в тепло застоя.
Он брел по рощам и лесам,
По пахоте и лугу,
И вот войдет спокойно сам
Без приглашенья к другу.
Войдет, поставит в угол трость
За узкой книжной полкой,
Запахнет деревенский гость
И чабрецом, и телкой.
С улыбкой примем старика,
Послушаем скитальца
И будем вежливы, пока
Не занемеют пальцы…
Окно прикроем. И теплу
Опять верны, как были.
И гостя нет. А трость в углу
Лежит комочком пыли.
«Как в чужой приглашенная дом…»
Как в чужой приглашенная дом,
В этом мире смущенно стою
И, глаза поднимая с трудом,
Вдруг встречаю улыбку твою.
И в ее мимолетном тепле
Тает памяти горестный груз, —
Я теперь не одна на земле,
Я и жизни теперь не боюсь.
«В лесу нескошенные травы…»
В лесу нескошенные травы
Сомкнулись у седого пня,
Где корни, как потоки лавы,
Застыли — и зовут меня.
Иду к зеленому покою
И лес прошу: благослови
На одиночество с тобою,
Что крепче дружбы и любви.
«Старенький пропойца…»
Старенький пропойца
Дремлет на скамье;
Он не беспокоится
О своей семье:
Лишь бы кто-то ужином
С бранью накормил.
Никому не нужен он,
Никому не мил.
Вот сидит, сутулится,
Хлеб чужой крошит.
Воробьями улица
Весело кишит.
Смотрит в умилении
И всплакнуть готов:
И ему почтение —
Хоть от воробьев!
«Песня вспыхнула мгновенно…»
Песня вспыхнула мгновенно
И поет во мне, —
Песня так же несомненна,
Как полет во сне.
Так уверенно и стройно
Пробивает путь,
Как во сне летишь спокойно,
Распрямляя грудь.
И как там не знаешь цели,
Только свой полет,
Так и песня в пленном теле
Вольная живет.
«Не увлекайся оторочкой…»
Не увлекайся оторочкой,
Не кутай мысли в кружева, —
Пусть будут шиты крепкой строчкой
Необходимые слова.
И пусть в них тайны нет — и даже
Затейного узора нет, —
Но улыбнется друг и скажет:
Откуда этот тихий свет?
«Когда облако ложится в долину…»
Когда облако ложится в долину,
Из мглы жемчужной и слепой
Я ощупью взбираюсь на вершину
Легко и жарко дышащей тропой.
Туда, туда, где в солнечном уборе,
Как острова, хребты вознесены,
А подо мной клубится мягко море
Ничем не омраченной белизны.
Вот если б так же… Я сижу на камне.
Впивает вереск ветра чистый мед…
Как хорошо, что эта жизнь дана мне, –
Как хорошо, что эта жизнь пройдет!
«На закате вода густая…»
На закате вода густая
Щедро мочит сухие грядки,
И колибри, в цветы слетая,
Сок сосут их солнечно-сладкий.
И усталых ласточек пары
Возвращаются на ночь в гнезда.
Догорает светлым пожаром
Золотой и прозрачный воздух.
И холмов оранжевых груди
Зеленеют, темнеют, блекнут…
Входят в дом озябшие люди,
Зажигаются светом окна.
А луга напивает плоско,
Белой дымкой ползет прохлада,
Пахнет ночь росой, и березкой,
И землей уснувшего сада…
Что тебе еще в мире надо?
«Было небо серо-жемчужным…»
Было небо серо-жемчужным,
Пухлый снег еще не обмяк,
И казалось радостно-нужным
В нем отметить глубокий шаг.
А за синью пятого шага —
Куст шиповника на снегу:
Жар его оранжевых ягод
До сих пор забыть не могу.
Столько грозных лет отшумело,
Но, презрев их злые дела,
Память выбрала эту мелочь
И к моим глазам поднесла.
«Круглый пруд с ладошку глубиной…»
Круглый пруд с ладошку глубиной,
Теплый ил на дне да жабий камень,
Но и небо, то, что надо мной,
Мчится в нем, сияя облаками.
Облаков валящийся размах
Проклубил и стаял невозвратно.
И на лягушиных головах
Мокро блещут солнечные пятна.
Небом подсиненная вода,
Солнцем шелестящая осока…
Словно бы от неба до пруда,
Как листу от ветки, недалёко.
«Еще звенело в трубах водосточных…»
Еще звенело в трубах водосточных,
Но в сумрак солнце прорвалось — и вдруг
На хмуром небе и холмах восточных
Встал радуги нежнейший полукруг.
Небесные ворота. Приглашенье
В покой вечерний, влажно-золотой,
Где светит нам смиренным утешенье
Печаль и чудо жизни прожитой.
НА АДРИАТИКЕ
Под серой глыбой крепости старинной
Вздыхает море мерно и тепло.
Оно у берега колышет чинно
Густое изумрудное стекло.
А дальше — ярче синева морская,
Она искрится, светится, поет,
Она зовет, сияя и лаская,
В далекий край, под новый небосвод.
Но я люблю и неподвижный камень,
Монахинь черных и голодных коз, —
Как тот, кто здесь неспешными веками
Мальчишкой смуглым и беспечным рос.
И юношей, уйдя в пути морские,
В грозящий пеной океанский вал, —
Светлейший храм Заступницы Марии
С неколебимой верой призывал.
«Стою и щурюсь удивленно…»
Стою и щурюсь удивленно
На блестки в тающем снегу,
И первой бабочке лимонной
Не улыбнуться не могу.
Мне было тяжко, было больно, —
Каким же чудом я полна
Весенней радости невольной,
Неотвратимой, как весна?..
КАРТИНКА С УЛИЦЫ
Старичок и рыжий пес,
Угол улицы, киоск,
В нем по пояс, как валет,
Продавец сырых газет.
Вздув суконное плечо,
Медь считает старичок,
А газету в теплый рот
Псу вильнувшему кладет.
Так идут они домой,
Пес веселый, он хромой.
К дому короток пробег.
Сыро. Тихо. Будет снег.
«Укрывая ветвями лису…»
Укрывая ветвями лису,
Снегиря замедляя полет,
Где-то в русском далеком лесу
Оснеженная елка растет.
Хлопья снега повисли на ней,
Словно нежные кружева,
И мерцают разливом огней
В недозволенный день Рождества.
То видение, а не забава —
Свет над миром, лежащим во зле.
И поют над ней ангелы: «Слава
В вышних Богу и мир на земле!»
«Пока одни подснежники цвели…»
Пока одни подснежники цвели
И опушились вербы серебристо,
И пахло от протаявшей земли
Еще пустынно, холодно и чисто.
Ручьями пели бывшие снега,
Земли раздетой зимние одежды,
И в эту ночь страстного четверга
Брели по мраку огоньки надежды.
Их осторожно, медленно несли
Сквозь этот мрак, еще такой печальный,
Навстречу Солнцу сердца и земли,
Навстречу близкой радости пасхальной!
«Хорошо бы отстать от погони…»
Хорошо бы отстать от погони
За придуманным счастьем людским,
И остаться на солнечном склоне,
И довериться соснам моим.
Хорошо бы на теплом обрыве
Безымянной повиснуть сосной,
Чтобы время ленивей, ленивей
Облаками текло надо мной.
Чтоб веткам раздаться просторней
В чистом ветре и синем тепле,
Чтобы крепче змеистые корни
Прижимались к любимой земле.
«Зелень первая чуть наметится…»
Зелень первая чуть наметится,
Чуть побрызгает теплый дождь,
Золотистые ивы светятся
В наготе сероватых рощ.
А у пня прохладно-фарфоровый
Белый крокус тихо расцвел,
Ожидая прилета скорого
Птиц, и песен, и первых пчел.
В БОЛГАРИИ
Было жить чудеснее и проще,
Видеть солнца ранние лучи,
Темные ореховые рощи,
Горные холодные ключи.
Виноградник на холме пологом,
Буйволов неспешные стада –
Долгий день, благословенный Богом,
Данный мне однажды навсегда.
«Так странно жить на свете без корней…»
Так странно жить на свете без корней,
Перелетать легко чужие страны,
И только тайно вспоминать о ней –
Несбывшейся, жестокой и желанной.
Так я бреду – невидная почти
В чужой стране, всё тише и покорней, –
Стараясь незаметно пронести
Мои судьбой оборванные корни.
«Был ли он, приснился ли когда-то…»
Был ли он, приснился ли когда-то,
Бело-синий город мой далекий –
Запах просмоленного каната,
Водорослей мокрых на припеке?
Серых скал нависнувшая груда,
Теплая бревенчатая пристань
И скользящий парус полногрудый,
Свежим ветром выбеленный чисто…
Веером раскинут пенный след
Той кормы, которой больше нет.
«Садись-ка в лодочку воспоминаний…»
Садись-ка в лодочку воспоминаний,
Не дрогнув веслами, в себя плыви
Всё глубже, медленней — и вот сиянье
Судьбой задушенной твоей любви.
И глубже молодость, где в раннем свете
К еще не бывшему на холм бегу,
А дальше — серые рыбачьи сети
И детство теплое на берегу.
А если лодочка пристать забудет,
Уйдешь в беспамятство такое ты,
Как то, что минуло, и то, что будет,
Где повстречаются две темноты…
«Дни идут так странно похожи…»
Дни идут так странно похожи,
Что вздохнешь — всё одно и то же.
Но на деле это обман, —
Каждый миг нам однажды дан.
И хотите верьте, не верьте –
Но равно рождение смерти.
То, что есть, его уже нет, –
Только в памяти ложный след.
«Осень тише, золотистей…»
Осень тише, золотистей,
Облаков округлы горы.
Просто жаль ступать на листья,
Так прекрасны их узоры.
Поднимаю темно-красный,
И табачный, и лимонный –
В хрупкой прелести напрасной
Только тленью обреченный.
Для кого рисунок четкий
И горенье красок жарких?
Для кого их лёт короткий
В золотом осеннем парке?
«У чемоданов строгий вид…»
У чемоданов строгий вид
А мебель у стены теснится, —
И вновь соринка норовит
В моих запутаться ресницах.
И подоконник и карниз,
В окне поблекший угол крыши
Вдруг комом к горлу поднялись
И поднимаются всё выше, —
И не удержишь больше слез,
Как ни скрывай полой газетной, —
Пусть счастье здесь не удалось,
Пусть дни сменялись незаметно,
Пусть впереди иное… Ложь!
Стянув ремни на чемодане,
Ты в сердце погружаешь нож
И поворачиваешь в ране.
«Смотрю в себя как в омут: отражая…»
Смотрю в себя как в омут: отражая
Мои глаза, мерцает верхний слой,
Но дальше — дальше я себе чужая,
Заслонена молчащей глубиной.
Зачем мое сознанье — да мое ли? —
Зажглось и тлеет в чуждом существе,
Как лунный луч, как точка острой боли,
Как светлячок в полуночной траве?
И те глаза, что я зову моими,
Вдруг прикрывает это существо…
И, откликаясь на чужое имя,
Я имени не знаю своего.
«Ты, родная, нечасто приходишь ко мне…»
Ты, родная, нечасто приходишь ко мне —
Наяву не приходишь, а только во сне.
И я счастлива этой нещедрой судьбой,
Хоть немного, обманом, побуду с тобой.
Ты приходишь спокойна, проста, весела,
И во сне я не знаю, что ты умерла.
Мы, как прежде, куда-то стремимся вдвоем,
Мы, как прежде, торопимся, едем, плывем.
И, как прежде, уходят во мглу поезда,
Но во сне я не знаю, зачем и куда.
Всё неважно в мельканьи ночной суеты,
Только радость одна моя верная — ты.
И наутро, вернувшись из милого сна,
Я вздохну, вспоминая, что снова одна.
«Потерям и слезам уже не видно дна…»
Потерям и слезам уже не видно дна,
И песенка моя, как говорится, спета, —
Но вот опять, опять зовет меня весна
Воздушным золотом прохладного рассвета.
И на единый миг мне кажется, что — нет!
Что он не может лгать, безоблачный рассвет.
И ранняя в кустах проснувшаяся птица,
И свежая роса — всё это неспроста,
И где-то мудрая сияет красота,
И есть за что страдать, и есть о чем томиться!
«Липко пахнет теплый бурьян…»
Липко пахнет теплый бурьян,
Столько трав в него вплетено!
Мотылек им и сыт, и пьян —
Сладко солнечное вино!
Трепет бабочки, гуд шмелей,
Мирный блеск золотистых пчел —
Малый мир, что в жизни своей
И без поисков смысл нашел.
Вот прополз грузноватый жук
И метнулась вкось стрекоза.
Я в высокой траве лежу
И от света щурю глаза.
И приветствую малых сих,
Тех, которым я не нужна,
Но которыми в серый стих
Золотая нить вплетена.
«Так мягок был декабрь…»
Так мягок был декабрь,
Что вишня зацвела,
Что захотелось петь, –
А жизнь почти прошла.
И солнечную вязь
Моих запевших строк
Перечеркнул
Холодный ветерок.
МОЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
С облаков наплывают летучие тени
В чащу кленов, осин и берез.
Мы – последние листья на ветке осенней,
Многих ветер, играя, унес.
Но пока еще солнце проходит по кругу
И последняя птица поет,
Мы дрожим на ветру и киваем друг другу,
Собираясь в прощальный полет.
И о счастье зеленом своем вспоминая,
Лист листу, торопясь, говорит…
А когда облетит наша ветка родная,
Всех нас ласковый снег усмирит.
ДЕТСТВО
1. «Пахло утренней влагой земли…»
Пахло утренней влагой земли,
Тихих яблоней ветви цвели.
Через сонную речку и луг
Золотой загорланил петух.
И скользнули в оконную щель
Брызги солнца к тебе на постель –
На подушку в тепле кружевном,
На ресницы, сожженные сном, –
Чтоб ночную повытряхнуть муть,
Чтобы новому утру чихнуть!
2. «Полдень в небе высоком…»
Полдень в небе высоком,
Плеск ночами в ручье,
Шарик липкого сока
На кисейном плече.
Жалит шею украдкой
Отощалый комар,
Пахнут солоно-сладко
Пыль, усталость, загар.
Чай в вечерней прохладе,
Самовар и рояль…
Сон вихры мои гладит, —
Ах, уснуть бы — да жаль!
3. «Ты присела у калитки…»
Ты присела у калитки,
Где бурьян тепло притих.
Я — упругий шар на нитке
В детских пальчиках твоих.
Я колеблю плавно-кругло
Пышно-легкую красу
Над твоей улыбкой смуглой
С белым шрамом на носу, —
Так колюча ежевика
У дорожного плетня.
Ветер взмыл нежданно, дико,
Ветер ввысь унес меня!
Что тебе, дитя, мой жребий?
Что? Усмешка или грусть?
Я плыву в вечернем небе,
Я на землю не вернусь.
Там белеют маргаритки
И гудят шмелей круги,
Там на пальчике от нитки
Сетка рубчиков тугих.
Здесь — и птица не щебечет
В неоглядной тишине.
Может, только этот вечер
Будешь помнить обо мне!
РОЖДЕСТВО В НЬЮ-ЙОРКЕ
За окном плывут антильские напевы,
Частым трепетом исходит барабан.
Сверху песни, снизу песни, справа, слева –
Каждый нынче полноправно сыт и пьян.
Я сижу в шкатулке музыкальной.
Пахнет елка, высыхая на столе.
Нам уютно, мне и елке, нам печально,
Что недолго длится праздник на земле…
«Распахнулась роща золотая…»
Распахнулась роща золотая
И стоит, прозрачно облетая,
Слабо и доверчиво шурша,
Словно отходящая душа.
Не прося о невозможном чуде,
Отлетая, молится: да будет
На закате стынущего дня
Воля Сотворившего меня!
«Меж елочных огней Бродвея…»
Меж елочных огней Бродвея
Ползет, пульсируя слегка,
Двойной мерцающий конвейер —
Автомобильная река
И омывает скверик тощий.
Где в ряд старушки на скамье,
Как в холодке вечерней рощи,
Сидят в спокойном забытье.
Пускай бензином пахнет воздух,
Ползет асфальтовым теплом,
Но где-то в небе светят звезды,
Но светит память о былом.
«ПОНОРНИЦА»
(Карстовая река в Югославии)
Из ледяной пещеры,
Шумя, бежит река,
Омыла камень серый,
Прозрачна и звонка.
И солнце вниз червонцы
Швыряет ей на дно,
И пенится на солнце
Зеленое вино.
И снова, полный звона,
В пещере скрылся бег –
Из лона тьмы и в лоно.
Как жизнь. Как человек.
«Не ветра вздох, не трепет тени…»
Не ветра вздох, не трепет тени,
Не наши бедные слова –
Смиренной мудростью осенней
Шуршит покорная листва.
Остановись, молчи и слушай,
И слухом облака коснись –
На нем легко всплывают души
В земле обещанную высь.
«Теплый день. И ветра мягкий веер…»
Теплый день. И ветра мягкий веер
Лишь целует, но не обдает.
По тропинке движется конвейер
Муравьев — с похода и в поход.
А по веткам, прутьям и побегам,
Что вокруг сквозную сеть сплели,
Словно брызнуло зеленым снегом,
И не с неба, а из недр земли.
Скоро сплошь зазеленеет роща,
Ветер первой зашумит листвой…
Помоги мне петь светлей и проще,
Господи, весенний праздник Твой!
«Земля устала от дневного жара…»
Земля устала от дневного жара,
Взошла луна над Южной Стороной.
И музыка с приморского бульвара,
Далекая, струилась под луной.
А мы сидели над прибрежной кручей
На мягко остывающей скале,
И запах пены, свежей и шипучей,
Всплывал над морем, дышащим во мгле.
И мы не знали, ничего не знали,
И сердце билось мерно, как прибой.
А он вставал в еще не видной дали –
Тяжелый крест над нашею судьбой.
БАБЬЕ ЛЕТО
Не уйду из осени! Останусь!
Здесь – в моем особом сентябре.
Не отыщет жалобная старость
Декабря в моем календаре!
Навсегда останусь в бабьем лете –
В том грибном пригубленном леске.
В этом одуряющем рассвете,
Паутинкой на его виске.
Над обрывом, под звездой падучей,
На семи ветрах листвой звеня,
Распахнусь рябиною над кручей
В предвкушеньи будущего дня.
«На холме у церкви, на рассвете…»
На холме у церкви, на рассвете
Просидеть блаженных полчаса…
Иногда чудесно жить на свете –
Этот щебет, холодок, роса…
За горою рденье огневое,
Миг – и солнца золотой поток,
И тепло прозрачное, живое,
Божьей лаской греющее лоб,
И дымок от сохнущей скамейки,
И росой тяжелая трава,
И, со сна и трепетны, и клейки,
Молодых березок кружева…
В лагере в лесу проснулись дети –
Утренние звонки голоса.
На холме у церкви, на рассвете,
Как молитва, эти полчаса.
«Я уцелела, доплыла…»
Я уцелела, доплыла,
Взобра лась на уступ.
Она мала, моя скала,
Прибой у самых губ.
Скала в серебряной пыли,
Сверкает, как слюда.
И тени нет, и нет земли,
Вокруг одна вода.
Прибой у дальних берегов,
Как белая змея…
Нет больше чувств, нет больше слов,
Есть только мир и я.
«Отомкнуть земные двери…»
Отомкнуть земные двери,
Разойтись волной…
Ни разлуки, ни потери
Больше ни одной.
Только мерное движенье
Вечного огня
И покой уничтоженья
Мира и меня.
«Листва сошла и веткам легче стало…»
Листва сошла и веткам легче стало,
Прозрачный воздух омывает их.
Мы устаем – и дерево устало,
И даже ветер умирено тих.
Он будет веток бережно касаться
И зимнему не помешает сну,
Но как им будет сладко просыпаться –
Подумать только! – КАЖДУЮ ВЕСНУ!..
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ
С СЕРБОХОРВАТСКОГО
ИВАН ГУНДУЛИЧ (1589—1638)
СЛЕЗЫ БЛУДНОГО СЫНА
ПЛАЧ ПЕРВЫЙ. Согрешение
…расточил имение свое, живя распутно.
От Луки 15, ст. 13
Горько слезы лью потоком,
слезы горестного плача,
те, что блудный сын жестоко
проливать когда-то начал;
так и я грехи оплачу —
слезы в слезы, плач во плаче.
Божье Слово, Сын предвечный,
смертной плотью одеянный,
чтоб от смерти мир излечен
был – и жизнь навек дана нам,
Слово, что в едином лике
человек и Бог великий, —
да слетит к нам дух Господень
пресвятой, живой, единый,
дух, что от Отца исходит
и Тебя — от Бога-Сына, —
в голос мой войди, как в чуде
пусть ему внимают люди.
В благости Твоей безмерной
Ты прости мне, Иисусе,
если что скажу неверно,
если в чем и ошибусь я, —
слабость только человечна.
Божья мудрость бесконечна.
И, оглохнувшую совесть
чтоб склонить на покаянье,
расскажу ей эту повесть лжи,
обмана и страданья.
Кто раскаялся, тот может
ждать прощенья властью Божьей.
Так и врач вскрывает смело
рану, гной ее счищая,
тех червей, что гложут тело,
не гнушаясь, не смущаясь;
боль пройдет. Омыто кровью,
долгое придет здоровье.
Ты себя узнаешь, грешник,
в этом горестном примере:
кайся же в грехах кромешных,
обратись к добру с доверьем.
Божья милость крепче,
выше нынешних грехов и бывших.
День — по ночи, человека
по его кончине судят.
Милость Вышнего от века
с тем, кто жарко верит, будет.
Верь, надейся, приготовясь
слушать грешной жизни повесть.
В роще, где дубы столпились
над стесненными кустами
и над пропастью склонились
исполинскими стволами,
а над ними гор вершины
высят снежные седины, —
сын, свою наследства долю
расточивший, блудный нищий,
видит желуди — их вволю
для животных сытной пищи.
Без еды, без сил, без крова
он упал у пня сухого.
Так, вздыхающий в пустыне
и от голода бессильный,
он завидовал скотине
и еде ее обильной,
и мечтал поесть в уныньи
пойла, что хлебают свиньи.
Он, сменивший в святотатстве
столько доброго на злое,
нищенством сменив богатство,
имя честное — хулою,
в горькой вопиет обиде,
сам себя в себе не видя:
— Я ль тот юноша прекрасный,
юноша, желанный всеми,
кто в любви и неге страстной
проводил беспечно время, —
знатен, славен, избалован
лестью, службой, взглядом, словом?
Если я, увы, всё тот же, —
где тогда мой пурпур модный,
мягкость шелковой одежи,
к телу льнущей благородно?
Где пиры мои и слуги,
где друзья и где подруги?
Ах, себя в себе не зная,
видно — уж не тот я ныне, —
всеми брошен, изнывая,
в этой каменной пустыне,
даже голый этот щебень
холодом ко мне враждебен.
Вместо пищи мне роскошной
в золотом покойном зале,
вместо слуг, что денно-нощно
моего приказа ждали,
вместо пышной мне постели,
где младые сны летели, —
яствами моими стала
горькая трава, друзьями —
свиньи, домом — эти скалы,
изголовьем — твердый камень,
а периною отборной —
пыль земли холодной, черной.
И дворовым слугам лучше —
в доме отчем сыты, знаю, —
голодом и скорбью мучим,
я в пустыне умираю
и напрасно зверем рыщу,
чтоб сыскать желудку пищу.
Ах, до этого не ты ли
довела меня изменой?
Ты, что стала всех постылей,
ласковой была, смиренной,
чтоб, связав меня любовью,
ты моей питалась кровью.
Ах, безумная, в ком нету
ни закона, ни предела,
ах, беспутная, что свету
ложь за правду выдашь смело,
чьей душе неведом тоже
стыд и страх — людской и Божий.
И в огне нечистой жажды
ты сойтись могла со всеми,
был тебе приемлем каждый
твой земляк и чужеземец,
кто, блудя в сетях соблазна,
мог прельститься сделкой грязной.
С кем ты только не водилась,
в чьих объятьях не уснула,
и кому не изменила,
и кого не обманула?
Вечно суетна и лжива,
зла, порочна и сварлива.
Утаить во мне нет силы,
как разбила жизнь мою ты,
расскажу, как ослепила
в те обманные минуты.
Закопаю в эти горы
твой позор, мои укоры.
Золотую прядь небрежно
ты на белый лоб спустила,
светом ласковым и нежным
взор сиял, как солнце милый.
И в лице цвели, манили
лепестки и роз, и лилий.
Губы — ярче, чем кораллы,
грудь белее пены снежной,
и улыбка мне сияла,
«Дай мне сердце» — молвя нежно,
повторял «О, дай его мне»
взгляд любовный, ласки полный.
Всё в ней прелесть и томленье,
в каждом шаге и изгибе:
чтоб будили вожделенье,
вожделенье было — гибель…
О рука белее снега,
стоп танцующая нега…
Лжи бесстыдной и умелой
я поверил безрассудно, —
ведьма ж старая умела
красоту подделать чудно,
сделав мазями моложе
серый цвет увядшей кожи.
Волосы сняла с покойниц —
изо рта червей в могиле, —
на себя надев спокойно,
чтобы золотом манили,
чтобы то, что было смертью,
стало нежной страсти сетью.
А лица унылый пепел,
желтый, высохший, в веснушках,
стал, как день, великолепен,
стал искусною ловушкой,
что черно — то белым стало
там, где чести не бывало.
Синий рот — в таком же
роде алым цветом расписала,
чтобы он, назло природе,
стал румянее коралла,
чтоб весны сияло пламя,
гниль и зиму скрыв цветами.
В волосах лежит живая цепь
цветов венком тяжелым,
и с ушей цветы кивают,
и к груди цветок приколот,
и в цветы спустила руку,
и она — в цветах гадюка.
Мед в речах, отрава — в глуби,
блеск в очах, в груди же льдина,
говорит: люблю, — не любит,
льнет к тебе, а взор змеиный;
дело с мыслью не сойдется,
предает, и лжет, и вьется.
Я лишь к ней горю любовью,
в ней — вся радость и тревога,
ночи целые готов я
у ее бродить порога,
прославляя стройной песней
ту, что сердцу всех прелестней.
А она мне, так послушно
в сети пойманному милой,
говорит, что равнодушна
и к любви моей остыла.
На нее гляжу в невзгоде,
а она глаза отводит.
Холод — мой огонь вздувает,
гнев — любовь несчетно множит,
лед — как уголь раскаляет,
и она мне всё дороже.
Сладко мне страданья пламя,
всё она перед пазами.
Убегает — я за нею,
прячется — пишу ей, тая,
как по ней грущу, бледнею,
сохну, жду, томлюсь, вздыхаю, —
а она порвет и бросит
то письмо: иного просит.
Я, любви ее желая,
стать хочу нарядом краше —
шелк ношу, цветок вдеваю,
и лицо и кудри крашу —
я по ней вздыхаю страстно, —
не глядит, и всё напрасно.
Я, не в силах примириться,
хитрости иные начал —
по-иному стал рядиться
и любовной ждать удачи,
полон лести, песен, смеха, —
только снова без успеха.
Наконец рука схватила
деньги — острый меч, которым
вдруг в осколки раздробила
панцирь крепкий и упорный,
чтоб, победою избранный,
я достиг моей желанной.
Как меняется, как страстью
искрится ее пыланье,
мол она сочтет за счастье
утолять мое желанье.
И в глаза глядит и млеет,
И вздыхает, и бледнеет.
Я, приметы видя эти,
не скуплюсь — была б со мною,
я готов ей всё на свете
оплатить любой ценою,
и растут надежды жарко
с каждым принятым подарком.
Я в безудержном стремленьи
золота всё больше трачу,
драгоценные каменья,
жемчуга ей шлю в придачу, —
на словах юлит и вьется,
обещает — не дается.
Взгляд распутный и задорный,
сладкий смех с медовым словом,
вздох блаженный, но притворный,
знаки сердца ледяного —
вот лекарства, что на рану
налагала непрестанно.
Золото плывет потоком,
убегает без возврата;
я бледнею, я жестоко
умираю, — мне же плата
за страданья здесь на свете —
дым и ветер, дым и ветер.
Жарким вздохом умоляю
не томить так бессердечно,
но она юлит, виляет,
обещает — лжет, конечно,
так хитро играя мною,
будто я всему виною.
Так летят и дни и ночи, —
задыхаясь, наудачу,
изо всей последней мочи
я мое богатство трачу.
Слепнет совесть, меркнет разум,
страшная в крови зараза.
Наконец водою полой,
что уносит всё, что может,
и, гремя со скал тяжелых,
валит лес и поле гложет,
и последнее, что было,
золото до капли смыло.
Но богатство наживное
потерять не так опасно,
если бы владела мною
чистота души прекрасной, —
но ее, как всё именье,
ты прожгла без сожаленья.
Нет вины, греха такого,
зла, которым я гнушался, —
нарушал закон и слово,
грабил, крал и пресмыкался,
даже худшее изведал:
Бога позабыл и предал.
Человечий лик мутится,
чуждым закрываясь ликом,
всякая во мне частица
изменилась в зле великом,
даже плоть, предавшись тленью,
обернулась страшной тенью.
В голове надменной стыли
мысли гордости великой,
и морщины испещрили
лоб глубоко, зло и дико,
и в лице холодном, бледном
честь сменил порок победно.
И глаза метали взгляды,
сея темное и злое,
и язык, облитый ядом,
горькой пенился хулою,
изрыгая в мир потоком
мерзкий смрад и кровь порока.
Уши слушали покорно
все советы алчной злобы,
и зияло вечно горло,
ненасытной путь утробы;
руки — жадны, торопливы,
ноги — к доброму ленивы.
Голова, глаза и уши,
горло, рот мой, руки, ноги, —
и, как тело, меркнут души,
и у злобы ходы многи:
стал я чудищем, и даже
безобразней всех и гаже.
Но когда б я ни услышал
о себе молву худую –
говорил: то злоба пышет,
зависть низкая бунтует,
и родным на все укоры
клялся – всё, мол, было вздором.
Я друзей оставил старых
и привлек беспутных, новых,
тех, что, мне подобно, жару
отдавались дел греховных.
Всюду в их сопровожденьи,
им почет и угощенье.
С ними я бродил всё время
у порога милой, даже
сторожил я с ними всеми,
не взглянул бы кто туда же,
и своей обманут тенью
был в ревнивом подозреньи.
Если ж только мимо двери,
не взглянув, прошел идущий,
я, в вине его уверен,
губы грыз в обиде пущей.
А уж в доме б — только слово –
друга сжег живьем любого.
Сколько слов, поступков черных
и растрат, пока добился
от нее, к чему упорно
в блудных помыслах стремился,
что она, злодейка, шало
многим прежде разрешала.
На песке, увы, тот зиждет,
по морской гуляет пене,
вихрь в горах летучий ищет,
размягчает скал скрепленья,
море ковшиком черпает,
гада греет, льва ласкает,
в рабской доле ищет неги,
сил найти в болезни хочет,
в розах камень, роз на снеге,
снег на солнце, солнца в ночи, —
кто любви поверит, данной
женщиной непостоянной.
Напоследок допускает
и меня в покой к себе и
ест со мной и пьет, лаская,
как змея, скользит по шее, —
ядовита, зла и лжива,
ненасытна и блудлива.
Богом мне была, и чтобы
не остыло жженье блуда,
лил а в жадную утробу
вина, лакомые блюда –
так испробовал в обжорстве
всех питей и явств заморских.
День и ночь, ежеминутно,
с ней мой грех стократно множа,
а, узлом нечистым спутан,
слеп и гибнул безнадежно —
словно пес в дверях, для смеху,
всем на диво и потеху.
Ах, довольно в блудном плясе
раз забыть о чести только,
зеркало разбив на части,
за плечи швырнуть осколки:
пусть не нам, другим повсюду
наши язвы видны будут.
Так, живя как скот в пещере,
что пришлось пасти теперь мне,
в смрадном блуде и неверьи
скверну я растил на скверне,
весь облеплен едкой грязью
преступленья, безобразья.
Ах, от срама весь немеет
мой язык, когда я вижу
блудный жар, что, пламенея,
всё во мне спалил и выжег,
чтоб потом, в конце позорном,
развалиться пеплом черным.
И когда ей отдал всё я,
и когда ей стало ясно,
видя нищенство босое, —
больше требовать напрасно, —
что и так уже из тела
кости выжала и съела,
что остался гол, измучен,
обесчещен тьмой постылой,
даже бедный солнца луч ей
принести уже не в силах, —
прочь пошла, и не взглянула,
мертвую любовь — стряхнула.
Вот любви безумной прибыль.
Но не ведая такого,
я привычно, на погибель,
потянулся к блуду снова;
только тщетно взор мой ищет —
незнаком ей жалкий нищий.
Как цветок бросают вялый,
если блеск его утерян,
так меня ты ощипала,
чтоб потом швырнуть за двери,
чтоб и мысль о прежней славе
в уличной грязи оставил.
Если б золотыми стали
горы, нивы и покосы,
реки золотом стекали,
золотом весь мир порос бы —
не залить им сотой доли
ненасытной женской воли.
Красота, любовь и смелость,
разум твой — одни рассказы.
Ей, каков ты, нет и дела,
что имеешь — видит сразу, —
только б золото присвоить,
а тебя потом — в помои.
Отдал суетному блуду
разум, честь и состоянье,
ждет меня теперь повсюду
только скорбь и покаянье.
Лишь подумаю в печали,
кем я стал, кем был в начале.
ПЛАЧ ВТОРОЙ. Познание греха
Пришел же в себе…
От Луки 15, ст. 17
Как святая Божья сила,
сотворяя мирозданье,
в тьме первичной сотворила
света чистое сиянье,
и доныне чередуя
белый день и тень ночную, —
так во тьму земных томлений,
что клубится без просвета,
видя смертного мученья,
Небо шлет посланца света —
луч любви, что властью Божьей
сердцу темному поможет.
Так лучом любви единым
пастуха лишь озарило,
он увидел, что причиной
всех его страданий было
и что жизни злой награду
в горшей смерти выпить надо.
И воскликнул: — Кто жестокий
заточил меня в пустыне,
где голодный, одинокий
жалко умираю ныне,
где зияет вместо гроба
мне звериная утроба.
Кто как зверь живет — не диво,
чтоб и мертвецом в пещере
завладели справедливо
и на части рвали звери, —
если не сбегут отсюда,
мерзкого гнушаясь блюда.
Красота, очей отрада,
золоту служанкой верной
ты была — и вот награда
гордости твоей безмерной:
даже зверь в голодной злобе
брезгует твоим подобьем.
Туча ты, которой слава
и простор небесный тмится;
гибнет, кто тропой лукавой
за тобой, блудя, стремится;
существо твое — измена,
сердце — пусто и надменно.
Девушек, чье сердце было
ясно-чистым светом счастья,
ты, лишь ты их отравила
темным ядом сладострастья;
чьи громки сан и слава,
не щадит твоя отрава.
Ты и прелюбодеяньем
ложе брака оскверняешь,
грязью тмишь любое званье,
луч небесный помрачаешь;
делаешь в огне разврата
из любовника кастрата.
Ловко в сети завлекаешь
ты неопытных мальчишек,
взглядом их завладеваешь,
в сердце связанном царишь их;
ты на зло толкаешь жадно
слабых — ты ведь беспощадна.
Ты обеты нарушаешь
тех, кто были Богу верны,
мысль и сердце наполняешь
тусклой тенью блудной скверны,
чтоб твоей добычей стало
Богу что принадлежало.
Ты турецкой саблей машешь,
праведников насмерть колешь,
ты весов закона чашу
по своей склоняешь воле;
и в своей могучей славе
и правителями правишь.
Города в холодный пепел
злобным жаром обратила,
их сожгла великолепье
и сама травой покрыла;
ты приносишь зло и беды,
но сама ты что — поведай!
Лишь мечта, что убегает,
зло, что в цвет добра рядится,
луч, что жжет, не согревая,
ночь, что днем слепому мнится,
ветер, что пожаром грянет,
обещанье, что обманет.
Ствол бесплодный, что для тени
простирает низко ветви,
горечь сласти, сласть мучений,
звук без смысла, смысл без веры,
миг в безбрежности столетий,
дым, туман, ничто, сон, ветер…
И со мной теперь случилось,
как с ребенком, что увлекся
пламенем светящих мило
свеч — и больно им обжегся,
как с шальными мотыльками,
что, кружа, летят на пламя.
За лучом непостоянным
красоты, всегда греховной,
как следил я непрестанно
в вожделении любовном;
юность тает, жизнь угасла —
ах, лишь ныне всё мне ясно!
Ах, глубокий свет познанья
просветил мой глаз нечистый,
вижу им без колебанья,
где добра и правды пристань,
где спасенье дорогое,
радость сладкая покоя.
Смертных пут в их злой отраве
я не ведал в тьме порока,
так и море ведь не давит
на нырнувшего глубоко,
а всплывет — и силы мало,
чтоб волна его держала.
Кудри, в чьих сетях пьянея,
золотом прозвал я слепо,
это змеи, только змеи,
сердце пьющие свирепо,
а глаза с их светлым взглядом
молнии падут разрядом.
То лицо — рассвет перловый,
в розах что расцвел беспечно, —
для меня теперь терновый куст —
и холод ночи вечной.
А уста, что мед таили,
горьким ядом полны были.
Очи, жизни украшенье,
те, что я прозвал звездами, —
вероломной цепи звенья,
в смерть влекущей, словно в пламя,
а улыбки сласть живая —
только туча градовая.
Я оставил край родимый,
обошел чужие страны,
но нашел, взамен любимой,
боль, заботы и обманы.
И теперь лежу безвестный
срубленным стволом древесным.
Жизнь моя — ответ к вопросу,
что есть мир и что дает он,
он смеется — будут слезы,
он ласкает — предает он, —
в дорогом цветном сосуде
яд хранит, что смертью будет.
Поцелуем отравляет,
обнимая, насмерть душит,
похвалой самой ругает,
добродетель в сердце сушит,
хамелеоном все личины
примеряя до единой.
Осторожно и помалу
отгоняет все боязни,
льстит и манит для начала
маской ласковой приязни,
а потом, как хочет, вертит
тем, кто предан ей до смерти.
Море в тихую погоду
так зовет пловца обманно,
а когда заманит в воду,
закипит волной нежданно —
и потопом диким прянет:
раньше смерти гробом станет.
Да, чем мир гордится, это —
вижу я в печали мудрой –
воск над жаром, дым под ветром,
снег на солнце, сон под утро,
ока миг, стрела из лука,
с тетивой ее разлука.
Что иное жизнь людская,
как взволнованное море,
лодка, что крушат, бросая,
злые волны на просторе, —
и младенец, чуть родится,
к смерти суженой стремится.
Если можешь, убегая на
восток, на запад выйди,
океаном достигая
берегов далеких Индий,
влезь в ущелье, всем неведом,
смерть идет повсюду следом.
И творенья родились ли,
что могли б хитрить с судьбою?
Без движенья и без мысли
стой в разубранном покое,
меч схватив, богатства тратя,
не уйдешь ее объятья.
Смерть не смотрит в наши лица,
ей что бедный, что богатый,
хижина ее боится
и роскошные палаты,
и за ней уходят в паре
царь и раб, юнец и старец.
И короны и орала
все одной косою ломит,
ей краса, богатство, слава —
вспышка на сухой соломе;
глухо, слепо и не глянет,
но пройдет — и пусто станет.
Те строенья, что вздымали
до небесной выси главы,
стали мусором развалин,
в них лишь стадо щиплет травы.
И потомков царских кости
обнажились на погосте.
Королевы и царицы,
чья краса доныне в славе,
чьи сияли нежно лица
в золотой волос оправе, —
где теперь их облик милый?
Пыли горсть на дне могилы.
Где красавцы гордой знати,
в блеске их парчи богатой?
Словно солнцу бы сиять им,
что не ведает заката.
И у них одна дорога.
лишь в земле – земли немного.
Где герои, что смиряли
львов пустыни и медведей?
Мудрецы, что источали
мед премудрости в беседе
и сердца ковали в цепи?
Смерть их обратила в пепел.
Победители где ныне,
чья нога весь мир попрала,
чьим желаньям и гордыне
даже мир казался малым, —
все, что жили, все, что бились,
все в аршин земли вместились.
Царства древние Востока,
Рима власть, веков начала,
плугом времени жестоко
смерть равно перепахала.
Кто, как бог, владел другими —
кто его припомнит имя?
Царства, крепости, столицы —
мрут – и порастут травою.
Но не в силах примириться
человек с такой судьбою:
каждый день он видит ясно —
все проходит, всё напрасно.
Время точит скал вершины,
ржавчиной железо гложет,
мы ж сотворены из глины
и умрем, конечно, тоже.
Жизни нашей срок конечный —
миг единый, быстротечный.
Нет того, что миновало,
нет того, что лишь настанет,
то, что есть, — едва настало,
за минуту прошлым станет.
Так мгновеньем время вертит —
и всему лишь миг до смерти.
В чем надежда, что над всеми
упованьями восходит?
Время? Улетает время,
не успев прийти, уходит;
где ты? Кто? Решай задачу,
каясь, и молясь, и плача.
Кто родился прежде – умер,
был таким, как ты, он, грешный, –
и – разумен-неразумен –
ты, как он, умрешь, конечно,
чтобы места дать и хода
новым людям, новым всходам.
Мы, что в скорби молчаливой
видим смерть младенцев нежных,
почему еще мы живы,
если смерть так неизбежна?
Если ждет в засаде тоже,
чтоб убить и уничтожить?
Но ведь смерть — не только тленье,
что в природе ждет извечно,
смерть есть праведных вступленье
в радость райской жизни вечной.
Вздох короткий смерть земная,
смерть души — конца не знает.
Смерть одна для всех на свете,
все дождемся смертной казни,
но не каждый час свой встретит
в равной муке и боязни,
ведь по смерти — перемена:
добрым — рай, а злым — геенна.
Добрым — рай, блаженством пышный,
где горит, как в светлом храме,
выше солнца, неба выше
свет один тремя лучами,
где покорны высшей власти
время, и судьба, и счастье.
Где, покоясь в лоне Божьем,
славою Его сияя,
души чистых бестревожно
жизнь блаженную вкушают —
вечный мир, добро и знанье,
высшей красоты познанье.
Злые же — сорвутся в пропасть,
далеко от солнца рая,
чтобы виться смрадным скопом,
в страшном пламени сгорая,
вечно в черной яме ада,
без надежды, без пощады.
Где струят отраву змеи,
дышат пламенем драконы,
корчится в огне, зверея,
род проклятый, беззаконный,
где несет потоп гремучий
ливнем пламя, стрелы тучей.
Непрестанный вой безумный,
горький плач, печаль и те же
ссоры, гнев и ропот шумный,
ненависть, зубовный скрежет,
и заломленные руки
в вечной боли, вечной муке.
Трепещи, душа, при мысли,
как ты жизнь свою сгубила,
мук греховных рой бесчислен
и близка уже могила;
а в аду всем упованьям
лишь конец без окончанья.
О душа, что в нас нисходишь
белой, чистой и бессмертной,
ты нас в утро жизни вводишь;
свет твой ясный, неизменный –
неба луч, краса вселенной,
плод и лик любви нетленной.
В жизни ангельские силы
были для тебя охраной,
стала Божьим чадом милым
и заботой непрестанной:
лишь тебя спасти хотел Он,
облекаясь смертным зелом.
Неужели не стыдишься
светоч чистый и великий
угасить, когда ютишься
в тьме грехов, глухой и дикой?
Докажи, что вне сомненья ты —
Господних рук творенье!
ПЛАЧ ТРЕТИЙ. Покаяние
…отче! я согрешил… и уже недостоин
От Луки 15, ст. 18—19 или/и 21
Чтобы прут засохший ожил,
зеленью пророс, цветами,
чтобы жезл, змеиной кожей
запестрев, уполз под камень;
Лотова жена без стона
стала каменной колонной:
все деянья Той десницы,
чьи плоды — земля и звезды,
в силе нет Тому границы.
Кто из ничего всё создал,
хочет — вносит измененья
в облик Своего творенья.
Только разум человечий,
что в его решеньях волен,
сбить с пути его, конечно,
всех чудес свершенных боле:
если зло избрали люди.
Божья власть к добру не нудит.
Но как если бы пустыня,
что кишит зверьем и гадом,
в зарослях колючих ныне —
обернулась райским садом,
где цветы светло пестреют,
где плоды медово зреют, —
так и тот, кто в злобе зверской
жизнь безумно расточает
и в греха болоте мерзком
сгнил, ослеп и встать не чает, —
вспрянет вдруг с тоской большою,
сердцем нов и чист душою.
Кто, греша черно и грязно,
годы отдал тьме обмана
и в густых сетях соблазна
впал в ничтожество — нежданно
мановеньем Божьей длани
обратится и восстанет.
И такая перемена —
всех чудес чудесней сила,
ничего нет в мире тленном,
что б ее превосходило;
Божьей длани всемогущей
дивный дар душе живущей.
И когда до крайней грани
человека грех доводит,
вдруг Всевышний ближе станет
к роковой его невзгоде:
милостивой властью
Божьей новый дух и сердце вложит.
Человек, как прут засохший,
вдруг добром зазеленеет,
в покаяньи сбросит кожу
всех личин греха, как змеи,
чтоб душа в добре окрепла,
фениксом взлетев из пепла.
Как орел, поднявши вежды,
взор свой к небу обращает
и оно лучом надежды
и любви его встречает;
новым воспарив доверьем,
старых мыслей сбросив перья, —
так и грешник, что в пустыне
борется с позорной смертью, –
жажде высшей благостыни
тронул Божье милосердье.
И судьбу иную начал,
о грехах болея, плача.
Плачет и болеет грешник
и себе желает боли,
что была бы мук кромешных
нестерпимее и боле,
что гремят в страданьи диком
воем, стоном, хрипом, криком;
плачет и желает жадно
выше звезд подняться, чтобы
слез низринуть водопады,
ими смыть деянья злобы,
чтобы грех неискупленный
утопить в воде соленой.
Так он, плача и болея,
полон тайного томленья,
тяжко пал лицом к земле и
жаждет вздоха облегченья,
но едва-едва из тела
скорбное «увы» слетело.
И опять, как мрамор, скован,
холоднее льдины белой,
вымолвить не может слова —
скорбь и боль связали тело.
Вдруг прорвался голос, плача,
и, вздыхая горько, начал:
«Отче», — и, почти что было
грех поведав, снова замер,
речь в устах его застыла,
он облился вновь слезами —
и умолк. Ему казалось —
сердце с болью разорвалось.
Но затем, душась рыданьем,
токи слез дождем роняя,
снова начал то, что ране
не сумел сказать, стеная:
«Отче, согрешил», — но дале
плач и вздох лишь внятны стали.
Словно в жадном состязаньи
кто же даст промолвить слово,
кто развяжет покаянье, —
и один теснит другого,
первенство снискать желает,
уст и глаз не оставляет.
Юг дождливый, лютый север
так по небу гонят тучи,
громоздя их в бурном гневе,
в битве грозной и летучей;
одержим победы жаждой,
первым быть желает каждый.
Что с лица слезой горячей
льется, вздохами томится,
что вздыхает в горьком плаче,
вздохом плачет и стремится
всё сказать, к чему готово
сквозь печаль и слезы — слово.
А уже на мрак пустыни,
тени скал ее постылых,
ночь спустила сумрак синий,
темнотою всё прикрыла,
и, слетая, ветер горный
холодел в пустыне черной.
Стадо сном объято крепким,
не пасется, не хлопочет,
в чаще зверя, птиц по веткам
не слыхать в молчаньи ночи.
Только грешник сна не знает,
в мыслях горестных стенает.
Вопиет: — Увы, о, где бы
мне укрыть мой грех бесстыжий,
над собой зачем я небо
в красоте и блеске вижу:
землю я избрал беспечно,
оскверняя то, что вечно.
Разве мне земля не ясно
языком лугов сказала —
что с зарей цвело прекрасно,
к ночи сжалось и увяло, —
я ж не стал мудрее, зная,
что пройдет краса земная.
И глядел на море что я,
как кипит и бьется дико,
как не ведает покоя
в синеве своей великой:
говорили ж волны эти —
постоянства нет на свете?
Любовался зря, как скоро
птичьи крылья мчатся к небу,
и не чувствовал укора,
и не мыслил — так и мне бы
над землей мою дорогу
обратить навеки к Богу.
Ночь слепая, ночь глухая,
мне, слепому и глухому,
ты подобна, — и, вздыхая,
кроюсь я во мрак знакомый, —
час зари мне страшен ясной,
слезной — мне, а всем — прекрасной.
Ибо даже недостойно
глубине греха такого,
чтобы светлый день спокойно
для меня открылся снова, —
если ж наступить захочет,
будет мне чернее ночи.
На ночном горят покрове
звезды вечными лучами,
словно говорят с любовью:
ах, взгляни, любуйся нами!
Как мы ярки, как мы чисты,
так же нежны, как лучисты.
О, пойми, коль дар великий
дал Отец твой слугам малым
и украсил наши лики
светом славы небывалым, —
примешь вящий дар чудесный,
ты, как сын, в стране небесной.
Мертвый лик луны прекрасной,
золотое сея пламя,
мне глядел в лицо и ясно
говорил, скользя лучами:
быть должно твое желанье —
знать Творца, познав созданье.
Лишь подумай, если эта
мертвая краса волнует,
сколь душа бессмертным светом
превосходит пыль земную!
Сколь исполнен благодати
вышний Бог, души создатель!
Если видим красоту мы
на красу души похожей,
какова душа, подумай,
что хранит подобье Божье?
И каков сам Бог предвечный,
бесподобный, бесконечный?
Хороша краса земная,
что души есть образ зримый,
краше все ж душа, являя
Божий образ, в ней таимый,
всех же краше Бог единый,
Кто всему и всем причина.
И с безумною отвагой
я хотел оставить Бога —
Кто мне истинное благо,
жизнь моя, моя дорога,
путь, ведущий без сомненья
от погибели в спасенье.
Ты — та жизнь, которой веря,
мы по смерти вечно живы,
даже видим в смерти двери
к жизни лучшей и счастливой,
где добры и богоданны
все дары Тобой, избранным.
О заплаканные очи,
слез пролейте океаны,
плачьте, плачьте дни и ночи,
плачьте, плачьте неустанно, —
если этим грех убудет,
пусть весь век мой плачем будет.
Если ж скуден я слезами,
слез для плача нет довольно,
ты заплачь, холодный камень,
мой приют в пути невольный, —
будет пусть в моей заботе
я из камня, ты из плоти.
Солнце ясное, другие
золоти лучами горы,
тучи мне пошли глухие,
чтобы скрыться от позора,
чтобы ночь меня укрыла,
чтоб лица не видно было!..
От других укроюсь скоро —
ночью заслонюсь, горою, —
но ни ночь, ни эти горы
от меня меня не скроют!
Трепещу душой моею —
сам в себя глядясь, бледнею.
Что я? Человек? О, где ж там!
Червь я, червь, что был раздавлен
всей моею жизнью грешной,
злою мерзостью ославлен, —
и теперь в позоре гада
славы суетной награда.
О, и я, и я, ничтожный,
грех свершить решился, Боже,
зная — всё Тебе возможно,
власть Твоя всегда всё может:
забывая, кто Ты, что Ты, —
милостей Твоих щедроты.
И еще живу? И светит
солнце мне? Земля всё та же?
Небо молниями метит
в дуб, совсем безвинный даже,
а того, кто грех свершает,
не разит и не сжигает.
Ах, душа, грехом больная,
тяжела твоя тревога,
как и не скорбеть, стеная,
ты ведь оскорбила Бога —
и Творца, в великой злобе,
и в себе Его подобье.
Дал мне светлый дар — свободу,
к правде и любви стремленье,
созданную Им природу —
в вечное мое владенье;
человек пусть правит свято
от востока до заката.
Небесам велел всесильный
оградить меня от злого,
звездам — слать мне изобилье
всякого добра земного:
и огонь, что согревает,
ветерок, что освежает.
Воду, чтоб меня омыла,
землю, чтоб меня держала,
от напастей чтоб укрыла
гору крепкую и скалы,
серебро в земле и злато —
чтобы мне прожить богато.
В пищу мне плоды, что зреют,
для леченья выбрал травы,
всё мне служит, что умеет
здесь ходить, летать и плавать,
дал мне свет существованья,
разум, мудрость, смысл и знанье.
И еще дал совесть,
чтобы отделить умел я злое
от добра, и после пробы
что добро — избрал бы то я,
и когда бы повстречался,
зла бежал, добру отдался.
Для меня узорным цветом
юная весна красива,
для меня струится летом
золотом колосьев нива;
зрелой осени услада —
мне плоды деревьев сада.
Высечет огонь из кремня
и дрова зима добудет;
и семян обильных бремя
мать хранить в запасе будет;
плавают для человека рыбы
и в морях и в реках.
Сладкий мед сбирают пчелы,
овцы шерсть мне уступают,
принял упряжь вол тяжелый,
кони резвые летают,
птицы завивают гнезда,
светит солнце, месяц, звезды.
Если б не было нам надо,
неизбежно умирая,
в страхе помнить муки ада
на путях земного рая!
Жизнь моя — в грехе мученье,
Божьей правды поношенье.
Скот, что без понятья бродит
по лесам, однако знает,
кто ему творит добро, и
благодарность ощущает;
я же стал, грехом владеем,
благодетелю — злодеем.
Буду ль всех зверей подлее,
всей неблагодарней твари,
в темной жизни грех лелея,
позабыв о страшной каре:
постоянный Твой предатель,
о, души моей создатель!
И моя свершилась участь,
и раскаянье терзает:
под волнами скорби мучась,
жизнь моя едва мерцает —
в волны те влились навеки
слез моих несметных реки.
Как ручьи и реки в море
влиться отовсюду мчатся,
так в мое большое горе
беды худшие стремятся,
все в одном сливаясь хоре,
словно я — такое море.
Как другие, что тоскуют:
было счастье — и не стало,
так и я познал такую
боль — и вспомнил смерти жало.
Ибо всё утратил разом —
свет, добро, здоровье, разум.
Если жаль другим бывает
отчего лишиться дома,
край родимый покидая,
эта горечь так знакома
мне, в пути моем бездомном,
в мире диком и огромном.
Если плачутся другие,
что долгов их давит тяжесть,
как отдам свои долги я —
не могу придумать даже:
не загладить сотой части
зла, что причинили страсти.
Если плотью кто болеет —
не найдет себе покою,
но насколько тяжелее
мне с моей больной душою!
Грех, со мною не раздельный,
мне грозит косой смертельной.
Если только слово злое
совести иной докука,
боль мне сердце рвет надво е,
и моя огромна мука:
ибо в злобе я, несчастный,
ввергнул жизнь в позор ужасный.
Если смерть несет смятенье
к ней приговоренным людям,
злей, страшней мое мученье
на пороге смерти будет:
я, с моей душою грешной,
брошен буду в ад кромешный.
Силы нет снести унынья,
сердце рвется покаяньем,
сколь велик был грех доныне —
велико теперь страданье.
Знаю — грех велик, но всё же —
больше милосердье Божье!
Больше Божье милосердье
всех моих земных пороков,
Он карать не станет смертью
кающегося жестоко.
Так чего ж я жду, робея?
О душа, к Нему, скорее!
Он убогих утешенье
и прибежище для нищих,
милосердье и прощенье,
что находит тот, кто ищет.
Путь — истина — жизнь — и двери:
Божий дар смиренной вере.
Если жестче я, чем камень,
холоднее льдины белой, —
залит весь теперь слезами,
солнце милости согрело:
так вода и камень точит,
солнце в небе лед растопит.
Будет, будет! Миру воздан
темный дар в довольной мере,
я для лучших целей создан,
чем земные. Землю — зверям,
в небесах же сердце ищет
вечное себе жилище.
Горе мне! Чтоб для утробы
я оставил пир блаженный!
Для земной и горькой злобы
хлеб небесный и нетленный,
ангельских даров избыток,
путникам святой напиток!
Небеса, росой слетите,
сердце милостью спасая,
облака, дождем падите,
праведника омывая,
о земля, раскрой глубины
и Спасителя роди нам!
Вот встаю от зла поспешно,
вот иду к отцу родному, —
отмывая плачем грешной
жизни грязь, бегу я к дому,
и, упавши ниц, промолвлю
и с молитвой и с любовью:
Отче вечный; слов не знаю,
мой язык проклятьем связан
зла, что я припоминаю,
и о нем сказать обязан:
грешен, грешен я душою
перед небом и тобою.
Грешен, грешен я, несчастный,
пред твоим подобьем, Отче,
потому влачусь в ужасной
темноте кромешной ночи;
но твоя святая милость
в покаянии открылась.
Дорогой отец и милый,
вот к тебе пришел я снова,
накажи за всё, что было,
и уйду от света злого:
я твой сын, в слезах, смиренный,
жизнь моя — твой дар бесценный.
Трепещу в тоске, о Боже,
и в отчаянной надежде, —
звать отцом Тебя? Быть может,
не ответишь мне, как прежде,
называя мотом лживым,
молвя в гневе справедливом:
«Ты ли, выродок, присвоил
Моего названье сына?
Может солнце огневое
мрака породить пучину?
Так и белый голубь тоже
ворона родить не может.
Я добром и правдой славен,
ты же злобен нечестиво,
Я всех правильнее правил,
Мною красота красива, —
ты же мути всей мутнее,
сам грехов своих чернее.
Чистоты Я ключ утешный,
ты же грязно предан блуду, —
тяжко ты пред Богом грешен,
Я твоим судьею буду, —
Я ведь мудрость, разум, знанье,
ты — слепое о слушанье».
Я боюсь, что так, о Боже.
Ты в ответ воскликнешь ныне, —
но ведь Ты отец мой всё же
в бесконечной благостыне…
Как Тебя мне звать иначе?
Нет, скажу: «Отец мой!», плача.
Что со мной! На это имя
разве право я имею!
Между слугами Твоими
места требовать не смею:
стать слугою самым малым
было б счастьем небывалым!
Кинув разум, теша прихоть,
я, когда-то именитый,
ныне должен горе мыкать, —
сокрушенный и убитый.
Сохну, гибну, алча пиши,
жалкий, грустный, голый, нищий.
Вспомню, ах, как непорочно
жизнь моя текла с Тобою, —
умереть мне легче — точно
я прощаюсь сам с собою.
Лишь надежда мне спасенье —
есть раскаянным прощенье.
Да, я нищий, тот, который
открывает без смущенья
язвы тайные для взора,
чтобы вызвать сожаленье.
О, воззри на эти раны —
смилуйся над покаянным!
Смилуйся, Отец мой! в боли
сына грешного помилуй,
что в пыли простертый молит,
льнет к ногам Твоим уныло, —
о, прости, Отец предвечный,
милосердьем бесконечный.
Не таюсь и сам открою:
велики грехи и гадки,
грех стоит передо мною
в суетной его повадке,
и дела мои другие
и нечистые и злые.
Смилуйся, Отец единый,
Ты ведь не утес гранитный,
чтоб к Тебе молитва сына,
что скорбит, грехом убитый,
в небеса не долетела,
сердца тронуть не сумела.
Ты ведь добр — и это знают
души всех, к Тебе идущих, —
если лишь слеза, сползая,
если вздох, Тебя зовущий,
в небо воздетая, Боже,
вымолить прощенье может!
Речь моя несовершенна,
рвется всё сказать напрасно,
но никак не сокровенно
от Тебя, что сердцу ясно:
боль, что вздохом — звук унылый,
речь — слезами заменила! —
Грешник молвил так —
и разом устремился к отчей сени.
Лишь его направил разум
и открыл добра ступени —
и Отец навстречу вышел,
благости исполнен высшей.
Сына внял мольбе смиренной,
поцелуем отчим встретил
и в краю любви блаженной,
где бессменно солнце светит,
за руку повел с собою,
чтоб вкусил с пути покоя.
И когда надел скиталец
ризу чистоты чудесной,
перстень дал ему на палец
в знак любви Отец небесный:
радость для него открылась –
вечно славить Божью милость.
МИЛОН РАКИЧ (1876-1938)
СИМОНИДА (Фреска в монастыре Грачаница)
Кто злобно ослепил тебя, царица?
Албанец дикий, под покровом ночи,
Когда луна по плитам серебрится,
Кривым ножом твои царапал очи.
Но не дерзнул рукой коснуться грубой
Короны царской с покрывалом тканым
И пышных кос под ним; лицо и губы
Помиловал в смятении нежданном.
И в тихом храме, на колонне стройной,
Мозаикой одета и забвеньем,
Над темным миром ты паришь покойно
Печальным белым царственным виденьем.
Как звезды, что — угаснув — на прощанье
Всё шлют нам свет чудесный и нетленный,
И видят люди трепет, цвет, сиянье
Светил, давно ушедших из вселенной, —
Так светят мне прощенною обидой
Из темноты многовековой ночи
Печально и чудесно, Симонида,
Твои давно померкнувшие очи.
ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ (1898—1993)
ЗИМНИЙ ДЕНЬ
Целый день тихонько снег весенний падал,
Как с деревьев цвет.
О, как в этот вечер, о, как я бы жадно
Улетела в новый неизвестный свет!
Далеко отсюда в цветопаде снежном
Легкая, как стих,
Чтоб тебе доверить слов источник нежный —
Теплых, новых, светлых, собственных моих!
И под вечер тоже снег тихонько падал
Мягок, синь и густ.
Я тебе была бы в этот вечер рада –
Только нет тебя. И сад мой бел и пуст.
С пасмурного неба на землю слетает
Снег – за прядью прядь.
Но стоять одной под снежными цветами,
Но – одной стоять!
С ЭСТОНСКОГО
МАРИЕ УНДЕР (1883-1980)
МЫ ЖДЕМ
Разбились племени живые звенья,
родной очаг погашен смертной тенью.
Душа и плоть чужой стране не рады.
Мы не живем — проходим с жизнью рядом.
Глаза расширены от ожиданья,
но прямы плечи под крестом страданья.
Он легок нам — в одно упорно верим:
жизнь наш должник, она вернет потерю.
И от души к душе мольба сквозь годы:
приди, о день сверкающей свободы!
Тот день, что матерью зовет и ищет
детей потерянных на пепелище,
тот день, что нам вернет лицо и имя,
чтоб снова стали мертвые живыми!
Явись же день, в святом и вольном свете, –
мы ждем тебя в слезах, твои родные дети.
Мы ждем тебя всё твёрже, всё спокойней,
так легче жить, так умереть достойней.
СТРАНСТВИЕ ВО СНЕ
Посв. Антсу Орасу
Вода расступилась под вихрем студеным,
вскипела река,
я, плюнув в ладони, гребла исступленно,
я челн уводила рукой моряка.
Вот берег, причал. Я осмелюсь ли, нет ли?
На что я решусь?
Как небо здесь юно, как шелест приветлив, —
не смею иль смею, я здесь остаюсь.
Я воздух вдыхала и вновь выдыхала
до хрипа в груди,
и влажная зелень меня призывала,
шепча первозданным дыханьем: «Приди!»
Ручей заплескал под цветами вербены,
ответила: «Гей!
Я здесь камышовые выведу стены,
здесь место для хижины будет моей».
К ручью, как к сосцу припадает младенец,
приникнув, пила —
и сила вливалась, и предкам в Эдеме,
казалось, я ближе еще не была.
Вот пегие кони, храпя, прогремели
сквозь лес во весь дух…
А ягоды! Ягод глаза голубели,
звенели в ветвях, лепетали вокруг.
Диковинных рыб я руками ловила.
Стрекозий полет
прожег мое сердце с блаженною силой,
и кем я была — кто на свете поймет?
Когда ж я, богине равна, поднимала
дымящийся сноп,
услышала: кто-то хихикнул сначала,
и с шипом нахмурился остров лесной.
В моем благодатном приюте — сопенье,
насмешливый вопль:
и пяля глаза, в опадающей пене,
шут глупо воскликнул: «И только всего?»
Я вижу — мир чуждый меня окружает,
а лодки-то — нет.
И здесь я чужая, и там я чужая,
его ж одного потеряла и след.
И что-то терзало, и что-то томило:
мне место не здесь, —
в спокойную прелесть счастливого мира
внесу я тоски и страдания весть.
Понять сатанинский обман невозможно:
судьба такова.
Я плачу на камне в пыли придорожной —
так сироты плачут, так плачет вдова.
АЛЕКСИС РАННИТ (1914-1985)
МОРЕ
Море, властная подруга, снова я с тобой,
снова слабому навстречу рушится прибой.
Я как рыба, чей на суше пересохший рот
знает: вещему стремленью ты – один исход.
Легких волн твоих спирали, белизной звеня,
всё заполнили, оправой оплели меня.
Оплели — и вдруг сорвали, подняли со дна,
вознося из мертвой жизни, из земного сна
в глубину, — и новым взлетом из небытия
над твоей бесстрастной гладью, чистая моя.
Цветом северных купальниц расцвела луна,
и в серебряный и в желтый блеск облечена.
Грудь твоя зыбится ровно. Ночь — и счастья песнь,
округлясь высоким сводом, мир объемлет весь.
Но творящий склад и меру, где возникнуть мог
стройным волн чередованьем слаженный поток?
Каждый взмах волны измерен, каждый вольный звон
точно схеме мирозданья строго подчинен.
Слышу четкий пульс планеты в шепоте песка,
плеске падающей птицы, ветре мокрых скал.
Знаю: прежде чем предвечный хаос укрощен,
прежде света, прежде слова — ритма был закон.
Так в лучах призывных ритма скованно горит
твой простор – как этот камень, черный диорит.
Твердый, льющийся предельной красотою стал,
как мелодия растущий, твой живой кристалл.
Эту строгость и движенье, сдержанность и взлет
звон прозрачного прибоя сквозь меня поет.
Станет ли моею правдой твой прямой урок,
ритм — струенье совершенства, ритм суровый рок?
СИНИЙ
Из всех я синий цвет избрал —
в нем все свиданья наши живы.
Как хорошо: еще мокра
палитра реющим разливом.
Синь глубины и дали взлет, —
а ты и выше, и глубинней,
как затаенной страсти лед,
как голос твой прозрачно-синий.
Но мерить холод синевой
я не могу, — под синью этой
он жжет, последний пламень твой,
струеньем внутреннего света.
ЭСТОНСКИЙ ГРАВЕР ЭДУАРД ВИЙРАЛЬТ(I)
Неспешен труд мыслителя. Терпенье —
его наставник. Время — друг его.
Души упорной скрытое горенье
прозрачное рождает мастерство.
Штриха алхимик и хирург познанья,
своей науки лучший ученик —
дал светлой тени черное сиянье,
прикосновеньем в глубину проник.
Блистательный, бесстрашный, как тореро,
без промаха вонзающий клинок,
он рыцарь духа, ремесла и меры,
но никогда жонглер или игрок.
Штрих — мягче линии простой и нежной
девичьего плеча. И штрих — стрела.
И белого песка извив прибрежный.
И быстрый блеск далекого весла.
Удар бича. И тихое касанье.
Блаженный штиль. И разъяренный шквал.
Крик. Инока прилежного молчанье.
Улыбки неба. Дьявольский оскал.
И времени земному непокорный
дух Мастера — первоначальный штрих,
вознесший пламя ледяное формы
превыше чувств и помыслов людских.
CANTUS FIRMUS
Помню линии, тающий стих
вырежьте в Древе Сознанья
и тревог погрузите вихрь
в тихую соль созерцанья.
ШАРТРСКИЙ СОБОР
В океане исканий блуждая без карт,
видишь остров обещанный – Шартр.
Сын свободного моря, ты на берег стал,
и зовет тебя древний портал.
В этом храме, что зодчий забытый сложил,
каждый камень таинственно жив
тем порывом, что тысячи рук захлестнул
и тревожную нежность одну.
Бог в нем дышит — дыханье Его горячо,
словно лунное пламя течет,
и скользит по ладоням огнем
серебра сокровенный творения прах.
Его спутников шаг — тяжкий камень,
но их взгляд — прозренья сияющий вихрь.
И одежды их в каменных складках —
века мысли творческой ветр высекал.
Где здесь веры начало? Искусства предел?
Кто откроет последнюю дверь?
Светом дрогнуло черное солнце твое,
свет, как зарево тайны, встает…
Но ступи на порог, но еще один шаг –
и другим тебе явится Шартр.
В нем пустынно и хмуро дымит красотой
сумрак красок, внизу налитой,
а вверху, в мозаично-стеклянном раю,
окна светлую песню поют
и роняют на пасмурных сводов разгон
победивший пространство огонь.
Словно музыкой серые своды полны,
дуновением новой весны
той, чье пламя высоко и грозно горит,
той, что в пепел тебя претворит.
…Страшен путь к совершенству, — страшнее в конце
Вдруг доступною ставшая цель.
Ты искал и достиг. Но, победой горя,
в ней ты всё – навсегда – потерял.
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ
Прошу мой прах на берегу морском
похоронить — и пусть песком он станет,
могилою — волны широкий холм,
а крылья чаек — узкими цветами.
Так высока над морем тишина.
И так низка цена освобожденья,
когда душа прозревшая сильна
и плоть ей не нужна для зренья.
НА ОСТРОВЕ ОГИГИИ
В этот вечер, серый и беззвездный,
миф пространства был рожден.
Как мечи, взлетали волны в воздух,
взлетом требуя: «Мы ждем —
расточи мечту свою бесследно
о возврате! И продли
власть чужого, яркого наследства,
власть поющую земли.
Видишь, в море — нет, ты не ошибся,
блеск последних парусов?
Берет брошен. Скалы и Калипсо
спят. Лишь приглушенный зов
собственной глубинной дали – строже
всё поет и всё верней:
только отречением ты можешь
сделать Итаку своей.
Отступись! Но гулок шаг твой каждый,
и сиянье пустоты,
словно золотом холодным жажды,
жжет ладонь. И знаешь ты
кончен путь. Исполнись же смиренной
освященья простотой,
неба сочетая неизменность
с жизни гибкою водой!»
ВЕНЕЦИАНКА
И темного паруса яркий лоск,
и сиянье зари зеленой,
и дрожь переливчатой пряди волос,
шалью ее продленной,
и вспыхнувшей грусти горячий дым,
и стремительных ласк смятенье,
и тела ее – золотой воды –
в пальцах моих струенье.
НАСТАВЛЕНИЕ ДЕЛОССКОГО СТОЛПНИКА
Ты, расторгнувший узы,
ускользающий вихрь,
раствори себя в узость
острых башен твоих.
Упади, как осанна,
в полоненную ширь,
слов ищи несказанность,
слово — мера души.
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ
Темное пили вино мы с тобой авентинскою ночью,
где Sant’ Alessio храм темною башней уснул.
Но раздробил темноту, осияв ее строгой строфою,
чистый и полный огонь Энтелехеи твоей:
«Влагу не дай мне пролить через край преисполненный, Муза!
Полнит обильная мысль формы размеренной грань.
С мерой дружна красота, но мысль преследует вечность;
ты же вместить мне велишь вечность в предел красоты».
РЕКА
Колеблемый сном, полуночным угаром,
я – птицей немой — тебя слухом ищу,
и слышу тебя, моя Mater Aquarum,
твой строгий исток, световую пращу,
которой летят твои гибкие плесы
по ткани лугов, по сплетеньям ольхи.
А время стоит. Херувим светлокосый
впервые тайком мои пишет стихи.
В них рифма звенит музыкальным прибоем,
рыданье, и смех, и задор покорив, —
в них пенье виол, клавикорд и гобоев,
и лодка и мост под гитарами ив.
Так блеском твоим всё грохочет безмерно.
О гибель, уйди! Совершенства струя
течет наяву, и ответом на верность
пастуший рожок на заре бытия.
Твоих берегов не коснуться губами —
далекая боль твой сияющий бег.
Но сила, покой, тишина — всё упрямей
смиряют мое славословье тебе.
Но ветра и вод всё осенней, просторней
в изгнаньи напев. И молчанье камней.
«В потоках времен только льющейся форме
нетленность дана», — ты поведала мне.
Твой голос поблек, вдохновенный когда-то,
но им я горю, а не жаждой слепой.
«Откликнись на зов моих звонких закатов
и к ним возвратись, но кастальской тропой!»
АЛИКИ
Нежности неупиваемой снова я жажду, Алики,
в спящие губы смотрю, косу в ладони держу, —
жду, чтоб опять разгорелись со мной разлученные груди,
вспыхнул растаявшим льдом ключ поцелуев твоих.
Взглядом своим, Аполлон, укрепи чистоту нашей страсти!
Время бесстрашное, стань! Чтобы застыли вокруг
Тироса буйные розы и туч набежавших озера,
пепел вечерней волны с мертвой медузой зари.
ЭСТОНСКИЙ ГРАВЕР ЭДУАРД ВИЙРАЛЬТ (II)
Тебя я вижу в памяти — большого,
чужого. Близкого. Идешь по Рю Рояль,
и леонардовской улыбкой снова
губ нерасжатых светятся края.
Твой труд — о нем не говоришь ревниво,
о нем достаточно слогов, не слов.
Но Мерион, Нантэй — с каким порывом
их творческое славишь ремесло.
Звучит твой голос скупо, углубленно —
ты обращен в себя, и не могло
и быть иначе: он всегда спеленут,
твой тайный пламень, благодатной мглой.
Твой взгляд опушен, падает всё ниже,
шаги о силе скрытой говорят.
Вокруг тебя — снующий шум Парижа
и каменное солнце декабря.
И вот шаги привычно миновали
колонн Мадлэн ритмическую речь.
От жертвенников эллинских едва ли
огонь эстонской мистике возжечь.
Молчишь. Последую ль твоей дорогой —
твоим словам: в искусстве высоко
лишь отречение. Лишь меры строгость.
Разграничение. Отсев. Закон.
СТЕФАН ГЕОРГЕ
У вдохновенья нашего нет больше сил
на десять строф, горящих не слабея, —
я изваял лишь три, но их огонь пронзил
до сердца дуб, и блеском пальмы веет;
он голубой лозой ликует, смерть поправ,
и мыслью светлой и надменной стынет.
И, выжата из всех крылатых горных трав
и взломана в глубинах скал пустыни,
слетает линия на дымный снег страницы —
и стройным песнопением струится.
ДВА РАССТОЯНЬЯ
Так долго пил мой взгляд и стих
в молчаньи горечи прекрасной
линейность узких рук твоих
и гордый холод их окраски.
Два расстоянья, две судьбы,
как рифмой, сблизились крылами –
и я о холоде забыл,
не знаю, как явился пламень,
что ограждает наш союз
и, не тускнея в стуже утра,
рук наших радостную грусть
сплетет беспамятно и мудро.
ГОРНЫЙ ВЯЗ
Посвящается Артуру Адсону
И вечер настал. На колени склонились кусты,
надвинулись тучи и черные ветры подули,
тебя заслоняя, — и вот я не вижу, где ты,
страна моя, страх мой, тоска, моя Ultima Thule.
Меня покидаешь? И я различаю едва
и глаз твоих бледность, цветущих картофельным полем,
и косы льняные, и облика льдистый овал,
и поступь босую сомненья, безмолвия, боли.
Помедлишь еще? Мое горло стянула тесьма
согбенного месяца, душит бессонницей длинной.
Кто друг мой последний? Не ель, что надменно нема,
не робость берез и не скорбная горечь осины.
То дерево помнишь, о Муза, — я был еще юн,
и в юность мою оно подняло смелые ветви.
Литавры цезуры, стремительной рифмы гарпун
пусть ловят его тишину в пятистопные сети.
Горящею глыбой февральского солнца растет
огромная крона твоя в отпылавшем закате, —
и мой амфибрахий напрасно к виденью простер
крылатые руны и строф нераскрытых объятья.
Тобой обожженный — я пепел сжимаю, скорбя.
Рука твоя тускло протянута мне из тумана.
Мой вечер настал. И я больше не встречу тебя,
утерянной верности дерево, Ulmus Montana.
ДУША ФОРМЫ
Посв. Антсу Орасу
Ты в арке сочетал строй истины и меры,
высокий свод стиха симметрией связал,
и в ночь отчаянья одним усильем веры
ты нежность властвовать призвал.
Что в ней? Зов странствия, что в юности любимый
певец своей Литвы, Мицкевич отдал нам?
Шекспировский сонет, как жар, в душе таимый,
иль Пушкина полдневный ямб?
Иль тайна Рильке в ней, которую ревниво
элегии хранят в сияньи строгих строф ?
Ночь Элиота в ней? Иль Данта luce viva?
Иль сумрак Донна странных снов?
Быть может, нежность — ритм, пульсация живая
цезуры, слога звон и образа расцвет?
Движение строки, которая скрывает
в себе уснувший самоцвет?
Пегаса вывел ты, и, окрыленный снова,
в короне гордой он и с надписью резной:
«Служу тому, чей стих таит в металле слова
дыханье ягоды лесной».
Всё прах, Учитель мой, — всё тлен. И в нем застынут
легчайшей мысли взлет и чувства глубина.
Пространство только есть и время, что не минут.
И форма сущего одна.
СЕНТЯБРЬ
Что в крови неодолимо пело —
отошло, меня освободив, —
вереска цветы, и лес замшелый,
и реки пылающий извив.
Вы, глаза, что всё простить умеют,
ты, волос тяжелая волна, —
я покинул вас. Виной моею
звонкость чувств моих заглушена.
Я, стихи последние читая,
снов весенних не зову назад:
их земное время, пролетая,
утопило, как слепых котят.
Теплый ветер сушит все желанья,
и покой приходит им взамен.
Ночь, быть может, вольное сиянье,
берег света, а не темный плен?
Мой сентябрь — он солнечная вечность,
он исполнен чистой тишины,
в ней впервые радостною встречей
жизнь со смертью соединены.
Это – от себя освобожденье,
это – в безымянной тишине
дух неповторимого мгновенья
руку робкую простер ко мне.
ТИГР. Гравюра Эдуарда Вийральта
Париж. Зверинец. Толпы проходящих
зевак напрасно льнут ко мне, крича:
сейчас я мчусь по сундарбанской чаще,
реву в яванских пальмовых ночах.
И от Транскаспия и до Кореи,
до жаркой Бирмы — всё моя страна:
бамбука заросли, где солнце реет,
подруги-реки, темные до дна.
А отдых мой — руины капищ Брамы,
испепеленный временем дворец, —
я там лежу, надменный и упрямый,
как сфинкс, и воин, и верховный жрец.
Чем можешь, нищий, клича, поделиться?
Твой мелок ум, бренчащий в пустоте, —
я ж королем останусь и в темнице,
я буду презирать тебя, рантье.
Довольно было у тебя игрушек —
в тюрьме Уайльд, Ван Гог угас в бреду,
в безумии. Ты всякий гений душишь,
и для тебя я с места не сойду.
Но вот идет один — и невозможно
тебе понять, чем он неповторим:
он для меня единственный художник,
я сам пойду и лягу перед ним.
Вольтера губы, волосы живые
горят неувядаемым костром, —
взгляд углубленный, видящий впервые,
по-новому — что для тебя старо.
Раскрыл альбом. Я чувствую недаром,
инерции листа не одолев, —
он — как прыжок в виденьях ягуара,
удар когтей и крови ждущий гнев.
Инерцией разбужен самый верный
инстинкт во мне — и вот ему служу
как дружбе духа, я, высокомерный,
один лишь взгляд — послушно я ложусь.
Я — радость формы. Яростный и стройный.
Мной любовались кисти всех земель.
Я всех времен моделью был достойной, —
но для тебя я больше, чем модель.
Твой брат, я скован прутьями стальными,
ты — Монпарнаса клеткой ледяной,
здесь «Фелис Тигрис», там иное имя —
там «Вийральт», но — в темнице мы одной.
Приди! Мы вместе убежим отсюда,
Европы сердце меркнет навсегда.
Моя ж страна сияет блеском чуда,
пред ней Париж — как темная звезда.
И через Ганг перенесет вслепую
тебя моя акулья быстрота,
они мои: здесь Суматра и Лую,
там — Грузия, Аравия, Алтай.
Мое оплечье крепостью сравнится
с устоем гор. Недаром запрягал
меня в бессмертном Риме в колесницу
сам император Гелиогабал.
Гравер эстонский, позабудь о плене,
садись мне на спину, без страха правь, —
мы победим, сыны страны видений,
легенду нашу обращая в явь.
КЛЕНЫ
День святого Луки. И волчицею рыжая осень
по опушке летит. Но безмолвно ее торжество.
Вдруг сорвался полет. Кто сомненье в летящую бросил?
Смято пламя ее и осыпалось блеклой листвой.
И пожару конец. Не надейся на блеск обновлений.
Час надломленный сер, и просторов погасли огни.
В ржавом чаде долин повалился закат на колени.
Серой нежности цвет нас невидимо соединил.
И пожару конец. Но в ликующем зареве кленов
столько жадных лучей в предвечерний сливаются свет,
так сиянье светло, что и в мудрых стихах, и в ученых —
перебой, перехват, распылившейся линии след.
Крепкой охры поток, красно-бурою сетью повитый,
смугло-алая ткань, музыкальный ветвей перебор,
танец пьяных огней — это эхо космических ритмов,
зов, кипенье, порыв, и безумье, и боль, и отпор.
И твоя тишина — это ласка, что медлит несмело,
пусть она обожжет, как дыханье расплавленной тьмы,
наш союз чистоты, и покоя, и радости белой,
наших кленов закат и рассвет нашей нежной зимы.
СКИРИТИС
Даже отсюда,
с черных выступов горных громад
вижу вас, волны –
волны – играющий блеск бокалов,
волны – мыло запревших коней,
волны – знамена павших когда-то солдат.
ЛЕСБОС
В свете поникшем стою я на Лесбоса мысе песчаном.
Всё еще кружится вихрь. Буря стихает, свистя.
Острые падают тени от дюн и кустов опаленных.
Наискось в мутный закат водная катится зыбь.
А из колеблемой дали плывет, нарастает и бьется
Старая эта тоска, дерзость смиряя мою.
Где мои Сампо и Сафо? О них про себя напеваю.
Вторит мне только Борей, посох лишь внемлет один.
ЯНТАРЬ
Флейтами волны опять зазвучали,
снова порыв мой уняли печали,
клик мой смолкающий ими развеян, —
всё же я слушаю, благоговея,
зов, что с полетом сливается в хоре
глухо мятущихся грохотов моря.
Вихрь, укрощая мою непокорность,
снял пелену с моей воли упорной, —
вот он скрипит, нелюдим, необуздан,
водит по гравию рашпилем грузным,
хлещет в лицо, будто плетью смиряя,
я же молитву одну повторяю:
— Божья волна, в твоей радостной буре
выточи веру из чистой лазури!
В нашей борьбе голосов и видений
выяви промысел тайных велений!
Гни и сломи, о лавина морская,
гордость мою; под тобой поникая,
пусть я в могиле немолчного моря
музыки жду, мне обещанной вскоре, —
музыки, в чьей немоте светозарной
вырасту темной смолою янтарной.
Замкнутый кругом твоих возвращений,
падаю в рай, обескрыленный пленник.
С УКРАИНСКОГО
ИГОРЬ КАЧУРОВСКИЙ (р. 1918)
«Померкло небо. Дальний рокот грома…»
Померкло небо. Дальний рокот грома,
И против ветра пчелы потянули.
Как много их свой покидало улей —
И как немного долетит до дома.
«Всю жизнь свою держал я душу настежь…»
Всю жизнь свою держал я душу настежь —
Что хочешь уноси, входя, любой, —
И гости разбирали всё, но часто
Те гости дар мне приносили свой.
Чужое и свое теперь смешалось.
Свое, чужое — разве разберешь.
Но в глубь души, что тайной оставалась,
Сегодня ты, ты первая войдешь.
«Грустным садом иду, вспоминая…»
Грустным садом иду, вспоминая,
В сизых травах росисто-густых.
Расцвели твои розы, родная,
Только ты не увидишь их.
Между нами пропастью ляжет
Черный ров клеветы и зла,
Только роза цветет всё та же,
Что еще при тебе цвела.
Ну, а сердце с розой не схоже,
Сердцу вовсе не всё равно.
И оно без тебя не может —
Без тебя умирает оно.
«Когда в слезах поднимешь к небу взгляд…»
Когда в слезах поднимешь к небу взгляд,
Осыпанному синими звездами.
То звезды расплываются над нами
И вниз скользят.
Как у Ван Гога: видишь город мшистый,
Потемки улицы, мазки огней,
И звезды растекаются пятнисто
Там, в вышине.
Нет, то не прихоть живописной позы
И не безумья темного удел:
Он так на эту улицу глядел –
Сквозь слезы.
С АНГЛИЙСКОГО
МЭРИ ЭЛИЗАБЕТ ФРАЙ (1905-2004)
«Не стой ты у моей могилы, не рыдай…»
Не стой ты у моей могилы, не рыдай,
Меня там нет, я там не сплю, ты это знай…
Я а тысяче летучих ветерков,
В алмазном блеске выпавших снегов,
Я солнца в зернах золотой волны,
Я каткий дождь озерной тишины.
Когда проснешься утренней порой —
Я птичий взлет, кружащий над землей,
Сиянье нежное звезды ночном.
Не стой же, плача, в безнадежной думе —
Ведь я не там,
Ведь я не умер.
РАССКАЗЫ
ТЕДДИ ИЗ СТОКГОЛЬМА
Мы – Лилька, Алешка и я – сидели на корточках под старой шелковицей и, подбирая из пыли перезрелые ягоды, клали их в рот. Как вдруг где-то далеко послышалось низкое и мягкое гудение мотора. Оно приближаюсь в нарастающем облаке собачьего лая. Когда мы выбежали за ворота, бухал уже и соседский Барбос. Наша трусиха Мyxa жалась у ног и судорожно подергивала верхней губой, но где-то очень глубоко слышалось и в ней как бы подземное рычание.
Автомобиль уже взобрался на пригорок, сияя раскосыми фарами, и остановился у ворот адмиральского сада. В откинутую дверцу выпрыгнул тонконогий фокстерьер, за ним, согнувшись, вылезла дама в белом, а за ней поджарый господин в ладном сером костюмчике с пестрым галстуком. Фокстерьер неожиданно и невесомо подлетел к нам и остановился, поджав переднюю лапку. Деревенщина Муха попятилась, показала белые зубы и уныло заворчала. Фоксик смотрел весело, приветливо и любопытно. Один его глаз был на белом фоне, маленький и быстрый, другой мягко поблескивал из черной кляксы, охватившей и ухо. «Тедди», — позвала дама, и Тедди, не касаясь земли, порхнул к ней. Господин же взглянул на нас, сделал обезьянью рожицу, свистнул по-птичьи, а затем улыбнулся золотыми зубами: они были все золотые, до единого. Это было даже страшно, и мы отшатнулись, потрясенные. Все три пошли в сад, а навстречу им по аллее уже бежали из дому адмирал с адмиральшей…
Дома, за обедом, говорили об Оле, адмиральской дочке, что она поймала шведа. Я представляла это себе так: стоит швед в сером костюмчике, сзади, большими шагами, с пальцем на губах, подкрадывается к нему Оля и раз! — хватает шведа за локти. Он оборачивается, делает обезьянью гримаску, скалит золотые зубы, но Оля не пугается, и они под руку идут в церковь венчаться. Из незаконченных фраз, которыми взрослые обменивались над моей головой, я сделала заключение, что у Оли есть поклонник, что он в городе и что очень интересно, чем всё это закончится.
На следующий день мы с Тедди познакомились короче. У стены адмиральского сада давно была свалена горка щебня. Ее занесло землей получилась плошая вышка для наблюдений. За стеной был тенисто-солнечный, тихий сад с песчаными дорожками, ротами на клумбах и сквозной зеленой беседкой. В это утро я влезла на вышку, отвела запыленную ветку от глаз и глянула в сад, похлопав себя по карману — он тяжко и угловато провис сахарными кубиками. Тедди в саду не было. Я взяла кусочек в рот, и он сразу сладко растаял. В раскрытое окно выглянула Оля – я подалась назад. Оля смотрела в небо, на облачко, так внимательно — словно читала, даже прищурилась и приоткрыла губы: ничего хорошею, видно, не прочла, обиделась и ушла от окна. И тогда я увидала Тедди: он спал крепким белым калачиком на самом припеке у крыльца, «Тедди!» — тихонько окликнула я. Он вскинул головку, поднял уши, и черное сразу перевесило. «Тедди!» — повторила я громче, — головка совсем легла на плечо. Затем Тедди упруго подпрыгнул и, прежде чем обдумал свой поступок, стоял на стене рядом со мной и молниеносно ткнул меня в губы мокрым носом. Его незримый хвостик вилял, карие глазенки говорили: «Очень, очень рад знакомству». Мой сахар он схрустел стремительно и опрятно облизал мордочку быстрым языком. Тут меня позвали завтракать, пришлось спрыгивать с вышки.
И вот опять утро, и опять я над чужой стеной. Слышно, как Тедди звонко облаивает кого-то в доме, а в саду, в беседке, сидит хмурая Оля, рассматривает свою ладонь и зевает ужасно, до слез, во весь рот, как зевают в одиночестве. Затем раскрывается дверь дома, из нее сначала вылетает белый маленький вихрь: в этом вихре нельзя разобрать ни головы, ни лап — он, брызгая песком, делает несколько упругих кругов по саду, а вышедший за ним господин останавливается, не решаясь попасть в орбиту. Я случайно взглядываю на Олю. Что с ней? Она стоит, прямая и розовая, и такая красивая, и так смотрит, что я сразу понимаю: это не швед. Довольно было одного фильма, на который я по недоразумению попала, чтобы понять – это тот, «поклонник», и сейчас они будут целоваться. Но тут белых вихрь внезапно замер, превратился в Тедди, качающегося от изнеможения, с косыми, шалыми глазами и брошенным на сторону языком.
Не знаю, целовались ли они там, – вероятно, целовались. Через несколько дней тетя сказала бабушке, что Оля ведет себя глупо, и прибавила слово «афиширует». Мне было жаль Олю, – я вспомнила, как она зевала и как потом обрадовалась, когда тот пришел, и какая стала красивая. Мне казалось, что и Тедди на Олиной стороне. Потом мои чувства осложнились.
Отведя однажды ветку, я увидала в саду шведа. Он сидел на корточках перед Тедди и улыбался, как бритая обезьянка, поблескивая зубами. Он что-то говорил, — странные, ни на что не похожие слова, а Тедди сидел скучный и тихий и невпопад давал ему лапку, только чтобы отделаться. Швед неловко погладил Тедди, встал и посмотрел на небо глазами голубыми, как у моей новорожденной кузины. На небе не было даже и облачка, а он всё смотрел — не мигая: видно, ему было очень грустно от Теддиной нелюбезности. И мне стало его жаль тоже. И я всё думала, как это скверно устроено у взрослых. Мы вот, когда играем, знаем, что это «нарочно» — сегодня тебя съедят людоеды, а завтра ты их перестреляешь, — очень только занятно и весело. А они как заведут игру — и тянут, и тянут, и никак не могут выпутаться, и всем вокруг становится гадко.
Тедди очень любил игру в тряпку: душу свою готов был продать за эту игру. Делалось это так: я перевешивалась со стены с тряпкой в руке, он снизу прыгал и вцеплялся в нее мертвой хваткой. Можно било его мотать, встряхивать, волочить по земле – он каменел и глаза становились выпученными и бессмысленными. Когда я уставала, то опускала тряпку, и он сразу приходил в себя, тряпку бросал, вскакивал и смотрел на меня, дружески щурясь: «Вот, мол, недурно поиграли. Нельзя ли повторить?» Оля нас как-то поймала за этой игрой — подошла смеющаяся, нарядная, с розовым зонтиком в руне. Она погладила меня по голове и спросила, как зовут, но смотрела в сторону; потом гладила тоже заплясавшего Тедди, но все попадала мимо. От нее остался в воздухе словно душистый ветерок. Немножко было обидно — как она мимо спрашивает и ласкает.
А потом, дня через два, дома узнаю: швед уехал. Оля осталась, адмирал — вне себя, адмиральша — очень довольна. «А Тедди?» — забилось мое сердце… Я бросилась к стене с карманом, тяжелым от сахара, с новой прочной тряпкой. Тедди не было. Тихо было в саду и пусто. Тедди увезли в Стокгольм.
МОЙ ОСКОЛОК
Наш бесконечный товарный поезд дернулся в последний раз и остановился. Стало очень тихо, дунуло с поля солнечным ветерком и стрекотаньем кузнечиков. Беженцы, немытые, желтые, измятые, гремя чайниками и подбирая узлы, стали вываливаться в раздвинутые двери теплушек. Приехали. Неизвестно куда — но приехали. Начальство знает.
По-муравьиному волоча свое барахло, они ползли к зданию чистенького захолустного вокзала. Кто-то в немецкой военной форме резким командным голосом указывал направление. Никто, кроме Танюшки, не оглянулся на выпотрошенный поезд. Он стоял усталый, пригретый солнцем, отдыхая от семидневной тряски по венгерской равнине. Танюшка чуть-чуть кивнула ему и запрыгала дальше по шпалам, как по клавишам, приговаривая: «До-ре-ми-фа-соль!.. Мамочка, а мы соль забыли», — вдруг отчаянно закричала она в спину матери. Соль осталась в вагоне, на рейке, набитой над их территорией. Мать, обернулась, хотела махнуть рукой, но руки были заняты узлами, и она только сказала: «И Бог с ней, с солью!» – и Танюшка поскакала дальше. На одной руке ее висел шуршащий дедушкин плащ, а в другой болталась сумка с гремучими кружками и всякой ерундой. Возле шпал росли, как и дома, жесткие цветы и ромашка, и сухими щелчками взлетали кузнечики – у одного крылья просвечивали розовым, а у другого голубым. Мама и дедушка шли впереди, задыхались над чемоданами и прерывисто ссорились: мама никак не могла вспомнить, в котором узле серебряные ложки, а дедушка язвительно утверждал, что она вообще никогда ничего не помнит. Танюшке было странно, что и это как дома, хотя вся жизнь оборачивалась, казалось, таким жутким и захватывающим приключением.
Вся толпа беженцев сгрудилась на площади у вокзала – кто присел на угол чемодана, кто прилет на узел. Вокруг стояли опрятные вымершие домики с гераньками на подоконниках. Из одного окна донеслось томное кукованье полудня, и сейчас же где-то вдали земля задрожала от взрывов. Кто привскочил, а кто только поднял привычно к небу бледное лицо, – но небо было тихим и невинным, и никто из местных жителей беспокойства не проявил. Переглянулись, пожали плечами, успокоились. Дедушка сидел прямой и строгий на ящике с железной ручкой и аккуратно стянутой бечевкой. В ящике были его книги и его «труд», и с ним он никогда не расставался. Мама прилегла на портплед, прикрыла таза рукой. Танюшке хотелось и есть и пить, но было неудобно напомнить.
Сидели час, два, три. Потом вдруг загудели и влетели на площадь грузовики, молодые немецкие солдаты гимнастами соскочили наземь, всё сразу заворошилось, встревожилось. Стройный желчный офицер отдавал приказания. Сначала все думали, что ослышались, тормошили переводчика, но тот с нарочито бесстрастным лицом повторял: «Стариков, больных повезут машинами, остальные идут пешком, вещи оставить на вокзале, завтра привезут. Идти семь километров. Не торопитесь. Следите за первой колонной… Стариков и больных машинами…» Муравьев разлучили с их ношей, и они заметались, боясь сопротивляться. Мама встала, испуганно глянула на дедушку: «Папочка, ты поезжай», — сказала она, не решаясь взглянуть на ящик. Дедушка тоже не обернулся на него.
— Не бойся. Маня, — сказал он холодно, — это немцы, не наши, всё будет в порядке.
И с легким головокружением, словно летя в пропасть, они отвернулись от своих вещей.
Шли долго, по длинной и тоже вымершей улице городка, мимо церкви, мимо трактира с средневековой бочкой у крыльца, мимо узких сероватых домов с готическими надписями при входе, шли как во сне или в ожившей немецкой сказке. Стало смеркаться, и в лиловатых прозрачных сумерках приглушенно вспыхнули огни — оранжевые щели по самой каемке затемнений. Уличные фонари не зажглись, и улица кончилась, и уже в полном мраке шли по лесной дороге, спотыкаясь о корни, теряя друг друга, уже немного спеша и задыхаясь. Вдруг с небольшого подъема, в черной чаше мрака внизу — резкие и голые цепи огней у земли, словно согнанные на параллельные пути и застывшие поезда. «Лагерь военнопленных», — сказал кто-то вполголоса позади Танюшки. Она уже выбилась из сил, но сама этого не замечала — так необыкновенно было всё происходящее. За всю дорогу ни она, ни мама не проронили ни слова, но тут Танюшка не выдержала: «Мамочка, смотри — цирк!» — и указала невидимым пальцем на огромный полосатый шатер, мягко и розово просвечивающий за чертой колючих огней лагеря. Кто-то засмеялся, тоже невидимый, и притом недоверчиво. Танюшка смутилась и покраснела в темноте. «Мамочка, правда похоже?» — тише спросила она. «Правда», — ответила мама, думая о чем-то своем.
Еще полчаса шаркающего марша во мраке — и вдруг справа вынырнула стена перепутанной колючей проволоки, грубая вышка над ней, ворота со слепящим рефлектором. Неужели за проволоку? Нет, свернули налево во всё густеющую, кишащую, мечущуюся толпу. Прибыли! Эго сразу было слышно по более уверенной интонации голосов, по большей плавности говора и громкости его. «Теперь куда, мамочка?» — обернулась Танюшка, но мать растаяла в толпе и девочка с ужасом поняла, что потерялась. Метнулась вперед, метнулась назад – вокруг чужая толпа, приземистые, черепашьи силуэты палаток и … да, и – цирк перед самыми глазами. Она бросилась к нему, к свету, вбежала внутрь: на земляном полу, сколько хватит глаз, лежат сенники, покрытые бурыми одеялами, и на них, домовито хлопоча, размещались беженцы, и одна худенькая женщина, стоя на коленях, уже молилась на приколотую к стене палатки иконку.
– Что случилось, девочка? Почему такие горькие слезы? – спросил кто-то, беря Танюшку за вздрагивающее плечо. Она была так занята поисками — даже не знала, что плачет. Возле нее стоял высокий смуглый мальчик лет шестнадцати, румяный, с очень блестящими черными глазами. Он смотрел на нее участливо и немножко насмешливо.
– Мама где-то пропала, — сообщила Танюшка.
– Найдем маму, — сказал он с полной уверенностью, – а пока вот что: идем лапшу получать, а то всю сожрут и не поужинаешь.
– Толя, что за выражения, — возмутилась мать, сидя на сеннике и копаясь в сумочке, — слава Богу, термометр цел, поставь-ка.
– Подожди, масик, накормить надо этого шнипса. Ну, пошли! — и он, взяв Танюшку за руку, поволок ее из палатки. В полумраке у входа стоял огромный бак и лежала гора жестяных мисок. Расторопный солдат плескал лапшу-добавку в подставленные миски, но Толя протолкнул Танюшку вперед:
– Посторонись, братцы, тут дитя еще не насыщено!
Ах, какая это была лапша! Никогда ни до, ни после Танюшка не ела такой лапши.
– Хорошо? — спросил Толя, когда она слизала с ложки последнюю лапшинку. Танюшка, охмелев от лапши, рассмеялась:
– Хорошо!..
– А теперь идем искать маму.
* * *
Дедушка был прав. Все вещи оказались в порядке. Его ящик стоял в изголовьи его сенника, а рядом вплотную одно к другому были ложа мамы и Танюшки в уютной загородке чемоданов и узлов.
Сегодня Танюшка проснулась рано. Резкий рассветный холодок плыл во все щели палатки. Спать приходилось не раздеваясь, в платье, в пальтишке, в чулках, под жесткой охапкой негреющих немецких одеял.
– Надо идти умываться, — огорченно подумала она.
По скату холма земля была срезана глинистой террасой, и на свежем ее краю были поставлены цинковые желоба с кранами, где все и умывались по утрам. Танюшкины пальцы свирепо краснели и вздувались от ледяной воды, и лицо от нее горело, но зато и просыпалось. Утром в октябре холодный туман долго заволакивал окрестности лагеря, и темный лесок внизу мерещился в нем дремучей чащей. И вот сегодня из тумана выплыли на склон два силуэта диких коз и остановились: Танюшка сложила мокрые ладони и почти молитвенно рассматривала их стройные тела, легкие ноги, чуть вздернутые головки.
Вот бы подстрелить да изжарить, — вздохнула рядом с Танюшкой пышнотелая баба.
Танюшка ахнула в душе, а козочки неслышным прыжком уплыли в туман леса. Выше по скату холма дымили и пылали бесчисленные маленькие костры – и фигуры на корточках сидели у них, подсовывая щепки и веточки. Бурлила вода в почерневших кастрюльках, вскипали пузатые чайники, на трещащей сковородке аппетитно чадили оладьи. Танюшка выискивала взглядом дедушку: он особенно ловко и методически укладывал щепочки, и легкое оранжевое пламя лизало со всех сторон их чайник, бывший коричневый, а теперь бархатно-черный. От соседнего костра несло фруктовым ароматом: там Толина мать варила маленькие окаменелые груши — варила, пока они не становились розоватыми, нежными и съедобными. Она выловила одну из кипятка для пробы и протянула, всю дымящуюся, Танюшке:
— Вот, насобирала вчера, когда мальчишки сбивали. Попробуй-ка.
Танюшка осторожно грызла, широко раскрывая рот и дыша грушевым паром. «А что делает Толя?» — Лицо матери омрачилось: «Да что-то лихорадит его, простуда, что ли. Заходи проведать».
Танюшка и Толя стали большими приятелями. Она ходила к нему в палатку-цирк играть в шашки, или в карты, или в виселицу. Он был почти всегда нездоров, лежал, кашлял, кутался, но глаза блестели и щеки горели, как после бега. Иногда подмигивал Танюшке: «А помнишь лапшу?» После лапши прошло уже около месяца.
«Сегодня я расскажу Толе о козах — это самое интересное», — решала Танюшка. Но когда она после утреннего дымного чая с резиновым хлебом и клейким творогом побежала к Толе, у него уже спасла Ксана, большая рыжая девочка с ямкой на щеке. Ксане было лет пятнадцать, что казалось очень почтенным для Танюшкиных десяти, для ее тугих светлых косичек и глупых веснушек на носу, – и она отошла, чтобы не мешать разговору. Ксана, говоря, смеялась, трясла красно-южными кудрями, а Толя смотрел на нее как бы испуганно и печально.
– Наша партия почти наверно уезжает завтра. Интересно, куда мы попадем! – сказала Ксана, рассматривая без надобности свои розовые ногти. «Инцересно, попадзем», — передразнила ее про себя Танюшка, уныло глядя на ряды чужих матрацев, на их плоские улицы под тентом палатки. Со злой наблюдательностью ревности она замечала, как Ксана менялась при мужчинах, как очаровательно смеялась, как щурилась, как откидывала головку. Она представила себе ее такой в женском обществе и расплылась в широкой улыбке, так это было невероятно: все бы подумали, что Ксана сошла с ума. А Толя смотрел на нее так беспомощно и верил, что она всегда такая. Танюшка же сама ее видала за штопкой чулок — лоб ее был в толстых морщинах, нижняя губа торчала, плечи сгорбились. Она сердито хлопала рукой по одеялу и скороговоркой повторяла: «И куда эти проклятые ножницы задевались?» — и она не говорила «задзевались», потому что поблизости была только Танюшка. Думая о Ксане, Танюшка не сразу поняла, что ей ответил Толя, но его слова еще звучали в ее ушах, и она повторила их себе и вслушалась: «А мне уж, должно быть, попадать некуда. Разве что… Плохо мне, Ксана…»
Толя никогда не говорил так, и даже Ксана растерялась:
– Что вы, Толя! — заговорила она с фальшивой бодростью. — Это ведь только небольшая простуда, и…
– Ксана, — строго перебил Толя, — всё это лишнее. Не говорите маме только. Она успеет узнать. Желаю вам счастья, Ксана… — и он быстро отвернулся и лег, натянув на лицо полу одеяла.
Она снова вышла из палатки, пробежала по холодному пасмурному лагерю в медленно тающем тумане, взобралась на холмик с редкими деревьями, куда бегала, когда было ей очень грустно: присела на круглый выступ корня — и вдруг увидала подле себя мертвую птичку. Она коснулась ее пальцем, потом робко взяла в горсть ее податливое, шелковое, еще теплое тело. Головка запрокинулась, повисла. Тонкие коготки скрючились, как от холода. Танюшка поднесла ее к губам, подышала паром – нет, не отогреть птички. Птица разбилась в тумане о телеграфные провода, но Танюшке не хотелось верить, что всё уже кончено. Она забыла о Ксане и опять побежала к Толе, бережно прижимая птицу к груди. Толя был одни, в руке книга.
– Толя, смотри, она умерла?
– Умерла, маленький.
– Что же теперь делать?
– Делать теперь нечего. А впрочем, можешь ее похоронить, я дам тебе хорошенькую коробку.
Танюшка погладила пальцем шелковую грудку и пригорюнилась А когда подняла глаза на Толю, то в его глазах что-то блеснуло странное, точно слезы. Наверное, ему тоже было жаль птичку.
Ксана уехала через два дня. В суматохе узлов и чемоданов она стояла у грузовика, щурилась, звонко смеялась и откидывала головку Хорошенький розовый мальчик в опрятной немецкой форме, помогавший при погрузке, смотрел на нее с восторженной нежностью. Кто-то взбрасывал узлы наверх, усаживали каких-то старушек, кто-то крестился. Унылая толпа остающихся наблюдала отъезд. В ней стояла и Танюшка, и поднявшийся, закутанный в одеяло Толя с сухо и мрачно сверкающими глазами. Он держал Танюшу за руку и больно комкал ее пальцы. На Ксану он только изредка вскидывал глаза и отводил их, словно от боли. И вот грузовик тронулся, заплескались в воздухе платочки, площадь опустела.
– Толя, — сказала Танюшка, я тоже никуда не уеду из лагеря.
– Ты мой маленький, — ответил Толя, заглянув в слезы на ее глазах, пожал ей руку, и сказав «ну, беги!» – поволочил за собой по земле серое одеяло. В тот же день он сдался на уговоры и лет в больницу. Больше Танюшка его не видала.
* * *
Утром Танюшка часто наблюдала, как из соседнего концлагеря гнали мимо их палаток бритых и полосатых заключенных на земляные работы. Они все смотрели перед собой голодным, волчьим взглядом, все бледные до зелени, и за всё время ни разу ни один из них не улыбнулся. Да какие улыбки! Когда да их прогоняли мимо, словно волна напряженной ненависти и страдания шла от них и глухо отбивала такт по дороге, – но трудно было оторвать от них расширенные глаза. Все уже передавали шепотом друг другу о тайне полуденных взрывов в ближайшей каменоломне, знала ее и Танюшка.
В палатках, тайком от немцев, беженцы подкладывали куски сырого землистого хлеба для несчастных, приходивших за баками от пищи. Озираясь, молча, они запихивали хлеб за пазуху, стараясь, чтобы и свои не увидали, и пожирали его на ходу, не жуя, давясь, задыхаясь от жадности.
По воскресеньям оркестр заключенных давал концерты на лагерной площади. Музыкантов, видно, кормили лучше, они были похожи на людей, только тоже непроницаемы и безмолвны. Усаживались как в пустыне, словно не было вокруг них кольца живой человеческой толпы, и вдруг совершенно неестественно над площадью вспыхивал праздничный музыкальный фейерверк «Голубого Дуная», такой неприличный в концлагере, среди его земляных террас, мертвых бараков и колючей проволоки. Как-то Танюшка подошла совсем близко к одному из музыкантов, пожилому русому крепышу с седыми висками. Это было в антракте, и он неторопливо разглаживал йоты на легоньком пюпитре. Он вдруг взглянул на Танюшку, и рука его от нот чуть скользнула под ее подбородок. Танюшка так и не могла вспомнить, на каком языке он успел сказать ей, что она хорошая девочка и что у него такая же осталась дома. Она стояла и ждала, не скажет ли он еще чего, не посмотрит ли. Нет, он забыл о Танюшке до самого окончания концерта, когда, вставая, хитро ей подмигнул и щелкнул пальцами.
После этого случая заключенные перестали быть для нее только страшным зрелищем, живыми привидениями, проходящими вверх и вниз по дороге. Но легче от этого не стало. На душе было смутно, а спрашивать взрослых было дело вполне бесполезное, это она знала по опыту. Дедушка, с очками на носу, всё перечитывал свой труд, ворочая страницы плохо сгибающимися пальцами, а мама была рассеяна, тревожна, всё ходила узнавать, не слышно ли чего о папе. Папа был на войне. Это казалось Танюшке более спокойным, чем их тыловое беззащитное скитанье. У него есть ружье, он может спрятаться в бункере. А когда над ними здесь медленно грохочут тяжелые от бомб американские эскадрильи, то от них совсем некуда скрыться — все ложатся на свои матрацы и закрывают глаза, и шепчут молитвы. Иногда Танюшка кладет себе подушку на голову. Начинается пальба «флака», и после пролета эскадрилий полы палаток прорезаны своими же осколками. Дети собирают их еще теплыми и спорят, у кого крупнее… А Толя на вопрос Танюшки о заключенных — «За что их посадили» — сказал как-то: «За то, что они люди, маленькая, а это вещь непростительная в наше время». Взрослые любят говорить глупости, и хотят еще, чтобы им верили.
Да, Толя. Вот и увезли его в чужой мир, за пределы лагеря. Его мать ходит вся потемневшая, молчит, смотрит враждебно. Только когда пришел черед и Танюшке попасть в партию уезжающих, решилась она пойти к Елене Николаевне. Сначала обежала весь лагерь — попрощаться. Посидела на холмике с выгоревшей травой у птичкиной могилки, потрогала пальцем шершавую пору старой груши на площади, прошлась по усыпанным щебнем дорожкам между палаток, посмотрела на волшебный козий лесок под умывальмым склоном. Неужели ей жалко всего этого? Все большие так стремятся уехать. Ужасные, мол, условия. Очень интересные условия, по-танюшкиному, но, конечно, такой ереси никому не скажешь. Напоследок робко вошла она в палатку-цирк и подошла к сеннику Елены Николаевны. Та сидела с немецким словарем, поджав ноги, что-то быстро писала и хмурилась.
– Елена Николаевна, мы завтра уезжаем, — сказала Танюшка, — до свиданья!
Елена Николаевна подняла глаза и даже улыбнулась:
– До свиданья, деточка. Счастливого пути и дай вам Бог хорошо устроиться.
– Можно мне написать Толе?
– Конечно. Он будет очень рад. Он и то спрашивал — как мой шнипс поживает.
Толя спрашивал о ней! Как хорошо. Милый, милый Толя. Танюшка бегом примчалась в свою палатку, вытащила из-под подушки свою сумочку с «драгоценностями» и нетерпеливо высыпала их на одеяло. Были там — перламутровые четки, сломанная брошь-камея, пузырек от духов, из которого еще пахло, если сильно потянуть носом, папина запонка с синим камнем и длинный, гладкий осколок «флака», найденный Танюшкой у их палатки. Поколебавшись, она выбрала осколок. Потом вырвала листок из рисовальной тетради и написала крупно и старательно:
«Дорогой Толя! Мы с тобой друзья навеки. Посылаю тебе на память мой осколок». Немножко подумала и приписала: «Уважающая тебя Танюшка».
ЭКВАТОР
– А мы едем в Бразилию, — сказал Тосик и присел на корточки, рассматривая, что делает из грязного песка Маринка. Пришлепывая ладошкой не то пирожок, не то черепаху, Маринка ответила, не поднимая глаз:
– А мы в Чили.
Тосик помолчал, потыкал бережно пирожок:
– А отчего не в Бразилию?
– В Бразилию бабушек не берут, – вздохнула Маринка и стала счищать с пальцев палочкой налипшую грязь.
– А сестер берут? – заинтересовался Тосик и прибавил по ассоциации: – Наша Ленка дрянь, я ей морду набью, так будет знать!
– Так нельзя говорить, – сказала Маринка строго и стала. Она была худенькой и самоуверенной девочкой и в балетной школе считалась лучшей ученицей. Тосик же был приземист и тяжеловат, в крупных веснушках и с соломенными бровями. Он прекрасно умел свистеть, ходить на руках и постоянно оказывался на крыше барака, откуда его снимали с приставной лестницей. Отравой его жизни была старшая сестра Ленка, докладывавшая матери обо всех художествах. Клалось, у нее не было другого дела, как следить за ним, не сводя глаз, и, когда его предприятия достигали критического пункта, лететь к матери, задыхаясь от негодования и радости; «Ма-а, Тоська разбил сейчас окно в 23-м бараке. Ма-а, Тоська порвал штаны на колючей проволоке… Тоська застрял под забором и его не могут выдернуть!»…
Мать вытирала о фартук усталые руки и, бросив стряпню, шла за Ленкой. «Вот придет отец, подожди», – говорила она только что выдернутому чаду, плетущемуся за ней в легкой расслабленности после пережитых сильных ощущений. Отец приезжал под вечер со своей работы, загорелый, перемазанный и изодранный не лучше сына. Довольный, что наконец дома, он не мог заставить себя его выпороть. Он пускал только страшный блеск в глаза и говорил мрачно: «Марш в угол»!» И хотя угол был плотно привален всяким барахлом, Тосик послушно и неудобно протискивался в него и застывал в жалкой позе, обняв мешок с картошкой. Если о нем забывали, он громко тянул носом, и отец подмигивал матери на унылый мальчишеский затылок:
– Что, мать, простим уж — так и быть, — и мать улыбалась рассеянно: «Да уж как хочешь!» — и примащивалась под лампочкой чинить мужнины носки. Лампочка была тускловата и висела голая, без абажура, на пропыленном шнурке. Под ее светом склоненная голова матери поблескивала невеселым лоском. А отец, дымя, разглаживал на столе шершавыми ладонями карту Южной Америки, сдувал дым на сторону и говорил с наслаждением:
– Да, а тут вот — это все тропические леса, тут белых еще и не бывало; а тут болота, желтая лихорадка. А вот тут самый экватор проходит… Думала ли ты, мать, что поедешь на экватор? — И она ухмылялась, откусывая нитку и не поднимая глаз: «Заедешь и на экватор»… — говорила тихонько и кончала многоточием, за которым стояло в прошлом столько пролитых слез, столько бледного ужаса и просиженных ночей: «заедешь и на экватор»…
Ленка мыла посуду, а Тосик подходил к отцу и смотрел на карту тоже, на ее зеленые, синие, коричневые пятнышки, — и ему было совсем не страшно попасть на экватор. Он уже представлял себе, как интересно будет пролезть под самым этим канатом, вокруг земли обтянутым, и как индейцы помогут ему, бледнолицему брату, из-под него выдернуться.
Мать же, крестясь на ночь на темную иконку над койкой, шептала: «Господи, сделай чудо, не допусти. Чтобы не надо было экватора. Сделай чудо, Господи!»…
ПАДЕНИЕ СЕМЕНА СЕМЕНОВИЧА
Утро было тирольское, дождливое… Вся обширная площадь между госпиталем и семнадцатым бараком стада прихотливым сплетением прозрачных луж и островков светлою щебня, а в самой большой луже тихо отражалось пасмурное небо и вонзенная в него мачта с унрровским флагом — он чуть полыхал, простирая в это неумолимое небо свое белое крыло с красными полосками недоступных свобод. По хмурым склонам ползли молочные облака, а с самого крутого и каменного свисала трепетно-белая полоска грохочущего водопада.
Но довольно поэзии. Семен Семенович, по крайней мере, совсем ее не чувствовал, когда шел, лавируя через площадь, с утренним судочком пахучего чая, приятно греющего паром его озябшие пальцы. Ему хотелось есть. Просто есть. А день только начинался. Было такое ощущение, словно желудок, потеряв надежду на получку решил связаться узлом и стягивается всё туже и туже, – ну, словом, ощущение знакомое, бедствие, так сказать, народное, а на миру и смерть красна. Дело было совсем не в этом. Дело было в том, что Семен Семенович имел полную возможность насытиться — если бы только захотел…
— Доброе утро! — голос Ирочки звучал лукаво и немножко самонадеянно. Глаза ее смеялись и по-утреннему свежее личико цвело в улыбке. Она тоже бежала за чаем, размахивая кастрюлькой, и Семену Семеновичу показалось, что на мгновение солнце прорвало дождевую завесу и осветило самое его сердце.
— Доброе утро, Ирочка!..
И когда он пришел к себе в комнату, поставил судочек на электрическую плитку и обыскал верхние полочки шкафа не завалился ли какой сухарик, и когда оказалось, что таковой не завалился, — он сел на кровать и печально задумался. Потом нагнулся, выволок из-под койки пыльный чемоданчик, открыл его – и там, между синим в крапинку галстуком и безопасной бритвой, нащупал плиточку шоколада. В ней-то и было дело. И зачем существуют на свете Ирочки!.. Это говорю я, а не Семен Семенович… Он-то знает, зачем они существуют. Но если бы их не было — он бы, не медля ни минуты, сунул плиточку в карман, пошел бы в барак икс, комната игрек и получил немедленно целый длинный, коричневый, упругий хлеб, немного резиновый на ощупь, немного горьковатый на вкус, но хлеб, понимаете — хлеб!..
Семен Семенович тихо застонал и закрыл глаза — и сейчас же увидел перед собою Ирочку, стройную, тоненькую, веселую, неизвестно чем утолявшую свой стрекозиный аппетит — но такую любительницу шоколада.
Вчера в кино он взял ее руку — и она ее не отняла. Это было банально, но божественно. Ирочка… Неужели же он не способен на эту маленькую жертву? Неужели же он такое животное, что пойдет променять шоколад?! Он еще раз проверил шкаф, нашел сухую макаронную трубочку, похрустел ею на зубах, пожевал… Залил чаем и пошел в канцелярию. И только что начал составлять очередной список, как из соседней канцелярии вошел Петр Васильевич и — как раз по самому больному месту:
– Вы не знаете, где бы достать шоколада? Жена покою не дает, а где его искать? Вот тоже наказание!
– За хлеб?
– Ах, тут и полцарства отдашь. А что? Есть?
– И… и… нет. То есть…
– Голубчик, выручайте!..
Семен Семенович сидел, сгорбившись, не поднимая глаз, и медленно и сладострастно жевал пятый ломоть хлеба. Чувство ненависти к себе постепенно заглушалось теплой радостью жизни, непривычным покоем в желудке, сытой верой в будущее. Ирочка простит, Ирочка поймет, думал он… Но посмеет ли он рассказать ей о своем падении?.. Не лучше ли сделать это мне и спросить вас, Ирочка, во всеуслышание: ведь вы понимаете? Вы прощаете?..
КАК МЫ БЫЛИ АРТИСТАМИ
Крыша нашего барака провисла волной, как спина у старой клячи, и пол в коридоре ходил под ногами до головокружения. Однако здоровое чувство барачного патриотизма заполняло бездомные сердца. Мы говорили: «А у нас в 23-м», – и это «у нас» звучало тепло и солидно. Наш дом. Наш угол. Наш! Приходилось цепляться за это забавное чувство – ведь не только барачный пол, но сама земля из-под ног уходила.
Но жили мы довольно весело: все почему-то стали артистами. Дамы кропотливо вышивали кокошники, поджав под себя мерзнущие ноги. Придвигались к тусклой лампочке, чувствуя на лбу ее слабое тепло, и нанизывали на иглу крупные матовые жемчужины. А с верхней койки свешивалась мужнина нога в кумачовом сапоге, и сто домашний басок тужился рычать октавой: «Бомбом».
У балетных девочек не было для балета никаких данных, кроме молодости, но они тоже шили себе пачки и целовались на крыльце с дюжими балетными мальчиками.
За перегородкой всегда мягко звякала гитара, а в очереди на чай, в пару котла, пахнущего шалфеем и зубной болью, хористки сговаривались насчет репетиции. Словом – барак был артистическим. На алтарь искусства приносились даже атласные одеяла. Они уцелели в бомбежках, теплушках и вокзальных сидениях — но пали жертвой искусства, превратись в расшитые кафтаны и сарафаны. Их бережно раскладывали на серых лагерных одеялах, и было трогательно млечное мерцание атласа в тесноте беженского уголка, пахнущего гороховым супом и немного хлором, занесенным из умывалки.
Представление состоялось в огромном щелястом бараке, уставленном узкими скамьями, щетинистыми от заноз. На первом месте сел маленький рыжий директор в кругу волнисто движущихся придворных. Он пришел с запозданием, приветствуемый подобострастной тишиной и шепотом зрителей, сел и подал знак коротенькой ручкой.
Он чувствовал себя как белый исследователь в Центральной Африке, черные избрали его своим богом и пригласили на свой ритуальный танец. Он наблюдал, ухмылялся и клал своим туземным соседкам пальцами в рот клейкие карамельки: знак директорской милости и приятного расположения духа. Туземки улыбались немного растерянно, но карамельки сосали.
Успех представления был грандиозен. Публика гудела, ревела, топала, хлопала. Орали даже недопущенные мальчишки, приникнув снаружи к дощатым стенам барака.
И когда, в чаду успеха, актеры с шумом ввалились в свой барак — с еще набеленными лицами и синей чернотой у глаз, сверкая позументами из-под беженских пальтишек, — они с веселым голодом накинулись на ужин: холодные комки слипшихся макарон, оставленных от обеда. И муж, стаскивая на верхней койке легкие кумачовые сапоги, говорил жене, медлящей снять кокошник: «Слыхала, Сашенька, какую я октаву пустил в “Разбойниках”?» Она же, вся еще полная музыки и высокого волнения, только таинственно улыбнулась и дерзко включила электрическую печку. После чего в бараке что-то щелкнуло и он погрузился в привычный зябкий мрак. Тогда Сашенька в кокошнике шмыгнула под одеяло и, прислушиваясь к шуму протеста у соседей, сказала неуверенно: «Это, наверное, Поповы включили — у них гораздо сильнее нашей». На что муж только хмыкнул и осторожно повернулся лицом к своей стенке: за ней ругань была потише.
ЗОЛОТЫЕ ТУФЕЛЬКИ
Пахло лесом, теплом от солнца, сквозь еловые игольчатые пролеты голубело летнее небо, где-то мягко шуршал по вершинам сухой полуденный ветерок. Горели ноги, хотелось пить, глаза искали удобный пень для отдыха. Где-то в невидимом селе колокольня отсчитала спокойно и протяжно двенадцать ударов, и словно круглые волны поплыли и растаяли в тихом воздухе.
В моем самодельном жестяном ведерке только дно было покрыто сизо-синими ягодами черники, но зато мешок с грибами оттягивал руку приятной тяжестью, и сок их желтоватый или зеленоватый — проступал сквозь мешок сырыми пятнами.
Наконец я не выдержала, свалилась на скользкий розоватый хвойный настил и прикрыла глаза. Я гнала, что долго не пролежу почти немедленно по телу побежала сердитая щекотка муравьев. Я ощутила сразу несколько меленьких, но острых щипков и вскочила, отряхиваясь. Нет, надо искать пень. У меня был один знакомый пенек, поближе к опушке — на серой его шершавой поверхности расходились неподвижные круги, как от колокола в воздухе. Но только на пне круги были с одного бока теснее, чаще, с другого просторнее – значит, и ему не так уж легко жилось в прошлом, была какая-то зацепка, как у каждого из нас…
… – а это всё ваши староэмигрантские штучки! – приветствовала меня опушка. Я даже оробела и огляделась виновато. На моем вне сидел боком очень сердитый белокурый молодой человек, но обращался не ко мне, а к нашей лагерной Леночке, наклонившейся к черничному кустику. Ее я узнала по ярко-голубому шелковому платью — она при мне получки его на складе Унрры, и все присутствовавшие еще обсуждали – заметна ли россыпь желтых пятнышек на подоле или нет; решили, что если не знать — то и незаметно. На ногах Леночки были легкие бальные туфельки того же происхождения, в потускнелой позовите, а голова была туго повязана платочком. Пальцы Леночки привычно нашаривали ягодки в кудрявой листве и бросали в жестянку, подобную моей.
– Я вас просила, Шура, бросьте политику! — Леночка выпрямилась и убила комара на лбу. Шура так и взвился.
– Какая, к черту, политика! Разве не видно, что вам каждый дурак из Югославии ближе нашего брата… Голубая кровь! Усики, каблуками щелкает, всякой бабе ручки целует…
– Перестаньте, Шура! Борис Николаевич просто старый знакомый…
– Вот то-то и есть. И «глаза зеленые», и танго «Магнолия» и всякие мазурки. Куда уж нам, мужикам!
Рука Леночки теребила давно ощипанный кустик. Лица ее нельзя было видеть ни мне, ни Шуре с его сияющими гневом глазами.
– И чего вы злитесь? — сказала она вразумительно. — Он же уже уехал в Зальцбург.
– Точно в Зальцбурге дело… — он сломил еловую веточку и стал обрывать хвоинку за хвоинкой. — Мы с Василь Сергеичем пополнили вчера анкеты на Канаду, — добавил невыразительно.
– На… Канаду? Да ведь мы… Да ведь вы хотели в Аргентину. Думаете — там лучше? — Леночка снова выпрямилась и стояла бледная, и комар беспрепятственно всасывался в ее висок.
– Думаю — так лучше, — значительно поправил Шура.
Леночка рассматривала пальцы, синие от ягодного сока. Ведерко с черникой осталось забытым в траве.
– Шура… — сказала она и замолчала.
– Да, Елена Павловна?
– Шура, бросьте вы Канаду…
– Бросьте? – опять рассердился он и вскочил с пня. – А взамен что? Ведь не пойдешь за меня замуж, а? ведь не пойдешь?..
– И пойду, и пойду! – с гневом закричала Леночка и топнула золотой туфелькой.
– Пойдешь? – вдруг тихо и удивленно сказал он. – Ленуся! Родная!..
Хоть мой пень и освободился, но я пошла искать другой.
ЛОЖНАЯ ВЕСНА
Ранний февральский закат. Горные выступы тепло позолочены, а по ложбинам уже стынет прозрачная синева.
Тата полубегом спускается протаявшей тропинкой — то легко придерживаясь за скалы, то цепляясь пальцами за жесткую гриву вереска. При каждом прыжке сумка бьет ее по боку, и, радостно дыша холодеющим воздухом, она поет с неожиданными паузами для прыжков: «Я Вам не… говорю… про тай… ные стра… данья-а!» Как хорошо жить! Как чудесно страдать от неразделенной любви! Как горят щеки от счастья, от томящей ранней весны.
Сегодня над южным обтаявшим склоном, курчавым и лиловато-ржавым от вереска, она видела первую желтую бабочку. Опьяненную бабочку, трепетавшую, как яркий лоскуток. А ущелье гремело снеговой водой. И по северному склону в каждой ложбинке лежала тяжелая зернистая сероватая лепешка снега.
Вершина горы стояла еще в малиновом румянце, а город внизу разом вспыхнул огнями и весь почернел — только огни и остались.
Ну, вот и конец спуска, вот и часовенка, вот и шоссе. Мимо, мягко шипя, тенью пронесся велосипед. Тата остановилась, обдернула вязаную кофточку, поправила волосы, потерла нос тыльной стороной ладони и сбросила сумку с плеча. Присев на корточки, расстегнула ее и вынула на ощупь белый букетик крупных и нежных цветов — шнеерозен — почти с самой вершины, из заповедных мест.
Как было всё славно задумано — и вот она вдруг оробела, когда до конца приема осталось всею двадцать минут. Задумано было так: она входит с цветами в палату, он удивленно и весело поднимается на локтях в кровати, и она кладет на столик цветы: «Вот привет вам с гор» или «Это весна вам прислала». Они болтают и шутят несколько минут, и она уходит, а ее цветы остаются с ним… Только и всего. Где-то есть у него легендарная жена, но ведь Тате ничего от него не надо, — только посмотреть и цветы оставить. Они хорошие друзья, сослуживцы, что же тут такого?
Большой, как будто умышленно неуютный больничный двор. Грузная дверь, вестибюль в белых плитках, затхлый воздух — йодоформ или карболка? — болезнь, болезнь… В коридоре натоплено. Фигуры в полосатых пижамах, в шлепанцах бесцельно слоняются от двери к двери. Теперь на второй этаж, ее нога уже на первой ступеньке.
– Таточка, — радостный тонкий голосок, — ты по мне?
Тата вся вздрагивает и оборачивается к коридору. Одна из полосатых фигур, самая легкая и тощенькая, спешит к ней и издали улыбается, глядя на шнеерозен. «Какие чудесные!» — говорит она еще тоньше и растроганнее, и доверчиво протягивает к ним руку. Тата не любит лгать. Но кто бы мог сказать: «Нет, это не тебе, Веруська, я о тебе вообще забыла».
– А у тебя найдется во что поставить? — спрашивает она вместо этого.
– Найдется! — успокаивает Веруська. — Пойдем ко мне в палату.
Она стала совсем девочкой после операции, с льняной косичкой и острыми локотками. Не подруга, а младшая сестренка скорее. В Тате смятение жалости и досады.
– Веруська, я… — всё же начинает она. Веруська теряет шлепанец с ноги и, смеясь, на ходу, нашаривает его носком. Ее пальцы, влажные, твердые, желтоватые, крепко держат Татину руку. Тата входит в палату. Веруська усаживает ее на белый табурет, быстро что-то рассказывает, смеется, бегает за водой для цветов, роняя со стакана поспешные капли.
Десять минут до конца приема… пять минут… две минуты… Входит дежурная сестра с фарфоровым лицом, чистым и розовым под белым крахмальным корабликом на голове. Она улыбается посетителям, и они покорно встают. Встает и Тата, обнимает лихорадящую к вечеру Веруську, а та бежит и приговаривает:
– Я так рада, так рада, что ты пришла, такая была тоска… Выходя в стайке посетителей из больницы, Тата слышит за спиной русский говор.
– Вот, видите, Нина Николаевна, нечего было волноваться, Павел Петрович совсем молодцом, я же вам писала…
– Да, знаете, я бы и не приехала, столько возни с пропуском, но такой был сон — цветы, цветы, белые цветы, куда ни посмотришь. Стыдно сказать, суеверие, но спокойнее было самой побывать. Я вообще…
Тата виновато ускоряет шаг. Ее бросает в жар. Если бы она дошла до палаты на втором этаже…
Наутро небо затянуло. В пасмурной настороженной сырости закружились скупые снежинки, и вдруг помело-помело яркой бесноватой метелью. Занесло все тропинки, схоронило все цветы. Тата вспомнила о пьяной бабочке над ущельем. Постная, свежая, бесстрастная белизна лежала на земле.
«дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви…»
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О БЕЛГРАДЕ
30-е годы были расцветом русского литературного Белграда. Помню, что я редко проводила мои вечера дома — собрания, заседания, выступления… Было у нас четыре литературных кружка или общества, все очень разные, и во всех я участвовала.
Во-первых, был «Союз ревнителей чистоты русского языка», основанный Евгением Александровичем Елачичем. В нем я четыре года состояла секретарем. Кружок был полугимназического типа, немного скучноватый, но очень добродетельный. Устраивались чтения, составлялась библиотека газетных вырезок, читались лекции, и мы ядовито ловили друг друга на употреблении ненужных иностранных слов и неправильных оборотов. Евгений Александрович был высок, худ, педантичен, вегетарианец, и держал нас всех в повиновении. Был в правлении и его брат Гавриил Елачич, поэт, погибший в первую бомбардировку Белграда в 1941 г.
Второй кружок был очень молодой по составу, веселый, не связанный никакими правилами и дерзко назывался «Новым Арзамасом». Его членами были: Александр Неймирок, Юрий Герцог, Николай Бабкин, Михаил Духовской, Нина Гриневич, Игорь Гребенщиков, еще двое или трое, чьих имен не помню, ну, конечно, и я. «Заседания» наши проходили экзотически — например, сидели на полу на подушках, ели халву, запивая красным вином, и читали стихи, свои и чужие — предпочтительно Гумилева. Иногда заседания проводились в парке за городом. Было всегда очень весело и беззаботно, ведь было нам всем чуть меньше или чуть больше 20 лет.
Третий кружок был много солиднее, назывался «Литературная Среда», и собирался по средам в одной из аудиторий народного университета им. Коларца. Председательствовал милый старенький вечный эмигрант. т. е. еще с царских времен, Карл Романович Кочаровский. Весь состав «Нового Арзамаса» посещал и собрания «Среды», но, кроме нас, там бывали поэты и писатели постарше, и некоторые даже — о верх мечтаний — печатавшиеся в «Современных Записках», как Илья Голенищев-Кутузов, Екатерина Таубер и наш прозаик Михаил Иванников. Бывали у нас В. Гальской, К. Халифов, еще супруги Петровы, Игнат Побегайло, Павел Крат, Михаил Погодин и кое-кто из «сочувствующих». Этот кружок издал тоненький альманах «Литературная Среда», который так и остался номером первым. Мэтром нашим был Голенищев-Кутузов, к его мнению все почтительно прислушивались, — был он как-то культурнее остальных, но очень себе на уме.
Четвертое литературное общество было самым официальным это был «Союз русских писателей и журналистов в Югославии», и в нем принимали участие, кроме многих членов «Среды», также ученые, журналисты, адвокаты и т. п. Самой колоритной фигурой был Петр Бернгардович Струве, с его пышной седой бородой, будто бы окунувшийся в нее и дремлющий в кресле с полузакрытыми глазами, но не пропускающий ни слова из того, что говорится или читается, и производящий затем логический разгром бедного оратора. Бывал на собраниях и В. В. Шульгин. Помню один случай, когда при нем Голенищев-Кутузов прочел сильно просоветские стихи и В. В. вскочил, весь красный, что-то нелестное крикнул Голенищеву-Кутузову и выбежал, хлопнув дверью. Был в Союзе и Евгений Михайлович Кискевич, горбатый поэт, всей душой преданный литературе. Держался он торжественно, очень был увлечем союзными делами, и во время выборов нового правления переживал их, как важнейшее событие Он не выехал из Белграда, когда пришли советские войска, и был расстрелян за то, что держал себя открыто враждебно к новой власти, геройски не тая своих чувств. Я мало интересовалась официальной жизнью Союза, и даже не уверена, кто был его последним председателем – кажется, доктор Пельцер.
Вторая мировая война оборвала разом жизнь всех наших кружков и общества, а сейчас почти никого из участников уже нет в живых.
МИТИН ДЕНЬ
I
Даже у самого моря припекало. По белым острым камням, тяжелой грудой обрушившимся в воду, карабкались три мальчугана – тощие кирпичного цвета тела с выпирающими ребрами, с медными крестиками на веревочках. Один из троих, обрызгав из пригоршни камень, чтобы хоть чуть-чуть остудить его, прилег брюшком, склонив голову над водой. Море было масличным прозрачным, спокойным, слегка колыхавшимся в дремоте. В склизких зеленых трещит что-то всхлипывало, и мокрый краб бочком спешил на солнце: строго и пристально озирались его широко расставленные глаза-столбики. Другой краб, рыжий, отщипывал сильными клешнями ломтики фикуса, поднося их к широкой пасти то легкими, то величавыми движениями. А по дну стелился бледный песок, и над ним легко дрожали солнечные блики. У самых камней замер серый головастый бычок; вода отдавала соленой, тлеющей влагой залива.
Мальчуган закрыл глаза и сплюнул. Сильно пекло между лопатками и в потемневших, дыбом стоящих волосах
– Митя, — шлепнул его по спине друг, — идем прыгать с баржи!
– He-е… Сам иди, — пяткой отмахнулся Митя, открыв глаза… Бычок не двигался с места, солнечные блики едва подрагивали, краб семенил по камням, суша на солнце плоский панцирь-коробочку.
– Пошли же. Митя-а-а! — донеслось уже с высоты. Зашелестел мелкий гравий и водворилась тишина. Митя не двинулся с места. Мать велела ему принести щепок, содрать ракушек, сбегать к хромому греку Федору, помощнику отца, — одолжить сеть…
Сверху зазвенел чей-то смех, словно стеклянные шарики рассыпались по полу. Митя вздрогнул и сел. К песчаному бережку мелко и неторопливо, шаг за шагом, спускалась девочка в муслиновом платьице и белой кружевной шапочке колокольчиком. За ней тяжело раскачивалась няня, позвякивая синим медным ведром.
– Здравствуй, Митя, вот и я! — сказала девочка, глядя весело и дружелюбно.
– Здравствуй, — сказал он и равнодушно отвернулся.
Неподалеку, у каменистой пристани, стояло разгруженное товарное судно — черное, неуклюжее. От его высокого борта отделилась темная обезьяноподобная труда; серебряным гейзером взвилась вода, и через несколько мгновений поодаль, лихорадочно фыркая, вынырнула голова, похожая на мокрый арбуз.
– Вася-а-а, — крикнул Митя и, сдвинувшись с места, совершенно голый, направился к судну: на одном дыхании пробежал поперек него и, описав в воздухе высокую дугу, плюхнулся в воду. Стоя у берега со своим ведерком, девочка, обомлев от любопытства, захлопала в худенькие ладошки:
– Браво, браво!
Но Митя, по-мужски широко замахиваясь, отплывал от берета, поблескивая на солнце мокрыми лопатками.
– Нянюшка, можно мне в воду? — умоляюще произнесла девочка, приподняв подол, так что показалось кружево на трусиках. Почти с визгом она ступила в волу, наблюдая за своими босыми, словно укороченными ножками, совершенно белыми под еле всколыхнувшейся водой.
… аня, краб! Няня, рыбка, рыбка! Смотри, няня, дельфин!
II
Митя накупался до сини, до дрожи и изнеможения, мокрым влез в серые брючки с подтяжками и по пыли вприпрыжку побежал домой. Проголодался, ныло в желудке.
Замусоленная женщина, мать Мити, презрительно взглянув на сына, осыпала его бранью.
– Промотался всё утро, вернулся домой только чтобы пожрать. Щепки где?
– Нету, – угрюмо огрызнулся Митя и принялся за хлеб. А мать, закусив губу, сняла со стены ремень и широко стеганула Митю. Он застонал и, прикрывая голову, забегал по кухне. Глаза женщины помутились от гнева, косынка спала; на мальчугане она вымещала зло за свою женскую работу, за ревность к статной девке Наташе, повадившейся к ним во двор к колодцу, колыхая полными ведрами на коромысле, — именно когда ее Климентий дома.
Устав, она отбросила ремень и сунула Мите мелочь:
– На, беги к арбузам, принеси один, да смотри, чтобы с треском был.
Всхлипывая, прикрыв глаза и утирая нос рукой, от самого локтя до пальцев. Митя послушно побежал к арбузам.
III
После обеда одухотворенная Ирочка вышла на балкон. В пальцах она держала тонкий ломтик ананасовой дыни. Задумчиво, словно нехотя, прикасалась к нему губами, ища глазами кого-то во дворе. Внизу раздавалось громкое смачное чавканье. Присмиревший Митя, сидя на пороге в тени, до самой корки грыз арбузную скибку. Ирочка перегнулась через балкон и качнула тонкой ножкой:
– Нельзя до корки грызть — начала она разговор, поодаль от себя держа двумя пальцами дыню.
– А кое-кому и запрещено, двусмысленно заметил Митя, взглянув исподлобья, и прибавил вполголоса: — Можно к тебе не балкон?
– Можно.
Митя вынул из кармана засаленную колоду и треснул ею о плетеный стол.
— Хочешь?
– Давай!
Все знали, что в митиной колоде пиковая десятка без одного угла, бубновая восьмерка наполовину порвана, а всем дамам проткнуты глаза. Держать это в голове не считалось зазорным.
Митя ловко сдал карты и зашел с бубновой девятки. Ирочка, перебирая карты, отыскала меченую восьмерку и положила на нее червонного туза. Митя под злорадные выкрики Ирочки стал забирать карты.
В комнате, выходящей на балкон, кто-то, стуча каблуками, приблизился к фортепиано и дважды прошелся по клавишам звонкой симметричной гаммой. Мите на всю жизнь запомнились эти мертвые пустые звуки, после которых Ирочку на непонятном языке позвали в комнату. Оставшись один, Митя отыскал червонную семерку и стал ждать.
Но его Ирочка не вернулась.
Вернулось некое сияющее, розовое, надменное существо; оно небрежно перемешало карты, присев на край стола, и заявило:
– Митя, мы едем за границу!
Митя помолчал:
– И ты?
– Конечно.
– А зачем?
– Как «зачем»! Зачем все люди едут за границу? Вот дурак!
Сверху Ирочка смотрела на митины потемневшие, вздыбленные ежиком волосы, на веснушчатый нос, на тупо отвисшую губу – смотрела весело, но безучастно. Митя шмыгнул носом, сгреб колоду и неуклюже направился к дверям. Остановился там, в слабой надежде:
– Ну, я пошел, — произнес он глухо.
Ирочка, не взглянув, кивнула.
IV
Вечер стоял мрачный и теплый. Темно-синее небо пламенело всеми своими звездами. Сидевший на пороге Климентий тускло уставился на их неподвижное мерцание, зажав в руках гармошку. Митя стоял рядом, слушал протяжное стенание и тоже смотрел на заезды. Позади них из дверного проема лился желтый керосиновый свет. Отец остановился, глянул на мальчугана и хлопнул его по плечу, лукаво и весело подмигнув:
– Что, Митя, ту-ту твоя принцесса?
Митя вскипел от обиды и гнева. Посторонился, высвободил плечо из-под сильной отцовской кисти и, поперхнувшись, теряя почву под ногами, внятно и строго произнес:
— Пошел к черту!
ПРИМЕЧАНИЯ
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В – журнал «Возрождение» (Париж)
Вс — альманах-ежегодник «Встречи» (Филадельфия)
Г — журнал «Грани» (Франкфурт-на-Майне)
Е — газета «Единение» (Сидней)
ЛС — «Литературная среда. I» (Белград, 1935)
ЛСовр — альманах «Литературный современник» (Мюнхен, 1954)
М — альманах «Мосты» (Мюнхен)
МДС — журнал «Мы — для себя» (Балтимор)
НЖ — «Новый Журнал» (Нью-Йорк)
П — альманах-ежегодник «Перекрестки» (с 1983 — «Встречи»)
РА — Русский Альманах // Под ред. З. Шаховской, Р. Герра, Е. Терновского.
— Париж, 1981
С — журнал «Современник» (Торонто)
Содр — Содружество. Из современной поэзии Русского Зарубежья // Сост. Т. Фесенко. — Вашингтон, 1966.
ПРИМЕЧАНИЯ
При жизни Лидии Алексеевой вышло в свет пять сборников ее стихотворений: «Лесное солнце» (Франкфурт-на-Майне, 1954), «В пути» (Нью-Йорк. 1959; 2-е изд. — 1962), «Прозрачный след» (Нью-Йорк. 1964), «Время разлук» (Нью-Йорк, 1971) и «Стихи (избранное)» (Нью-Йорк, 1980). Также отдельным изданием вышла поэма Ивана Гундулича «Слезы блудного сына» в переводе Л. Алексеевой (Вашингтон, 1965). В России подборки стихов Алексеевой стали появляться в периодике и различных антологиях с начала 1990-х годов. Наиболее представительная из них (Л. Алексеева. О. Анстей. В. Синкевич. Поэтессы русского зарубежья. Сост. В. Агеносов, К. Толкачев. — М.: Советский спорт, 1998) является переизданием книги «Стихи» (1980) с добавлением последних публикаций Л. Алексеевой в «Новом Журнале» и альманахе «Перекрёстки».
В настоящее собрание сочинений, помимо прижизненных сборников, вошли все выявленные на сегодняшний день произведения Л. Алексеевой, появлявшиеся на протяжении 1935—1990 гг. в альманахах, антологиях и периодических изданиях русского зарубежья: стихотворения, поэтические переводы, художественная и мемуарная проза. За пределами издания вынужденно остаются необнаруженные стихотворения, распыленные по малодоступной периодике, немногочисленные рецензии и отзывы на сборники поэтов русской эмиграции и, наконец, письма, сохранившиеся в различных государственных и частных архивах, — в этом аспекте безусловно представляют ценность публикации Веры Крейд (Лидия Алексеева — Письма Марии Генриховне Визи // НЖ. 1998. № 211, Валентины Синкевич (Л. Алексеева. <Стихи. Письмо> // Вс. 1999) и Алексея Арсеньева (Пять лет переписки с Лидией Алексеевой // Вс. 2001).
Об участии Л. Алексеевой в журнале «Мы — для себя» следует сказать отдельно. Журнал выходил нетипографским способом в Балтиморе в 1960— 1990 гг. два раза в год (под Рождество и Пасху) под редакцией Ариадны Игнатьевны Свечниковой-Саликовой. Основу журнала составляли материалы бывших выпускниц Кикиндского девичьего института (1921—1931 гг. Велика Кикинда, Сербия). Л. Алексеева, некоторое время учившаяся в Институте в 1920-е гг., постоянно присылала для журнала стихи – как уже изданные, так и новые; а также в одном из номеров был перепечатан ее короткий рассказ «Экватор». В силу того, что псевдоним «Алексеева» появился через двадцать с лишним лет после Кикинды, публикации подписаны «Лида Девель-Алексеева» или «Алексеева-Девель», иногда просто «Лида Девель». Журнал «Мы — для себя» изначально был задуман как бюллетень исключительно для выпускниц института, рассеянных по всему миру: распространение журнала даже по государственным библиотекам запрещалось. Едва ли не единственный полный комплект журнала хранится в личном собрании Ариадны Вениаминовны Свечниковой-Геевской, дочери и соредактора А.И. Свечниковой-Саликовой.
Составитель приносит глубокую благодарность Глебу Глебовичу Глинке, без чьей инициативы и поддержки настоящее издание не могло бы состояться, Ариадне Свечниковой-Геевской и Михаилу Геевскому за любезно предоставленные материалы из журнала «Мы — для себя», а также Марине Адамович, Алексею Арсеньеву, Евгению Витковскому, Искре Голенищевой-Кутузовой, Ольге Кольцовой, Ли Мэн, Ирене Лукшич, Марине Обижаевой, Валентине Синкевич, Льву Турчинскому, сотрудникам Отдела литературы русского зарубежья Российской Государственной Библиотеки.
В. Синкевич. Племянница Анны Ахматовой. Звезда. 2001. № 9. Печ. по: Синкевич В. «…с благодарностей): были». — М.: Советский спорт; 2002. Для настоящего издания текст заново отредактирован автором.
ЛЕСНОЕ СОЛНЦЕ (Франкфурт-на-Майне, 1954)
«В Кайзертале синеют пролески…». Кайзерталь — горная долина в Тироле.
В ПУТИ (Нью-Йорк, 1959)
«Птица крепкое гнездо свила…». Станиол – т.е. станиоль, фольга.
ПРОЗРАЧНЫЙ СЛЕД. Третья книга стихов (Нью-Йорк, 1964)
«Черный Данте в облетевшем скверике…». Речь идет о памятнике Данте в сквере Нью-Йоркской публичной библиотеки.
Севастополь. 2.«Табачно выцветающий картон…». Скибки (скебка) – ломоть, ломтик.
Привалы у чужих дорог. 2. Бохинь. Бохинь — ледниковое озеро, окружено Юлийскими Альпами; расположено в 80 км от Любляны, столицы Словении. 4. На Адриатике. «…лев святого Марка / Омочил концы державных крыл…» — крылатый лев является символом Святого Марка и (с XII века) Венецианской Республики. Локрум — остров у Далматинского побережья Адриатического моря, ближайший к Дубровнику.
ВРЕМЯ РАЗЛУК Четвертая книга стихов (Нью-Йорк, 1971)
«Холод, ветер… А у нас в Крыму-то…». Инн — река в Тироле, приток Дуная.
В Роудоне – Роудон небольшой город в провинции Квебек (Канада).
СТИХИ. Избранное (Нью-Йорк, 1980)
Воспроизводится последний раздел сборника – «Новые стихи (после 1971)».
СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ
Разбойничья песня. МДС. 1978. Январь. В письме к А. И. Свечниковой-Саликовой от 29 апреля 1977 года, полностью опубликованном в журнале, Алексеева писала: «…хочу Вам послать стихи, которые я написала в Кикинде, в 1924 году, во время “приготовления уроков”. Некоторым моим друзьям это стихотворение нравится больше, чем все мои последующие. В нем действительно больше “динамики”, чем во всех остальных вместе взятых! Есть наивность и архаизмы, но надо помнить возраст автора. Романтизма больше, чем надо!»
«Пряный запах моря и фруктовой лавки…». Е. 1986. 12 сентября, в статье Ирины Халафовой «Лидия Алексеева». Стихотворение, как пишет автор статьи, «одно из очень ранних, почему-то не попавшее в сборник».
«Последний лист на дереве сквозном…». Лc.
«Как в раковине замкнут темный гул…». Там же.
«Наш дух, с надеждой и сомненьем…». Там же.
«Как эта ночь прозрачна и светла…»; «Больше ласки, простоты, покоя…». РА. Вместе со стихотворением «Последний лист на дереве сквозном…» (см. прим. выше) опубликованы как цикл под заглавием «Из старой тетради».
Уезжая. МДС. 1980. Апрель. Несмотря на то, что стихотворение не датировано, в данном случае мы сочли уместным нарушить расположение по хронологии публикаций. Канавле – (точнее Канавли) — сельские районы в окрестностях Дубровника. Минчета — четырехугольная башня, построена в 1319 году для укрепления крепостной стены Дубровника. Святой Влах – в 972 году официально объявлен защитником и хранителем Дубровника. День Снятого Влаха празднуется 3 февраля.
Умерший день. Дело (Сан-Франциско). 1951. № 3.
Из «Тирольского цикла» («Апрельский снег так нежно-бел…»).Г. 1952. № 15.
Весеннее. Г. 1953. № 17.
Заповедный луг. Там же.
К весне. Там же.
«Нет во мне ни трепета, ни крика…».Там же.
Из Нью-Йоркского альбома (1, 2). Г. 1954. № 23. Второе и третье стихотворения цикла. Первое стихотворение, «Под скамьей пустая бутылка…», позднее вошло в сборник «В пути».
Из цикла «Севастополь» («На колени просилась к няне…»). Там же. Второе стихотворение цикла. Первое стихотворение, «Чуть стихами, магической палочкой…», позднее вошло в сборник «В пути» под заглавием «Память».
«На песке рисую тростью…». Там же.
«Боль за болью и за годомгод…» Г. 1955. № 26.
«Жарко небо дымно-голубое…». Г. 1957. № 34/35.
«Пенек в чернике на опушке…». Г. 1958. № 39.
Детство. В. 1959. № 93. Эмар, Гюстав (наст, имя Оливье Глу; 1818— 1883)— французский писатель. В приключенческих романах «Следопыт» (1858), «Пираты прерий» (1859), «Бандиты Аризоны» (1882) и др., созданных под влиянием Ф. Купера и Т. Майн Рида, с симпатией описал быт индейских племен Мексики и Бразилии.
«Мне оттого зимой так одиноко…». Там же.
«Из щелочек аэроплан подклеен…». Г. 1959. № 43.
«Из тьмы бездонной на короткий миг…». Там же.
«Я всё утро бродила в неясной тревоге…». М. 1959. № 2.
Памяти Б. Л. Пастернака. Г. 1960. № 45.
Первый снег. Г. 1960. № 48.
«Задержался в окне вагона…». Там же.
Музе. М. 1962. № 9.
1918. Там же.
«Перебирая пальцами траву…». Г. 1963. № 53.
«Как влюбленный, кого забыли…». С. 1963. № 7.
«Я смотрю на солнечное пламя…». М. 1965. № 11.
«Свежий ветер идет и вздыхают легко занавески…». Там же.
«Трещит костер и рвется, золотея…».Там же.
По нью-йоркским скверам (1—3). Там же.
Диалог с жизнью. НЖ. 1966. № 85.
«Гладко обласканный морем…». Содр.
«На подоконнике синеет…».Там же.
«Старый дом — и кот на крыльце…». Там же.
«Не прошу, — но за всё, что дал мне…». Там же.
«Блеск ящериц на парапете…». В. 1967. № 190.
«Небо в отсветах янтаря…».Там же.
«Шла веселая, молодая…». В. 1969. № 213.
«День лежит лазурной повязкой…». НЖ. 1970. № 99.
Посещенье. Там же.
«Как в чужой приглашенная дом…». В. 1971. № 228.
«В лесу нескошенные травы…». НЖ. 1971. № 103.
«Старенький пропойца…». Там же.
«Песня вспыхнула мгновенно…». НЖ. 1972. № 106.
«Не увлекайся оторочкой…». НЖ. 1972. № 109.
«Когда ложится облако в долину…». Там же.
«На закате вода густая…». С. 1972. № 24.
«Было небо серо-жемчужным…». НЖ. 1973. № 113.
«Круглый пруд с ладошку глубиной…». НЖ. 1974. № 117.
«Еще звенело в трубах водосточных…». С. 1975. № 28—29.
На Адриатике. Г. 1976. № 100.
«Стою и щурюсь удивленно…». С. 1976. № 32.
Картинка с улицы. Там же.
«Укрывая ветвями лису». МДС. 1977 Январь.
«Пока одни подснежники цвели…». МДС 1977, Апрель.
«Хорошо бы отстать от погони…». П. 1979.
«Зелень первая чуть наметится…». НЖ 1981. № 143
В Болгарии. Там же.
«Так странно житьна свете без корней…». П. 1982.
«Был ли он, приснился ли когда-то…». Там же.
«Садись-ка а лодочку воспоминаний…».МДС, 1982. Январь.
«Дни идут так странно похожи…». Вс. 1984.
«Осень тише, золотистей…». Там же.
«У чемоданов строгий вид…». НЖ. 1986. № 162.
«Смотрю в себя как в омут: отражая…». Там же.
«Ты, родная, нечасто приходишь ко мне…». Вс. 1986. Почти наверняка посвящено памяти Ольги Анстей (1912—1985), ближайшей подруги Алексеевой.
«Потерям и слезамуже не видно дна…».Там же.
«Липко пахнеттеплый бурьян…». Тем же.
«Так мягок был декабрь…». Там же.
Моему поколению НЖ.1987. № 166.
Детство (1-3). Вс. 1987.
Рождество в Нью-Йорке. МДС. 1988. Январь.
«Распахнулась роща золотая…». Вс. 1988.
«Меж елочных огней Бродвея». Там же.
«Понорница».Там же.
«Не ветра вздох, ни трепет тени…». МДС. 1989. Январь.
«Теплый день. И ветра мягкий веер». Вс. 1989.
«Я уцелела, доплыла…». Там же.
«Отомкнуть земные двери…». Там же.
«Листва сошла и веткам легче стало…». Е. 1990. 23 марта, в статье Павла Химина «Светлой памяти Лидии Алексеевой».
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ
С сербохорватского
Гундулич Иван (1589?, Дубровник — 1638, там же) — поэт, один из главных представителей дубровницкой литературы. Родился в знатной семье. В двадцатилетнем возрасте поступил на государственную службу, впоследствии занимал ряд важных постов. Среди сочинений — драматические произведения на сюжеты из античной мифологии («Ариадна», «Похищенная Прозерпина», «Галатея»), пасторали («Коралька из Шира», «Дубравка»), религиозно-дидактические произведения («О величии Божьем», 1621; «Покаянные псалмы царя Давида», 1621; «Слезы блудного сына», 1622), эпическая поэма «Осман» о битве при Хотине 1621 г. (1626, не окончена), поэма светского содержания «Стыдливый любовник», эпитафии, стихотворные послания. Многое из написанного не сохранилось.
Слезы блудного сына. Отдельное издание: Гундулич И. Слезы блудного сына. Перевод Лидии Алексеевой. Вступительная статья, редакция и комментарии проф. Р.В. Плетнева. – Вашингтон, 1965.
РАКИЧ МИЛАН (1876, Белград – 1938, Сребрняк, близ Загреба) – поэт. Изучал право в Белграде, затем в Париже (1898—1901). Был на дипломатической службе. Академик Сербской АН (1934). Печататься начал с 1902 года. Его творчество формировалось под воздействием парнасской школы и французского символизма. При жизни вышло четыре сборника его стихов («Стихи», 1903; «Новые стихи», 1912; «Стихи», 1924, 1936). Патриотическая лирика представлена циклом стихов, посвященных Косову полю (1905— 1911).
Симонида. Г. 1960. № 47. Симонида — третья жена сербского короля Милутина (1282—1321), дочь византийского царя Андроника II. Грачаница — монастырь на Косовом поле, построенный королем Мнлутином (1321 г.). На одной из фресок в церкви монастыря находится изображение королевы Симониды.
Максимович Десанка (1898, Рабровица, близ Вальево — 1993, Белград) — поэт. Родилась в семье сельского учителя. Окончила Белградский университет, защитила в Сорбонне магистерскую диссертацию о Жанне д'Арк (1928); преподавала в гимназии. Сборники стихотворений — «Стихи» (1924), «Новые стихотворения» (1936), «Поэт и отчизна» (1946), «Запах земли» (1955), «Пленник снов» (1960), «Говори тихо» (1961), «Требую помилования: Спор поэта с Законником царя Душана» (1964), «Нет больше времени» (1973), «Летопись потомков Перуна» и «Стихи из Норвегии» (1976), «Ничья страна» (1979), «Слово о любви» и «Рубежи памяти» (1983), «Бабье лето» и «Фестиваль снов» (1987). Стихотворение «Кровавая сказка», ставшее хрестоматийным, высечено на мемориальном памятнике жертвам фашизма в Крагуеваце.
Зимний день. Вс. 2001, в статье Алексея Арсеньева «Пять лет переписки с Лидией Алексеевой».
Среди публикаций Л. Алексеевой в периодике нами обнаружено стихотворение с подзаголовком «С хорватского» (М. 1959. № 2.) Поскольку установить автора оригинала не удалось, приводим текст в примечаниях:
КОРАБЛИК
Волна спустила на песок
Кораблик детский в час прилива, —
И мачту, тонкий прутик ивы,
И парус, легкий лоскуток.
Он плыл, так мал и одинок,
По зыби бурного пролива,
И переплыл, и бережливо
Волной положен на песок.
Я сто высоких кораблей
На волны синие морей
На крепких парусах пустила,
И скрылись, гордые, летя. —
И все погибли. В чем же сила
Невинных пальчиков, дитя?..
С эстонского
Ундер Марие (1883, Таллинн – 1980, Стокгольм) – поэт. Родилась в семье школьного учителя. В 1891—1900 училась в частной немецкой школе, стихи начинала писать на немецком языке; первая публикация стихов на эстонском состоялась в 1904. В 1902—1906, вместе с первым мужем, Карлом Хакером, и двумя дочерьми жила в подмосковном Кучине. Входила в литературную группу «Сиуру». В Эстонии вышли сборники ее стихотворений «Сонеты» (1917), «Предцветие» (1918), «Под небом пустым» (1930), «Горестными устами» (1942) и др. В 1937 избрана почетным членом международного ПЕН-клуба. В 1944, вместе со вторым мужем, поэтом Артуром Адсоном (1889—1977), уехала в Швецию; до конца жизни жила в Стокгольме, где вышли два ее последних сборника — «Искры в золе» (1954) и «На грани» (1963). Переводила с немецкого (Ф. Шиллер, И.-В. Гёте, Г. фон Гофмансталь, С. Георге, Р. М. Рильке), французского (Ш. Бодлер), шведского (П. Лагерквист), норвежского (Г. Ибсен), русского (М. Лермонтов, А. Ахматова, Б. Пастернак, Д. Кленовский, Л. Алексеева).
Мы ждем. НЖ. 1963. № 73. Оригинал датирован 1946 г.
Странствие во сне. Там же. Оригинал датирован 1960 г. Орас, Анте (1900—1982) — критик, литературовед. Составитель антологии «Arbujad» («Кудесники», 1938), в которую вошли стихи участников кружка с одноименным названием — тартуских поэтов, родившихся в первые 15 лет XX века (X. Тальвик, Б. Альвер, А. Санг и др.). Составитель, автор предисловия и переводчик (наряду с участниками кружка «Arbujad») издания сочинений А. С. Пушкина («Избранные стихи. Лирика – эпика — драма». 1936. Серия «Мировая литература» Эстонского литературного общества). После установления в Эстонии советской власти эмигрировал в США. Профессор английской литературы Тартуского и (в эмиграции) флоридского университетов. Переводил стихи М. Ундер на английский и немецкий.
РАННИТ АЛЕКСИС (наст, имя и фам. Долгошев Алексей Константинович, 1914, Калласте — 1985, Нью-Хейвен, Коннектикут) — поэт, искусствовед, критик. Раннее детство провел в Петербурге. Посещал курсы прикладного искусства в Таллинне, Хельсинки, Берлине. В 1935 г. организовал вечер литовской литературы в Таллинне; был знаком с многими литовскими писателями. В 1939 г. окончил Тартуский университет. В 1938—1940 гг. корреспондент рижской газеты «Сегодня». Вместе с женой, оперной певицей Граниной Матулайтите, с 1940 г. жил в Каунасе; работал переводчиком в Государственном театре и библиотекарем Центральной государственной библиотеки (1941—1944). В 1944 г. эмигрировал в Германию. Продолжил образование в Институте прикладного искусства (Фрайбург, 1946—1950). С 1953 г. в США. Работал в Публичной библиотеке Нью-Йорка (1954—1960). Старший научный сотрудник и куратор славянских и восточноевропейских коллекций Йельского университета, почетный доктор американских и европейских университетов, член-основатель Международной ассоциации искусствоведов, представитель эстонской литературы в международном ПЕН-клубе, член редколлегии журнала «Континент». Стихи начинал писать на русском языке, выступал в русской печати Эстонии. С 1930 г. печатался на эстонском языке. Издал 7 книг стихотворений. Стихи переводились на английский, венгерский, литовский, немецкий и др. языки. На русский язык стихи А. Раннита переводили Игорь Северянин, Георгий Адамович, Борис Нарциссов, Василий Бетаки, Наталья Горбаневская, Александр Радашкевич и др.
Море.НЖ. 1961. № 64.
Синий. Там же.
Эстонский гравер Эдуард Вийральт (I). Там же. Вийральт, Эдуард (1898—1954) — учился в Таллиннском художественно-промышленном училище (1915—1918) и в художественной школе «Лаплас» в Тарту (1919—1924), совершенствовался в классе мастерства Дрезденской Академии художеств (1922—1923). С 1925 года жил в Париже, в 1938—1939 гг. — в Марокко, в 1939—1944 гг. — в Таллинне, в 1944-1946 гг. — в Вене и Стокгольме, с 1946 — снова в Париже до конце жизни.
Cantus firmus. НЖ. 1962. № 68. cantus firmus (лат. букв. — прочная, неизменная мелодия) — ведущая мелодия полифонического произведения, проводимая неоднократно в неизменном виде.
Шартрский собор. Там же.
Сентиментальное завещание. Там же.
На острове Огигии. Там же.
Венецианка. НЖ. 1963. № 74.
Наставление делосского столпника. Там же.
Вячеслав Иванов. Там же. Раннит «встречался с Вячеславом Ивановым в 1947—1949 гг. в Риме. Во время последней встречи Вячеслав Иванов прочитал ему свою “Энтелехею", полный текст которой включен в эстонском переводе в стихотворение Раннита “Вячеслав Иванов”» (прим. ред. НЖ). Sant' Alessio (точнее Chiesa di Sant' Alessio) — церковь св. Алексия, человека Божия, на Авентинском холме в Риме.
Река. Там же. master aquarium — латинское название эстонской реки, протекающий через горца Тарту и впадающей в Чудское озеро (Прим. ред. НЖ).
Алики. Там же.
Эстонский гравер Эдуард Вийральт (II). Там же. «… колонн Мадлэн…» – т. е. колонн церкви Мадлен (заложена в 1806 г. по решению Наполеона I, завершена в 1842 г.).
Стефан Георге. НЖ. 1965. № 78.
Два расстоянья. Там же.
Горный вяз. Там же. Ulmus Montana (лат.) – собственно, ильм горный.
Душа формы. НЖ. 1966. № 84. «… Данта luce viva…» – «Cosi mi cir-confulse luce viva» («Рай», XXX, 49) – «Так меня осиял яркий свет» (в переводе М.Л. Лозинского: «Так я был осиян ярчайшим светом»).
Сентябрь. Там же.
Тигр. Там же. «…по сундарбанской чаще…» — Сундарбан — самый большой мангровый лес в мире, фактически — заболоченные низовья дельты Гаага и Брахмапутры в Индии и Бангладеш, оттого иногда именуется мангровыми болотами; трансграничный резерват крупнейшей в мире популяции диких тигров (по данным последнего учета – ок. 600).
Клены. НЖ. 1967. № 87.
Скиритис. НЖ. 1983. № 153.
Лесбос. Там же. Сампо – в угро-финских эпосах – чудо-мельница, создающая богатства и обеспечивающая материальное благополучие.
Янтарь. Там же.
С украинского
Качуровский Игорь Васильевич (р. 1918, Полтавщина) – поэт, переводчик, ученый-медиевист, литературовед, миколог. Учился в Курском педагогическом институте, в т. ч. у Б. Ярхо и А. Западова. В 1945 эмигрировал, жил в австрийском лагере для Ди-Пи; позже переехал в Буэнос-Айрес (был редактором и издателем выходившего в Аргентине журнала «Пороги»). Стихи начинал писать по-русски, с 1945 года перешел на украинский. Печатался в журналах «Грани», «Континент», «Современник», «Новый Журнал». Автор поэтических сборником «Над светлым родником» (Зальцбург, 1946), «В далекой гавани» (Нью-Йорк, 1956), «Лампада вечности» (Мюнхен, 1990) и др. Издал авторскую антологию переводов из украинской поэзии на русский язык «Окно в украинскую поэзию» (Мюнхен—Харьков—Нежин, 1997). Также переводит на украинский с немецкого («Мерзебургекие заклинания»), французского («Песнь о Роланде»), галисийского (Альфонс X Мудрый), итальянского (Ф. Петрарка) и др. С 1959 живет и работает в Мюнхене. Профессор Украинского вольного университета (УВУ), руководитель Института литературы им. Михаила Ореста.
«Померкло небо. Дальний рокот грома…». Г. 1963. № 53.
«Всю жизнь свою держал я душу настежь…».Качуровский И. Окно в украинскую поэзию. Антология. – Мюнхен—Харьков—Нежин, 1997.
«Грустным садом иду, вспоминая…».Там же.
«Когда в слезах поднимешь к небу взгляд…».НЖ. 1972. № 109.
С английского
ФРАЙ МЭРИ ЭЛИЗАБЕТ(урожд. Кларк; 1905, Дейтон, Огайо – 2004, Балтимор, Мэриленд) – осиротела будучи трехлетним ребенком, в 1917 году переехала в Балтимор. Формального образования не получила. В 1927 вышла замуж за некрупного делопроизводителя Клода Фрая; занималась выращиванием и продажей цветов. В 1932 году супруги Фрай приютили еврейскую девушку из Германии, Маргарет Шварцкопф, которая не могла вернуться к больной матери из-за нарастающих антисемитских настроений в Германии. В утешение Маргарет, узнавшей о смерти матери, Мэри Фрай написала первое в своей жизни стихотворение, причем записала его на бумажном пакете. Стихотворение распространялось как анонимное во множестве копий и приобрело необыкновенную популярность: печаталось на траурных карточках, читалось в дни скорби, в дни памяти жертв крупных катастроф. Авторство стихотворения было установлено газетным репортером Эбигейл Ван Бюрен в 1988 году. Немногие стихи, написанные Фрай после 1932 года, остались практически незамеченными.
«Не стой ты у моей могилы, не рыдай…».МДС. 1988. Январь. Перевод выполнен по традиционной, анонимной версии стихотворения; авторизованный текст, в котором добавилось четыре строки, опубликован в 2000 году.
РАССКАЗЫ
Теддииз Стокгольма. Г. 1953. № 20.
Мой осколок. Г. 1954. № 22.
Экватор. Г. 1953. № 20.
Падение Семена Семеновича. Там же. «…мачта с унрровским флагом…» — лаконичное и остроумное описание УНРРА приводит писательница Русского Зарубежья Ирина Сабурова (1911 1979) в книге «Дипилогическая азбука» (Мюнхен, 1946):
«У — Унрра, конечно. (Американцы называют ее «Анра», но разве они понимают?) Краткое описание займет хороший том на тысячу страниц. Полное название: «United Relief Repatriation Associated» (Объединенная помощь народам для их возвращения на родину) расшифровывается Ди-Пи так: (Объединение безработных народов, отказывающихся вернуться на родину). Вначале Унрра была создана для Ди-Пи, но потом оказалось, что Ди-Пи фактически нету, ибо никто не знает, кто есть кто, и теперь Унрра создаст Ди-Пи по собственному усмотрению. Но это пятна на солнце, ибо существование Унрры вообще небывалый еще в истории мира факт, перед которым остается только снять шляпу, что многим Ди-Пи вообще следует делать почаще (и не только перед Унррой). Из-за недостатка места придется отказаться от краткого описания на тысячу страниц предоставим их историкам. Но один разговор мамы с дочкой, подслушанный в лагере, следует привести:
– И вот саранча уничтожила все их посевы, и реки вышли из берегов и затопили всё, и земля тряслась и расступалась, и с неба сыпался град и горящий дождь, и когда всё это кончилось, то по всей стране наступил страшный голод, и у людей не осталось больше ничего и тогда…
– Я знаю, мамочка! Тогда Боженька послал на них Унрру!
– О’кей, – отвечает мама».
Как мы были артистами. Там же.
Золотые туфельки. Там же.
Ложная весна. ЛСовр.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Из воспоминаний о Белграде. РА.
Митин день. «Мисао» («Мысль»). Белград. 1937. № 341-344, март-апрель. На сегодняшний день это единственный из разысканных рассказов Алексеевой, написанных по сербо-хорватски. Перевод выполнен специально для настоящего издания.