
Главный редактор Борис Стругацкий
Полдень, XXI век (май 2011)
Колонка дежурного по номеру
…Всегда смущали меня эти камни, которые надо было разбрасывать, а потом, по прошествии некоторого времени, – собирать. И то, и другое занятие казалось мне довольно бессмысленным. В самом деле, представлялся юнец рядом с грудой камней в чистом поле, который разбрасывает их во все стороны, норовя закинуть подальше. А в груде той самые разнообразные и неожиданные камни – есть и увесистые булыжники, есть и галька морская, но попадаются и драгоценные камни, которые летят, сверкая на солнце всеми своими гранями.
Закончив эту работу, человек садится на последний, самый большой камень, который он не смог поднять, и ждет. Чего он ждет? Неужели он думает, что из этих камней вырастет что-то новое и прекрасное? Кто его знает. Но он ждет и с надеждой смотрит в чисто поле до горизонта. Где-то там лежат его камни, среди них есть и драгоценные. На них он и надеется больше всего.
Но ничто не нарушает тоскливого пейзажа.
И вдруг человек понимает, что пора искать свои камни, ведь больше у него ничего нет, всё разбросал. Он кряхтя поднимается с большого камня и идет в чисто поле собирать. Уже и забыл, как выглядят его камни и сколько их было. Помнит, что много, но количественно затрудняется.
Бродит он по полю, всматриваясь себе под ноги, но никаких камней нет. То ли в землю зарылись, то ли кто унёс. Ну, может, найдёт где-то поблизости пару-тройку булыжников, – и всё. Ничего не осталось от той горы, где поблёскивали загадочно алмазы и изумруды.
Тогда возвращается старик к своему последнему камню, неся несколько булыжников и понимая, что даже за них надо быть благодарным, ибо у других и такого нет.
Но последний камень каждому положен.
Александр Житинский
1
Истории. Образы. Фантазии
Краткое содержание начала романа Александра Житинского «Плывун»
Владимир Пирошников, герой давней повести А. Житинского «Лестница», остался жив. В наши дня он снимает помещение в подвале знакомого дома, ставшего бизнес-центром, обустроив тут книжный магазин-салон.
Однажды происходит нечто вроде землетрясения, после чего Пирошников узнаёт, что дом стоит на плывуне.
Вскоре соседка, прорицательница Дина-Деметра, сообщает Пирошникову, что он находится в магической связи с домом и по сути является «передатчиком коллективного бессознательного» жильцов. Через какое-то время «землетрясение» повторяется. Соседи начинают обвинять Пирошникова, что именно он и его книжный салон виноваты в происходящем.
К нему приходит аспирант Браткевич, давно изучающий процессы, связанные с домом, и предлагает принять непосредственное участие в исследованиях.
Между тем, Владимир устраивает в своем салоне поэтические чтения и принимается оповещать о них обитателей бизнесцентра. При этом он знакомится с банковской операционисткой Серафимой. Женщина проявляет к нему явную симпатию.
Во время поэтических чтений дом снова приходит в движение, накренившись, как корабль на волне.
Виновника случившегося немедленно выселяют. Воспользовавшись его отсутствием, имущество перетаскивают на первый этаж, где Серафима устраивает из книжных пачек некое подобие жилища. Здесь они с Пирошниковым проводят ночь.
Утром появляется аспирант Браткевич и объявляет, что дом начал медленно заваливаться набок. Пирошников, наконец, начинает верить, что состояние дома впрямую связано с его душевным состоянием.
Между тем, Джабраил, хозяин дома, приказывает обустроить Пирошникову новое жилище – здесь же, на первом этаже. А в гости к Владимиру заявляются телевизионщики. Однако конторы, населяющие бизнес-центр, стремительно переезжают из дома в другие места, а свой салон близок к разорению, и его надо закрывать.
И тут Джабраил решает подарить дом Пирошникову…
Александр Житинский
Плывун
Роман[1]
Часть вторая
Диктатор
14
Разумеется, передача ключей от резиденции была увенчана обедом в столовой, оформленной росписями по шелку в мавританском стиле. Джабраил и Пирошников сидели вдвоем за овальным столом, устланным крахмальной скатертью, прислуживали им два официанта. Геннадий к столу допущен не был, однако Джабраил не забыл предложить Пирошникову позвать Серафиму.
Попытка Пирошникова не увенчалась успехом.
– Я совершенно не готова, – ответила она по телефону. – К олигархам либо при параде, либо никак.
Пирошников разглядывал мебель, посуду, картины на стенах, пытаясь испытать хоть какие-то чувства от мысли, что все эти вещи теперь принадлежат ему и документы, подтверждающие это, лежат рядом в папке. Напрасно! Ни удивления, ни довольства, ни алчного любопытства – что же тут есть еще и сколько может стоить – не возникло в его душе. Он был абсолютно равнодушен, как если бы ему подарили аквариум с золотыми рыбками.
Пирошников никогда не интересовался золотыми рыбками.
За обедом разговор шел об отвлеченных вещах: футбольном клубе «Челси», поэзии Бродского и визовом режиме Великобритании. Джабраил подчеркнуто не интересовался проблемами, связанными с домом, как бы говоря: я вам его отдал, решайте сами, это теперь не мой вопрос. И Пирошников, поняв это, тоже обходил стороной эти темы, хотя неожиданно в голове вспыхивало что-нибудь тревожное по поводу угла наклона здания и его влияния на работу лифтов. Понятно, что при каком-то критическом угле лифты перестанут работать, сила трения им не даст. Но что мог сказать молодой олигарх из Лондона о наших углах трения?
Поэтому они расстались, довольные друг другом и совершенной сделкой, и Джабраил отбыл в аэропорт в сопровождении шестерых двойников.
Пирошников остался один рядом с дверью лифта, куда только что скрылись Джабраил с клевретами, включая Геннадия.
Он оглянулся. Голубая вода, наклоненная к углу бассейна образовывала зеркальную поверхность, по которой изредка пробегала рябь. «А ведь это неспроста, – подумал он. – Рябит, потому что смещаемся, ползем куда-то…»
И он, повинуясь какому-то внезапному азарту, желанию показать самому себе и даже этому бассейну, кто здесь хозяин, скинул брюки и туфли, разделся догола и прыгнул в голубую прозрачную воду.
Вода в том углу, который был наклонен более других, выплеснулась за край бассейна.
Пирошников сделал три гребка и оказался у противоположной стенки, оттолкнулся от нее и ушел в глубину, наслаждаясь свободой и невесомостью.
Когда он вынырнул, то увидел стоящего у края бассейна Геннадия, который с понурым видом ожидал, когда Пирошников покинет бассейн. В руках он держал большое махровое полотенце.
И это полотенце в руках у слуги было доказательнее любых дарственных.
Пирошникову сразу сделалось грустно и даже гадко. Почему? Что изменилось за этот час? Откуда взялось неравноправие?
Он махнул Геннадию рукой.
– Раздевайся! Вода прекрасная!
Но Геннадий лишь покачал головой. Пирошников понял, что допустил ошибку, и от этого стало еще тоскливее.
Уже растираясь полотенцем, Пирошников спросил:
– Ты знаешь, конечно?
– Я вам так скажу, Владимир Николаевич: Джабраил ошибся. Ничего вы с нашим домом не сделаете, а провалить все хозяйство можете. Вы только не обижайтесь…
– Но мы же будем… вместе…
– Так не бывает. Один рулит. Второй подруливает.
Пирошников и сам понимал, что теперь он отвечает за все,
что происходит в этом доме, а значит, надобно ознакомиться с его устройством и населением. Но первым делом – поговорить с Серафимой. Если Геннадий стал его правой рукой, то Серафиме надлежало стать левой – той, что ближе к сердцу.
Новость она восприняла с тревогой. Это Пирошников заметил по тому, с какой частотой стала двигаться взад-вперед ее швабра. Серафима занималась ежевечерней влажной уборкой вестибюля. Она яростно терла пол и молчала.
– Тебе не нравится? – задал он глупый вопрос.
Она вдруг рассмеялась.
– Нет, я в восторге.
Пирошников вздохнул с облегчением. Главное – не скатиться в эту пропасть безнадежных проблем, пролететь над нею, улыбаясь, с легкостью птицы… Белой птицы, конечно.
– По существу, меня назначили… знаешь, кем? – спросил он.
– Падишахом! – провозгласила она, погружая швабру в ведро с водой.
– Примерно. А тебе придется быть шахиней.
– Ну, прямо! Я больше, чем на место в вашем гареме, не претендую.
– Где ты видела этот гарем?! – вознегодовал Пирошников. – И прекрати называть меня на «вы»!
– Падишаха? На «ты»? Ну, вы даете!
Так они дурачились, чтобы скрыть от себя или хотя бы отодвинуть решение тех именно проблем, которые нависали над ними, как дом, кренящийся в сторону улицы. Но чувство самосохранения не давало им поддаться угрюмству, а звало к тому самому торжеству свободы, о котором писал Блок в связи с тем же угрюмством.
Впрочем, эти филологические ассоциации Пирошникова мало были полезны в настоящий момент. А вот план действий был совершенно необходим.
Посему уже на следующее утро падишах пригласил визиря Геннадия и шахиню обсудить несколько вопросов. Совещание состоялось в каморке под лестницей, Пирошников не пожелал подниматься в резиденцию.
Повестка дня была такова:
– Когда и как сообщить населению минус третьего этажа о смене власти?
– Когда и как сообщить о том же персоналу и определиться с его дальнейшим составом и режимом работы?
– Нужно ли и как оповещать городские власти?
– Реформы.
Последний пункт Пирошников вписал просто по инерции, полагая, что смены власти без реформ не бывает, хотя не придумал еще толком ни одной завалящей реформы.
По первому пункту Геннадий предложил вывесить приказ по дому.
– Чей приказ? – тут же спросил Пирошников.
– Ваш.
– Кто я такой, чтобы приказывать? Сам себя назначаю? Смешно!
– Тогда Джабраила.
– А Джабраил уже никто. Ему раньше нужно было приказы писать.
– Говорил я ему… – сквозь зубы пробормотал Геннадий.
– Так что давай без приказов. Я встречусь с людьми и скажу: так и так, я теперь буду главным… Люди поймут.
Серафима и Геннадий одновременно прыснули.
– Ну что? Что вы смеетесь? – рассердился Пирошников. – Поймут. Я уверен.
Он обвел свой кабинет министров взглядом и объявил:
– Вообще же, завтра с утра переезжаем…
– Вот и правильно! – сказал Геннадий. – Такие хоромы пустуют.
– …На старое место. Вниз, – закончил Пирошников.
Геннадий этого вынести не смог. Он вскочил на ноги из-за стола, с грохотом отодвинул стул и нервно заходил взад-вперед.
– Зачем? Зачем это? Ближе к народу? Да?
– Чтобы люди поняли, что я не изменился. Я такой же, как они… А наверху подумаем, что сделать. Потом…
Лицо Серафимы вытянулось. Она прощалась с мыслью о бассейне.
Геннадий уселся на место, положил кулаки на стол.
– Делайте, что хотите. Но вы уже не такой, как они… Хотите правду скажу? Вы никогда и не были таким же, как они.
Пирошников нахмурился. Сказанное Геннадием больно уязвило его. Как это ни странно, но Владимир Николаевич всегда полагал себя плотью от плоти народа и гордился способностью быть своим в любой среде – будь то крестьяне, работяги, лауреаты литературных премий или менты.
Так ему хотелось думать.
На самом же деле такое впечатление было ошибочным. Он просто не любил обращать на себя внимание, стеснялся, попросту говоря, отчего и сходил за своего, однако в душе чувствовал себя бесконечно чужим в любой компании. Иногда же откровенно страдал, мучался от необходимости присутствия среди людей далеких и грубых, хотя можно было бы встать и уйти.
Но это было «неудобно». Проклятое это слово преследовало Пирошникова всю жизнь, заставляя делать то, что принято и «удобно», и обрекая на муки.
Сейчас «неудобно» было, по его понятиям, занять хоромы на крыше и плескаться в теплом бассейне, в то время как домочадцы прозябают в глухом подземелье, несчастные и заброшенные.
Он именно так и думал о них, жалел их до такой степени, что горло сжимало и внезапная слеза текла сквозь ноздрю, стесняясь выкатиться наружу.
Стремился ли он к ним? Нет, конечно. В сущности, они были ему безразличны, безразлично-терпимы, если можно так выразиться. Даже странно, что при таком отношении его заботило их мнение, их любовь… Зачем ему любовь этих кротов, живущих в своих подземных норах?
Но он тут же говорил себе «фу», награждал презрительной виртуальной пощечиной и шел к ним с виноватой улыбкой на лице, потому что они были народом, а он народом никогда не был.
«Поэт, не дорожи любовию народной…»
Ну, поэты как хотят, а Пирошников дорожил, а посему назначил переезд на минус третий силами охранников на завтра.
Кстати, об охранниках. Эти крепкие молодые люди попадались на глаза не слишком часто. В девять утра они просачивались сквозь турникет, устремлялись к лифту и исчезали в верхних этажах. Только их и видели.
Обратного движения не наблюдалось.
Геннадий сказал, что денег на содержание охраны, а также на коммунальные расходы хватит месяца на три, если минус третий будет исправно платить аренду.
– Но они уже сейчас нарушают… Как только вы дом сдвинули, так и перестали платить. Наиболее нервные, – сказал Геннадий.
– Вот видишь, – озабоченно проговорил Пирошников. – Надо их успокоить.
Он задумался, как бы взвешивая какие-то доводы, потом спросил:
– А кстати, какие у нас рычаги воздействия на арендаторов? Мы их можем выселить?
– Только по суду, – коротко ответил Геннадий.
– Вот как…
– Но есть другие способы. Отключение электричества. Или воды… Теплоснабжение можно отключать поквартирно…
– Ну, это я так… На всякий случай… – проговорил Пирошников.
– А по-моему, – мечтательно вступила молчавшая дотоле Серафима, – вам надо пошить мантию, заказать корону и сидеть там, наверху. И чтобы к вам ходили на аудиенцию…
– А те, что платить не будут? – спросил Геннадий.
– Этих, конечно, расстреливать… Я бы их всех расстреляла, этих… Выкозиковых, – призналась она. – А то стихи им читай!
– Что ты такое говоришь! – поморщился Пирошников.
Он вдруг потерял настроение, подумав, почему, черт побери, он должен на старости лет заведовать этим пустым и кривым домом, заботиться о квартплате, теплоснабжении… Как это все же скучно – власть.
Да, власть скучна, мысленно подтвердил он эту неожиданную для себя максиму.
«Потому что это твой дом, – возразил ему внутренний оппонент. – Так что будь добр».
Пирошников вздохнул и велел Геннадию принести из бухгалтерии планы этажей и домовую книгу со списком жильцов. Когда Геннадий удалился, Пирошников вынул из кармана связку ключей.
– Хочешь в бассейн? – спросил он Серафиму, понизив голос.
– Да мне бы хоть в душ… – призналась она.
– Вот, возьми.
– А почему такая таинственность? Вам это все подарили или просто дали поиграть? – насмешливо спросила она.
– Я не хочу, чтобы знали пока.
Она пожала плечами, подхватила сумку с полотенцами и вознеслась на крышу.
Беглый обзор документов обнаружил семь пустых этажей от минус второго до пятого с одинаковой площадью, но различной планировкой, и сто пятьдесят семь домочадцев от годовалой дочери Шурочки Енакиевой до семидесятипятилетнего подводника Семена Залмана.
Пирошников расстелил перед собой план минус третьего этажа, справа положил список жильцов и стал заносить их фамилии в клетушки плана, как бы расселяя по квартирам. При этом пользовался комментариями Геннадия, который, как выяснилось, хорошо знал всех и каждого.
Здесь были люди разных возрастов, национальностей, профессий. Их объединяло одно – все они были бездомны, даже если имели собственное жилье в Питере или чаще – в провинции, которое сдавали, чтобы прокормиться. Много было русских беженцев – из Чечни, Казахстана, Абхазии, но с регистрацией. Неофициальных мигрантов в списках не было.
Пирошников знакомился с ними заочно, как дирижер оркестра, с которым надлежало сыграть новую симфонию. Беда была в том, что оркестранты ничего еще не знали ни о симфонии, ни о дирижере и вообще не считали Пирошникова дирижером, а просто свалившимся им на голову неудачливым фокусником. Почему и были настроены враждебно.
Со слов Геннадия он узнавал о подробностях жизни его новых подопечных. Он даже сам не мог бы сказать – зачем ему эти подробности, но чувствовал, что без них не обойтись. Зачем, к примеру, узнавать о том, что у того же Выкозикова трое дочерей мал-мала меньше, а живут впятером в двух комнатах. И мамаша дома сидит с детьми, а много ли Выкозиков наработает со своим камертоном? Очень уж ему хотелось иметь маленького Выкозикова, пацана, которому он передал бы в свое время старый камертон…
Пирошников вздохнул и представил себе двух Выкозиковых – маленького и большого, – склонившихся над роялем и стучащих толстыми пальчиками по клавишам.
Ненужная нежность возникала там, где должна была быть железная решимость и воля диктатора.
Или вот активистка Енакиева. Похоже, что зачала от Святого Духа, потому как никаких контактов с лицами мужского пола последние два года зафиксировано не было. Геннадий божился.
Витек-гармонист из Иванова. Чего ему там не сиделось? Работает живой рекламой на Сенной, носит на спине и животе плакаты ресторана «Гуляй-поле».
Даже негодяй Данилюк выглядел при таком рассмотрении вполне симпатичным, хотя и несколько занудным законником,
и профессиональная дружба с Даниилом Сатрапом его не очень портила.
– А кстати, – вспомнил Пирошников, – ты докладывал Джабраилу о возбуждении уголовного дела?
– Обижаете… Хозяин все уладил в один миг.
– Как?
Геннадий с сожалением взглянул на Пирошникова.
– Как-как… Конфетку послал районному прокурору.
– А-а-а… – протянул Пирошников.
Наконец последняя клеточка на плане заполнилась фамилиями, теперь весь оркестр был как на ладони.
Дело было за музыкой.
15
План Пирошникова заключался в тихом и неприметном возвращении в старые апартаменты на минус третьем и дружеском оповещения домочадцев о произошедшей смене власти. Так, невзначай, в разговоре за чаем, сказать: «Да, кстати, совсем забыл… я же теперь здесь командую…»
Сомнения были в глаголе. Командовать, править, руководить – все это было не совсем точно. Царствовать – вот достойный глагол, но царство маловато, да и кто его на царство помажет?
Ночью под лестницей они с Серафимой шепотом обсуждали эту тему и опять смеялись, воображая, как Пирошникова станут мазать и как потом он весь измазанный сядет на трон.
– Помазанный, – сказал он.
– И перемазанный, – добавила Серафима.
– Царь – помазанник Божий. А народу – царь-батюшка…
Возвращение на минус третий не имело ничего общего с демократическим опрощением, а было, скорее, попыткой приобщиться к роли, если не царя, то батюшки.
Запланированный переезд на старое место начался с самого утра, когда явились на работу охранники. Геннадий быстро объяснил им задачу, и уже через минуту первый отряд с пачками книг в руках погрузился в лифт, а второй потащил диван вниз по лестнице, потому как в лифт он не помещался.
Геннадий возглавлял экспедицию с диваном, а Пирошников с ключами от боксов поехал в лифте с книгами.
Он вышел на минус третьем не без опаски. Как встретит его народ, который совсем недавно изгнал возмутителя спокойствия, безуспешно пытавшегося с помощью Поэзии обустроить и поправить покосившееся жилище? Что-то здесь было от возвращения Солженицына, так он подумал не без тщеславия.

Нет, он не ждал цветов и рукоплесканий. Но хотя бы элементарной отзывчивости, желания загладить старую ссору и протянуть руку дружбы хотел бы предполагать от домочадцев.
Этаж встретил его пустым коридором и подозрительной тишиной. Возможно, все еще спали, не было и десяти утра, но, с другой стороны, не столь уж ранний час, пора просыпаться, господа! Пора просыпаться.
Минус третий был пуст и безмолвен, лишь ветер гулял по наклонному коридору.
Тем страннее выглядела эта процессия дюжих молодцев, нагруженных пачками поэтических книг, во главе с пожилым господином, который, хромая и тяжело дыша, двигался вверх по наклонной плоскости.
«В белом венчике из роз… В белом венчике из роз…» – повторял он про себя.
Наконец они достигли двери с номером 17, и Пирошников уже достал из кармана ключи, как вдруг заметил, что дверь слегка приоткрыта. Он потянул за ручку и заглянул внутрь.
В маленькой прихожей никого не было, лишь висел на стене забытый постер магазина «Гелиос», на котором была изображена молодая привлекательная каратистка в белом кимоно в момент нанесения зубодробительного удара голой пяткой в челюсть неприятного толстячка, чем-то похожего на Выкозикова.
Каратистка же, в свою очередь, напоминала поэтессу Тоню Бухлову.
Под этой впечатляющей картиной была лишь одна крупная надпись:
ПРЕСВОЛОЧНЕЙШАЯ ШТУКОВИНА!
– очевидно, намекающая на вечное существование Поэзии.
Этот плакат, по просьбе Пирошникова, изготовили в свое время члены объединения «Стихши».
Пирошников осторожно вошел в прихожую и, приблизившись к двери в большую комнату, ранее занимаемую магазином, толкнул дверь.
Его взору открылась картина комнаты с пустыми стеллажами, в которой у боковой стенки, свернувшись калачиком на надувном матрасе и подложив под голову собственную куртку, спал Август, юноша со взором горящим.
Пирошников подошел ближе и остановился над ним. Сзади охранники принялись вносить пачки книг и ставить их на стеллажи, не распаковывая.
– Эй, Август… – тихо позвал Пирошников.
Юноша открыл глаза и в глазах этих отразилось смятение. Он поспешно вскочил на ноги и стал зачем-то кланяться Пирошникову по-японски, сложив ладони лодочкой у груди и повторяя:
– Сэнсей! Сэнсей!
И бормоча неразборчиво слова извинения и благодарности.
– Ничего страшного… – покровительственно заметил Пирошников. – Вы мне нисколько не помешали… И не навредили.
Август поспешно закивал: да, да, не навредил нисколько!
– Вы уж извините, – Пирошников развел руками, – но мы вынуждены возвратиться на круги своя…
– На круги, понял… – продолжал кивать Август.
– Заходите, в общем.
Август поспешно подхватил свою куртку и матрас и принялся протискиваться с надутым матрасем в проем двери. Охранники помогли ему сложить непокорный матрас вдвое, он выскочил с ним в коридор, раздался хлопок распрямившегося матраса – и Август ринулся куда-то вверх по направлению к кафе «Приют домочадца».
А к двери бокса № 19 уже плыл диван, сопровождаемый Серафимой, которая несла на руках кота Николаича.
Пирошников вышел в коридор встречать своих и руководить размещением мебели.
– Второе пришествие Николаича! – приветствовал он кота, на что кот надменно взглянул на Пирошникова, а тот смутился, поняв, что сказал глупость.
Так или иначе, переезд состоялся при полном отсутствии публики. Домочадцы не спешили предъявлять верноподданические чувства, может, потому, что не знали еще о смене статуса соседа по этажу.
Однако вскоре выяснилось, что это не совсем так.
Дина показалась из своей квартирки ровно тогда, когда последний охранник, получив от хозяев мебели сердечную благодарность, покинул этаж. Пирошников был рад ее увидеть, хотя в тот момент был бы рад любому. Безлюдность коридора угнетала его.
– Заходите, заходите! – с преувеличенным радушием пригласил он соседку в дом, хотя там еще царил хаос переезда, который пыталась ликвидировать Серафима.
Он почувствовал, что ему не терпится рассказать о визите Джабраила и неслыханном подарке, и смутился: стоило ли придавать этому столь большое значение? Неужто он и впрямь намеревается властвовать?
Поэтому он все же усадил соседку за стол и попросил Серафиму приготовить чай, а пока она это делала, задал Дине несколько вопросов про ее здоровье и бизнес, которые его, если честно, вовсе не интересовали, и про обстановку на этаже, которая интересовала его гораздо больше.
Дина отвечала с вежливой улыбкой, однако было видно, что ее забавляет неуловимая перемена, произошедшая с Пирошниковым. И когда тот наконец покончил с вежливыми расспросами и уже готов был выложить важнейшую для себя новость, она, словно невзначай, добавила:
– Ну, и, конечно, всех интересует, будете ли вы повышать арендную плату?
– За что? Как? – смешался Пирошников.
– Вы же теперь управдом?.. – с непередаваемо ироничной интонацией не то спросила, не то сообщила ему Дина.
«Управдом… – с горечью подумал он. – Управдом-батюшка».
– Да, – сказал он сухо. – Впрочем, это совершенно неважно. Все службы работают, как и работали.
– Вот как… – разочарованно проговорила Дина. – Вы считаете, что у нас все в порядке?
– Нет, конечно. Надо думать о вертикали. Вертикаль по-прежнему не вертикальна.
– О ней уже думают, – сказала она.
– Кто?
И Дина рассказала, что после того памятного сеанса, когда дом покосился набок, Подземная Рада регулярно пытается сдвинуть дом с места. При этом особые надежды возлагаются на молодого приходящего демиурга Августа.
– Он что, бездомный? Этот демиург? – с раздражением спросил Пирошников.
– Почему бездомный? – не поняла она.
– Потому что я только что разбудил его в соседнем боксе.
– Ах, так? Я не знала. Очевидно, вчера заработались.
– И каковы же результаты? – с насмешкой спросил он.
– Честно скажу: не знаю. Судя по этой чашке, – она указала на стоящую перед нею чашку с чаем, верхняя поверхность которого демонстрировала явный крен стола, – ничего пока не изменилось.
Пирошников почувствовал нечто вроде профессиональной ревности. Неужто этот белобрысый сопляк сможет сдвинуть махину дома? Глупости! Откуда ему знать про Плывун? Но то, что к нему обратились, уязвило Пирошникова, указало на несомненный транзит «глории мунди».
Серафима в разговор не встревала, да и за стол не присаживалась, а, подав чай, ушла в салон, где занялась расстановкой книг на полках. На минус третий снова возвращалась Поэзия, слегка потрепанная в переездах.
Прощаясь с соседкой, Пирошников все же задал вопрос, откуда она узнала о назначении его «управдомом»? Сам он грешил на Геннадия, но оказалось иначе.
– Вы забыли о бухгалтерии, – сказала Дина. – Все документы проходят через нее, арендаторы тоже там бывают регулярно. Узнали сразу. Скорее всего, даже раньше вас.
Пирошников вспомнил двух теток средних лет, с которыми однажды уже имел дело. М-да… А он хотел преподнести сюрприз.
Эта новость немного отрезвила Пирошникова и заставила забыть об усыновлении домочадцев и роли царя-батюшки. Но оповестить народ официально все же полагалось, по его разумению. Пройти, так сказать, процес инаугурации.
Поэтому на следующий день Геннадий развесил в нескольких местах по коридору объявления о том, что в субботу состоится общее собрание арендаторов, явка на которое обязательна. В повестке дня предполагались организационные вопросы и выступление В. Н. Пирошникова.
Домочадцы, встречавшиеся в эти дни Пирошникову в коридоре, здоровались с ним сдержанно и как бы остраненно, будто с незнакомым. Его это нервировало, но вступить с ними в контакт он не решался.
Стороны будто готовились к бою, так ему казалось. Пирошников продумывал тезисы своей речи и аргументы в ответ на возражения оппонентов. Он уже забыл о роли батюшки – царя ли, управдома ли, – а просто хотел найти с этими людьми общий язык, чтобы вместе выправить съехавшую на сторону вертикаль, но он не знал – существует ли этот общий язык.
В ночь перед собранием Пирошников долго не мог заснуть, ныло сердце, пришлось выпить дополнительную порцию лекарств к тем, что он пил ежеутренне. Он мысленно представлял всю конструкцию дома – от темного векового Плывуна внизу до стеклянного замка на крыше с пустыми этажами между ними – и старался представить себе структуру власти, которая подходила бы к управлению таким домом.
Ничего не получалось. Пустым местом не управляют. Дом следовало заселить. Эта простая мысль взволновала Пирошникова, ему нарисовался многоэтажный дом-корабль с многотысячной командой и пассажирами, смело плывущий в будущее навстречу счастью. С тяжелым Плывуном, подвешенным к брюху дома, домыслил он.
Но все равно! Дом нужно заселять новыми людьми.
16
Утром на двери салона обнаружилась небрежно начерченная черным фломастерам свастика с подписью «go home!». Пирошников попытался собрать в горсточку все свое чувство юмора, но ему не удалось. Он огорчился. Подданные с самого начала вели себя по-свински.
Он уединился в кладовой салона за ноутбуком и попросил Серафиму не беспокоить его до собрания, а сам принялся набрасывать проект организации взаимопомощи и быта в доме. Здесь была и заемная касса для быстрого и дешевого кредитования, и кружки по интересам, и даже вечера караоке в кафе «Приют домочадца».
Заметим, что сам Пирошников караоке на дух не переносил, но считал, что народ его любит, то есть он действовал в интересах народа, как и любой правитель, смутно подозревая, что все эти старые новшества опровергаются одной-единственной свастикой на дверях.
Но он надеялся убедить, видел перед собою десятки глаз, устремленных на него и жаждущих понять – как следует жить в своем доме.
Чего-чего, а наивности Владимир Николаевич не то что не утратил, а даже и приобрел лишку к семидесяти годам. Впрочем, это можно было считать и началом старческого маразма.
Без пяти семь к Пирошникову вошла Серафима и объявила, что пора начинать.
– Народ собрался? – спросил он.
Она как-то неопределенно пожала плечами, пробормотав, что да, есть кое-кто, из чего он понял, что слушателей немного, но действительность превзошла ожидания.
В кафе на скамейках сидели только «свои» плюс три человека из народа. Со стороны Пирошникова присутствовали Геннадий с Серафимой, чета Залманов, Дина Рубеновна и аспирант Максим Браткевич. Чужими были два совсем молодых человека – гармонист Витек и юноша Август плюс Шурочка Енакиева с неизменной дочкой.
Из персонала бизнес-центра на собрание явились Лариса Павловна и обе бухгалтерши – Лидия и Мидия. Последняя происходила из родного аула Джабраила.
Пирошников взобрался на возвышенную часть кафе и обернулся к зрителям.
– Подождем? Может, подтянутся? – предложил Геннадий.
– Не подтянутся, – покачал головой Пирошников.
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, и караоке, и кружки кройки и шитья…» – подумал он.
– Я пробегусь по боксам, постучу, – не унимался Геннадий. – Вопрос-то важный!
– Не надо. «Раз королю неинтересна пьеса, нет для него в ней, значит, интереса…»
Хотя в данном случае королю как раз пьеса была интересна, но совсем неинтересна подданным.
– Все записывается, Владимир Николаевич, – подал голос аспирант Браткевич. – Я потом врублю по громкой трансляции, мало не покажется!
– Что ж, начнем. Я буду сидя, если вы не возражаете.
Он уселся на стул, откинулся на спинку, а ноги вытянул вперед, положив одну на другую. То есть принял максимально свободную и даже фривольную позу, как бы намекая на неофициальность выступления.
– Драгоценные подданные! – начал он. – Мы, волею Божьей и Верховного имама Семиречья, законный шейх Тридесятого Петропавловского бизнес-царства, объявляем о начале правления и желаем донести некоторые монаршие мысли…
Ну, на Лидию и Мидию лучше было не смотреть. Хозяин оказался сумасшедшим – крах карьеры, надо искать новое место работы. Остальные были немногим лучше. Залман наклонился вперед и сверлил Пирошникова взглядом, будто желая узнать, правильно ли он все расслышал. Софья скорбно покачивала головой, Дина была непроницаема.
Веселилась лишь молодежь – Витек с Августом. Старик гонит прикольно! Посмотрим, что он еще сморозит.
Но Пирошников уже убрал ноги под себя, уселся нормально и достал из кармана пиджака сложенные вдвое тезисы выступления. Он развернул листы и начал читать.
– «…Что всегда было трагичным на Руси? Полное непонимание между властью и народом при обоюдном желании любить друг друга. Причем со стороны власти любовь декларировалась, но не была искренней, ибо невозможно любить то, чего боишься и что презираешь, а со стороны народа любовь была искренней, но короткой. Это была, скорее, влюбленность в нового правителя, которая быстро заканчивалась, как только правитель что-то начинал делать; образованные слои народа под названием интеллигенты тут же от него отворачивались, ибо он все делал не так.
А посему – делайте сами! Я решил передать в собственность жильцов и персонала бизнес-центра все площади с минус второго по четвертый этаж общей площадью примерно шесть тысяч квадратных метров для проживания и ведения хозяйственной и коммерческой деятельности…»
Геннадий резко поднялся и, нарочито громко топая башмаками, покинул кафе. Громко хлопнула дверь. Пирошников виновато улыбнулся и развел руками.
– Видите, не всем эта идея нравится…
– И какова же норма площади на отдельного арендатора? – задал вопрос Залман.
– Примерно сорок квадратных метров.
– И на детей тоже? – уточнила мамаша Енакиева.
– Да, – кивнул Пирошников.
– Значит, мы с Пусечкой получим целых восемьдесят метров! Это же такие хоромы! – воскликнула она. – Что же мы будем там делать?
– Это ваши проблемы.
– И это будет бесплатно?
– По той же цене аренды, что вы платите на этом этаже.
– Но позвольте! – взметнулась Лидия. – На верхних этажах аренда вдвое больше.
– А будет такая же, как здесь. Я считал, сальдо положительное, – парировал Пирошников.
– А субаренда? – не унималась Лидия.
– Разрешается.
– А каковы гарантии безопасности? – вдруг спросил Залман.
– Что вы имеете в виду?
– Дом трясет, вы знаете.
– Пускай молодой человек расскажет, – указал на Августа аспирант. – Он этим занимается.
Август покраснел, замотал головой.
– Семен Израилевич, не все сразу. Проблема есть, решаем, – примирительно сказал Пирошников. – Если вопросов больше нет, давайте на этом закончим.
Он вышел в коридор, почему-то недовольный собой и собранием, с ощущением, что завязывается какая-то ненужная борьба вокруг непонятно чего – то ли Плывуна, то ли квадратных метров, которые продолжали портить людей.
Не успел Пирошников сделать несколько шагов вниз по направлению к своему боксу, как его догнал аспирант.
– Владимир Николаевич, ко мне не зайдете? Есть новости.
В квартирке аспиранта ничего, на первый взгляд, не изменилось. В первой комнате, как и прежде, наблюдалось хитросплетение проводов и приборов, во второй стояла та же железная кровать. Единственным новшеством первой комнаты были две уходящие в стену трубы типа водопроводных, из которых выходило множество проводов, подсоединенных к разным приборам.
Максим заметил, что Пирошников с интересом разглядывает эти трубы.
– Давайте с них и начнем. Эти провода подсоединены к датчикам с той стороны стены. Да, это сквозные дырки прямо в породу. Я стал исследовать плывун непосредственно с помощью инфразвуковых колебаний. И кое-что обнаружил любопытное…
– Что же? – спросил Пирошников, вглядываясь в бегущие по экрану осциллографа импульсы.
– Сначала пройдите сюда, – указал он на открытую дверь второй комнаты.
– Опять прыгать? – улыбнулся Пирошников, вспомнив приятное ощущение легкости.
– Да, попробуйте, – кивнул аспирант.
Пирошников ступил внутрь, но не смог сделать и двух шагов, потому что на первом же шаге оторвался от пола и медленно поплыл к потолку. Подлетая к нему, он поднял над собою руки, чтобы не удариться макушкой, как в прошлый раз, и затормозил движение. Но в отличие от первого эксперимента не начал опускаться, а так и завис под потолком, как воздушный шарик.
Он беспомощно оглянулся на аспиранта.
– Оттолкнитесь рукой от потолка! – посоветовал аспирант, в руках у которого он увидел пульт – точь-в-точь такой, каким управляют телевизором.
Он слегка толкнул потолок левой рукой, и вдруг его развернуло, и он плавно полетел вниз, медленно вращаясь, а точнее, беспорядочно кувыркаясь в воздухе.
– Вы в невесомости! – услышал он голос Максима. – Попробуйте управлять своим телом.
Пирошников подтянул колени к животу, насколько мог, и его вращение убыстрилось в соответствии с законами физики. Затем он раскинул ноги и руки максимально широко и почти остановился в воздухе между полом и потолком.
– Опускаю! Осторожнее! – Максим нажал на кнопку пульта, и Пирошникова медленно потянуло к полу.
Он мягко упал на бок и поднялся на ноги, чувствуя, как к нему возвращается тяжесть тела.
– М-да… Поздравляю, – сказал он и уже намеревался вернуться к Максиму, но тот остановил его.
– Постойте!
Пирошников остановился, не доходя метра до двери.
Максим снова нажал на кнопку пульта, и Пирошников почувствовал, как наливаются тяжестью его ноги, руки, голова… Все тело стало будто свинцовым, его клонило вниз, сгибало. Наконец не выдержали и подогнулись колени, страшная тяжесть припечатала Пирошникова к полу, он не мог поднять руки и сумел лишь прохрипеть, с трудом ворочая каменным языком:
– Хватит…
Максим нажал еще одну кнопку, и в тело вернулась легкость. Пирошников снова встал на ноги и смог сделать несколько шагов, чтобы выйти из этой опасной комнаты.
– Ну и ну… – покрутил он головой. – Могло ведь расплющить…
– Запросто! – бодро ответил аспирант. – Я на крысах экспериментировал. Их просто размазывало по полу.
– Значит, это еще и оружие… Но это же Нобелевка, как я понимаю.
– Это не главное. И это не Нобель. Потому что эффект оказался сугубо локальным.
– Как это? – не понял Пирошников.
– Эта петля, – он указал на светящийся шнур, протянутый вдоль плинтуса второй комнаты, – работает только в зоне плывуна. Уже через сто метров, на улице, никакой невесомости она не создает. Обидно!
– Да, жаль… Но все равно…
– Но и это не главное, – Максим понизил голос, как бы готовясь раскрыть страшную тайну. – Плывун сам по себе тоже не может создать эффект невесомости. Ему необходимо одно условие…
– Какое? – с тревогой спросил Пирошников.
– Вы!
– Не понимаю.
– Ваше присутствие в зоне действия плывуна.
Пирошников оторопело уселся на стул, достал платок и вытер со лба проступивший пот. Вообразить, что он в паре с Плывуном способен создать в доме невесомость, он не мог.
– Но как? Как? – воскликнул он.
– Нууу… Вы многого хотите… Как? А я не знаю – как! Это вы должны знать, как вы это делаете, – улыбнулся он.
– Но почему вы так решили? – не сдавался Пирошников.
– Владимир Николаевич, я ничего не решаю. Я не теоретик, а экспериментатор. Я это увидел экспериментально.
И он начал рассказывать, как ему удалось установить этот странный факт.
– Помните, вы отсутствовали до поздней ночи, встречались с приятелем, а вас в это время выселяли?
Пирошников кивнул. Он хорошо это помнил.
– Так вот, в тот вечер петля не работала. Я думал – глюк или плохая коммутация схемы, мало ли… А потом сопоставил по времени. Но главное не в этом, это могло быть и случайным совпадением. Просто кривые активности плывуна практически совпадают с вашими кривыми. Вы же вот у меня – здесь благодаря вашему датчику, – он кивнул на другой экран, над которым Пирошников заметил приклеенную бумажку со своими инициалами: В. Н.
По словам аспиранта, объяснить явление он пока не может, вообще взаимодействие информационных и энергетических полей мало изучено, но в качестве модели, а точнее, аналога, можно принять поведение Океана на планете Солярис.
Пирошников кивнул. Он помнил этот роман Лема.
Итак, Плывун был в некотором роде живым организмом. Не мыслящим, но реагирующим на мысли и эмоции перципиентом, сказал Максим.
– А петля ваша? – спросил Пирошников.
– Она просто переводит информационное поле в энергетическое.
– Просто… – вздохнул Пирошников. – Но скажите, я ведь не один такой? Возможно, есть еще кто-то. Как-то не верю я в собственную исключительность!
– И напрасно. Все мы исключительны. У каждого свой Плывун, – сказал Максим.
Однако, он все же намеревался проверить на взаимодействие с Плывуном бледного юноши Августа, который, по его словам,
регулярно посещал кафе «Приют домочадца» и встречался там с Подземной Радой на предмет силлаботонических практик.
Как видно, Рада ничего своего не придумала, лишь добавила к ритуалу распитие пива.
– Посмотрите, – сказал Максим. – Здесь все записано.
Как выяснилось, все камеры видеонаблюдения в доме имели выход в лабораторию Браткевича.
Он включил маленький телевизор, настроил дату и показал картинку. На черно-белом экране возникла группа человек в десять мужчин, сидевших за столами с кружками пива, а перед барной стойкой с гитарой приплясывал и что-то пел Август.
Звука не было, но и так можно было догадаться: когда Рада выкрикивала «моо-кузэй», – все дружно взмахивали кружками, потом выпивали до дна. Как в баварской пивной.
– Ну, и какой эффект? Дом дрожал? – спросил Пирошников.
– Вроде, дрожал. Немного. Мне трудно выделить влияние Августа. Вы же тут все время тоже находитесь. Думаете, поете, стихи читаете… Бог знает, кто из вас влияет. Нужен чистый эксперимент.
– Я готов, – сказал Пирошников.
– Хорошо, у них следующий сбор завтра вечером. Они по воскресеньям репетируют. Я попрошу вас на это время покинуть зону Плывуна.
– Согласен. Сходим с женою в кино, – сказал Пирошников, замечая с удивлением, что впервые назвал Серафиму женой.
– Отлично! А я сегодня проложу там петлю гравитации. Типа гирлянда к Новому году.
«Господи! Как интересно жить!» – подумал Пирошников с благодарностью.
17
– Ну скажите, скажите – зачем вы это сделали? Что за дешевый популизм?! – выговаривал Пирошникову Геннадий. – Почему вы не посоветовались со мной? Вам подарили шесть тысяч квадратных метров! Через год вы могли бы стать миллионером. Вполне законно, между прочим…
Пирошников смиренно молчал. Он предполагал, что Геннадий будет недоволен, но тот был более чем недоволен – Геннадий был разъярен.
– Видимо, я не хочу быть миллионером, – наконец сказал Пирошников.
– А я хочу! Я здесь несколько лет вкалывал, обслуживал хозяина. Я имею право!
– Вот и обращайся к своему хозяину. При чем здесь я? Никто его за язык не тянул, – повысил голос Пирошников.
Разговор происходил в салоне «Гелиоса» сразу после того, как Пирошников вернулся от аспиранта. Геннадий специально его поджидал.
– Хорошо… Давайте договоримся так. Вы назначаете меня управляющим, а через год увольняете, если у вас на счету будет меньше, чем миллион долларов. Только сначала вы отмените свое решение.
– Ну ты же понимаешь, что я так не сделаю. Слово – не воробей…
Геннадий тихо застонал от бессилия. Он понял, что переубедить Пирошникова не удастся. Пирошников же испытывал перед ним некоторую вину, но понимал, что иначе поступить не может. В самом деле, занимать роскошную стеклянную резиденцию и вести бизнес на семи этажах в то время, как домочадцы прозябают на минус третьем… Нет, это было не для него.
– Хорошо, – вдруг сказал Геннадий. – Как вы намерены делить площадь между арендаторами? Технически – как? Это вам не пряники. Комнаты все разные, этажи разные… Каким образом?
– Ну вот ты мне и поможешь, чтобы все было по справедливости, – неуверенно сказал Пирошников.
– Ага, и все шишки на меня посыпятся… Вы наших жильцов не знаете.
– Ладно, договоришься с ними как-нибудь… – Пирошников уже спешил, ему не терпелось рассказать Серафиме о том, что он узнал у аспиранта.
Геннадий удалился в глубокой задумчивости, шевеля губами. По-видимому, просчитывал варианты и производил подсчеты.
А Пирошников запер магазин и поспешил в квартирку.
Серафима в халатике сидела у телевизора, кот Николаич был у нее на коленях, она почесывала ему белое брюшко, а на морде Николаича была написана такая сладострастная истома, что Пирошников невольно ему позавидовал.
– Приглашаю тебя на прогулку! – провозгласил Пирошников.
– Куда? – несколько капризно отвечала Серафима.
– Наверх! Я покажу тебе резиденцию, куда мы завтра переедем!
– Правда? Вы так решили? – оживилась она.
– Я же тебя просил! Ну когда это кончится? – взмолился Пирошников.
– Ты так решил? – поправилась она неуверенно.
– Решил. Одевайся. По дороге все расскажу.
Через пять минут они вышли из квартиры, но не вызвали лифт, а пошли пешком на крышу, минуя этаж за этажом.
Минус второй был открыт, в коридоре горел свет, но этаж был пуст. Он в точности повторял минус третий по планировке с тою лишь разницей, что ранее, до бегства арендаторов, здесь располагались только небольшие офисы, жилых квартир не было.
– Тут хорошо бы устроить бесплатную ночлежку для бездомных, – сказала Серафима.
– А где взять средства? – спросил Пирошников.
– Пусть делятся те, кто будет зарабатывать на доме…
Этажом выше, точно таком же, она сказала:
– А вот этот этаж уже можно сдавать под жилье…
– Возможно. Но решать это будут домочадцы, владеющие площадью, – ответил Пирошников.
– Но ты же царь? Или нет? – насмешливо спросила она.
– Я царь, который царствует, но не управляет. Управлять у нас будут сами выкозиковы.
Дом раскрывался перед ними неспешно, с достоинством, показывая разумность своего устройства и те возможности, которые могли открыться заботливому хозяину. Пустые и темные этажи будто приглашали их фантазировать и мечтать о будущем, когда ум и воля домочадцев преобразят дом и воздвигнут сияющий дворец красоты и порядка. Но эфемерными были эти мечты, потому что уже почти два века населяли дом не заботливые хозяева, а олухи царя небесного, мечтатели и лодыри, воры и пьяницы.
Да к тому же и дом у них нынче весьма заметно перекосило.
Лестница привела Пирошникова с Серафимой на крышу, где их встретила легкая метель, поднимающая над каменной плиткой снежную пыль. Они вспомнили, что скоро Новый год и что хорошо было бы устроиться здесь по-домашнему, в тепле и без забот, чтобы не думать ни о каком Плывуне и его непонятном поведении.
Они подошли к ограждению на краю крыши и взглянули на вечерний город. Дома стояли, как и сто лет назад, летали снежинки в неярком свете, и можно было вполне допустить, что под каждым домом таится свой Плывун, состоящий в невидимой связи с тем человеком, от которого зависит покой и благополучие дома.
Такой человек всегда один – Genius loci, или Гений места, – на котором держится хрупкое равновесие жилища и домашнего очага и которому часто уже не под силу сдерживать напор стихий. Сейчас равновесие нарушилось, дом клонился набок, уходил под землю, и Пирошникову надлежало собрать все свои духовные силы, чтобы спасти это место.
Беда была в том, что он потерял связь с жителями, домочадцами, а главное – утратил веру в них как в нравственное начало. Сейчас, отдав им дом, подарив прекрасные помещения для творчества, отдыха, общения, он надеялся, что сама эта возможность заставит их искать иной смысл существования, чем был у них до сих пор.
Да и сам он не прочь был найти этот иной смысл.
«Но поздно, поздно… – думал он. – Почему эти перспективы открываются за два шага до конца пути? Ведь я жил здесь полтора десятка лет, и никогда Плывун не напоминал мне о долге, за исключением тех нескольких дней, когда он избрал меня и провел через испытания…»
– Ты думаешь, что Плывун – это… – начала Серафима, но он не дал ей закончить, притянул к себе и поцеловал в губы.
18
Воскресное утро началось с того, что за дверями, в коридоре, послышалась громкая музыка и слова песни «Марш энтузиастов»:
В буднях великих строек,
В веселом грохоте, в огнях и звонах,
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна ученых!
Ты по степи, ты по лесу,
Ты к тропикам, ты к полюсу
Легла родимая, необозримая,
Несокрушимая моя.
Пирошников вскочил с дивана, накинул халат и выглянул в коридор. Музыка из невидимого репродуктора гремела с такой силой, что дрожали, тихонько позванивая, металлические плафоны электрических ламп. То там, то тут по коридору приоткрывались двери и оттуда выглядывали испуганные домочадцы.
Музыка затихла и вступил мужской голос, в котором Пирошников узнал голос Максима Браткевича:
– Товарищи домочадцы! Прослушайте выступление нового собственника нашего бизнес-центра господина Пирошникова…
Что-то щелкнуло в динамике, и Пирошников к своему ужасу услышал собственный голос:
– Драгоценные подданные! Мы, волею Божьей и Верховного имама Семиречья, законный шейх Тридесятого Петропавловского бизнес-царства, объявляем о начале правления и желаем донести некоторые монаршие мысли…
Подданные один за другим появлялись в коридоре и застывали на месте, задрав головы, потому что звук доносился откуда-то сверху.
В коридоре стояли уже человек двадцать, в основном женщины. По их лицам трудно было понять, какого мнения они о речи Пирошникова и доходит ли до них смысл сказанного. Наконец речь подошла к кульминации:
– …А посему мы передаем в собственность жильцов и персонала бизнес-центра все площади с минус второго по четвертый этаж общей площадью примерно шесть тысяч квадратных метров для проживания и ведения хозяйственной и коммерческой деятельности…
Снова раздался щелчок и голос аспиранта объявил:
– Вы слушали инаугурационную речь главы нашего дома господина Пирошникова.
Этим непонятным словом он окончательно сбил с толку домочадцев.
Ропот прошел по толпе, все взоры устремились к главе дома, который стоял у своей двери в махровом халате, перепоясанном шелковым шнурком, не в силах сдвинуться с места, потому что это слишком походило бы на бегство.
– Что он сказал-то? – раздался в тишине женский голос.
– Слышь, дарит нам площадь…
– На тебе, боже, что мне негоже!
– Эй, дядя, ты чего задумал? – это уже адресовалось непосредственно к Пирошникову.
Он улыбнулся, стараясь, чтобы улыбка выглядела покровительственной, зачем-то помахал народу раскрытой ладонью, как с трибуны Мавзолея, и не спеша скрылся за дверью.
Первым делом он запер дверь на замок, но остался в прихожей, прислушиваясь к звукам из коридора.
А там нарастало народное вече. Говорили все разом, стараясь перекричать друг друга, как в телевизионном ток-шоу, говорили обо всем, начиная с личной жизни Пирошникова и кончая правовыми полномочиями Верховного имама Семиречья. Но постепенно галдеж самоорганизовался, точнее, получил некое направление, когда Пирошников услышал знакомый говор.

– Шановни громадяни! Прошу тишины, заспокойтеся!
«Громадяне» слегка «заспокоились» и прокурор Данилюк продолжил свою речь на смеси украинского и русского.
– Що предлагает нам пан Пирошников? Вин хоче откупиться вид нас, подарував никому ненужные метры площади. Они же кривые! Ахто це зробив? Пан Пирошников це зробив!
Далее Данилюк вполне логично, как и полагается работнику прокуратуры, развил мысль о том, что «пан Пирошников» мало того, что раздает негодную площадь, так еще хочет получать за нее арендную плату! Сейчас помещения справедливо пустуют, но если домочадцы их возьмут, то будут закабалены. Вот в чем злодейский замысел пана!
– Да не берите же! Кто вас заставляет? – прошептал за дверью Пирошников.
Что же предлагал прокурор? Он предлагал подаренную площадь все-таки брать, следуя заветному принципу дают – бери, но ни о какой плате не может быть и речи, пока пан Пирошников не вернет вертикаль на место. Более того, выплату арендной платы за родной минус третий тоже заморозить.
Возмущенный разум домочадцев с восторгом встретил эти предложения.
Далее Данилюк от экономических требований перешел к политическим и потребовал от пана Пирошникова передать все властные полномочия народу, то есть демократически избранной Подземной Раде. Проще говоря, передать Раде контроль над финансами бизнес-центра, которые, надо признать, уже пели романсы.
Маразм настолько крепчал, что Пирошников почувствовал острую потребность разрядить обстановку с помощью идиотской выходки.
Он щелкнул замком, приоткрыл дверь и высунул в коридор голову. Мгновенно все смолкли.
– Фиг вам! – выкрикнул Пирошников, для убедительности вздымая над головою фигу.
И снова нырнул обратно.
В коридоре раздались крики возмущения, но на приступ массы не пошли, а потихоньку разошлись по своим боксам.
Пирошников вернулся в комнату, где спала Серафима. Вернее, она уже проснулась и лишь дремала, сквозь сон прислушиваясь к мятежу в коридоре.
– Чего хотят? – спросила она сонно.
– Хлеба и зрелищ.
– А-а-а… Зрелищ – это неплохо. Я тоже хочу зрелищ.
– Вот и пойдем сегодня в кино, – сказал он.
– Да? С какой стати? – удивилась она.
– Мне нужно удалить свое тело из зоны действия Плывуна, – объяснил он.
– Не тело, а рушу. Тело тут ни при чем.
– Да, пожалуй, ты права, – согласился он.
Серафима оделась и бесстрашно отправилась на кухню готовить завтрак. Через пять минут она вернулась с готовой яичницей и сообщила, что народ постарался не заметить ее присутствия.
Однако фига была предъявлена. Назвался груздем – не говори, что не дюж.
Поэтому после завтрака Пирошников с Серафимой, облачившись в спортивные костюмы, отправились в резиденцию на крыше, а там погрузились в теплый бассейн. Нужно было показать этим домочадцам, что «ничто нас в жизни не может вышибить из седла», как сформулировал это Пирошников словами Константина Симонова.
Как славно было плавать под стеклянной крышей, наблюдая сквозь стеклянные стены и крышу падающий снег, который таял, едва соприкоснувшись со стеклом, потому что крыша была с подогревом.
Вволю насладившись бассейном, они перешли в апартаменты, чтобы рассмотреть их на предмет предстоящего переезда.
Обстановка внутри напоминала гостиницу класса «люкс», а точнее, соответствовала представлениям Пирошникова о таких гостиницах, поскольку бывать в них ему не доводилось. Все очень комфортно, продуманно, высокого качества и начисто лишено каких-либо признаков индивидуальности.
Собственно, это и была гостиница для бывшего хозяина, которую предстояло превратить в дом.
Серафима обнаружила в платяном шкафу кое-какую одежду и без разговоров запихала ее в пакеты, которые спрятала в антресоли шкафа.
– Может, что-то оставить? Пригодится, – возразил Пирошников.
– Носить одежду с чужого плеча неприлично, – сказала она, – если это только не родной человек. Кроме того, она не подходит по размеру.
Исключение было сделано для роскошного синего шелкового халата с золотыми блестками, который висел в ванной. Он напоминал мантию или летнюю одежду Деда Мороза – был легок и спадал, струясь, до самого пола, когда Пирошников его примерил. Халат оказался впору.
– Пусть висит, – сказал он. – Это же ничей халат. Просто для моющихся.
Серафима согласилась. Ей тоже понравился этот халат.
Подобный разговор возник, когда Серафима добралась до холодильника и продуктовых шкафчиков в кухне. Здесь было довольно много запасов – банки, упаковки, фасованные продукты – причем часть из них была вскрыта и отчасти использована.
Серафима вознамерилась все выбросить на том основании, что это чужое.
Пирошникову стало жаль продуктов.
– Давай оставим, – сказал он.
– Жаба задавила? – улыбнулась она.
Пирошников подошел к ней близко и тихо, но внушительно проговорил:
– Если ты хоть раз еще употребишь это омерзительное выражение, то я тебя… уволю!
Она в тон ему ответила:
– А если ты когда-нибудь еще употребишь по отношению ко мне слово «уволю», то я уволю тебя!
Несколько секунд они смотрели в глаза друг другу, а потом вдруг вместе рассмеялись, и Пирошников, неловко хромая, закружил жену, как бы вальсируя.
– Вот! Вот что нам было надо! – восклицал он. – Послать друг друга нах! Вот теперь я поверил, что мы какая-никакая семья.
Отдышавшись, он сказал.
– Давай рассудим. Продукты, которые вскрыты, – это чужие продукты. Ими пользовались. Их жрали, грубо говоря. Мы их выбросим… Но нераспечатанные продукты – это услуга администрации для проживающих. Они пока ничьи…
– Каких проживающих? Здесь останавливался один человек!
– А это совершенно неважно. Останавливался он – теперь останавливаемся мы. И продукты – наши. Убедил?
– Хорошо, – согласилась она. – А макароны выбрасывать? Их из упаковки переложили в стеклянную банку.
– Это вопрос философский, – сказал Пирошников. – Я бы оставил.
Обследование апартаментов показало, что почти ничего, кроме одежды, ноутбука и любимых предметов, типа настольной лампы или персональной чашки для чая, сюда везти нет надобности. А посему переезд завершили в тот же день, съездив пару раз на лифте туда-сюда. Теперь в распоряжении Пирошникова и Серафимы были столовая, гостиная, кабинет и спальня. Не считая гостевой комнаты и кухни. Впрочем, последняя была совмещена со столовой.
Домочадцы наблюдали за переездом внимательно, но неназойливо, препятствий не чинили, от комментариев воздерживались. Пирошников запер квартиру и магазин, который еще официально не открылся после возвращения на старое место, и они с Серафимой отправились в кино.
В кинотеатре Пирошников не был так много лет, что и не вспомнить. Последним точно датированным воспоминанием был просмотр фильма «Приключения Буратино» вместе с Толиком и Наденькой, когда Толику было примерно лет восемь-девять, то есть больше тридцати лет назад. Неудивительно, что современный кинотеатр поразил Пирошникова – и кресла, и звук, и очки, чтобы смотреть объемное изображение… Короче говоря, все, кроме самого фильма, который не имел никакого отношения к жизни, к людям и к самому Пирошникову.
Странно, подумал он. Буратино имел отношение к моей жизни, хотя я был тогда взрослым человеком. Да он и сейчас имеет к ней отношение. Я до сих пор ищу золотой ключик.
Фильм закончился около девяти часов вечера и Пирошников с Серафимой не спеша пошли пешком по Большому проспекту Петроградской стороны и дальше погружаясь в сеть улочек, которые привели их к дому. Подходя к нему, они заметили у главного подъезда желтый фургон с надписью «Водоканал» и прибавили шаг.
– Что там еще стряслось? – пробормотал Пирошников.
В вестибюле они увидели человек шесть домочадцев, которые что-то обсуждали и смолкли, завидев Пирошникова.
– Езжай наверх, я зайду к Максиму, узнаю, – распорядился Пирошников, передавая Серафиме ключи от резиденции.
Она уехала на лифте, а он по лестнице направился вниз.
В коридоре минус третьего тоже было довольно многолюдно для вечернего часа. Домочадцы стояли группками и тоже замолкали, когда Пирошников проходил мимо.
Все это вызывало тревогу, но паники в людях он не замечал.
Наконец он дошел до бокса аспиранта и постучал в дверь.
– Заходите! Открыто! – раздался изнутри голос Максима. Пирошников вошел. Максим сидел за компьютером, на экране которого был изображен бизнес-центр в виде схемы, и что-то вычислял на калькуляторе.
– Что тут произошло? – с ходу спросил Пирошников.
– Присядьте, – Максим указал на стул. – В общем, ничего страшного. Но вам будет весьма любопытно.
И он рассказал. Как и было обещано, Подземная Рада собралась в кафе попить пива и покричать заклинания, а юноша Август с гитарой снова пел песни и читал стихи.
– Сейчас покажу. На этот раз я звук записал.
Он включил маленький телевизор и Пирошников увидел ту же картину, что в прошлый раз: с десяток домочадцев мужского пола во главе с предводителями за столиками и Августа у барной стойки с гитарой в руке.
Август взял аккорд на гитаре, но не запел, а начал читать, немного заикаясь:
Печальная Вологда дремлет
На темной печальной земле,
И люди окраины древней
Тревожно проходят во мгле.
Родимая! Что еще будет
Со мною? Родная заря
Уж завтра меня не разбудит,
Играя в окне и горя.
Замолкли веселые трубы
И танцы на всем этаже,
И дверь опустевшего клуба
Печально закрылась уже.
Родимая! Что еще будет
Со мною? Родная заря
Уж завтра меня не разбудит,
Играя в окне и горя…
Данилюк поднялся на ноги и, взмахнув большой стеклянной кружкой, затянул:
– Мооо…
– Убери звук, – попросил Пирошников.
Дождавшись окончания шаманства, аспирант прибавил звук.
Август взял еще один аккорд и запел есенинское «Не жалею, не зову, не плачу…» Пел он высоким голосом, с чувством. Пирошников невольно заслушался.
И вот, когда он пропел последние строки – «Будь же ты вовек благословенно, что пришло процвесть и умереть…», раздался треск и картинка резко сместилась, Пирошников успел заметить, как Август едва не упал, схватившись рукою за барную стойку, а несколько домочадцев грохнулись со скамей, уронив кружки.
Это продолжалось мгновение, после чего картинка возвратилась на место, мужики поднялись и бросились к Августу обнимать его, будто он забил гол. Радостные крики смешались с матерными возгласами, наступило народное ликование.
Пирошников все понял.
– Подвижка, – сказал он.
– Да, – подтвердил Максим. – Ему удалось сместить здание на десять сантиметров. При этом крен дома слегка выправился.
Максим несколько виновато докладывал результаты эксперимента, полагая, что Пирошникову неприятно будет узнать об этом. Чтобы загладить это известие, он поспешно добавил:
– Но дом все равно погружается, хотя вертикаль сместилась. И антигравитация совсем не работает! Я уменьшал до нуля. Все стояли и сидели, как вкопанные. И в другую сторону тоже.
– Все равно молодец парень… – проговорил Пирошников.
Он задумался, а затем протянул руку к Максиму.
– Дай-ка пульт…
Максим дал Пирошникову пульт управления петлей. Пирошников осмотрел его. Устроен он был просто: имелись две кнопки и дисплей, на котором стояли деления и была обозначена красной чертой опасная зона в области повышенной гравитации.
– Я сейчас, – сказал он и вышел в коридор с пультом.
– Осторожней только! – успел крикнуть вслед Максим и уселся за приборы записывать визит Пирошникова к Подземной Раде.
А Пирошников, зажав пульт в руке, как пистолет, прямиком направился в кафе «Приют домочадца».
Он вошел в кафе и остановился на пороге, не переступая витой шнур, который охватывал все помещение по стенам.
Судя по всему, Подземная Рада закончила пленарное заседание и теперь праздновала победу разума, чествуя героя. Сам герой сидел в окружении Данилюка и Даниила Сатрапа, уши у него горели, а по лицу блуждала застенчивая пьяная улыбка.
Компания успела пополниться несколькими дамами из числа домочадок, которые тоже пили пиво и, судя по воодушевлению, готовы были запеть.
И они действительно запели, едва завидев Пирошникова:
«К нам приехал, к нам приехал наш царевич дорогой!»
Все дружно подхватили.
Пирошников, не поднимая пульта, незаметно направил его на коробочку, приткнувшуюся у закрытой створки двери. В нее входили оба конца светящегося шнура петли гравитации.
Правой рукой Пирошников сделал жест, как бы поднимающий сидящих за столами на ноги, а сам левой рукой нажал на кнопку уменьшения силы тяжести. На его глазах стройная картина поющей здравицу Подземной Рады стала распадаться на куски, какие-то фигуры поплыли вверх, крутясь и переворачиваясь, кто-то полетел вбок и, ударившись о стену, отскочил. Одна из женщин пела уже под потолком, повиснув там боком, – она как бы лежала на потолке, ее невесомое платье взвихрялось вокруг, но она не замечала этого, отдавшись пению.
Август, сидевший спокойно, поначалу не реагировал на исчезновение силы тяжести, но вдруг, попытавшись вскочить на ноги, чтобы поймать стартующего со скамьи к потолку Даниила Сатрапа, сам взвился над столом, сделал сложный пируэт и полетел по направлению к стойке бара.
Но всего забавнее вело себя в этой ситуации пиво, которое в полном соответствии с законами физики приняло сферическую формуй, выпрыгнув из кружек, летало совершенно произвольно. Если к несчастью пиво натыкалось на поющего и летающего члена Рады, то оно разбивалось на тысячи шариков, окружавших летуна, подобно рою пчел.
Это было очень красиво.
Август же, пролетев несколько метров на высоте человеческого роста, неосторожно залетел за стойку, а поскольку шнур петли был протянут перед ней, естественно, покинул зону невесомости и грохнулся на пол с большим шумом.
Летающая Рада прекратила пение и уставилась на Августа, кто как мог, кувыркаясь. А он, поднявшись и отряхиваясь, с восторгом взглянул на Пирошникова, повторяя:
– Сэнсей… сэнсей…
И тогда Пирошников перевел большой палец левой руки на кнопку увеличения силы тяжести, и все летающие члены Рады и гости внезапно начали отвесный спуск, как парашютисты без парашютов. Кто-то попал на пол, кто-то на столы и скамейки. Они попытались встать, но нарастающая сила тяжести держала их на месте, клоня книзу все больше.
Крики, возгласы, ругательства захлебнулись.
Август с ужасом смотрел на Пирошникова. На него, в самом деле, страшно было смотреть в эту минуту.
Внезапно он выключил пульт и, не дожидаясь, пока Рада придет в себя, резко повернулся и вышел из комнаты.
19
Геннадий трудился недаром: уже через несколько дней он представил Пирошникову план дарения домочадцам принадлежащей Пирошникову площади.
Он предложил осуществить это с помощью сертификатов на приватизацию полезной площади в 42 квадратных метра, к которому прикладывался договор с бизнес-центром в лице директора, согласно которому хозяин площади соглашался платить бизнес-центру за услуги сумму, определяемую, исходя из ставки пять долларов за квадратный метр, то есть двести десять долларов. В рублях, разумеется.
Бизнес-центр же, в свою очередь, расплачивался с управляющей организацией ЖКХ за коммунальные услуги во всем доме.
Пирошников впервые занимался деловыми вопросами, причем делал это в кабинете Джабраила, обставленном офисной мебелью из красного дерева. Отчего, с одной стороны, сознавал себя не в своей тарелке, а с другой – был исполнен некоторой гордости и самоуважения.
– Тэк-с, – сказал он. – Есть вопросы. Сертификат именной?
– Нет. Именной только договор.
– Значит, сертификат – это своего рода ваучер?
– Это слово лучше не использовать, вы понимаете… – сказал Геннадий.
Он даже эскиз сертификата заказал в дизайнерском бюро – с голограммой от подделки. Пирошников его утвердил и велел печатать тираж.
– Слушай, а где ты деньги берешь? – вдруг догадался спросить он.
– В банке. У меня же банковская подпись есть. А вот у вас нету. Надо сделать, – сказал Геннадий.
«Хорош гусь… – подумал Пирошников про себя. – Самую необходимую вещь не сделал. Диктатор клюев…»
Вечером он долго обсуждал с Серафимой эти вопросы, но не с экономической точки зрения, а с морально-нравственной. Как разделить что-то большое так, чтобы у всех или хотя бы у большинства осталось ощущение справедливости? Давний дележ государственной собственности с помощью ваучеров породил ощущение обмана.
Как будет с сертификатами?
Хотя уже заранее было ясно, что ничего хорошего не будет. Почему-то это уверенное чувство сопровождает на Руси все реформы.
Тем не менее в назначенный день домочадцы в составе полномочных представителей семейств собрались в том же кафе «Приют домочадца», чтобы получить заветные сертификаты, которые стопкой лежали на барной стойке, а за стойкой стояли Пирошников с Геннадием на фоне бутылок виски и вина.
Члены Подземной Рады, еще недавно парившие здесь между плафонами, настороженно посматривали на Пирошникова, хотя самой возможности полетов уже не было: Максим давно смотал петлю гравитации и унес домой.
Кстати, самого Браткевича Пирошников среди собравшихся не увидел.
Домочадцы сидели рядами, столы были сдвинуты к стенам. Серафима занимала место в первом ряду, как и тогда, на силлаботонических практиках.
– Ну что, начнем? – тихо спросил Пирошников своего управляющего.
Геннадий посмотрел на часы.
– Сейчас. Еще полторы минуты.
Минуты тянулись томительно. Домочадцы переглядывались: чего ждем? Как вдруг из динамиков, висевших по бокам барной стойки, грянул марш из кинофильма «Весна»:
Восходит солнце ясное.
Блестит в траве роса.
Цветут вокруг прекрасные
Мои поля, мои леса.
Страна моя любимая,
На всей земле одна
Встает никем непобедимая
Моя Советская страна!
Музыка смикшировалась, и тут же из-за дверей послышался грохот пионерского барабана. Распахнулась дверь в коридор и оттуда под это музыкальное сопровождение в кафе вступил торжественный отряд поздравителей.
Впереди с барабаном у живота шагал гармонист Витек, колотивший палочками по мембране. За ним в строгом костюме и повязанном на шею пионерском галстуке вышагивала Софья Михайловна, держа руку над головой в пионерском салюте. А позади твердо ступала тройка офицеров-ветеранов в форме трех родов войск, со множеством орденов и медалей на груди.
В центре капитан первого ранга в отставке Семен Залман нес знамя 31-й морской отдельной бригады. Ассистировали ему неизвестные полковники примерно его возраста.
У Пирошникова похолодело внутри. По тому, как корчилась в первом ряду Серафима, не в силах сдержать беззвучный смех, он понял, что тут не обошлось без нее.
Это был дружеский сюрприз падишаху от его свиты. Видно было, что уроки силлаботонических практик не прошли даром.
Зал встал и разразился аплодисментами. Собственно, выбора не было.
А старик Залман, оборотившись к залу, произнес:
– От имени ветеранов Вооруженных сил поздравляю жильцов дома с торжественным событием: вручением дарственных сертификатов на дополнительную площадь…
Опять раздались аплодисменты.
– Слово предоставляется гвардии полковнику орденоносцу товарищу Голубеву Анатолию Гавриловичу.
Полковник выступил вперед и сказал примерно то же самое, добавив несколько цифр по району. Другому полковнику говорить не дали.
Залман повернулся к Пирошникову и протянул ему знамя части. Пирошников принял дар и понял, что нужно говорить.
Держа знамя перед собою, он вдруг по какому-то необъяснимому наитию набрал в грудь воздуха и тихо затянул:
– Моооо….
– Кузэй! Кузэй! Кузэй! – грянул зал.
Дальнейшее было обыкновенно, если не считать того, что дом осторожно переместился еще на полградуса по направлению к вертикали.
20
Между всеми этими делами, как всегда, неожиданно накатил Новый год, и Серафима отправилась к себе домой в Парголово, где жила с родителями после развалившегося года три назад брака. Она намеревалась поздравить их и объяснить, что встречать праздник будет не с ними. Впрочем, они уже и так догадывались.
Там же находился какой-то запас старых елочных игрушек еще с советского времени, отличающихся от нынешних так же радикально, как старые шоколадные конфеты от новых.
Пирошникову же необходимо было купить елку, для чего он и отправился на находившийся неподалеку Сытный рынок, предварительно получив в бухгалтерии у кассира Мидии зарплату, которую сам же себе выписал днем раньше. Кроме него, зарплата была выписана исполнительному директору Геннадию, восьми охранникам, трем вахтерам и бухгалтеру с кассиром.
Эта акция практически обнулила счет бизнес-центра и заставила Пирошникова задуматься. Казна бизнес-княжества опустела, надо был искать способ заработка.
Купив елку, он не спеша направился в сторону дома, как тут зазвонил мобильник. Пирошников всегда настраивал сигнал телефона на традиционный звонок и не любил музыкальных сигналов.
– Ты еще не подошел? – услышал он голос Серафимы.
– Нет. Но уже иду.
– Апартаменты заперты. Приходи на пятый этаж. Мы на пятом.
– Кто это «мы»? – удивился Пирошников.
– Увидишь.
Пирошников встревожился и ускорил шаг, насколько это было возможно при его больных ногах. Через пятнадцать минут он был в вестибюле бизнес-центра, где с момента вручения сертификатов наблюдалось значительное оживление. Входили и выходили какие-то незнакомые люди, читали многочисленные объявления на доске, с которыми Пирошников пока не нашел времени ознакомиться, втаскивали какие-то ящики.
Он подождал лифт, неловко втиснулся туда с елкой, исколов иголками лицо, и нажал кнопку пятого этажа.
На входе в коридор пятого этажа дежурил молодой охранник. Имени его Пирошников не помнил.
– Мои здесь? – спросил он.
– Здесь… – охранник расплылся в улыбке, несколько удивившей Пирошникова.
Он вошел в коридор, простиравшийся в обе стороны и сразу услышал пронзительный крик, доносящийся с того конца коридора, который был верхом наклонной плоскости. Крик явно не был криком о помощи, а скорее напоминал крик восторга.
Он повернулся туда, стараясь, чтобы иголки не слишком кололи щеки, и увидел стремительно приближающиеся к нему по коридору две фигуры. В одной он узнал Серафиму, которая, раскинув руки, мчалась с горки на роликовых коньках, а вторая представляла из себя какую-то небольшую тележку, в которой находилось что-то мелькающее, подвижное и орущее.
Он не успел ничего сообразить, кроме того, что Серафима развила опасную скорость и может прилично навернуться. Инстинктивно он расставил руки, выронив елку. Серафима, не переставая кричать и смеяться, попала к нему в объятия, и оба они вместе с елкой повалились на пол.
Тележка промчалась мимо, издавая победные крики.
Пирошников почувствовал сильную боль в колене. Они с Серафимой помогли друг другу подняться, и только тут он увидел, что промчавшаяся мимо тележка на колесах сделала ловкий пируэт и завертелась на одном месте, как фигуристка на льду.
Когда она прекратила вращение, Пирошникова наконец сумел разглядеть, что тележка является детской инвалидной коляской, а в ней сидит девочка лет десяти с растрепанными волосами и сверкающими от возбуждения глазами. Обеими руками она держалась за круговые трубки на колесах, служащие для управления, а ноги безжизненно свисали с сиденья. Сразу было видно, что эти ноги не умеют ходить.
– Я выиграла! Я выиграла! – кричала девочка в экстазе.
– Мне помешали! Не считается! – возражала Серафима.
Она обернулась к Пирошникову, лицо ее выразило тревогу.
– Как ты?
– Ничего… – выговорил он с трудом.
– Это Юлька! – представила она девочку.
– Я вижу, что юла… – улыбнулся Пирошников.
Они поднялись в лифте к себе на крышу, причем Пирошников вынужден был опираться на Серафиму, потому что боль в колене была адской. Юлька же весьма умело управляла коляской, преодолевая невысокие пороги, и лишь ступеньки лестницы становились непреодолимым препятствием.
История Юльки была такова.
Она жила с матерью и бабушкой в соседнем доме, рядом с родителями Серафимы. Когда-то там обитал и Юлькин отец, но когда выяснилось, что у девочки детский церебральный паралич и ходить она не будет, отец куда-то испарился. А несколько месяцев назад мать девочки умерла. Юлька осталась с бабушкой.
Это событие произошло уже когда Серафима покинула родительский дом и переместилась в каморку под лестницей. И сейчас она узнала от родителей, что Юлька осталась почти без помощи, поскольку бабушка сама в ней нуждалась.
И тогда Серафима пошла к соседям и предложила Юльке погостить у нее и вместе встретить Новый год. Бабушке была обещана помощь родителей Серафимы. На том и порешили.
Теперь же неожиданно хлопот Серафиме прибавилось, и на руках у нее оказались два инвалида – старый и малый.
Пришлось вызывать подмогу и в тот же вечер везти Пирошникова в «травму», где ему диагностировали вывих коленного сустава и наложили гипс. Сопровождал его туда и обратно Геннадий на своей машине, а на следующий день навестить отца пришли обе дочери. Геннадий снова приехал и привез пару костылей, чтобы Пирошников мог самостоятельно передвигаться по квартире.
Прощаясь он сказал:
– Вы не волнуйтесь, с домом я управлюсь.
– Ну, давай. Других помощников у меня нет, – ответил Пирошников.
Однако оказалось, что это не так. Серафима проявила большой интерес к внутреннему преобразованию дома и, испросив у Пирошникова разрешения, занялась обустройством пятого этажа. Заодно она по мере возможности следила за тем, что происходит на других этажах, но с Пирошниковым практически не советовалась. Он сам ей запретил, сказав, что она должна действовать самостоятельно.
– Понимаешь, этот дом достанется тебе, когда я уйду, – спокойно объяснил он свое решение. – Он должен соответствовать твоим интересам, а не моим.
– Не говори глупостей. У меня нет своих интересов, – сказала она, целуя его в макушку.
– Как там с плешью? – спросил он.
– С плешью все отлично. Ее нет… Ну, почти нет, – отвечала она.
Отстранившись от дел, Пирошников форменным образом впал в детство, оставаясь целыми днями с Юлькой и прыгая на костылях от холодильника к столу, оттуда к телевизору, а от него к дивану, чтобы дружной компанией смотреть мультфильмы.
Дружная компания состояла из Юльки, кота Николаича и его самого.
Юлька решила, что Николаичу обидно быть таким здоровым и нетравмированным, и она наложила ему на переднюю лапу шину из картонки, свернув ее трубочкой, и перебинтовала, отчего Николаич стал прихрамывать. Но особенно не протестовал.
Вернувшаяся домой Серафима увидела, как дружная компания следует из кабинета в гостиную. Впереди на костылях прыгал Пирошников, за ним хромал Николаич, а сзади в коляске ехала Юлька, улыбаясь до ушей. Очень ей нравился вид кота с ограниченными возможностями.
– Да вы прямо инвалидная команда! – воскликнула Серафима.
Пирошников вдруг понял, что соскучился по семье, будь она хоть инвалидной командой. И теперь не уставал изобретать разные игры и развлечения, которыми все вместе занимались по вечерам. Телевизор как способ развлечения был исключен, им пользовались только для просмотра кинофильмов через DVD-плеер. Зато в большом ходу были всякие забавы, связанные со стихами и поэтами.
Пирошников, несмотря на свою любовь к поэзии, нисколько не благоговел перед поэтами-классиками, хотя любил многих из них искренно, а посмеивался над ними и тоже причислял к «инвалидной команде».
– Вот послушайте, послушайте! – говорил он внимавшим Серафиме, Юлии и Николаичу.
И начинал читать что-нибудь этакое, при этом прыгая по гостиной на костылях в ритме стихотворения:
Сегодня дурной день,
Кузнечиков хор спит,
И сумрачных скал сень —
Мрачней гробовых плит.
Мелькающих стрел звон
И вещих ворон крик…
Я вижу дурной сон,
За мигом летит миг.
Явлений раздвинь грань,
Земную разрушь клеть
И яростный гимн грянь —
Бунтующих тайн медь!
О, маятник душ строг,
Качается глух, прям,
И страстно стучит рок
В запретную дверь к нам…
Все эти звонкие удары литавр – «скал сень», «стрел звон», «гимн грянь» сопровождались подпрыгиваниями на костылях, что было достаточно сложно исполнить. Пирошников радовался.
– Слышите? У него шпоры звенят на ногах! Он скачет на лошади!
– Кто? – недоумевала Серафима.
– Да Мандельштам же! Осип Эмильевич!
И Пирошников, внезапно посерьезнев, рассказывал им, как его убивали. Рассказывал, будто был близким другом или приятелем, будто это касалось его лично. Да это и касалось его лично.
А на Новый год пришел Борис Леонидович со своими рождественскими стихами. За стеклянной стенкой, на крыше, вилась метель, горела огнями елка, пылал камин в гостиной, и Пирошников читал стихи, подражая автору, с какой-то жалобно-умиротворяющей интонацией:
Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.
Его согревало дыхание вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла…
Он никогда не мог читать без слез это стихотворение. И без всякого перехода начинал рассказывать о том, как Борис Леонидович нанимался вскапывать огород на даче в Переделкине советскому поэту Суркову, которого каждую весну вынимали из норы, чтобы определить, кому будет Сталинская премия.
Врал, конечно.
– Он тоже был с ограниченными возможностями? – спросила Юлька деловито.
– Кто? Пастернак? Он был с неограниченными возможностями! Только это еще хуже… Кстати, Джулия, ты бы почитала про свою любовь к Ромео четыреста лет назад. Это он перевел.
…Новый год прилетел и опустился на снежный город. Где-то на Петроградской в яслях из дуба лежал младенец из той же инвалидной команды с неограниченными возможностями. И прыгал на костылях вокруг праздничного стола, обнимая по очереди своих родных и котенка, в сущности, старик, которому в наступившем году исполнялось семьдесят лет.
21
Есть один период в году, когда время останавливается, все замирает в полусне, холод сковывает землю и струйки дыма застывают вертикально в морозном воздухе. Это первая неделя года – от новогодней ночи до Рождества.
Доедается и допивается все, что осталось с праздничного стола, ни о чем не хочется думать, тем более разглядывать подплывающую громаду года, который следует прожить, чтобы сделать еще один шаг в единственно возможном направлении.
У Пирошникова эта глыба непрожитого времени каким-то образом связывалась с массивом Плывуна, который, как ему казалось, тоже замер в глубине, погрузился в зимнюю спячку и ждет весны, когда весенние воды разбудят его и приведут в движение.
Но все оказалось не столь просто. Об этом рассказал экспериментатор Браткевич, посетивший Пирошникова как раз на Рождественской неделе.
– Идут непонятные процессы, – доложил он после того, как закончился обмен вежливыми приветствиями и вопросами о здоровье. – Датчики фиксируют повышение температуры массива. Он разжижается. Скорость погружения возросла втрое по сравнению с сентябрем.
– Почему же мы не замечаем?
– Ну, она все равно относительно невелика примерно два сантиметра в сутки.
– Но это же семь с лишним метров в год! – воскликнул Пирошников, произведя в уме быстрый подсчет.
– То-то и оно.
– Ас чем это связано?
– Думаю, прежде всего с перезагрузкой дома, – начал вслух размышлять аспирант. – Вы внизу давно не были?
– Давненько, – признался Пирошников.
– Ну, сами увидите… А во-вторых, лично с вами. Ваша связь с Плывуном ослабла, это видно по графикам. К тому же этот юноша… Август. Он тоже воздействует. Вам бы как-то договориться.
– Что же вы раньше не говорили! – рассердился Пирошников.
– Я думал, он вам неприятен.
– Какое это имеет значение для дела! Мы проваливаемся в дыру, тут уж не до выяснения отношений!.. Вот что. Я попрошу вас в ближайшее время провести монтаж вашего оборудования на всех этажах.
Выяснилось, что Пирошников имеет в виду петли гравитации и звуковую трансляцию. Аспирант сказал, что сеть громкой трансляции уже стоит, она входит в систему противопожарной сигнализации, а вот оптоволокно нужно заказывать.
– И встанет это в копеечку, – сказал он.
– Попросите Джабраила, – посоветовал Пирошников.
– А что я ему скажу?
Пирошникову показалось, что аспирант почему-то не хочет прокладывать оптоволокно. Он задумался.
– Мне нужно такое количество, чтобы мы могли управлять тяготением во всем здании, – наконец сказал он.
Аспирант отвел глаза, тяжело вздохнул.
– Что-то не так? – спросил Пирошников.
– Да. Мы уже не можем управлять тяготением во всем здании… И нигде не можем.
– Почему?
– Я не знаю. Эффект перестал наблюдаться. То ли из-за плывуна, то ли, простите, из-за вас.
– Это связано с моей травмой? – указал Пирошников на гипсовую повязку.
– Понятия не имею.
– Жаль, – сказал Пирошников. – У меня были планы.
Он действительно планировал показать невесомость Серафиме и Юльке, предвкушал их удивление и радость и даже намеревался создать маленькую зону, свободную от тяготения, в одной из комнат пятого этажа, где можно было бы всей семьей плавать в невесомости.
Ему не хотелось думать, что естественным образом, от старости, отмерла еще одна его физическая способность, как, скажем, способность быстро бегать или прыгать. Хотя способность взаимодействия с Плывуном вряд ли была физической. Но отмирание умственных или духовных способностей было еще обиднее. Это означало маразм и деградацию личности.
А тут еще и какие-то неприятности с «перезагрузкой» дома, как выразился аспирант.
Он не стал тревожить расспросами Серафиму, а решил дождаться, когда снимут гипс, чтобы лично проинспектировать дом. А пока научил Юльку играть в буриме, и они упражнялись в четверостишиях часами.
Заодно Пирошников осторожно проверял себя, насколько быстро он находит рифмы и сочиняет экспромты. Раньше ему это удавалось неплохо.
– Берем такие рифмы: «будка – малютка» и «день– плетень», – выписывал он слова на лист бумаги.
У Юльки загорались глаза, она склонялась над листком и через минуту читала:
Я играю целый день
У собачьей будки,
А ко мне через плетень
Прыгают малютки!
– Неплохо, – хвалил Пирошников и уже сам пытался сочинить стишок на заданные Юлькой пары «крокодил – находил» и «каша – Маша». Немного помучившись, он выдавал:
Старый нильский крокодил
Ел на завтрак кашу,
А еще он находил
Симпатичной Машу!
– Нет-нет! – кричала Юлька. – Нужно так:
Старый злобный крокодил
Ел на завтрак Машу,
А еще он находил
Очень вкусной кашу!
Вечером они предъявляли Серафиме ворох исписанной бумаги и, смеясь, перечитывали стишки.
Иногда среди этих беспечных занятий острой иглой колола мысль: «Что я делаю! У меня нет времени на эту ерунду. У меня дом тонет и жизнь кончается!».
И он продолжал подбирать рифмы.
Только к концу января Пирошникову сняли гипс, а еще через две недели кончился срок действия сертификатов на дополнительную площадь. Не худо было бы узнать, как распорядились домочадцы своими возможностями.
Пирошников уже сменил костыли на трость, а теперь, в связи с предстоящим визитом к народу, стал требовать у Серафимы найти ему котелок, чтобы соответствовать новому образу джентльмена в котелке и с тростью.
– О'кей, – сказала она и действительно на следующий день принесла откуда-то котелок.
Пришлось его надевать, коли заказывал.
– Вечно ты делаешь из меня клоуна, – проворчал он.
– Ну здрасьте! С больной головы на здоровую!
Это было правдой. Врожденная застенчивость часто не позволяла Пирошникову выглядеть клоуном, но в душе он был им всегда. На этот раз клоунада была легкой, почти незаметной. Чтобы усилить ее, Пирошников придал своему визиту вид административной комиссии, прихватив с собою Юльку и вызвав Геннадия. Серафима дожидалась комиссию на своем пятом этаже.
Что касается Юльки, то она сама напросилась, сама же изготовила и приторочила сбоку к своей коляске картонную коробку с надписью на ней «Администрация. Для жалоб», что было личной ее инициативой. С Геннадием обстояло сложнее.
Все последнее время он обозначал свое присутствие лишь по телефону, изредка звоня Пирошникову, чтобы справиться о здоровье и доложить, что все идет по плану, работы много, но он справляется. По какому именно «плану» идет эта работа, он не уточнял. Но Пирошников в детали и не вдавался, следуя своему принципу предоставлять подчиненным максимальную самостоятельность.
Что, как правило, влечет за собою и максимальную неожиданность.
Поэтому, когда комиссия наконец собралась и приготовилась к инспекции, неожиданности не заставили себя ждать.
Обход назначили на утро воскресенья, чтобы домочадцы и новоселы были дома. Пирошников в котелке, в костюме с сорочкой и галстуком-бабочкой, с тонкой тростью в правой руке, шел, придерживая левой рукой Юлькину коляску – просто для контроля.
Сидевшая в коляске Юлька сама приводила себя в движение, вращая обеими руками колеса коляски с помощью укрепленных на ободах трубок. Одета она была в теплый красный свитер, а волосы заплетены в короткие косички, которые торчали в разные стороны. Эффект был достигнут с помощью вплетенных в косички проволочек. К тому же Юлька была загримирована – глазки слегка подведены, а на носу и щеках щедро рассыпаны веснушки. Прообразом, как нетрудно догадаться, служила Пеппи Длинный чулок.
За ними следовал Геннадий в черном костюме и при галстуке, скорее походивший на охранника, чем на администратора.
Они зашли в лифт и поехали вниз, на минус третий. Все немного волновались. Все-таки это было первое свидание самодержца с народом, не считая того неудачного собрания.
Минус третий, на первый взгляд, нисколько не изменился, разве что запах стал немного иным, чуть более сладким и пряным. На прибывшую комиссию никто особого внимания не обратил, и она двинулась вверх по направлению к «Приюту домочадца», пока не дошла до первой неожиданности.
Это было не что иное, как бывший магазин «Гелиос» и однокомнатный бокс Пирошникова. Ни того, ни другого не было в наличии, точнее, там находились другие люди.
Как видно, они были предупреждены о визите, потому что двери в квартиры были приоткрыты и рядом с ними для надежности дежурили новые хозяева.
Это были две русские семьи, беженцы из Махачкалы. Одна с двумя детьми, а другая с тремя. Во второй семье брак был смешанный, мать трех мальчишек была дагестанкой, а отец украинцем.
Обе женщины приглашали зайти в комнату, где был накрыт стол, а на столе стояли пироги и бутылки.
– Хорошо подготовились, – заметил Пирошников.
– Стараемся, – ответил Геннадий.
Юлька въехала в комнату, от пирогов отказалась, но вынула из сумочки записную книжку и приготовилась писать.
– Жалобы есть? – спросила она.
Женщины испуганно замотали головами. Все пятеро детей повторили их движение.
– Вы не должны бояться. Администрация за жалобы не наказывает, – объяснила Юлька солидно.
Она намеревалась также произвести перепись, но Геннадий сказал, что это лишнее. Все данные жильцов зафиксированы в домовой книге.
– Сколько платите за квартиры? – поинтересовался Пирошников.
– Ничего не платим. Хозяйка сказала, что полгода можно не платить. Пока не обживемся.
– А кто хозяйка? – спросил Пирошников.
Геннадий удивленно посмотрел на шефа: будто не знает.
Женщины засуетились.
– Сейчас, сейчас…
Дагестанка нашла какие-то бумажки, по всей видимости, это был договор аренды, и прочитала по складам:
– Пи-рош-ни-ко-ва… Серафима Степановна.
Пирошников только головой покрутил.
– Ну, дает…
– А чего делать-то было? Вам она не велела говорить, а договор-то на эту площадь на вас оформлен… Ну, подписалась как жена… – принялся вполголоса торопливо объяснять Геннадий. – А что, нельзя было? – испуганно закончил он.
– Ладно, после разберемся… А где же ваши мужья? – снова обратился он к женщинам.
– Работают. Здесь же, повыше.
– На втором этаже они работают, – сказал Геннадий. – Мы их еще увидим.
– Может, выпьете по рюмочке? – робко спросила русская хозяйка.
– Мы на работе! – строго сказала Юлька.
Комиссия покинула бывшие владения Пирошникова и направилась дальше. Пирошников успел, правда, постучать в дверь к Дине, откуда выглянуло совсем другое, но несомненно армянское женское лицо, которое объяснило, что Дина Рубеновна ее тетка и позволила ей здесь жить. Сама же уехала неизвестно куда.
– Нам известно, – тихо проговорил Геннадий на ухо Пирошникову.
Дальнейшее продвижение по коридору практически не явило неожиданностей, кроме двух-трех случаев, когда на месте бывших домочадцев жили их родственники, а сами домочадцы переместились на третий или четвертый этажи этого же здания. То есть, просто улучшили жилплощадь.
Остальные жили там же, где и прежде. Что они сделали со своими сертификатами, пока оставалось неясным.
Наконец комиссия достигла лаборатории аспиранта Браткевича. Пирошников постучал.
– Входите! – раздался голос Максима.
Пирошников распахнул дверь, и комиссия застыла на пороге, пораженная невиданной картиной.
Аспирант с пультом в руках стоял у раскрытой двери в следующую пустую комнату с кроватью, и сквозь проем этой двери было видно парящего в воздухе юношу Августа со взором вовсе не горящим, а просветленно-задумчивым.
Максим оглянулся на гостей и жестом пригласил их: входите смелей!
И тогда Юлька, нажав на свои колеса, бодро въехала в лабораторию и, никого не спрашивая, прямиком вкатилась в комнату, где летал Август. Там она по инерции продолжила движение, не в силах остановиться, ибо для остановки требовалась сила трения, а она, как известно, исчезает, если нет тяжести. В результате коляска Юльки ударилась о железную, привинченную к полу кровать, а Юлька вылетела из нее головою вперед и совершила в воздухе сальто…
– Ах! – вырвалось у всех разом.
…Но не упала, а продолжала полет, совершая кульбиты, пока Август не схватил ее за руку, и они вместе кое-как остановили вращение и стали парить под потолком с совершенно счастливыми лицами.
– Хорош. Хватит, – наконец скомандовал Пирошников. – Опускай их. Майна!
Максим нажал кнопку, и летунов плавно притянуло к полу. Август подкатил коляску и, подняв Юльку, усадил и пристегнул.
Вид у Юльки был совершенно ошалелый. Она никак не могла придти в себя.
– Еще хочу… Всегда… – шептала она.
– Успеем, – твердо сказал Пирошников. – Когда эффект возобновился? – спросил он Максима.
– Сегодня утром. Как Август пришел… И вы пришли тоже, – поспешно добавил он.
– Тоже, да… Тоже… Мы тоже пахали, – сказал Пирошников. – Что ж, поздравляю… Август, нам надо встретиться, запиши телефон, договоримся… Надо решать с Плывуном.
Август с готовностью вытащил свой мобильник, кивнул.
– Да, сэнсей. Позвоню обязательно.
Пирошников повернулся и зашагал по коридору. Геннадий догнал его и тихо сообщил, что в «Приюте домочадца» дожидается Подземная Рада.
– Зачем? – спросил Пирошников.
– Хотят поговорить.
– Не о чем мне пока говорить. Дом посмотрю, тогда и поговорим…
На минус втором этаже, как выяснилось, было общежитие гастарбайтеров. Здесь жили, в основном, мужчины – таджики и узбеки, работавшие в доме или окрестностях на всякого рода физических работах: дворниками, подсобниками, мусорщиками, мойщиками машин. Сейчас большинство тоже было на работе, кто-то отсыпался, в одной из комнат шестеро узбеков, сгрудившись вокруг огромного медного казана, ели руками плов.
Увидев комиссию, они радушно замахали руками с жирными пальцами, галдя что-то по-своему и приглашая присоединиться.
– Ложки и вилки! Нужно есть ложками и вилками! – пыталась втолковать им Юлька.
Они кивали, смеялись.
– По-русски никто почти не говорит, – посетовал Геннадий.
– Договор с нами заключили? – спросил Пирошников.
– Нет. Субаренда, – сказал Геннадий.
– А кто владелец?
– Гусарский, помните? Директор филиала банка…
– Как же, как же… – сказал Пирошников.
Этажом выше тоже была гостиница, принадлежащая Гусарскому, только рангом повыше. Здесь проживали продавцы продуктовых и вещевых рынков, в основном, азербайджанцы, а также южные граждане России без определенных занятиий и безработные.
На обоих минусовых этажах был довольно омерзительный запах пота и нестиранной затхлой одежды.
Комиссия поспешила в лифт и оказалась в вестибюле первого этажа, где еще недавно жил нынешний хозяин дома господин Пирошников.
Он оглядел вестибюль и, заметив в будке вахтера Ларису Павловну, приподнял котелок и поклонился ей.
Вахтерша изобразила на лице благодарную улыбку и тоже отвесила поклон, прижав руку к груди.
Пирошников заметил какое-то шевеление в темном углу под лестницей, где недавно они обитали с Серафимой и где теперь остался лишь туалет с душем и умывальником. Подойдя ближе, он увидел некое подобие шатра или чума, сооруженного из старых одеял и ломаных стульев. Вход был занавешен махровым синим полотенцем. Пирошников осторожно постучал по торчащей из-под одеяла ножке стула, и из норы, отодвинув полотенце, высунулась женская голова, довольно привлекательная.
– Здравствуйте. Вы кто? – спросил Пирошников.
– Гуль, – сказала она.
– Это Гуля, – сказал Геннадий. – Она тут пока живет с детьми…
– У нее есть дети? – удивился Пирошников.
– Трое! – отозвалась со своего места Лариса Павловна. – Мал-мала меньше.
– Но это же… черт знает что! – возмутился Пирошников. – Почему ей не дали квартиру?

Гуля испуганно переводила взгляд с одного на другого, стараясь понять, о чем речь.
– Да нет у нее денег, – объяснил Геннадий. – Ей продукты еще приносят сородичи… А денег нет.
– Вот что, – повернулся к нему Пирошников. – Вызови двух своих парней, пускай перевезут Гулю с детьми на пятый и сдадут Серафиме. Я ей сейчас позвоню.
Геннадий молча кивнул и принялся набирать номер на мобильном телефоне.
Пирошников сделал то же самое и передал Серафиме, чтобы она приняла и разместила семью с тремя детьми.
– Мы сейчас тоже приедем, – добавил он.
Серафима не задала ни одного вопроса.
Через минуту появились два крепких охранника, однако Гуль стоило большого труда объяснить, чего от нее хотят. Она плакала и прикрывала своим телом вход в шатер, но потом наконец поняла и извлекла из норы детей. Это были две девочки трех и пяти лет и годовалый мальчишка. Вместе с охранниками и нищенским скарбом семья была препровождена в лифт.
– Благородный поступок… – прокомментировала Лариса Павловна.
Пирошников посмотрел на свою команду.
– Хорошего понемножку, – сказал он. – Закончим завтра.
22
Уже улегшись в постель вечером, Пирошников все рассказывал Серафиме о том, что он увидел в доме. Она терпеливо слушала, хотя знала и видела гораздо больше чем он, занимаясь здешними делами уже более месяца.
– Понимаешь, это уже совсем другой дом! – горячо говорил он. – Здесь другие люди и другие порядки.
– Ты даже не представляешь, насколько они другие, – улыбнулась она.
– Да, но что-то с этим надо делать!
– Но разве не ты сам устроил эти порядки?
– Отнюдь. Я хотел как лучше…
– А вышло, как всегда.
– Я дал людям возможность лучше жить и зарабатывать.
– Вот они и заработали. Продали свои бумажки. Довольно дорого, надо сказать.
– Но ты же этого не сделала.
– Во-первых, это были твои бумажки. А главное, у меня были другие планы.
– Какие?
– Ну ты же не дошел до нашего этажа. Вот придешь – и покажу.
Пирошников не смог признаться Серафиме в самом главном: в утрате мистической связи с домом, с управляющим процессами Плывуном, с полем тяготения, в конце концов. Ему было стыдно. Он с досадой вспоминал силлаботонические практики, все эти прыжки и ужимки доморощенного демиурга, шарлатана по большому счету, потому что при всей связи с Плывуном он ничего толком не мог с ним поделать, лишь надувал щеки, прикрывая блюзами и стихами собственное бессилие. А теперь даже эти фокусы стали недоступны. Дом отвернулся от него, холодная каменная громада повернулась лицом к другому.
Вот! Именно это и задело больше всего. Этот птенец, юноша бледный, лопочущий «сэнсей, сэнсей», вдруг оказался способен влиять. Не мог он этому научиться у Подземной Рады! Тогда у кого? Приходилось признать, что ни у кого он не учился, а просто обладал изначально таким же талантом, как и сам Пирошников. И все равно было обидно.
Однако следовало довести до конца осмотр дома. Прекращение полномочий демиурга не отменяло прав и обязанностей хозяина.
На этот раз он не взял с собой никого. Геннадию велел дожидаться его на втором этаже, до которого вчера так и не добрались, а Юльку оставил дома, дав ей задание написать стишок про «наш дом», основываясь на вчерашней инспекции.
Сам же с Серафимой спустился по лестнице на пятый этаж, который, согласно сертификату и договору с бизнес-центром, принадлежал господину Пирошникову. Собственно, это был договор с самим собой. Таким образом, Пирошникову принадлежала гораздо большая площадь в расчете на душу, чем другим домочадцам. Он успокаивал совесть тем, что свой этаж отдаст под общественные и культурные нужды.
С первых же шагов он понял, что Серафима лишь отчасти начала превращать этаж в «царство книги», у нее имелись и свои предпочтения.
Первым делом разрешился мучавший его вопрос – куда делся «Гелиос»? Он был тут как тут, более того, в салоне он обнаружил и Софью Михайловну, и старика Залмана. Будто ничего не изменилось, кроме площади, которая значительно увеличилась.
Посетителей же стало еще меньше, потому что жильцы снизу сюда вообще не заглядывали. Да и что было делать выходцам из Средней Азии и Кавказа в магазине русской поэзии?
Гуля с детьми заняла двухкомнатную квартиру с туалетом и ванной, где стояла самая простая, но новая мебель – четыре кровати, два шкафа, стол и стулья. Причем мебель была детская. Пирошников насчитал еще семь таких же квартирок по четыре койки в каждой, оборудованных тою же мебелью! А в отдельной большой комнате он увидел играющих детей. Их было трое, один из них китайчонок, и было им лет по пять.
– Что это? Откуда они? – спросил Пирошников.
– Первые воспитанники нашего детского сада. Двое с минус первого. Один с улицы Блохина, – ответила она.
– Хм… По-моему, детские сады бывают только государственными? Нет?
– Нет, бывают частные детские сады, – ответила она с виду небрежно, но он заметил ее волнение. – Или семейные…
– Ах! Ты хочешь выйти замуж! Скрутить меня узами! – нарочито грозно вскричал Пирошников, обнимая Серафиму. – Хорошо, мне нетрудно, но бегать и оформлять все это мне западло. Да мне и не разрешат, я суперстар.
– Да, могут не разрешить, – опечалилась она.
– Ничего, оформим как-нибудь, – успокоил он ее.
– Сначала нужно найти средства. Зайди в бухгалтерию, они тебя обрадуют.
Пирошников нахмурился. Он и без визита в бухгалтерию знал, что бизнес-центр на грани банкротства. Платежи от арендаторов поступали нерегулярно, других источников не наблюдалось.
Поэтому он отложил визит в бухгалтерию до лучших времен и спустился на четвертый этаж.
Здесь был вещевой рынок, который исчерпывающе описывается русским словом «шмотки». Комнаты и квартиры были превращены в так называемые «бутики», а попросту лавки, где на стенах висели всяческие модные тряпки якобы известных фирм, но все они были подделками, изготовленными в Турции и Китае.
И продавцы здесь тоже были родом издалека, они громко переговаривались на непонятных языках, поскольку покупателей было немного, да и при покупателях они нисколько не церемонились. Пирошникова почему-то задевала эта чужая, царапающая ухо речь, примерно так же, как его задевала громкая русская речь где-нибудь в Стокгольме или в Риме.
Он купил Юльке собачку, которая двигалась, если ей нажимали на хвост, успев подумать, что здесь использован довольно универсальный принцип.
Следующий, третий этаж был пустынен, там шла отделка и роспись стен, которой занимались два художника, как ни странно, местные.
– Что здесь будет? – спросил Пирошников.
– Кинотеатр на четыре зала, – ответил художник.
– А кто хозяин?
– Геннадий Федорович. Он этажом ниже сейчас.
– Та-ак… – сказал Пирошников.
Он прошелся по этажу.
В небольших залах человек на 200 уже стояли кресла и висели экраны. Как видно, Геннадий вложил в реконструкцию немалую сумму.
Пирошников поспешил вниз и нашел Геннадия в темном зале с мерцающими под потолком звездами и горящей при входе надписью: «Ночной клуб «Космос»».
– Оригинальное название… – пробормотал он.
Геннадий, который о чем-то разговаривал с человеком за пультом на невысокой сцене, заметил Пирошникова и подошел.
– Здравствуйте, Геннадий Федорович, – приветствовал его Пирошников.
– Здравствуйте, – Геннадий насторожился.
– Где деньги взял на все это? – бесцеремонно осведомился Пирошников, обводя рукой зал.
– Кредит, – пожал плечами Геннадий. – У того же Гусарского.
– Смелый ты человек.
– Кто не рискует, тот не пьет шампанского.
Они прошлись по залу. В центре был устроен круглый танцпол, окаймленный со всех сторон полосой из кожаных плоских гимнастических матов шириною метра два. Они были белого цвета, а деревянный танцпол – черного. Это походило на гигантскую мишень.
Естественно, она при этом была слегка наклонной, как и весь зал.
Но главное было не в этом. Танцпол диаметром метров двенадцать был окаймлен шнуром, в котором Пирошников узнал оптоволокно петли гравитации!
– Это еще зачем? – Пирошников указал на шнур.
Геннадий тяжело вздохнул и махнул рукой.
– Ладно. Хотел позже, но раз уж вы сами заметили… Расскажу. Присядем, – он указал на кресла, стоящие у стен зала.
Они уселись, и Геннадий изложил свой бизнес-план раскрутки ночного клуба. Он целиком и полностью основывался на странностях дома, в котором находился клуб. То, что являлось недостатком, Геннадий решил превратить в эксклюзивное достоинство заведения. А когда он узнал о петле гравитации, план созрел окончательно.
И он сконструировал танцпол с управляемым тяготением. Невесомость создавалась в воображаемом цилиндре от танцпола до потолка (чтобы она не проникала на следующий этаж, в потолок клуба была вмонтирована такая же петля ассиметричного действия), а мягкие кожаные маты по краям предохраняли танцоров, нечаянно вылетевших за пределы цилиндра, от травм. В этом случае они сваливались на маты.
Такая дискотека, по замыслу Геннадия, должна была обеспечить полный ежедневный аншлаг при достаточно высокой цене билета.
Пирошников представил себе толпу летающих танцоров, которые обрушиваются по краям на маты, как спелые яболоки, и оценил замысел Геннадия.
– …Но эта невесомость без вас не работает, – заключил он. – Поэтому я хочу предложить вам постоянный контракт за использование вашей психической энергии. И чтобы вы по вечерам дома сидели, в зоне Плывуна.
Пирошников покачал головой.
– Не хитри. Ты прекрасно знаешь, что эффект уже от меня не зависит. Ты вчера видел, от кого он зависит. И наверняка сделал ему предложение…
– Но Август отказался! – поспешно воскликнул Геннадий. – Он сказал, что авторские права у вас!
– Это, конечно, трогательно, – улыбнулся Пирошников. – Но никакого авторского права ни на Плывун, ни на силу тяготения у меня нет и быть не может. Так что танцуйте в воздухе вместе с Августом.
– Нет, без вас не получится. Все равно он ваш ученик. Вы же не будете спорить? Иначе зачем он вас сэнсеем зовет? – не сдавался Геннадий. – Вы – художественный руководитель. Вы ставите номер, понимаете? Пульт и я могу нажимать. А что говорить? Петь? Опять эти «моо-кузэй»?
– Нет-нет, только не это! – поморщился Пирошников.
– Ну вот… – Геннадий почувствовал, что Пирошников дрогнул. – И заработок какой-никакой. Серафима Степановна там у вас уже нагородила на двести тысяч…
– Да уж…
– Ну вот. Август согласен только при вашем руководстве. Открытие через неделю. Запускать рекламу?
– Погоди. Какой быстрый. Мне надо поговорить с Августом… А что за контингент у тебя тут будет?
– Ну, молодежь, сами понимаете…
– Гастарбайтеры будут?
– Куда от них денешься…
– А милиция? Безопасность?
– Не волнуйтесь, Владимир Николаевич. Все предусмотрено, – успокоил его Геннадий.
Пирошников хотел было отправиться домой, на крышу, но Геннадий напомнил ему, что его со вчерашнего дня дожидается Подземная Рада.
– Я им обещал, – сказал он.
– Ох, как они меня достали! – вздохнул Пирошников. – Ну, пошли.
На этот раз с Пирошниковым собрался потолковать лишь президиум Рады в составе трех человек – Данилюка, Выкозикова и Даниила Сатрапа. Эта троица, или, вернее, тройка, как всегда, ожидала Пирошникова в «Приюте домочадца» за пивом.
Пирошников с Геннадием вошли и поздоровались со всеми за руку. Казалось, прежняя вражда была забыта, Рада выглядела благодушно и даже расслабленно.
Уселись напротив друг друга – тройка с одной стороны, руководство с другой. Геннадий дал знак, и барменша Клавдия принесла еще две полные кружки пива.
– Ну шо, громадяне… – начал Данилюк. – Теперь ви бачите, що видбуваеться. Виддали будинок нехристям.
– Говорите по-русски, пожалуйста, – попросил Пирошников.
– «Черных» пустили, говорю. А свои в подвале остались, – перевел Данилюк.
– Кто же вам мешал переехать повыше? – спросил Пирошников.
– Повыше тот, у кого гроши, – Данилюк выразительно посмотрел на Геннадия.
– Работать надо… – отвечал тот.
Короче говоря, выяснилось путем разного рода околичностей, что Рада, в общем, не протестовала бы против мигрантов и коммерциализации дома, если бы имела некую компенсацию… «Делиться надо» – так можно было бы предельно упростить их требования.
Внезапно Пирошников заглянул под стол, осмотрел пол, прошелся взглядом по стене, будто ища что-то внизу.
– Потеряли чего? Чи шо? – спросил Данилюк.
– Да… Тут был такой шнур… провод… Не пойму, куда он делся. Сняли его, что ли. Надо сказать, чтобы вернули… – бормотал Пирошников.
Президиум Рады окаменел, вспомнив свои полеты под потолком в окружении пивных сфер.
– Приказать, чтобы восстановили? – подхватил Геннадий, поняв розыгрыш Пирошникова.
– Ну, мы пойдем, пожалуй, – испуганно сказал Выкозиков.
– До побачення, – Данилюк поднялся.
Даниил Сатрап тоже встал, с ненавистью взглянув на Пирошникова.
– Да-да, всего хорошего, – Пирошников поднялся, подчеркнуто радушно обменялся со всеми рукопожатием. – Заходите!
Подземная Рада покинула помещение.
– Ловко вы их… – сказал Геннадий.
– Да ну их к черту! Ничего сами не делают, а претензий выше крыши.
– Ну так вы согласны выступить на открытии? – продолжал искушать его Геннадий. – Вам же деньги нужны, я знаю. Магазин на нуле, а тут еще Гуля с малышами…
Он был прав. Денег перестало хватать давно; сначала Пирошников остался с одной пенсией, лишившись доходов магазина, а потом безработной стала Серафима.
– Но Август… – опять начал он.
– Что Август? Август согласен при условии, что вы согласитесь. Он будет ди-джеем, а вы постановщиком. Я вам аванс выдам немедленно!
Слово «аванс» возымело действие, и они отправились в офис Геннадия.
23
Конторка Геннадия занимала небольшую комнату в первом этаже, у северного парадного, которое находилось в приподнятом крыле здания. Как ни странно, Пирошников посетил ее впервые, поскольку дальше вестибюля на этом этаже никогда не бывал. Даже во время инспекции первый этаж был пропущен, Пирошников про него попросту забыл.
Теперь же он с удивлением обнаружил, что здесь расположился обыкновенный рынок, где продавали различные продукты: сметану и творог, кур, поросят, овощи и фрукты. Торговцами были те же южные лица, что давно уже заполонили все рынки Питера, так что Пирошников не удивился.
По тому, как подобострастно кланялись Геннадию усатые торговцы, Пирошников понял, что он здесь главный – хозяин, распределяющий хлебные места.
В офисе с письменным столом и раскладным диваном Геннадий открыл сейф и извлек оттуда запечатанную пачку тысячных купюр.
– Вот. Сто тысяч. Вас устроит?
– Много как-то, – сказал Пирошников. – А где расписываться?
Геннадий с сожалением взглянул на него.
– Владимир Николаевич… Ну вы как ребенок, ей-богу!.. Значит, жду вас перед выступлением за полтора часа. Настроим аппаратуру, договоримся обо всем. Начало в восемь вечера.
Пирошников вышел из конторки и направился к торговым рядам. Приметливые торговцы, запомнившие пожилого джентльмена, которого сопровождал хозяин, наперебой предлагали товар и скидки. Как вдруг взгляд Пирошникова уперся в дверь, украшенную восточным орнаментом, на которой он увидел хорошо знакомую надпись:
«ДЕМЕТРА.
Эзотерические практики
Приворот, сглаз, полтергейст».
«Эге, вот куда сбежала Дина. На рынок… И полтергейст с собою прихватила… – подумал он. – Но мы не жадные».
Пирошников покинул рынок с двумя сумками фруктов – хурмой, виноградом, яблоками, предвкушая радость Юльки и Серафимы.
Пройдя по рынку все северное крыло, он очутился в вестибюле главного парадного и направился к лифту. В вестибюле было шумно, на месте бывшей каморки Пирошникова, освобожденной Гулей, возник на этот раз молодежный клуб. Человек двенадцать молодых южан, громко разговаривая на своем языке, что-то обсуждали, смеялись удачным шуткам, при этом молодецки сшибаясь ладонями, но складывалось впечатление, что они гарцуют на публику, как бы показывая самим себе и случайным зрителям какие они крутые, свободные и независимые.
Пирошников знал, что они могут делать это часами, никуда не спеша и ничем не озабочиваясь.
И опять чувство, что он находится не у себя дома, кольнуло Пирошникова. «Но я же не могу заставить их разговаривать по-русски? Разговаривать тихо? – уговаривал он себя. – Вообще бы лучше помолчали!»
Он понимал, что эту неприязнь можно числить по разряду ксенофобии, но предпочитал думать иначе, потому что неприятны ему эти молодые люди были именно здесь, в его доме, на фоне же гор он вполне готов был любоваться их джигитовкой. Но здесь, в наших снежных просторах, он предпочитал, чтобы они вели себя менее ярко.
– И как часто они здесь колбасятся? – спросил он Ларису Павловну.
– Да ежедневно, поди. Никто ж не работает.
– Надо участкового предупредить, – сказал Пирошников.
– Вы знаете, как его фамилия? Участкового?
– Нет, а что?
– Его фамилия Асланбеков.
Молодые люди прислушивались к этому разговору, но понимал его, по-видимому, только один из них, что был постарше, – высокий брюнет с хищным орлиным носом. Остальные обратили на него взоры, лишь только разговор закончился, и, выслушав его перевод, дружно заржали.
Он вернулся домой в скверном настроении и даже радость Юльки, набросившейся на спелую хурму, не принесла облегчения. Он спрашивал себя – где он ошибся, как получилось, что дом, отданный им домочадцам от чистого сердца, так быстро превратился в чужую вотчину.
Да тут еще позвонил аспирант Браткевич и сообщил, что в Плывуне продолжаются «воспалительные процессы», как он выразился, то есть повышается температура и скорость смещения.
– Попытайтесь что-нибудь сделать с Августом, – посоветовал он.
Но что? Свои опыты Пирошников уже не вспоминал, они не выстраивались в стройную картину. То есть, эффект всегда был, но с плюсом или минусом – предсказать было нельзя. Кажется, у Августа получилось лучше…
На следующий день он вызвал юношу, и они удалились в кабинет решать творческие вопросы.
Выяснилось, что Август не имеет никакого понятия об истории дома и Плывуне и считает происходящие подвижки обыкновенным полтергейстом. Почему полтергейст возникает при пении его песен – он не задумывался.

– Ради Бога, называй это полтергейстом, хотя слово мне не нравится. Мы должны докопаться до сути явления. Отчего оно происходит? – спросил Пирошников.
Август хлопал своими длинными ресницами. Он не знал, отчего происходит полтергейст.
– Вот смотри. Подвижки случаются при пении нами песен и чтении стихов…
Слово «нами» далось Пирошникову нелегко, поскольку оно уже было недействительно и относилось к недавнему прошлому.
– На что же он реагирует? На фонетику или семантику?
Август приуныл. Он вряд ли догадывался о том, что в его песнях есть фонетика и семантика. Пирошников понял, что переборщил, и понизил уровень духовности.
– Представь себе, что там лежит медведь, огромный земляной медведь, метров пятьсот длины, который понимает русский язык!
– Тогда уж крот, сэнсей, – возразил Август.
– Хорошо, крот… И этот крот как-то реагирует на смысл услышанного. Начинает ворочаться, может, хочет аплодировать!
– Не… Он одной лапой нас опрокинет, – сказал Август.
– Ну не аплодирует, ладно. Просто кивает головой в знак согласия. И дом подпрыгивает, смещается… – Пирошников вдохновился этой картиной.
– А откуда крот знает русский язык?
– Ну, он же двести лет здесь лежит! Это наш, русский крот! Нет, все же медведь лучше… Русский медведь. Устойчивое сочетание… А когда ему не нравится, он мотает головой, вот так…
Пирошников помотал головой, и Август помотал за ним тоже. Вероятно, крот или медведь слушал их с огромным удовольствием, но не двигался. У него была температура.
– И дом едет вниз. Понял?
Август радостно кивнул.
– Вот ты тогда Рубцова читал. Хорошие стихи, кстати. И медведю тоже понравились. В результате произошли позитивные изменения.
– Я еще знаю! – обрадовался Август.
– Вот-вот… Готовь программу. Будешь приходить, показывать. А я до выступления проведу артподготовку.
Пирошников имел в виду, что за несколько дней, оставшихся до выступления, он подготовит слушателей к восприятию стихов. Он развивал перед Серафимой теорию, согласно которой русские стихи как квинтэссенция языка должны благотворно влиять на слушателей, а крот, то бишь медведь, тоже может их оценить.
Он решил использовать радиосеть системы охранной сигнализации, а в лаборатории Браткевича устроить временную радиостудию.
Оставалось выбрать диктора.
Пирошников подумал, что читать самому не стоит. Минус третий не воспримет стихов в его исполнении, а мигрантам все равно, кто читает. Поймут они мало, пусть хоть послушают звуки русской речи.
Выбор пал на старика Залмана, любителя поэзии, обладавшего приятным баритоном, не испорченным еще старческими хрипами. Пирошников спустился в магазин и застал там пожилую пару за прослушиванием стихов в исполнении авторов с виниловой пластинки. Как выяснилось, и пластинку, и вертушку, которая проигрывала диск, принес сюда старый подводник.
Увидев Пирошникова, Залман остановил пластинку.
– Извините, Семен Израилевич, я к вам по делу. И оно как раз касается этого предмета, – несколько витиевато выразился Пирошников, указывая на пластинку.
– Пластинки? – не понял Залман.
– Нет, стихов. Я прошу вас поработать немного чтецом по трансляции для нашего дома…
– Это еще зачем? – удивился Залман.
– В целях военно-патриотического воспитания молодежи,
Пирошников намеренно употребил это диковинное ныне словосочетание, понимая, что Залману оно будет понятно больше других.
Ни слова про Плывун, медведя, крота.
Залман задумался.
– Все это прекрасно, – наконец сказал он. – Но не будет ли это неправильно истолковано?
– Что вы имеете в виду?
– Видите ли, я еврей… – скорбно проговорил Залман.
– Семен Израилевич, на мой взгляд, вы боевой русский офицер. И не будем больше об этом.
Они провели вместе два часа, подбирая репертуар и делая закладки в книгах. Залман воодушевился, он открывал сборники, вспоминал старые стихи. Софья Михайловна ему помогала, приговаривая:
– Какие были поэты! И что сейчас?
Пирошников покинул их, успокоившись относительно радиопрограммы. Предстояло предупредить Браткевича. Но тут случилось непредвиденное.
Пирошников к вечеру ждал Августа, который обещал показать несколько песен для выступления в ночном клубе. Но прошло полчаса с момента назначенной встречи, а Августа все не было.
Пирошников позвонил ему по мобильному. Никто не ответил.
Наконец раздался звонок в дверь. Пирошников открыл и увидел на пороге Августа. Вид его был ужасен – левый глаз заплыл и превратился в огромный синяк, одежда была разорвана, из носа капала кровь, которую он тщетно пытался остановить носовым платком. В руке он держал разбитую вдребезги гитару.
– Боже мой, что случилось!? – воскликнул Пирошников, помогая юноше войти.
Выбежала из кухни Серафима, они вдвоем уложили Августа на диван, вытерли лицо влажным полотенцем, дали воды. Юлька подъехала к нему с гребнем и принялась расчесывать его длинные спутавшиеся волосы.
Август наконец слабо улыбнулся.
– Кто ж тебя так? – спросила Серафима.
– Эти ваши… джигиты, – ответил он.
Из дальнейших объяснений Августа вырисовалась следующая картина.
Войдя в вестибюль главного входа, он увидел на площадке перед лифтом девушку, которую окружили кавказцы, не давая ей вызвать лифт. Было их пять человек. Она отбивалась от них, а они тянули ее туда, под лестницу, где наблюдали за этой сценой, что-то выкрикивая и гогоча, еще человек восемь-десять из той же компании.
Девушка увидела Августа и бросилась к нему, умоляя о помощи, но кавказцы окружили ее и не выпускали.
– Эй, чего пристали? – крикнул Август. – Отпустите!
– Иди, иди, руски, не твоя дела! – отвечали ему.
Он попытался прорваться к ней сквозь кольцо, но получил удар в бок, на который успел ответить, но тут же все пятеро, оставив девушку, набросились на него. Август выдержал на ногах еще три удара, пытаясь ответить, но потом упал и его продолжали бить ногами. Те, что стояли под лестницей, прибежали тоже. Это длилось минуты три, после чего кавказцы исчезли. Девушка успела убежать.
– А вахтер? Что вахтер делал? Кто там в будке сидел? – вскричал Пирошников.
– Старуха какая-то… Она потом засвистела, когда они стали разбегаться.
– Лариса Павловна, понятно…
Август отлеживался в вестибюле минут пятнадцать, потом все же поднялся на крышу к Пирошникову. Лариса Павловна предлагала вызвать неотложку и милицию, но он отказался.
– Знаю я эту милицию, – сказал он. – Нет, с хачами надо по-другому разговаривать.
Август остался ночевать на пятом этаже. Серафима постелила ему в детском саду, в пустующей пока палате, покормила и попросила Гулю за ним присматривать. Репетиция так и не состоялась.
Однако Юлька не желала мириться с переселением Августа на пятый этаж.
– Я поеду к нему! – заявила она.
Пришлось уступить. Юлька собрала свои блокноты со стихами и ноутбук, который уже давно фактически перешел к ней в пользование. Сопровождавший ее Пирошников нес Августу свою гитару.
А когда подошла Серафима и привела с собою все семейство Гули, публики оказалось достаточно, чтобы Август согласился спеть.
Он не стал петь свою песню, а снова запел стихи Рубцова про зимнюю звезду полей. Пирошников слушал Августа и смотрел на детей – Юльку и троих узбекских малышей, которые не знали по-русски ни слова. Они были одинаково печальны, а у Юльки слеза блестела в глазах. Пирошников подумал, что Рубцов начал оплакивать Родину, когда никто еще не догадывался о том, что с нею случится. А сейчас уже поздно.
Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою…
Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром…
Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.
Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей…
Засыпая, Пирошников думал о том, как непоправимо быстро пал один из столпов советской идеологии – пролетарский интернационализм, казалось, впитанный всеми национальностями Союза с материнским молоком. Хрестоматийная «Колыбельная» из кинофильма «Цирк», всегда вызывавшая у него слезы, теперь выглядела всего лишь агиткой, бездарной заказной агиткой сытых советских кинематографистов. И Любовь Орлова, и этот кудрявенький негритеночек – он потом вырос и свалил в Америку, на родину предков, где когда-то их линчевали, а теперь живут, терпят…
«Нет, неправда, – возражал он себе. – У нас в школе не было никаких национальностей, хотя мы знали, что Борька Мушин – азербайджанец, Лера Шмуклер – еврейка, а толстая девочка Инна Попандопуло – вообще гречанка. Но это знание никак не влияло на наши отношения. Ни в малейшей степени!»
В школе… Больше, чем полвека назад. Ты еще вспомни Крещение Руси. Окрестили всех, кто под руку попал, – и дело с концом. Правда, вряд ли там были негры…
«И все же крот… – подумал он. – Слепой ленивый крот. Никак не медведь. Мы льстим себе…»
…И снились ему ледяные ромашки, целое поле ромашек, покрытых корочкой льда, как леденцы на палочках. Они качались, ломались и падали, а он шел по этому полю к горящей на черном небе одинокой звезде под перезвон падающих хрустальных венчиков.
24
Пирошников проснулся и обнаружил, что Серафимы рядом нет. Он накинул любимый халат и вышел в гостиную. Дверь в комнату Юльки была приоткрыта, но когда он заглянул туда, то увидел, что девочки тоже там нету. «К Августу сбежали… – догадался он не без досады. – Удивительные существа женщины! Так безошибочно чувствуют талант… А ты уже толст и ленив, как… крот!»
Дался ему этот крот.
Он посмотрел на часы. Было аккурат без трех минут десять. Иными словами, через три минуты должна была начаться первая радиопередача.
И действительно, ровно в десять часов что-то щелкнуло в невидимом репродукторе под потолком, и голос аспиранта Браткевича произнес:
– Доброе утро, дорогие друзья домочадцы и наши гости из разных уголков России и ближнего зарубежья. Предлагаем прослушать литературно-музыкальную композицию на стихи русских поэтов «Вставай, страна огромная!».
– Твою мать!.. – тихо выругался Пирошников. – Думать надо же! Нашли момент!
Он пожалел, что вчера вечером позвонил Браткевичу и рассказал об избиении Августа. Как видно, творческая бригада решила ответить словом.
И действительно, грянули незабываемые аккорды песни «Священная война», но быстро смикшировались, и голос Залмана, явно подражавшего диктору Левитану, начал читать:
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
Снова заиграла музыка, это было вступление к какой-то знакомой песне, но Пирошников пока не мог угадать. Его отвлек сигнал мобильника. Звонил Геннадий.
– Владимир Николаевич, спуститесь в вестибюль, пожалуйста. Срочно, – сказал он голосом, не предвещавшим ничего хорошего.
Ничего не поделаешь, пришлось спускаться вниз. Пока Пирошников ехал в лифте, тоже оборудованном трансляцией, голос Марка Бернеса пел:
Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?
Пошел солдат в глубоком горе
На перекресток двух дорог,
Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок…
Выйдя из лифта, Пирошников увидел в центре вестибюля скопление людей, среди которых сразу бросились в глаза двое в белых халатах. Они склонились над лежащим на полу человеком, в котором Пирошников узнал джигита с хищным орлиным носом, виденного давеча здесь же в компании сородичей.
Он был бледен, глаза закрыты, но дышал часто и шумно. Врачи что-то делали с его головой.
Открылась дверь на улицу и в вестибюль неторопливо, вразвалку вошли три милиционера в зимних куртках и шапках. Один офицер и два сержанта.
А Бернес все пел про солдата, вернувшегося с войны.
От группы, окружавшей джигита и колдующих над ним врачей, отделился Геннадий и сделал два шага к милиционерам. Они начали о чем-то беседовать, как вдруг Геннадий заметил Пирошникова и сделал приглашающий жест: подходите!
Пирошников подошел и сдержанно кивнул ментам.
– Наш хозяин, – представил его Геннадий.
– Документы? – спросил офицер.
Пирошников достал паспорт, который всегда был при нем, и протянул ему.
А Геннадий продолжал излагать ситуацию, которую знал со слов той же вахтерши. С утра группа кавказцев, как всегда, собралась под лестницей, было их человек пять. О чем-то галдели, как выразился Геннадий. Как вдруг в вестибюль ворвалась толпа подростков из близлежащих домов численностью чуть ли не вдвое большей, вооруженных к тому же обрезками труб и арматуры.
Схватка была короткой, по существу, ее не было. Кавказцы бежали, уворачиваясь от ударов, на месте битвы остался лишь их предводитель по имени Тимур, как сказал Геннадий. Он получил-таки сильный удар трубой по голове, но череп остался цел.
– Это они за вчерашнее мстили. За девушку, – объяснил Геннадий.
Песня в репродукторе, между тем, закончилась, и голос Залмана вновь начал читать стихи:
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана;
По капле кровь точилася моя.
Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня – но спал я мертвым сном…
Менты подняли головы, ища источник звука. Наконец до них стал доходить смысл стихотворения.
– Разжигание, вроде, товарищ лейтенант, – доложил сержант неуверенно.
– Точно, разжигание! Кто допустил? – лейтенант уставился на Пирошникова.
– Какое разжигание? Чего разжигание? – забормотал Пирошников, чувствуя, что попался.
– Национальной розни! – хором вскричали сержанты.
Врачи забинтовывали голову Тимуру, а сам он уже пришел в себя и прислушивался к разговору.
– Помилуйте, какой национальной розни! Где там национальная рознь? – взмолился Пирошников.
– Где он у вас лежит? В Дагестане! – отрезал лейтенант.
– Ну?
– Кто его убил? Русские! Дагестанца убили русские! Это вы хотите сказать?
– Да это русский лежит! Русский офицер. Лермонтов лежит! – настаивал Пирошников.
– Спорный вопрос, между прочим, – подал голос Тимур.
– Лермонтова на дуэли убили. Не надо, – находчиво парировал лейтенант.
Неизвестно, чем бы закончился этот литературоведческий спор, если бы не Тимур. Он встал, вежливо поблагодарил врачей и заявил милиции, что претензий к нападавшим не имеет и заявления писать не будет.
– А лежит там не русский, не дагестанец, а табасаран! – объявил он, подняв палец. – Красивый народ, смелый!
И он удалился вниз на минус первый этаж.
Наверняка сам был табасараном.
Как ни странно, это заявление всех устроило. Неизвестный табасаран явно не заслуживал ни протокола, ни разжигания. Пускай себе лежит, решили менты.
Прощаясь, лейтенант тихо сказал Пирошникову:
– Вы бы хачей прижали немного… Вы ж хозяин.
– Разжигаете? – ответил Пирошников невозмутимо.
– Ха! Ха-ха! Вы остряк, оказывается! – покрутил тот головой.
Пирошников вернулся на крышу, когда Бернес допевал «Темную ночь». В воздухе пахло грозой из другой его песни. Где-то мерно застучал метроном. Откуда здесь метроном? Это у Выкозикова. Ах, да.
Пирошников почувствовал, что события последних дней и часов свиваются в стальную пружину, которая сжимается все сильнее. Он уже не понимал, что следует предпринять, чтобы остановить этот бег и нарастающее падение.
Вернувшись, он рухнул в кресло и несколько минут сидел с закрытыми глазами. Дом давил. Пирошников физически чувствовал его тяжесть. Шапка Мономаха… Какая там шапка. Так, шапочка…
Дома по-прежнему никого не было, и Пирошников, вздохнув, отправился на пятый этаж.
Там было непривычно тихо и пусто. Пирошников пошел по коридору, как вдруг сбоку открылась дверь, и оттуда выехала Юлькина коляска, которую толкал сзади Август. Сама Юлька сидела в коляске и обеими руками держала перед собою большой пластиковый поднос со стоящими на нем тарелками. В тарелках было пюре с вареной курицей.
– Ура! Папатя пришел! – завопила Юлька.
В коридор выглянула Серафима, помахала Пирошникову рукой и скрылась. Август поздоровался, обогнал медленно идущего Пирошникова и въехал с коляской в комнату, откуда выглядывала Серафима.
Там была детская столовая. Дети обедали, а Серафима, Гуля и Август с Юлькой их обслуживали. На этот раз детей было больше. К Гулиным детям и первой троице добавились еще четверо, причем один был явный негритенок, такой же кудрявый, как Джим Паттерсон из кинофильма «Цирк», о котором Пирошников вспоминал совсем недавно. Все они дружно ели второе, а наиболее активные уже пили компот.
В слове «компот» есть нечто коммунистическое.
Но Пирошников не успел додумать эту мысль, а остановился в дверях, обозревая картину. Если считать Августа с Юлькой, то детей у него уже была дюжина. Да и Серафима с Гулей тоже в дочери годились по возрасту.
– Дети! Это Папатя! – громко представила его Серафима.
– Папа? – спросил китайчонок.
– Папы у вас есть. А это будет Папатя.
– Мерси, – сказал Пирошников. – Вкусно? – обратился он к детям.
– Да! – дружно заорали они.
…А через два часа, уложив детей спать по своим комнатам и отобедав за теми же детскими столиками, воспитатели собрались в комнате, которую занимал Август. И Август наконец взял в руки гитару, чтобы показать песню, посредством которой он намеревался как-то помочь исправлению вертикали.
Он уселся на своей койке, остальные, включая Гулю, сидели на стульях. Август взял аккорд и объявил:
– Песня про дерево. И запел:
Я жизнь проживу такую, какую смогу.
Когда мое сердце вырвется на бегу,
Когда тишина наступит и упадет звезда,
Вырастет дерево из моего следа.
Вырастет дерево из моего следа…
Я жизнь проживу – дыханье закончит вдох,
Чтоб я, даже мертвый, последний шаг сделать смог,
Чтобы упасть лицом и слышать, как за спиной
Вытягивается дерево тонкое надо мной.
Вытягивается дерево тонкое надо мной…
Я жизнь проживу такую, какую смогу.
Лица не сберечь – сердце свое сберегу,
Корнями сосудов спутанное в клубок,
Чтобы взошло мое семя и деревом стал росток.
Чтобы взошло мое семя и деревом стал росток…
Пирошников почувствовал, как снова к груди подкатывает боль, качается пол, плывут стены… Не может быть, чтобы эта песня вернулась. Это было чудом.
Август закончил. Стало тихо.
– Это твоя песня? – спросил Пирошников.
– Моя только музыка. А стихи в Интернете нашел. Не знаю, чьи…
– Угу, – сказал Пирошников.
Он поднялся и направился к двери. Все смотрели на него. А он вышел в коридор и пошел медленно, почему-то не ощущая наклонного пола, с комком в горле, сжимая зубы, чтобы не разрыдаться.
Это были его стихи, написанные сорок лет назад, еще до приключения слестницей, потом подаренные кому-то, потерянные и забытые.
Он пришел к себе, накапал пятьдесят капель валокордина в рюмку с водой и выпил. Приятная горечь разлилась во рту.
Потом налил в туже рюмку водки и выпил тоже.
Раздался звонок мобильника. Звонил Браткевич.
– Владимир Николаевич, – почему-то тихо и испуганно проговорил он. – Дом стоит прямо. Вертикаль восстановлена.
25
Удивительно было то, что ни один жилец дома, ни один домочадец не уловили момент, когда свершилось «восстановление вертикали», как назвал его аспирант. Скорее, это было все же восстановление горизонтали, ибо вертикаль фиксировали гравитационные приборы Браткевича, горизонталь же легко распознавалась живущими в доме.
Люди выходили в коридоры, прохаживались по ним, расправив плечи, не скособочиваясь, как раньше, чтобы поймать правильное положение тела, а шли прямо, как свободные люди. Спрашивали друг друга, встречаясь:
– Ровно?
И отвечали:
– Ровно!
Собственно, и что еще нужно? Но в том-то и беда, что «ровное», спокойное существование зависело не только от положения стен и полов, но и от того, насколько спокойно домочадцы могут уживаться друг с другом.
Если они взвинчены, им тревожно и даже страшно, то тут любая ровная, как биллиардный стол, поверхность кажется подозрительно, нарочито кривой, и уже на простодушный запрос соседа: «ровно?» – отвечаешь рыком:
– Ни хера не ровно!
Неровно было на душе домочадцев и гостей дома перед открытием ночного клуба «Космос» с заявленным в афишах балом-карнавалом «Танцы под небесами».
Слухи распространялись смутные, недостоверные. То ли «русские будут бить хачей», то ли «Кавказ отомстит за товарища», а тут еще возникло откуда-то и распространилось с путающей стремительностью непонятное слово «табасаран», страшное, как Бармалей.
«Табасараны готовят резню…»
Более продвинутые домочадцы успокаивали обывателей и советовали заглянуть в Википедию, где было написано, что табасараны – мирная народность Кавказа, такая же, как чечены, только их поменьше, но зато эта народность дала миру знаменитую спортсменку Елену Исинбаеву, которая прыгает с шестом.
Табасараны носят кинжалы и прыгают с шестом! Чушь, одним словом.
Но смех смехом, а Пирошников это нарастание тревоги чувствовал кожей. Интересовался у Геннадия, как продаются билеты, кто покупает и какие меры безопасности предпринимает ночной клуб. Геннадий успокаивал, посмеиваясь:
– Не гоните волну, Владимир Николаевич! Все под контролем!
За день до представления билеты были распроданы. Расчетная вместимость клуба составляла одну тысячу человек. Примерно треть этого количества, по оценке Геннадия, была куплена подростками с соседних улиц, остальное – домочадцами и гостями с юга.
Пирошникова волновало соотношение сил. Он вдруг понял, что готовится к представлению, как к битве, и оценивает шансы сторон.
– Черт знает. Думаю, хачей примерно половина будет, – почесал в затылке Геннадий.
– Позови ОМОН, – вздохнув, посоветовал Пирошников.
Накануне выступления выяснилось, во-первых, что на дискотеку собираются все, то есть, Серафима с Юлькой тоже. Попытка Пирошникова отговорить провалилась.
– Сима, это может быть опасно, – понизив голос, доказывал Пирошников.
– Я слышу! Слышу! Ничего опасного! – закричала Юлька.
– Ну, пеняйте на себя!
Хотя, как они могут «пенять на себя»?
Во-вторых, встала проблема наряда. И тут Пирошников вспомнил о синем шелковом халате.
– Маскарад у нас или нет? Надену халат! – оправдывался он.
По правде сказать, намерение это диктовалось не столько его любовью к бытовой клоунаде, сколь детским желанием свести все к игре – и ночной клуб, и домочадцев с табасаранами, и сам этот дом, покоящийся на спине слепого крота по имени Плывун. Слава Богу, этот Плывун никуда не плыл, спал себе спокойно, изредка поворачиваясь во сне и пошевеливая лапой, когда слышал какие-то звуки сверху. Дом от его движений сотрясался, бывает, но не настолько, чтобы это сильно кого-то беспокоило.
Пирошников наивно думал, что вот увидят его нелепый наряд домочады с домохачами, рассмеются, обнимутся и отправятся в бар пить пиво. А пива хватит на всех.
Халат был напялен на трикотажный спортивный костюм красного цвета с надписью на груди «СССР» – иначе было бы холодно. Этот костюм подарила ему когда-то последняя жена, как бы в шутку, с напоминанием о стране, где он родился и жил большую часть жизни. Пирошников его не носил, но сейчас извлек из чемодана и примерил вместе с халатом.
Красные треники высовывались из-под халата минимально, на ноги предполагалось надеть теплые отороченные искусственным мехом ботинки.
– Класс! – восхищенно сказала Юлька. – Только тебе не хватает…
И она быстро укатила на коляске в другую комнату, где принялась что-то мастерить, отгоняя всех, кто интересовался ее занятием.
– Только не снимай мантию! – крикнула она Пирошникову.
Через полчаса она торжественно въехала в гостиную, наряженная в золотую корону, которую сняла с головы и вручила Пирошникову, подъехав к нему.
– Ты же король! – объяснила она.
Пирошников надел корону и отправился к зеркалу. Оттуда на него посмотрел… а что, разве я не король? – осторожно спросил он себя.
Он снял корону, осмотрел ее. Она была сделана из картона и густо покрашена бронзовой краской. Он снова надел ее. Не император, нет. Но всё же король.
Почему сказочные короли бывают, а сказочных императоров он не видел, подумалось ему.
Потому что нет сказочных империй?
И все же чего-то еще не хватало. Образ был неполон. Он вернулся к своим и устроил худсовет. Борода и усы? Держава и скипетр?
Вдруг Августа осенило.
– Я знаю, сэнсей! Я вам сделаю перед выходом!
– Что?
– Увидите!
Оставалась пара часов до начала, Пирошников с Августом принялись обсуждать детали карнавала, главным в котором был конкурс масок, после чего предполагались танцы. А уж в финале Август собирался петь.
Серафима с Юлькой, между тем, удалившись в спальню, прихорашивались перед выходом.
Наконец пришла пора выходить. Пирошников облачился в новое платье короля, надел корону и вопросительно взглянул на Августа.
– Ну? Что ты придумал?
Вопрос прозвучал величественно. Пирошников входил в роль.
Но Август быстро покончил с величественностью. Он принес из ванной тюбик зубной пасты и покрасил ею лицо Пирошникова. Замысел показался Пирошникову настолько дурацким, что он даже не протестовал.
Придворные отступили от короля и оценивающе осмотрели его.
– Класс? – неуверенно спросила Юлька.
– Какое-то кабуки… – произнес Пирошников, осматривая лицо в ручное зеркальце.
– Сейчас! – Серафима сорвалась с места, нашла свою сумку и вытащила из нее косметичку. Оттуда она извлекла короткую черную трубочку и подступила к Пирошникову с намерением заняться его макияжем.
– Делайте что хотите! – обреченно проговорил он.
И Сима нарисовала ему щеточкой для туши трагически изогнутые брови, а под правым глазом поставила черную слезинку.
Пирошникова подвели к большому зеркалу и он осмотрел себя. Из зеркала глядел на него печальный император, потерявший свою империю.
Они вызвали лифт и замерли перед закрытыми створками, исполненные значимостью момента. Сима и Юлька были украшены вплетенными в волосы звездами и серебряными ленточками, а на голове Августа была широкополая кожаная шляпа.
Створки распахнулись.
– С Богом! – проговорил Пирошников, делая шаг внутрь.
Его начала трясти мелкая внутренная дрожь. С этой минуты все происходящее воспринималось им как фантастическое кино, где он, его семья, домочадцы, гастарбайтеры, бойцы ОМОНа и пришлые подростки исполняли каждый свою роль, приближая неизбежный финал.
Второй этаж встретил их проверкой службы безопасности. Пришлось пройти сквозь рамку-металлоискатель, которая запищала, лишь только сквозь нее проехала Юлькина коляска. Тут же у стражей возникло сомнение, что ее вообще можно пускать на бал-маскарад на том основании, что девочка – инвалид.
– Сами вы инвалид мозга! – окрысилась Юлька.
– Мы отвечаем за вашу безопасность, – парировал охранник.
– А я отвечаю здесь за все. Пропустите, – повелел Пирошников, делая царствененый жест рукой.
Охранник пожал плечами, но пропустил. Это было бы фантастикой, но Пирошников успел заметить сбоку в нескольких метрах Геннадия, который следил за ситуацией и дал знак охраннику.
Однако Юлька и Август были потрясены могуществом императора.
Рамок безопасности было четыре. Сквозь них шел сплошной поток. Пирошников успел заметить, как отбирают какие-то предметы у посетителей и бросают в специальные корзины, куда они падали с металлическим лязгом.
Как и полагалось по сценарию, Пирошников и его свита, пройдя гардероб, заняли места у маленькой сцены, рядом с пультом управления, в главном зале с танцполом, где уже ждал их Браткевич. Он принялся давать последние наставления Августу касательно звука и петли гравитации, а Пирошников и дамы свиты расположились в креслах.
В зале было полутемно, лишь светились звездочками точечные светильники в потолке. Пирошников вглядывался в прибывающую публику, стараясь опознать «своих» и «чужих», однако удавалось лишь разделить парней и девушек. Парни были почти все одеты одинаково – кожаные куртки, джинсы, шарфы. И все же какая-то система опознавания была меж ними принята, поскольку они сразу направлялись туда, где собирались «свои».
Напротив сцены, за танцполом группировались, в основном, девушки, одетые ярко и разнообразно, точнее, разнообразно раздетые. Некоторые были с парнями. Слева и справа собирались парни, причем их численность была примерно одинаковой и нарастала тоже синхронно.
Кто из них был кто, Пирошников не мог определить, пока не заметил в одной из групп табасарана Тимура с перевязанной головой. Теперь стало ясно, что справа – кавказцы.
Начала звучать фоновая музыка, но световые эффекты пока не зажигали.
Наконец прибежал Геннадий, крайне озабоченный.
– Похоже, будет жарко, – шепнул он Пирошникову. – Перекрыли канал вброса оружия.
– Не понял…
– В северном торце коридора через форточку спускали ножи с третьего этажа.
– И много?
– Неизвестно. Вы своих предупредите.
Пирошников попытался отправить домой Серафиму с Юлькой, шепнув им об опасности. Но куда там! Мысль о том, что они остаются в темном зале с несколькими сотнями мужчин, многие из которых вооружены, их не остановила. Бал-маскарад должен состояться при любых условиях!
А музыка становилась все громче и ритмичнее. Уже во всех группах молодежи появились танцующие, но никто не рискнул пока выходить на танцпол.
Снова появился Геннадий, на этот раз с микрофоном в руках.
– Начинаем бал-маскарад «Танцы под небесами»! – провозгласил он.
И тут же по мановению руки Августа ударила музыка и зажглись огни, которые мигали, переливались всеми цветами, вспыхивали то там, то тут… Дискотека началась.
Геннадий объявил конкурс масок на звание короля и королевы бала. На танцпол приглашались все, кто был в карнавальных костюмах. Таких нашлось немного – человек двадцать, в основном, это были девушки. Они по очереди выходили в центр танцпола и делали несколько танцевальных движений под музыку. Публика награждала их аплодисментами. Прибор на пульте, за которым следил Браткевич, замерял уровень аплодисментов в децибелах. Самый шумный успех определял короля.
Сначала шли девушки: три феи, одна старуха Шапокляк, одна Леди Гага в туфлях на шпильках в полметра и соответствующей платформе. Уйти без травм ей не удалось, она грохнулась, спускаясь с танцпола.
Были мышки, кошки и пышки.
Наибольший шум вызвала естественно Леди Гага.
Затем последовали юноши. Их было всего пятеро. Один был в костюме «Конкретный Пацан» – во всем черном и кожаном, с лицом, закрытым снизу повязкой до самых глаз. Другой в костюме «Гастарбайтер» – с метлой и в фартуке, еще двое изображали ментов, а может быть, и были этими ментами, находчиво использовав форменную одежду как карнавальный костюм.
Все костюмы сопровождались дружным хохотом всех групп молодежи. И Пирошников еще раз благостно подумал о том, что юмор способен объединять людей независимо от их взглядов.
Последним на танцпол вышел табасаран Тимур с забинтованной головой. У него было зверское выражение лица, в зубах он сжимал леопардовый хвост. Костюм назывался «Раненый Мцыри». При чем тут Мцыри?
Однако аплодисмент он сорвал наибольший.
Геннадий прервал конферанс и оглянулся на Пирошникова.
– Владимир Николаевич, а ваш костюм как называется?
– «Король придурков», – отвечал Пирошников. – Только ты не вздумай…
Но было поздно. Геннадий уже кричал в микрофон:
– Вне конкурса! Костюм «Король придурков»! Наш учредитель! Маг и волшебник! Владимир Пирошников!
Пирошников отчаянно махал руками, показывая, что он не намерен позориться на старости лет. Но Юлька смотрела на него молящими глазами, но Сима делала жесты – давай! давай! но Август уже включил вместо танцев песню, которую Пирошников любил и сам часто пел в застолье:
Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет,
Господи, дай же Ты каждому, чего у него нет:
Мудрому дай голову, трусливому дай коня,
Дай счастливому денег… И не забудь про меня.
Пирошников поднялся и тяжело, грузно пошел к танцполу, прихрамывая по обыкновению. Он встал в центре круга и сдержанно поклонился, прижав руку к груди – старик в синей мантии с белым лицом клоуна, в игрушечной короне, с черной слезинкой на щеке.
Пока Земля еще вертится, Господи, – Твоя власть! —
Дай рвущемуся к власти навластвоваться власть,
Дай передышку щедрому хоть до исхода дня.
Каину дай раскаянье… И не забудь про меня.
Он вдруг почувствовал необыкновенную легкость и сам не заметил, как оторвался от пола и медленно поплыл вверх. Он успел сообразить, что никакого чуда нет, это просто Браткевич выключил тяготение и над танцполом установилась невесомость. И теперь главная его задача – сохранить равновесие в невесомости, ибо кувыркающийся король, хоть и маскарадный, – зрелище жалкое и недостойное.
Я знаю: Ты все умеешь, я верую в мудрость Твою,
Как верит солдат убитый, что он проживает в раю,
Как верит каждое ухо тихим речам Твоим,
Как веруем и мы сами, не ведая, что творим!
Публика замерла, пораженная этим зрелищем. А Пирошников достиг разрисованного потолка, где были изображены звезды, Луна и летающие в космосе спутники и ракеты, дотронулся до Луны и дал знак аспиранту: опускай!
И медленно поплыл вниз, бережно притягиваемый к полу Максимом.
Господи, мой Боже, зеленоглазый мой,
Пока Земля еще вертится, и это ей странно самой,
Пока еще хватает времени и огня,
Дай же Ты всем понемногу… И не забудь про меня.
Рев толпы был невообразим. Все кричали и прыгали – охранники, подростки с Саблинской, дворники-таджики с улицы Блохина, торговцы инжиром с Сытного рынка, их подруги, русские, табасараны, таты, адыгейцы и все сто тридцать остальных народностей Кавказа.
Много их все же, подумал Пирошников, возвращаясь на свое место.
Коронация состоялась. Осталась нация, да простится мне этот каламбур.
Без всякого перехода Август врубил светомузыку, вспыхивающую в такт ударам большого барабана – бум! бум! бум! – и на танцпол с трех сторон устремились танцующие.
Пирошников любил смотреть на танцующую молодежь. Сам он и в молодости так танцевать не умел. В особенности ему нравились девушки, что вполне естественно, – они так ритмично, так зажигательно двигали именно теми частями тела, какими нужно, что он поневоле зажигался и чувствовал себя много моложе, пока не пробовал двинуть больной ногой.
Сейчас же, в благодушном настроении, вызванном успехом его полетов, он даже подумал, что, возможно, все обойдется и его опасения напрасны. Вон как они все смеялись и аплодировали – что наши, что ихние!
Но, видать, не суждено было этому сбыться.
Уже через минуту танцующие потребовали «зажигать».
– Невесомость давай! – раздались крики.
– Хочу в космос! – пронзительный девичий вопль.
– Полетели!
И Браткевич начал ослаблять тяготение. Танцующие замедлили движение, они уже не могли поддерживать ритм, каждый толчок ноги отрывал их от пола на продолжительное время, затем они плавно опускались, чтобы вновь взлететь. Это были «лунные танцы».
И наконец наступила полная невесомость. Танцующие летали в самых разнообразных направлениях, продолжая ритмично двигать руками и ногами, как плавающие лягушки. При этом, конечно, достигали границы зоны невесомости и сваливались на маты. После чего вновь впрыгивали туда и продолжали кувыркаться.
Как вдруг раздался вскрик, Пирошников увидел, как два парня обменялись ударами, причем один вылетел за границу зоны и свалился с высоты метра три. Он прижимал руки к правой стороне живота, между пальцами текла кровь.
И тотчас же, как по команде, с двух сторон зала бегом кинулись на танцпол те, кто ждал этого сигнала. Точно стартующие ракеты, впрыгивали они в невидимый цилиндр над танцполом и врезались в толпу дерущихся, нанося удары направо и налево.
Драка в невесомости, по свидетельству очевидцев, – зрелище, скорее, смешное, чем страшное. Очень трудно рассчитать силу и точность удара, а при отсутствии опоры любой удар напоминает толчок. Если бы не ножи. А они уже мелькали в этой летающей свалке.
Бойцы ОМОНа, словно ожидавшие этой минуты, взмыли в воздух, как эскадрилья истребителей, и принялись там орудовать дубинками. Но эффект был слаб. Даже оглушенные ударами продолжали плавать в воздухе, как боксеры в состоянии «грогги», но на ринг не падали.
– Максим, сделай же что-нибудь! – вскричал Пирошников.
Выпавшие на маты бойцы вскакивали на ноги и продолжали драку уже на полу.
Браткевич резко нажал на кнопку пульта – и летающие драчуны мгновенно притянулись к полу, как железные опилки к полюсу магнита.
Раздался резкий лязгающий звук, и все упавшие и прилипшие к танцполу летуны – и омоновцы, и русские, и табасараны, и все сто тридцать народностей – поняли, что на этот раз произошло нечто страшное.
Потому что стена ночного клуба треснула, с грохотом обвалилась висевшая на этой стене звуковая черная колонка, а трещина в стене продолжала расширяться, сквозь нее уже можно было увидеть кусочек ночного зимнего неба, и струйки снежной метели игриво вились у краев трещины.
Дом трясся, точно в припадке бешенства, от главной трещины вбок, как змеи, поползли другие.
– Срочная эвакуация! Всем покинуть здание! Всем срочно покинуть здание! Помогите раненым! – кричал в микрофон Геннадий.
Он отставил микрофон и обратился к Браткевичу:
– Сколько у нас времени?
– Не знаю. Не больше десяти минут. Выводи всех на улицу!
Тряска почти прекратилась, но чувствовалось, что весь дом пришел в движение, начал медленно оседать и крениться вперед.
Пирошников вскочил, схватил Юлькину коляску за спинку и, толкая ее, устремился к выходу.
Юлька не кричала и не плакала, лишь твердила:
– Папатя, ты только не волнуйся! Только не волнуйся!
Симы рядом не было, Августа тоже. Пирошников добрался до лифта и вызвал его. О лифте все забыли, поток устремился по лестнице вниз. Публика хватала в гардеробе куртки, пальто и плащи – какие попало. Времени уже не было.
Дом трещал по швам.
У турникета была давка. Пирошников повернулся спиной вперед и, таща за собою коляску, вклинился в толпу. Наконец турникет не выдержал натиска и рухнул. Пирошникову удалось вытащить коляску на улицу и он, задыхаясь, отбежал с нею, насколько мог, от своего дома, терпящего катастрофу.
Впрочем, дальше противоположной стороны улицы он все равно убежать не мог. Здесь собирались все, кому удалось выскочить из рушащегося дома. Останавливались и, задрав головы, смотрели, что же будет дальше.
Пирошников искал глазами Симу и Августа. Их не было среди спасшихся. К нему вдруг подбежала мамаша Енакиева с той же девочкой на руках – слава Богу, успели спастись, подумал он, – и заорала в истерике:
– Добились своего! Доигрались! С вашими мокузеями! Ненавижу!
И она сорвала с Пирошникова картонную корону и отбросила ее в сторону.
– Да я… Поверьте… – бормотал Пирошников.
Сейчас его занимали родные, оставшиеся в доме. И сколько времени у них осталось, чтобы выйти.
А дом продолжал движение, которое уже можно было заметить невооруженным глазом. Северная его часть зарывалась в почву все глубже, уже скрылись под землю окна первого этажа, тогда как корма дома, если можно так выразиться, наоборот, приподнималась над землей. Из окон этого первого этажа, которые еще не успели погрузиться, какие-то люди в кепках выбрасывали ящики с мандаринами. Рыночные торговцы спасали свой товар.
А из дверей главного входа продолжали выходить домочадцы и публика с раненными в драке. Но уже поодиночке. Поток иссяк.
Пирошников и Юлька, замерев, смотрели на эту дверь. Сделать ничего было нельзя. Не бросаться же искать их в тонущем огромном здании.
И вот – какое счастье! – из дверей выбежала Сима, а за нею Август. Сима несла в руках теплую одежду и одеяла – Пирошникову и Юльке. В куртку Пирошникова был завернут кот Николаич. На руках у Августа была старшая Гулина дочка, следом Гуля несла другую.
Все они успели уже одеться в зимние вещи.
– Уфф… – облегченно вздохнул Пирошников. – Предусмотрительная ты все же…
Серафима закутывала Юльку в одеяло.
– Могли бы простудиться, – сказала она.
– Простудиться! Ты посмотри! – кивнул он на дом, который продолжал торжественно тонуть, как «Титаник».
– Ничего. Дело наживное, – сказала она.
Никто не звонил в милицию или в МЧС. Все понимали, что сами виноваты, не сберегли, просрали свой дом, прости Господи. Олухи царя небесного. И сколько там осталось внутри этих олухов, спящих в своих постелях, никто не знал.
Чем больше кренился дом, чем глубже зарывалась в почву его носовая часть, а корма возвышалась над землей, тем интенсивней было движение, тем страшнее тряслась земля. Окна всех этажей соседних домов горели. Соседи всматривались в эту катастрофу, наблюдая воочию кару для тех, кто не может уберечь.
– Папатя… Что с ним случилось? Почему это? – услышал Пирошников голос Юльки.
– Наш крот устал. Столько лет одно и то же… И он ушел, махнув нам хвостом.
В этот момент крот действительно махнул хвостом, да так, что земля разверзлась, и дом медленно погрузился в нее, высоко задрав хвостовую часть, так что с крыши посыпались находящиеся там строения и потоком хлынула остававшаяся в бассейне Джабраила вода. Это погружение не захватило бывших жителей, наблюдавших катастрофу на другой стороне улицы. Край ямы прошел по середине проезжей части улицы. Гигантская воронка дымилась.
И тогда бедные жители осторожно придвинулись к краю ямы, чтобы заглянуть – а куда же все это делось?
Но ничего там не было, только черная дыра. Даже белых птиц не наблюдалось.
Пирошников поднял ком земли из-под развороченного асфальта и бросил его в эту гигантскую могилу. Домочадцы последовали его примеру.
Однако что-то нужно было делать. И взоры нескольких сотен людей обратились к Пирошникову.
– Что ж… Пойдем, – сказал он и двинулся по улице куда глаза глядят, катя перед собою коляску с Юлькой.
И люди пошли за ним, потому что идти было больше не за кем.
Рядом с Пирошниковым шла Сима с Николаичем на руках, завернутым в куртку, от которой Пирошников отказался. С другой стороны шел Август с маленькой узбечкой на руках и рядом с ним Гуля с дочерью. А за ними шли остальные – и русские, и табасараны, и все сто тридцать народностей.
Мела метель по асфальту. Окна горели. Часы показывали полночь. Люди в окнах взглядами провожали толпу, бредущую куда-то за своим королем-клоуном, явно сумасшедшим, только что утопившим собственный дом.
Так ему и надо.
А он шел, и ему становилось все легче, будто прибор Браткевича освободил его от тяготения, от тяжести ответственности за судьбу дома и ему осталось лишь привести три сотни человек в тепло.
…Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной…
Отряд – а это уже можно было назвать отрядом – вышел на проспект Добролюбова и повернул направо, к Тучкову мосту. И почти сразу же рядом, на проезжей части возникли две машины ДПС. Одна резко затормозила у головы колонны, и выскочивший оттуда мент, тот самый, что приезжал по поводу табасарана Тимура, крикнул в толпу:
– Кто организатор мероприятия?
– Я, – ответил Пирошников.
– Санкционировано?
– Ну, лейтенант, кто же нам его санкционирует в полночь? – устало сказал Пирошников.
– Я вынужден прибегнуть к задержанию!
– Валяйте.
Но задерживать было некуда – ни автозаков, ничего. Да и силы были неравны в случае чего.
Тут лейтенанту позвонили по рации и что-то сказали.
– Есть, – сказал он.
– Ну, мы пойдем? – предложил Пирошников.
– Погодите. Сейчас начальство приедет.
– Догонят, в случае чего. Люди мерзнут, – указал на свой отряд Пирошников.
И они двинулись дальше по направлению к Тучкову. Менты тихо поехали следом.
Уже когда подошли к собору Святого князя Владимира, отряд нагнала машина «Volvo» с мигалками. Из нее вышел генерал милиции.
Он неодобрительно осмотрел наряд Пирошникова и сказал:
– Мы знаем о катастрофе. Людей предлагает приютить до утра директор Дворца спорта «Юбилейный», – и он указал налево, где сиял огнями дворец.
– …Но кто хочет, может переждать в храме. Отец Владимир распорядился открыть двери, – продолжал генерал тихо, как бы извиняясь.
Пирошников посмотрел на Серафиму.
– Пошли на стадион. Недостойны мы храма… – вздохнул он.
– Знаешь, там разберутся – достойны или нет, – ответила она.
И она повернула направо и пошла ко входу в церковный двор. И все домочадцы и гости – все сто тридцать народностей – пошли за нею, хотя были мусульмане. Потому что там было тепло.
Пирошников и Серафима пересекли церковный двор и, перекрестившись, вошли в храм. За ними потянулись другие. Кто крестился, кто падал на колени и утыкался лбом в пол, как бы умывая лицо ладонями. А Иисус смотрел на них с иконостаса, по-видимому, не совсем понимая, нужна ли ему эта паства.
Владимир Голубев
Дора
Рассказ
Ты моя красавица. Ты моя любимая. Ты лучше всех. Ты – идеал. Ты – смысл жизни. Я теперь уже боюсь тебя касаться, чтобы мои грязные руки не оставили следов на твоем прекрасном теле. Когда я поднимаюсь по лесенке наверх, к тебе, у меня захватывает дух. Сердце учащенно бьется, колени дрожат, а ладони потеют. И я млею от любви.
Днем рутина, скука и одиночество. Особенно зимой. Лес, конечно, хорош, он приветлив и понятен. Но он же стоит вечным зеленым упреком неудачнику. Все временно. «Иди, поработай временно, лесником. Практика в лесу необходима. А там, глядишь, освободится местечко, и мы тебя пристроим». Пристроили. Сколько я уже здесь? Тридцать лет? Или больше? Всю жизнь. Всю мою никакую серую жизнь.
Ночью я иду к тебе. Ночью я оживаю и живу. И работаю над тобой с вдохновеньем и радостью. И грустью, иногда переходящей в страх, потому что я боюсь тебя потерять. Мне стоит больших усилий убедить себя, что это бред, я не могу потерять тебя, потому что ты во мне, и если ты исчезнешь, я не успею осознать потерю. А потеря неосознанная таковой не является. Ведь человек, у которого умерла любимая, не мучается от потери, пока о ней не узнает.
Пусть кто-то строит воздушные замки, кому-то нужна башня из слоновой кости, а мне нужна ты.
Ты почти готова. Осталось навести блеск. Но почему-то не хочется заканчивать работу, и я всячески оттягиваю момент. Я так привык к тебе! Нет, конечно, этот момент настанет, для этого великого момента я тебя и построил. Ты – орудие ВОЗМЕЗДИЯ. Нет, это не то жалкое «возмездие», про которое твердили и в которое сами не верили проигравшие войну немцы. Это восстановление попранной справедливости. Моей попранной чести. Месть за мою никудышную и пустую жизнь. В которой я не виноват. Это моя личная справедливость, и она для меня выше всех других справедливостей на свете.
Я начал строить тебя пятнадцать лет назад, когда стало ясно, что всё временное – постоянно, и «местечко» для меня не освободится никогда. Что все «местечки» давно и прочно заняты, что владеть лесом так же выгодно, как и нефтью, и что подобные мне серенькие неудачники используются лишь для поддержания в надлежащем виде чужого богатства, и что претензии этих самых неудачников на часть этого богатства не более чем смешны. Как, например, претензии муравьев на владение лесом. Живёте в лесу? Живите. Пока это не мешает Большим Людям.
И наш лесной техникум существует только для того, чтобы производить усердных неудачников. Раньше лес принадлежал то ли государству, то ли народу. В общем, никому. Большие Люди и тогда брали в лесу все, что хотели, и сколько хотели, плюя на собственные законы. А сейчас они, эти же люди, берут в лесу опять же все, но уже по праву собственников. Мой, самый дальний участок, пока не трогают, но это пока… они еще не все вырубили там, где есть дороги.
Пятнадцать лет назад… Тогда я случайно увидел твое изображение в журнале. Я влюбился в тебя сразу, с первого взгляда. Я тогда понял, что ты и есть моя судьба, мой крест и мое наслаждение. И надежда на справедливость. Что однажды ты одним махом сделаешь мир таким, каким он должен быть, и подаришь мне хоть полсекунды счастья…
Днем я выполнял свою работу, а ночью расчищал в лесу широкую просеку под два параллельных, разнесенных на семь метров, железнодорожных пути.
Ночная работа тяжела. Кто-нибудь пробовал не спать по ночам пятнадцать лет? Утром я вставал с кровати, а все мои кости ныли. На ладонях появились кровавые мозоли. Мне это снилось? Теперь уже не знаю. Знаю одно: я работал. Каждую ночь, из ночи в ночь. Без выходных и праздников. Без скидок на болезни и выпивку. Однажды мне пришлось переделывать то, что я наворочал там, свалившись спать пьяным. Тогда я прекратил выпивать.
Месть. Вот что движет неудачником. Испуганный зверек месть, живущий в голове-клетке. Погодите. Все вы свое получите. Я ничего не забыл. Я все помню. В подробностях.
Сашка Волков! Я помню, как ты в детском саду пинал меня под столом ногой, обутой в жесткую «скороходовскую» сандальку. Ты пинал меня каждый раз, как мы садились есть или рисовать. Это было твоим эксклюзивным развлечением в детсадовской скуке. У меня на голени появился синячок. Не помогали ни жалобы воспитательнице, ни жалобы маме, ни разговоры мамы с твоей мамой, ничего. И даже когда нас рассадили по разным столам, ты улучал момент и неожиданно пинал меня, на прогулке или в группе, во время подвижной игры. Я кричал и вырывался, когда мама вела меня в сад. И не было старшего брата, который мог бы пнуть тебя. А сам я боялся. Я всегда всех боялся. И фамилия Котиков усугубляла мои страдания. Сашку, разумеется, прозвали Волк, а меня – Котик. К тому же мои добрые родители умудрились назвать меня Василием. Все надо мной смеялись.
Я в одиночку валил сосны, корчевал пни, ровнял землю и насыпал толстый слой щебня, таская его ведрами. Укладывал шпалы и, вырывая себе жилы, таскал волоком тяжеленные рельсы. Когда начались дожди, забивал костыли. Просыпался утром совершенно разбитым. От топора и кувалды мои ладони загрубели, кожа сходила с них слоями. Я терпел. Я теперь точно знал – придет мой час! Ты, Сашка Волков, первый в списке. Ты встанешь в центр площадки. И будешь стоять там, с округлившимися от ужаса глазами, понимая, что шансов спастись нет. Можешь сколько угодно закапываться в землю. Воронка будет глубиной двенадцать метров. И жуткий вой восьмисотсемимиллиметрового снаряда будет последним звуком, который ты услышишь в этом мире.
Рядом встанете вы, Левка Карманов и Лешка Руднецов. Вы преследовали меня в пятом классе, били мокрыми снежками и кулаками в лицо. Тогда я впервые узнал, что такое удар в лицо. Я очень вас боялся, не говорил ничего маме, опасаясь вашей мести, старался подольше не покидать школу, чтобы дождаться, когда вы уйдете домой. Но вы не уходили, вас никто особенно не ждал в ваших алкогольных семьях, вы не хотели лишать себя ежедневного удовольствия избить беззащитного Васю-котика. Ни за что. Просто так. Когда же мои родители, наконец, заметили мои мучения, мне пришлось все рассказать. Отец с перекошенным от гнева лицом оделся и пошел куда-то, несмотря на мороз и поздний час. Я не спал. Через два часа отец вернулся и сказал: «Не бойся, сынок. Больше они тебя не тронут. Что же ты сразу не сказал?»
Вы меня больше не тронули. Побоялись. Вы пытались прилепить мне кличку Котик-ябеда. Но класс не поддержал. Ты, Руднецов, сделал еще одну гадость: подойдя ко мне сзади, на уроке физкультуры, неожиданно дернул мои трусы вниз. Но, к чести класса, никто не засмеялся. А ровно через неделю тебя, Руднецов, наказал Бог: твой младший братик погиб от срикошетировавшей пульки в пневматическом тире. Тир был устроен в старом автобусе, и расстояние до мишеней было ненамного больше длины ружья. Пулька попала ему в глаз и прошла в мозг. Врачи не смогли ее вынуть, и мальчик умер через три дня от отравления свинцом.
Но твои, Лешка, отношения с Богом – твое личное дело, и меня не касаются. Я же для тебя приготовил семитонный снаряд. Нет, он не просто разорвет тебя в клочья – он распылит тебя на атомы, чтобы от тебя не осталось никаких ощутимых следов, кроме копоти на развороченной глине.
Я монтировал раму и лафет из отличной крупповской стали. Моя красавица весит тысячу триста тонн и имеет восемьдесят железнодорожных колес. Ох, и намучился я с этими колесами. Каждое надо прикатить и привинтить на место. Когда рама и лафет были готовы, я устроил себе отпуск. Целый месяц ничего не делал, вечерами пил водку, а ночью ходил поддатый по огневой позиции и любовался на плоды трудов своих. И обливался пьяными слезами умиления. Никто, говорил я себе, никто не способен создать такое чудо, и никто никогда не увидит ее.
А вы, двое безымянных хулиганов, что избили меня в парке и сняли часы – подарок отца. Вы что, думали уйти от возмездия? Нет, дорогие мои, не выйдет! Я ведь не милиция, которая вас не нашла, да, впрочем, и не искала, я сама судьба, неотвратимый рок! Встаньте рядом, к тем троим подонкам. Вы друг друга стоите…
Что, Олечка, испугалась? А помнишь, как ты тогда, много лет назад… Ты бросила меня и еще унизила перед группой! Я всерьез хотел уйти из техникума. И даже покончить с собой. А ты смеялась и целовала Серегу при всех, демонстративно. Ты хотела меня морально уничтожить. Радуйся. Тебе это удалось. Я так и не женился и всю жизнь сторонился женщин. Но теперь… теперь я уничтожу тебя. И не морально, а физически. Нет, никаких слез и прощения! Нет! Смерть! На площадку! Быстро! Плевать на твоих детей! Они давно выросли!
Тяжелей всего было поставить ствол. Он вполне справился бы с ролью заводской трубы. Почти тридцать метров. Пришлось строить два подъемных крана. На установку ствола ушел год. Целый ГОД каторжного труда, слышите вы, сволочи! Целый год!
Что, Иван Никанорыч, попались? Вы преподавали «Технологию лесопользования»! Сколько раз ходил к вам сдавать зачет студент Котиков? Не помните? А Котиков помнит! Шесть раз! Шесть! За что вы так меня невзлюбили, я до сих пор не знаю. Но весь курс потешался. Мама как-то вскользь упомянула вас, как нехорошего человека, из чего можно было понять, что вы с ней были знакомы в молодости… так что марш на площадку! Никаких отговорок! Что? Да ни вы, ни ваша долбаная «технология» никому не нужны. В лесу берут согласно жадности, а не технологии. Все под корень. Хуже оккупантов. И ни копейки на восстановление. Зачем?
Теперь только ветошь и масло. Перила, части затвора, штурвальчики точной наводки. Они отполированы до зеркального состояния. Когда я протираю ствол, то испытываю почти сексуальное наслаждение. Такая громадина! Блестящие нарезки внутри. Сначала конусные, потом цилиндрические… А как легко поднимается!
Механизмы заряжания. Для снаряда и отдельно для заряда. С отличным бездымным порохом, что легко вытолкнет из ствола семитонный снаряд. Он пролетит, воя, как сам дьявол, сорок километров и взорвется в центре площадки, неся вам смерть, а мне справедливость.
А-а-а-а, прапорщик Грищенко! Знаете, как вас звали ваши солдаты? Дрищенко! Ха-ха! Ну, без вас эта компания говнюков просто не смотрится! Милости просим! Как вы меня в армии, а? Круто воспитывали! Через день – на ремень, через день – на ремень, чуть что – на ремень! А ведь в уставе русским по белому написано: нельзя назначать в караул в качестве наказания. Но вы-то умнее устава. Как вы себя величали? «Царь, бог и отец родной»? Ну, насчет отца родного не знаю… Сколько бессонных ночей! Сколько пустых, зряшных мучений, только чтобы ты, урод, потешился своей безграничной властью над беззащитной пацанвой! Чтоб ты сдох, Дрищенко! Кру-гом! На площадку! Стрррроевым! Шагом! Марш!!! Ножку тянуть! Выше! Еще! Еще!!!
Ах, какая механика! Какая баллистика! Немецкая точность. Техническая красота. Тогда, в войну, ты, моя любовь, не оправдала надежд создателей. Потому что Германия творила зло. А для этого полно пушек поменьше. Такая красавица идеально подходит лишь для творения ДОБРА! А что есть добро? Добро есть уничтожение зла. Зло должно быть уничтожено мгновенно и гарантированно. Никаких следов. Никаких оторванных голов и конечностей. И не дай, Бог, раненых. И никакой длительной, затяжной борьбы, что лишь рождает новые сомнения и вопросы, где зло, где добро… Секунда и – только следы копоти на развороченной глине.
Ну, что? Все собрались? Ах, да, я же забыл своего начальника! Извините, Юрий Леонидович, без вас никак. Не отказывайтесь. Окажите честь. Не заставляйте применять силу. Я ведь за эти годы одичал и огрубел. И мышцы поневоле накачал. И постоянно работал топором. Где лес – там и топор, сами знаете. Так что могу для вас сделать исключение и снести вашу лысую голову топором, что в России-матушке традиционно. Хотите? Нет? А то я моментом… и не поморщусь, здесь вам не наяву. Так что идите на площадку и не портите лю… мне праздник. Нет, в центр необязательно. Можете встать с краю. Во-первых, попадание всегда с разбросом… а потом, шесть тонн тротила плюс тонна железа… ну, вы понимаете.
Смотрите вверх. На носу снаряда, на самом ударнике взрывателя, я нарисовал черный крест. Имею я право после таких трудов на маленькую шалость? Смотрите. Этот крест я положил на вас. Я вас похерил!
Вот теперь все в сборе. Оп-па, звонит будильник! Стойте тут, мне пора вставать на работу. Подумайте пока о добре и зле. Я вернусь вечером.
…мерзкая погода. Целый день на участке. Количество короедов, вроде, уменьшается.
Здравствуй, моя красавица! Снаряд уже в стволе? И заряд тоже? Ты сама зарядила? Чтоб не терять времени? Ах, ты, моя умница!
Ну, что, уроды, осознали? Что? Последнее желание? Хм, вообще-то, положено. Но учтите, у меня нет ни стаканчика вина, ни сигары, ни этого… жаркого из бычьих хвостов. Или что там давали королям перед гильотиной… Так что не просите.
Что, Юрий Леонидович? Вас-то за что? Как это за что? Вы же начальник! А начальник всегда виноват перед подчиненными. Во всем.
Премии? Да, я получал. И квартальные тоже. Так у нас маленькие оклады, сами знаете. Ну, и служебную машину. Так положено, сами знаете. Единственный новый «уазик» на все лесничество? Хм, верно… И квартиру в городе получил. Да, без вас бы…
За что конкретно? Так это… ну… вот, к примеру… а, это мелочь. И еще, помните? Правда, за это не убивают. Да и я, честно говоря, тогда схалтурил. Вы были правы.
Знаете что, Юрий Леонидович? Идите-ка вы с площадки. Уходите. В свою постельку, к жене. С вами я погорячился. Извините.
Иван Никанорыч! Что? Что ты сказал, старый дурак?! Моя мать? Почему ее нет на площадке? Ты в своем уме? Она же МАТЬ! Она святая! А Ольга, причем тут Ольга! И какое ваше дело…
Не верю ушам своим. Моя мать сделала с вами то же, что Олька со мной? Унизила и бросила? Бросила и унизила? Вы не врете? Впрочем, здесь не врут. А откуда вы знаете, что Олька сделала со мной? Ах, ну, конечно, весь техникум знал…
Уходите, Иван Никанорыч! Вон отсюда! Олька, что стоишь! Тоже уходи. Не имею я морального права вас карать. Идите вы в задницу со своими технологиями и женскими штучками! Быстро!
Грищенко! Да ладно, давай без «разрешите обратиться». Говори уже. Что я буду делать после выстрела? А тебе-то что за печаль? Тебя-то уже не будет! Ну, память… от нее никуда не деться. Может, я буду счастлив. Совесть? Тебе ли, прапорщик, говорить о совести? Конечно, такая работа. Собачья. Такова система. В любой системе надо быть человеком. Надо сострадать, а не издеваться. Что ты смеешься? Я тебе ничего не сделаю? Еще как сделаю! Осталось только нажать на рычажок, и огромный снаряд… Как? Ты давно погиб? На учениях? Вот те раз. Танк ночью раздавил палатку. И все восемь человек… Что же ты мне мозги пудришь столько времени! Кругом! Шагом марш в свою могилу! Да не надо строевым. Не греми костями.
Надоели вы мне. Вас, безымянные хулиганы, даже слушать не хочу. Вон отсюда. Пьяные хари. Вон, я сказал!
И ты, Руднецов, проваливай. Тебя уже Бог наказал. А два раза за одно и то же не наказывают. Дружка своего, Карманова, захвати. Смотреть на вас тошно…
Один ты, Волк, остался. Ну, тебя-то я не отпущу. Все они только продолжили начатое тобой. Ты – главная причина моих бед. Первооснова. Из-за таких, как ты, в жизни лидируют волки, а не котики. Рвут зубами. Ты со своей волчьей хваткой наверняка преуспел в этой жизни, не то что я… Небось, новый русский! Особняки, счета за границей. «Мерсы» и «лексусы», «майбахи» и «феррари». Таким, как я, ты глотки на бегу перекусываешь, не замечая. Ты, конечно, ввязался в эту бандитскую драку под названием «перестройка», не только уцелел от пуль, но и преуспел, шагая по трупам! Тебе доступны любые женщины, любые заграницы, любые развлечения. И власть. Ты хозяин в стране. А я – изгой. Никто. Твой плевок на асфальте стоит больше, чем моя жизнь. И ты наверняка через посредников владеешь лесом. Потому что в наших краях он – главное богатство. Ты не мог пройти мимо него. А значит, владеешь мной. Я храню его для тебя. Ухаживаю, забочусь о здоровье деревьев. Для того чтобы ты потом срубил их и продал.
Наверняка я тебя вытащил от умопомрачительной блондинки! Так вот, больше она тебя не дождется! Тебя никто не дождется! И это тот единственный случай, когда богатство не спасет! Молись! Я стреляю! Огонь!
* * *
В пустом доме лесника приемник бормотал, пока не сели батареи:
«…сводка происшествий за неделю. В ночь на среду при взрыве бытового газа погиб некий Александр Волков. По словам соседей, Волков давно нигде не работал, собирал бутылки и цветной металл, сильно пил.
…в своем лесном доме обнаружен мертвым лесник Василий Котиков. По заключению экспертизы, смерть наступила в ночь на среду от кровоизлияния в мозг».
Ильдар Валишин
Пистолетчики
(сказка особого назначения и немного о любви)
Рассказ
Я пришел и сел.
И без тени страха,
Как молния ясен
И быстр,
Я нацелился в зал
Токкатою Баха
И нажал
Басовый регистр…
День 1-й
Они с самого начала были исключениями – Фолък и Малыш: их никак не должны были принять в штурмнавигационную школу они не приносили присягу, перед их фамилиями так и не появилась никогда вожделенная большинством курсантов приставка Ла’– отличительный признак энголльского боевого дворянства, да и физическая подготовка этих двоих была гораздо ниже, чему большинства отсеявшихся кандидатов. Но зато…
Но зато, когда на ритуальный вопрос часового у ворот школы: «Что вы ищете здесь?» вместо столь же ритуального: «Служения герцогу» Фольк ответил: «Мы хотим убить Моргессена», часовой задумался на секунду, а потом поспешил доложить генералу.
* * *
– Вы действительно хотите убить Моргессена? – спросил вошедших молодых людей бригадный генерал Эрби Гелл, – а готовы ли вы к тому, что убить Моргессена вам удастся только лет через десять? Мы, как известно, никогда не торопимся, обучая бойцов. Впрочем… У вас нет необходимости проходить полный курс – учиться навигации, тактике морского сражения и прочим важным, хотя и излишним в вашем случае дисциплинам. Вам необходимо просто стать хорошими пистолетчиками, а это чуть проще. Сержант! Найдите Кроули и приведите ко мне. А вы… Вы сделали весьма нетривиальный выбор, явившись сюда, и должны признать, что, соглашаясь обучать вас, не включая притом в состав Корпуса, я оказываю вам обоим весьма большую услугу и вправе требовать ответной, – вы согласны с этим?
– Так точно, сэр! – почти выкрикнул Фольк.
– Согласны, сэр, – это Малыш.
Генерал улыбнулся:
– Когда мне было девятнадцать, я тоже не думал долго, соглашаясь с подобными предложениями. Мне везло в те годы, и никто не поручал, вспоминая о моих обязательствах, ничего слишком опасного. Я не буду столь благороден – после окончания обучения вы должны будете оказать мне одну очень большую услугу…
Не обмануть моих ожиданий.
В кабинет генерала (у Эрби Гелла не было в училище официальной должности – он обучал кадетов фехтованию и тактике, являясь кроме того просто частью Корпуса, его архитектором, строителем и фундаментом) вошел подтянутый худощавый офицер в светло-сером боевом комбинезоне – майор Эрвин Кроули по прозвищу Пулеметчик – в прошлом звезда криминальных хроник доимперской Энголлы, а ныне инструктор в Корпусе и, возможно, лучший стрелок-практик в мире.
– Займись ими очень тщательно, Эрвин. Эти молодые люди решили убить Моргессена.
– Сэр! – Фольк, словно живая аллегория нетерпения, – когда мы приступим к обучению???
– Если бы я гнался за внешними эффектами, то сказал бы: прямо сейчас, но сегодняшняя ночь – такой незначительный промежуток времени в сравнении с теми годами, которые мы проведём вместе, что я предпочту выспаться. Вам рекомендую заняться тем же. Я выделю им освободившиеся комнаты в северной стене, Эрби?
– Да, Эрвин, в конце коридора.
* * *
Кроули увел новичков. Генерал остался один в кабинете. Надо же! Убить Моргессена… Улыбнувшись этой мысли, генерал, погасив настольную лампу, пошел спать.
В эту ночь, в миг, когда секундная, минутная и часовая стрелки слились в одну упершуюся в зенит линию, началась эта история, которая впоследствии превратилась в одну из тех невероятных легенд, которые составляют из себя всю мировую историю.
День 2-й
– Подъем, бойцы! – Кроули пнул несколько раз тяжелым ботинком по дверям комнат, – заниматься профильными дисциплинами я с вами буду отдельно, но общефизическая подготовка будет совместной с основной группой. Через пять минут вы должны быть на плацу – поторопитесь.
Кроули развернулся на каблуках и направился к лестнице: и он, и генерал бегали утренний кросс наряду со всеми – это было незыблемой традицией. Лишь однажды она была нарушена – в день, когда два тяжелых крейсера Архипелага вышли на траверз Фир-Клайд и после оглашения ультиматума открыли беглый огонь по пирсам и докам. Кроули с Геллом отсутствовали тогда в корпусе два дня, а потом в газетах написали о том, как неожиданным залпом главного калибра практически в упор «Сен-Симон» смел палубные надстройки «Герцога Гиза» и через минуту сам вздыбился в белом столбе взрыва орудийных погребов. Генерал и майор вернулись тогда в Корпус только утром третьего и едва успели на пробежку.
* * *
Десять километров по пересеченной местности… Фольк выдыхался. Он знал, что сможет пробежать еще сотню шагов и рухнет потом на камни, и никто не остановится, чтобы помочь подняться. Но, пробегая раз за разом очередные «последние» сто метров, Фольк находил силы, чтобы сказать себе: «еще сотня, и всё» и бежать, отставая и отставая понемногу от основной группы. Он упал на исходе седьмого километра. Попытался встать, но не сумел. Успел только заметить, как оборачивается на бегу с неожиданно-презрительной улыбкой Малыш, не замедляя размеренного ритма, и бежит дальше по острым камням, и черный боевой комбинезон красиво облегает тренированное тело. Фольк закрыл на пять секунд глаза, а потом все же поднялся и тяжело побежал вперед, туда, где уже почти скрылась за изломом рельефа основная группа. Догнать ее Фольк так и не смог.

Boots, Boots, Boots, Boots… Сердце билось, чуть-чуть не успевая за ударами подошв по щебню. Мерзкий хруст под ногами. Обрывочные мысли обо всем сразу разрывали изнутри голову, хотелось пить…
Boots, Boots, Boots, Boots…
Он пришел на финиш, опоздав на девять минут. Там, присев на ствол упавшего дерева с кружкой кофе в руке, ожидал майор Кроули. Его равнодушный вид не предвещал ровным счетом ничего хорошего.
– Если еще раз подобное повторится, курсант, – майор выплеснул остатки дымящейся кофейной гущи на замшелые камни, – твое обучение будет закончено. Я не буду менять традиции Корпуса даже из-за десяти моргессенов. Всё, до вечера свободен.
Майор проводил Фолька взглядом и, дождавшись, когда тот скроется за поворотом, достал из рюкзака термос с кофе.
* * *
– Привет, Реми, что у нас в мире?
– Добрый день, генерал – улыбающийся герцог Грановски встал из-за стола и протянул руку Эрби Геллу, – нам предложили очень выгодный контракт на два ударных авианесущих аэростата под ключ. Но есть одна настораживающая деталь…
Реми Грановски раскрыл папку со спецификациями и протянул генералу. Тот бегло пробежался глазами по тексту и взглянул на своего воспитанника.
– Тридцатисемимиллиметровые пушки на половине самолетов?
– Да, генерал. Инженеры со Второго завода заверили, что техническая возможность для установки имеется, но меня волнует задача авиагруппы с таким вооружением.
– Ну что ж, Реми. Значит, ты сам знаешь, для чего нужны эти самолеты.
– Да, господин генерал… Это убийцы «Могильщиков».
– Согласен, Реми. И это значит, что в Империи назревает война. Но мы ждали этого уже лет пять. А у меня более неожиданная новость. Есть двое добровольцев, которые решили убить Моргессена.
– Убить Моргессена? Вы серьезно, генерал? Это реально?
– Не знаю, Реми. Но если мы не сделаем из них бойцов, способных на это, то я приду к выводу, что Моргессена действительно нельзя убить.
– Какая-нибудь помощь Корпусу в связи с этим делом нужна, генерал?
– Патроны, Реми. Нам понадобится втрое больше патронов. И еще кто-то должен будет купить на верненской оружейной фабрике десять пистолетов «Имброкатта-Делюкс», по паре сменных стволов на каждый и сорок магазинов. Все пистолеты и стволы должны быть работы Сига Вивера. Естественно, что покупка должна быть анонимной.
– Хорошо. Я пошлю Айно Вейсс, она сделает все как надо.
– Да, Айно всегда делает всё именно так.
«Имброкатта»… только одна модель пистолета могла по-соперничать с ней в легендарности – классический «Правдоискатель». Но за последние 20 лет на трех оружейных заводах, составляющих Имперский военный арсенал, было выпущено почти полмиллиона «Правдоискателей». Число же выпущенных «Имброкатт» не превысило полутора сотен. «Имброкатту» создали по техническому заданию и эскизам тогда еще капитана Кроули. «Имброкатта» была идеальным пистолетом для ганфайта – компактная, легкая, она в первой серии даже не имела прицельных приспособлений. Потом их все же поставили, но не для прицеливания, а для удобства блокирования пистолета противника.
Версия «Делюкс» отличалась от стандартной лишь платинированным спусковым механизмом да рифлеными накладками из бладвуда на рукоять. Таких пистолетов существовало всего три: один принадлежал Ивэну Парсивалю, другой – Императору, третий – герцогу Грановски. Поэтому, когда Айно Вейсс высыпала на стол перед Сигом Вивером горсть крупных изумрудов и передала заказ, старый мастер подумал, что лучше бы ему не знать, кому и зачем понадобились пистолеты, каждый из которых стоил как небольшая фасиенда в пригороде столицы. Он не мог даже предположить, что семь пистолетов из десяти будут использованы лишь как запасные части.
День 3-й
– Меня нимало не интересует, умеете вы стрелять из пистолета или нет. Потому что все равно я буду учить с самого начала. Итак, запоминайте: по дистанциям пистолетный бой может быть классифицирован как: дуэльный, встречный на извлечении, ближний бой и ганфайт. Нам особо интересен последний. На то есть две причины: во-первых, Моргессен, обладая преимуществом игры на своем поле, сделает все, чтобы свести любое столкновение к ганфайту, в котором он, вне всякого сомнения, один из величайших мастеров, а во-вторых, встречную или ближнюю перестрелку мастер может рассматривать как бесконтактный ганфайт. Начинать изучать ганфайт мы начнем с его механики и математики. Уясните главное – несмотря на то, что пистолет считается оружием для поражения противника на расстоянии, только выстрел в упор дает стопроцентную гарантию попадания. Соответственно, ваша первая цель в бою – выйти на дистанцию такого выстрела и остаться при этом в живых на этапе встречного боя. Далее идет следствие из основного принципа: в боевой стойке противники должны находиться на дистанции, меньшей суммарной длины их рук и пистолетов. Конечно, можно застрелить человека и на большем расстоянии (однажды я убил офицера с полусотни шагов), но с бойцом уровня Моргессена этот номер не пройдет даже случайно. Моргессен – тот самый человек, который вывел десять лет назад пистолетный бой на принципиально новый уровень. Долгое время ганфайт был ограничен в плане технических действий рядом классифицированных выстрелов-ударов, различающихся по направлению (fondo – горизонтальный, fendente – сверху, montante – снизу, squalembrato – диагональный), стороне нанесения (mandritti и roversi), приложения силы (arrebatar – от плеча, mediotajo – от локтя и легкий кистевой удар — mandoble). В те времена, когда бой являлся схваткой ганфайтера с обычными стрелками, – на лице майора проявилась на мгновение тень ностальгии по тем славным временам, – этого было предостаточно. А потом появился Моргессен, со своим собственным стилем и представлением о ганфайте, и застрелил под Роше троих наших. Это явилось переломным моментом. Моргессен не просто достиг высочайшего мастерства в уже классическом стиле – он создал систему, заточенную на убийство других ганфайтеров, хотя, конечно, не это сделало его главным врагом Империи и человечества. Именно он ввел в обиход все эти эти круговые мандритты, пассаты, переводы и активные оппозиции… Надо признаться, что хотя имя Моргессена ненавистно всем без исключения жителям Империи, да и Архипелаг не питает к нему особой симпатии, я был бы счастлив видеть его инструктором в Корпусе.
Для того чтобы победить Моргессена, недостаточно просто оттачивать элементарные навыки стрельбы (уже через год вы сможете укладывать всю обойму в круг не больший, чем полтора калибра) – нам необходимо фактически создать новую ветвь ганфайта, направленную на ликвидацию одного конкретного человека. На это у нас с вами есть около пяти лет.
День 350-й
Фольк больше не падал на пробежках. Он прибегал последним, задыхался, отлеживался после на камнях, но все же не сдавался. Узнав об упорстве курсанта, генерал Гелл приказал положить в его тактический рюкзак три кирпича. С Малышом таких проблем не возникало. Былые многочасовые охотничьи погони по лесу были прекрасной школой, обеспечивающей Малышу постоянное место в первой пятерке. Зато Фольк стрелял… Стрелял, если не как бог, то как архангел точно. Гибкий и быстрый, он с одинаковой легкостью и изяществом проводил стокатты и имброкатты, стелился по земле в длинных эстокадах и парировал выпады наставника с оппозицией левой руки, или просто блокируя удар сильной частью ствола или предохранительной скобой. У Малыша все это выходило несколько хуже. Нет, конечно же, техника была отточенной, выстрелы точны, движенья быстры, но… Не хватало в движениях Малыша некоторой невыразимой… Воздушности, что ли? И если для боя с ординарным противником никакой такой воздушности нужно не было, то Моргессен… С Моргессеном Малышу не светило. То есть вообще никак. Гелл и Кроули проанализировали и проиграли уже более полусотни известных перестрелок с участием Моргессена и прекрасно знали, что стрелок уровня Малыша, как правило, погибал не позже пятой секунды. Если, конечно, Моргессен не использовал его как живой щит, что ситуацию только усугубляло.
– Что предлагаешь с этим делать, Эрвин?
– Думаю, что Малыш пойдет в авангарде. Это позволит Фольку дойти до Моргессена с холодным стволом, сохранив дыхание, боезапас и не получив случайных ранений… Честно говоря… Я не думаю, что Малыш дойдет при такой диспозиции, классическая парная тактика здесь была бы более эффективна, но здесь слишком высокие ставки.
– Малышом жертвуем?
– Ну… не то чтобы совсем, Эрби, но Фольку надо использовать оболочечные пули и быть готовым стрелять через напарника. А Малыша я еще поднатаскаю – расходный материал я не тренирую.
– Я знаю.
День 351-й
– Малыш, ты идешь в авангарде. Поэтому постарайся очень хорошо осознать сегодняшний урок. Бой на сближении против группового противника. В общем-то, дело нехитрое, если забыть на некоторое время об отличной возможности получить случайную пулю, благо в таких перестрелках случайные пули летают очень плотно. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что вольты, полупируэты и формальные перемены линий помогут тебе остаться в живых. Спасти тебя могут только сближение и превосходство в плотности огня. Да, этого вполне реально добиться с couple de pistol – парой пистолетов, – если разумно перезаряжаться и стрелять, не давая противнику перехватить инициативу. Нет, в ближнем бою от couple de pistol вреда больше чем пользы. И, конечно, движение: надо бежать с той скоростью, при которой точность стрельбы все еще в пределах допустимого – с шести метров в арбуз. Хорошей скоростью можно считать шесть метров в секунду. Пули используем экспансивные, – Кроули замолчал, вспоминая что-то, и грустно этому чему-то улыбнулся – обувь с палубным протектором. Будет скользко.
– Можно вопрос, сэр?
– Что, Малыш?
– Как вы пришли к идее ганфайта?
…Когда имперские силы после срыва первой энголлъской кампании покинули остров, на побережье осталось девять добровольцев. Звали их Френсис Салазар, Тимми Лайт, Гюстав Пелтонен, Джек Гербер, Николас Оке, Вильям Сог, Фредерик Хаттори, Райд Сабенза, и Эрвин Кроули. Все они, кроме Кроули, были солдатами его императорского величества 22-го полка. Эрвин Кроули был молодым наёмным стрелком, чей шанс стать полноценным наемником сейчас равнялся шансу стать подножным кормом для энголлъской фауны и удобрением для ее флоры.
– Ну что, джентльмены, – сказал Френсис Салазар, который был единственным офицером в отряде, – ставлю свою жизнь против двух дымовых гранат, что прикрывать эвакуацию нам не придётся, а оставили нас здесь только для того, чтобы отступление полностью соответствовало канонам.
Никто не стал спорить с офицером, лишь Фредерик Хаттори – угрюмый здоровяк с акцентом уроженца юго-восточных островов – улыбнулся и сказал, что раз так, то он зря сегодня весь день думал о смерти и жил его как последний. И тогда Френсис Салазар развернулся и зашагал к окопам. И отряд пошел за ним.
Трое суток маленький заслонный отряд сидел в окопах, но противника так и не дождался. Настал четвертый день…
– Джентльмены, – сказал тогда Френсис Салазар. – Если на данный момент эвакуация не завершилась, то это уже проблема не наша. Мы свою задачу выполнили.
– А какие у нас теперь инструкции? – спросил тогда Фредерик Хаттори.
– Теперь мы можем считать себя в отставке.
– Не фига себе, – сказал Фредерик Хаттори.
– Так-то, – сказал Френсис Салазар.
И махнул рукой в сторону гор на горизонте. И они пошли в сторону гор.
Осень на Энголле дождливая и холодная. Питаться подножным кормом, как летом, было сложно. Джек Гербер – квалифицированный снайпер – иногда стрелял оленей, мясом которых отряд питался. Это и привлекло внимание лесников. А те доложили барону. А барон послал гонца к Валору Энголльскому.
Герцог же Энголльский послал батальон горных егерей, чтобы уничтожить последних имперских солдат на острове. Командовал тогда батальоном майор Хенри ван Дейк. Его бойцам не понадобилось много времени, чтобы отыскать в горах следы противника.
Но и Френсис Салазар набирал отряд не из тех, кто назывался солдатом лишь потому, что однажды интенданты выдали ему серо-зелёный мундир, яловые сапоги и магазинную винтовку образца 1630 года. Райд Сабенза обнаружил егерей ван Дейка ещё на дальних подступах и пробежал единым духом три километра, чтобы как можно раньше предупредить Френсиса Салазара.
– Батальон? – спросил Френсис Салазар.
– Батальон, – подтвердил Райд Сабенза.
– Это большая честь – сражаться с целым батальоном, – сказал Френсис Салазар после небольшой паузы.
– Это не меньшая задница, – вклинился в разговор Фредерик Хаттори.
– Не меньшая, – согласился Френсис Салазар.
Отступать им было некуда. Точнее, отступать можно было сколько угодно, но вот только горные егеря ван Дейка в горных переходах были сильнее. И потому Френсис Салазар принял решение дать бой здесь на каменистом склоне, который после был на всех картах обозначен как Перевал ван Дейка.
Девять мужчин, обломки скал и смешанные леса внизу. Горный склон нагрелся на солнце. По склону карабкался вверх горнострелковый батальон.
Тогда Райд Сабенза достал из ножен нож и, наваливаясь на рукоять, нацарапал на скале перечеркнутый тремя параллельными линиями ромб – эмблему 22-го полка. А Френсис Салазар нацарапал снизу «кто рискует – побеждает», хотя это и не было правдой. А на другой стороне камня Фредерик Хаттори написал: «Здесь был Фредерик Хаттори» и этим испортил всю торжественность момента.
Эрвин же Кроули ничего не писал – недавно он сломал свой нож, открывая цинк. Он чистил пистолет и сортировал патроны, выкидывая все те, на которых были даже почти невидимые пятнышки коррозии. Он почти не волновался – это был уже второй бой в его карьере.
Хенри ван Дейк все же смог перехитрить Френсиса Салазара – он пустил десяток лучших своих бойцов в обход, чтобы они обошли имперцев по ущелью и, поднявшись по скалам, вышли в тыл. Так и получилось. Энголльский снайпер из числа тех десяти егерей выстрелил в спину Тимми Лайту и не промахнулся. И лишь только эхо выстрела разлетелось по окрестным скалам, Хенри ван Дейк, стреляя из ручного пулемета, повёл егерей в атаку. Но еще раньше Джек Гербер бросился на камни и, прикрывшись телом Тимми Лайта, взял на прицел гребень – то место, где ветер пока еще не рассеял дым от выстрела. Эрвин Кроули залёг за камень и, положив пистолет так, чтобы в него не попала шальная пуля, неторопливо стрелял по наступающим егерям из винтовки.
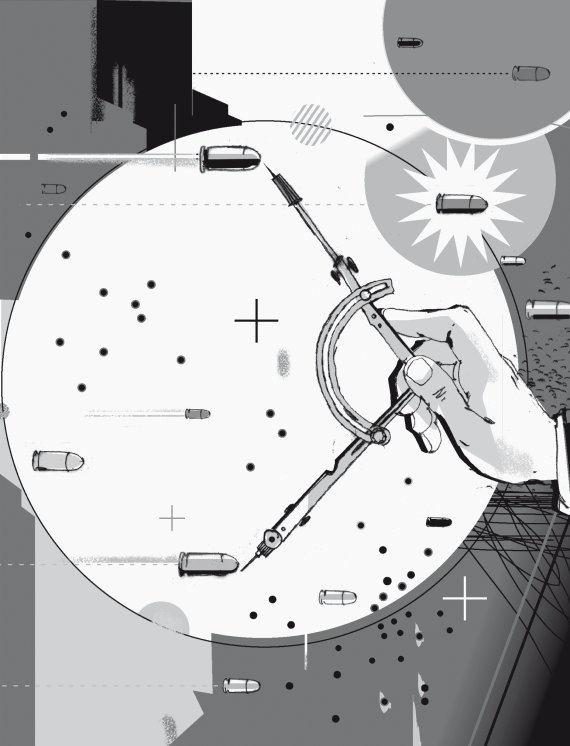
Сложнее всех приходилось Джеку Герберу. Он один следил за верхним склоном и не давал высунуться вражеским стрелкам. И, когда снайпер Хенри ван Дейка решил рискнуть и сделать еще один прицельный выстрел, Джек Гербер всадил ему в правую скулу полуоболочечную пулю. Это был его первый выстрел в этом бою.
«У них разрывные пули!» – закричали егеря сверху; увидев наполовину разнесенный череп товарища. Френсис Салазар обернулся и вопросительно посмотрел на Джека Гербера.
«Для охоты зарядил», – сказал Райд Сабенза.
«В плен нас теперь брать не станут», – сказал тогда Николас Оке.
«Тоже мне печаль! – рассмеялся в ответ Фредерик Хаттори. – Мы в плен сдаваться и не планировали!»
Егеря несли потери и залегли. Хенри ван Дейк несколько раз пробовал поднять их в атаку, но и самого его прижимал к земле огонь семи винтовок.
Стемнело. Егеря Хенри ван Дейка примкнули штыки и короткими перебежками из тени в тень начали неотвратимо сокращать дистанцию, выходя на расстояние последнего броска. Примкнули штыки Френсис Салазар, Вильгельм Сог и Райд Сабенза. Спрятал под камень оптический прицел и достал из подсумков три гранаты Джек Гербер. Обнажили ножи Николас Оке и Райе Пелтонен. Надел на пальцы кастет Фредерик Хаттори. Эрвин Кроули рассовал по карманам пистолетные обоймы и приготовился умирать.
Прогремели в упор последние выстрелы, и началась рукопашная. В темноте, не подсвеченной уже вспышками выстрелов, убивали друг друга смелые и сильные духом мужчины. Эрвин Кроули не стрелял, опасаясь зацепить кого-то из своих, а дрался, используя «Правдоискатель» как тяжелый тупой предмет. Потом, уходя в перекате от удара прикладом, он подхватил с земли чей-то нож и только через секунду понял, чей – Пелтонена. Потом… Потом он опять бил кого-то, кого-то застрелил снизу вверх, кому-то удачно ткнул в пах… Потом он столкнулся с забрызганным кровью смеющимся Хаттори, раздающим налево и направо удары егерьским альпенштоком… Потом он пропустил удар слева, потом был взрыв гранаты, и Френсиса Салазара разорвало в клочья вместе с тремя егерями… А потом в наступившей вслед за грохотом тишине Эрвин Кроули понял, что остался один. Он встал в полный рост и, подняв пистолет, выстрелил в ближайшего егеря. И побежал вниз по склону, туда, где в неясном свете луны скорее угадал, чем увидел затянутую в офицерский китель фигуру Хенри ван Дейка. Их разделяло 50 метров и, как впоследствии определила комиссия, двадцать три солдата. Кроули убил их всех. В движении. Ставя на линию огня друг друга. Стреляя в упор и навскидку. Меняя на бегу магазины. Подныривая под выстрелы и отбивая стволы винтовок пистолетом. А потом он широким движением (тогда еще не названным roversi tondo) отбил в сторону оружие Хенри ван Дейка и, переменив линию, дважды выстрелил ему в шею…
– Как-то само однажды получилось, Малыш. Были очень способствующие тому обстоятельства. Иди тренироваться, я буду наблюдать за тобой из окна.
День 803-й
Только через два года отработки техники в боях с тенью Кроули пришел к выводу, что можно переходить к контактным тренировкам. За эти годы произошло много других событий: сошел со стапелей «Инспектор» – тот самый убийца «Могильщиков» – сошел только для того, чтобы через неделю взорваться при заправке (поговаривали, что дело здесь не обошлось без длинной руки Министерства Безопасности – слишком уж неудачно сложились для него в тот день обстоятельства), а у Реми Грановски родился сын, которого назвали Френсисом.
К этому времени и Малыш и Фольк уже достигли в стрельбе таких успехов, которые на материке сочли бы абсолютными. Но не на Энголле. Здесь умение стрелять на бегу, на звук, в прыжке или падении было весьма заурядным делом, – здесь учили куда более сложным вещам.
– Ангард, – Кроули принял широкую свободную стойку, аналогичную рапирной Ла'Ви, вытянув пистолет в лицо Фольку – атакуй!
Оружие Фолька метнулось вперед, обходя по кругу защиту Кроули, но тот с показным пренебрежением отмахнулся от него левой рукой и, перехватив ствол, ударил Фолька в лицо рукоятью своего пистолета.
– Туше.
Фольк размазал по лбу неприятно-щекотную струйку крови и снова принял ту же стойку– septima guardia.
– Ангард.
Фольк распластался в косом выпаде, целя squalembrato в живот Кроули, но тот пнул кадета в локоть и, не давая опомниться, ткнул стволом в лицо.
– Туше. Здесь у тебя были шансы уйти в вольте. Отвратительно. Так мы ничему не научимся. Ни-че-му. Сейчас идешь на склад и получаешь травматические патроны и легкий бронежилет. Я буду делать тебе больно.
В следующую ночь Фольк не спал. Доктор диагностировал у него перелом двух ребер и легкое сотрясение мозга. Но спать Фольку мешала радость – его пуля, выпущенная из низкой примы, почти попала в грудь Кроули. «Молодец, – сказал тот, – прогресс есть». Это была первая похвала, заслуженная Фольком более чем за два года обучения.
А с Малышом занимался лично Эрби Гелл. Стрелял генерал, конечно, значительно хуже Пулеметчика-Кроули, но зато он был, несомненно, лучшим тактиком Энголлы, да, пожалуй, что и Империи. И лучшим наставником тоже.
– Смотри, Малыш, это называется коридором – 40 метров, три поворота, пятьдесят манекенов. Удлиненные магазины я тебе не дам – придется перезаряжаться по ходу игры. Сам я пойду следом, в правом эшелоне – посмотрю, как у тебя получается.
Хромированные пистолеты в руках Малыша оттеняли красоту смуглой кожи. Низкая спортивная стойка. Генерал в двух шагах сзади.
– ПОШЛИ!!!
Грохот «Имброкатт» в замкнутом пространстве. Грохот падающих манекенов. Грохот сапог по дощатому полу.
– Ну что же… Казалось бы, все нормально. Но тебя убили, Малыш. Или могли убить, а это почти одно и то же. Четыре раза.
– На перезарядке и после второго поворота, генерал? А еще?
– Еще вот здесь мне пришлось добивать твоего оппонента – он получил всего лишь пулю в плечо, а здесь вот не стоило поворачивать оба ствола влево, не обезопасив себя от атаки с фронта. В реальном бою противники будут не манекенами – они будут обладать инициативой, которую тебе надо будет задавить в зародыше, а сделать это, не стреляя беспрерывно на поражение, невозможно.
– А что делать с перезарядкой?
– Во-первых, тратить меньше патронов. Про «двойной молот» я здесь не говорю – он был уже в финале. Меньше огня на подавление. А еще попробуй поражать одной пулей сразу двух оппонентов.
– Насквозь?
– Нет, Малыш, насквозь пуля не пройдет. Надо стрелять в голову по касательной – пуля хоть и отклонится градусов на пять-десять, но скорости практически не потеряет. Эту фишку придумал в свое время Кроули – вполне в его стиле: просто и эффективно. Основная проблема в том, что в бою никто не даст тебе прицелиться с точностью до четверти калибра. И тем более просчитать отклонение – все придется делать на бегу, навскидку– видеть моменты, когдаможно стрелять double longa и успевать стрелять. А перезарядка… Тут достаточно не пытаться перезарядить оба пистолета сразу и, конечно, при малейшей возможности прикрываться уже убитыми, но пока еще не упавшими. Ну что, пробежимся еще раз? Тогда пошли расставлять.
Конечно же, бригадный генерал Гелл не стал говорить Малышу, что пройти коридор и остаться живым боец, идущий в авангарде, шансов практически не имеет. Задача Малыша была в том, чтобы второй номер – Фольк – дошел до Моргессена с максимально полными магазинами. Выживание Малыша было тут лишь очень маловероятным побочным эффектом, которого очень хотел почему-то добиться бригадный генерал Эрби Гелл.
А еще случился в этот день в одной тихой кофейне в столице Империи разговор, о котором Фольк и Малыш не знали. Не потому, что от них что-то скрывали, а потому, что незачем было им – исполнителям – знать об этом разговоре.
Айно Вейсс уже бывала в кафе «Элефант». Правда, было это до того самого января семидесятого года, после которого все её визиты в Империю могли закончиться у Щербатой стены под хриплое «пли!» командира расстрельной команды. Но в этот раз дело было настолько важным, что прошлые счеты временно отошли на задний план.
За угловым столом в пустом зале кафе сидели три человека: Айно Вейсс, Министр безопасности и… И Император.
Посередине круглого стола стоял нарезанный вишневый пирог. В белых фарфоровых чашках дымился чай – у Императора и Министра черный, у Айно – зеленый.
– Давно не виделись, Айно, а ты все так же хорошо выглядишь, – Министр улыбнулся своей уже давно бывшей сотруднице.
– Спасибо… – Айно Вейсс едва не назвала Министра по имени, но все же сдержалась.
– Ваше величество, господин министр, мне поручено передать вам просьбу герцога Грановски Энголльского. Мы просим вас отказаться от бомбардировки замка барона Моргессена, которую вы планируете.
– Хмм… – Император отпил большой глоток дымящегося чая и положил на тарелку кусок пирога, – мне не интересно, откуда у вас такие сведения, мне удивительно другое: почему это вдруг Энголла выступает против того, чтобы пара звеньев «Могильщиков» высыпали боезапас на замок Моргессена? Я лично полагаю, что Моргессен слишком зажился на этом свете. И Министр полагает. И если спросить сотню прохожих в любом городе Империи, да и не только ее, то девяносто девять скажут, что да, зажился. И тут я слышу предложение отказаться от ликвидации человека, который встал поперек горла всему миру. Почему?
Собственно, ради ответа на этот вопрос и приехала в Империю Айно Вейсс:
– Господин Император, мы могли бы напомнить вам о том, что только благодаря нашей информации вы полгода назад сохранили свои «Могильщики», но тут возникнет диалог о том, кому из нас уничтожение ваших бомбовозов менее выгодно. Поэтому я скажу о другом: Энголльское герцогство планирует ликвидировать Моргессена собственными силами.

– Очень интересно, Айно. – Министр безопасности смотрел на сидящую перед ним молодую женщину с легкой иронией, он знал, что она готова ко всем вопросам и вопрос уже решен, осталось только уточнить детали. – Вы считаете, что вы имеете больше шансов, чем мы?
– Нет, министр, это было бы оскорблением. Ваш план имеет не меньше шансов на успех – разница в последствиях неудачного развития событий. В случае, если Моргессен не погибнет под вашими бомбами… Вы же помните последствия подобных неудач?
– Еще бы не помнить…
– Замечательно. Наш план лучше вашего тем, что, сорвавшись, он не приведет к каким-либо масштабным инцидентам. Мы не рискуем совершенно ничем.
– Штурмнавигаторы?
– Нет. Просто пистолетчики. Двое.
Император задумался.
– Смело… Неожиданно… А не боится ли генерал, что создаст нечто более страшное, чем Моргессен?
– Нет, ваше величество. Этих стрелков никто не будет учить защитной тактике. Они – инструмент для выполнения только одной задачи, и, если возникнет необходимость, Корпус разотрет этих стрелков в течение одного дня. Хотя и не без потерь, конечно.
– Допустим. Когда вы планируете провести акцию?
– Примерно через два года, ваше величество.
– Долго. Год.
Айно Вейсс поморщилась – такой вариант генерал Гелл предусматривал, но считал крайне нежелательным.
– Это связано с рисками, ваше величество.
– Вам придется на них пойти. Полагаю, что по основным вопросам мы пришли к соглашению? Детали обсудите с Министром…
И Император поднес к губам чашку, ясно давая понять, что аудиенция закончена.
– Спасибо, ваше величество, – Айно Вейсс встала из-за стола секунда в секунду с Министром, но не развернулась, как он, по-военному четко, а, словно внезапно вспомнив, достала из-под жакета хромированный девятимиллиметровый «компакт» и положила на стол перед Императором:
– В знак добрых намерений. – И улыбнулась, как нашкодившая девчонка.
– Айно! Тебя же обыскали на входе! – Министр не знал, плакать ему или смеяться. Император знал и смеялся.
– Да, конечно, обыскали, после этого я вытащила пистолет из кобуры у обыскивающего.
– Извините, ваше величество, виновные понесут наказание.
И Министр, внешне спокойный и невозмутимый, буквально потащил за собой на выход посла доброй воли Айно Вейсс, пока она не выкинула еще какой фортель. Лишь в гардеробе он, мгновенно отыскав глазами смущенного сотрудника, – понял уже, сволочь, как влип! – выпустил локоть Айно и, внезапно сократив дистанцию (семь метров за две секунды), дважды изо всех сил ударил его в лицо подцепленной на ходу с журнального столика массивной стеклянной пепельницей. Потом, так же целясь в голову, пнул несколько раз упавшего, посмотрел удовлетворенно на результат, бросил небрежное «уволен» и зашагал к выходу.
Проштрафившемуся агенту сегодня повезло так, как, вероятно, не везло еще ни разу в жизни. Но поймет он это только через пару минут, когда, выплевывая в раковину кровь и осколки зубов, вспомнит внезапно, что он уволен, а значит, официально понес наказание, и теперь его по правилам министерства уже не должны повесить. Он засмеется и потеряет сознание от боли и от того отражения, которое увидит в зеркале.
Министр открыл перед Айно дверцу черного служебного лимузина и пропустил её вперед. Потом влез сам и опустил двойную непрозрачную перегородку, отделяющую пассажирский «отсек» от водителя.
– Знаешь, Айно, если бы ты задавала вопросы, то я вынужден был бы счесть наши отношения крупнейшим в истории успехом энголльской разведки.
– Но я не задаю никаких вопросов, – и Айно Вейсс, улыбнувшись той самой улыбкой, которая делала ее красивейшей женщиной Империи, поцеловала Министра, – я очень соскучилась, любимый.
– Я тоже.
…В пустом зале кафе «Элефант» сидел Император. Ел вишневый пирог, пил чай, смотрел сквозь пуленепробиваемое окно на холодное столичное небо и улыбался каким-то своим мыслям.
День 1154-й
Эскадренный миноносец его величества «Звенящий» стоял в гавани Талли, принимая на борт продовольствие. Капитан Галлахад, опершись на горячую сталь второй башни, курил папиросу, когда прибежал запыхавшийся мичман:
– Капитан, радиограмма!
– От кого? – Галлахад уже выбросил недокуренную папиросу за борт и шагал в сторону мостика.
– От генерала Гелла, капитан.
На мостике капитан дважды перечитал радиограмму. Задумался. А потом махнул рукой и повернулся к замершему в ожидании радисту.
– Записывай:
«Его Величеству. Срочно. Секретно.
Ввиду обстоятельств, которые ставлю превыше долга, увожу корабль в боевой поход. По возвращении готов понести любое наказание, а также возместить все расходы, с походом связанные.
Засим остаюсь вашим верным слугой
Капитан Реми Августо Галлахад.»
– Далее…
«Бригадному генералу Эрби Геллу. Срочно. Секретно.
Буду в срок.
Р. Галлахад.»
Следующая радиограмма догнала «Звенящий» уже в открытом море. В ней было всего лишь два слова.
«Удачи. Император.»
День 1168-й
Длинный пирс тянулся через гавань и упирался на берегу прямо в ворота замка Моргессена. Девять лет назад на этом самом пирсе был покрошен из эрликонов батальон морской пехоты Архипелага, высадившийся с быстроходных моторных лодок с целью, которую имели сегодняшней ночью Фольк и Малыш. Печальный опыт был учтен – к пирсу Шато’де Гиз эсминец подходил в состоянии полной боевой готовности.
– Самый малый. Стоп машина. – Реми Галлахад доверял штурвальному и позволил ему самостоятельно притереть борт «Звенящего» к пирсу. Два человека в черных боевых комбинезонах, не дожидаясь сходен, спрыгнули вниз. Навстречу бою.
Прожектор, прорезавший темноту и осветивший пирс, ослепил на мгновение капитана Галлахада, но с толку не сбил. Капитан среагировал мгновенно и четко:
– БЧ, огонь на подавление! Прожекторы на замок! Экипаж к бою!
Через четыре секунды две носовые стотридцатки жахнули по замку, снеся поисковый прожектор вместе с половиной башни, замок осветился поисковиком «Звенящего», но трассирующая очередь автоматической пушки с капонира разнесла его в брызги. Над пирсом повисла темнота. Там под встречными трассами автоматических пушек бежали вперед Малыш и Фольк. Вспыхнула было над морем выпущенная кем-то осветительная ракета, и тут же её парашют разорвали зенитные пулеметы «Звенящего». Но за секунду, в которую «люстра» осветила своим молочно-белым сиянием гавань, Реми Галлахад увидел, что стрелки уже почти добежали до вынесенных взрывом снаряда ворот. Теперь исход настоящего боя решался не той глупой артиллерийской дуэлью, которую вел «Звенящий», а тем, что происходило внутри содрогающегося от взрывов замка.
– Что будет, если у них не получится, капитан?
Реми Галлахад не удосужился повернуть голову на вопрос первого помощника.
– Молись, чтобы у них получилось! Самый полный, лево руля, огонь не прекращать!
…Фольк влетел в ворота, едва не догнав на бегу Малыша. Он едва удержался, чтобы не всадить из длинной эстокады показавшемуся из-за угла серому гвардейцу Моргессена, но это была не его задача – ему нужно было беречь патроны и силы для финального боя, – до этого все цели принадлежали Малышу. Фольк лишь ушел в быстром вольте с линии выстрела и на выходе впервые увидел своего напарника в деле.
Срыв дистанции. Терция блокирует кварту. Руку на залом и укол под мышку на проходе. Бах! Смена уровня и двойной выстрел на контратаке в наклоне. Бабах! Теперь разгон и простая кварта в лицо. Бах! Двое бегущих навстречу. Уход от выстрела влево. Первому в колено, второй спотыкается, прыжок! Два выстрела вниз с левой. Бах! Бах! Бах! Приземление с кувырком и удар в подбородок на подъеме. С левой три пули на подавление по коридору. Бах! Бах! Бах! Бах! Выход из-под падающего тела и стокат-та с правой. Бах! Брызги крови вверх. Встречный выстрел, чудом не попавший в лицо, рывок вправо, вперед и снова вправо. Терцию свести терцией, fondo пропускаем над головой, перевод, двойной финт, выстрел!!! Мимо??? Септиму контролируем с оппозицией правой, смена линии, пистолет уводим наружу и с левой в локоть! Съел? Ас правой две пули в лоб, чтобы точно не встал. Бах! Бах! Бах! Бах! Под первый поворот закатываемся на коленях – пол мокрый от крови. Два навскидку из левосторонней примы и на подъеме кварта с правой! Double longa! Бинго! Бах! Бах! Бах! Гвардеец выскакивает из ниши и кидается на руку. Пусть себе – блокируем ему доступ к кобуре ногой, доворачиваемся и над плечом: бах! бах! бах! бах! Понял ошибку? А теперь руку освобождаем и в диафрагму с левой. Бах! И пока тело падает – чуть прижаться, чтобы замедлить падение, выдернуть из подсумка магазин и буквально вбросить его в приемник, а пока большой палец тянется к затворной задержке – с левой по наступающему противнику еще три патрона… Бах! Бах! Бах! И вперед! Кварта, Секунда, полувольт, перекат, перезарядка левого пистолета, прыжок! И…
…И время вокруг Малыша словно остановилось: в воздухе повисли гильзы, брызги крови, мраморная крошка, выбитая встречным выстрелом из стены, кожух затвора замер в каком-то неестественно-промежуточном положении и через окно выбрасывателя недоэстрагировалась еще дымящаяся гильза. Но Малыша сейчас занимали другие две неприятные вещи: в двух метрах от головы в воздухе замерла с дымными кильватерными следами за каждым дюжина свинцовых шариков картечи. И летели они чертовски точно. И так медленно, что можно было вспомнить лица немногочисленных родственников, короткую биографию и что там еще положено вспоминать за мгновение до смерти. Не вспоминалось. Потому что сквозь замерший мир шагал сейчас к Малышу человек в черной парадной форме капитан-лейтенанта имперской морской пехоты с наградным кортиком в вензелях и памятной лентой за Зурбаган на рукаве. Шел, аккуратно обходя замерших в нелепых позах гвардейцев СМалышу несвоевременно пришла в голову идея запомнить их позиции – мало ли как оно повернется еще), нагибаясь, проходя под трассами пуль, перешагивая через упавших. Шел к Малышу. Подошел. На груди офицера вместо полноценной именной ленты была совсем короткая полоска черной ткани с серебряными буквами LCF на ней.
– Здравствуй, Малыш. Ты уже понимаешь, в какую нехорошую ситуацию тебе довелось попасть?
– Понимаю, господин… – Это была только мысль, но она была услышана.
– Давай без имен. И без чинов, хорошо? – офицер прислонился к стене и внимательно оглядел Малыша. – В общем, чтобы тебя не задерживать, сразу перейду к делу. У меня есть стандартный контракт. Ну, ты, вероятно, в курсе: двадцать лет будешь жить счастливо и богато, любовь и все такое, а по истечении вручаешь мне душу. Нормально? Тогда подпиши кровью тут, где галочка. Точнее – достреляешь и подпишешь. По рукам?
– Нет. Предложение заманчивое, но я, пожалуй, откажусь. Если я и погибну, то Фольк дойдет до Моргессена и убьет его, а остальное всё – мелочи. И то, что я умру… При такой смерти я и боли-то толком не почувствую. Так что давайте не будем задерживать события.
Офицер молчал. Стоял, думал о чем-то. Смотрел на Малыша, на гвардейцев, туда, где вне поля зрения Малыша застыл, должно быть, на бегу Фольк. На картечь.
– Знаешь, – наконец сказал он, – я в курсе ваших разногласий с Моргессеном и знаю, почему вы так хотите его убить. И ещё… В случае с вами он действительно сильно переборщил. Поэтому я помогу тебе просто так. То есть даром.
Капитан-лейтенант откинулся от стены и неспешно подошел к «созвездию» картечи. Достал из кармана серебристо-матовый циркуль-измеритель и долго промерял расстояния между несущимися в пространстве с околозвуковой скоростью кусочками свинца. Затем, не убирая циркуля, извлек из ножен кортик и легонько щелкнул клинком по одной из картечин. Промерил что-то еще раз и удовлетворенно убрал циркуль в карман, а кортик в ножны. Повернулся к Малышу:
– Никому не рассказывай! – подмигнул и, насвистывая какой-то бодрый марш, ушел в одно из ответвлений коридора.
…А время начало медленно просыпаться. Подкорректированная картечина, неспешно вращаясь, забрала самую малость вверх и столкнулась с другой, подкрутила ее, а сама ушла в сторону. Другая зацепила третью и потом четвертую, а дальше…
…А дальше жизнь пришла в норму! Картечь прошла мимо, разорвав скользящим попаданием единственный подсумок. Приземляемся, и два выстрела не глядя – по памяти! И вперед!!!
Фольк не представлял, что такое вообще возможно. Выстрелы Малыша грохотали во всех направлениях. Казалось, что Малышу даже не нужно было уже смотреть, куда стрелять, все выстрелы достигали цели. Скорость продвижения по коридору была максимально возможной. Впереди показалась та самая дверь, за которой, согласно схеме, ждали Фолька Моргессен и самый важный поединок в жизни. И подловив момент, когда Малыш, распластавшись в низкой стойке, расстреляет вперекрест двух обойденных сквозь линию огня гвардейцев, Фольк перепрыгнул через ведущего огонь компаньона и, выбив ногой дверь, влетел в резиденцию Моргессена, еще в полете принимая вторую стойку Савиоло.
И свет померк в его глазах. Потому что не успела еще дверь хлопнуть о каменную стену, как в лицо Фолька ударило навстречу прыжку что-то тяжелое и угловатое. Фолька перевернуло в воздухе и бросило на пол. Сознание он не потерял.
Он увидел сквозь заливающую глаза кровь, как в перекате врывается в комнату Малыш и вытягивает руку с «Имброкаттой» – где вторая, неясно – навстречу длинному револьверу человека в деловом светло-сером костюме, стоящего у дверного проема. Навстречу Моргессену. Он увидел, как Моргессен почти балетным вольтом уходит от фланконада и, разворачиваясь, бьет Малыша в голову рукоятью. Как Малыш блокирует удар пистолетом и пытается залипнуть в оружие на вращении. Видит, как Моргессен, перехватив вооруженную руку Малыша, прикрывается корпусом и над левым плечом наводит неблокируемый револьвер прямо ему – Фольку – в лицо…
И как медленно, движением плеча отводит руку Моргессена чуть наверх и в сторону Малыш. Как необыкновенно легко освобождается от железного захвата и разрывает дистанцию. И длинный складной нож, торчащий у Моргессена в правом боку.
А потом Малыш берется за ствол револьвера и выкручивает оружие из руки самого опасного человека планеты.
Финита.
И дважды стреляет Моргессену в лицо.
И Фольк встает, и вытирает с лица кровь. И они с Малышом идут из опустошенного замка навстречу встречающему их ревом сирены, закопченному и исхлестанному свинцом «Звенящему», опустившему уже с правого борта парадный трап…
Postscriptum. Конец дня 1168-го
Фольк отказался от праздничного ужина, но обещал, что завтра, когда отоспится, с удовольствием примет участие в обеде. Им с Малышом выделили кубрик первого помощника, и, несмотря на необходимость приводить эсминец в порядок после боя, капитан Галлахад под страхом списания на берег запретил на всем корабле работы, связанные с шумом.
Фольк с аккуратно перевязанной головой лежал в койке и уже почти спал, когда Малыш, потушив неяркий электрический свет, распустила длинные черные волосы, сняла матросскую форму, выданную боцманом вместо изорванного и пропахшего пороховым дымом боевого комбинезона, легла рядом и обняла Фолька.
И тогда он наконец-то уснул.
Жанна Райгородская
Джинн в джинсах
Рассказ
И пришёл Аллах в пески Сахары, и взял он кусок серо-жёлтой глины, и разделил на три части. Из одного комочка вылепил Аллах финиковую пальму, из другого – верблюда, из третьего – человека… С тех пор и обитают все трое в пустыне.
До того как доктор Энн Хоуп приплыла на африканский континент, ей приходилось работать в пустынях родной Америки – лечить индейцев.
На севере, в штате Вайоминг, высились холмы красной глины, из которой, как фасолины из томатного соуса, торчали белые камни, россыпью перца и корицы чернели кустики можжевельника, а в долинах, под холмами, зеленели коврики трав.
Невада поражала величиной, безлюдьем и тишью. Зигзаги размытых маревом гор, серебристо-седые волны полыни…
Жаркую, как кузнечный горн, пустыню Мохаве местные жители называли горящей землёй. С июня по октябрь мухи здесь не летали, а ползали, чтобы не опалить крылья. Ящерицы переворачивались на спину, чтобы охладить обожжённые лапки. Дождевые капли испарялись в воздухе, не достигая земли.
Поэтому Ливийская пустыня не очень-то испугала американку. Ну, скальные плато. Нагромождения просоленных, растрескавшихся от зноя камней. Ну, изжелта-серые бесконечные волны солёного песка. Болыпеухие, горчичного цвета, лисицы-фенеки. Беловато-серые антилопы-мендес с чёрными витыми рогами. В светло-голубом, равнодушном, как глаза убийцы, небе – зяблики, жаворонки, под ногами верблюда – ящерицы, мелкие грызуны, пауки. Ничего особенного.
К тому же попутный караван вскоре доставил Энн в оазис Пашт, где, помимо надоевших акаций и тамарисков, высились пальмы, оливковые, гранатовые и апельсиновые деревья. Пройдя к старосте, Энн ступила в маленький дворик, прикрытый навесом из стеблей хлопчатника, и в глубине двора увидела глинобитный сарайчик с открытой дверью. В сарайчике на земляном полу стояла жаровня. Когда хозяева готовили пищу, дым, похоже, выходил сквозь отверстие в потолке – ибо потолок был чёрным от копоти. Рядом лежала тростниковая циновка и несколько одеял. В углу комнатки Энн с удивлением разглядела корову, которой хозяева заботливо кинули на пол охапку клевера. Меж задними ногами мамаши стоял телёнок и тянулся к вымени. Тут же копошился, упорно оттесняя телёнка, голый смуглый мальчик лет трёх-четырёх. Корова стояла спокойно, недвижно, не оказывая предпочтения никому.
Мальчик обернулся, приветливо растянул края толстогубого рта и сказал по-арабски:
– Здравствуйте, госпожа.
Так началась жизнь Энн Хоуп в оазисе. Жилище ей отвели похожее, корову, правда, не подарили, однако натащили со всей деревни глиняных мисок, кувшинов, вмазали в стену кусочек зеркала и даже приволокли объёмистый деревянный сундук. К счастью, в племени пашт женщины лиц не закрывали, так что, надев шальвары, сандалии и светлое платье, ниспадающее до пят, закрывающее руки и суженное под грудью, да ещё обернув вокруг тела и головы кусок плотной хлопчатобумажной ткани, обгоревшая до черноты Энн сходила за местную – разумеется, пока молчала. Сходство дополняли тонкие серебряные браслеты на запястьях и медные – на щиколотках.
Знакомя аборигенов с достижениями современной медицины, Энн не забывала вносить в блокнот секреты местных знахарей. Репчатый лук здесь почитали как священное растение. Слои луковицы символизировали устройство Вселенной. Соком алоэ лечили раны, ожоги и опухоли. Во время хирургических операций лекари применяли для наркоза губки, пропитанные опием. Будили же прооперированного с помощью уксусной губки, которую прижимали к носу и рту. К ранам и ожогам прикладывали мёд и масло. Прикладывали также кошачью шерсть, ибо кошку туземцы считали заповедным, сакральным животным, но с этим обычаем Энн повела решительную борьбу. Для лечения переломов использовались тростниковые шины. Мазь для роста волос (сало газели, змеиный жир, жир крокодила и сало бегемота) американка опробовала на себе, и результат не замедлил сказаться.
Люди племени пашт, к приятному удивлению Энн, не страдали ни от туберкулёза, ни от венерических болезней. Жаркий климат и строгость исламских законов уберегли жителей пустыни от бедствий, косивших американцев и европейцев. Поэтому основное внимание врач обратила на детские недуги, болезни сердца, желудочно-кишечного тракта и гинекологию. Через полгода Энн снискала неподдельное уважение жителей. Даже имам, вначале бурчавший себе под нос что-то о неполноценности гяуров и гяурок, слава Аллаху, не запротестовал, когда американка устроила нечто вроде женских курсов.
В одном только жители оазиса пытались ограничить свободу Энн. Неподалёку, за солерудником, находились руины древнего города, основанного, похоже, во времена фараонов, а может, ещё пораньше. Стоило американке заикнуться о том, что хорошо бы сходить в развалины, как все пациенты, независимо от пола и возраста, начинали вопить, что в руинах люди за два-три часа умирают от жажды, что там водятся дэвы и джинны. Полгода Энн слушала чужие советы, но как-то в свободный день, ещё до восхода солнца, выскользнула из гостеприимного посёлка и, никого не предупредив, а лишь надев поверх платка широкополую шляпу, пошла на северо-северо-запад. Из провианта Энн взяла немного сухарей, фиников и закинула за спину небольшой мех с водой.
Мили через три пути по бесконечной равнине, усыпанной белым песком, показались соляные копи, накрытые, как зонтиком, голубою тенью горы. Много лет назад здесь плескались волны. Море отступило, а соль осталась. Солнце уже выплыло из-за горизонта, но жара ещё не плавила всё живое, поэтому работа кипела. Территория рудника была покрыта холмиками грунта, выброшенного при рытье ям и соединяющих ямы канав. В ямах искали соль. Из-под земли поднималась унылая песня рабочих, нарушающая давящую пустынную тишину. Как-то раз Энн в сопровождении старосты спускалась в одну из ям по узким крутым ступеням, липким и скользким от соли и от воды. Чем ниже, тем гаже становилось от запаха гнилой влаги, смешанной с солью. Перехватывало горло. Внизу суетились распаренные люди в набедренных повязках, с кожей, изъеденной язвами. Молодой рабочий носился вверх-вниз с ведром из козлиной кожи – откачивал воду. Энн дала старосте корпию, ранозаживляющую мазь и долго втолковывала, что, если случай серьёзный, пациента надо будет не просто перевязать, а ещё и дать ему отлежаться. Понял староста или нет – неизвестно.
Миновав рудник и примыкающую к нему убогую деревушку, Энн подошла вплотную к горе. Где-то здесь и находился таинственный город духов. Из основного подковообразного кряжа выступали многочисленные мелкие, сильно выветренные скалы-столбы. Узкие коридоры между колоннами порою проходили под каменными «арками» и очень напоминали улицы. Может, когда-то по ним и правда бродили люди… Так или иначе, лабиринт казался сказочным, неопасным, и Энн смело углубилась в него. Мало-помалу столбы сменились гигантскими скальными блоками, по форме напоминающими кирпичи. На боковых краях, облицованных известняковыми плитами, при желании можно было разглядеть изображения верблюдов, лошадей, антилоп, наголо бритых лучников и жрецов в париках. Рисунки были сделаны в четыре краски – кроваво-красная киноварь, чёрный уголь, белый известняк, серо-жёлтая глина. Под ногами валялись костяные гарпуны (неужели здесь когда-то ловили рыбу?!), каменные грузила для сетей, медные и кремнёвые наконечники стрел, черепки из глины. Энн читала, что в Древнем Египте очень любили синий цвет, но он здесь как раз отсутствовал. Да и верблюдов, кажется, завезли позднее, а на рисунках они гордо вышагивали, высокомерно оглядывая людей.
На родине, в США, когда Энн была ещё школьницей, она видела в кабинете истории ленту времени. Картинка одной эпохи сменяла изображение другой, а пониже отмечались века. Лента стыдливо умалчивала истребление индейцев и порабощение негров, но в целом ориентироваться по ней было можно. И здесь, на одной из плит, Энн обнаружила нечто сходное!..
На первом отрезке суетились невысокие чёрные люди, вооружённые дубинками и бумерангами. Господи, уж не от Африки ли откололась Австралия, подумала Энн. В пуританской школе, где училась она, больше нажимали на Библию, чем на естественные науки. Сценка изображала охоту на буйвола.
На втором отрезке буйволов пасли пастухи, а поодаль тренировались лучники.
На третьем бритоголовые египтяне с припухшими губами и миндалевидными глазами правили боевыми колесницами (лошадь, видимо, уже появилась), плясали и бражничали с танцовщицами. Волосы девушек были украшены лотосами.
На четвёртом арабы в бурнусах погоняли верблюдов.
О Аллах, вздохнула Энн. Хоть что-то стало понятно.
– Хелло, гёрл! Вот из йор нейм?[2] – послышалось у неё за спиной. Родной язык с непривычки показался марсианским.
Энн обернулась и увидела молодого, лет тридцати, человека, русого, с короткой бородой, в клетчатой рубашке, кожаных сапогах, джинсах и пробковом шлеме. Путник сидел на одном из скальных блоков, подстелив кожаную жилетку. На коленях он держал открытый чемоданчик, в котором, как ни странно, не было ничего, кроме маленьких чёрных клавиш. Больше всего прибор напоминал пишущую машинку, но вместо листа бумаги в верхней открытой части чемоданчика светился крохотный экран наподобие синема. Однако всё изображение было в цвете.
– Энн Хоуп меня зовут. А тебя?
– Дольф Браун.
Это имя ничего не сказало Энн.
– Ты откуда взялся?
– Из будущего. Вот, смотри.
Джинн он был или сумасшедший, а спорить с ним не стоило. Секунду Энн хотелось убежать, но тут же американка рассердилась на себя. Для того она шла в город мёртвых?..
На экране чемоданчика Энн увидела статую Свободы, а поодаль, как ей показалось, две дымящиеся заводские трубы. Затем кадр сменился – похоже, неведомый фотограф приблизился, – и врач разглядела, что на экране не трубы, а горящие небоскрёбы. Одно из зданий таранил железный ястреб, отдалённо напоминавший фанерно-матерчатый (Энн уже не помнила точно, из чего он там сделан) аэроплан братьев Райт. Небо над зданиями заволакивал мазутно-густой чёрный дым.
– Это что, сказка? – спросила Энн. Джинн в джинсах грустно покачал головой.
– К сожалению, это произойдёт на самом деле. Приблизительно через столетие, чуть поменьше. Мы хотели, чтобы весь мир жил по нашим законам – имел нашу свободу религий, свободу слова, свободу голосовать, свободу собраний, возможность быть несогласными друг с другом. А исламские фанатики нас ненавидели. Они хотели во всём мире ввести многожёнство, упрятать женщин под чадрой, укутать в мешковатый хиджаб…
Энн вспомнила свой давний роман с женатым коллегой – ещё там, на родине, и подумала, что в полигамии что-то есть. Однако вслух сказала другое.
– Но здесь, в оазисе, мусульманки ходят с открытыми лицами, – возразила Энн. – И платья у них нормальные – как на мне. Вот, гляди. – Энн привстала и покрутила подолом. Строить глазки магометанам было опасно, а пришелец её не пугал.
– Здесь нравы посвободнее. Люди воюют с природой, им не до дури, – вздохнул пришелец. – Впрочем, если дойдёт до большой войны, у всего американского континента есть шанс стать пустыней. У нас теперь чудовищное оружие.
– Расскажи, пожалуйста, толком, – попросила Энн.
– Пока мы, цивилизованные люди, не помогали исламского миру, мусульмане были заняты не политикой, а борьбой за выживание, – поведал американец. – Но такие, как ты, простофили, поделились медицинскими секретами, и смертность упала. Произошёл демографический взрыв. Мусульмане как рассуждают? Природа хочет Ахмада или там Фатиму – пусть будут Ахмад или Фатима!.. Они же, дикари, плевать хотели на контрацепцию. Другие прекраснодушные энтузиасты научили магометан физике. А у них ведь какая религия? Агрессивная. Мохаммад, шариат, газават. Священная война. И пошло-поехало. Всего рассказывать не буду, опишу один только день.
В начале двадцать первого столетия появились в исламском мире вожди, которых, по-хорошему, на верблюдах надо вешать. И, прикрываясь зелёным знаменем, начали говорить от лица всех магометан, хотя многие исламские мудрецы и просто добрые люди осуждали этих фанатиков. Погоди, сейчас процитирую, – пришелец пощёлкал кнопками чемоданчика. – Та-ак… «Убийство американцев – как военных, так и гражданских, а также их союзников – это долг каждого правоверного мусульманина, который должен использовать для этого любую подходящую возможность, где бы он ни находился».
– Ничего себе! – вырвалось у Энн.
– А теперь – только факты, – продолжал янки. – Шахиды-смертники захватили четыре пассажирских самолёта в разных аэропортах страны. Первый врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Удар пришёлся между девяносто третьим и девяносто девятым этажами. Столб пламени был таким мощным, что, когда огонь устремился вниз по шахтам лифта, сгорели люди даже в фойе здания. Примерно тысяча людей оказалась в ловушке на сотых этажах. Человек двести из числа попавших в западню спрыгнули вниз, предпочитая такую смерть гибели от огня. Некоторые пытались выбраться на крышу башни, в надежде на эвакуацию вертолётами, но двери на крышу были задраены, а дым и жар пожаров не дали спасателям подлететь. Башня обрушилась.
Энн поёжилась. От волнения она даже забыла спросить, что такое вертолёты. Да и какое это имело значение?..
– Спустя пятнадцать минут второй самолёт протаранил Южную башню. Трагедия повторилась. Третий самолёт врезался в Пентагон. Это пятиугольное здание около Вашингтона, где сидит военное ведомство, – пояснил пришелец. – Четвёртый лайнер пассажиры пытались отбить, и он рухнул в пенсильванском лесу возле Питтсбурга. Ни один из тех, кто был на борту захваченных самолётов, не выжил, хотя кто-то из них успел позвонить домой. Нынешние телефоны работают без проводов и свободно входят в карман, – вздохнул джинн. – И все думают – вот, раз я окружён комфортом, значит, я в безопасности. Ни черта подобного. Всего погибло три тысячи человек. Восемнадцать смельчаков ухитрились покинуть зону попадания в Южной башне и спастись, и то потому, что удар пришёлся по касательной.
Земляк достал из кармана фляжку и отхлебнул, затем, спохватившись, протянул огненную воду Энн. Женщина, обжигаясь, выпила проклятое Аллахом зелье, но опьянение не пришло, только сердце заныло, да кровь застучала в висках.
– Что будет дальше, не знаю, – вздохнул пришелец. – Исламские фанатики верят в загробную жизнь. И наши слабости они разгадали. Используют в качестве живого щита детей и женщин – и чужих, и своих. Своих ещё и вооружить могут. И хитрят. Они ведь по складу характера не только воины, но и торговцы. Те ещё бестии. Утверждают, что наши спецслужбы сами устроили этот ужас. Пожертвовали невинными людьми, чтобы развязать большую войну. Представляешь?
Энн подавленно молчала. Услышанное придавило её, как плита хозяйского надгробия египетскую рабыню.
– А ведь любую беду легче предотвратить, чем расхлёбывать, – продолжал искуситель. – Перестань делиться секретами! Уезжай! Как только ты вернёшься на родину, мы тебя найдём и за деньгами не постоим. Ну, сколько ты за это хочешь?..
Энн прикрыла глаза и увидела беременную Галию… Пожилого, стремительно слепнущего Фарада… Полубезумную Айтан, с которой только Энн и могла договориться… Десятилетнего Мурада, кое-как приходящего в себя после укуса рогатой гадюки…
– Я подумаю, – нейтрально ответила Энн.
– Хорошо. Я снова приду к тебе, и поговорим, – кивнул джинн. Изображение его вместе с чемоданчиком зазмеилось, как воздух над костром, и растворилось. На камне осталась лежать кожаная жилетка. Надо же, могучий дэв жилетку забыл.
Это была последняя мысль Энн перед обмороком. Всё поплыло перед глазами, и кто-то разрезал киноленту её сознания.
Очнулась Энн в середине дня. Солнце калило немилосердно. Кожаная жилетка, по-прежнему валявшаяся на камне, обжигала. Энн попыталась встать, но тут же бессильно опустилась на землю. Солнце выпило силы, пока женщина лежала без памяти. Перед глазами плясали зелёные и лиловые пятна. Энн развязала бурдюк и, то и дело прикладываясь к нему, двинулась – где пешком, а где и ползком – к выходу из лабиринта. То ли от перегрева, то ли от неопытности Энн плохо понимала, что влагу надо беречь. На полдороге Энн подкрепилась сухарями и финиками, от чего жажда вспыхнула с новой силой.
Выбраться на открытое место удалось, но там, казалось, стало ещё жарче. Путь по широкой, голой, усеянной песком равнине был крайне труден. В какой-то момент Энн почудилось, что на горизонте показалась цепочка верблюдов. Она даже как будто услышала позвякивание колокольчиков, но всё – изображение и звук – растворилось в раскалённом, дрожащем от зноя воздухе. Недаром арабы издавна населяли пустыню множеством духов, сбивающих с дороги и сводящих с ума одиноких путников…
На пути торчало сухое дерево без единого листочка, но с большими, толстыми ветвями, дающими тень. Огонь костра мог быть увиден издалека, но Энн не захватила спичек, да и сил обламывать ветки не было. Американка опустилась на землю, прислонившись спиной к стволу, и с горя доела последние сухари и финики. Как же это было опрометчиво… Остатки воды кончились очень быстро, а солнце и не думало закатываться за горизонт. Энн ползала вокруг корявого ствола, каждую минуту меняя место, чтобы уловить скудную тень, которую отбрасывали голые ветви. Он жажды Энн прокусила губу и начала сосать собственную кровь. Так прошло несколько часов. Энн то теряла сознание, то снова приходила в себя, всё более и более слабея. Она понимала, что вполне может умереть от солнечного удара, но на неё уже навалилось ватно-каменное безразличие.
Наконец солнце упало за горы, и вскоре, будто по волшебству, Энн услышала крик верблюда. Слегка привстав, Энн обвела затуманенным взором равнину и прохрипела:
– Воды, воды!..
Верблюд опустился на колени, всадник спешился, и в стремительно густевших африканских сумерках Энн узнала Самеда, муженька беременной Галии. Через несколько мгновений Самед был рядом и обмывал лицо и голову Энн водой. Затем предложил ей выпить глоток. Совершенно высохшее нёбо и острая лихорадка сделали воду горькой, как желчь.
– Слава Аллаху, слава Аллаху, – шептала Энн.
– А что имам скажет? – улыбался Самед, обнимая находку за плечи.
– Что жена скажет? – переспросила Энн, еле шевеля иссохшим по-черепашьи ртом. – Я бы на её месте тобой гордилась!
– Жена-то при чём? – махнул рукой Самед, и американка вспомнила, что перед ней всё-таки мусульманин. – Я про имама говорю!.. Я до чужой женщины дотронулся. Это грех. А тебя имам вообще еле терпит…
Уже в оазисе Энн ощутила смутное беспокойство. Хотелось посоветоваться с кем-то умным. Но имама дразнить не стоило. Да и не был он мудрецом.
Кофейня в оазисе была самая захудалая – внутри не предусматривалось даже скамеек. Сидели на глиняном полу, прихлёбывая чёрный кофе или кышр – напиток из шелухи кофейных зёрен. Заведение называлось «Шарк» («Восток»). Энн как-то проговорилась, что по-английски «шарк» – акула, и с тех пор так прозвали жадноватого кафечи.
Спустя неделю после похода Энн в город мёртвых в кофейню пришёл меддах – сказочник. Ночь мудрец проводил под крышей – кофейня заодно служила и постоялым двором – ас утра присаживался на базарчике и заводил рассказ. Сидел он обычно по-турецки на плетёной из пальмовых листьев циновке. Рядом с собой ставил медную плошку, куда желающие кидали монеты. Одет меддах был в шёлковый синий халат с золотыми звёздами, подпоясанный широким солнечно-жёлтым кушаком. Из-под халата виднелись полотняные шаровары. На голове сказитель носил белый тюрбан, на ногах – обтянутые кожей деревянные дощечки с двумя петлями – большая обхватывала щиколотку, маленькая – большой палец.
В тот день Энн пристроилась к небольшой группке слушателей, узнала много интересного про царицу духов и змей, про султаншу из подземелья, про семерых львов и одного быка, про то, как дэвы в бане дротики кидали… Все сказки учили добру. Наконец народ стал расходиться. Сказитель свернул циновку, взял её подмышку и пошёл в сторону кофейни. Энн последовала за ним, желая и не решаясь начать разговор. В одном из пустых переулков – стояла жестокая дневная жара и люди, как ящерицы, забились в норы-лачуги – мудрец обернулся к чужеземке и вполголоса спросил:
– Что, сестра? Сказку рассказать хочешь? Или совета спросить?
– Да, отец… И сказку, и совета… Одна моя подруга… Тоже американка… Врач… Была в городе духов… Когда-то давно… И там…
Опасливым полушёпотом, путаясь, сбиваясь, не всегда подбирая точные арабские слова, Энн Хоуп довела рассказ до конца. Мудрец поднял на неё карие молодые глаза, странно смотрящиеся на морщинистом пожилом лице с козлиной бородкой, и осведомился:
– Это было с тобой, сестра?
– Да, – одними губами прошелестела Энн.
– И что ты решила? Выбирать тебе.
– Наверное, останусь, отец. Я нужна этим людям. А сердце всё равно болит. Как будто своих предаю.
– Не переживай, сестра. Рая на земле никогда не будет. Одна опасность сменяет другую, затем приходит новая песчаная буря, уносит жизни… И снова сияет солнце. Многие боятся, как бы чего не вышло, и потому не делают ни добра, ни зла. Но во что превратился бы мир без добрых и смелых? У твоих правнуков свои проблемы, а у тебя свои. Решай их, а потомкам помогут их современники. Аллах позаботится обо всех. Ты сделала хороший выбор. Прощай.
Энн поймала себя на недостойном американки желании поцеловать руку слагателю историй, но старик уже шёл дальше по улочке, стуча сандалиями и поднимая пыль.
Энн перевела дух. Она и раньше примерно знала, что скажет Дольфу Брауну, если он снова явится, но меддах нашёл точные слова. Что ж… На то он и сказитель.
Игорь Перепелица
Спи, малыш
Рассказ
Папин нос уныло нависает над губами, шепчущими безнадежно:
– Спи, малыш, спи…
На папином носу большие очки, из-за которых глаза за стеклами кажутся маленькими, далекими, и малыш стаскивает их с носа, удивляется, что глаза у папы выросли:
– У…у-у-у!
– Спи, малыш, – повторяет папа, поправляет очки, зевает, прикрыв рот ладонью. – Спи-и-и…
Мама, свернувшаяся калачиком на диване, подтягивает в унисон:
– Спи-и-и…
Малыш хихикает, так у них, у родителей, получается смешно мычать. Папа сонно моргает:
– Определенно – зубы. Это зубы. Ты смотрела?
– Угу, – лепечет мама, натягивая одеяло.
– Показались?
– Угу…
– Зубы! – блещет папа улыбкой, сверкает очками. – У нас – зубы! Урра!
– У? – мама приоткрывает один глаз и смотрит на папу, едва слышно проговаривает: – Что за зубы?
Папа сонно смотрит на маму, улыбка его вянет:
– Спи, солнышко.
Он смотрит на часы, бубнит:
– Полтретьего, – трясет кудрявой головой, словно не верит себе, – полтретьего…
Подхватывает малыша на руки:
– Спи, малыш, спи…
И бродит по комнате, покачиваясь, словно заводной бегемотик.
Малыш видит, что веки у папы закрыты; следит, не покажутся ли папины глазки между ресниц, присматривается, не моргая, но скоро становится скучно, и он глядит в потолок, где колышется папина тень. Это тоже скоро становится скучно. И малыш хнычет.
Папа, не отрывая глаз, заводит заунывно:
– Котыку сирэ-энькый… котыку билэ-эгнькый… нэ ходы по ха-а-ати… нэ буды дытя-а-ати… а-а-а… а-а-а…
Малыш вздыхает. Как надоела эта песенка. Как надоела…
Закрывает глаза, как папа, и морщится, и зевает, покачиваясь в отцовских руках, как в лодке, и, кажется, уплывает куда-то.
Уплывает…
Открывает глаза. Вокруг темно, но он еще на руках, ему тепло и уютно, только пахнет неприятно сыростью и гнилью.
– Спи, Фимочка, спи малыш мой, – слышится дрожащий шепот.
Малыш крутит головой и различает над собой узкие полоски, откуда едва сочится свет, – там, наверху, кто-то ходит, поскрипывает половицами, качается тенью, вздыхает тревожно.
– Спи, малыш, спи, – тревожится и шепот у щеки.
У темноты, держащей его в теплых руках бледные большие глаза. Темнота дышит едва-едва, она глядит вверх и полоски света мягкими тенями ложатся на ее влажные щеки:
– Ну, зачем ты проснулся, Фимочка, зайчик мой…
В рот малыша тычется твердый сухой сосок, и малыш ловит его губами, тянет привычно, мнет деснами, но молока нет.
– Ты только молчи, молчи, – шепоток вьется, стелется, словно дымок. – И не бойся, малыш, не бойся. Мне тоже страшно, зайчик, всем страшно, родненький…
Малышу скучно сосать пустую грудь. Он выталкивает языком сосок и пищит возмущенно. И в тот же миг слышится сверху:
– Идут! Сюда идут! Тихо!
Темнота склоняется к нему, горячим шепотом дышит:
– Фимочка, потерпи, зайчик, потерпи немножечко.
Скрипит, грохочет что-то наверху, звенит.
– Что, не рада гостям? – слышится веселый мужской голос.
Гром шагов над головой пугает малыша, он ерзает, и темнота касается его губами, и ее едва слышно:
– Спи, малыш, спи, родненький мой…
– Отчего же не рада, – доносится женский раздумчивый ответ. – Заходи, раз пришел…
– Жидовка где? – обрывает ее мужчина.
– Что еще за жидовка?
– Что за водой к тебе заходила вчера, да так и не ушла. Где она?
– Не было никакой жидовки, это кто ж такого наговорил только…
Снова грохот, короткий, прерванный вздох, визг половиц, словно на них упало тяжелое.
– Некогда мне с тобой болтать, – снова слышится мужчина. – Ишь, развела тут.
Малышу страшно от этих криков и грохота, он пищит. Рот его мгновенно накрывает теплая ладонь:
– Тише, тише, Фимочка…
– Слыхал? Ну-ка глянь в подполе.
Топот, скрип и над головой вдруг раскрывается светлый квадрат, ослепляет малыша и он моргает.
– Тут они, господин фельдфебель!
Сверху заглядывает веселый дядя, молодой, светлоглазый, на его рукаве белая повязка с черной птичкой. Он улыбается белозубо, счастливо, и малыш улыбается ответно, тянет к нему ручки, хихикает, радуясь, что дядя так весел, что сидеть в темноте больше не придется.
– Ишь, спрятались, жиды, – усмехается дядя, снимает с пояса ребристый кругляш и, оторвав от кругляша тонкое колечко, бросает малышу, кричит: —Ходу!
И убегает. Гремят, удаляясь, шаги. Кругляш, постукивая по ступенькам, катится вниз, и малыш следит за ним, тянется к новой игрушке.
И от яркой вспышки вдруг становится так больно, так страшно, что малыш кричит в ужасе, вскидывается.
– Ну, что такое, что ты кричишь…
Малыш не может остановиться, распаляясь в плаче, а чьи-то руки поднимают его, прижимают к мягкой груди, качают, качают…
– Что с тобой, зайчик наш, что такое…
И боль и страх отступают. Малыш видит сквозь слезы красный огонек ночничка, отражающийся в папиных очках. Лицо мамы, склонившееся над ним:
– Не плачь, мальчик мой, не плачь.
– Что там? – голос папы, сонный, сиплый.
– Приснилось что-то, – успокаивает и его, и себя, и малыша мама.
Папа моргает задумчиво, снимает очки и поворачивается к стене, бубнит:
– Это зубы. Определенно – зубы.
– Зубы, зубы, – кивает мама, смотрит с улыбкой. – Спи, малыш, спи…
Две миниатюры
Сергей Шинкарук
Специалисты
На это экстренное, можно даже сказать чрезвычайное, совещание были собраны ярчайшие умы планеты, отвечающие за контакты с внеземным разумом. В новенькое, 24-этажное здание из хрусталя и мрамора, специально построенное по данному случаю, прибыли:
выдающийся ксенопсихолог, лауреат Нобелевской премии китаец Чай Куй Ши, заслуженный космозоолог нигериец Чиди Йобо, контактер с гуманоидными цивилизациями Джек Петерсен, контактер с негуманоидными расами Иван Грибов, популярный структуральный лингвист Джани Палермо, глава ассоциации «Прогрессоры без границ» Фриц Дитрих, а также специалисты по нуль-и подпространственным переходам, отважные погружатели в черные дыры, просто знаменитые астронавты.
Вопрос, стоящий перед цветом земного интеллекта был как никогда остр и злободневен. Его сразу же четко сформулировал Чай Куй Ши:
– Парни, нафиг мы все нужны, если до сих пор никакого внеземного разума не обнаружено, а человек дальше Луны не летал и не скоро полетит?!
Николай Романецкий
Возрождение мечты
Когда человечество осуществило пилотируемую экспедицию на Марс, люди в одночасье лишились воинственности.
Когда долетели до спутников Юпитера, исчезла жажда власти.
От запланированных полетов к Венере отказались немедленно. Как и на Меркурий…
Казалось, рухнула вековая мечта…
Но оставался еще Сатурн. И надежда на обретение бессмертия.
2
Личности. Идеи. Мысли
Александр Етоев, Владимир Ларионов
Книга о Прашкевиче, от изысканного жирафа до белого мамонта
16 мая нынешнего года исполняется 70 лет замечательному писателю, поэту, переводчику, историку фантастики Геннадию Мартовичу Прашкевичу. Вот мы и решили сделать подарок нашему большому (он ведь под два метра ростом) другу и написали к юбилею Мартовича странную книгу, построенную следующим образом: каждая глава посвящена определенному периоду в жизни Прашкевича, а начинаются главы с беседы Владимира Ларионова с Геннадием Прашкевичем и заканчиваются вольным комментарием Александра Етоева.
Предлагаем вниманию читателей «Полдня» журнальный вариант 5-й главы.
Владимир Ларионов – Геннадий Прашкевич
Беседа пятая: 1983–1998. Новосибирск
Работа без службы
«Денежки кончились в наших смешных
кошелечках».
Палой листвой обнесло все питейные
точки…
В середине 80-х издаваться Геннадию Прашкевичу было непросто. Нечастые публикации в журналах («Уральский следопыт», «Сибирские огни», «Химия и жизнь»), детская книжка «Трое из тайги» (1984) в Западно-Сибирском книжном издательстве. Литературные перспективы выглядели туманно. Но в 1987 году вышла в свет книга повестей «Уроки географии», а в 1989-м – роман «Апрель жизни». Роман был чудовищно изрезан цензурой, целые главы выброшены, однако именно там была сформулирована до сих пор близкая сердцу писателя теория прогресса:
«Ведь с той поры прошло много-много-много лет.
От самого себя и от Саньки, от Реформаторши, от деда Фалалея и других живых, а частью уже ушедших людей я отделен не только запуском первого искусственного спутника Земли, не только полетом в космос Юрия Гагарина и триумфальной высадкой человека на Луне. От самого себя и от Саньки тех лет я отделен не только уничтоженными башнями нью-йоркских Близнецов (а я поднимался на Южную), не только такими долгими (как тогда казалось) днями ГКЧП, и Чернобыльской катастрофой, и дефолтом 1998 года. Сама политическая карта мира менялась на моих глазах, границы государств съеживались и расширялись, вели себя как живые. Пол Пот, Йенг Сари, Джон Кеннеди, Ким Ир Сен, Мао Цзе-дун, Даг Хаммершельд, Хрущев… Тысячи и тысячи сливающихся в общей панораме лиц… Все уходит, все уходят… Однажды в украинском баре (уже зарубежном) я спросил американского фантаста Роберта Шекли (редкие пегие волосы, оттопыренная губа, морщинки от глаз к уголкам рта): «Почему вы так много пишете о смерти?» Он улыбнулся: «Потому что это самый интересный момент в жизни».
Не знаю, не знаю…
На моих глазах отшумели десятки разных теорий…
Одни оказывались изначально ложными, другие вызывали протест, третьи – активный, но все-таки временный интерес, к некоторым и сейчас сохраняется должное уважение. Но самой нужной, самой человечной кажется мне та, знанием которой так щедро наделил меня мой друг Санька Будъко 18 мая 1957 года. Что бы ни происходило в мире, как бы ни складывалась наша жизнь, я повторяю и повторяю те слова, как заклятие: ведь не может быть, ведь не может быть, ведь не может быть чтобы к вечеру каждого прожитого нами дня мы не становились бы чуть лучше, чем были утром».
Мартович, выходит, что твой роман «Теория прогресса», выдвинутый в 2010 году издательством «Текст» на литературную премию «Русский Букер», – это переработанный «Апрель жизни»?
Нет, это не переработка. Или, скажем так, не просто переработка.
Из «Апреля жизни» было выброшено главное: история инвалида войны Пескова. А я и сейчас иногда вижу во сне всех этих костыльников и колясочников, выигравших войну и выброшенных на перроны и улицы – нищенствовать и помирать. Мы боялись их и в то же время жалели. И когда они однажды исчезли, это было так же непонятно и страшно, как раньше было страшно и непонятно видеть их массовое появление. Специальным указом инвалидов раскидали по провинциальным домам инвалидов. «Затопили нас волны времени, и была наша участь мгновенна». Теория прогресса работает не на всех – в этом ее минус…
Перестройка помогла Геннадию Прашкевичу вернуться в литературу.
«Пять костров ромбом» (1989),
«Фальшивый подвиг» (1990),
«Кот на дереве» (1991),
«Записки промышленного шпиона» (1992),
«Шпион против алхимиков» (1994),
«Шкатулка рыцаря» (1996)…
Период конца восьмидесятых – начала девяностых был чрезвычайно сложным как для страны в целом, так и для системы книгоиздания в частности. Когда многие писатели потеряли надежду на публикации, а некоторые потеряли и себя, погрузившись в беспросветный процесс выживания, Прашкевич продолжал активно работать, искал новые формы, экспериментировал. «Я писал теперь то, что вообще ни в какие ворота не лезло. Страна перевернулась, и я вошел в образовавшуюся брешь».
Одной из таких нестандартных, «не лезших ни в какие в ворота» вещей стала повесть-эссе «Возьми меня в Калькутте». Это своеобразный художественный спор с писателем Михаилом Веллером, выпустившим в 1989 году в Таллинне брошюрку-инструкцию для прозаиков под названием «Технология рассказа». Веллер в этом тексте подробно анализирует процесс создания рассказа, объясняет принципы организации литературного материала, пытаясь поверить алгеброй гармонию. Прашкевич эмоционально ему возражает: «Ты можешь с ювелирной точностью разбираться в точечной или плетеной композиции, в ритмах, в размерах, а можешь обо всем этом не иметь никакого представления, – дело не в этом. Просто существует вне нас некое волшебство, манящее в небо, но всегда низвергающее в грязную выгребную яму. Что бы ни происходило, как бы ни складывалась жизнь, как бы ни мучила тебя некая вольная или невольная вина, все равно однажды бьет час, и без всяких на то причин ты вновь и вновь устремляешься в небеса… забывая о выгребной яме». И подтверждает свой тезис страницами, написанными с любовью и горечью, смешивая реальность и фантастику, размышления и воспоминания. Опубликованное в журналах «Простор» (1993) и «Постскриптум» (1997) эссе органичной частью вошло в «Малый Бедекер по НФ, или Книгу о многих превосходных вещах» (2006).
«Бедекер» – книга бесконечная.
Геннадий Прашкевич пишет ее много лет.
Самый полный на данный момент вариант вышел в серии «Звездный лабиринт: коллекция» издательства ACT (Москва). Отдельные главы, публиковавшиеся до этого в московском журнале «Если» (2002) и киевской «Реальности фантастики» (2004), получили ряд престижных литературных фантастических премий, в том числе – две «Бронзовые Улитки» от Бориса Стругацкого. В обычной жизни бедекер – это название широко распространенных путеводителей по странам, содержащих обширный фактический материал (от фамилии немецкого издателя Карла Бедекера, еще в начале 18-го века организовавшего в Кобленце фирму по их выпуску). Немец Бедекер составлял свои путеводители на основе сведений, полученных им в заграничных путешествиях. Сибиряк Прашкевич создает свой реалистично-фантастический бедекер, используя бесценную информацию, полученную на протяжении своего большого путешествия во времени, называемого жизнью. Первый том (фактически изданный) посвящен людям, которых автор знал достаточно близко. Это живые лаконичные заметки о братьях Стругацких, о Валентине Пикуле,
Юлиане Семенове, Иване Ефремове, Викторе Астафьеве, Виталии Бугрове, Борисе Штерне, Михаиле Михееве, Георгии Гуревиче, Сергее Снегове, о многих и многих других прозаиках и поэтах. «Хотелось представить людей, которые во многом определили мою жизнь, такими, какие они были на самом деле, без литературоведческих мифов».
Мартович, расскажи о продолжении «Бедекера».
В принципе, он должен состоять из трех частей.
Первая – «Люди и книги» – уже издана, пусть и в неполном виде.
Вторая часть будет посвящена алкоголю. Слишком много друзей, слишком много значительных личностей погибло на моих глазах, не справившись с Зеленым Змием. Слишком многие могут погибнуть. Я хочу рассказать об алкоголе в литературе – на примере своем, на примере своих друзей. Думаю, это нужно. Алкоголики сами не спасаются, они этого не могут. Я сам пропустил через себя этот дурной поток, прежде, чем дошел до главного кантовского императива: звездное небо над головой и мораль во мне.
Третья часть – основной инстинкт, потому что живая литература (а точнее, сама жизнь) на нем замешана. Я не собираюсь скрывать темных сторон даже своей собственной жизни. Неважно, будет ли кто-то обижаться. Я ведь не из тех наивных людей, которые путают истину с правдой.
В одной из глав «Малого бедекера по НФ» ты опубликовал письма Бориса Штерна. В них есть откровенные, достаточно жесткие высказывания Бориса Гедалъевича в адрес некоторых, в том числе ныне здравствующих, людей из литературного мира. Это вызвало обиды и непонимание. В варианте «Малого бедекера», опубликованном в журнале «Если» (№ 3–5, 2002), высказывания Штерна были отредактированы, а проще говоря, убраны. Может, так надо было сделать и в книжном издании?
А зачем? Мнение Штерна – это мнение Штерна.
У меня хранится переписка с самыми разными писателями, и чуть ли не в каждом письме можно найти много, скажем так, неожиданного. Несомненно, я и впредь буду пользоваться помощью своих уже ушедших и еще живущих друзей.
Люблю твой сборник «Шкатулка рыцаря» (1996), составленный Олдями (Дмитрием Громовым и Олегом Ладыженским). В книгу вошли достаточно разноплановые произведения, тем не менее, сборник не получился эклектичным, а очень хорошо представил читателю всю разносторонность и разнообразие писателя Прашкевича.
«Демон Сократа». Замечательная вещь об ответственности ученого и о том, что даже на роковых ошибках можно учиться.
«Анграв-VI». Одна из самых любимых моих вещей. Иной разум, иное поведение. И тем не менее: «Чудеса чудесами, но каждый знает, что истинных чудес только два. Вселенная и Человек».
«Кот на дереве». Агрессивные обыватели, узколобые эдики неистребимы, они вездесущи, они процветают. В этом смысле наш реальный 2011 год, к сожалению, не сильно отличается от описанного тобою. Ведь ты заглядывал из 1986 года, когда «Кот» впервые был издан, на четверть века вперед, именно в 2011-й.
«Приключение века»… «Пять костров ромбом»… «Шкатулка рыцаря», давшая название сборнику… Хорошо бы собрать под одной обложкой все твои повести о частном сыскном бюро Роальда.
Как появилась харьковская «Шкатулка рыцаря»? Делаю акцент на слове «харьковская» потому как у тебя есть сборник другого состава под тем же названием, вышедший в издательстве «Вече» в 2008 г.
Идея, конечно, Громова и Ладыженского. Вышли в серии томики Рыбакова, Штерна, Олдей, мой, Андрея Лазарчука. Делалось все в спешке, поэтому состав сборника мог быть другим. Но книжка неплохая, хотя прошла как-то незаметно, а Олди после этого уже никогда интереса к моим вещам не проявляли. Да и тогда я как-то выбивался из их привычного окружения. Что-то нам мешало поговорить по душам. К тому же не всем нравилось мое отношение к человеку, скажем так, не возвышенное. Ведь в мировой фантастике человек – победитель, он выигрывает космические сражения, устанавливает свой порядок на далеких галактиках, даже меняет физические законы. А я уже тогда не считал человека мерилом Космоса. Земли – да. Ну, Солнечной системы. Но не Космоса.
А такие взгляды кое-что значат.
К «Бедекеру» тесно примыкает повесть «Черные альпинисты» (1994), в которой писатель осмысливает годы, проведенные им на Курилах и на Сахалине. В том же ряду стоит исследование «Адское пламя» (1996), печатавшееся в журнале «Проза Сибири», позднее выпущенное отдельным томиком в издательстве «Свиньин и сыновья». Это размышления писателя о том, какой могла быть составленная им вместе с фантастом Николаем Гацунаевым большая Антология советской фантастики. «Октябрь 1917 года страшной стеной отгородил Россию от остального мира. Начался невиданный, неслыханный до того, поистине фантастический эксперимент по созданию Нового человека. Это ведь главное дело любого режима – создание Нового человека. Человека угодливого или запуганного, работящего или пьющего, агрессивного или смирного, духовного или ограниченного, бессловесного или болтливого – какой человек на данный момент нужен режиму для решения насущных задач, такого и следует создать».
Вечная тема.
Новый человек создается и сейчас.
Некоторое время (1994–1997) ты был главным редактором литературного журнала «Проза Сибири»…
Прекрасная идея предпринимателей Лени Шувалова и Аркадия Пасмана. Оба были не чужды литературе, издали несколько книг. А журналы в те годы практически не выходили, в Сибири точно. И вдруг эти два хороших человека говорят: «Геннадий Мартович, ищите авторов». Жаль, денег хватило ненадолго, зато в течение трех лет (и каких лет!) в Сибири (и не только) читали новые вещи самых разных писателей. Вряд ли кто мог тогда собрать под одной обложкой Валентина Распутина и Евгения Евтушенко, Василия Аксенова и Вильяма Озолина. А я собрал! И сотрудничать с «Прозой Сибири» согласились (и активно сотрудничали) Роман Солнцев, Виктор Астафьев, Александр Бирюков, Кир Булычев, Владимир Войнович, Георгий Гуревич, Николай Гацунаев, Сергей Другаль, Виктор Колупаев, Владислав Крапивин, Василий Коньяков, Борис Стругацкий, Михаил Успенский, Борис Штерн и многие, многие другие. И заметь, речь шла не о журнале фантастики и приключений. «Проза Сибири» была журналом ЛИТЕРАТУРНЫМ, в самом лучшем смысле. Мы впервые напечатали повесть Татьяны Янушевич «Мифология детства», Ильи Картушина «Обрубки», рассказы Рауфа Гасана-заде, бессмертную вещь Бори Штерна о Чехове, роман Евгения Войскунского «Девичьи сны», цикл Николая Мясиикова «Мои соседи знают о Париже», повесть Александра Етоева «Пещное действо», великолепную мемуарно-аналитическую вещь Георгия Гуревича «Приключения мысли», интервью Бориса Стругацкого «Свобода каждого есть условие свободы всех остальных…», повести Евгения Пинаева, рассказы Кира Булычева и Юлии Старцевой, воспоминания Владислава Крапивина, колымские исследования Александра Бирюкова и многое другое, вплоть до оригинальных текстов о. Симеона «Познание от твари Творца и Управители вселенныя» и старовера Афанасия Герасимова «О конце света». К сожалению, хороший журнал требует хороших денег. Пришел дефолт и все скушал.
Ох, как не хватает многим современным авторам стилистической отточенности, которая тебе так легко дается. Наверное, это идетутебя от поэзии? А есть вообще разница в подходах к работе над прозой и ритмически организованной речью (так иногда определяют поэзию)?
Разницы нет. Есть интонация. У поэтической речи она одна, у прозы другая. Откуда она приходит – мне лично неизвестно. Я хотел написать о Париже и Иерусалиме, но ни одной строчки так и не появилось, а в Гоа был написан цикл стихов, а о Константинополе я написал роман. Откуда все это? Почему «Поворот к раю» родился на автодороге Балчик – Созополь?
Ты много работаешь, очень много. Иначе не сделал бы столько. Каков он, хлеб профессионального литератора? Помогало тебе каким-либо образом членство в Союзе писателей СССР и России?
Жизнь профессионального писателя я веду с 1983 года. До этого достаточно много времени я отдавал официальной службе. Когда говорят о Союзе писателей СССР как о какой-то кормушке, это вздор. Кормятся чиновники при всех организациях, в том числе и при творческих, но у художника должен быть свой дом, где можно встретиться с коллегами, поговорить, наконец, выпить. Но я всегда предпочитал свою собственную квартиру или далекое путешествие. В течение десятков лет (увы, уже десятков) я ежедневно вставал и встаю в 5–6 часов утра, и утренние часы – всегда лучшие.
Лишь бы работалось. Хемингуэй правильно говорил, что хорошая книга всегда себя окупает.
Александр Етоев
Беседа пятая: комментарии
Комментарий начну с эпиграфа, благо тема задана интересная, неисчерпаемая, как матерь русских рек Волга. «Палой листвой обнесло все питейные точки…»
Если бы не наводящая ссылка «Из лирики девяностых», я соотнес бы тему процитированной строки с государственной антиалкогольной кампанией 1985–1987 годов, засевшей в памяти русского человека так же крепко, как хрущевская кукуруза. Помните: «В шесть утра поет петух, в восемь – Пугачева, магазин закрыт до двух, ключ у Горбачева»? Это когда спиртное продавали с 2 до 7. И правда, цепочка ассоциаций «осень – палая листва – питейные заведения» приводит к такому заключению. Впрочем, перед этим задает тон нота безденежья – «денежки кончились в наших смешных кошелечках» (это цитата из стихотворения Макса Батурина, томского поэта, покончившего с собой в 1997 году в возрасте 32 лет. О Батурине и влиянии его творчества на Прашкевича разговор впереди). То есть действительно справедлива отсылка Ларионова к 90-м.
Но раз уж начал с «питейных точек», то грех идти на попятную. Тем более что история, которую я сейчас приведу, передана самим Прашкевичем и касается даже не времени, в котором происходила, а природы человеческой гениальности – не больше, не меньше.
Рассказывает писатель Михаил Михеев (в передаче Прашкевича):
«– От фантастики меня отпугнул Евгений Рысс, а от поэзии – Елизавета Константиновна Стюарт. После моей стихотворной книжки «Лесная мастерская» Елизавета Константиновна категорически заявила, что все то, что я пишу, не является поэзией, не может быть поэзией и никогда не будет поэзией. Поэзия требует совсем других чувств. Я думаю, Мартович, она была права. Поэт действительно не должен походить на нормального человека. А я нормальный.
– Это как?
– Я, Мартович, поясню тебе на примере. Есть у нас в организации один поэт, я долгое время по глупости своей не считал его поэтом. Ну, сочинитель, ладно. Но почему поэт, если никто не помнит ни строчки его стихов? Но однажды, Мартович, я зашел с приятелем в одну забегаловку недалеко от писательской организации «Русский чай». И подавали там только чай, поскольку это случилось еще во времена сухого закона. Когда мы вошли, я заметил, что в полупустом зале за крайним столиком сидит поэт, о котором я рассказываю. На столе перед ним лежала на тарелке отварная курочка, он неохотно ковырял ее вилкой. Увидев это, я окончательно решил, что никакой он не поэт. Так себе, сочинитель. Неважно, что под столиком поэт прятал бутылку. Подумаешь, тогда все так делали. Михаил Сергеевич или Егор Кузьмич запретили держать бутылки на столике, вот все и держали их под столиками. Мы разговаривали с приятелем, а потом я обернулся и увидел картину, которая помогла мне понять, Мартович, что я зря не считал этого поэта поэтом.
Михеев посмотрел на меня и негромко засмеялся:
– Прошло каких-то минут двадцать, а у поэта все изменилось. Теперь бутылочка стояла перед ним на столике, а курочку он прятал в ногах под столиком. Отопьет глоток и ковыряется вилкой под столиком. Всего-то, как говорят шахматисты, перепутал порядок ходов, но я, Мартович, понял, что этот человек – поэт».
Теперь хочу обратить внимание на следующее место «Беседы»: «А я и сейчас иногда вижу во сне всех этих костыльников и колясочников, выигравших войну и выброшенных на перроны и улицы – нищенствовать и помирать. Мы боялись их и в то же время жалели. И когда они однажды исчезли, это было также непонятно и страшно, как раньше было страшно и непонятно видеть их массовое появление. Специальным указом инвалидов раскидали по провинциальным домам инвалидов. «Затопили нас волны времени и была наша участь ужасна. Теория прогресса работает не на всех, – в этом ее минус…»
Курсив в использованной цитате мой.
Прашкевич мыслит здесь не как мальчик, видящий мир сквозь изумрудные окуляры Гудвина, который – помните? – в итоге оказался мошенником. Он взирает на мир, как муж, умудренный человеческим опытом и прекрасно понимающий, что в этом несовершенном мире пряников хватает не всем, а те, кому они достаются, часто не достойны подарка.
Он реалист и, как положено реалисту, исходит от существующего. В отличие от фантаста, который пляшет от идеала. Но единственный идеальный мир, который получился живым, мир, в котором хочется жить, я имею в виду мир Полдня братьев Стругацких, действительно явление уникальное, эксклюзивное, как теперь говорят. Дорога в него закрыта, на шлагбауме, перегородившем дорогу, написано на каждой полоске: «зависть», «равнодушие», «корысть», «подозрительность», «нетерпимость»…
Каждый большой писатель, претендующий на должность провидца, прожив на этой планете достаточное количество времени, приходит к печальным выводам.
Переделать человечество невозможно. Отдельных представителей – да, но всех, в массе, разноязыких, с разного цвета кожей, с грузом привычек, болезней, страхов, комплексов, темпераментов и так далее, – не выйдет, как ни пытайся. Надежда на науку и технику, на волшебные лучи «Икс», которые усмирят в человеке зверя и направят его внутреннюю энергию исключительно на творческие дела, – смехотворна. Это все равно что надеяться на добрых пришельцев, усовершенствующих человеческий мозг.
Можно, правда, сделать по-большевистски, примерно так же, как поступили с послевоенными инвалидами, – отделить агнцев от козлищ и всех последних упрятать куда подальше, чтобы не пакостили пейзаж. Или как в «Современной утопии» у Уэллса (цитирую по книге Прашкевича «Герберт Уэллс»): «Безнадежно хилых, больных, как в детском, так и в зрелом возрасте, будут беспощадно уничтожать». И оттуда же: «Если не хочешь работать, заставят силой… Человек всегда обязан работать. Не желающие вкладывать труд в общее дело будут беспощадно изгоняться из общества – на какие-нибудь заброшенные острова».
То есть опять же по-большевистски – зона, проволока, вохра, собаки (или акулы, учитывая островную специфику), – по принципу «кто не с нами, тот против нас».
Есть еще религия, но пока большие и малые ее ветви не осознают, что все они часть единого мирового дерева, и каждая не перестанет претендовать на исключительные права в диалоге с Богом, ничего путного не получится.
Итак, все попытки оттолкнуться от настоящего, чтобы получить идеальный мир будущего, не привлекая при этом к его строительству силы подавления и принуждения, дают плачевные результаты.
Значит, остается одно: отпустить руль и довериться течению времени? Куда оно принесет корабль – в холод и мрак грядущих дней или на блаженные берега Утопии, – там и место его будущим пассажирам?
А может, все-таки, наперекор аргументам разума, рисующим печальные перспективы, выправлять потихоньку ход этой допотопной махины, худо-бедно делать попытки вывести корабль на чистый фарватер? Пока жив человек, жива его надежда на будущее, «где счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным».
Тема будущего, путей к нему и препятствий, частоколом вырастающих на этих путях, волновала Прашкевича всегда. Теория прогресса – основа ткани многих его произведений. В этом смысле фантастика у Прашкевича (и не у него одного) работает как инструментарий исследователя – социолога, прогностика, футуролога, – она дает замечательную возможность раздвинуть рамки эксперимента до бесконечности, от эпох, затерянных в прошлом, до поколений, потерявшихся в будущем.
Здесь, пожалуй, уместно будет воспользоваться цитатой из повести 1988 года «Пять костров ромбом» (опубликована в 1989 году). Напомню, женщина из XXIV века отправляется в век XX, пик расцвета археологии, чтобы на материале раскопок выяснить судьбу любимого человека, пропавшего во времена Гильгамеша. Речь в цитате касается артефакта прошлого, найденного в древней гробнице, – артефакта, принадлежащего будущему: «Вещь, сопоставимая только с будущим, могла сама по себе подсказать будущее, в котором отказывали человечеству многие весьма влиятельные философы, существует! Его не убила гонка вооружений, его не убила тупость обманутых масс, его не убили ошибки лидеров! Но раз так, раз это будущее уже сейчас существует, не проще ли отказаться от борьбы, от тяжких трудов, не проще ли просто ждать? Будущее гуманно, будущее всесильно! Разве не протянут люди будущего руку помощи своим погрязшим в неразрешимых проблемах предкам?»
Вот зерно проблемы отношений дня сегодняшнего и завтрашнего. Куда ж нам плыть, и надо ли плыть вообще? Пассивность и активность позиции, которую мы выбираем. Вечные вопросы, требующие от человека ответа.
Далее в беседе с Прашкевичем мой коллега по работе над этой книгой доходит до «перестройки».
И опять цитата из «Пяти костров ромбом» вовремя подвернулась под руку: «Не умея перестраивать себя, они тщатся перестроить мир. Они мечутся от Бога до атома, пытаясь доказать самим себе, что чудо рано или поздно случится».
Очередное русское чудо под названием «перестройка» оказалось разворованным. Объявленная свобода предпринимательства вышла народу боком. В «Шкатулке рыцаря» приводится характерное объявление, взятое из газеты «Шанс», самого, наверное, объективного среди массовых печатных изданий того периода. Ценно объявление тем, что в малом крике души отдельно взятого человека слышен голос всего народа, с болью сердца реагирующего на любое препятствие, встающее на пути прогресса: «Вся страна говорит о приватизации. Я тоже «за», но с жестким контролем, а то вот отнес сапожнику-частнику старые туфли в починку, а он мало что тысячу за подошвы с меня содрал, он еще запил на радостях. Теперь пришел в себя, говорит: ни туфлей нет у него, ни денег. Ну, не скотина разве? Я на всякий случай подпалил ему будку, чтобы наперед знал: в приватизации главное – честь и достоинство, а остальное мы в гробу видели при всех вождях и режимах!».
Смена политических полюсов, призванная расшевелить массы, подстегнуть их предпринимательскую активность, шире – отчаянная попытка с помощью радикальных мер вытащить страну из глубокой задницы, куда ее засунули коммунисты, привела к непредсказуемым результатам. Людей лишили тех моральных запретов, которые, пусть непрочно, держали в клетке первобытное существо, заключенное внутри каждого человека.
«Малый бедекер по НФ» – наконец-то я до тебя добрался.
Во-первых, о названии. Ларионов правильно разжевывает для ленивых суть понятия «бедекер»: что он есть за диковина, откуда пошел и на кой хрен нужен.
На самом деле, применительно к конкретному бедекеру – «Малому бедекеру» Прашкевича, – источник названия прячется не в 18-м веке, ближе. Я его отыскал в написанной в 80-е годы повести Прашкевича «Уроки географии». Герой повести, журналист, пишет бесконечный цикл «не то мини-исследований, не то мини-очерков, озаглавленных им условно «Лоция Главного проспекта»». Это примерно то же, что в 19-м веке называлось в русской литературе «физиологическим очерком». Главный проспект – это главная улица Новосибирска, по которой журналист Юрий Зоболев каждый день утром идет в редакцию, а вечером – из редакции. Затерявшись среди людей, он всматривается в человека толпы и пытается по лицу прохожего представить, как тот живет, войти в мысли незнакомого человека, угадать его привычки, желания, чтобы потом представить все это на бумаге. И один из друзей подруги героя, дворник Миша, позиционирующий себя великим писателем, «Лоцию» переименовывает в «Бедекер». В этой повести традиционный бедекер, теряя основную функцию, превращается в путеводитель по людям, то же самое мы видим и в «Малом бедекере по НФ».
«Бедекер» – книга славная. Во-первых, это книга о людях. Во-вторых, это книга о литературе. Или – во-первых, о литературе.
Она и начинается славно: «Первой книгой, которую я прочел от корки до корки, была «Цыганочка» Сервантеса («Academia», 1934)».
«НФ» в названии книги, сокращение от «научной фантастики» – то ли кость, брошенная торговцам, этакая маркетинговая уловка, чтобы не отпугивать покупателей подозрительным словечком «бедекер», то ли авторская ирония, действенный литературный прием, которым автор владеет виртуозно. О научной фантастике в книге говорится не так уж много, она о литературе вообще, о писательской свободе и несвободе, о жизни и удивительных приключениях Геннадия Прашкевича, вчерашнего школьника из Тайги, прожившего полстолетия в кащеевом царстве литературы, написанная им самим.
Судьба-злодейка проверяет людей по-разному. Одних славой (об этом разговор впереди), других – гордыней, ложным чувством превосходства над окружающими, третьих – страхом превратиться в отверженных, оказаться вытесненными со сцены своими же преуспевающими коллегами.
Звание «писатель-фантаст» приказом политуправления литературы дается человеку пожизненно. Это способ проверки пишущего человека на вшивость. Коли русский литературный бог взвалил на тебя сей крест, не ропщи, неси его терпеливо, иначе будешь, как корабль-призрак, не приписан ни к одному порту.
Есть писатели, которым не важно, по какому они проходят ведомству. Михаил Успенский, Вячеслав Рыбаков, Евгений Лукин, Андрей Лазарчук в жизни ни разу не отреклись от планеты, на которой прошло их детство, – Фантастики. Имена их на слуху, они популярны. А вот Андрей Столяров, звезда питерской фантастики 90-х, закатившаяся к началу 2000-х, декларативно отмежевался от этой бесперспективной для писательского престижа (мнение Столярова) ветви литературы.
Прашкевич, возрастом постарше (и характером поуживчивее), решил, что ладно, мы люди провинциальные, город Новосибирск лежит далеко от всех этих мелкотравчатых литературных разборок типа ««Фантаст!» – «Сам фантаст!» – «От фантаста и слышу!»» и принял звание «писатель-фантаст» без ропота, как и положено всякому нормальному человеку. Ну, фантаст, да хоть сфероидом меня назовите, главное — как я делаю, каков результат работы, а этот ваш гостиничный бейджик, который выдается на Росконах-Евроконах-Интерпрессконах, для писателя ничего не значит. Пусть я даже буду писать безделки – не сверхидеями же едиными жив человек пишущий, – я их сделаю такими отточенными, такими фантастически достоверными, что вы слезами обольетесь читая.
По традиции свои творческие блуждания авторы предъявляют публике с отточиями. Невозможно передать на бумаге все извивы писательской биографии, как невозможно достоверно прокомментировать пушкинский донжуанский список. Сфотографироваться в обнимку с вечностью обычно хочется с приличной прической. Себя расхристанного автор командирует в книги, распределяет свои преступления и болезни между героями соразмерно симпатиям – одному достается больная печень, другому – съеденная циррозом совесть. «Бедекер» отточий не подразумевает («Я не собираюсь скрывать каких-то темных сторон даже своей собственной жизни»), поэтому он и пишется бесконечно, как отметил беззастенчивый Ларионов, мысленно вспоминая классику: «А голову мою не оплакивай, потому что за двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет – или я, или эмир, или тот ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие!»).
В первой части «Бедекера» жемчуг тешит мне глаз настолько, что стекляшки, норовящие временами посягнуть на мой читательский вкус, воспринимаются вполне благодушно. Здесь, возможно, сказывается эффект лояльности. Отношение к тексту зависит от отношения к автору. Лучше всех точку зрения на этот скользкий вопрос выразил мой друг писатель Николай Романецкий. С писателем нужно просто дружить, читать его вовсе не обязательно, считает Коля. Лучше даже вообще не читать, чтобы в человеке не разочароваться. Читающие друг друга авторы обычно льстецы и подпевалы. Я не похвалю его сегодня, он меня не похвалит завтра. А если сдуру скажешь, что не понравилось, наживешь себе врага на всю жизнь. Вон, недавно в ЖЖ Житинского (http://maccolit.livejournal.com) наехал кто-то на писателя Диму Быкова, мол, никакой он не писатель, а памфлетист, так Быков враз обрил обидчика под нулевку, ни волоска на лысине не оставил.
Составная композиция «Бедекера» – документы сменяет проза, в прозу вклиниваются мемуарные комментарии, их поддерживают цитаты и афоризмы плюс десятки соблазнительных мелочей, скрепляющих повествование воедино, – Америку в литературе не открывает. Прием обкатан поколениями писателей на поколениях критиков и читателей. При такой композиции важен не умышленный формальный прием, а кровеносная система всей книги, питающая живой энергией любую клеточку ее организма. Организм «Бедекера» живет, его сердечная мышца не дает сбоев. Именно про такие книги писал покойный Штерн (цитирую по переписке с Прашкевичем): «Писатель сразу виден по тексту. Сразу. Пусть он будет самым последним из чукчей. Пусть правильно или неправильно расставляет слова, пусть его вкус подводит, – главное, чтобы текст был живой. А с живым человеком всегда можно поговорить и договориться. А если не договориться по причине крайней отдаленности вкусов и характеров, то хоть разойтись, уважая друг друга».
Книга тем отличается от музея, что человек в ней остается живым, продолжает общаться с нами, улыбается, дает нам советы, а не умильно смотрит с портретов на горстку зевающих посетителей, приносящих ему посмертную дань признательности.
Множество хороших людей говорят с нами со страниц «Бедекера». Понятно, благодаря Прашкевичу. Если бы не проныра автор, постаравшийся ради нас, не видать бы нам ни писем Ефремова, адресованных школьнику из Тайги, ни страничек о Боре Штерне («говорить с ним было бессмысленно, его надо было читать»), ни советов Аркадия Натановича, подкрашенных рюмкою коньяка, ни астафьевских пьяных слез, ни лагерных историй Сергея Снегова…
Разговор о ненаписанных частях книги («вторая часть будет посвящена алкоголю»… «третья часть – основной инстинкт»…), наверное, имеет резон перенести лет на двадцать в будущее, когда эти части будут написаны (или опубликованы), а читатели, если они к тому времени сохранятся, снесут на свалку опостылевшую полипсорректность и не набросятся на автора с кулаками за осквернение священных имен.
Посмотрим.
Вот мы говорим «ужас, ужас», когда речь заходит об алкоголе.
И действительно – ужас, кто бы спорил. Однако многие самые смешные страницы русской литературы посвящены именно алкоголю. Гоголь, Достоевский, Лесков, Чехов, Пришвин, Булгаков, не говоря уже об авторах современных, от Венечки Ерофеева до Евгения Попова и Владимира Шинкарева с его митьковской апологией бражничества.
То есть не было бы алкоголя, не было бы и этих произведений.
Палка о двух концах. Тождество веселья и смерти.
Пить, конечно, надо бросать.
Когда в 1995 году Боре Штерну вручали премию «Странник», он, кивнув на портрет Мусоргского работы Крамского (дело происходило в Доме композиторов в Петербурге), сказал в точности то же самое: «Господа, надо бросать пить».
Потому что, когда ты пьешь, то ничего не доделываешь до конца.
«Третья часть – основной инстинкт, потому что живая литература (а точнее, сама жизнь) на нем замешана».
Серьезное заявление.
«Я не собираюсь скрывать темных сторон даже своей собственной жизни. Неважно, будет ли кто-то обижаться».
Правда, добавляет, перед тем как поставить точку: «Я ведь не из тех наивных людей, которые путают истину с правдой».
Последнее добавление звучит как шутка, но в каждой шутке скрывается доля истины… или правды? Не знаю уж как выразиться точнее.
Что есть истина? Знаменитый вопрос Пилата так и остался без ответа.
Впрочем, прокуратору Иудеи ответ был нужен не более, чем Иисусу лыжи.
Для Прашкевича, как и для Иисуса Христа, истина есть любовь.
Любовь бывает бесконечная, это Бог – любовь божественная, любовь вечная, любовь идеальная. И конечная – любовь к женщине. Последняя, любовь к существу земному, – проекция любви бесконечной на плоскость нашего конечного мира. Земная любовь есть правда.
Правд много, истинная любовь одна.
Как совместить множество правд и истину?
Самая главная книга на эту тему, которую написал Прашкевич, – «Герберт Уэллс». Истина в уэллсовском варианте (и варианте Прашкевича соответственно) не окрашена в божественные цвета, во всяком случае – явно (Уэллс, как и Прашкевич, по вероисповеданию атеист). Она проявляется опосредованно через любовь не к Богу, а к человеку. К женщине. Единственной. Той, одежды которой всегда остаются белыми, несмотря на все твои множественные правды, сиречь измены. Имя ее – жена.
Подходил к своему «Уэллсу» Прашкевич долго. И не важно, что книга была написана под заказ, заказ – лишь случай, дающий возможность автору осуществить свои сокровенные замыслы.
Уже в ранних вещах Прашкевича («Такое долгое возвращение», «Мирис») зримо видится раздвоенность героев писателя, их метания между полюсом истины и полюсом правды. Центробежная сила желания срывает персонажей с орбиты, центростремительная сила любви (необратимость, о ней чуть ниже) удерживает героев от бездны, куда влечет их искусительное желание.
Вот отрывочек из повести «Мирис» (пояснение для не читавших повесть: Эля – жена героя, Ирина – его бывшая женщина, случайно встреченная в Болгарии), иллюстрирующий мою мысль:
«А Эля?
О, это был иной мир – понятный, добрый и нужный. И себе Ильев мог не лгать: у него не было выбора. Да он никогда и не думал так– Эля или Ирина? Интуитивно, бессознательно он понимал, что в этом «не было» кроется кое-что не менее важное, чем то, что мы определяем словом «любовь», – необратимость. Ибо женщина, которую ты узнал, необратима. Он усмехнулся: как эволюция…»
А вот отрывок из повести «Поворот к раю» (1983), говорящий о том же: «Живет в людях то, что Анри Пуанкаре достаточно ясно назвал смутным влечением к величественности. Именно это влечение показывает, как ничтожен телом и как велик умом человек. Ведь ум обнимает все, ведь ум примиряет любые крайности; там, в уме, Дмитрий находил все, чтобы и Ольга, и Соня, и он сам были счастливы. «Она же все понимает, – думал он об Ольге. – Когда я прихожу, когда я говорю, что вот опять задержался, она же видит меня насквозь. Она же молчит только потому, что сама не может, не хочет лгать. Она и так глотает мою ложь, потому что, если ее не проглотить, все рухнет сразу и уже навсегда. Я и так делаю ее соучастницей своей лжи. Если бы не ее молчание, – признавался он, – все бы давно рухнуло. Меня спасает лишь то, что она молчит…»»
И оттуда же:
««Нам всегда могло быть вот так хорошо!»
Это он сказал себе. Не Ольге.
Когда Ольга была такая, когда она не настаивала именно на своем варианте, когда она думала не только о них двоих, но включала в себя и многих других людей, он, Дмитрий, чувствовал себя счастливым».
Здесь, особенно в последней цитате, уже Уэллс, его мысли о супружеском счастье. Правда не заслоняет истины. Женщина, единственная женщина, которую ты любишь по-настоящему, думает не только о вас двоих, но включает в крут твоих любовных привязанностей и многих других людей. Безревностно включает. Вот идеал счастья, какого желал Уэллс. В своем желании, увы, он был одинок. Единственная женщина, которую ты любишь по-настоящему, не желает делить тебя ни с одной из твоих временных правд.
Беседуя, Ларионов вспоминает «Шкатулку рыцаря» и коротенько характеризует каждую из повестей сборника.
««Демон Сократа». Замечательная повесть об ответственности ученого и о том, что даже на роковых ошибках можно учиться…»
Интересно написал Ларионов. Сразу представляю такую картинку: стоит Володя у себя дома возле стеллажа с книгами и выбирает, что бы ему такое почитать. Стоит, мучается, не знает, что выбрать. А дай, думает, почитаю я что-нибудь об ответственности ученого, давненько я ничего об ответственности ученого не читал…
Вообще-то в «Демоне», насколько я это понял, речь идет не об учебе на роковых ошибках. Для того этот демон и существует, чтобы схватить человека за руку, не дать ему совершить поступок, который нарушил бы утвержденный миропорядок. «Не руководствуйся внутренними побуждениями, когда хочешь что-либо предпринять, – шепчет демон неразумному индивидууму, – действуй рационально». Если неразумная особь все же совершает ошибку, то ошибка эта вырастает в ошибищу и способна, по теории Тьюринга, вызывать непредсказуемые последствия. Полезет, например, человек в кладовую за валенками, а валенки выросли за лето на семь размеров. Или член-корреспондент Академии наук СССР превратится вдруг в охотника-чукчу, усядется в своем кабинете на медвежьей шкуре и, подобрав под себя кривые ноги, будет таскать с чугунной сковороды куски черного сивучьего мяса.
Герой повести, писатель Хвощинский, которого рукотворный НУС (от древне-греческого νους – мысль, разум, ум; так называется некая мыслящая машина) из сугубо рациональных соображений вводит в свою детерминированную систему в качестве элемента неопределенности, превращается в процессе притирки в послушную системе деталь. Ему это даже по нраву пришлось – пожелал чая стакан, горячего, крепкого, с сахаром и косой долькой лимона, глаза закрыл, открыл и, пожалуйста, – «пустое купе, слабый свет… На столике стакан в тяжелом серебряном подстаканнике…». И хотя демон топчется на твоем плече и кричит в ухо: «Не делай этого», терпкий аромат искушает, ты делаешь первый глоток.
Повесть действительно замечательная. В ней присутствует то здоровое художественно организованное безумие, без которого проза вянет, как вянет неразделенное чувство.
«Лучше объясни, откуда все это?» – спросил автора Аркадий Стругацкий, когда прочитал «Демона».
Прашкевич ему ответил.
Желающих услышать ответ отсылаю к соответствующему месту в «Бедекере».
Бегло следом за Ларионовым перескакиваю по названиям повестей сборника: «Пять костров», «Анграв», «Кот на дереве», «Приключение века», оно же «Великий краббен», «Шкатулка рыцаря»… Все у меня в пометочках, на форзацах нету живого места от «чернильных» и карандашных записей, хорошо еще, что книга моя, а не выпрошена на время у какого-нибудь знакомого книголожца, члена общества любителей нечитанных книг.
Кстати, меньше всего иссижены моими любопытными птичками поля на «Анграве-VI». То ли повесть оказалась холодноватой из-за сильной удаленности мира, где разворачиваются ее события, от планеты, на которой я родился и вырос, то ли еще не выветрились из моей головы мотивы лемовского «Соляриса». Только, упаси боже, не поймите концовку последней фразы как намек на вторичность. Писатель, как всегда, оригинален и здесь. Еще бы, инопланетный разум, не знающий, что такое смерть, и с помощью садистских экспериментов над людьми пытающийся постигнуть ее природу. Подобного сюжета я не встречал ни в «Указателе сюжетов в произведениях научной фантастики», ни в других популярных справочниках.
Раз уж я упомянул о пометках, то не вижу особого греха в том, чтобы не воспроизвести некоторые из них.
«Кот на дереве».
«Мальчишкой я немало часов провел в размышлениях над такими путешествиями – во Времени. Внизу, под обрывистым берегом, шумела Томь. Я сидел под рыжими, как фонари, лиственницами. Как ни был я мал, меня уже тогда мучительно трогала якобы доказанная учеными невозможность никаких физических перемещений во Времени».
Место в повести отчеркнуто мной вот по какой причине.
Дело в том, что другой персонаж Прашкевича, Ленька Осянин, юный герой романа «Теория прогресса», на этот счет нисколько не сомневается. Ему, Леньке, для подобных перемещений без надобности даже машина времени. «Осянин считал: путешествовать в будущее можно без всяких затей, без всяких машин времени. Запасся продуктами, интересными книжками, отключил радио, запер дверь, а ключи выбросил в окно. Лежи себе на диване, время само перенесет тебя в будущее.
В кашне, ладонью заслоняясь,
сквозь фортку крикну детворе:
«Какое, милые, у нас
тысячелетье на дворе?»
А там уже другое тысячелетье.
Величественные небоскребы, фонтаны, незлобивые мирные люди…»
И, знаете, Ленька Осянин прав. Машина времени хорошо, а диван лучше. Главное, чтобы клопов не было.
Следующий подчеркнутый мной абзац связан с одним из любимых приемов автора – литературной мистификацией.
Читаем в повести: «В год той дискуссии вышел в свет самый известный роман Ильи Петрова (новосибирского) – «Реквием по червю». В этом романе, переведенном на сто шесть языков, Илья Петров описал будущие прекрасные времена, когда, к сожалению, было окончательно установлено, что мы, люди Разумные, как и вообще органическая жизнь, не имеем никаких аналогов во Вселенной. Ни у ближних звезд, ни у отдаленных квазаров ученые не нашли и намека на органику. Ясное осознание того, что биомасса Земли – это, собственно, и есть биомасса Вселенной, привело наконец к осознанию того простого факта, что исчезновение даже отдельной особи, исчезновение даже отдельного червя уменьшает не просто биомассу нашей планеты, но уменьшает биомассу Вселенной».
А теперь обращаюсь к интервью 2003 года, которое Прашкевич дал не какому-нибудь безмозглому представителю желтой прессы, не отличающему ямба от амфибрахия, а человеку высокой книжной культуры, моему другу и дорогому соавтору Владимиру Ларионову: «То, что я пишу, произрастает из зерен моего собственного конкретного опыта. Например, «Реквием по червю» – мое открытие нравов Средиземноморья конца прошлого века».
Итак, «будущие прекрасные времена» и «открытие нравов Средиземноморья конца прошлого века».
Кому верить?
А никому не верить.
Нету у Прашкевича такого романа.
Есть повесть, не повесть даже – рассказ, который называется «Кот на дереве», имеющий, впрочем, в некоторых изданиях подзаголовок «Реквием по червю», но подзаголовок, не более.
Что касается «нравов Средиземноморья», открытых автором в конце 20-го века, – это да, нравы в рассказе есть, очень даже характерные нравы.
Такие, скажем: «Он, конечно, не случайно поставил свой шезлонг рядом с компанией устроившихся прямо на горячей деревянной палубе ребят из Верхоянска или из Оймякона, одним словом, откуда-то с полюса холода. Они дорвались наконец до моря и солнца, они могли наконец не отрываться от бесконечной, расписанной еще в Одессе пульки. Иногда они поднимали коротко стриженные головы, улыбались и не без любопытства спрашивали Петрова: «Что там за город? Чего суетятся люди?». Новгородец весело отвечал: «Это Афины, столица Греции. Туристов ведут в Акрополь». – «Ничего, – одобряли ребята с полюса холода. – Хороший город. Красивый». И вновь погружались в свою игру».
Вы спросите, при чем здесь нравы Средиземноморья?
Как при чем? Не происходило бы дело на Средиземноморье, вы бы никогда не узнали, какой красивый и хороший город Афины, увиденный глазами русских туристов из Оймякона.
Хватит топтаться на маргиналиях, хотя в переводе с языка римлян это слово всего-то и означает что «комментарии на полях», то есть то, чем я сейчас занимаюсь. Но все равно не буду задерживаться, иначе мы с вами ой как долго не увидим конца этого затянувшегося маршрута.
Последняя на нем остановка – сама повесть «Шкатулка рыцаря», давшая название сборнику.
По направлению она детектив, жанр, который мне очень нравится.
Детектив по своей природе рационален. Даже если он мистический. Есть преступник, и он должен быть найден. Следствие ведут знатоки. Преступление должно быть раскрыто. Формально у Прашкевича все на месте. И «ведут», и «знатоки», и «преступник». Преступник, правда, оказывается не тем преступником, настоящего преступника мы не знаем, да и есть ли он вообще, настоящий?
Безумие персонажей повести, безумие ее атмосферы, значащие «незначащие» детали, привлекающие «отвлекающие» подробности выводят эту повесть из ряда, традиционно называемого детективным. Это… это литература, как ни банально говорить это вслух.
«Черные альпинисты, или Путешествие Михаила Тропинина»» – часть бесконечной Йокнапатофы, которую Прашкевич пишет всю жизнь и всякий раз у него выходит по-новому. И «Альпинисты», и «Уроки географии», и «Апрель жизни», и «Бедекер», и «Адское пламя», и «Красный сфинкс», и «Теория прогресса», и множество других работ автора, о которых я не упомянул выше и вряд ли, наверное, уже упомяну, – все это та Гренландия, или, скорее, Плутония, скрытая в глубине памяти и затянутая наслаивающимися пластами времени, которая притягивает, как магнит, и взывает, как пепел Клааса.
«Адское пламя» – это подступы к «Красному сфинксу» («Истории русской фантастики от В. Ф. Одоевского до Бориса Штерна»), о нем, я надеюсь, разговор будет отдельный.
«Проза Сибири» – ее я упоминал раньше, цитируя письмо Штерна. Прашкевич напечатал в этом журнале мою повесть «Пещное действо», собирался напечатать «Бегство в Египет», но, как сказано в «Беседе», «пришел дефолт и все скушал». Я, когда вышло «Пещное действо», представлялся знакомым и незнакомым людям как известный сибирский писатель Александр Етоев и в доказательство предъявлял журнал. Это вызывало уважение.
Вопрос о влиянии на язык прозы поэтического опыта писателя и о разнице подходов при работе с прозаической и поэтической речью, заданный Ларионовым под финал «Беседы», – тема довольно интересная, но в основном она интересна специалистам и участникам серьезных литературных студий. Фантастам и увлекающимся фантастикой (а главный читатель этой книги – думаю, именно они) подобные проблемы по барабану.
Но я буду не я, если не доставлю себе удовольствие сплясать румбу на той площадке, где из тех, кто меня сейчас, возможно, читает, некому плясать.
Прашкевич рассуждает об интонации. Правильно, между прочим, рассуждает. Можно побывать в Париже и умереть, ни строчки о Париже не написав, потому что не нашел интонацию. И в том же Париже или, допустим, в Грасе сесть писать о России, о былой патриархальной деревне, в которую тебя не вернет никакая литературная премия, даже Нобелевская.
Для писателя поэтическая работа никогда не проходит даром. Тот же Бунин писал свою прозу так, как писал стихи, и не пиши он стихов, неизвестно как сложилась бы его проза. Андрей Белый вообще не разделял писательство на стихи и прозу. Есть роман в стихах «Евгений Онегин», есть поэма в прозе «Москва – Петушки». Одно перетекает в другое, живет, другому не противореча.
В поэзию можно превратить что угодно. И в чем угодно можно обнаружить поэзию. Вот, читаю рекламу чая: «Зеленый хани-буш, лимонная трава, кусочки киви, листья бушу, аромат тамаринда». «Ройбуш, миндаль, белые лепестки шоколада». Ну не поэзия ли? Выстройте последнюю строчку столбиком и получите готовое хокку. Или хайку? Подскажите, как правильно.
Обнаружить-то ее в чем угодно вы обнаружите, только будет ли обнаруженное поэзией, вот в чем вопрос. Поэзия, литература, любое искусство – это прежде всего организация. Хаос может выглядеть поэтично, но он не поэзия. Искусство значит нечто искусственное, сделанное руками. Природа без человека не создает произведений искусства. Тютчевское
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…
– поэтический образ, созданный человеком, не более.
Природа создает Ниагарский водопад, всполохи северного сияния, в багрец и в золото одетые леса, снег, искрящийся под ногами. Но даже сады Семирамиды при всем деятельном участии природы невозможны без вмешательства человека. Природе не хватает человеческих рук, глаз, головы, фантазии. Ей не хватает творческого огня. Ветер, вода, стихия могут выточить из камня фигуру какого-нибудь человекоподобного великана, но должен придти художник, чтобы убрать все лишнее и антропоморфное изваяние превратить в изображение ангела.
Поэзия у Прашкевича ночевала не только на привычном насесте из начертанных по линейке строчек, разбросанных по журналам и альманахам или собранных под обложкой поэтических сборников. Щедрой рукой, как сеятель, он разбрасывает зерна своей поэзии где угодно – в прозе, публицистике, исторических штудиях, мемуарах, – глядишь, и взойдут посевы, посаженные от сердца, и принесут добрые плоды тем читателям, которым это необходимо…
Перед тем как перечитать написанное и поставить точку, осталось малое.
«Членство в Союзе писателей СССР и России» – так это малое обозначил в своем вопросе коллега Ларионов.
При слове «членство» у меня перед глазами встает известная картина художника-нонконформиста Мити Старкова «Член Босха против членов ЛОСХа»: две чаши весов, на одну положен половой орган голландского художника XV–XVI в. Иеронима Босха, на другой горкой возвышаются половые органы художников членов ЛОСХа, Ленинградского отделения союза художников России. Член Босха явно перетягивает чашу весов с членами Союза художников.
Этой картиной, собственно говоря, можно было бы и ограничиться, освещая вопрос моего коллеги по поводу членства.
Не членский билет Союза писателей красит человека. Писателя красят книги, которые он написал. Это раньше, во времена оны, писатели рвались на штурм Союза, как революционные рабочие штурмовали Зимний в фильме Михаила Ромма «Ленин в Октябре». За членство в Союзе били морды и расписывались кровью своих товарищей в канцелярии известного ведомства. Членство сулило льготы и привилегии, что в советскую эпоху значило не меньше, чем крупный выигрыш в денежно-вещевой лотерее.
А сейчас членство тешит гордыню иных запоздалых членов, не наполняя писательские желудки пищей во благовремении. Раньше оно позволяло унитазу в доме писателя несколько раз на дню давать полный напор при сливе, теперь же достаточно вялой струйки для того, чтобы смыть отходы жизнедеятельности творческого работника.
Жалко слышать, когда в книжной редакции, где я работаю, раздается телефонный звонок и чей-нибудь голос долдонит в ухо: «С вами говорит Троекуров Кирилл Петрович, член Союза писателей Петербурга…» Обычно я обрываю фразу, мягко сообщая: «Сочувствую». После этого моего «сочувствую» человек, как правило, умолкает и в редакцию уже не звонит.
Редкие засохшие крохи с былых пиров, бывает, и по сию пору перепадают истосковавшимся по раю писателям. В начале осени 2010 года можно было съездить в Дом писателя в Комарово. Отдельный номер в писательской гостинице по 600 рублей в сутки, трехразовое питание, дешево по нынешним временам.
Есть еще для творческих работников поликлиника.
Писателя Антона Молчанова (Ант Скаландис) писательский билет выручил, когда к нему на трассе пристал гаишник. Отстал.
А вот покойнику Диме Горчеву, сколько он ни совал в ментовские рожи корочки писательского союза, членство не помогло ни разу. Родина-мать так и не признала одного из пропащих своих сыновей в лице писателя Димы Горчева и не дала ему статут гражданина России.
В Союз писателей принимают сейчас не книги, а человека. По принципу: с кем ты пьешь, тот и достоин членства. Еще по количеству написанного (качество не учитывается), но, опять-таки, сначала нужно выпить с кем следует. Мужья тащат за собой жен. Отцы – детей, дети – внуков…
А хорошие писатели в Союз попадают просто. Им, хорошим, ведь что: написал шедевр и сиди себе на крылечке, жди читательского признания, пускай колечки. Им не нужно, как некоторым, ежедневно выдавать на-гора по сотне кубометров породы под названием «Принц Клопомор и Священный Канделябр Власти. Книга двадцать шестая». Если книга хорошая, она сама за тебя все скажет. Даже пить не обязательно с председателями писательских секций. Хорошо пиши, и в Союз тебя примут непременно. Если он тебе нужен, этот Союз. А то решишь отдать свой шедевр в редакцию, наберешь номер и скажешь гордо: «С вами говорит Троекуров Кирилл Петрович, член Союза писателей Петербурга…». И в ответ услышишь хамский голос какого-нибудь Етоева: «Сочувствую», мол.
3
Информаторий
Премия «Полдень» – 2011
Уважаемые читатели!
С 2006 года наш альманах награждает лучших своих авторов ежегодной литературной премией «Полдень».
Премия была учреждена ИД «Вокруг света» и редакцией альманаха с целью стимулирования творческой активности авторов, работающих в малой и средней формах всех направлений фантастики, продолжающей лучшие традиции отечественной литературы.
Сегодня мы можем назвать имена финалистов премии по итогам 2010 года:
Номинация «ПРОЗА»
Алексей Лукьянов «ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ» (январь)
Михаил Шевляков «ВНИЗ ПО КРОЛИЧЬЕЙ НОРЕ» (ноябрь, декабрь)
Александр Щёголев «ПЕСОЧНИЦА» (июнь)
Номинация «КРИТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА»
Марианна Алферова, Борис Стругацкий «НЕВЕСЕЛЫЕ РАЗГОВОРЫ О НЕВОЗМОЖНОМ» (июль)
Святослав Логинов «АЛХИМИИ МАНЯЩИЙ СВЕТ» (апрель)
Антон Первушин «УГРОЗЫ БУДУЩЕГО (цикл эссе)» (февраль, апрель, июнь, август, октябрь, декабрь)
В ближайшее время жюри, состоящее из членов редакции и Общественного совета при альманахе, определит двух лауреатов. Имена их будут обнародованы во время проведения XXII конвента любителей и профессионалов фантастики «Интерпресскон» (Санкт-Петербург) в начале мая сего года.
Наши авторы
Ильдар Валишин родился в Уфе, где живет и сейчас. Учился на инженера-строителя, но работает администратором стрелкового центра при семейно-спортивном комплексе, параллельно занимаясь (больше для развлечения, чем ради денег) написанием статей в местные журналы. Художественные произведения прежде нигде не издавались. В свободное время занимается страйкболом, гуляет по Приуралью с фотоаппаратом или пишет роман.
Владимир Голубев (род. в 1954 г. в г. Кинешма Ивановской обл.). Учился в Рязанском радиотехническом институте. Писать фантастику начал в 2005 г. Автор книги «Гол престижа». Печатался в журналах: «Уральский следопыт», «Порог», «Шалтай-болтай», «Безымянная звезда». В нашем издании произведения автора публиковались неоднократно.
Александр Етоев (род. в 1953 г. в Ленинграде).
На сегодняшний день автор тринадцати книг различных направлений и жанров.
Член Союза писателей СПб. Лауреат литературных премий: «Мраморный фавн», «Интерпресскон», «Странник», «Малый Золотой Остап», премия им. Н. В. Гоголя, мемориальная премия им. Кира Булычева «Алиса», премия им. С. Я. Маршака, «АБС-премия», Беляевская премия. В нашем альманахе печатался неоднократно. Живет в Санкт-Петербурге.
Александр Житинский (род. в 1941 г.), писатель, киносценарист, дебютировал в жанре фантастики в 1973 году повестью «Эффект Брумма» в журнале «Студенческий меридиан», которая позже вошла в сборник «Незримый мост» под ред. А. и Б. Стругацких. Известен своими повестями и романами, в которых так или иначе используется фантастический элемент: «Потерянный дом, или разговоры с милордом», «Лестница», «Часы с вариантами», «Снюсь», «Арсик», «Хеопс и Нефертити», «Фигня» и др. По сценариям А.Ж. сняты фантастические фильмы «Уникум», «Лестница», «Филиал», «Время летать». Живет в Санкт-Петербурге.
Владимир Ларионов (род. в 1956 г. в Новогородской обл.). Окончил СЗПИ. Работал в НИИ, занимался предпринимательской деятельностью, был активистом фэн-движения. Лауреат премий «Золотой Кадуцей», «Серебряный Кадуцей», «Интерпресскон». Дипломант «АБС-премии». Автор книги «Беседы с фантастами» (2008). Член жюри и номинационных комиссий ряда литературных жанровых премий.
Учредитель (совместно с писателем Антоном Молчановым и СП Москвы) премии «Бронзовый Икар» за настоящую научную фантастику. Живёт в г. Сосновый Бор под Санкт-Петербургом.
Игорь Перепелица (род. в 1973 г. в поселке с названием Райгородок). Окончил Уральскую государственную академию путей сообщения. Автор детектива «Программист» (ACT, 2008 г.). Лауреат премии «Серебряное перо Руси» 2010 года. Рассказы (современная проза) печатались в журнале «Сибирские огни». Живет в Московской области. Работает в Москве сетевым администратором. В нашем альманахе печатался рассказ «Точный расчет» (№ 2 за 2011 г.).
Жанна Райгородская (род. в 1972 г.). Окончила Иркутский государственный педагогический институт по специальности «Олигофренопедагогика и логопедия». Работала учителем начальных классов выравнивания, логопедом в начальной школе, воспитателем в интернате для слепых и слабовидящих детей. Печаталась в журналах «День и Ночь» (Красноярск), «Дальний Восток» (Хабаровск), «За семью печатями» (Москва), а также в газетах. Участник III и IV Форумов молодых писателей в «Липках». Живет в Иркутске.
Николай Романецкий (род. в 1953 г. в Новгородской обл.). Писатель, редактор, переводчик. Окончил Ленинградский политехнический институт. Член Союза российских писателей и Союза писателей Санкт-Петербурга. Член семинара Бориса Стругацкого. Автор двух десятков книг (с переизданиями). Лауреат литературных премий: «Большой Зилант», имени Александра Беляева, «Бронзовая улитка», «Интерпресскон», имени Ивана Ефремова, «АБС-премия». Ответственный секретарь оргкомитета Международной премии имени А. и Б. Стругацких («АБС-премии»). В нашем альманахе печатался неоднократно. Живет в Санкт-Петербурге.
Сергей Шинкарук (род. в 1963 г. в Ужгороде). Закончил Одесский университет (мехмат). Играл в КВН, дважды чемпион открытой украинской лиги АМИК на телеканале «1 + 1». Был редактором «КВН-газеты» (Украина). Лауреат конкурса «на лучший сценарий» – тележурнал «Фитиль». С октября 2005 г. работает сценаристом – «Студия «Квартал-95», Киев, т. е. пишет юмор с утра и до позднего вечера. Видит свои «произведения» по нескольку раз в неделю на телеканале «Интер». Публикации рассказов: «Вокруг смеха», «Литературная газета», «Фонтан», «Радуга» (Киев), «Порог», «Магия ПК», различные киевские газеты.