
Клиффорд Саймак
Город. Все живое…

Город
Памяти Вихря (он же Нэтэниель)

От составителя
Перед вами предания, которые рассказывают Псы, когда ярко пылает огонь в очагах и дует северный ветер. Семьи собираются в кружок, и щенки тихо сидят и слушают, а потом рассказчика засыпают вопросами.
— А что такое Человек? — спрашивают они.
Или же:
— Что такое город?
Или:
— Что такое война?
Ни на один из этих вопросов нельзя дать удовлетворительный ответ. Есть предположения, гипотезы, есть много остроумных догадок, но положительных ответов нет.
Сколько сказителей вынуждены были прибегнуть к избитому объяснению: дескать, это все вымысел, на самом деле ни Человека, ни города никогда не существовало. И кто же ищет истины в обыкновенной сказке? Сказка должна быть увлекательной, и все тут.
Возможно, для щенков достаточно такого ответа, но мы не можем им довольствоваться. Потому что и в обыкновенных сказках сокрыто зерно истины.
Предлагаемый цикл из восьми преданий известен в устной передаче уже много столетий. Соотнести его начало с какими — либо исторически известными событиями не представляется возможным, и даже самое тщательное исследование не позволяет выявить те или иные стадии в его развитии. Не подлежит сомнению, что многократный пересказ должен был повлечь за собой стилизацию, однако проследить направление этой стилизации мы не можем.
О древности преданий и о том, что они, как утверждают некоторые авторы, не обязательно складывались Псами, говорит обилие темных мест — слов и выражений ли, (и, что хуже всего, идей), в которых нет, а возможно, никогда и не было никакого смысла. От тысячекратного повторения эти слова и выражения стали привычными, им даже приписывают некий смысл в контексте. Но мы не располагаем средствами, чтобы определить, приближаются ли эти предположительные трактовки хоть в какой — то мере к подлинному значению толкуемых слов.
Настоящее издание цикла не следует понимать как попытку включиться в многочисленные специальные дискуссии о том, существовал ли Человек на самом деле, о загадочном понятии «город», о различных толкованиях слова «война» и обо всех прочих вопросах, которые неизбежно будут сверлить мозг исследователя, вознамерившегося привязать предания к каким — либо историческим явлениям или фундаментальным истинам.
Единственная цель этого издания — представить полный и неискаженный текст преданий в их нынешнем виде. Комментарий к каждой главе призван только познакомить с основными гипотетическими положениями без попытки подвести читателя к тому или иному выводу. Тем, кто хочет более основательно разобраться в преданиях или высказанных по этому предмету точках зрения, мы рекомендуем обратиться к развернутым исследованиям, вышедшим из — под пера куда более компетентных Псов, чем составитель данного сборника.
Обнаруженные недавно фрагменты объемистого, судя по всему, литературного произведения дали пищу для новых попыток приписать авторство хотя бы части преданий не Псам, а мифическому Человеку. Однако пока не доказан сам факт существования Человека, вряд ли есть смысл связывать с ним упомянутую находку.
Особенно знаменательно — или странно, в зависимости от точки зрения, — то, что название (?) найденного произведения совпадает с названием одного из преданий представленного здесь цикла. Разумеется, само это слово лишено какого — либо смысла.
Естественно, все упирается в вопрос: жило ли вообще на свете такое существо — Человек? Поскольку на сегодняшний день нет положительных данных, будет разумнее исходить из того, что такого существа не было, что действующий в преданиях Человек — плод вымысла, фольклорный персонаж. Вполне возможно, что на заре культуры Псов возник образ Человека как родового божества, к которому Псы обращались за помощью и утешением.
В противовес такому трезвому взгляду кое — кто склонен видеть в Человеке настоящего бога, пришельца из некой таинственной страны или из другого измерения, который явился в наш мир, чтобы помогать нам, а затем вернулся туда, откуда пришел.
И, наконец, есть мнение, что Человек и Пес вместе вышли из животного царства, сотрудничали и дополняли друг друга в становлении единой культуры, но потом, в незапамятные времена, их пути разошлись. Многое в преданиях вызывает недоумение, но больше всего озадачивает благоговейное отношение к Человеку. Обыкновенному читателю трудно поверить, чтобы речь шла всего лишь о сказительском приеме. Перед нами нечто гораздо большее, нежели зыбкое почтение к родовому божеству; чутье подсказывает, что это благоговение коренится в ныне забытом веровании или ритуалах доисторической поры. Конечно, теперь трудно рассчитывать на то, что удастся решить хоть один из множества связанных с преданиями спорных вопросов. Итак, предания перед вами, можете читать их для развлечения, или как исторические свидетельства, или в поисках скрытого смысла. Но широкому читателю настоятельно советуем не принимать их слишком всерьез, иначе вам грозит полное замешательство, если не помешательство.
Комментарий к первому преданию
Из всего цикла первое предание, несомненно, самое трудное для неискушенного читателя. И не только из — за непривычной лексики: поначалу и ход мыслей, и сами мысли представляются совершенно чуждыми. Возможно, причина та, что ни в этом, ни в следующем предании Псы не участвуют и даже не упоминаются.
С первой же страницы на голову читателя обрушивается чрезвычайно странная проблема, и не менее странные персонажи занимаются ее решением. Зато, когда одолеешь это предание, все остальные покажутся куда проще. Через все предание проходит понятие «город». Что такое город и зачем он был нужен, до конца не выяснено, однако преобладает взгляд, что речь шла о небольшом участке земли, на котором обитало и кормилось значительное количество жителей. В тексте можно найти некие доводы, призванные обосновать существование города, однако Разгон, посвятивший всю жизнь изучению цикла, убежден, что мы тут имеем дело просто — напросто с искусной импровизацией древнего сказителя, попыткой сделать немыслимое правдоподобным. Большинство исследователей согласно с Разгоном, что приводимые в тексте доводы не сообразуются с логикой, а кое — кто, в частности Борзый, допускает, что перед нами древняя сатира, смысла которой теперь уже не восстановишь. Большинство авторитетов в области экономики и социологии полагает организацию типа города немыслимой не только с экономической, но и с социологической, и психологической точек зрения. Никакое существо с высокоразвитой нервной системой, необходимой для создания культуры, подчеркивают они, не могло бы выжить в столь тесных рамках.
По мнению упомянутых авторитетов, такой опыт привел бы к массовым неврозам, которые в короткий срок погубили бы построившую город цивилизацию. Борзый считает, что первое предание по сути является самым настоящим мифом, следовательно, ни одну ситуацию, ни одно утверждение нельзя понимать буквально, все предание насыщено символикой, ключ к которой давно утрачен. Но тут озадачивает такой факт: если перед нами и впрямь сугубо мифическая концепция, то почему же она не выражена посредством характерных для мифа символических образов. Обычному читателю трудно усмотреть в сюжете какие — либо признаки, по которым мы узнаем именно миф.
Пожалуй, из всего цикла первое предание самое нескладное, неуклюжее, несуразное, в нем нет и намека на утонченные чувства и возвышенные идеалы, которые украшают изящными штрихами другие части цикла. Весьма озадачивает язык предания. Обороты вроде классического «пропади он пропадом» не одно столетие ставят в тупик семантиков, и в толковании многих слов и оборотов мы по сей день не продвинулись ни на шаг дальше тех исследователей, которые впервые серьезно занялись публикуемым циклом. Правда, терминология, связанная непосредственно с Человеком, в общих чертах расшифрована.
Множественное число от слова «Человек» — люди; собирательное обозначение для всего этого мифического племени — род людской; она — женщина, или жена (возможно, некогда эти термины различались по смысловым оттенкам, но теперь их можно считать синонимическими); он — мужчина, или муж; щенки — дети, девочки и мальчики.
Кроме понятия «город», встречаются еще понятия, совершенно несовместимые с нашим укладом, противные самой нашей сути, — мы говорим о войне и убийстве. Убийство — процесс, обычно сопряженный с насилием, путем которого одно живое существо пресекает жизнь другого существа. Война, как явствует из контекста, представляла собой массовое убийство в масштабах, превосходящих всякое воображение. Борзый в своем труде о настоящем цикле утверждает, что вошедшие в него предания намного древнее, чем принято считать. Он убежден, что такие понятия, как война и убийство, никак не сообразуются с нашей нынешней культурой, что они сопряжены с эпохой дикости, о которой нет письменных свидетельств. Резон — один из немногих, кто полагает, что предания основаны на подлинных исторических фактах и что род людской действительно существовал, когда Псы еще находились на первобытной стадии, — утверждает, будто первое предание повествует о крахе культуры Человека. По его мнению, дошедший до нас вариант — всего лишь след более обширного сказания, величественного эпоса, который по объему был равен всему нынешнему циклу, а то и превосходил его. Трудно допустить, пишет он, чтобы такое грандиозное событие, как гибель могущественной машинной цивилизации, могло быть втиснуто сказителями той поры в столь тесные рамки. На самом деле, говорит Резон, перед нами лишь одно из многих преданий, посвященных этому предмету, и похоже, что до нас дошло далеко не самое значительное.
I. Город
Грэмп Стивенс сидел в шезлонге и смотрел на работающую косилку, чувствуя, как ласковое солнце прогревает его кости. Косилка дошла до края лужайки, поквохтала, словно довольная курица, аккуратно развернулась и покатила в обратную сторону. Мешок для скошенной травы заметно набух.
Внезапно косилка стала и возбужденно защелкала. Тотчас откинулась крышка сбоку, и высунулась крановидная рука. Кривые стальные пальцы пошарили в траве, торжествующе подняли камень, бросили его в маленький ящик и вернулись под крышку. Косилка лязгнула, потом тихо загудела и пошла дальше окашивать ряд.
Грэмп проводил ее недовольным ворчанием.
В один прекрасный день, сказал он себе, эта штуковина, пропади она пропадом, возьмет да свихнется из — за какой — нибудь промашки.
Он откинулся на спину и перевел взгляд на выбеленное солнцем небо. В далекой выси мчался куда — то вертолет. В эту минуту в доме ожило радио, и над лужайкой раскатилась дикая какофония. Грэмп вздрогнул и сжался в комок.
У юного Чарли, пропади он пропадом, очередной сеанс твича…
Косилка прогудела рядом с шезлонгом, и Грэмп метнул в нее злобный взгляд.
— Автоматика, — сообщил он небу. — Кругом одна сплошная автоматика. Скоро дойдет до того, что подзовешь машину, пошепчешь ей на ухо, и она помчится выполнять приказание.
Сквозь какофонию из окна пробился нарочито звонкий голос его дочери:
— Папа!
Грэмп поежился.
— Да, Бетти.
— Папа, ты уж, будь любезен, отодвинься, когда косилка дойдет до тебя. Не пытайся ее переупрямить. Это ведь всего — навсего машина. Прошлый раз ты сидел как вкопанный, она то с одной, то с другой стороны заходила, а ты хоть бы пошевельнулся.
Он промолчал и несколько раз клюнул носом — пусть подумает, что он задремал, и оставит его в покое.
— Папа, — повторил пронзительный голос. — Ты меня слышишь?
Не помогла уловка…
— Слышу, слышу. Я как раз хотел отодвинуться.
Грэмп медленно поднялся, тяжело опираясь на трость. Пусть видит, какой он старый и дряхлый, может, совестно станет. Да только надо меру соблюдать. Если она поймет, что он вполне может обходиться без трости, ему сразу найдется работенка. Если же он переиграет, она опять напустит на него этого дурацкого врача. Ворча себе под нос, он передвинул шезлонг на выкошенный участок. Косилка поравнялась с ним и злорадно фыркнула.
— Ты у меня когда — нибудь дождешься, — сказал ей Грэмп. — Врежу так, что все шестеренки полетят.
Косилка погудела в ответ и невозмутимо покатила дальше.
Только он хотел сесть, как в дальнем конце заросшей улицы что — то заскрежетало и закряхтело.
Грэмп поспешил выпрямиться и прислушался. Опять…
На этот раз более явственно — гулкое чихание норовистого мотора, лязг разболтанных металлических частей.
— Автомобиль! — завопил Грэмп. — Автомобиль, чтоб мне было пусто!
Он сорвался с места, но тут же вспомнил о своей немощности и сбавил ход.
— Небось Уле Джонсон, говорил он себе, ковыляя к воротам. Только у этого психа и остался еще автомобиль. Не желает с ним расставаться, чертов упрямец.
Это был Уле.
Грэмп подоспел к воротам как раз в ту минуту, когда из — за угла, подпрыгивая на ухабах, выехал древний, весь в ржавчине, разбитый рыдван. Из перегревшегося радиатора со свистом вырывался пар, а выхлопная труба, потерявшая глушитель лет пять или больше тому назад, извергала клубы синего дыма.
Уле важно восседал за рулем. Весь внимание, он старался обойти самые глубокие выбоины, но не так — то просто было высмотреть их сквозь завладевший улицей густой бурьян.
Грэмп помахал тростью.
— Привет, Уле!
Поравнявшись с ним, Уле дернул ручной тормоз, машина поперхнулась, лязгнула всеми частями, кашлянула и замолкла, издав напоследок сиплый вздох.
— Чем заправляешь? — спросил Грэмп.
— Всего помаленьку, — ответил Уле. — Керосин, спиртец, солярка — нашел остатки в старой бочке.
Грэмп восхищенно смотрел на бренную конструкцию.
— Да… было время, сам держал машину, сто миль в час развивала.
— И эта бегает, — отозвался Уле. — Было бы только горючее да запасные части. Года три — четыре назад я еще бензин доставал, теперь — то его давно уже не видно. Кончили производить небось. Дескать, для чего бензин, когда есть атомная энергия.
— Во — во, — подхватил Грэмп. — И ничего не возразишь. Да только атомная, она ведь ничем не пахнет, а для меня нет на свете ничего слаще, чем запах бензина. Со всеми этими вертолетами и прочими премудростями путешествия совсем романтики лишились.
Он покосился на громоздящиеся на заднем сиденье корзины и ящики.
— Овощишками нагрузился?
— Ага, — подтвердил Уле. — Молочная кукуруза, молодая картошечка, три — четыре корзины помидоров. На продажу везу.
Грэмп покачал головой.
— Пустая затея, Уле. Никто не возьмет. Теперь все вбили себе в голову, что для стола одна только гидропоника годится. Гигиенично, мол, и вкус потоньше.
— А я так гроша ломаного не дал бы за ту дрянь, что они в своих банках выращивают, — воинственно объявил Уле. — В рот взять противно! Я Марте всегда так говорю: чтобы в еде настоящее свойство было, ее надо в земле выращивать.
Он опустил руку и повернул ключ зажигания.
— Не знаю даже, стоит ли пытаться ехать в город, — продолжал он. — Вон ведь как дороги запустили, то есть никакого глазу нет. Вспомни нашу автостраду двадцать лет назад: гладкая, ровная, чуть что — новый бетон клали, зимой непрестанно снег очищали. Ничего не жалели, большие деньги тратили, чтобы только движение не прерывалось. А теперь начисто о ней забыли. Бетон весь потрескался, местами и вовсе повыкрошился. Куманика растет. Сегодня на пути сюда пришлось выходить из машины и распиливать дерево, прямо поперек шоссе лежало.
— Да уж чего хорошего, — кивнул Грэмп.
Мотор вдруг ожил, прокашлялся, закряхтел, откуда — то снизу вырвалось густое облако синего дыма, затем машина рывком стронулась с места и запрыгала по ухабам.
Грэмп проковылял обратно к шезлонгу и обнаружил, что полотно насквозь мокрое. Автоматическая косилка кончила подстригать газон и теперь, размотав шланг, поливала лужайку.
Бормоча ругательства, Грэмп зашел за дом и опустился на скамейку около заднего крыльца. Он не любил здесь сидеть, но ведь больше нигде нет спасения от этой механической уродины… Взять хоть этот вид: сплошь пустые, заброшенные дома, все палисадники бурьяном поросли. Правда, одно преимущество есть: можно внушить себе, что ты туг на ухо, и забыть о каскадах твича, изрыгаемых приемником. Из — за дома донесся чей — то голос:
— Билл! Билл, ты где?
Грэмп повернул голову:
— Здесь я, Марк, здесь. Прячусь от этой чертовой косилки.
Из — за угла появился Марк Бейли, он пыхтел сигаретой, которая грозила подпалить его косматые баки.
— Что — то ты рано сегодня, — заметил Грэмп.
— Сегодня не придется нам сыграть, — ответил Марк.
Он доковылял до скамейки, сел рядом с Грэмпом и добавил:
— Уезжаем…
Грэмп стремительно обернулся.
— Уезжаете?
— Ага. Перебираемся за город. Люсинда наконец уломала Герба. Всю голову ему продолбила, дескать, там такие чудесные участки, и все переезжают, зачем же нам от людей отставать.
Грэмп судорожно глотнул.
— А в какое место?
— Не знаю точно, — ответил Марк. — Еще не бывал там. Где — то на севере. На каком — то озере, что ли. Десять акров отмерили. Люсинда на сотню замахнулась, но тут Герб уперся, мол, хватит и десяти. И то, столько лет городским палисадником обходились.
— Бетти тоже на Джонни наседает, — сообщил Грэмп. — Но он стоит насмерть. Не могу, говорит, и все тут. Дескать, на что это будет похоже, если он, секретарь Торговой палаты, и вдруг бросит город.
— И что это на людей нашло, — продолжал Марк. — Прямо помешательство какое — то.
— Уж это точно, — подтвердил Грэмп. — Помешались на деревне все как один. Вон, посмотри…
Он взмахнул рукой, показывая на ряды заброшенных домов.
— Давно ли тут все цвело, что ни дом — загляденье. И какие славные соседи были. Хозяйки бегали друг к другу за кулинарными рецептами. А мужчины выйдут траву подстригать — глядишь, косилки уже забыты, а они стоят все вместе, языки чешут. Дружно жили, чего там. А теперь — сам видишь…
Марк заторопился.
— Ну, мне пора, Билл. Я ведь только для того и заглянул, чтобы сказать тебе, что мы снимаемся. Люсинда велела мне вещи укладывать. Заметит, что меня нет, сразу надуется.
Грэмп тяжело поднялся и протянул ему руку.
— Забежишь еще? Сыграем разок напоследок?
Марк покачал головой.
— Нет, Билл, боюсь, уже не смогу забежать.
Они неловко обменялись рукопожатием.
— Да — а, там уж я не поиграю, — уныло произнес Марк.
— А я? — сказал Грэмп. — Мне без тебя тоже не с кем…
— Ну всего, Билл.
— Всего, — отозвался Грэмп.
Марк, прихрамывая, скрылся за углом, и Грэмп, проводив друга взглядом, почувствовал, как безжалостная рука одиночества коснулась его ледяными пальцами. Страшное одиночество… Одиночество старости, отжившей свой век. Да — да, так оно и есть — пора на свалку. Его место в другой эпохе, он превысил свой срок, зажился на свете.
С туманом в глазах он нащупал прислоненную к скамейке трость и поплелся к покосившейся калитке, за которой простиралась безлюдная улица.
Годы текли слишком быстро. Годы, которые принесли с собой семейные самолеты и вертолеты, предоставив забытым автомашинам ржаветь, дорогам — приходить в негодность. Годы, которые с развитием гидропоники положили конец земледелию. Годы, которые свели на нет хозяйственное значение ферм и сделала землю дешевой. Годы, которые изгнали горожан в сельскую местность, где добрая усадьба стоила меньше жалкого городского участка. Годы, которые внесли переворот в строительство, так что семьи преспокойно бросали старое жилье и переходили в новые, по индивидуальным проектам дома стоимостью вдвое меньше довоенных, а не понравилось что — нибудь или тесно показалось — за небольшую плату переделают, перекроят по своему вкусу.
Грэмп фыркнул. Дома, которые можно перестраивать каждый год, словно мебель переставил… Что это за жизнь?
Он медленно брел по пыльной тропинке. Всего несколько лет назад тут была оживленная улица, а теперь? Улица призраков, сказал он себе, маленьких неуловимых призраков, шелестящих в ночи. Призраки резвящихся детей, призраки опрокинутых тележек и трехколесных велосипедов. Призраки судачащих домохозяек. Призраки приветственных возгласов. Призраки пылающих каминов и коптящих в зимнюю ночь дымоходов…
Облачка пыли вились вокруг его башмаков и белили отвороты брюк.
Вот и дом старины Адамса, на той стороне. Как Адамс им гордился! Широченные окна, облицовка из серого дикого камня… Теперь камень зеленый от ползучего мха, разбитые окна — словно ощеренные пасти. Бурьян заполонил лужайку, забрался на крыльцо; высокий вяз уперся ветвями во фронтон. Грэмп еще помнил тот день, когда Адамс посадил его.
Он остановился посреди заросшей улицы — ноги по щиколотку в пыли, руки сжимают трость, глаза плотно закрыты…
Через дымку лет донеслись до него крики играющих детей, тявканье ворчливой дворняжки с соседнего двора, где жили Конрады. А вот и Адамс, голый по пояс, орудует лопатой — яму готовит, и рядом лежит на траве деревце, корни мешковиной обернуты.
Май 1946 года. Сорок четыре года назад. Они с Адамсом только что вернулись домой с войны…
Звук шагов, приглушенных пылью, заставил Грэмпа испуганно открыть глаза.
Перед ним стоял молодой мужчина лет тридцати или около того.
— Доброе утро, — поздоровался Грэмп.
— Надеюсь, я вас не напугал? — сказал незнакомец.
— Вы видели, как я стою тут болван болваном, с закрытыми глазами?
Молодой человек кивнул.
— Я вспоминал, — объяснил Грэмп.
— Вы тут живете?
— Да, на этой самой улице. Последний здешний обитатель, можно сказать.
— Тогда вы, может быть, поможете мне.
— Постараюсь, — ответил Грэмп.
Молодой человек замялся.
— Понимаете… Дело в том… Ну, в общем, я совершаю, как бы это сказать, что — то вроде сентиментального паломничества…
— Понятно, — сказал Грэмп. — Я тоже.
— Моя фамилия Адамс, — продолжал незнакомец. — Мой дед жил где — то здесь. Может быть…
— Вот этот дом, — показал Грэмп.
Они постояли молча.
— Славный уголок был. — заговорил наконец Грэмп. — Вон то дерево ваш дедушка посадил сразу после того, как с войны приехал. Мы с ним всю войну вместе прошли и вместе вернулись. И погуляли же мы в тот день…
— Жаль, — произнес молодой Адамс. — Жаль…
Но Грэмп словно и не слышал его реплики.
— Так вы говорите, ваш дед! Я что — то потерял его из виду.
— Умер, — ответил молодой Адамс. — Уже много лет назад.
— Помнится, он влез в атомные дела, — сказал Грэмп.
— Совершенно верно, — с гордостью подтвердил Адамс. — Сразу подключился, как только началось промышленное применение. После Московского соглашения.
— Это когда они порешили, что воевать больше невозможно.
— Вот именно.
— В самом деле, — продолжал Грэмп. — как воевать, когда не во что целиться.
— Вы подразумеваете города? — сказал Адамс.
— Ну да. И ведь как все чудно вышло… Сколько ни пугали атомными бомбами — хоть бы что, все равно за город все держались. А стоило предложить им дешевую землю и семейные вертолеты, так и кинулись врассыпную, чисто кролики, чтоб им…
Джон Дж. Вебстер решительно поднимался по широким ступеням ратуши, когда его догнал и остановил оборванец с ружьем под мышкой.
— Привет, мистер Вебстер.
Несколько секунд Вебстер озадаченно рассматривал ходячее огородное пугало, потом лицо его расплылось в улыбке.
— А, это ты, Леви. Ну, как дела?
Леви Льюис осклабился, обнажив щербатые зубы.
— Ничего, так себе. Сады все гуще, молодые кролики нагуливают вес.
— Ты случайно не причастен к этой заварухе с брошенными домами? — спросил Вебстер.
— Никак нет, ваша честь, — отчеканил Леви. — Мы, скваттеры, ни в чем дурном не замешаны. Мы все люди богобоязненные, законопослушные. А дома эти занимаем только потому, что нам ведь больше негде жить. И кому вред от того, что мы селимся там, где все равно никто не живет. Полиция знает, что мы не можем за себя постоять, вот и валит на нас все кражи и прочие безобразия. Делает из нас козлов отпущения.
— Ну, тогда ладно, — ответил Вебстер. — А то ведь начальник полиции хочет сжечь заброшенные дома.
— Пусть попробует. — сказал Леви. — Только как бы сам не обжегся. Развели огороды в банках, заставили нас фермы бросить, но уж дальше мы ни на шаг не отступим.
Сплюнув на ступеньку, он продолжал:
— Случайно у вас нет при себе какой — нибудь мелочи? У меня совсем патронов не осталось, а тут эти кролики…
Вебстер сунул два пальца в жилетный карман и выудил полдоллара.
Леви ухмыльнулся.
— Вы сама щедрость, мистер Вебстер. Доживем до осени, я вас белками завалю.
Скваттер козырнул на прощание и зашагал вниз по ступенькам; ствол ружья поблескивал на солнце. Вебстер повернулся и вошел в здание.
Заседание муниципального совета было в полном разгаре.
Начальник полиции Джим Максвелл стоял около стола: мэр Пол Картер говорил, обращаясь к нему:
— Тебе не кажется, Джим, что с твоей стороны несколько опрометчиво настаивать на таких мерах?
— Нет, не кажется, — ответил начальник полиции. — Изо всех домов только два или три десятка заняты законными владельцами, точнее первоначальными хозяевами, ведь на самом деле дома эти давно уже принадлежат муниципалитету. И никакого толку от них, одни только неприятности. Хоть бы ценность какую — то представляли, не как жилье — как утиль, но ведь и того нет. Строительный леса. Мы больше не употребляем дерева, пластики лучше. Камень? Его заменила сталь. Короче говоря, ничего такого, что можно было бы реализовать.
А между тем они становятся пристанищем мелких преступников и нежелательных элементов. Да там теперь такие заросли образовались, лучшего укрытия для всевозможных правонарушителей и не придумаешь. Как что — нибудь натворил — прямым ходом туда, в заброшенные кварталы, там преступнику ничего не грозит: я могу хоть тысячу человек послать, все равно он от них ускользнет.
Сносить — слишком дорого обойдется. И оставлять нельзя: они как бельмо на глазу. В общем, надо от них избавляться, и самый простой и дешевый способ — огонь. Все необходимые меры предосторожности будут приняты.
— А как с юридической стороной? — спросил мэр.
— Я выяснил: всякий человек вправе уничтожить свое имущество удобным для него способом, если при этом не подвергается угрозе имущество других лиц. Очевидно, это правило применимо и к имуществу муниципалитета.
Олдермен Томас Гриффин вскочил на ноги.
— Вы только ожесточите людей! — воскликнул он. — Там ведь много таких домов, которые переходили из рода в род, а люди еще не освободились от сентиментальности…
— Если они так дорожат своими домами, — перебил его начальник полиции, — почему не платили налог, почему не следили за ними? Почему бежали за город, а дома бросили на произвол судьбы? Спросите — ка Вебстера, он расскажет вам, как пытался пробудить в них любовь к отчему дому и что из этого вышло.
— Вы говорите про этот фарс под названием «Неделя отчего дома»? — спросил Гриффин. — Да, он провалился. И не мог не провалиться. Вебстер так пересластил свою стряпню, что она людям поперек горла стала. А чего еще ждать, когда за дело берется Торговая палата.
— При чем тут Торговая палата, Гриффин? — сердито вмешался Олдермен Форрест Кинг. — Если вам в делах не везет, это еще не повод…
Но Гриффин его не слушал:
— Время нахального натиска прошло, джентльмены, прошло раз и навсегда. Приемы ярмарочного зазывалы безнадежно устарели, их место на кладбище. «Дни высокой кукурузы», «Дни доллара», всякие там липовые праздники с пестрыми флажками на площадях и прочие трюки, назначение которых собрать толпу и заставить ее раскошелиться, — все это быльем поросло. И только вы, други мои, этого, похоже, не заметили.
Отчего такие фокусы удавались? Да оттого, что они спекулировали на психологии толпы и гражданских чувствах. Но откуда взяться гражданским чувствам, когда город на глазах умирает? И как спекулировать на психологии толпы, когда толпы нет, у каждого, или почти у каждого, свое царство величиной в сорок акров?
— Джентльмены, — взывал мэр, — джентльмены, прошу придерживаться регламента!
Кинг рывком встал и грохнул кулаком по столу:
— Нет уж, давайте начистоту! Вот и Вебстер тут, может быть, он поделится с нами своими мыслями?
Вебстер поежился.
— Боюсь, — ответил он, — мне нечего сказать.
— Ладно, хватит об этом, — резко подытожил Гриффин и сел.
Но Кинг продолжал стоять, лицо его налилось краской, губы дрожали от ярости.
— Вебстер! — крикнул он.
Вебстер покачал головой.
— Вы пришли сюда по поводу вашей очередной великой идеи! — не унимался Кинг. — Собирались представить ее на рассмотрение муниципалитета. Так чего сидите? Давайте, выкладывайте?
Вебстер поднялся с хмурым видом.
— Не знаю, может, тупость помешает вам уразуметь, — обратился он к Кингу, — почему меня возмущает ваша деятельность.
Кинг на секунду опешил, потом взорвался:
— Тупость? И это вы говорите мне! Мы работали вместе, я вам помогал. Вы никогда не позволяли себе… никогда не…
— Да, я никогда не позволял себе говорить ничего подобного, — бесстрастно произнес Вебстер. — Еще бы. Мне не хоте лось вылететь со службы.
— Так вот, вы уже вылетели! — рявкнул Кинг. — Уволены! С этой самой секунды!
— Заткнитесь, — сказал Вебстер.
Кинг ошалело уставился на него, словно получил пощечину.
— И сядьте. — Голос Вебстера кинжалом прорезал напряженную тишину.
У Кинга подкосились ноги, и он шлепнулся на стул. Все молчали.
— Я хочу сказать вам кое — что, — продолжал Вебстер, — о том, что давно уже пора сказать вслух. О том, что всем вам давно следовало бы знать. Странно только, что именно мне приходится говорить вам об этом. А может быть, ничего тут странного и нет, кому, как не мне, сказать правду, все — таки почти пятнадцать лет служу интересам города.
Олдермен Гриффин сказал, что город умирает на глазах. Верно сказал, с одной только небольшой поправкой: он выразился слишком мягко. Город — этот город, любой город — уже умер.
Город стал анахронизмом. Он изжил себя. Гидропоника и вертолеты предопределили его кончину. Первоначально город был попросту пристанищем того или иного племени, которое собиралось вместе, чтобы обороняться от врагов. Со временем его обнесли стеной, чтобы усилить оборону. Потом стена исчезла, а город остался как центр торговли и ремесла. И просуществовал до нашего времени, потому что люди были привязаны к месту работы, которое находилось в городе.
Теперь условия изменились. В наше время, при семейном вертолете, сто миль — меньше, чем пять миль в тридцатых годах. Утром вылетел на работу, отмахал несколько сот миль, а вечером — домой. Теперь нет больше необходимости жаться в городе.
Начало положил автомобиль, а семейный вертолет довершил дело. Уже в первой четверти столетия люди потянулись за город, подальше от духоты, от всяких налогов, — на свой, отдельный участочек в предместье. Конечно, многие оставались: не был налажен загородный транспорт, денег не хватало. Но теперь, когда все выращивают на искусственной среде и цены на землю упали, большой загородный участок стоит меньше, чем клочок земли в городе сорок лет назад. И транспорт перестал быть проблемой, после того как самолеты перешли на атомную энергию.
Он остановился. Тишина. Мэр был явно потрясен. Кинг беззвучно шевелил губами. Гриффин улыбался.
— К чему мы пришли в итоге? — спросил Вебстер. — Сейчас я скажу к чему. Кварталы, целые улицы пустых, заброшенных домов. Люди взяли да уехали. А зачем им оставаться? Что мог дать им город? Предыдущим поколениям он что — то давал, а вот нынешнему — ничего, потому что прогресс свел на нет все плюсы города. Конечно, что — то они потеряли, ведь какие — то деньги были вложены в старое жилье. Но все это с лихвой возмещалось, поскольку они могли купить дом, который был вдвое лучше и вдвое дешевле; могли жить так, как им хотелось, обзавестись, так сказать, фамильной усадьбой вроде тех, которые всего несколько десятилетий тому назад были привилегией богачей.
Что же нам осталось? Несколько кварталов под конторами фирм и компаний. Несколько актов под промышленными предприятиями. Муниципалитет, назначение которого заботиться о миллионе горожан, да только горожан — то больше нет. Бюджет с такими высокими налогами, что скоро и фирмы из города уберутся, чтобы не платить столько. Конфискованный жилой фонд, которому грош цена. Вот что нам осталось…
Только болван может думать, что ответ дадут торговые палаты, шумные кампании да идиотские проекты. Потому что на все наши вопросы есть один — единственный, простой ответ: город как таковой мертв, он может кое — как протянуть еще несколько лет, но не больше.
— Мистер Вебстер… — начал мэр.
Но Вебстер даже ухом не повел.
— Если бы не сегодняшний случай, — говорил он, — я продолжал бы вместе с вами играть в кукольные домики. Делать вид, будто город еще действующее предприятие. Продолжал бы морочить голову себе и вам. Но все дело в том, господа, что на свете есть нечто, именуемое человеческим достоинством.
Ледяную тишину раздробило шуршание бумаг, чье — то озадаченное покашливание.
Однако Вебстер еще не кончил.
— Город приказал долго жить. И слава богу! Чем сидеть здесь и лить слезы над его останками, лучше встали бы и прокричали спасибо. Ведь если бы этот город, как и все города на свете, не изжил себя, если бы люди не бросили городов, они были бы разрушены. Разразилась бы война, господа, атомная война. Вы забыли пятидесятые, шестидесятые годы? Забыли, как просыпались ночью и слушали, не летит ли бомба, хотя знали, что все равно не услышите, когда она прилетит, вообще больше ничего и никогда не услышите?
Но люди покинули города, промышленность рассредоточилась, и обошлось без войны.
Многие из вас, господа, живы сегодня только потому, что люди ушли из вашего города. Да, живы потому, что город мертв!
Так пусть же, черт побери, он остается мертвым. Вам надо радоваться, что он умер. Это самое счастливое событие во всей истории человечества.
Джон Дж. Вебстер круто повернулся и вышел из зала.
На широкой наружной лестнице он остановился и посмотрел на безоблачное небо. Над шпилями и башенками ратуши кружили голуби.
Джон Вебстер мысленно встряхнулся, словно пес, который выскочил из пруда на берег.
Глупо он поступил, чего там. Теперь надо искать новое место, и когда еще найдешь, ведь возраст уже не тот.
Но тут в душе его сама собой родилась какая — то песенка, потеснила мрачные мысли, он сложил губы трубочкой и, беззвучно насвистывая, бодро зашагал прочь от ратуши.
Не надо больше лицемерить. Не надо больше ночи напролет думать над тем, как жить дальше, зная, что город мертв, что ты занимаешься никчемным делом, презирая себя за то, что даром ешь хлеб, борясь с тягостным чувством, преследующим труженика, который понимает, что трудится вхолостую.
Он направлялся к стоянке, где ждал его вертолет.
Может быть, теперь и они уедут из города, исполнится желание Бетти. И будет он вечерами бродить по собственной земле. Свой участок с речушкой! Непременно с речушкой, чтобы можно было развести форель.
Кстати, надо будет сходить на чердак и проверить удочки.
Марта Джонсон стояла и ждала у въезда на скотный двор, когда древняя колымага пропыхтела по дорожке, и Уле неуклюже выбрался из кабины, посеревший от усталости.
— Ну как, что — нибудь продал? — спросила Марта.
Он покачал головой.
— Гиблое дело. Деревенского не берут. Еще и смеются. Показывают мне кукурузу: початки вдвое больше моих, ровнехонькие и такие же сладкие. На дынях кожуры почитай что и нет. И повкуснее наших будут, коли не врут.
Он поддал ногой ком земли, так что пыль полетела.
— Да что там говорить, разорили нас эти искусственные среды.
— Может, нам лучше уж продать ферму? — сказала Марта.
Уле промолчал.
— Наймешься в гидропонное хозяйство. Вон Гарри поступил. И как еще доволен.
Уле мотнул головой.
— Или в садовники наймись. У тебя очень даже хорошо получится. Всем этим барам с большими усадьбами только садовника подавай, машин не признают, не тот шик.
Уле снова мотнул головой.
— Душа не лежит с цветочками возиться, — объяснил он. — Как — никак двадцать лет с лишком кукурузе отдал.
— А может, и нам вертолет завести, какой поменьше? — сказала Марта. — И провести воду в дом. И ванну поставить, чем в старом корыте на кухне мыться.
— Не справлюсь я с вертолетом, — возразил Уле.
— Еще как справишься. Невелика хитрость. Вон погляди на андерсоновских ребятишек: от горшка два вершка, а уже летают почем зря. Правда, один из них тут затеял дурачиться и вывалился из кабины, но…
— Ладно, я подумаю, — перебил Уле с отчаянием в голосе. — Подумаю.
Он повернулся, перемахнул через ограду и зашагал в поле. Марта стояла у машины и глядела ему вслед. По припорошенной пылью щеке скатилась слеза.
— Мистер Тэйлор ждет вас, — сказала девушка.
Джон Дж. Вебстер опешил.
— Но ведь я у вас еще не бывал. И не договаривался с ним о встрече.
— Мистер Тэйлор ждет вас, — настойчиво повторила она и указала кивком на дверь с надписью:
ОТДЕЛ ПЕРЕСТРОЙКИ
— Но я пришел сюда узнать насчет работы, — возразил Вебстер. — А не затем, чтобы меня перестраивали. Здесь ведь бюро найма Всемирного комитета, или я ошибся?
— Нет, не ошиблись, — ответила девушка. — Так доложить о вас мистеру Тэйлору?
— Если вы так настаиваете…
Девушка нажала рычажок и сказала в микрофон:
— Мистер Вебстер здесь, сэр.
— Пусть войдет, — ответил мужской голос.
Вебстер вошел в кабинет, держа шляпу в руке.
Седой мужчина с молодым лицом жестом предложил ему сесть.
— Вы хотите устроиться на работу?
— Да, — подтвердил Вебстер, — но я…
— Да вы садитесь, — продолжал Тэйлор. — Если вас смутила надпись на двери, забудьте о ней. Мы отнюдь не собираемся вас перестраивать.
— Я никак не могу найти себе место, — объяснил Вебстер. — Которую неделю хожу, и всюду отказ. Вот и пришел сюда к вам.
— Не хотелось к нам обращаться?
— Откровенно говоря, не хотелось. Бюро найма… В этом есть что — то… В общем, что — то неприятное.
Тэйлор улыбнулся.
— Возможно, название не совсем удачное. Вы думали, это нечто вроде бывшей биржи труда, куда обращались отчаявшиеся люди. Государственное учреждение, которое старается определить людей на работу, чтобы они не были в тягость обществу…
— Ну что ж, я тоже отчаялся, — признался Вебстер. — Но гордость еще сохранил, оттого и трудно было заставить себя прийти к вам. Но что поделаешь, другого выхода нет. Понимаете, я оказался изменником…
— Другими словами, — перебил его Тэйлор, — вы предпочитали говорить правду. Хотя бы это стоило вам места. Деловые круги, и не только здесь, во всем мире, еще не доросли до вашей правды. Бизнесмен еще цепляется за миф о городе, миф о коммерческой хватке. Придет время, и он поймет, что можно обойтись без города, что честное служение обществу даст ему куда больше, чем всякие коммерческие штучки. А скажите, Вебстер, что вас все — таки заставило поступить так, как вы поступили?
— Мне стало тошно, — ответил Вебстер. — Тошно глядеть, как люди тычутся туда — сюда с зажмуренными глазами. Тошно глядеть, как лелеют старую традицию, которой давно место на свалке. Мне опротивел Кинг с его пустопорожним энтузиазмом.
Тэйлор кивнул.
— А как вы думаете, не смогли бы вы помочь нам с перестройкой людей?
Вебстер вытаращил глаза.
— Нет, я серьезно, — продолжал Тэйлор. — Всемирный комитет уже который год этим занимается ненавязчиво, незаметно. Многие из тех, кто прошел перестройку, даже сами об этом не подозревают.
С того времени, как на смену Объединенным нациям пришел Всемирный комитет, на свете многое изменилось, и далеко не все сумели приспособиться к этим изменениям. Когда начали широко применять атомную энергию, сотни тысяч остались без места. Их надо было переучивать и направлять на другую работу. Одних на атомные предприятия, других куда — нибудь еще. Гидропоника ударила по фермерам. Пожалуй, с ними нам пришлось особенно трудно, ведь они ничего не умели, только выращивать хлеб и смотреть за скотом. И большинство из них вовсе не стремилось ни к чему другому. Они возмущались, что их лишили источника существования, унаследованного от предков. Индивидуалисты по самой своей природе, они оказались для нас, так сказать, самым твердым психологическим орешком.
— Многие из них, — вмешался Вебстер, — до сих пор не устроены. Больше сотни вселились без разрешения в заброшенные дома, живут впроголодь, там кролика подстрелят, там белку, рыбу ловят, растят овощи, собирают дикие плоды. Иногда приворовывают, иногда собирают подаяние в жилых кварталах…
— Вы знаете этих людей? — спросил Тэйлор.
— Знаю кое — кого. Один из них, случается, приносит мне белок или кроликов. Когда ему нужны деньги на патроны.
— По — вашему, они будут противиться перестройке?
— Еще как, — ответил Вебстер.
— Вам не знаком фермер по имени Уле Джонсон? Который все держится за свою ферму и ничего менять не хочет?
Вебстер кивнул.
— Если бы вы занялись ими?
— Он меня тут же выставит за дверь.
— Такие люди, как Уле и эти скваттеры, — объяснил Тэйлор, — нас сейчас особенно заботят. Большинство благополучно приспособились к новым условиям, вошли, так сказать, в современную колею. Правда, кое — кто еще оплакивает старину, но это больше для вида. Их теперь силой не заставишь жить по — старому.
Когда много лет назад всерьез начали развивать атомную энергетику, Всемирный комитет столкнулся с нелегкой проблемой. Перемены, прогресс нужны, но как их вводить — постепенно, чтобы люди исподволь приноравливались, или полным ходом и принять все меры, чтобы люди перестраивались поскорее. И решили — может быть, верно, может быть, нет — дать полный ход, а люди пусть поспевают как могут. В общем, это решение оправдалось.
Конечно, мы понимали, что не всегда можно будет проводить перестройку в открытую. В некоторых случаях затруднений не было — скажем, когда какие — то категории промышленных рабочих целиком переводили на новое производство. Но в некоторых случаях, как, например, с нашим другом Уле, нужен особый подход. Этим людям надо помочь найти свое место в новом мире, но так, чтобы они не чувствовали, что им помогают. Иначе можно подорвать их веру в свои силы, чувство человеческого достоинства, а ведь это чувство — краеугольный камень всякой цивилизации.
— Насчет перестройки в промышленности я, конечно, знал, — сказал Вебстер. — А вот про индивидуальные случаи впервые слышу.
— Мы не можем трубить об этом, — ответил Тэйлор. — Дело, можно сказать, секретное.
— Зачем же вы тогда мне рассказали?
— Потому что мы хотим, чтобы вы у нас работали. Помогите для начала Уле. А потом подумайте, что можно сделать для скваттеров.
— Не знаю даже… — начал Вебстер.
— Мы ведь украли вас, — продолжал Тэйлор. — Знали, что в конце концов вы придете к нам. Кинг позаботился о том, чтобы вас нигде не приняли. Всюду дал знать, так что теперь все Торговые палаты, все муниципальные органы занесли вас в черный список.
— Судя по всему, у меня нет выбора.
— Не хотелось бы, чтобы вы так это воспринимали, — сказал Тэйлор. — Лучше не спешите, обдумайте все и приходите еще раз. Не согласитесь на мое предложение, найдем вам другую работу наперекор Кингу.
Выйдя из бюро, Вебстер увидел знакомого оборванца с ружьем под мышкой. Но сегодня Леви Льюис не улыбался.
— Ребята сказали мне, что вы сюда зашли, — объяснил он. — Вот я и жду.
— Беда какая — нибудь? — спросил Вебстер, глядя на озабоченное лицо Леви.
— Да полиция… — ответил Леви и презрительно сплюнул в сторону.
— Полиция… — У Вебстера замерло сердце, он сразу понял, какая беда стряслась.
— Ага. Хотят нас выкурить.
— Так, значит, муниципалитет все — таки поддался.
— Я сейчас был в полицейском управлении, — продолжал Леви. — Сказал им, чтобы не очень — то петушились. Предупредил, что мы им кишки выпустим, если сунутся. Я расставил своих ребят и велел стрелять только наверняка.
— Но ведь так же нельзя, Леви, — строго произнес Вебстер.
— Нельзя? — воскликнул Леви. — Можно, и уже сделано. Нас согнали с земли, заставили продать ее, потому что она нас уже не кормит. Но больше мы не отступим, хватит. Будем насмерть стоять, до последнего, но выкурить себя не дадим.
Леви подвернул брюки и снова плюнул.
— И не только мы, скваттеры, так думаем, — добавил он, — Грэмп с нами заодно.
— Грэмп?
— Он самый. Ваш старик. Он у нас как бы за генерала. Говорит, еще не совсем забыл военное дело, полиция только ахнет. Послал ребят и они увели пушечку из мемориала. Говорит, в музее для нее и снаряды найдутся. Оборудуем, говорит, огневую точку, а потом объявим, мол, если полиция сунется, мы откроем огонь по деловому центру.
— Послушай, Леви, ты можешь сделать для меня одну вещь?
— Натурально могу, мистер Вебстер.
— Зайди в эту контору и спроси там мистера Тэйлора, хорошо? Добейся, чтобы он тебя принял, и скажи ему, что я уже приступил к работе.
— Натурально, а вы сейчас куда?
— Я пойду в ратушу.
— Не хотите, чтоб я с вами пошел?
— Нет. — ответил Вебстер. — Я один справлюсь. И еще, Леви…
— Да.
— Попроси Грэмпа, чтобы попридержал свою артиллерию. Пусть не стреляет без крайней надобности. Ну, а уж если придется стрелять, так чтобы не мазал.
— Мэр занят, — сказал секретарь Реймонд Браун.
— А вот мы сейчас посмотрим, — ответил Вебстер, направляясь к двери в кабинет.
— Вам туда нельзя, Вебстер! — завопил Браун.
Он вскочил на ноги и обогнул стол, бросаясь наперехват. Вебстер развернулся и толкнул его локтем в грудь прямо на стол. Стол поехал, Браун взмахнул руками, потерял равновесие и сел на пол.
Вебстер рванул дверь кабинета.
Мэр сдернул ноги со стола.
— Я же сказал Брауну… — начал он.
Вебстер кивнул.
— А Браун сказал мне. В чем дело, Картер? Боитесь, Кинг узнает, что я у вас был? Боитесь развращающего действия порядочных идей?
— Что вам надо? — рявкнул Картер.
— Мне стало известно, что полиция собирается сжечь заброшенные дома.
— Точно, — подтвердил мэр. — Эти дома представляют опасность для общины.
— Для какой общины?
— Послушайте, Вебстер…
— Вы отлично знаете, что никакой общины нет. Есть несколько вшивых политиканов, которые нужны только затем, чтобы вы могли претендовать на свои престол, могли каждый год избираться и загребать свой оклад. Вам скоро никаких других дел не останется, кроме как голосовать друг за друга. Ни служащие, ни рабочие даже самой низкой квалификации — никто из них не живет в черте города. А бизнесмены давно уже разъехались кто куда. Дела свои здесь вершат, но живут — то в других местах.
— Все равно город есть город, — заявил мэр.
— Я пришел не для того, чтобы обсуждать этот вопрос, — сказал Вебстер, — а чтобы попытаться убедить вас, что нельзя сжигать эти дома. Вы должны понять, заброшенные дома — пристанище людей, которые остались без своего угла. Людей, которых поиски убежища привели в наш город, и они нашли у нас кров. В каком — то смысле мы за них отвечаем.
— Ничего подобного, мы за них не отвечаем, — прорычал мэр. — И что бы с ними ни случилось, пусть пеняют на себя. Мы их не звали. Они нам не нужны. Общине от них никакого проку. Скажете, что они неудачники. Ну а я тут при чем? Скажете, у них нет работы. А я отвечу: нашли бы, если бы поискали. Работа есть, работа всегда есть. А то наслышались о новом мире и вбили себе в голову, что кто — то другой должен о них позаботиться, найти работу, которая их устроит.
— Вы рассуждаете, как закоренелый индивидуалист, — усмехнулся Вебстер.
— Вам это кажется забавным? — огрызнулся мэр.
— Забавно, — сказал Вебстер. — Забавно и печально, что в наши дни человек способен так рассуждать.
— Добрая доза закоренелого индивидуализма ничуть не повредила бы нашему миру. Возьмите тех, кто преуспел в жизни…
— Это вы о себе? — спросил Вебстер.
— А хоть бы и о себе. Я трудился как вол, не упускал благоприятных возможностей, заглядывал вперед. Я…
— Вы хотите сказать, что знали, чьи пятки лизать и чьи кости топтать, — перебил Вебстер. — Так вот, вы блестящий образчик человека, ненужного сегодняшнему миру. От вас плесенью несет, до того обветшали ваши идеи. Если я был последним из секретарей торговых палат, то вы, Картер, последний из политиканов. Только вы этого еще не уразумели. А я уразумел. И вышел из игры. Мне это даром не далось, но я вышел из игры, чтобы не потерять к себе уважение. Деятели вашей породы отжили свое. Отжили, потому что раньше любой хлыщ с луженой глоткой и нахальной рожей мог играть на психологии толпы и пробиться к власти. А теперь психологии толпы больше не существует. Откуда ей взяться, если ваша система рухнула под собственной тяжестью и народу плевать на ее труп.
— Вон отсюда! — заорал Картер. — Вон, пока я не позвал полицейских и не велел вас вышвырнуть.
— Вы забываете, — возразил Вебстер, — что я пришел поговорить о заброшенных домах.
— Пустая затея, — отрезал Картер. — Можете разглагольствовать хоть до судного дня, все равно эти дома будут сожжены. Это вопрос решенный.
— Вам хочется увидеть развалины на месте делового центра? — спросил Вебстер.
— О чем вы толкуете? — вытаращился мэр. — При чем тут центр?
— А при том, что в ту самую секунду, когда первый факел коснется домов, ратушу поразит первый снаряд. А второй ударит по вокзалу. И так далее, сперва все крупные мишени.
У Картера отвалилась челюсть. Потом лицо его залила краска ярости.
— Бросьте, Вебстер, — прохрипел он. — Меня не проведешь. С этими вашими баснями.
— Это не басня, — возразил Вебстер. — У них там есть пушки. Около мемориала взяли и в музеях. И есть люди, которые умеют с ними обращаться. Да тут и не нужен большой знаток. Прямая наводка, все равно что в упор по сараю стрелять.
Картер потянулся к передатчику, но Вебстер жестом остановил его.
— Подумайте, подумайте хорошенько, Картер, прежде чем в петлю лезть. Стоит вам дать ход вашему плану, и начнется сражение. Допустим, вам удастся сжечь заброшенные дома, но ведь и от центра ничего не останется. Бизнесмены снимут с вас скальп за это.
Картер убрал руку с тумблера.
Издалека донесся резкий звук ружейного выстрела.
— Лучше отзовите их, — посоветовал Вебстер.
На лице Картера отразилось смятение.
Снова выстрел… второй, третий.
— Еще немного, — сказал Вебстер, — и будет поздно, вы уже ничего не сможете сделать.
Глухой взрыв потряс оконные стекла. Картер вскочил на ноги.
Вебстер вдруг ощутил противную слабость, однако виду не показал.
Картер с каменным лицом смотрел в окно.
— Похоже, что уже поздно, — произнес Вебстер, стараясь придать голосу твердость.
Радио на столе требовательно запищало, мигая красным огоньком.
Картер дрожащей рукой нажал тумблер.
— Картер, — звал чей — то голос. — Картер, Картер?
Вебстер узнал луженую глотку начальника полиции Джима Максвелла.
— Кто там случилось? — спросил Картер.
— Они выкатили пушку, — доложил Максвелл. — Взорвалась при первом же выстреле. Должно быть, снаряд с дефектом.
— Пушка? Только одна пушка?
— Других пока не видно.
— Я слышал ружейные выстрелы, — сказал Картер.
— Так точно, они нас обстреляли. Двоих — троих ранили. Но теперь отошли. Прячутся в зарослях. Больше не стреляют.
— Ясно, — сказал Картер. — Валяйте, начинайте поджигать.
Вебстер бросился к нему.
— Спросите его… Спросите…
Но Картер уже щелкнул тумблером, и радио смолкло.
— Что вы хотели его спросить?
— Нет, ничего, — ответил Вебстер. — Ничего существенного.
Он не мог сказать Картеру, что один только Грэмп знал, как стреляют из пушки, что Грэмп был там, где произошел взрыв.
Уйти отсюда — и туда, к пушке, возможно скорее!
— Недурно было задумано, Вебстер, — сказал Картер. — Недурно, да только сорвался ваш блеф.
Он снова подошел к окну.
— Все, кончилась стрельба. Быстро сдались.
— Скажите спасибо, если из ваших полицейских хотя бы шестеро живьем вернутся, — огрызнулся Вебстер. — Там, в зарослях, засели люди, которые за сто шагов бьют белку в глаз.
В коридоре послышался топот, две пары ног стремительно приближались к двери.
Мэр отпрянул от окна, Вебстер повернулся на каблуках.
— Грэмп! — крикнул он.
— Привет, Джонни, — выдохнул ворвавшийся в кабинет Грэмп.
За его спиной стоял молодой человек, он размахивал в воздухе чемто шелестящим, какими — то бумагами.
— Что вам угодно? — спросил мэр.
— Нам много чего угодно, — ответил Грэмп, помолчал, переводя дух, и добавил: — Познакомьтесь: мой друг Генри Адамс.
— Адамс? — переспросил мэр.
— Вот именно, Адамс, — подтвердил Грэмп. — Его дед когда — то жил здесь. На Двадцать седьмой улице.
— А — а… — У мэра был такой вид, словно его стукнули кирпичом. — Ан… Вы говорите про Ф. Дж. Адамса?
— Во — во, он самый, — сказал Грэмп. — Мы с ним вместе воевали. Он мне целыми ночами рассказывал про сына, который дома остался.
Картер взял себя в руки и коротко поклонился Генри Адамсу.
— Разрешите мне, — важно начал он, — как мэру этого города приветствовать…
— Горячее приветствие, ничего не скажешь, — перебил его Адамс. — Я слышал, вы сжигаете мою собственность.
— Вашу собственность?
Мэр осекся, озадаченно глядя на бумаги в руке Адамса.
— Вот именно, его собственность! — отчеканил Грэмп. — Он только что купил этот участок. Мы сюда прямиком из казначейства. Задолженность по налогам покрыта, пени уплачены — словом, конец всем уверткам, которыми вы, легальные жулики, хотели оправдать свое наступление на заброшенные дома.
— Но… но… — Мэр никак не мог подобрать нужные слова. — Но ведь не все же, надо думать, а только дом старика Адамса…
— Все, все как есть, — торжествовал Грэмп.
— И я был бы вам очень обязан, — сказал молодой Адамс, — если бы вы попросили ваших людей прекратить уничтожение моей собственности.
Картер наклонился над столом и взялся непослушными руками за радио.
— Максвелл! — крикнул он. — Максвелл! Максвелл!
— В чем делом. — рявкнул в ответ Максвелл.
— Сейчас же прекратите поджигать дома! Тушите пожары! Вызовите пожарников! Делайте что хотите, только потушите пожары!
— Вот те на! — воскликнул Максвелл. — Вы уж решите что — нибудь одно.
— Делайте, что вам говорят! — орал мэр. — Тушите пожары!
— Ладно, — ответил Максвелл. — Хорошо, не кипятитесь. Только ребята вам спасибо не скажут. Они тут головы под пули подставляют, а вы то одно, то другое.
Картер выпрямился.
— Позвольте заверить вас, мистер Адамс, произошла ошибка, прискорбная ошибка.
— Вот именно, — сурово подтвердил Адамс. — Весьма прискорбная ошибка. Самая прискорбная ошибка в вашей жизни. С минуту они молча мерили взглядом друг друга.
— Завтра же, — продолжал Адамс, — я подаю заявление в суд, ходатайствую об упразднении городской администрации. Если не ошибаюсь, как владелец большей части земель, подведомственных муниципалитету, я имею на это полное право.
Мэр глотнул воздух, потом выдавил из себя:
— На каком основании?
— А на таком, — ответил Адамс, — что я больше не нуждаюсь в услугах муниципалитета. Думаю, суд не станет особенно противиться.
— Но… но… ведь это означает…
— Во — во, — подхватил Грэмп. — Вы отлично разумеете, что это означает. Вы получили нокаут, вот что это означает.
— Заповедник. — Грэмп взмахнул рукой, указывая на заросли на месте жилых кварталов. — Заповедник, чтобы люди не забывали, как жили их предки.
Они стояли втроем на холме среди торчащих из густой травы массивных стальных опор старой ржавой водокачки.
— Не совсем заповедник, — поправил его Генри Адамс, — а скорее мемориал. Памятник городской эре, которая лет через сто будет всеми забыта. Этакий музей под открытым небом для всякого рода диковинных построек, которые отвечали определенным условиям среды и личным вкусам хозяев. Подчиненных не каким — то единым архитектурным принципам, а стремлению жить удобно и уютно. Через сто лет люди будут входить в эти дома там, внизу, с таким же благоговейным чувством, с каким входят в нынешние музеи. Для них это будет что — то первобытное, так сказать, одна из ступеней на пути к лучшей, более полной жизни. Художники будут посвящать свое творчество этим старым домам, переносить их на свои полотна. Авторы исторических романов будут приходить сюда, чтобы подышать подлинной атмосферой прошлого…
— Но вы говорили, что хотите восстановить все постройки, расчистить сады и лужайки, чтобы все было, как прежде, — сказал Вебстер. — На это нужно целое состояние. И еще столько же на уход.
— А у меня чересчур много денег, — ответил Адамс. — Честное слово, куры не клюют. Не забудьте, дед и отец включились в атомный бизнес, когда он только зарождался.
— Дед ваш лихо в кости играл, — сообщил Грэмп. — Бывало, как получка, непременно меня обчистит.
— В старое время, — продолжал Адамс, — когда у человека было чересчур много денег, он мог найти им другое употребление. Скажем, вносил в благотворительные фонды, или на медицинские исследования, или еще на что — нибудь. Теперь нет благотворительных фондов. Некому их поддерживать. И с тех пор, как Всемирный комитет вошел в силу, хватает денег на все исследования, медицинские и прочие.
У меня ведь не было никаких планов, когда я решил побывать на родине деда. Просто захотелось поглядеть на его дом, больше ничего. Он мне столько про него рассказывал. Как сажал дерево на лужайке… Какие розы развел за домом…
И вот я увидел этот дом. И он был словно манящий призрак прошлого. Вот он брошен, брошен навсегда, а ведь был кому — то очень дорог… Мы стояли с Грэмпом и смотрели, и вдруг я подумал, что могу сделать большое дело, если сохраню для потомства как бы срез прошлого, чтобы могли видеть, как жили их предки.
Над деревьями внизу взвился столбик голубого дыма.
— А как же с ними? — спросил Вебстер, показывая на дым.
— Пусть остаются, если хотят, — ответил Адамс. — Для них тут найдется работа. И жилье найдется. Меня только одно заботит. Я не могу сам быть здесь все время. Мне нужен человек, который руководил бы этим делом. Посвятил бы ему всю жизнь.
Он посмотрел на Вебстера.
— Валяй, Джонни, соглашайся, — сказал Грэмп.
Вебстер покачал головой.
— Бетти уже присмотрела дом за городом.
— А вам не надо жить тут постоянно. — заметил Адамс. — Будете прилетать каждый день.
Кто — то окликнул их снизу.
— Это Уле! — Грэмп помахал тростью. — Эй, Уле! Поднимайся сюда!
Они молча глядели, как Уле взбирается вверх по склону.
— Потолковать надо. Джонни, — заговорил Уле, подойдя к ним. — Мыслишка есть. Ночью осенило, до утра не спал.
— Выкладывай, — сказал Вебстер.
Уле покосился на Адамса.
— Все в порядке, — успокоил его Вебстер. — Это Генри Адамс. Может, помнишь его деда, старика Ф. Дж.?
— Ну как же, помню, — подтвердил Уле. — Он еще полез в эти атомные дела. Что — нибудь это ему дало?
— И совсем немало. — ответил Адамс.
— Рад слышать. Стало быть, я ошибался, когда говорил, что из него не выйдет толку. Он все мечтал да грезил.
— Так что за идея? — спросил Вебстер.
— Вы, конечно, слышали про туристские ранчо?
Вебстер кивнул.
— Туда городские приезжали, чтобы ковбоев разыгрывать, — продолжал Уле. — Уж так им это нравилось! Они ведь понятия не имели, что настоящее ранчо — это тяжелый труд, им представлялась одна сплошная романтика, скачки на лошадях и…
— Постой, — перебил его Вебстер, — ты что же, задумал свою ферму превратить в такое туристское ранчо?
— Ранчо не ранчо, а вот насчет туристской фермы стоит помозговать. Теперь ведь настоящих ферм почитай что и не осталось, люди все равно не знают толком, что это такое. А уж мы им распишем — про тыквы с кружевами на корке и всякие прочие красоты…
Вебстер внимательно посмотрел на Уле.
— А знаешь, Уле, ведь клюнут. Драться будут, убивать друг друга, только дай им провести отпуск на самой настоящей, неподдельной старинной ферме!
Внезапно из кустов на склоне, мелькая кривыми лезвиями и помахивая длинной металлической рукой, с визгом, рокотом и скрежетом вырвалась какая — то блестящая штуковина.
— Это еще… — начал Адамс.
— Косилка, чтоб ей было пусто! — воскликнул Грэмп. — Я всегда говорил, что она когда — нибудь свихнется и пойдет куролесить!
Комментарий ко второму преданию
Второе предание при всей его чужеродности все-таки нам как-то ближе. Здесь впервые читатель ловит себя на чувстве, что это предание могло родиться у лагерного костра Псов. Для первого предания такое предположение немыслимо. Тут провозглашаются какие-то высокие морально-этические принципы, которые святы для Псов. Далее происходит понятная для Пса борьба, пусть даже в ней обнаруживается моральное и умственное оскудение главного действующего лица.
И появляется близкий нам персонаж — робот. В роботе Дженкинсе, впервые предстающем здесь перед читателем, мы узнаем персонаж, который уже не одну тысячу лет является любимцем щенков. Резон полагает Дженкинса подлинным героем всего цикла. Он видит в Дженкинсе олицетворение авторитета Человека, который продолжал влиять и после того, как исчез сам Человек; видит механическое устройство, посредством которого человеческая мысль еще много столетий направляла Псов, хотя сам Человек ушел. У нас и теперь есть роботы, приятные и полезные маленькие аппараты, единственное назначение которых — служить нам руками. Впрочем, Псы уже настолько свыклись со своими роботами, что мысленно не отделяют их от себя. Утверждение Резона, будто робот изобретен Человеком и представляет собой наследие эпохи Человека, решительно опровергается большинством других исследователей цикла. По мнению Разгона, мысль о том, будто робот сделан и дарован Псам, чтоб они могли создать свою культуру, тотчас отпадает в силу своей романтичности. Он утверждает, что перед нами просто литературный прием, который никак нельзя воспринимать всерьез.
Остается невыясненным, как Псы могли прийти к конструкции робота. Немногие из исследователей, занимавшихся проблемой развития робототехники, отстаивают мнение, что узкоспециальное назначение робота говорит в пользу его изобретения Псом. Такую специализацию, заявляют они, можно объяснить лишь тем, что робот был придуман и изготовлен именно теми существами, для которых он предназначен. Только Пес, утверждают они, мог столь успешно решить такую сложную задачу.
Ссылка на то, что никто из Псов сегодня не сумел бы изготовить робота, ничего не доказывает. Псы сегодня не сумеют изготовить робота потому, что в этом нет нужды, поскольку роботы сами себя изготовляют. Несомненно, когда возникла надобность, Пес создал робота, и, наделив роботов способностью к воспроизводству, которое выразилось в изготовлении себе подобных, он избрал решение, типичное для самих Псов.
И, наконец, в этом предании впервые появляется проходящая затем через весь цикл идея, которая давно уже изумляет всех исследователей и большинство читателей. Речь идет о возможности физически покинуть наш мир и достичь через заоблачные выси других миров. Почти все рассматривают эту идею как чистую фантастику (вполне допустимую в преданиях и легендах), тем не менее она тоже внимательно изучалась. Большинство исследований подтвердили вывод, что такое путешествие немыслимо. Иначе пришлось бы допустить, что звезды, которые мы видим ночью — огромные миры, удаленные на чудовищные расстояния от нашего мира. Но ведь всякий знает, что на самом деле звезды — всего-навсего висящие в небе огни, и многие из них висят совсем близко.
Пожалуй, наиболее удачное объяснение, откуда могла возникнуть идея о заоблачных мирах, предложено Разгоном. Все очень просто, говорит он: древний сказитель по-своему изобразил исстари известные Псам мир гоблинов.
II. Берлога
Мелкий дождик из свинцовых туч плыл серыми космами среди оголенных деревьев. Он обволакивал живую изгородь, сглаживал углы построек, скрадывал даль. Он поблескивал на металлической оболочке безмолвных роботов и серебрил плечи трех людей, слушающих человека в черном облачении, который держал в руках книгу и читал нараспев:
— Я есмь воскресение и жизнь…
Замшелая статуя над входом в крипту словно стремилась ввысь, всеми своими частицами напряженно тянулась к чему — то незримому. Тянулась с того самого далекого дня, когда ее высекли из гранита и водрузили на фамильном склепе как символ, столь близкий сердцу первого Джона Дж. Вебстера в последние годы его жизни.
— И всякий живущий и верующий в меня…
Джером А.Вебстер чувствовал, как его руку стискивают пальцы сына, слышал тихий плач матери, видел неподвижных роботов, почтительно склонивших головы над прахом своего хозяина, возвращающегося в лоно, которое служит конечным пристанищем всего сущего.
Понимают ли они происходящее? Понимают ли, что такое жизнь и смерть?.. Почему Нельсон Ф. Вебстер лежит в ящике, почему человек с книгой что — то читает над ним?..
Нельсон Ф.Вебстер, четвертый из обосновавшихся на этих землях Вебстеров, жил и умер тут, почти никуда не выезжая, и теперь его ожидал вечный покой в прибежище, которое первый из них устроил для всех последующих, для долгой призрачной череды потомков, которые будут здесь обитать, лелея установленные Джоном Дж. Вебстером обычаи, нравы и образ жизни.
…Челюсти напряглись, по телу пробежала дрожь. Защипало веки, и гроб расплылся, и голос человека в черном слился с шепотом ветра в соснах, обступивших покойного почетным караулом. В мозгу Джерома А. Вебстера чередовались воспоминания — воспоминания о седом человеке, который бродил по холмам и полям, вдыхая свежий утренний воздух, стоял с рюмкой бренди перед пылающим камином, широко расставив ноги.
Гордость… Гордость, которую дарует человеку власть над землей и бытием. Смирение и благородство, которые прививает человеку покойная жизнь. Отсутствие всякой гонки, сознание, что ты нужен людям, уют привычного окружения, широкое приволье…
Томас Вебстер дергал его за локоть.
— Отец, — шептал он, — отец.
Служба кончилась. Человек в черном облачении закрыл свою книгу. Шестеро роботов шагнули вперед, подняли гроб.
Следом за ними медленно вошли в склеп люди и молча смотрели, как роботы поместили гроб в нишу, затворили дверцу и укрепили дощечку с надписью:
НЕЛЬСОН Ф.ВЕБСТЕР
2034–2117
Все. Только фамилия и дата. И вполне достаточно, подумал Джером А. Вебстер. Больше ничего не надо. То же, что у других членов рода, начиная с Уильяма Стивенса, 1920–1999. Помнится; его прозвали Грэмп Стивенс. На его дочери был женат первый Джон Дж. Вебстер, который тоже здесь покоится: 1951–2020. За ним последовал его сын, Чарлз Ф.Вебстер, 1980–2060. И сын Чарлза, Джон Дж. второй, 2004–2086. Вебстер хорошо помнил своего деда, Джона Дж. второго, любителя подремать у камина с трубкой в зубах, которая вечно грозила подпалить ему баки.
Его глаза обратились к следующей дощечке. Мери Вебстер, мать мальчугана, который стоит рядом с ним. Впрочем, какой там мальчуган! Он все забывает, что Томасу уже двадцать лет и дней через десять он, как и сам Джером А. Вебстер в молодости, отправится на Марс.
Все здесь собраны… Вебстеры, жены Вебстеров, дети Вебстеров. Вместе при жизни, вместе после смерти, спят чинно и благородно среди бронзы и мрамора, и сосны снаружи, и символическая фигура над позеленевшей дверью…
Роботы молча ждали, закончив свое дело.
Мать посмотрела на него.
— Теперь ты глава семейства, сын мой, — сказала она.
Он прижал ее к себе одной рукой. Глава семейства, от которого, кроме него, остались двое: его мать и сын. К тому же сын скоро уедет, полетит на Марс. Но он вернется. Вернется с женой, надо думать, и род продолжится. Но будет их всего трое. Большинство комнат усадьбы не будут, как теперь, пустовать. Было время, в усадьбе бурлила жизнь, под одной большой крышей, каждый в своих апартаментах, жили десятки членов семьи. Это время еще вернется, непременно вернется…
Трое Вебстеров повернулись, вышли из склепа и направились обратно к едва различимой во мгле серой громаде дома.
В камине пылал огонь, на столе лежала открытая книга. Джером А.Вебстер протянул руку, взял книгу и еще раз прочел заглавие.
«ФИЗИОЛОГИЯ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ МАРСИАНИНА».
ДЖЕРОМ А.ВЕБСТЕР, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК
Толстая, солидная — труд целой жизни, пожалуй, не имеющий равных в этой области. Основан на данных, собранных за пять лет борьбы с эпидемией на Марсе. Пять лет, когда он день и ночь трудился не покладая рук вместе с товарищами по бригаде, которую Всемирный комитет послал на помощь соседней планете.
Раздался стук в дверь.
— Войдите, — сказал он.
Дверь отворилась, показался робот.
— Ваше виски, сэр.
— Благодарю, Дженкинс.
— Священник уехал, сэр, — сообщил Дженкинс.
— Да — да, конечно… Надеюсь, ты о нем позаботился.
— Так точно, сэр. Вручил ему положенный гонорар и предложил рюмочку спиртного. От рюмочки он отказался.
— Ты допустил оплошность, — объяснил Вебстер. — Священники не пьют.
— Простите, сэр. Я не знал. Он просил меня передать вам, что будет рад видеть вас в церкви.
— Что?..
— Я ответил, сэр, что вы никуда не ходите.
Дженкинс направился к двери, но затем повернулся.
— Простите, сэр, но я хотел сказать, что служба у склепа была очень трогательная. Ваш отец был превосходный, исключительный человек. Все роботы говорят, что служба удалась. Очень благородно получилось. Ему было бы приятно, если бы он знал.
— Ему было бы еще приятнее услышать твои слова, Дженкинс.
— Благодарю, сэр.
Дженкинс вышел.
Виски, книга, горящий камин. Обволакивающий уют привычной комнаты, мир и покой…
Родной дом. Родной дом всех Вебстеров с того самого дня, когда сюда пришел первый Джон Дж. и построил первую часть пространного сооружения. Джон Дж. выбрал это место из — за ручья с форелью, во всяком случае, так он сам говорил. Но дело не только в ручье, не может быть, чтобы дело было только в ручье…
А впрочем, не исключено, что вначале все сводилось к ручью. Ручей, деревья, луга, скалистый гребешок, куда по утрам уползал туман с реки. Все же остальное складывалось постепенно, из года в год. Из года в год семья обживала этот уголок, пока сама земля, что называется, не пропиталась пусть не традицией, но, во всяком случае, чем — то вроде традиции. И теперь каждое дерево, каждый камень, каждый клочок земли стали вебстерским.
Джон Дж. — первый Джон Дж. — пришел сюда после распада городов, после того, как человек раз и навсегда отказался от этих берлог двадцатого века, избавился от древнего инстинкта, под действием которого племена забивались в пещеру или скучивались на прогалине в лесу, соединяясь против общего врага, против общей опасности. Инстинкт этот изжил себя, ведь больше не стало врагов и опасностей. Человек восстал против стадного инстинкта, навязанного ему в далеком прошлом экономическими и социальными условиями. И помогло ему в этом сознание безопасности и достатка.
Начало новому курсу было положено в двадцатом веке, больше двухсот лет назад, когда люди стали переселяться за город ради свежего воздуха, простора и благодатного покоя, которого они никогда не знали в городской толчее.
И вот конечный итог: безмятежная жизнь, мир и покой, возможные только тогда, когда царит полное благополучие. То, к чему люди искони стремились, — поместный уклад, правда, в новом духе, родовое имение и зеленые просторы, атомная энергия и роботы взамен рабов.
Вебстер улыбнулся, глядя на камин с пылающими дровами. Пережиток пещерной эпохи, анахронизм, но прекрасный анахронизм… Практически никакой пользы, ведь атомное отопление лучше. Зато сколько удовольствия! Перед атомной печью не посидишь, не погрезишь, любуясь языками пламени.
А этот склеп, куда сегодня поместили прах отца… Тоже часть — неотъемлемая часть — поместного уклада. Покой, простор, сумрачное благородство. В старину покойников хоронили на огромных кладбищах как попало, бок о бок с чужаками.
Он никуда не ходит.
Так ответил Дженкинс священнику.
Так оно и есть на самом деле. А для чего ходить куда — то? Все, что тебе нужно, тут, только руку протяни. Достаточно покрутить диск, и можно поговорить с кем угодно лицом к лицу, можно перенестись в любое место, только что не телесно. Можно посмотреть театральный спектакль, послушать концерт, порыться в библиотеке на другом конце света. Совершить любую сделку, не вставая с кресла.
Вебстер проглотил виски, затем повернулся к стоящему возле письменного стола аппарату.
Он набрал индекс по памяти, не заглядывая в справочник. Не в первый раз…
Пальцы нажали рычажок, и комната словно растаяла. Осталось кресло, в котором он сидел, остался угол стола, часть аппарата — и все.
Кресло стояло на горном склоне среди золотистой травы, из которой тут и там торчали искривленные ветром деревца. Склон спускался к озеру, зажатому в объятиях багряных скал. Крутые скалы, исчерченные синевато — зелеными полосками сосен, ярус за ярусом вздымались вплоть до тронутых голубизной снежных пиков, вонзивших в небо неровные зубья.
Хриплый ветер трепал приземистые деревца, яростно мял высокую траву. Лучи заходящего солнца воспламенили далекие вершины.
Величавое безлюдье, изрытый складками широкий склон, свернувшееся клубком озеро, иссеченные тенями гряды…
Вебстер сидел в покойном кресле и смотрел, прищурившись, на вершины.
Чей — то голос произнес чуть ли не над ухом:
— Можно?
Мягкий, свистящий, явно не человеческий голос. И тем не менее хорошо знакомый.
Вебстер кивнул.
— Конечно, конечно, Джуэйн.
Повернув голову, он увидел изящный низкий пьедестал и сидящего на корточках мохнатого марсианина с кроткими глазами. За пьедесталом смутно вырисовывались, другие странные предметы — вероятно, обстановка марсианского жилища.
Мохнатая рука марсианина указала на горы.
— Вам нравится этот вид, — произнес он. — Он говорит что — то вашему сердцу. Я представляю себе ваше чувство, но во мне эти горы вызывают скорее ужас, чем восторг. На Марсе такой ландшафт немыслим.
Вебстер протянул руку к аппарату, но марсианин остановил его.
— Не надо, оставьте. Я знаю, почему вы здесь уединились. И если я позволил себе явиться в такую минуту, то лишь потому, что подумал: может быть, общество старого друга…
— Спасибо, — сказал Вебстер. — Я вам очень рад.
— Ваш отец, — продолжал Джуэйн, — был замечательный человек. Я помню, вы мне столько рассказывали о нем в те годы, когда работали на Марсе. А еще вы тогда обещали когда — нибудь снова у нас побывать. Почему до сих пор не собрались?
— Дело в том, что я вообще никуда…
— Не надо объяснять, — сказал марсианин. — Я уже понял.
— Мой сын через несколько дней вылетает на Марс. Я скажу ему, чтобы навестил вас.
— Мне будет очень приятно, — ответил Джуэйн. — Я буду ждать его.
Он помялся, потом спросил:
— Ваш сын пошел по вашим стопам?
— Нет, — сказал Вебстер. — Он хочет стать конструктором. Медицина его никогда не привлекала.
— Что ж, он вправе сам выбирать себе дорогу в жизни. Но вообще — то хотелось бы…
— Конечно, хотелось бы, — согласился Вебстер. — Но тут уже все решено. Может быть, из него выйдет крупный конструктор. Космос… Он думает о звездных кораблях.
— И ведь ваш род сделал достаточно для медицинской науки. Вы, ваш отец…
— И его отец тоже, — добавил Вебстер.
— Марс в долгу перед вами за вашу книгу, — сказал Джуэйн. — Может быть, теперь станет больше желающих специализироваться по Марсу. Из марсиан не получаются хорошие врачи. У нас нет нужной традиции. Странно, как различается психология обитателей разных планет. Странно, что марсиане сами не додумались… Да — да, нам просто в голову не приходило, что болезни можно и нужно лечить. Медицину у нас заменял культ фатализма. Тогда как вы еще в древности, когда люди жили в пещерах…
— Зато вы додумались до многого, чего не было у нас, — сказал Вебстер. — И нам теперь странно, как это мы прошли мимо этих вещей. У вас есть свои таланты, есть области, в которых вы намного опередили нас. Взять хотя бы вашу специальность, философию. Вы сделали ее подлинной наукой, а у нас она была только щупом, которым действовали наугад. Вы создали стройную, упорядоченную систему, прикладную науку, действенное орудие.
Джуэйн открыл рот, помешкал, потом все — таки заговорил:
— У меня складывается одна концепция, совсем новая концепция, которая может дать поразительный результат. Она обещает стать действенным орудием не только для марсиан, но и для вас, людей. Я уже много лет работаю в этом направлении, а основой послужили кое — какие идеи, которые возникли у меня, когда земляне впервые прибыли на Марс. До сих пор я ничего не говорил, потому что не был убежден в своей правоте.
— А теперь убеждены?
— Не совсем, не окончательно. Почти убежден.
Они посидели молча, глядя на горы и озеро. Откуда — то прилетела птица и запела, сев на корявое дерево. Над гребнями вспухли темные тучи, и снежные пики стали похожи на мраморные надгробья. Алое зарево поглотило солнце и потускнело. Еще немного и костер заката догорит…
Кто — то постучался в дверь, и Вебстер весь напрягся, возвращаясь к действительности, к своему кабинету и креслу. Джуэйн исчез. Разделив с другом минуты раздумья, старый философ тихо удалился.
Снова стук в дверь.
Вебстер наклонился, щелкнул рычажком, и горы исчезли, кабинет снова стал кабинетом. За высокими окнами сгущались сумерки, в камине розовели подернутые пеплом головешки.
— Войдите, — сказал Вебстер.
Дженкинс отворил дверь.
— Обед подан, сэр, — доложил он.
— Спасибо.
Вебстер медленно поднялся на ноги.
— Ваш прибор во главе стола, сэр, — добавил Дженкинс.
— Да — да… Спасибо, Дженкинс. Большое спасибо, что напомнил.
Стоя на краю смотровой площадки, Вебстер провожал взглядом тающий в небе круг, отороченный красными вспышками, которые не могло затмить тусклое зимнее солнце.
Круг исчез, а он все стоял, сжимая пальцами перила, и глядел вверх.
Губы его зашевелились и беззвучно вымолвили: «До свидания, сынок».
Постепенно он очнулся. Заметил людей кругом, увидел теряющееся вдали летное поле с разбросанными по нему конусами космических кораблей. У одного из ангаров сновали тракторы, сгребая остатки выпавшего ночью снега.
Вебстер зябко поежился. Удивился, с чего бы это: полуденное солнце грело хорошо, — и снова поежился.
С трудом оторвавшись от перил, он двинулся к зданию космопорта. Внезапно его обуял дикий страх, нелепый, необъяснимый страх перед бетонной плоскостью смотровой площадки. Страх сковал холодом его душу и заставил ускорить шаг.
Навстречу, помахивая портфелем, шел мужчина. «Только бы не заговорил со мной», — лихорадочно подумал Вебстер.
Мужчина не сказал ни слова, даже не посмотрел на него, и Вебстер облегченно вздохнул.
Быть бы сейчас дома… Час отдыха после ленча, в камине пылают дрова, на железной подставке мелькают красные блики… Дженкинс приносит ликер, что — то говорит невпопад…
Он прибавил шагу, торопясь поскорее уйти с холодной, голой бетонной площадки.
Странно, отчего ему так тяжело далось прощание с Томасом. Конечно, разлука вещь неприятная, это только естественно. Но чтобы в последние минуты расставания им овладел такой ужас, это никак не естественно. Ужас при одной мысли о предстоящем сыну путешествии через космос, ужас при мысли о чужом, марсианском мире, хотя Марс теперь вряд ли можно назвать чужим: земляне больше ста лет знают его, осваивают, живут в нем, некоторые даже полюбили его.
И, однако, лишь величайшее напряжение воли помешало ему в последние секунды перед стартом корабля выскочить на летное поле, взывая к Томасу: «Вернись! Не улетай!»
Это был бы, конечно, совершенно недопустимый поступок. Унизительная, позорная демонстрация чувств, никак не подобающая одному из Вебстеров.
В самом деле, что такое путешествие на Марс? Ничего особенного, во всяком случае, теперь. Когда — то полет на Марс был событием, но это время давно миновало. Он сам туда летал, провел на Марсе пять долгих лет. Это было… Он мысленно ахнул… Да, это было около тридцати лет назад. Дежурный робот распахнул перед ним дверь зала ожидания, и в лицо ему ударил гул и рокот многих голосов. В этом гуле было что — то такое жуткое, что он на миг остановился. Потом вошел, и дверь мягко закрылась за ним.
Прижимаясь к стене, чтобы ни с кем не столкнуться, он прошел в угол к свободному креслу и съежился в нем, глядя на толчею в зале.
Люди, шумные, суетливые, с чужими замкнутыми лицами… Чужаки, сплошь чужаки. Ни одного знакомого лица. Всем куда — то надо. Направляются на другие планеты. Спешат. В последнюю минуту что — то вспоминают, мечутся туда — сюда…
В толпе мелькнуло знакомое лицо. Вебстер подался вперед.
— Дженкинс! — крикнул он и почувствовал неловкость, хотя никто не обратил внимания на его возглас.
Робот остановился перед ним.
— Передай Раймонду, — продолжал Вебстер, — что мне надо немедленно возвращаться домой. Пусть сейчас же подаст вертолет.
— К сожалению, сэр, — сказал Дженкинс, — мы не можем вылететь сейчас. Механики обнаружили неисправность в атомной камере и теперь заменяют ее. На это уйдет несколько часов.
— Уверен, что с этим можно подождать до другого раза, — нетерпеливо возразил Вебстер.
— Механики говорят — нельзя. Камеру может прорвать в любую минуту. И вся энергия…
— Ладно, ладно, — перебил его Вебстер, — нельзя так нельзя.
Он мял в руках свою шляпу.
— Срочное дело, — заговорил он опять. — Я только что вспомнил. Мне нужно попасть домой, я не могу ждать несколько часов.
Вебстер сидел как на иголках, глядя на мельтешащих людей.
Лица… лица…
— Может быть, вы свяжетесь по видеофону? — предложил Дженкинс. — И дадите поручение кому — нибудь из роботов. Тут есть будка…
— Погоди, Дженкинс. — Вебстер помялся, потом продолжал: — Нет у меня никаких срочных дел. Но мне непременно надо вернуться домой. Я не могу здесь оставаться. Еще немного, и я потеряю рассудок. Мне стало вдруг страшно там, на площадке. И здесь мне тоже не по себе. У меня такое чувство… странное, ужасное чувство. Дженкинс, я…
— Я понимаю вас, сэр, — ответил Дженкинс. — У вашего отца было то же самое.
— У отца?!
— Да — да, сэр, вот почему он никуда не выезжал. И началось это у него примерно в вашем возрасте. Он задумал поехать в Европу, но так и не доехал. Вернулся с полпути. Он это как — то называл.
Вебстер молчал, ошеломленный услышанным.
— Называл… — вымолвил он наконец. — Ну конечно, есть какое — то название. Значит, и отец этим страдал… А дед как?
— Не могу знать, сэр, — ответил Дженкинс. — Когда меня создали, ваш дед был в преклонных летах. А вообще это вполне возможно. Он тоже никуда не выезжал.
— Значит, ты меня понимаешь. Знаешь, что это такое. Мне невмоготу, я заболеваю. Постарайся нанять другой вертолет, придумай что — нибудь, чтобы нам поскорее добраться до дома.
— Слушаюсь, сэр, — сказал Дженкинс, трогаясь с места, но Вебстер остановил его.
— Дженкинс, а кто — нибудь еще об этом знаете. Кто — нибудь…
— Нет, сэр, — ответил Дженкинс. — Ваш отец никогда об этом не говорил. И не хотел, чтобы я говорил, я это чувствовал.
— Благодарю, Дженкинс, — сказал Вебстер.
Он снова съежился в кресле. Ему было тоскливо, одиноко, неуютно. Одиноко в гудящем зале, битком набитом людьми. Нестерпимое, выматывающее душу одиночество. Тоска по дому — вот как это называется. Самая настоящая, не приличествующая взрослому мужчине тоска по дому. Чувство, простительное подростку, который впервые покидает отчий дом и оказывается один в незнакомом мире.
Есть у этого явления мудреное название — агорафобия, что означает боязнь пространства, а если буквально перевести с греческого — страх перед рыночной площадью.
Может быть, пройти через зал к будке видеофона, соединиться с домом, поговорить с матерью или с кем — нибудь из роботов? Или еще лучше: просто посидеть и посмотреть на усадьбу, пока Дженкинс не придет за ним.
Он привстал, но тут же опять опустился в кресло. Какой смысл? Говорить, смотреть — это все не то. Не вдохнешь морозный воздух с привкусом сосны, не услышишь, как скрипит под ногами снег на дорожке, не погладишь рукой стоящие вдоль нее могучие дубы. Не согреет тебя тепло очага, и не будет душа пронизана благодатным, покойным чувством неразделимого единства с принадлежащим тебе клочком земли и всем, что на нем стоит.
А может, все — таки станет легче? Хотя бы чуть — чуть. Он снова привстал, и опять его сковало бессилие. Мысль о двух — трех десятках шагов, отделявших его от будки, вызывала в нем ужас, нестерпимый ужас. Чтобы одолеть это пространство, придется бежать. Бежать, спасаясь от устремленных на тебя глаз, от чуждых звуков, от мучительного соседства чужих лиц.
Он поспешно сел.
Пронзительный женский голос рассек гудение в зале, и он сжался, как от удара. До чего же скверно, до чего отвратительно на душе. И что это Дженкинс копается…
Через открытое окно в кабинет струилось первое дыхание весны, оно сулило таяние снегов, зеленую листву и цветы, клинья перелетных птиц в голубых небесах, таящихся в заводях прожорливых лососей.
Вебстер поднял взгляд от бумаг на столе, легкий ветерок пощекотал ему ноздри, погладил щеку холодком. Рука потянулась за коньячной рюмкой, но рюмка была пуста, и он поставил ее на место.
Снова наклонился над бумагой, взял карандаш и вычеркнул какое — то слово.
Потом придирчиво прочел заключительные абзацы главы:
«Тот факт, что из двухсот пятидесяти человек, приглашенных мной для обсуждения достаточно важных вопросов, приехали только трое, еще не означает, что все остальные страдают агорафобией. Вполне возможно, что уважительные причины помешали многим принять мое приглашение. И все же есть основание говорить о растущем нежелании людей, быт которых определяется укладом, возникшим после распада городов, покидать привычные места, об усиливающемся стремлении не расставаться с окружением, ассоциирующимся с представлением об уюте и полном довольстве.
Сейчас нельзя точно предсказать, чем чревата такая тенденция, ведь пока она коснулась только малой части обитателей Земли. В больших семьях материальные обстоятельства вынуждают кого — то из сыновей искать счастья в других краях, даже на других планетах. Многих манит космос с его приключениями и возможностями, а многие избирают такое занятие, которое само по себе исключает сидячий образ жизни».
Он перевернул страницу и пробежал всю статью до конца.
Стоящая статья, несомненно, но публиковать ее нельзя, сейчас нельзя. Может быть, после его смерти. Насколько он мог судить, еще никто не подметил этой тенденции, все воспринимают домоседство как нечто естественное. В самом деле, зачем куда — то ездить?
«Чревато определенными угрозами…» — пробормотал телевизор рядом с ним, и он протянул руку к переключателю.
Кабинет растаял, и он увидел прямо перед собой человека, сидящего за рабочим столом, который казался продолжением стола Вебстера.
Седые волосы, печальные глаза за толстыми линзами очков. Удивительно знакомое лицо…
— Неужели… — заговорил наконец Вебстер.
Его собеседник угрюмо улыбнулся.
— Да, я изменился, — сказал он. — Вы тоже. Моя фамилия Клейборн. Вспомнили? Марс, медицинская бригада…
— Клейборн. Я о вас часто думал. Вы остались на Марсе.
Клейборн кивнул.
— Я прочел вашу книгу, доктор. Первоклассный труд, очень нужный. Я много раз сам собирался сесть и написать такую книгу, но все некогда. И очень хорошо, что не собрался. Вы справились с задачей гораздо лучше. Особенно хорош раздел о мозге.
— Марсианский мозг всегда меня занимал, — сказал Вебстер. — Есть некоторые специфические особенности. Боюсь, я тогда уделял ему больше времени, чем имел на это право. Нас ведь не за тем посылали.
— Вы поступили правильно, — ответил Клейборн. — Я потому и обратился к вам теперь. У меня тут есть пациент — операция на мозге. Только вы можете справиться.
— Вы доставите его сюда? — У Вебстера перехватило дыхание, задрожали руки.
Клейборн покачал головой.
— Его нельзя перевозить. Да вы его, наверно, знаете, это философ Джуэйн.
— Джуэйн? Он один из моих лучших друзей. Мы же с ним разговаривали два дня назад.
— Внезапный приступ, — сказал Клейборн. — Он хотел вас видеть.
Вебстер онемел, скованный холодом — непостижимым холодом, от которого лоб его покрылся испариной, пальцы сжались в кулак.
— Вы можете успеть, если отправитесь немедленно. — продолжал Клейборн. — Я уже договорился с Всемирным комитетом, чтобы вам тотчас предоставили корабль. Сейчас все решает быстрота.
— Но… — заговорил Вебстер. — Но… я не могу прилететь…
— Не можете прилететь?!
— Это не в моих силах. — сказал Вебстер. — И вообще, почему непременно я? Вы прекрасно…
— Нет, я не справлюсь, — перебил его Клейборн. — Только вы, только у вас есть необходимые знания. Жизнь Джуэйна в ваших руках. Если вы прилетите, он будет жить. Не прилетите — умрет.
— Я не могу отправиться в космос.
— Космические полеты всем доступны, — отрезал Клейборн. — Это не то, что прежде. Вас подготовят, создадут любые условия.
— Вы не понимаете, — взмолился Вебстер. — Вы…
— Не понимаю, — подтвердил Клейборн. — Мне совершенно непонятно, чтобы человек мог отказаться спасти другу жизнь…
Они долго смотрели в упор друг на друга, не произнося ни слова.
— Я передам в комитет, чтобы ракету подали прямо к вашему дому, — сказал наконец Клейборн. — Надеюсь, к тому времени вы решитесь.
Клейборн пропал, и стена вернулась на свое место. Стена и книги, камин и картины, милая сердцу мебель, дыхание весны из открытого окна.
Вебстер сидел неподвижно в кресле, глядя на стену перед собой.
Джуэйн… Мохнатое лицо в морщинах, свистящий шепот. Дружелюбный, проницательный Джуэйн. Познавший вещество, из которого сотканы грезы, и вылепивший из него логику, нормы жизни и поведения. Джуэйн, для которого философия — прикладная наука, орудие, средство усовершенствовать жизнь.
Вебстер спрятал лицо в руках, борясь с нахлынувшим на него отчаянием.
Клейборн не понял его. Да и откуда ему понять, ведь он не знает, в чем дело. А хотя бы и знал… Разве он, Вебстер, сумел бы понять другого человека, не испытай он сам неодолимый ужас при мысли о том, чтобы покинуть родной очаг, родной край, свои владения — эту кумирню, которую он себе воздвиг? Впрочем, не он один, ее воздвигали все Вебстеры. Начиная с первого Джона Дж… Мужчины и женщины, созидавшие привычный уклад, священную традицию.
В молодости он, Джером А.Вебстер, летал на Марс и не подозревал о гнездящейся в его жилах психологической отраве. Как улетел Томас несколько месяцев назад. Но тридцать лет безмятежного бытия в логове, которое стало Вебстерам родным домом, привели к тому, что эта отрава постигла пагубной концентрации незаметно для него. Да у него просто не было случая заметить ее.
Теперь — то ясно, как это вышло, абсолютно ясно. Привычка и умственный стереотип, понятие о счастье, обусловленное определенными вещами, которые сами по себе не обладают вещественной ценностью, но твой род — пять поколений Вебстеров — сообщил им вполне конкретную, определенную ценность.
Неудивительно, что в других местах тебе неуютно, неудивительно, что тебя оторопь берет при одной мысли о чужих горизонтах.
И ничего тут не поделаешь. Разве что кто — нибудь срубит все деревья до одного, спалит дом и изменит течение рек и ручьев. Да и то еще неизвестно…
Телевизор зажужжал, Вебстер поднял голову и нажал рукой рычажок.
Кабинет озарился белым сиянием, но изображения не было. Чей — то голос сказал:
— Секретный вызов. Секретный вызов.
Вебстер отодвинул филенку в аппарате, покрутил два диска и услышал гудение тока в экранизирующем устройстве.
— Есть секретность, — сказал он.
Белое сияние погасло, и по ту сторону стола возник человек, которого он видел не раз в телевизионных выпусках известий, на страницах газеты.
Гендерсон, председатель Всемирного комитета.
— Ко мне обратился Клейборн. — начал Гендерсон.
Вебстер молча кивнул.
— Он говорит, вы наотрез отказываетесь лететь на Марс.
— Ничего подобного, — возразил Вебстер. — Мы не договорили, когда он отключился. Я сказал ему, что не в силах лететь, но он стоял на своем, не хотел меня понять.
— Вебстер, вы должны лететь, — сказал Гендерсон. — Только вы достаточно изучили мозг марсиан и можете провести эту операцию. Если бы не такой серьезный случай, возможно, справился бы кто — нибудь другой. Но тут такое дело…
— Может быть, вы и правы, — сказал Вебстер. — но…
— Речь идет не просто о спасении жизни, — продолжал Гендерсон, — пусть даже жизни такого видного деятеля, как Джуэйн. Тут все гораздо сложнее. Джуэйн ваш друг. Вероятно, он вам говорил о своем открытии.
— Да, — подтвердил Вебстер. — Он говорил о какой — то новой философской концепции.
— Эта концепция исключительно важна для нас, — объяснил Гендерсон. — Она преобразит Солнечную систему, за несколько десятков лет продвинет человечество вперед на сто тысячелетий. Речь идет о совсем новой перспективе, о новой цели, которой мы себе и не представляли до сих пор. Совершенно новая истина, понимаете? Которая еще никому не приходила в голову.
Вебстер стиснул руками край стола так, что суставы побелели.
— Если Джуэйн умрет, — сказал Гендерсон, — концепция умрет вместе с ним. И, возможно, будет утрачена навсегда.
— Я постараюсь, — ответил Вебстер. — Постараюсь…
Глаза Гендерсона посуровели.
— Это все, что вы можете сказать?
— Да, все.
— Но, помилуйте, должна же быть какая — то причина! Какое — то объяснение!
— Это уж мое дело, — сказал Вебстер.
Решительным движением он нажал выключатель.
Сидя у рабочего стола. Вебстер рассматривал свои руки. Искусные знающие руки. Руки, которыми могут спасти больного, если он их доставит на Марс. Могут спасти для человечества, для марсиан, для всей Солнечной системы идею, новую идею, которая за несколько десятков лет продвинет их вперед на сто тысячелетий.
Но руки эти скованы фобией, следствием тихой, безмятежной жизни. Регресс, по — своему пленительный и… гибельный.
Двести лет назад человек покинул многолюдные города, эти коллективные берлоги. Освободился от древних страхов и суеверий, которые заставляли людей жаться к костру, распростился с нечистью, которая вышла вместе с ним из пещер.
Но вот поди ж ты…
Опять берлога. Берлога не для тела, а для духа. Психологический родовой костер со своим световым кругом, переступить который нет сил.
Но он должен, он обязан переступить круг. Подобно тому, как люди двести лет назад покинули города, так и он обязан сегодня выйти из этого дома. И не оглядываться назад.
Он должен лететь на Марс. Хотя бы сесть в ракету. Никаких «но», он обязан отправиться в путь.
Выдержит ли он полет, сможет ли провести операцию, если благополучно прибудет на место, этого он не знал. Может ли агорафобия стать причиной смерти? В острой форме, пожалуй, может…
Он протянул руку к колокольчику, но остановился. Зачем беспокоить Дженкинса? Лучше самому собрать вещи. Будет какое — то занятие, пока придет ракета.
Сняв с верхней полки стенного шкафа в спальне чемодан, он обнаружил на нем пыль. Подул, однако пыль не хотела отставать. Слишком много лет она копилась.
Пока он собирал вещи, комната спорила с ним.
«Ты не можешь уехать, — говорила она, как говорят с человеком неодушевленные предметы, с которыми его связывает давняя привычка. — Не можешь меня бросить».
«Я должен ехать, — виновато оправдывался Вебстер. — Как ты не понимаешь? Речь идет о друге, моем старом друге. Я вернусь».
Покончив со сборами, он прошел в кабинет и тяжело опустился в кресло.
Он должен ехать, но не в силах… Ничего, когда придет ракета, когда настанет время, он сможет, он выйдет из дома и направится к ожидающему кораблю.
Вебстер упорно настраивал себя на нужный лад, зажимая ум в тиски одной — единственной мысли: он уезжает.
А окружающие вещи не менее упорно вторгались в сознание, точно сговорились удержать его дома. Он смотрел на них так, словно видел впервые. Старые, привычные предметы вдруг стали новыми. Хронометр, показывающий земное время, марсианское время, дни недели и фазы Луны. Фотография умершей жены. Школьные награды. Сувенирный доллар в рамке — память о полете на Марс — стоимостью в десять обыкновенных долларов.
Он рассматривал их, сперва нехотя, потом жадно, запечатлевая в памяти каждый предмет. Теперь он видел их отдельно от комнаты, с которой все эти годы они составляли нечто неразделимое для него. Он даже не представлял себе, как много единиц составляет это единство.
Сгущались сумерки, сумерки ранней весны, сумерки, пахнущие пушистой вербой.
…Где же ракета? Он поймал себя на том, что напрягает слух, хотя знал, что ничего не услышит. Атомные двигатели гудят только в те минуты, когда корабль наращивает скорость. А садится и взлетает он бесшумно, как пушинка.
Ракета скоро прилетит. Она должна прилететь скоро, иначе он никуда не поедет. Если ожидание затянется, его вымученная решимость растает, как снег под дождем. Он не сможет устоять в поединке с настойчивым призывом комнаты, с переливами огня в камине, с бормотанием земли, на которой прожили свою жизнь и нашли вечный покой пять поколений Вебстеров.
Он закрыл глаза, подавляя озноб. Не поддаваться, ни в коем случае не поддаваться? Надо выдержать. Когда придет ракета, он должен найти в себе силы встать и выйти из дома…
Послышался стук в дверь.
— Войдите, — сказал Вебстер.
Это был Дженкинс; его металлический кожух переливался блестками в свете пылающего камина.
— Вы не звали меня, сэр? — спросил он.
Вебстер отрицательно покачал головой.
— Я боялся, вы меня позовете и будете удивляться, почему я не иду. Меня отвлекло нечто из ряда вон выходящее, сэр. Два человека прилетели на ракете и заявили, что должны отвезти вас на Марс.
— Прилетели… Почему ты меня сразу не позвал?
Он тяжело поднялся на ноги.
— Я не видел причин беспокоить вас, сэр, — ответил Дженкинс. — Такая нелепость! Мне удалось втолковать им, что вы и не помышляете о том, чтобы лететь на Марс.
Вебстер оцепенел, сердце его похолодело от ужаса. Руки нащупали край стола, он опустился в кресло и ощутил, как стены кабинета смыкаются вокруг него — смыкается западня, из которой ему никогда не вырваться.
Комментарий к третьему преданию
Для полюбивших это предание тысяч читателей оно примечательно тем, что здесь впервые выступают Псы.
Исследователю видится в нем гораздо больше. По существу, это повесть о вине и суетности. Продолжается распад рода людского, Человека преследует чувство вины, а присущие ему метания и неустойчивость приводят к тому, что появляются люди-мутанты. Предание пытается рационалистически объяснить мутации, доходит до того, что Псы изображаются как некая модификация исходной расы. Согласно преданию без мутаций невозможно совершенствование вида, однако ничего не говорится о том, что для устойчивости общества необходим определенный статический фактор. Весь цикл отчетливо свидетельствует, что род людской недооценивал устойчивость.
Резон, который тщательно проштудировал цикл, чтобы подкрепить свое утверждение, будто предания на самом деле созданы Человеком, считает, что ни один Пес не стал бы выдвигать мутационную гипотезу, как совершенно несовместимую с убеждениями его народа. Подобное воззрение, заявляет он, могло родиться только в каком-то ином разуме. Однако Разгон отмечает, что цикл изобилует примерами, когда суждения, прямо противоположные псовой логике, излагаются сочувственно. Перед нами, говорит он, всего лишь типичный прием искусного рассказчика, который смещает ценности, добиваясь разительного драматического эффекта. В том, что Человек намеренно выведен как персонаж, осознающий свои изъяны, нет никакого сомнения.
Одно из действующих лиц комментируемого предания, Грант, мечтает об уме, «свободном от шор», и совершенно ясно, что он подразумевает какие-то изъяны человеческого мышления. Он говорит Нэтэниелу, что люди всегда чем-то озабочены. С каким-то инфантильным простодушием он уповает на теорию Джуэйна как на средство, которое еще может спасти род людской. И тот же Грант, видя, что наклонность к разрушению заложена в самой сути его сородичей, в конце поручает Нэтэниелу продолжать начинания человечества. Из всех персонажей цикла Нэтэниел, вероятно, единственный, у кого есть реальный исторический прообраз. Имя Нэтэниел часто встречается в других родовых преданиях. Конечно, Нэтэниел заведомо не мог совершить всего того, что приписывают ему эти предания. Тем не менее принято считать, что он жил на самом деле и играл видную роль. Естественно, теперь за давностью нельзя установить, в чем именно заключалась эта роль. Род Вебстеров, с которым мы познакомились еще в первом предании, занимает важное место и во всех остальных частях цикла. Можно видеть в этом дополнительное подтверждение выводов Резона, однако не исключено, что и здесь речь идет о приеме искусного сказителя: род Вебстеров нужен лишь для того, чтобы нанизать на один стержень предания, которые в остальном довольно слабо связаны между собой. Того, кто склонен все читаемое понимать буквально, наверно, возмутит намек на то, что Псы представляют собой продукт вмешательства Человека. Борзый, для которого весь цикл не что иное, как миф, считает, что тут перед нами стародавняя попытка объяснить происхождение нашего рода. Отсутствие подлинного знания прикрывается толкованием, подразумевающим этакое вмешательство свыше. Простой и для неразвитого ума вполне приемлемый и убедительный способ объяснить то, о чем совсем ничего неизвестно.
III. Перепись
Ричард Грант сидел, отдыхая, у журчащего ручья, который стремительно скатывался вниз по склону и пересекал извилистую тропу. Вдруг мимо него прошмыгнула белка и мигом взбежала вверх по стволу могучего гикори. Следом за белкой в вихре сухих листьев из — за поворота выскочил маленький черный пес.
Заметив Гранта, пес круто остановился; глаза его сверкали веселым озорством.
Грант усмехнулся.
— Здорово, — сказал он.
— Привет, — отозвался пес, виляя хвостом.
Грант сел прямо и удивленно разинул рот. Пес стоял и смеялся, вывесив язык красной тряпкой.
Грант показал большим пальцем на дерево.
— Твоя белка там, наверху.
— Спасибо, — ответил пес. — Я знаю. Слышу запах.
Грант быстро оглянулся. Розыгрыш? Кто — то балуется чревовещанием? Однако он никого не увидел. Лес был пуст, если не считать его самого, пса, бурлящий ручей и возбужденно цокающую белку.
Пес подошел ближе.
— Меня зовут Нэтэниел, — сказал он.
Сам сказал. Никакого сомнения. Речь почти как у человека, только очень тщательно выговаривает слова, как обучающийся чужому языку. И необычное произношение, какой — то неуловимый акцент…
— Я живу тут за горой, — сообщил Нэтэниел. — У Вебстеров.
Он сел и застучал хвостом по сухим листьям. Его морда выражала полное блаженство.
Внезапно Грант щелкнул пальцами.
— Брюс Вебстер! Ну конечно. Как я сразу не сообразил. Рад познакомиться, Нэтэниел.
— А вы кто? — спросил Нэтэниел.
— Я? Ричард Грант, счетчик.
— А что такое счет… счет…
— Счетчик считает людей, — объяснил Грант. — Я занимаюсь переписью.
— Я еще многих слов не знаю, — сказал Нэтэниел.
Он встал, подошел к ручью, шумно полакал, потом распластался на земле рядом с человеком.
— Стрельнете белку? — спросил он.
— А тебе этого хочется?
— Конечно.
Но белка уже исчезла. Они обошли вокруг дерева, придирчиво осматривая почти голые ветви. Ни торчащего из мячика пушистого хвоста, ни устремленных на них бусинок — глаз… Пока они разговаривали, белка улизнула.
Нэтэниел был явно обескуражен, но долго унывать не стал.
— Останьтесь на ночь у нас! — предложил он. — А утром пойдем на охоту. Весь день будем охотиться!
Грант рассмеялся.
— Зачем же вас затруднять. Я привык спать на воле.
— Брюс будет вам рад, — настаивал Нэтэниел. — И Дед не станет возражать. Он все равно плохо соображает.
— А кто это Дед?
— Его настоящее имя Томас, — сказал Нэтэниел. — Но мы все зовем его Дедом. Он отец Брюса. Ужасно старый. Весь день сидит и думает про одно дело, которое было давным — давно.
— Знаю, — кивнул Грант. — Джуэйн…
— Вот — вот, — подтвердил Нэтэниел. — А что это такое?
Грант покачал головой.
— Боюсь, Нэтэниел, я не сумею объяснить. Сам толком не знаю.
Он вскинул на плечо вещевой мешок, потом нагнулся и почесал псу за ухом. Нэтэниел осклабился от удовольствия.
— Спасибо, — сказал он и побежал по тропе.
Грант последовал за ним.
Томас Вебстер сидел на лужайке, глядя вдаль на вечерние холмы.
Завтра мне исполнится восемьдесят шесть, думал он. Восемьдесят шесть… Чертова уйма лет. Пожалуй, даже чересчур много для одного человека. Особенно когда он не способен больше ходить и глаза начинают отказывать.
Элси испечет какой — нибудь дурацкий торт с кучей свечек, роботы преподнесут мне подарок, и Брюсовы собаки придут поздравить меня с днем рождения и повилять хвостами. Будут также поздравления по видеофону — надо думать, не так уж много. Я буду пыжиться и твердить, что доживу до ста лет, и все будут хихикать в кулак и говорить: «Ну, расхвастался старый дурень».
Восемьдесят шесть лет, и было у меня в жизни два заветных замысла, один удалось осуществить, другой — нет.
Из — за гребня, каркая, вылетела ворона, скользнула вниз, в долину, и пропала в тени. На реке далеко — далеко крякали дикие утки.
Скоро появятся звезды. Теперь рано темнеет. Томас Вебстер любил смотреть на них. Звезды!.. Он довольно погладил ладонями подлокотники качалки. Видит бог, звезды — его конек. Навязчивая идея? Допустим. Но и средство стереть давнишнее пятно, щит, который оградит их род от сплетников, называющих себя историками. И Брюс тоже молодец. Эти его псы…
Кто — то прошел по траве за его спиной.
— Ваше виски, сэр, — сказал голос Дженкинса.
Томас Вебстер уставился на робота, потом взял с подноса рюмку.
— Благодарю, Дженкинс.
Он покрутил пальцами рюмку.
— Скажи, Дженкинс, сколько лет ты у нас подаешь виски?
— Вашему отцу подавал… А еще раньше — его отцу.
— Новости есть? — спросил старик.
Дженкинс покачал головой.
— Никаких.
Томас Вебстер сделал маленький глоток.
— Значит, они вышли далеко за пределы Солнечной системы Так далеко, что даже станция на Плутоне не может их ретранслировать. Прошли полпути до Альфы Центавра, если не больше. Мне бы только дожить…
— Доживете, сэр, — сказал Дженкинс. — Я печенкой чувствую.
— Откуда у тебя печенка? — возразил старик.
Он медленно потягивал виски, придирчиво проверяя вкус языком. Опять воды слишком много. Говори не говори… На Дженкинса злиться нет смысла, это все доктор, чтоб его! Каждый раз заставляет Дженкинса разбавлять чуть больше. Тут жить всего — то ничего осталось, а тебе даже выпить не дают по — человечески…
— Что это там? — спросил он, показывая на взбирающуюся на бугор тропу.
Дженкинс повернулся и посмотрел.
— Похоже, сэр, Нэтэниел к нам гостя ведет.
Псы дружно пожелали спокойной ночи и ушли.
Брюс Вебстер улыбнулся, провожая их взглядом.
— Славная компания, — сказал он и продолжал, обращаясь к Гранту: — Представляю себе, как Нэтэниел напугал вас сегодня.
Грант поднял рюмку с бренди, поглядел на свет.
— Что правда, то правда. Напугал. Но тут же я вспомнил, что читал про ваши занятия. Конечно, это не по моей части, но о вашей работе написано немало популярных статей, язык там вполне доступный.
— Не по вашей части? — удивился Вебстер. — Но разве…
Грант рассмеялся.
— Я понимаю: переписчик… Счетчик, так сказать. Это я, никуда не денешься.
Вебстер смешался, самую малость.
— Простите, мистер Грант, я не хотел вас…
— Что вы, что вы, — успокоил его Грант, — я привык. Для всех я человек, который записывает фамилию, имя, возраст обитателей усадьбы и отправляется дальше. Естественно, так проводились переписи в старину. Чистый подсчет, только и всего. Статистическое мероприятие. Но не забудьте, последняя перепись проводилась больше трехсот лет назад. С тех пор много на свете произошло, немало перемен.
— Интересно, — сказал Вебстер. — У вас этот массовый учет выглядит даже как — то зловеще.
— Чего там зловещего, — возразил Грант. — Все вполне логично. Мы занимаемся анализом. Важно не столько количество людей, а что за люди живут на свете, о чем они помышляют, чем занимаются.
Вебстер сел глубже в кресле, вытянул ноги к пылающему камину.
— Другими словами, вы собираетесь подвергнуть меня психоанализу, мистер Грант? — Вебстер опустошил рюмку и поставил ее на стол.
— В этом нет необходимости. Всемирный комитет знает все, что ему надо знать, о таких людях, как вы. Речь идет о других, у вас здесь их называют горянами, на севере — дикими лесовиками, на юге — еще как — то. Тайное, позабытое племя, люди, которые ушли в дебри, задали стрекача, как только Всемирный комитет ослабил государственные узы.
Вебстер прокашлялся.
— Ослабить государственные узы было необходимо, — сказал он. — История это докажет. Пережитки отягощали государственную структуру еще до появления Всемирного комитета. Как триста лет назад не стало смысла в городских властях, так теперь нет надобности в национальных правительствах.
— Вы совершенно правы, — согласился Грант. — Но ведь с ослаблением авторитета государства ослабла и его власть над отдельным человеком. Стало проще простого устроить свою жизнь вне рамок государства, отречься от его благ и от обязательств перед ним. Всемирный комитет не противился этому. Ему было не до того, чтобы заниматься недовольными и безответственными элементами. А их набралось предостаточно. Взять хотя бы фермеров, у которых гидропоника отняла кусок хлеба. Как они поступили? Откололись. И вернулись к примитивному быту. Что — то выращивали, охотились, ставили капканы и силки, заготавливали дрова, помаленьку воровали. Лишенные средств к существованию, они повернули вспять, возвратились к земле, и земля их кормила.
— Это было триста лет назад, — сказал Вебстер. — Всемирный комитет махнул рукой на них. Не совсем, конечно, для них делали что могли, но и не особенно беспокоились, это верно, если кто — то ударялся в бега. С чего же вдруг такой интерес?
— Да просто теперь наконец руки дошли, надо думать.
Грант пытливо посмотрел на хозяина дома. Вебстер сидел перед камином в непринужденной позе, но в лице его чувствовалась сила и контрастная игра светотеней на суровых чертах создавала почти сюрреалистический портрет.
Грант порылся в кармане, достал трубку, набил ее табаком.
— Есть еще одна причина, — произнес он.
— Что?
— Я говорю, есть еще причина, почему затеяли перепись. Вообще — то ее все равно провели бы, общая картина населения земного шара всегда пригодится. Но не только в этом дело.
— Мутанты? — сказал Вебстер.
Грант кивнул.
— Совершенно верно. А как вы догадались?
— Я работаю с мутациями, — объяснил Вебстер. — Вся моя жизнь связана с ними.
— Появляются образцы совсем необычного художественного творчества, — продолжал Грант. — Нечто совершенно новое: свежие, новаторские литературные произведения, музыка, которая не признает традиционных выразительных средств, живопись, не похожая ни на что известное. И все это анонимно или подписано псевдонимами.
Вебстер усмехнулся.
— И, конечно, тайна не дает покоя Всемирному комитету.
— Дело даже не в этом, — говорил Грант. — Комитет волнуют не столько литература и искусство, сколько другие, менее очевидные вещи. Само собой, если где — то подспудно возникает ренессанс, он должен прежде всего выразиться в новых формах искусства и литературы. Но ведь этим ренессанс не исчерпывается…
Вебстер сел еще глубже в кресле и подпер подбородок ладонями.
— Кажется, я понимаю, куда вы клоните, — произнес он.
Они долго сидели молча, только огонь потрескивал, да осенний ветер о чем — то хмуро шептался с деревьями за окном.
— И ведь была возможность, — заговорил Вебстер, словно размышляя вслух, — возможность открыть дорогу новым взглядам, расчистить мусор, который накопился за четыре тысячи лет в сознании людей. Но один человек все смазал.
Грант поежился, тут же спохватился — не заметил Вебстер его реакцию? — и замер.
— Этот человек, — продолжал Вебстер, — был мой дед…
Грант почувствовал, что надо что — то сказать, дальше молчать просто нельзя.
— Но Джуэйн мог и ошибиться, — произнес он. — Может быть, на самом деле никакой новой философии вовсе и не было.
— Как же, мы хватаемся за эту мысль как за соломинку. Да только вряд ли это так. Джуэйн был великий философ, пожалуй, величайший из всех философов Марса. Если бы он тогда выжил, он создал бы новое учение, я в этом не сомневаюсь. Но он не выжил. Не выжил, потому что мой дед не мог вылететь на Марс.
— Ваш дед не виноват, — сказал Грант. — Он хотел, он пытался лететь. Но человек бессилен против агорафобии.
Вебстер взмахом руки отмел его слова.
— Что было, то было. Тут уж ничего не воротишь, и мы вынуждены из этого исходить. И так как мой род, мой дед…
У Гранта округлились глаза, его вдруг осенило:
— Псы! Вот почему вы…
— Вот именно, псы, — подтвердил Вебстер.
Издалека, с реки, вторя плачу ветра в листве, донесся жалобный звук.
— Енот, — заметил Вебстер. — Сейчас псы начнут рваться на волю.
Звук повторился, вроде бы ближе, а может быть, это только показалось.
Вебстер выпрямился в кресле, потом наклонился вперед, глядя на огонь в камине.
— И в самом деле, почему бы не попробовать? — рассуждал он. — У пса есть индивидуальность. Это сразу чувствуется, какого ни возьми. Что ни пес — свой нрав, свой темперамент. И все умные, пусть в разной степени. А больше ничего и не требуется: толика разума и осмысливающая себя индивидуальность.
Все дело в том, что природа с самого начала поставила их в невыгодные условия, создала им две помехи: они не могли говорить и не могли ходить прямо, а значит, не было возможности развиться рукам. Если бы отнять у нас речь и руки и отдать им, мы могли стать псами, а псы — людьми.
— Для меня это совсем ново, я как — то никогда не представлял себе ваших псов мыслящими созданиями, — сказал Грант.
— Еще бы! — В голосе Вебстера был оттенок горечи. — Иначе и быть не могло. Вы смотрели на них так же, как большинство людей до сих пор смотрят. Ученые собачки, домашние животные, забавные зверюги, которые теперь еще могут даже разговаривать с вами. Но разве этим дело исчерпывается? Вовсе нет, Грант, клянусь вам. До сих пор человек шел путями разума один — одинешенек, обособленный от всего живого. Так представьте себе, насколько дальше мы могли бы продвинуться и насколько быстрее, будь на свете два сотрудничающих между собой мыслящих, разумных вида. Ведь они мыслили бы по — разному! И сверялись бы друг с другом. Один спасует — другой додумается. Как в старину говорили: ум хорошо, а два лучше.
Представляете себе, Грант? Другой разум, отличный от человеческого, но идущий с ним рука об руку. Разум, способный заметить и осмыслить вещи, недоступные человеку, способный, если хотите, создать философские системы, каких не смог создать человек.
Он протянул к огню руки, растопырив длинные властные пальцы с узловатыми суставами.
— Они не могли говорить, и я дал им речь. Это было нелегко, ведь язык и гортань собаки не приспособлены для членораздельной речи. Но хирургия сделала свое — не сразу, конечно, через промежуточные этапы, — хирургия и скрещивание. Зато теперь… теперь, надеюсь… Конечно, утверждать что — нибудь рано…
Грант взволнованно наклонился к нему.
— Вы хотите сказать, что перемены, которые вы внесли, передаются по наследству? Хирургические коррективы закрепились в генах?
Вебстер покачал головой.
— Сейчас еще рано что — нибудь утверждать. Но лет через двадцать я, пожалуй, смогу вам ответить.
Он взял со стола бутылку с бренчи и вопросительно поглядел на Гранта.
— Благодарю, — кивнул тот.
— Я плохой хозяин, — извинился Вебстер. — Вы распоряжайтесь сами.
Он поглядел на огонь через рюмку.
— У меня был хороший материал. Собаки — сметливый народ. Сметливее, чем вы думаете. Обыкновенная дворняга различает полсотни слов, больше, вплоть до ста. Добавьте вторую сотню — вот вам уже и обиходная лексика. Может быть, вы обратили внимание на речь Нэтэниела? Самые простые, необходимые слова.
Грант кивнул:
— Простые и короткие. Он сам сказал мне, что многое еще не может выговорить.
— В общем, работы еще непочатый край, — продолжал Вебстер. — Главное впереди. Взять хотя бы чтение. Собака видит не так, как мы с вами. Я экспериментировал с линзами, они корректируют зрение собак, так что оно приближается к нашему. Не поможет — есть другой способ. Пусть человек подлаживается. Научимся печатать такие книги, чтобы псы могли их читать.
— А сами псы, они что об этом думают?
— Псы? — повторил Вебстер. — Хотите верьте, хотите нет, Грант, они в восторге. И дай им бог… — добавил он, уставившись на пламя.
Следом за Дженкинсом Грант поднялся на второй этаж, где помещались спальни, но в коридоре его окликнул скрипучий голос из — за приоткрытой двери:
— Это вы, приятель?
Грант озадаченно остановился.
— Это старый хозяин, сэр, — прошептал Дженкинс. — Ему часто не спится.
— Да! — отозвался Грант.
— Устали? — спросил голос.
— Не очень.
— Тогда зайдите ко мне, — пригласил старик.
Томас Вебстер сидел в постели, обложенный подушками, в полосатом ночном колпаке. Он перехватил удивленный взгляд Гранта.
— Лысею… Зябко без головного убора. А шляпу в постель не наденешь.
Потом прикрикнул на Дженкинса:
— А ты что стоишь? Не видишь, гостю выпить надо.
— Слушаюсь, сэр. — Дженкинс удалился.
— Садитесь, — предложил Томас Вебстер. — Садитесь и приготовьтесь слушать. Я как наговорюсь, потом лучше засыпаю. Да и не каждый день мы новые лица видим.
Грант сел.
— Ну как вам мой сын? — спросил старик.
— Ваш сын?.. — Необычный вопрос озадачил Гранта. — Ну, по — моему, он просто молодец. То, чего он добился с собаками…
Старик усмехнулся.
— Ох уж этот Брюс со своими собаками! Я вам не рассказывал, как Нэтэниел сцепился со скунсом? Конечно, не рассказывал. Мы с вами еще двумя словами не перемолвились.
Его руки скользнули по простыням, длинные пальцы нервно теребили ткань.
— У меня ведь еще сынок есть, Ален. Я его просто Алом зову. Он сейчас далеко от Земли, так далеко еще ни один человек не забирался. К звездам летит.
Грант кивнул.
— Знаю. Читал. Экспедиция на Альфу Центавра.
— Мои отец был хирургом, — продолжал Томас Вебстер. — Хотел и меня врачом сделать. Должно быть, сильно переживал, что я не пошел по его следам. Но если бы он дожил до этого дня, он сейчас гордился бы нами.
— Вам не надо бояться за сына, — сказал Грант. — Он…
Взгляд старика остановил его.
— Я сам построил корабль. Конструировал, наблюдал за сборкой. Космос сам по себе ему не страшен, он дойдет до цели. И парень у меня молодчина. Если надо, сквозь ад эту колымагу проведет.
Он сел попрямее, при этом подушки сдвинули его колпак набекрень.
— У меня есть еще одна причина верить, что он достигнет цели и благополучно вернется домой. Тогда я не придал этому особенного значения, но в последнее время все чаще вспоминаю и задумываюсь… Может быть, на самом деле… уж не…
Он перевел дух.
— Только не подумайте, я не религиозный.
— Ну конечно же, — сказал Грант.
— То есть ничего похожего, — твердил Вебстер.
— Какая — нибудь примета? — спросил Грант. — Предчувствие? Озарение?
— Ни то, ни другое, ни третье, — заявил старик. — А почти полная уверенность, что фортуна за меня. Что именно мне было предначертано построить корабль, который решит эту задачу. Кто — то где — то надумал, что пора уже человеку достичь звезд и не худо бы ему немного подсобить.
— Можно подумать, что вы подразумеваете какой — то случай, — сказал Грант. — Какое — то реальное событие, которое дает вам право верить в успех экспедиции.
— Провалиться мне на месте! — подхватил Вебстер. — Я это самое и подразумевал. А случилось это событие двадцать лет назад, на лужайке перед этим самым домом.
Он сел еще прямее, в груди у него сипело.
— Понимаете, я тогда был совершенно выбит из седла. Рухнуло все, о чем я мечтал. Годы потрачены впустую. Основной принцип, как достичь необходимых для межзвездных полетов скоростей, никак не давался мне в руки. И, что хуже всего, я знал, что не хватает пустяка. Осталось сделать маленький шажок, внести в проект какую — то ничтожную поправку. Но какую?
И вот сижу я на лужайке, настроение хуже некуда, чертеж лежит на траве передо мной. Я с ним не расставался, всюду носил с собой и смотрел на него, все надеялся, что меня вдруг осенит. Вы знаете, иногда так бывает…
Грант кивнул.
— Ну вот, сижу и вижу: идет человек. Из этих, горян. Вы знаете, кто такие горяне?
— Конечно, — сказал Грант.
— Да… Идет он развинченной походочкой, с таким видом, словно в жизни никаких забот не знал. Подошел, остановился за спиной у меня, поглядел на чертеж и спрашивает, чем это я занят. «Космический движитель», — говорю. Он нагнулся и взял чертеж. Я подумал, пусть берет, все равно он в этом ничего не смыслит. Да и чертеж — то никчемный.
А он поглядел на него, потом возвращает мне и показывает пальцем: «Вот, — говорит, — где загвоздка». Повернулся — и ходу. А я сижу и гляжу ему вслед, не то чтобы окликнуть его — слова вымолвить не могу, так он меня огорошил.
Старик сидел очень прямо в сбившемся набок ночном колпаке, вперив взгляд в стену. За окном гулкий ветер ухал под застрехами. Казалось, в ярко освещенную комнату вторглись призраки, хотя Грант твердо знал, что их нет.
— А потом вам удалось найти его? — спросил он.
Старик покачал головой.
— Нет, он словно сквозь землю провалился.
Вошел Дженкинс, поставил рюмку на столик возле кровати.
— Я еще приду, сэр. — обратился он к Грунту. — Покажу вам вашу спальню.
— Не беспокойтесь, — ответил Грант. — Только объясните, я сам найду.
— Как изволите, сэр. Это третья дверь по коридору. Я включу свет и оставлю дверь открытой.
Они посидели молча, слушая, как удаляются шаги робота.
Старик поглядел на виски и прокашлялся.
— Эх, жаль, не попросил я Дженкинса принести рюмочку на мою долю, — сказал он.
— Ничего, берите мою, — отозвался Грант. — Я вполне могу обойтись.
— Правда?
— Честное слово.
Старик взял рюмку, сделал глоток, вздохнул.
— Совсем другое дело, — сказал он. — А то мне Дженкинс все время водой разбавляет.
Чем — то этот дом действовал на нервы… Тихо перешептываются стены, а ты здесь посторонний, и тебе зябко, неуютно.
Сидя на краю постели. Грант медленно расшнуровал ботинки и сбросил их на ковер.
Робот, который служит уже четвертому поколению и говорит о давно умерших людях так, будто вчера подавал им виски… Старик, мысли которого заняты кораблем, скользящим во мраке глубокого космоса за пределами Солнечной системы… Ученый, который мечтает о другой расе — расе, способной идти по дорогам судьбы лапа об руку с человеком…
И над всем этим вроде бы и неосязаемая, но в то же время явственная тень Джерома А.Вебстера — человека, который предал друга… Врача, который не выполнил своего долга.
Джуэйн, марсианский философ, умер накануне великого открытия, потому что Джером А.Вебстер не мог оставить этот дом, потому что агорафобия приковала его к клочку земли в несколько квадратных километров.
В одних носках Грант прошел к столу, на который Дженкинс положил его котомку. Расстегнул ремни, поднял клапан, достал толстый портфель. Вернулся к кровати, сел, вынул из портфеля кипу бумаг и стал перебирать их.
Анкеты, сотни анкет… Запечатленная на бумаге повесть о жизни сотен людей. Не только то, что они сами ему рассказали, не только ответы на его вопросы — десятки других подробностей, все, что он подметил за день или час, наблюдая, более того, общаясь с ними как свой.
Да, скрытные обитатели этих горных дебрей принимают его как своего. А без этого ничего не добьешься. Принимают как своего, потому что он приходит пешком, усталый, исцарапанный колючками, с котомкой на спине. Никаких новомодных штучек, которые могли бы насторожить их, вызвать отчуждение. Утомительный способ проводить перепись, но ведь иначе не выполнишь того, что так нужно, так необходимо Всемирному комитету.
Потом где — то кто — то, исследуя вот такие листки, которые он разложил на кровати, найдет искомое, отыщет приметы жизни, отклонившейся от общепринятых человеческих канонов Какую — нибудь особенность в поведении, по которой сразу отличишь жизнь другого порядка.
Конечно, мутации среди людей не такая уж редкость. Известно много мутантов, ставших выдающимися личностями Большинство членов Всемирного комитета — мутанты, но их особые качества и таланты обтесаны господствующим укладом, мысли и восприятие безотчетно направляются по тому же руслу, в которое втиснуты мысли и восприятие других людей.
Мутанты были всегда, иначе род людской не двигался бы вперед. Но до последнего столетия их не умели распознавать. Видели в них замечательных организаторов, великих ученых, гениальных плутов. Или же оригиналов, которые возбуждали когда презрение, когда жалость массы, не признающей отклонения от нормы.
Преуспевал в мире тот из них, кто приспосабливался, держал свой могучий разум в рамках общепринятого. Но это сужало их возможности, снижало отдачу, вынуждая держаться колеи, проложенной для менее одаренных.
Да и теперь способности действующих в обществе мутантов подсознательно тормозились устоявшимися канонами, шорами узкого мышления.
Грант достал из портфеля тоненькую папку и с чувством, близким к благоговению, прочел заглавие:
«НЕОКОНЧЕННЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ ТРУД И ДРУГИЕ ЗАМЕТКИ ДЖУЭЙНА».
Нужен разум, свободный от шор, не скованный четырехтысячелетними канонами человеческого мышления, чтобы нести дальше факел, поднятый было рукой марсианского философа. Факел, освещающий подходы к новому взгляду на жизнь и ее назначение, указывающий человечеству более простые и легкие пути. Учение, которое за несколько десятилетий продвинет человечество на тысячи лет вперед.
Джуэйн умер, и в этом самом доме, хоронясь от суда обманутого человечества, дожил свою горькую жизнь человек, который до последнего дня слышал голос мертвого друга.
Кто — то тихонько поскребся в дверь. Грант оцепенел, прислушиваясь. Опять… А теперь вкрадчивое повизгивание.
Грант быстро убрал бумаги в портфель и подошел к двери. И только приотворил ее, как в комнату черной тенью просочился Нэтэниел.
— Оскар не знает, что я здесь, — сообщил он. — Оскар мне задаст, если узнает.
— Кто такой Оскар?
— Робот, он смотрит за нами.
— Ну и что тебе надо, Нэтэниел? — усмехнулся Грант.
— Хочу говорить с тобой, — сказал Нэтэниел. — Ты со всеми говорил. С Брюсом, с Дедом. Только со мной не говорил, а ведь я тебя нашел.
— Ладно, — согласился Грант. — Валяй, говори.
— Ты озабочен, — заявил Нэтэниел.
Грант нахмурился.
— Верно, озабочен… Люди постоянно чем — нибудь озабочены. Пора тебе это знать, Нэтэниел.
— Тебя гложет мысль о Джуэйне. Как Деда нашего.
— Не гложет, — возразил Грунт. — Просто я очень интересуюсь этим делом. И надеюсь.
— А что с Джуэйном? — спросил Нэтэниел. — И кто он такой, и…
— Его нет, понимаешь? — ответил Грант. — То есть был когда — то, но умер много лет назад. Осталась идея. Проблема. Задача. Нечто такое, о чем нужно думать.
— Я умею думать, — торжествующе сообщил Нэтэниел. — Иногда подолгу думаю. Но я не должен думать как люди. Это Брюс мне так говорит. Он говорит, мое дело думать по — собачьему, не стараться думать как люди. Говорит, собачьи мысли ничуть не хуже людских, может, даже намного лучше.
Грант серьезно кивнул.
— В этом что — то есть, Нэтэниел. В самом деле, ты не должен думать как человек. Ты…
— Собаки знают много, чего не знают люди, — хвастался Нэтэниел. — Мы такое видим и слышим, чего человек не может видеть и слышать. Иногда мы воем ночью, и люди гонят нас на двор. Но если бы они могли видеть и слышать то же, что мы, они бы от страха с места не двинулись. Брюс говорит, что мы… мы…
— Медиумы?
— Вот — вот, — подтвердил Нэтэниел. — Никак не запомню все слова.
Грант взял со стола пижаму.
— Как насчет того, чтобы переночевать здесь, Нэтэниел? Можешь устроиться у меня в ногах.
Нэтэниел недоверчиво воззрился на него.
— Нет, правда, ты так хочешь?
— Конечно. Если нам, человеку и псу, суждено быть наравне, зачем откладывать, начнем сейчас.
— Я не испачкаю постель, — сказал Нэтэниел. — Честное слово. Оскар купал меня вечером.
Он поскреб лапой ухо.
— Разве что одну — две блохи оставил…
Грант растерянно смотрел на атомный пистолет. Удобнейшая штука, пригодна для всего на свете, хоть сигарету прикурить, хоть человека убить. Рассчитан на тысячу лет, не боится ни сырости, ни тряски — во всяком случае, так утверждает реклама. Никогда не отказывает. Вот только сейчас почему — то не слушается…
Направив дуло в землю, он как следует встряхнул пистолет. Никакого эффекта. Легонько постучал по камню — хоть бы что.
Над беспорядочным нагромождением скал спускался сумрак. Где — то в дальнем конце долины раскатился несуразный хохот филина. На востоке незаметно проклюнулись первые звездочки, на западе ночь поглощала прозрачную зелень заката.
Около большого камня лежит кучка хвороста, рядом припасена еще целая гора, хватит до утра. Но с испорченным пистолетом костра не разжечь…
Грант тихо выругался при мысли о холодной ночевке и холодном ужине.
Еще раз постучал пистолетом по камню, теперь уже посильнее. Пустой номер…
В тени между деревьями хрустнула ветка, и Грант рывком выпрямился. У могучего ствола, уходящего в сумеречное небо, стоял человек, высокий, угловатый.
— Привет, — сказал Грант.
— Что — нибудь не ладится, приятель?
— Да пистолет… — начал Грант и осекся: незачем этой темной личности знать, что он безоружен.
Незнакомец шагнул вперед с протянутой рукой.
— Что, не работает?
Грант почувствовал, как у него забирают из рук пистолет.
Незнакомец присел на корточки, посмеиваясь. Как ни силился Грант рассмотреть, что он делает, в сгущающемся мраке были видны лишь размытые контуры рук, мелькающие тени над блестящим металлом.
Что — то звякнуло, скрипнуло. Чужак шумно втянул носом воздух и рассмеялся. Снова звякнул металл, чужак встал и протянул пистолет Гранту.
— Полный порядок, — сказал он. — Лучше прежнего будет работать.
Хрустнула ветка, Грант закричал:
— Эй, погодите!..
Но незнакомец уже пропал, меж призрачных стволов растаял черный призрак.
По телу Гранта от пяток вверх пополз холодок — не от ночного воздуха… Зубы запрыгали во рту, короткие волосы на затылке поднялись дыбом, от плеча к пальцам побежали мурашки.
Тишина… Лишь чуть слышно журчит вода в ручейке за камнем.
Дрожа, он опустился на колени возле кучки хвороста и нажал спуск пистолета. Выплеснулся язычок голубого пламени, и вот уже костер пылает вовсю.
Когда Грант подошел к изгороди, старик Дэйв Бэкстер восседал на верхней жерди, дымя коротенькой трубочкой, почти и невидной в густой бороде.
— Здорово, приятель. — сказал Дэйв. — Лезь сюда, присаживайся рядышком.
Грант примостился на изгороди. Перед ним простиралось поле, среди кукурузных снопов пестрели золотистые тыквы.
— Просто так шатаешься? — спросил старик Дэйв. — Или что вынюхиваешь?
— Вынюхиваю, — признался Грунт.
Дэйв вынул трубочку изо рта, плюнул, потом воткнул ее на место. Борода нежно обвила ее с опасностью для себя.
— Раскопки?
— Да нет, — ответил Грант.
— А то лет пять тому рыскал тут один, — сообщил Дэйв. — В земле копался, что твой крот. Откопал место, где прежде город стоял, так все вверх дном перевернул. И осточертел же он мне расспросами: расскажи ему про город, и все тут. Да ведь я ничего толком и не помню. Слышал однажды, как мой дед говорил название этого города, так и то позабыл, провалиться мне на этом месте. У этого молодчика были с собой какие — то старые карты, он их и так, и этак крутил, все чего — то дознаться хотел, да так, должно, и не дознался.
— Охотник за древностями, — предположил Грант.
— Он самый, видать, — согласился старик Дэйв. — Я уж от него хорониться стал. А то еще один явился, такой же мудрец, тот какую — то старую дорогу искал: дескать, здесь проходила. Тоже все с картами носился. Ушел от нас довольный такой — нашел, дескать, а у меня духу не стало втолковать ему, мол, не дорога то была, а тропа старая, коровы проторили.
Он хитро поглядел на Гранта.
— Случаем, ты не старые дороги ищешь, а?
— Нет, что вы, — ответил Грант — Я переписчик.
— Чего — чего?
— Переписчик, — повторил Грант. Вот запишу, как вас звать, сколько лет, где живете.
— Это еще зачем?
— Правительству надо знать.
— Нам от правительства ничего не надобно, — заявил старик Дэйв. — Чего же ему от нас надо?
— Правительству от вас ничего не нужно, — объяснил Грант. — Напротив, глядишь, надумает вам деньжонок подбросить. Всякое может быть.
— Коли так, — сказал Дэйв, — это другое дело.
Сидя на жерди, они смотрели на простирающийся за полем ландшафт. Над позолоченной осенним пламенем берез лощиной вился дымок из незримой трубы. Ручей ленивыми петлями пересекал бурый осенний луг, дальше один над другим высились пригорки, ярусы пожелтевших кленов.
Солнце пригревало согнутую спину Гранта, воздух был наполнен запахом жнивья.
Благодать, сказал он себе. Урожай хороший, дрова припасены, дичи хватает. Что еще надо человеку…
Он поглядел на притулившегося рядом старика, на избороздившие его лицо мягкие морщины безмятежной старости и попробовал представить себе жизнь наподобие этой — простую сельскую жизнь, что — то вроде далекой поры, когда шло освоение Америки, со всеми ее прелестями, но без ее опасностей.
Старик Дэйв вынул изо рта трубку, указал ею на поле.
— Вон сколько еще делов, — сказал он. — А кому их делать — то? От молодых никакого проку, пропади они пропадом!. Им бы все охотиться. Да рыбачить. А машины только и знают что ломаются. Мастак машины чинить этот, Джо.
— Ваш сын?
— Нет. Живет тут в лесу один чудила. Придет, наладит все — и прощайте, только его и видели. Иной раз и слова не вымолвит. Спасибо сказать не успеешь, его уже след простыл. Который год ходит. Дед говорил, первый раз пришел, когда он еще молодой был. И до них пор ходит.
— Как же так? — ахнул Грант. — Все один и тот же?
— Ну! А я о чем толкую. Не поверишь, приятель, с первого раза, как я его увидел, вот столько не постарел. Да — а, странный малый… Чего только о нем тут не услышишь. Дед все рассказывал, как он мудрил с муравьями.
— С муравьями?!
— То — то и оно. Накрыл муравейник стеклом, вроде как дом построил, и отапливал зимой. Так мне дед рассказывал. Мол, своими глазами видел. Да только брехня все это. Дед мой был во всей округе первый враль. Сам прямо так и говорил.
Из солнечной ложбины, над которой курился дымок, донесся по воздуху звонкий голос колокола.
Старик слез с изгороди и выколотил трубочку, щурясь на солнце.
В осенней тишине снова раскатился гулкий звон.
— Это мать, — сообщил Дэйв. — Обедать зовет. Небось печеные яблоки в тесте. Вкуснятина, язык проглотишь. Давай, пошли живей.
Чудила, который чинит сломанные вещи и уходит, не дожидаясь благодарности. Человек, внешность которого за сто лет ничуть не изменилась. Странный малый, который накрыл стеклянным колпаком муравейник и зимой отапливал его.
Бессмыслица какая — то, и, однако, чувствуется, что старик Бэкстер не сочиняет. Тут не просто очередная небылица, родившаяся в лесной глуши, не плод, так сказать, народной фантазии.
Фольклор сразу распознаешь, у него свое лицо есть и своя примета — особый, характерный юморок. А здесь совсем другое дело. Что забавного, хоть бы и для жителей лесной глуши, в том, чтобы накрыть муравейник стеклянным куполом и отапливать его? Юмор подразумевает эффектную концовку, а тут ничего похожего нет.
Подтянув ватное одеяло к самому подбородку, Грант беспокойно ворочался на матрасе, набитом обертками кукурузных початков.
Чудно, подумал он, где только мне не приходится спать: сегодня — на кукурузном матрасе, вчера — в лесу у костра, позавчера — на пружинах и чистых простынях в усадьбе Вебстеров…
Ветер прошелся по ложбине снизу доверху, попутно подергал отставшую дранку, вернулся и снова подергал ее. Во мраке чердака шуршала мышь. Ровное дыхание доносилось с другой кровати, где спали двое младших Бэкстеров.
Человек, который чинит сломанные вещи и уходит, не дожидаясь благодарности… Так было с пистолетом. Так уже много лет происходит с отбившимися от рук машинами Бэкстера. Чудак по имени Джо, которого годы не берут и который с любой поломкой справляется…
В голове Гранта родилась одна мысль, он поспешил отогнать ее. Не надо тешить себя надеждой. Знай присматривайся, задавай невинные с виду вопросы, держи ушки на макушке… Да поосторожнее выспрашивай, не то сразу замкнутся, что твоя устрица.
Непонятный народ эти горяне. Сами для прогресса ничего не делают и себе ничего от него не желают. Распростились с цивилизацией, только лес и поле, солнце и дождь над ними хозяева.
Места для них на Земле хватает, на всех хватает. Ведь за последние двести лет население сильно поредело, пионеры полчищами отправлялись осваивать другие планеты Солнечной системы, насаждать в других мирах земные порядки.
Вдоволь места, земли и дичи…
А может быть, правда на их стороне? Помнится, за те месяцы, что он бродит по здешним горам, эта мысль посещала его не раз, в такие минуты, как сейчас, под теплым домашним одеялом, на удобном, шершавом кукурузном матрасе, когда ветер шепчется в драночной кровле. Или когда Грант, примостившись на изгороди, глядел, как золотистые тыквы греют бока на солнце.
Что — то зашуршало во мраке: матрас, на котором спали мальчуганы. Потом по доскам тихо прошлепали босые ноги.
— Вы спите, мистер? — шепотом.
— Никак нет. Забирайся ко мне.
Мальчуган нырнул под одеяло, воткнул ему в живот холодные подошвы.
— Дедушка вам говорил про Джо?
Грант кивнул в темноте:
— Он сказал, что Джо давно уже здесь не показывался.
— И про муравьев говорил?
— Говорил. А ты что знаешь про муравьев?
— Мы с Биллом недавно нашли их, это наш секрет. Никому не говорили, вы первый. Вам небось можно сказать, вы от правительства к нам присланный.
— И что, муравейник на самом деле стеклянным колпаком накрыт?
— Ага, накрыт… Да это… это… — Мальчуган захлебывался от возбуждения. — Это еще что! У муравьев этих самых тележки есть, а из муравейника трубы торчат, а из труб дым идет. А потом… а потом…
— Ну, что потом было?
— Потом мы с Биллом оробели. Не стали больше глядеть. Оробели и дали тягу.
Мальчишка поерзал на матрасе, устраиваясь удобнее.
— Нет, это же надо, а? Муравьи тележки волокут!
Муравьи и в самом деле тащили тележки. Из муравейника в самом деле торчали трубы, и они извергали крохотные клубы едкого дыма — признак плавки металлов.
С колотящимся от волнения сердцем Грант присел подле муравейника, глядя на тележки, которые сновали по дорожкам, теряющимся среди кочек. Туда идут пустые, обратно — груженные семенами, а то и расчлененными насекомыми. Знай себе катят, весело подпрыгивая, малюсенькие тележки, запряженные муравьями!
Плексигласовый купол, некогда защищавший муравейник, стоял на месте, но он весь потрескался и выглядел так, словно он исчерпал свою роль и нужда в нем пропала.
Муравейник стоял на изрезанном склоне, спадающем к утесам над рекой; огромные камни чередовались с крохотными лужайками и купами могучих дубов. Глухое место — должно быть, здесь редко звучит голос человека, только ветер шелестит листвой да попискивают зверушки, снующие по своим потайным тропкам.
Место, где муравьи могли существовать, не опасаясь ни плуга, ни ноги странника, продолжая линию жизни без разума, которая началась за миллионы лет до того, как появился человек, и до того, как на планете Земле родилась первая абстрактная мысль. Ограниченная, застойная жизнь, весь смысл которой сводился к существованию муравьиного рода.
И вот кто — то перевел стрелку, направил муравьев по другой стезе, открыл им тайну колеса, тайну выплавки металлов. Сколько помех для развития культуры, для прогресса убрано тем самым с пути этого муравейникам.
Угроза голода, надо думать, одна из них. Избавленные от необходимости непрерывно добывать пищу, муравьи получили досуг, который можно было использовать на что — то другое.
Еще одно племя ступило на путь к величию, развивая свое общество, заложенное в седой древности, задолго до того, как тварь, именуемая человеком, начала осознавать свое предназначение.
Куда приведет этот путь? Чем станет муравей еще через миллион лет? Найдут ли, смогут ли найти человек и муравей общий знаменатель, чтобы вместе созидать свое будущее, как сейчас находят этот знаменатель пес и человек?
Грант покачал головой. Сомнительно… Ведь в жилах пса и человека течет одна кровь, а муравей и человек — небо и земля. Этим двум организмам не дано понимать друг друга. У них нет той общей основы, которая для пса и человека сложилась в палеолите, когда они вместе дремали у костра и вместе настораживались при виде хищных глаз в ночи.
Грант скорее почувствовал, чем услышал шелест шагов в высокой траве за своей спиной. Живо встал, повернулся и увидел перед собой мужчину. Долговязого мужчину с покатыми плечами и огромными ручищами, которые оканчивались чуткими белыми пальцами.
— Это вы Джо? — спросил Грант.
Незнакомец кивнул:
— А вы субъект, который охотится за мной.
— Что ж, пожалуй, — оторопело признался Грант. — Правда, не за вами лично, но за такими людьми, как вы.
— Не такими, как все, — сказал Джо.
— Почему вы тогда не остались? Почему убежали? Я не успел поблагодарить вас за починку пистолета.
Джо смотрел на Гранта, не произнося ни слова, но было видно, что он от души веселится.
— И вообще, — продолжал Франт, — как вы догадались, что пистолет неисправен? Вы за мной следили?
— Я слышал, как вы об этом думали.
— Слушали, как я думал?
— Да, — подтвердил Джо. — Я и сейчас слышу ваши мысли.
Грант натянуто усмехнулся. Не очень кстати, но вполне логично. Этого следовало ожидать, и не только этого…
Он показал на муравейник.
— Это ваши муравьи?
Джо кивнул, и Гранту снова показалось, что он с трудом удерживается от смеха.
— А что тут смешного? — рассердился Франт.
— Я не смеюсь, — ответил Джо, и Грант почему — то ощутил жгучий стыд, словно он был ребенком, которого нашлепали за плохое поведение.
— Вам следовало бы опубликовать свои записи, — сказал он. — Можно будет сопоставить их с тем, что делает Вебстер.
Джо пожал плечами.
— У меня нет никаких записей.
— Нет записей?
Долговязый подошел к муравейнику и остановился, глядя на него.
— Вероятно, вы сообразили, почему я это сделал? — спросил он.
Грант глубокомысленно кивнул.
— Во всяком случае, пытался понять. Скорее всего, вам было любопытно посмотреть, что получится. А может быть вами руководило сострадание к менее совершенной твари. Может быть, вы подумали, что преимущество на старте еще не дает человеку единоличного права на прогресс.
Глаза Джо сверкнули на солнце.
— Любопытство, пожалуй. Мне это не приходило в голову.
Он присел подле муравейника.
— Вы никогда не задумывались, почему это муравей продвинулся так далеко, потом вдруг остановился? Создал почти безупречную социальную организацию и на том успокоился? Что его осадило?
— Ну хотя бы существование на грани голода, — ответил Грант.
— И зимняя спячка, — добавил долговязый. — Ведь зимняя спячка что делает — стирает все, что отложилось в памяти за лето. Каждую весну начинай все с самого начала. Муравьи не могли учиться на ошибках, собирать барыш с накопленного опыта.
— Поэтому вы стали их подкармливать…
— И отапливал муравейник, — подхватил Джо, — чтобы избавить их от спячки. Чтобы им не надо было каждую весну начинать все сначала.
— А тележки?
— Я смастерил две — три штуки и подбросил им. Десять лет присматривались, наконец все же смекнули, что к чему.
Грант указал кивком на трубы.
— Это они уже сами, — сказал Джо.
— Что — нибудь еще?
Джо досадливо пожал плечами.
— Откуда мне знать?
— Но ведь вы за ними наблюдали! Пусть даже не вели записей, но ведь наблюдали.
Джо покачал головой.
— Скоро пятнадцать лет, как не приходил сюда. Сегодня пришел только потому, что вас услышал. Не забавляют меня больше эти муравьи, вот и все.
Грант открыл рот и снова закрыл его. Произнес:
— Так вот оно что. Вот почему вы это сделали. Для забавы.
Лицо Джо не выражало ни стыда, ни желания дать отпор, только досаду: дескать, хватит, сколько можно говорить о муравьях. Вслух он сказал:
— Ну да. Зачем же еще?
— И мой пистолет, очевидно, он тоже вас позабавил.
— Пистолет — нет, — возразил Джо.
Пистолет — нет. Конечно, балда, при чем тут пистолет? Ты его позабавил, ты сам. И сейчас забавляешь.
Наладить машины старика Дэйва Бэкстера, смотаться, не говоря ни слова, — для него это, конечно, была страшная потеха. А как он, должно быть, ликовал, сколько дней мысленно покатывался со смеху после случая в усадьбе Вебстеров, когда показал Томасу Вебстеру, в чем изъян его космического движителя!
Словно ловкий фокусник, который поражает своими трюками какого — нибудь тюфяка.
Голос Джо прервал его мысли.
— Вы ведь переписчик, верно? Почему не задаете мне ваши вопросы? Раз уж нашли меня, валяйте записывайте все как положено. Возраст, например. Мне сто шестьдесят три, а я, можно сказать, еще и не оперился. Считайте, мне тысячу лет жить, не меньше.
Он обнял свои узловатые колени и закачался с пятки на носок.
— Да — да, тысячу лет, а если я буду беречь себя…
— Разве все к этому сводится? — Грант старался говорить спокойно. — Я могу предложить вам еще кое — что. Чтобы вы сделали кое — что для нас.
— Для нас?
— Для общества. Для человечества.
— Зачем?
Грант опешил.
— Вы хотите сказать, что вас это мало волнует?
Джо кивнул, и в этом жесте не было ни вызова, ни бравады. Он просто констатировал факт.
— Деньги? — предложил Грант.
Джо широким взмахом указал на окружающие горы, на просторную долину.
— У меня есть это. Я не нуждаюсь в деньгах.
— Может быть, слава?
Джо не плюнул, но лицо его было достаточно выразительным.
— Благодарность человечества?
— Она недолговечна, — насмешливо ответил Джо, и Гранту опять показалось, что он с трудом сдерживает хохот.
— Послушайте, Джо… — против воли Гранта в его голосе звучала мольба. — То, о чем я хочу вас попросить… это очень важно, важно для еще не родившихся поколений, важно для всего рода людского, это такая веха в нашей жизни…
— Это с какой же стати, — спросил Джо, — должен я стараться для кого — то, кто еще даже не родился? С какой стати думать дальше того срока, что мне отмерен? Умру — так умру ведь, и что мне тогда слава и почет, флаги и трубы! Я даже не буду знать, какую жизнь прожил, великую или никудышную.
— Человечество, — сказав Грант.
Джо хохотнул.
— Сохранение рода, прогресс рода… Вот что вас заботит. А зачем вам об этом беспокоиться? Или мне?..
Он стер с лица улыбку и с напускной укоризной погрозил Гранту пальцем.
— Сохранение рода — миф. Миф, которым вы все перебиваетесь, убогий плод вашего общественного устройства Человечество умирает каждый день. Умер человек — вот и нет человечества, для него — то больше нет.
— Вам попросту наплевать на всех, — сказал Грант.
— Я об этом самом и толкую, — ответил Джо.
Он глянул на лежащую на земле котомку, и по его губам опять пробежала улыбка.
— Разве что это окажется интересно…
Грант развязал котомку и достал портфель. Без особой охоты извлек тонкую папку с надписью «Неоконченный философский…», передал ее Джо и, сидя на корточках, стал смотреть, как тот пробегает глазами текст. Джо еще не кончил читать, а душу Гранта уже пронизало мучительное ощущение чудовищного провала.
Когда он в усадьбе Вебстеров представлял себе разум, свободный от шор, не скованный канонами обветшалого мышления, ему казалось, что достаточно найти такой ум, и задача будет решена.
И вот этот разум перед ним. Но выходит, что этого мало. Чего — то недостает — чего — то такого, о чем не подумал ни он, ни деятели в Женеве. Недостает черты человеческого характера, которая до сих пор всем представлялась обязательной.
Общественные отношения — вот что много тысяч лет сплачивало род людской, обуславливало его цельность, точно так же как борьба с голодом вынуждала муравьев действовать сообща.
Присущая каждому человеку потребность в признании собратьев, потребность в некоем культе братства, психологическая, едва ли не физиологическая потребность в одобрении твоих мыслей и поступков. Силам которая удерживала людей от нарушения общественных устоев, которая вела к общественной взаимовыручке и людской солидарности, сближала членов большой человеческой семьи.
Ради этого одобрения люди умирали, приносили жертвы, вели ненавистный им образ жизни. Потому что без общественного одобрения человек был предоставлен самому себе, оказывался отщепенцем, животным, изгнанным из стаи.
Конечно, не обошлось и без страшных явлений: самосуды, расовое гонение, массовые злодеяния под флагом патриотизма или религии. И все же именно общественное одобрение служило цементом, на котором держалось единство человечества, который вообще сделал возможным существование человеческого общества.
А Джо не признает его. Ему плевать. Его ничуть не трогает, как о нем судят. Ничуть не трогает, будут его поступки одобрены или нет.
Солнце припекало спину, ветер теребил деревья. Где — то в зарослях запела пичуга.
Так что же, это определяющая черта мутантов? Отмирание стержневого инстинкта, который сделал человека частицей человечества?
Неужели этот человек, который сейчас читает Джуэйна, сам по себе живет благодаря своим качествам мутанта настолько полной, насыщенной жизнью, что может обходиться без одобрения собратьев? Неужели он в конце концов достиг той ступени цивилизации, когда человек становится независимым и может пренебречь условностями общества?
Джо поднял глаза.
— Очень интересный труд, — заключил он. — А почему он не довел его до конца?
— Он умер, — ответил Грант.
Джо прищелкнул языком.
— Он ошибся в одном месте… — Найдя нужную страницу, он показал пальцем. — Вот тут. Вот откуда ошибка идет. Тут — то он и завяз.
— Но… но об ошибке не было речи, — промямлил Грант. — Просто он умер. Не успел дописать, умер.
Джо тщательно сложил рукопись и сунул в карман.
— Тем лучше. Он вам такого наковырял бы…
— Значит, вы можете завершить этот труд? Беретесь?
Глаза Джо сказали Гранту, что продолжать нет смысла.
— Вы в самом деле думаете, — сухо, неторопливо произнес мутант, — что я поделюсь этим с вашей кичливой шатией?
Грант отрешенно пожал плечами.
— Значит, не поделитесь. Конечно, мне следовало предвидеть… Человек вроде вас…
— Эта штука мне самому пригодится, — сказал Джо.
Он медленно встал и ленивым взмахом ноги пропахал борозду в муравейнике, сшибая дымящиеся трубы и опрокидывая груженые тележки.
Грант с криков вскочил на ноги, его обуяла слепая ярость, она бросила его руку к пистолету.
— Не сметь! — приказал Джо.
Грант замер, держа пистолет дулом вниз.
— Остынь, крошка, — сказал Джо. — Я понимаю, что тебе не терпится убить меня, но я не могу тебе этого позволить. У меня есть еще кое — какие задумки, ясно? И ведь убьешь ты меня не за то, о чем сейчас думаешь.
— Не все ли равно, за что? — прохрипел Грант. — Главное, что мертвый вы останетесь здесь и не сможете распорядиться по — своему учением Джуэйна.
— И все — таки не за это тебе хочется меня убить, — мягко произнес Джо. — А просто ты злишься на меня за то, что я распотрошил муравейник.
— Может, это была первая причина. Но теперь…
— Лучше и не пытайся, — сказал Джо. — Не успеешь нажать курок, как сам превратишься в труп.
Грант заколебался.
— Если думаешь, я тебя на пушку беру, — продолжал Джо, — давай проверим, кто кого.
Минуту — другую они мерили друг друга взглядом; пистолет по — прежнему смотрел вниз.
— Почему бы вам не поладить с нами? — заговорил наконец Грант. — Мы нуждаемся в таком человеке, как вы. Ведь это вы показали старику Тому Вебстеру, как сконструировать космический движитель. А то, что вы сделали с муравьями…
Джо быстро шагнул вперед, Грант вскинул пистолет и увидел метнувшийся к нему кулак — могучий кулачище, который чуть не со свистом рассек воздух.
Кулак опередил палец, лежащий на курке.
Что — то горячее, влажное, шершавое ползало по лицу Гранта, и он поднял руку — стряхнуть.
Все равно ползает…
Он открыл глаза, и Нэтэниел радостно подпрыгнул.
— Вы живы! Я так испугался…
— Нэтэниел! — проскрипел Грант. — Ты откуда?
— Я убежал, — объяснил Нэтэниел. — Хочу пойти с вами.
— Я не могу взять тебя с собой. Мне еще идти и идти. Меня ждет одно дело.
Он поднялся на четвереньки, пошарил рукой по земле. Нащупал холодный металл, подобрал пистолет и сунул в кобуру.
— Я упустил его, — продолжал он, вставая, — но он не должен ускользнуть. Я отдал ему одну вещь, которая принадлежит всему человечеству, и я не могу допустить, чтобы он ею воспользовался.
— Я умею выслеживать, — сообщил Нэтэниел. — Белку шутя выслежу.
— Тебе найдется дело поважнее, — сказал Грант. — Понимаешь, сегодня я узнал… Обозначился один путь — путь, по которому может пойти все человечество. Не сегодня, не завтра и даже не через тысячу лет. Может быть, этого вообще не случится, но совсем исключить такую вероятность нельзя. Возможно, Джо всего — то самую малость опередил нас, и мы идем по его стопам быстрее, чем нам это представляется. Может быть, в конечном счете все мы станем такими, как Джо. И если дело к тому идет, если этим все кончится, вас, псов, ждет большая задача.
Нэтэниел озабоченно смотрел вверх на Гранта.
— Не понимаю, — виновато произнес он. — Вы говорите незнакомые слова.
— Послушай, Нэтэниел. Может быть, люди не всегда будут такими, как теперь. Они могут измениться. И если они изменятся, придется вам занять их место, перенять мечту и не дать ей погибнуть. Придется вам делать вид, что вы люди.
— Мы, псы, не подведем, — заверил Нэтэниел.
— До того часа еще не одна тысяча лет пройдет, — продолжал Грант. — У вас будет время приготовиться. Но вы должны помнить. Должны передавать друг другу наказ. Чтобы ни в коем случае не забыть.
— Я понимаю, — ответил Нэтэниел. — Мы, псы, скажем своим щенкам, а они скажут своим щенкам.
— Вот именно, — сказал Грант.
Он наклонился и почесал у Нэтэниела за ухом, и пес стоял и махал хвостом, пока Грант не исчез за гребнем.
Комментарий к четвертому преданию
Из всех преданий это особенно удручало тех, кто искал в цикле ясности и смысла. Даже Резон признает, что здесь перед нами явный, несомненный миф. Но если это миф, то что он означает? Если это миф, то не мифы ли и все остальные части цикла? Юпитер, где развертывается действие этого предания, видимо, является одним из тех миров, на которые будто бы можно попасть через космос. Выше уже говорилось, что наука исключает возможность существования таких миров. Если же принять гипотезу Разгона, что другие миры, о которых говорится в цикле, есть не что иное, как наш множественный мир, то разве не очевидно, что мы уже должны были обнаружить мир, изображенный в предании? Конечно, некоторые миры гоблинов закрыты, это всякому известно, но столь же хорошо известна причина, почему они закрыты, — во всяком случае, не в силу тех обстоятельств, которые описаны в четвертом предании. Некоторые исследователи считают четвертое предание вставным, будто бы оно вовсе не из этого цикла и целиком заимствовано. С этим выводом трудно согласиться, поскольку предание вполне вяжется с циклом и служит одной из главных осей всего действия.
О персонаже этого предания Байбаке неоднократно писалось, якобы он унижает честь нашего рода. Возможно, у некоторых щепетильных читателей Байбак и впрямь вызывает брезгливость, однако он выразительно контрастирует с выведенным в предании Человеком. Не Человек, а Байбак первым осваивается с новой ситуацией, не Человек, а Байбак первым постигает суть происходящего. И как только разум Байбака освобождается от власти Человека, становится очевидно, что он ни в чем не уступает человеческому разуму. Словом, Байбак при всех его блохах — персонаж, которого нам отнюдь не надо стыдиться. Как ни кратко четвертое предание, оно, пожалуй, дает читателю больше, чем остальные части цикла. Несомненно, это предание заслуживает того, чтобы его читали вдумчиво, не торопясь.
IV. Дезертирство
Четыре человека — двое, потом еще двое — ушли в ревущий ад Юпитера и не вернулись. Ушли туда, где свирепствовал непрекращающийся ураган, даже не ушли, а ускакали на четырех конечностях, поблескивая влажными от дождя боками.
Потому что они уходили не в человечьем обличье.
Теперь перед столом Кента Фаулера, руководящего Куполом № 3 Службы изучения Юпитера, стоял пятый.
Под столом Фаулера старина Байбак шумно почесался, потом снова задремал.
С болью в душе Фаулер вдруг осознал, что Гарольд Ален молод, чересчур молод. У него юный доверчивый взгляд и лицо человека, который еще никогда не испытывал страха. Странно… Странно, потому что обитатели куполов на Юпитере хорошо знали, что такое страх. Страх и смирение. Очень уж неуместна тщедушная особа человека на этой чудовищной планете с ее могучими стихиями.
— Вам известно, что это чисто добровольное дело? — сказал Фаулер. — Вы вовсе не обязаны идти.
Непременная формула, не больше. Эти же слова были сказаны остальным четверым, но все равно они пошли. Пойдет и пятый, Фаулер в этом не сомневался. Но в душе его вдруг шевельнулась смутная надежда, что Ален откажется.
— Когда выходить? — спросил Ален.
Прежде Фаулер воспринял бы такой ответ с тайной гордостью. Прежде, но не теперь. Он насупился.
— В течение часа.
Ален спокойно ждал.
— Мы проводили уже четверых, и ни один не вернулся. — продолжал Фаулер. — Вы это, конечно, знаете. Нам нужно, чтобы вы вернулись. Никаких героических спасательных операций. Нам нужно одно, самое главное, — чтобы вы вернулись, доказали, что человек может жить в обличье юпитерианского существа. Дойдете до первой вешки, не дальше, и сразу возвращайтесь. Никакого риска. Никаких исследований. Сразу обратно.
Ален кивнул.
— Понимаю.
— У пульта преобразователя будет мисс Стенли. Тут вам опасаться нечего. Преобразование все перенесли благополучно. Вышли из аппарата в безупречном состоянии. Мы передаем вас в руки квалифицированного специалиста. Мисс Стенли — лучший оператор преобразователей во всей солнечной системе. Она работала почти на всех планетах. Поэтому ее и назначили к нам.
Ален улыбнулся мисс Стенли, и Фаулер прочел на ее лице какое — то неясное чувство — то ли жалость, то ли гнев, а может быть, просто страх. Но это выражение тотчас исчезло, и она ответила юноше, который стоял перед столом, улыбкой — типичной для нее чопорной улыбкой классной дамы, как будто ей было противно улыбаться.
— Жду с нетерпением моего преобразования, — сказал Ален.
Сказал шутейно, словно речь шла о чем — то крайне потешном.
Однако потехой тут и не пахло.
Дело было серьезное, серьезнее некуда. От этих опытов зависело будущее человека на Юпитере. Если они увенчаются успехом, станут доступными ресурсы исполинской планеты. Человек подчинит себе Юпитер, подобно тому как он уже подчинил себе другие, правда не такие крупные, планеты. Если же опыты провалятся…
Если они провалятся, человек и впредь будет обременен и скован чудовищным давлением, огромной силой тяготения, предельно чуждой химией. Он так и останется, пленником куполов, не сможет сам шагать по планете, видеть ее своими глазами, будет всецело зависеть от телевидения и громоздких вездеходов, неуклюжих инструментов и механизмов или не менее неуклюжих роботов.
Потому что без средств защиты, в своем естественном облике человек здесь будет тотчас раздавлен колоссальным давлением в пятнадцать тысяч фунтов на квадратный дюйм — давлением, рядом с которым дно земного океана покажется вакуумом.
Даже самые прочные сплавы, изобретенные землянами, не выдерживали юпитерианского давления и непрерывно хлещущих планету щелочных ливней, Они либо крошились и шелушились, либо превращались в ручейки и лужицы солей аммония. Только особая обработка металла, перестройка электронной структуры позволяли ему выдерживать вес тысячемильного слоя бушующих едких газов атмосферы Юпитера. И даже после такой обработки его еще надо было покрывать кварцевой пленкой против все разъедающих аммониевых дождей.
Из подвального этажа доносился гул моторов — моторов, которые работали непрерывно, не умолкая ни на миг. Так положено, ведь если они станут, подача тока на металлические стены купола прекратится, исчезнет электронное поле, а это конец.
Снова под столом проснулся Байбак и почесался, стуча об пол ногой.
— Что — нибудь еще? — спросил Ален.
Фаулер покачал головой.
— Может быть, у вас есть какое — нибудь желание, может быть… — Он чуть не сказал «напишете письмо», но, слава богу, вовремя спохватился.
Ален поглядел на часы.
— Так, значит, в течение часа, — сказал он.
Повернулся и вышел.
Фаулер знал, что мисс Стенли смотрит на него. Не желая встречаться с ней взглядом, он принялся листать бумаги.
— И до каких пор это будет продолжаться? — спросила мисс Стенли, чеканя слова.
Он нехотя повернулся и посмотрел на нее. Прямые тонкие губы и гладкая — чуть ли не глаже обычной — прическа придавали ее лицу странное, даже пугающее сходство с посмертной маской.
— До тех пор, пока это будет необходимо. — Он старался говорить спокойно и бесстрастно. — Пока есть хоть какая — то надежда.
— Вы намереваетесь и впредь приговаривать их к смерти, — сказала она. — Намереваетесь и впредь снаряжать их на неравный бой с Юпитером. Намереваетесь сидеть тут в полной безопасности и посылать их на верную гибель.
— Ваша сентиментальность неуместна, мисс Стенли, — произнес Фаулер, превозмогая ярость. — Вам не хуже моего известно, для чего мы это делаем. Вам ясно, что в своем обличье человек бессилен против Юпитера. Единственный выход — превращать людей в таких тварей, которые могут существовать на Юпитере. Этот способ проверен на других планетах.
Несколько человеческих жизней — не слишком высокая цена, если мы в конце концов добьемся успеха. Сколько раз в прошлом люди жертвовали жизнью ради ерунды и всякого вздора. Так неужели нас в таком великом деле должна смущать мысль о минимальных жертвах?
Мисс Стенли сидела очень прямо, сложив руки на коленях, седеющие волосы серебрились на свету, к, глядя на нее, Фаулер попытался представить себе ее чувства, ее мысли. Не то чтобы он ее боялся, но ему было с ней как — то не по себе. Эти проницательные голубые глаза слишком много видят, эти руки чересчур искусны. Быть бы ей чьей — нибудь тетушкой и сидеть с вязанием в качалке. Но она не тетушка, она первейший в солнечной системе оператор преобразователей, и она недовольна его действиями.
— Здесь что — то не так, мистер Фаулер, — заявила она.
— Совершенно верно, — согласился он. — Именно поэтому я посылаю юного Алена одного. Может быть, ему удастся выяснить, в чем дело.
— А если не удастся?
— Пошлю еще кого — нибудь.
Она медленно встала и пошла к двери, но около его стола остановилась.
— Быть вам великим человеком. Уж вы своего не упустите. Сейчас вам такой случай представился! Вы это сразу сообразили, когда ваш купол выбрали для опытов. Справитесь с заданием, сразу подниметесь на ступеньку — другую. Сколько бы людей ни погибло, вы все равно пойдете в гору.
— Мисс Стенли, — сухо произнес он, — Алену скоро выходить. Будьте любезны, удостоверьтесь, что ваш аппарат…
— Мой аппарат, — холодно ответила она, — тут ни при чем. Он выполняет программу, которую разработали биологи.
Сгорбившись над столом, Фаулер слушал, как ее шаги удаляются по коридору.
Все правильно. Программу разработали биологи. Но биологи могли ошибиться. Достаточно промахнуться чуть — чуть, отклониться на волосок, и преобразователь будет выпускать не то, что нужно. Каких — нибудь мутантов, которые в определенных ситуациях от непредвиденного стечения обстоятельств могут не выдержать, расклеиться, потерять голову.
Потому что человек довольно смутно представлял себе, что происходит за стенами купола. Он мог полагаться только на показания своих приборов. А что могут рассказать случайные данные приборов, когда куполов раз, два и обчелся, а планета невообразимо велика?
Только на то, чтобы собрать данные о скакунцах, представляющих собой, судя по всему, высшую форму юпитерианской жизни, биологи потратили три года упорного труда, да еще два года ушло на дотошную проверку данных. На Земле для такого исследования понадобилась бы неделя, от силы две. Да вот беда: такого исследования на Земле вообще не проведешь, потому что юпитерианский организм нельзя перенести на Землю. За пределами Юпитера не воссоздашь такое давление, а при земной температуре и земном давлении скакунец тотчас обратится в облачко газа.
А исследование было необходимо, если человек собирался выйти на поверхность Юпитера в обличье скакунца. Чтобы преобразовать человека в другое существо, нужно знать все параметры, знать точно, знать наверное.
Ален не вернулся.
Вездеходы, прочесав окрестности купола, не нашли никаких следов, разве что улепетывающий скакунец, замеченный одним из водителей, был пропавшим землянином.
Биологи только усмехнулись с вежливой снисходительностью специалистов, когда Фаулер предположил, что в программу, возможно, вкралась погрешность. Они учтиво подчеркнули, что с программой все в порядке. Если поместить в преобразователь человека и включить рубильник, человек превращается в скакунца. После чего он выходит из аппарата и пропадает в гуще здешней атмосферы.
Может, неувязочка какая? Микроскопическое отклонение от параметров скакунца, маленький дефектик? Если есть дефект, ответили биологи, понадобится не один год, чтобы найти его.
И Фаулер знал, что они правы.
Итак, теперь уже не четверо, а пятеро, и опыт с Гарольдом Аленом ничего не дал, не продвинул их ни на шаг в изучении Юпитера. Словно и не посылали парня.
Фаулер протянул руку и взял со стола аккуратно сколотые листки — список личного состава. Взял с тягостным чувством, да ведь никуда не денешься, как — то надо выяснить причину всех этих таинственных исчезновений. А способ только один — посылать еще людей.
Он прислушался к вою ветра под куполом, к непрестанно бушующему над планетой яростному вихрю…
Может быть, там притаилась неизвестная им опасность, неведомая угроза? Какая — нибудь пакость устроила засаду и жрет подряд всех скакунцов, не отличая настоящих от тех, которые вышли из преобразователя… В самом деле, какая ей разница.
А может быть, ошиблись в корне те, кто выбрал скакунцов как наиболее высокоорганизованных представителей юпитерианской жизни? Фаулер знал, что одним из решающих факторов было наличие интеллекта. Без этого человек после преобразования не смог бы сохранить свой разум в новом обличье.
Может быть, биологи сделали слишком большой упор на этот фактор и это повлекло за собой неблагоприятный, даже катастрофический сдвиг? Да нет, вряд ли. Хоть биологи порой и чванятся не в меру, но дело свое они знают.
А если вся эта затея с самого начала обречена на провал? Пусть на других планетах преобразование оправдало себя, это еще не значит, что на Юпитере этому методу тоже обеспечен успех. Может быть, разум человека не может функционировать нормально, получая сигналы от органов восприятия, которыми оснащен юпитерианский организм. Может быть, скакунцы настолько отличны от людей, что их понятия и категории просто не сочетаются с человеческим сознанием.
Или же все дело в самом человеке, в органически присущих ему чертах? Какой — нибудь изъян психики вместе с воздействием здешней среды мешает человеку вернуться в купол. Впрочем, по земным меркам, может быть, никакого изъяна нет, а есть свойство психики, которое на Земле вполне обычно и уместно, но настолько не гармонирует с условиями Юпитера, что человеческий рассудок не выдерживает этого противоречия.
В коридоре дробно застучали когти, и Фаулер тускло улыбнулся. Байбак возвращается с кухни — ходил проведать своего друга, повара…
Байбак вошел, держа в зубах кость. Помахал Фаулеру хвостом и плюхнулся на пол подле стола. Зажав кость между лапами, он долго смотрел на хозяина слезящимися старческими глазами, наконец Фаулер опустил руку и потрепал косматое ухо.
— Ты еще любишь меня, Байбак? — спросил он.
Байбак постучал хвостом по полу.
— Один ты и любишь, — сказал Фаулер и выпрямился.
Повернувшись к столу, он снова взял в руки папку.
Беннет?.. Беннета на Земле ждет невеста.
Эндрюс?.. Эндрюс мечтает вернуться в Марсианский технологический институт, как только накопит денег на год учебы.
Олсон?.. Олсону скоро пора на пенсию. Все уши прожужжал ребятам рассказами о том, как уйдет на покой и будет выращивать розы.
Фаулер бережно положил папку на место.
Приговаривает людей к смерти… Бледные губы на пергаментном лице мисс Стенли едва шевелились, когда она произносила эти слова. Посылает их на верную гибель, а сам сидит тут в полной безопасности.
Можно не сомневаться, что все в куполе так говорят, особенно теперь, когда еще и Ален не вернулся. Нет, в лицо — то не скажут. Не скажет даже следующий, кого он вызовет сюда, чтобы сообщить, что пришла его очередь.
Но их глаза будут достаточно выразительными.
Он опять взял папку. Беннет, Эндрюс, Олсон. Есть и другие, да что толку от этого.
Все равно он больше не в силах — не в силах смотреть им в глаза и посылать их на смерть.
Кент Фаулер наклонился и щелкнут рычажком связного устройства.
— Слушаю, мистер Фаулер.
— Пожалуйста, дайте мисс Стенли.
Дожидаясь соединения, он слушал, как Байбак вяло гложет кость. Бедняга, все зубы сточились…
— Мисс Стенли слушает.
— Я только хотел сказать вам, мисс Стенли, чтобы вы приготовили все к отправке еще двоих.
— Вы не боитесь, что у вас скоро совсем никого не останется? — спросила мисс Стенли. — Уж лучше посылать по одному, так экономичнее, и удовольствие растянете.
— Один из них — пес, — сказал Фаулер.
— Пес!
— Да. Байбак.
Ярость сделала ее голос ледяным.
— Своего собственного пса! Который столько лет с вами…
— Вот именно, — ответил Фаулер. — Байбак расстроится, если я его брошу.
Это был не тот Юпитер, который он знал по телевизору. Он ожидал, что Юпитер окажется другим, но не настолько. Ожидал, что очутится в аду, где хлещет аммиачный ливень, курятся ядовитые пары, ревет и лютует ураган. Где мчатся, крутятся облака, ползет туман и темное небо секут чудовищные молнии.
Он никак не предполагал, что ливень окажется всего — навсего легкой пурпурной мглой, стремительно летящей над пунцовым ковром травы. Ему в голову не приходило, что зигзаги грозовых разрядов будут ликующим фейерверком в ярком небе.
Ожидая Байбака. Фаулер поочередно напрягал свои мышцы и дивился их упругой силе. Совсем недурное тело… Он усмехнулся, вспомнив, с каким состраданием смотрел на скакунцов, изредка мелькавших на экране телевизора.
Очень уж трудно было представить себе живой организм, основу которого взамен воды и кислорода составляют аммиак и водород, трудно поверить, чтобы такой организм мог испытывать ту же радость и полноту жизни, что человек. Трудно вообразить себе жизнь в бурлящем котле Юпитера тому, кто не подозревает, что для здешних существ Юпитер отнюдь не бурлящий котел.
Ветер теребил его ласковыми пальцами, и Фаулер оторопело подумал, что на земную мерку этот ветерок — свирепый ураган, ревущий поток смертоносных газов силой в двадцать баллов.
Сладостные запахи пронизывали его плоть. Запахи?.. Но ведь он совсем не то привык понимать под обонянием. Словно каждая клеточка его пропитывается лавандой. Нет, не лавандой, конечно, а чем — то другим, чего он не может назвать. Несомненно, это лишь первая в ряду многих ожидающих его терминологических проблем. Потому что известные ему слова, воплощение мысленных образов землянина, отказывались служить юпитерианину.
Люк в куполе открылся, и оттуда выскочил Байбак. То есть преображенный Байбак.
Он хотел окликнуть пса, нужные слова уже сложились в уме. Но он не смог их вымолвить. Он вообще не мог сказать ни слова — говорить — то нечем!
На миг всю душу Фаулера обуял сосущий ужас, панический испуг, потом он схлынул, но в сознании еще вспыхивали искорки страха.
Как разговаривают юпитериане? Как…
Вдруг он физически ощутил присутствие Байбака, остро ощутил теплое, щедрое дружелюбие косматого зверя, который был рядом с ним и на Земле, и на многих других планетах. Такое чувство, словно пес на секунду сам целиком переселился в его мозг.
И на бурлящем гребне вторгшейся в сознание волны дружелюбия всплыли слова:
— Здорово, дружище.
Нет, не слова — лучше слов. Мысленные образы, транслировались мысленные образы, несравненно богаче оттенками, чем любые слова.
— Здорово, Байбак, — отозвался он.
— До чего же мне хорошо. — сказал Байбак. — Будто я снова щенком стал. Последнее время мне было так паршиво. Ноги не сгибаются, зубы почти совсем сточились. Попробуй погрызи кость такими зубами. И блохи вконец одолели. Раньше, в молодости, я их и не замечал. Одной больше, одной меньше…
— Но… постой… — В голове у Фаулера всё смешалось. — Ты разговариваешь со мной!
— Само собой. — ответил Байбак. — Я всегда с то-, бой разговаривал, да ты меня не слышал. Я много раз пытался тебе что — нибудь сказать, но у меня ничего не получалось.
— Иногда я понимал тебя. — возразил Фаулер.
— Не очень — то. — сказа! Байбак. — Понимал, когда я просил есть или пить, когда просился гулять, но не больше того.
— Прости меня.
— Уже простил. Спорим, я первый до скалы добегу.
Только сейчас Фаулер увидел вдали, в нескольких милях, скалу, она переливалась какой — то удивительной хрустальной красотой под сенью многоцветных облаков.
Он заколебался.
— Так далеко…
— Да ладно, чего там, — и Байбак сорвался с места, не дожидаясь ответа.
Фаулер побежал за ним вдогонку, испытывая силу своих ног, выносливость нового тела. Сперва нерешительно, но нерешительность тотчас сменилась изумлением, и он помчался во всю прыть, исполненный ликования, которое вобрало в себя и пунцовую траву, и летящий по воздуху мелкий дождь.
На бегу он услышал музыку, она будоражила все его тело, пронизывала волнами плоть, влекла его вперед на серебряных крыльях скорости. Такая музыка льется в солнечный день с колокольни на весеннем пригорке.
Чем ближе скала, тем мощнее мелодия, вся вселенная наполнилась брызгами волшебных звуков. И он понял, что музыку рождает пенный водопад, скатывающийся по ослепительным граням скалы.
Только не водопад, конечно, а аммиакопад, и скала такая белая потому, что состоит из твердого кислорода.
Он остановился рядом с Байбаком, там, где водопад рассыпался на сверкающую стоцветную радугу. Нет, не сто, а сотни цветов видел он, потому что здесь не было привычного человеческому глазу плавного перехода между основными цветами, а спектр с изумительной четкостью делился на элементарные линии.
— Музыка… — заговорил Байбак.
— Да, что ты хочешь о ней сказать?
— Музыку создают акустические колебания, — сказал Байбак. — Колебания падающей воды.
— Постой, Байбак, откуда ты знаешь про акустические колебания?
— А вот знаю, — возразил Байбак. — Меня только что осенило!
— Осенило! — изумился Фаулер.
И тут в его мозгу неожиданно возникла формула — формула процесса, позволяющего металлу выдерживать юпитерианское давление.
Пока он удивленно смотрел на водопад, сознание мгновенно расположило все цвета в их спектральной последовательности. И все это ни с того ни с сего, само по себе: ведь он ровным счетом ничего не знал ни о металлах, ни о цветах.
— Байбак! — воскликнул он. — Байбак, с нами что — то происходит!
— Ага, — ответил Байбак, — я уже заметил.
— Все дело в мозге, — продолжал Фаулер. — Он заработал на полную мощность, все до единой клеточки включились. И мы соображаем то, что нам давно следовало бы знать. Может быть, мозг землян от природы работает туго, со скрипом. Может быть, мы дебилы вселенной. Может, так устроены, что нам все дается трудно.
А внезапно проясненный разум уже говорил ему, что дело не ограничится цветовой гаммой водопада или металлом неслыханной прочности. Сознание предвосхищало что — то еще, великие откровения, тайны, недосягаемые для человеческого ума, недоступные обыкновенному воображению. Тайны, факты, умозаключения… Все, что может постичь рассудок, до конца использующий свою мощь.
— Мы все еще земляне, более всего земляне, — заговорил он. — Мы только — только начинаем прикасаться к тому, что нам предстоит познать, к тому, что было сокрыто от нас, пока мы оставались землянами, именно потому, что мы были землянами. Потому что наш организм, человеческий организм, несовершенен.
Он плохо оснащен для мыслительной работы, свойства, необходимые для того, чтобы достичь подлинного знания, у нас недостаточно развиты. А может быть, у нас их вовсе нет…
Он оглянулся на купол — игрушечный черный бугорок вдали.
Там остались люди, которым недоступна красота Юпитера. Люди, которым кажется, что лик планеты закрыт мятущимися тучами и хлещущим дождем. Незрячие глаза. Никудышные глаза… Глаза, не видящие красоту облаков, не видящие ничего из — за шторма. Тела, неспособные радостно трепетать от трелей звонкой музыки над клокочущим потоком.
Люди, странствующие в одиночестве, в ужасающем одиночестве, и речь их подобна речи мальчишек, намеренно коверкающих слова для таинственности, и не дано им общаться так, как он общается с Байбаком, безмолвно, совмещая два сознания. Не дана им способность читать в душе друг друга.
Он, Фаулер, настраивался на то, что в этом чуждом мире его на каждом шагу будут подстерегать ужасы, прикидывал, как укрыться от незнаемых опасностей, готовился бороться с отвращением, вызванным непривычной средой.
И вместо всего этого обрел нечто такое, перед чем блекнет все, что когда — либо знал человек. Быстроту движений, совершенство тела. Восторг в душе и удивительно полное восприятие жизни. Более острый ум. И мир красоты, какого не могли вообразить себе величайшие мечтатели Земли.
— Ну, пошли? — позвал его Байбак.
— А куда мы пойдем?
— Все равно куда. Пошли, там будет видно. У меня такое чувство… или предчувствие…
— Я все понял, — сказал Фаулер.
Потому что им владело такое же чувство. Чувство высокого предназначения. Чувство великой цели. Сознание того, что за горизонтом тебя ждет что — то небывало увлекательное и значительное.
И остальные пятеро чувствовали то же самое. Властное стремление увидеть, что там, за горизонтом, неодолимый зов яркой, насыщенной жизни.
Вот почему они не вернулись.
— Я не хочу возвращаться. — сказал Байбак.
— Но мы не можем их подводить, — возразил Фаулер.
Он сделал шаг — другой к куполу, потом остановился.
Возвращаться в купол… Возвращаться в пропитанное ядами, ноющее тело. Прежде он вроде бы и не замечал, как все тело ноет, но теперь — то знает его пороки.
Снова мутное сознание. Туго соображающий мозг. Рты, которые открываются и закрываются, испуская сигналы для собеседника. Глаза, которым он теперь предпочел бы откровенную слепоту. Унылое, мешкотное, тупое существование.
— Как — нибудь в другой раз, — пробурчал он, обращаясь к самому себе.
— Мы столько сделаем, столько увидим, — говорил Байбак. — Мы столько узнаем, откроем…
Да, их ждут открытия… Может быть, новые цивилизации. Перед которыми цивилизация человека покажется жалкой. Встречи с прекрасным и — что еще важнее — способность его постичь. Ждет товарищество, какого еще никто — ни человек, ни пес — не знал.
И жизнь. Полнокровная жизнь вместо былого тусклого существования.
— Не могу я возвращаться. — сказал Байбак.
— Я тоже. — отозвался Фаулер.
— Они меня снова в пса превратят.
— А меня — в человека, — сказал Фаулер.
Комментарий к пятому преданию
Шаг за шагом, по мере того как развертывается действие, читатель получает все более полное представление о роде людском. И все больше убеждается, что этот род скорее всего вымышлен. Не могло такое племя пройти путь от скромных ростков до высот культуры, которая приписывается ему преданиями. Слишком многого ему недостает. Мы уже видели, что ему не хватает устойчивости. Увлечение машинной цивилизацией в ущерб культуре, основанной на более глубоких и значимых жизненных критериях, говорит об отсутствии фундаментальных качеств. А пятое предание показывает нам к тому же, что это племя располагало ограниченными средствами общения — обстоятельство, которое отнюдь не способствует движению вперед. Неспособность Человека по-настоящему понять и оценить мысли и взгляды своих собратьев — камень преткновения, какого никакая инженерная премудрость не могла бы преодолеть. Что сам Человек отдавал себе в этом отчет, видно из того, как он стремился овладеть учением Джуэйна. Однако следует отметить, что им руководила не надежда вооружить свой разум новым качеством, а погоня за властью и славой. В учении Джуэйна Человек видел средство за несколько десятков лет продвинуться вперед на сто тысячелетий. От предания к преданию становится все яснее, что Человек бежал наперегонки то ли с самим собой, то ли с неким воображаемым преследователем, который мчался за ним по пятам, дыша в затылок. Он исступленно домогался познания и власти, но остается совершенной загадкой, на что он намеревался их употребить.
Согласно преданию, Человек расстался с пещерами миллион лет назад. И однако он всего лишь за сто с небольшим лет до описанного в пятом предании времени нашел в себе силы отринуть убийство, составлявшее одну из фундаментальных черт его образа жизни. Это ли не подлинное мерило дикости Человека: миллион лет понадобился ему, чтоб избавиться от наклонности к убийству, и он считает это великим достижением.
После знакомства с этим преданием большинству читателей покажется вполне убедительной гипотеза Борзого, что Человек введен в повествование намеренно, как антитеза всему, что олицетворяет собой Пес как этакий воображаемый противник, персонаж социологической басни. В пользу такого вывода говорят и многократные свидетельства отсутствия у Человека осознанной цели, его непрестанных метаний и попыток обрести достойный образ жизни, который упорно не дается ему в руки, потому, быть может, что Человек никогда сам не знает точно, чего хочет.
V. Рай
…И вот перед ним купол. Приникшее к земле чужеродное тело, которое решительно не сочеталось с пурпурной мглой Юпитера, испуганное творение, сжавшееся в комок от страха перед огромной планетой.
Существо, бывшее некогда Кентом Фаулером, смотрело на купол, широко расставив крепкие ноги.
Чужеродное тело… Как же сильно я отдалился от людей. Ведь оно совсем не чужеродное. В этом куполе я жил, мечтал, думал о будущем. Его я покинул со страхом в душе. К нему возвращаюсь со страхом в душе.
Меня обязывает к этому память о людях, которые были подобны мне до того, как я стал другим, до того, как обрел жизнерадостность, бодрость, счастье, недоступные человеку.
Байбак коснулся его боком, и душу Фаулера согрело веселое дружелюбие бывшего пса, осязаемое дружелюбие, и товарищество, и любовь, которые, надо думать, существовали все время, но о которых Фаулер не подозревал, пока он оставался человеком, а Байбак — псом.
Мозг уловил мысли пса.
— Не делай этого, дружище, — говорил Байбак.
— Я обязан, Байбак, понимаешь, — ответил Фаулер чуть ли не со стоном. — Для чего я вышел из купола? Чтобы выяснить, что же такое на самом деле Юпитер. Теперь я могу рассказать им об этом, могу принести долгожданный ответ.
Ты обязан был сделать это давным — давно, произнес мысленный голос, неясный, далекий человеческий голос откуда — то из недр его юпитерианского сознания. Но из трусости ты все откладывал и откладывал. Ты бежал, потому что боялся возвращаться. Боялся, что тебя снова превратят в человека.
— Мне будет одиноко, — сказал Байбак, сказал, не произнеся ни слова, просто Фаулеру передалось чувство одиночества, послышался раздирающий душу прощальный звук. Как будто его сознание и сознание Байбака на миг слились воедино.
Он стоял молча, в нем поднималось отвращение. Отвращение при мысли о том, что его снова превратят в человека, вернут ему неполноценное тело, неполноценный разум.
— Я пошел бы с тобой, — сказал Байбак, — но ведь я не выдержу, могу при этом умереть. Ты же знаешь, я совсем одряхлел. И блохи заели меня, старика. От зубов пеньки остались, желудок не варил. А какие ужасные сны мне снились. Щенком я любил гоняться за кроликами, теперь же во сне кролики за мной гонялись.
— Ты останешься здесь, — сказал Фаулер. — Я еще вернусь сюда.
Если смогу убедить их, подумал он. Если получится…
Если сумею им объяснить.
Он поднял широкую голову и проследил взглядом череду холмов, переходящих в высокие горы, окутанные розовой и пурпурной мглой. Молния прочертила в небе зигзаг, озаряя мглу и облака ликующим светом.
Медленно, неохотно он побрел вперед. На крыльях ветра прилетел какой — то тонкий запах, и он вобрал его всем телом, точно кот, катающийся по кошачьей мяте. Нет, не запах, конечно, просто он не мог подобрать лучшего, более точного слова. Пройдут годы, и люди разработают новую терминологию.
Как рассказать им о летучей мгле, что стелется над холмами? О чистой прелести этого запаха? Какие — то вещи они, конечно, поймут. Что здесь не ощущаешь потребности в еде и никогда не хочешь спать, что нет ничего похожего на терзающие человека неврозы. Это они поймут, потому что тут вполне годятся обыкновенные слова, годится существующий язык.
Но как быть с остальным — со всем тем, что требует новой лексики? С чувствами, которых человек еще никогда не испытывал? С качествами, о которых он и не мечтал? Как рассказать о небывалой ясности ума и остроте мысли, о способности использовать весь мозг до последней клеточки? Обо всем том, что здесь само собой разумеется, но чего человек никогда не знал и не умел, потому что его организм лишен необходимых свойств.
Я напишу об этом, сказал он себе. Сяду и, не торопясь, все опишу.
А впрочем, слово, запечатленное на бумаге, тоже далеко не совершенное орудие…
Над кварцевой шкурой купола выступал телевизионный иллюминатор, и Фаулер доковылял до него. По иллюминатору бежали струйки сгустившейся мглы, поэтому он выпрямился перед ним во весь рост.
Сам — то он все равно ничего не разглядит, зато люди внутри купола увидят его. Люди, которые ведут непрерывные наблюдения, следят за бушующей стихией Юпитера, за неистовыми ураганами и аммиачными дождями, за стремительно летящими облаками смертоносного метана. Ведь людям Юпитер представляется только таким.
Подняв переднюю лапу, он быстро начертил на влажной поверхности иллюминатора буквы, написал задом наперед свою фамилию.
Они должны знать, кто пришел, чтобы не было ошибки. Должны знать, какую программу закладывать. Иначе его могут преобразовать в чужое тело. Возьмут не ту матрицу, и выйдет из аппарата кто — то другой: юный Ален, или Смит, или Пелетье. И ошибка может оказаться роковой.
Аммиачный дождь сначала размазал, потом вовсе смыл буквы. Маузер написал их снова.
Уж теперь — то разберут. Прочтут и поймут, что вернулся с отчетом один из тех, кого преобразовали в скакунов.
Он опустился на траву и быстро повернулся к двери преобразовательного отсека. Она медленно отворилась ему навстречу.
— Прощай, Байбак, — тихо вымолвил Фаулер.
Тотчас в мозгу зазвучало тревожное предупреждение:
Еще не поздно! Ты еще не вошел. Еще можешь передумать. Повернуть кругом и бежать.
Мысленно скрипя зубами, он решительно пошел вперед. Ощутил металлический пол под ногами, почувствовал, как позади него закрылась дверь. Уловил напоследок обрывок мыслей Байбака, потом воцарился мрак.
Перед ним была камера преобразователя, и он направился к ней вверх по наклонному ходу.
Человек и пес уходили вдвоем, подумал он, и вот теперь человек возвращается.
Пресс — конференция проходила успешно. Текущая информация содержала одни приятные новости.
Да — да, сообщил репортерам Тайлер Вебстер, недоразумение на Венере полностью улажено. Достаточно было представителям сторон встретиться и побеседовать вместе. Эксперименты по жизнеобеспечению в холодных лабораториях на Плутоне протекают нормально. Экспедиция к Альфе Центавра стартует, как было предусмотрено, вопреки всем слухам о том, что она будто бы срывается. Коммерческий совет скоро выпустит новый прейскурант на ряд предметов межпланетной торговли, устраняющий некоторые несоответствия.
Ничего сенсационного. Никаких броских заголовков. Ничего потрясающего для «Последних известий».
— Тут Джон Калвер попросил меня напомнить вам, господа, — продолжал Вебстер, — что сегодня исполняется сто двадцать пять лет с того дня, как в Солнечной системе было совершено последнее убийство. Сто двадцать пять лет без единого случая преднамеренного лишения жизни.
Он откинулся в кресле, изобразив улыбку, хотя в душе с содроганием ждал вопроса, который неминуемо должен был последовать.
Однако они еще не были готовы задать этот вопрос, сперва полагалось выполнить некий ритуал, без которого не обходилась ни одна пресс — конференция.
Берли Стефан Эндрюс, заведующий отделом печати «Межпланетных новостей», прокашлялся, словно собираясь сообщить нечто важное, и спросил с наигранной торжественностью:
— А как наследник?
Лицо Вебстера просияло.
— На уик — энд полечу домой, к нему, — ответил он. — Вот игрушку купил.
Он взял со стола что — то вроде маленькой трубы.
— Старинная выдумка… Говорят, точно, старинная. Совсем недавно начали выпускать. Подносите к глазу, крутите и видите прелестные узоры. Там перекатываются цветные стеклышки. У этой штуки есть специальное название…
— Калейдоскоп, — живо вставил один из репортеров. — Я про него читал. В одном историческом труде об обычаях и нравах начала двадцатого века.
— Вы уже смотрели в него, мистер председатель? — поинтересовался Эндрюс.
— Нет, — ответил Вебстер. — По правде говоря, только сегодня приобрел, да и занят был.
— И где же вы его приобрели, мистер председатель? — спросил кто — то. — Я тоже не прочь подарить моему отпрыску такую штуковину.
— Да тут, за углом. Магазин игрушки, вы его знаете. Как раз сегодня поступили.
Ну вот, можно и закругляться… Еще несколько шутливых замечаний, потом пора бы вставать и расходиться.
Однако они не уходили. И он знал, что так просто они не уйдут. Ему сказали об этом внезапная тишина и громкое шуршание бумаг, призванное смягчить ее натянутость.
А затем Стефан Эндрюс задал вопрос, которого Вебстер так опасался. Хорошо еще, что Эндрюс, а не кто — нибудь другой… Он всегда держится более или менее доброжелательно, и его агентство предпочитает объективную информацию, не переиначивает сказанное, как это делают некоторые любители интерпретировать.
— Мистер председатель, — начал Эндрюс, — поговаривают, будто на Землю возвратился человек, который подвергался преобразованию на Юпитере. Нам хотелось бы услышать от вас, верно ли это сообщение?
— Верно, — сухо ответил Вебстер.
Все ждали, и Вебстер тоже ждал, сидя неподвижно в своем кресле.
— Вы не хотите комментировать его? — спросил наконец Эндрюс.
— Нет, — сказал Вебстер.
Он обвел взглядом лица собравшихся. Напряженные — угадывающие причину его решительного отказа обсуждать эту тему. Довольные, маскирующие мысль о том, как можно переиначить его скупой ответ. Сердитые — эти возмущенно выскажутся о праве народа знать истину.
— Прошу прощения, господа, — сказал Вебстер.
Эндрюс тяжело поднялся.
— Благодарим вас, мистер председатель, — заключил он.
Откинувшись в кресле, Вебстер смотрел, как расходятся репортеры, а когда они разошлись, остро ощутил холод опустевшего помещения.
Они распнут меня, думал он. Разделают под орех, и я не могу дать сдачи. Не могу рта раскрыть.
Он встал, подошел к окну и посмотрел в сад, освещенный косыми лучами уходящего на запад солнца.
Нет, он просто не мог сказать им правду.
Рай!.. Царство небесное для тех, кто искал его! И конец человечества… Конец всем мечтам и идеалам, конец самого рода людского.
На столе замигал зеленый огонек, пискнул звуковой сигнал, и он поспешил вернуться на свое место.
— Что случилось?
На маленьком экране возникло лицо.
— Псы сейчас доложили, сэр, что мутант Джо пришел в вашу усадьбу и Дженкинс впустил его.
— Джон! Вы уверены?
— Так говорят псы. А они никогда не ошибаются.
— Верно, — медленно произнес Вебстер. — Они не ошибаются.
Лицо на экране растаяло, и Вебстер опустился в кресло.
Дотянулся негнущимися пальцами до пульта и, не глядя, набрал нужный индекс.
На экране выросла усадьба, приземистое строение на открытом ветру холме в Северной Америке. Строение, которому скоро тысяча лет. Место, где жили, мечтали и умирали многие поколения Вебстеров.
В голубой выси над домом летела ворона, и Вебстер услышал — или вообразил, что услышал, — донесенное ветром «каррр»…
Все в полном порядке. Во всяком случае, с виду. Усадьба дремлет в лучах утреннего солнца, на просторной лужайке замерла статуя — изображение давно умершего предка, который пропал на звездной тропе. Ален Вебстер, он первым покинул Солнечную систему, направляясь к той самой Альфе Центавра, куда через день — другой вылетает экспедиция с Марса.
Никакого переполоха, вообще никакого движения.
Рука Вебстера нажала рычажок, экран погас.
Дженкинс справится, сказал он себе. Лучше, чем справился бы любой человек на его месте. Что ни говори, эта металлическая коробка начинена почта тысячелетней мудростью. Скоро сам позвонит и скажет, в чем там дело.
Он набрал другую комбинацию.
Прошло несколько долгих секунд, прежде чем на экране появилось лицо.
— Что стряслось, Тайлер?
— Мне только что сообщили, что Джо…
Джон Калвер кивнул.
— Мне тоже сообщили. Я как раз проверяю.
— Ну и что ты скажешь об этом визите?
Начальник Всемирной службы безопасности задумчиво наморщил лоб.
— Может, он сдался. Ведь мы ему и прочим мутантам вздохнуть не даем. Псы потрудились на славу.
— Но до сих пор не было никаких данных, ничего, что говорило бы об их готовности уступить.
— Подумай сам, — сказал Калвер. — Вот уже больше ста лет они шагу шагнуть не могут без нашего ведома. Все, что они делают, записывается на наши ленты. Что ни затеют, мы блокируем. Вначале они думали, что им просто не везет, но теперь — то убедились, что это не так. Вот и признали, что мы загнали их в угол.
— Вряд ли, — строго произнес Вебстер. — Когда эти парни почуют, что их загоняют в угол, гляди, как бы самого не припечатали к ковру.
— Постараюсь оказаться сверху, — обещал Калвер. — И буду держать тебя в курсе.
Изображение погасло, но Вебстер продолжал уныло глядеть на стеклянный прямоугольник.
Черта с два их загонишь в угол. Калвер знает это не хуже его. И все — таки…
Почему Джо пришел к Дженкинсу? Почему не обратился сюда, в Женеву? Самолюбие не позволяет? Предпочитает переговоры через робота?.. Как — никак Джо с незапамятных времен знает Дженкинса.
Вебстер невольно ощутил прилив гордости. Ему было лестно, что Джо пришел к Дженкинсу (если они верно угадали причину). Ведь Дженкинс, пусть у него металлическая шкура, тоже из Вебстеров…
Гордость… думал Вебстер. Были свершения, были и промахи… Но ведь все — незаурядные личности. Кого ни возьми. Джером, из — за которого мир не получил учения Джуэйна. Томас, который давал миру усовершенствованный теперь принцип тяги для космических кораблей. Сын Томаса — Ален, который попытался долететь до звезд, но не смог. Брюс, который первым пришел к мысли о двойной цивилизации человека и пса. Наконец, он сам, Тайлер Вебстер, председатель Всемирного комитета…
Он поставил локти на стол и сплел пальцы, глядя на струящийся в окно свет вечернего солнца.
Исповедью он заполнял ожидание. Он ждал писклявого сигнала, который скажет ему, что звонит Дженкинс, чтобы доложить, зачем пришел Джо.
Если бы…
Если бы наконец удалось достичь взаимопонимания… Если бы люди и мутанты могли поладить между собой… Если бы можно было забыть зашедшую в тупик подспудную войну, то вместе, втроем, человек, пес и мутант пошли бы далеко.
Вебстер покачал головой. Нет, на это не приходится рассчитывать. Слишком велико различие, слишком широка брешь. Подозрительность человека, снисходительные усмешки мутантов — неодолимая преграда. Потому что мутанты — особое племя, боковая ветвь, которая намного ушла вперед. Это люди, которые стали законченными индивидуалистами, общество им не нужно, признание других людей не нужно, они совершенно лишены сплачивающего род стадного инстинкта, на них не действуют социальные факторы.
И ведь это из — за мутантов небольшой отряд мутированных псов до сих пор практически не принес почти никакой пользы своему старшему брату, человеку. Потому что псы больше ста лет заняты слежкой, выполняют роль полицейских отрядов, которые держат под наблюдением мутантов.
Поглядывая на видеофон, Вебстер оттолкнул назад кресло, выдвинул ящик стола, достал папку.
Потом нажал рычажок, вызывая секретаря.
— Слушаю, мистер Вебстер.
— Я пойду к мистеру Фаулеру. — сказал Вебстер, — Если будет вызов…
— Если будет вызов, сэр, я вам тотчас сообщу. — Голос секретаря чуть дрожал.
— Благодарю.
Вебстер опустил рычажок.
Уже прослышали, сказал он себе. Все до единого, на всех этажах навострили уши, ждут новостей.
Кент Фаулер сидел, развалившись в кресле, под окном своей комнаты и смотрел, как маленький черный терьер ретиво копает землю в поисках воображаемого кролика.
— Учти, Пират, — сказал Фаулер, — меня ты не обманешь.
Пес остановился, глянул на него, весело оскалясь, ответил возбужденным лаем, потом снова принялся копать.
— Рано или поздно все равно не выдержишь, проговоришься, — объявил Фаулер. — И я тебя выведу на чистую воду.
Пират продолжал рыть землю.
Хитрый чертенек, подумал Фаулер. Умен не по летам. Вебстер напустил его на меня, и он играет свою роль на совесть. Ищет кроликов, пачкает в кустах, чешется — обыкновенный пес, да и только. Но меня — то ему не провести. Никто из них не проведет меня.
Хрустнул камешек под чьей — то ногой, и Фаулер поднял голову.
— Добрый вечер, — поздоровался Тайлер Вебстер.
— Я уже заждался вас, — сухо ответил Фаулер. — Садитесь и выкладывайте. Без экивоков. Вы мне не верите?
Вебстер опустился в кресло рядом, положил на колени папку.
— Я понимаю ваши чувства, — сказал он.
— Сомневаюсь, — отрезал Фаулер. — Я прибыл сюда с сообщением, которое казалось мне очень важным. Прибыл с отчетом, который дался мне дорогой ценой, вы и не представляете себе, чего мне это стоило.
Он сгорбился в кресле.
— Да поймите вы, все то время, пока я нахожусь в человеческом обличье, для меня духовная пытка.
— Сожалею, — ответил Вебстер, — но мы должны были удостовериться, должны были проверить ваш отчет.
— И проверить меня?
Вебстер кивнул.
— Пират тоже в этом участвует?
— Он не Пират, — мягко сказал Вебстер. — Вы его обидели, если называли Пиратом. Теперь у всех псов человеческие имена Этого зовут Эльмер.
Пес перестал копать землю и подбежал к ним. Сел возле Вебстера и потер грязной лапой вымазанные глиной усы.
— Ну, что ты скажешь, Эльмер? — спросил Вебстер.
— Он человек, никакого подвоха, — ответил пес, — но не совсем человек. Только не мутант. Что — то еще. Что — то чужое.
— Ничего удивительного, — сказал Фаулер. — Я пять лет был скакуном.
Вебстер кивнул.
— Какой — то след должен был остаться. Это естественно. И пес не мог не заметить этого. Они на этот счет чуткие. Прямо — таки медиумы. Мы потому и поручили им мутантов: как бы ни прятались, все равно выследят.
— Значит, вы мне верите?
Вебстер перелистал лежащие на коленях бумаги, потом осторожно разгладил их.
— Боюсь, что да.
— Почему — боюсь?
— Потому что вы величайшая из опасностей, которые когда — либо угрожали человечеству.
— Опасность?! Да вы что! Я предлагаю вам… предлагаю…
— Знаю, — ответил Вебстер. — Вы предлагаете рай.
— И это вас пугает?
— Ужасает. Да вы попробуйте представить себе, что будет, если мы объявим об этом народу и люди поверят. Каждому захочется улететь на Юпитер и стать скакуном. Хотя бы потому, что скакуны, похоже, живут по нескольку тысяч лет.

Все жители Солнечной системы потребуют, чтобы их немедленно отправили на Юпитер. Никто не захочет оставаться человеком. Кончится тем, что люди исчезнут, все превратятся в скакунов. Вы об этом подумали?
Фаулер нервно облизнул пересохшие губы.
— Конечно. Другого я и не ожидал.
— Человечество исчезнет, — ровным голосом продолжал Вебстер. — Исчезнет накануне своих самых великих свершений. Испарится. Все, чего удалось достичь за многие тысячелетия, насмарку.
— Но вы не знаете… — возразил Фаулер. — Вам не понять. Вы не были скакуном. А я был. — Он ткнул себя пальцем в грудь. — Я знаю, что это такое.
Вебстер покачал головой.
— Так ведь я не об этом спорю. Вполне допускаю, что скакуном быть лучше, чем человеком. Но я никак не могу согласиться с тем, что мы вправе разделаться с человечеством, променять все, что было и будет совершено человеком, на то, что способны совершить скакуны. Человечество продвигается вперед. Может быть, не с такой легкостью, не так мудро и блистательно, как ваши скакуны, зато мне сдается, что в конечном счете мы продвинемся намного дальше. У нас есть свое наследие, есть свои предначертания, нельзя же все это просто взять да отправить за борт.
Фаулер наклонился вперед.
— Послушайте, — сказал он. — Я все делал честь по чести. Пришел прямо к вам, во Всемирный комитет. А ведь мог обратиться к печати и радио, чтобы припереть вас к стене, но я не стал этого делать.
— Вы хотите сказать, что Всемирный комитет не вправе решать этот вопрос. Что народ тоже должен участвовать.
Фаулер молча кивнул.
— Так вот, по чести говоря, — продолжал Вебстер, — я не полагаюсь на мнение народа. Существуют такие вещи, как реакция плебса, как эгоизм. Что им до рода человеческого? Каждый будет думать только о себе.
— То есть вы говорите мне, что я прав, но вы тут ничего не можете поделать?
— Не совсем так. Что — нибудь придумаем. Юпитер может стать чем — то вроде дома для престарелых. Придет пора человеку уходить на заслуженный отдых…
У Фаулера вырвалось рычание.
— Награда, — презрительно бросил он. — Пастбище для старых лошадей. Рай по путевкам.
— Зато мы и человечество спасем, — подчеркнул Вебстер, и Юпитер используем.
Фаулер порывисто встал.
— Это черт знает что! — вскричал он. — Я прихожу к вам с ответом на вопрос, который вы поставили. С ответом, который обошелся вам в миллиарды долларов. А сотни людей, которыми вы были готовы пожертвовать? Расставили по всему Юпитеру преобразователи, пропускали через них людей пачками, они не возвращались, вы считали их мертвыми и все равно продолжали слать других! Ни один не вернулся, потому что они не хотели, не могли вернуться, их пугала мысль снова стать людьми. И вот я вернулся. А что проку? Трескучие фразы, словесные ухищрения, допросы, проверки… И наконец мне объявляют, что я есть я, да только мне не надо было возвращаться.
Фаулер опустил руки и весь понурился.
— Полагаю, я свободен, — произнес он. — Не обязан здесь оставаться.
Вебстер медленно кивнул.
— Конечно, свободны. С самого начала вы были свободны. Я только просил вас побыть здесь, пока шла проверка.
— И я могу возвращаться на Юпитер?
— Учитывая все обстоятельства, — ответил Вебстер. — это, пожалуй, совсем неплохая мысль.
— Удивляюсь, почему вы сразу мне этого не предложили, — с горечью сказал Фаулер. — Такой удобный выход. Сдали отчет в архив, забыли об этом деле, и продолжай распоряжаться Солнечной системой, словно фишками в детской игре. Ваш род уже не первый век отличается, сколько дров наломали — так нет же, люди предоставили вам новую возможность… По милости одного из ваших предков мир лишился учения Джуэйна, другой сорвал попытки наладить сотрудничество с мутантами…
— Оставьте в покое меня и мой род! — резко произнес Вебстер. — Это серьезнее, чем…
Однако Фаулер перекричал его:
— Но это дело я вам не позволю загубить! Хватит, мир и так достаточно потерял из — за вас, Вебстеров. А теперь такая возможность открывается! Я расскажу людям про Юпитер. Пойду в газеты, на радио. Буду кричать со всех крыш. Я…
Он вдруг осекся, и у него задрожали плечи.
— Я принимаю ваш вызов, Фаулер, — с холодной яростью сказал Вебстер. — По — вашему не будет. Я не позволю, чтобы вы сделали такую вещь.
Фаулер уже встал и, повернувшись к нему спиной, решительно зашагал к калитке.
Сидя на месте, будто скованный, Вебстер вдруг почувствовал, как его ногу тронула собачья лапа.
— Догнать его, хозяин? — спросил Эльмер. — Задержать?
Вебстер покачал головой.
— Пусть идет. У него такое же право, как у меня, поступать по своему разумению.
Прохладный ветерок, перевалив через ограду, теребил плащ на плечах Вебстера.
А в мозгу упорно отдавались слова… Произнесенные здесь, в саду, несколько секунд назад, они словно вышли из глубины веков.
По милости одного из ваших предков мир лишился учения Джуэйна. По милости одного…
Он сжал кулаки так, что ногти впились в ладони.
От нас одни только несчастья, сказал себе Вебстер. Всему человечеству несчастья. Учение Джуэйна… Мутанты… Да, но мутанты вот уже несколько веков как овладели учением Джуэйна, а ни разу его не применили. Джо отобрал его у Гранта, и Грант всю жизнь потратил на то, чтобы вернуть пропажу, да так и не вернул. А может быть в этом учении ничего такого нет, попытался утешить себя Вебстер. Иначе мутанты непременно пустили бы его в ход. Или — кто знает? — мутанты нам просто голову морочат, а на самом деле не лучше нашего разобрались?
Тихий металлический кашель заставил Вебстера поднять глаза. На крыльце стоял маленький серый робот.
— Вызов, сэр, — доложил робот. — Вызов, которого вы ждали.
На экране возникло лицо Дженкинса — старое, уродливое, архаичное лицо. Никакого сравнения с гладкими, будто живыми лицами, которыми щеголяют роботы новейших моделей.
— Простите, что беспокою вас, сэр, — сказал Дженкинс, но случилось нечто из ряда вон выходящее. Пришел Джо и просит разрешения воспользоваться вашим видеофоном, чтобы связаться с вами, сэр. А в чем дело, не говорит. Дескать, просто захотелось побеседовать с давним соседом.
— Включи его, — сказал Вебстер.
— Не пойму я его поведение, сэр, — продолжал Дженкинс. — Пришел и больше часа переливал из пустого в порожнее, прежде чем попросил соединить с вами. С вашего позволения, сэр, мне это кажется очень странным.
— Понятно, — ответил Вебстер. — Он вообще со странностями, этот Джо.
Лицо Дженкинса исчезло, его сменило другое — лицо мутанта Джо. Волевые черты, морщинистая, обветренная кожа, серо — голубые живые глаза, серебрящиеся на висках волосы.
— Дженкинс мне не доверяет, Тайлер, — сказал Джо с затаенной усмешкой, от которой Вебстера всегда коробило.
— Коли на то пошло, я вам тоже не доверяю, — отрубил он.
Джо прищелкнул языком.
— Полно, Тайлер, разве мы вам хоть когда — нибудь чем — нибудь досадили? Хоть один из нас? Вы следите за нами, нервничаете, покоя не знаете, а ведь мы вам не сделали ничего дурного. Столько собак к нам приставили, что мы на каждом шагу на них натыкаемся, завели дела на нас, изучаете, обсуждаете, разбираете — как только самим до сих пор не тошно!
— Да, мы вас знаем, — сурово произнес Вебстер. — Знаем про вас больше, чем вы сами знаете. Знаем, сколько вас, и каждого в отдельности держим на примете. Хотите услышать, чем любой из вас был занят по минутам за последние сто лет? Спросите, мы вам скажем.
— А мы все это время печемся о вас, — ответил Джо елейным голосом. — Все прикидываем, как бы вам со временем помочь.
— За чем же дело стало? — огрызнулся Вебстер. — Мы с самого начала были готовы сотрудничать с вами. Даже после того, как вы украли у Гранта записки Джуэйна…
— Украли? Честное слово, Тайлер, тут какое — то недоразумение. Мы только взяли их, чтобы поработать. Он там такого нагородил…
— Уверен, вам и двух дней не понадобилось, чтобы разобраться, — отпарировал Вебстер. — Что же вы тянули так долго? Приди вы к нам с ответом, сразу было бы ясно, что вы хотите сотрудничать, и шли бы мы дальше вместе. Мы отозвали бы собак, признали бы вас.
— Потеха, — сказал Джо. — Как будто нас когда — нибудь волновало ваше признание.
И Вебстер услышал смех — смех человека, который ни в ком не нуждается, для которого все потуги человеческого общества — уморительный анекдот. Который идет по жизни в одиночку и вполне этим доволен. Которой считает род людской потешным и, возможно, чуть — чуть опасным, но именно это делает его еще потешнее. Который не испытывает потребности в братстве людей, отвергает это братство как нечто предельно трогательное и провинциальное, вроде клубов болельщиков двадцатого века.
— Ладно, — жестко произнес Вебстер. — Если вас больше устраивают такие отношения — пожалуйста. Я — то надеялся, что вы предложите какую — нибудь сделку, надеялся на примирение. Мы недовольны теперешними отношениями. Мы за то, чтобы изменить их. Дело за вами.
— Погоди, Тайлер, — остановил его Джо, — не выходи из себя. Я думал, тебе будет интересно узнать, в чем же соль учения Джуэйна. О нем теперь, почитай что, забыли, а ведь было время, вся Солнечная система бурлила.
— Ладно, рассказывайте, — сказал Вебстер с явным недоверием в голосе.
— По сути, вы, люди, — одинокое племя, — начал Джо. — Никто из вас по — настоящему не знает своих собратьев. Не знает потому, что между вами нет нужного взаимопонимания. Конечно, у вас есть дружба, но дружба — то эта основана всецело на эмоциях, а не на глубоком взаимопонимании. Да, вы можете ладить между собой. Но опять же за счет терпимости, а не за счет понимания. Вы умеете согласованно решать проблемы, но что это за соглашения — кто посильнее духом, подавляет того, кто послабее.
— При чем тут все это?
— Так ведь именно в этом все дело! Учение Джуэйна позволит вам по — настоящему понимать друг друга.
— Телепатия?
— Что — то вроде. Мы, мутанты, владеем телепатией. Но тут речь о другом. Учение Джуэйна наделяет вас способностью воспринять точку зрения другого человека. Вы не обязаны с ней соглашаться, но сможете отдать ей должное. Вы будете воспринимать не только смысл того, что вам говорит собеседник, но и степень его убежденности. Учение Джуэйна позволяет всесторонне оценить идею и ее обоснование, не только слова человека, но и смысл, который он в них вкладывает.
— Семантика, — сказал Вебстер.
— Называйте как хотите, а вся суть в том, что вам понятна не только формулировка, но и подразумеваемая мысль собеседника. Это почти телепатия, но не совсем. Кое в чем даже получше телепатии.
— Ну хорошо, а как это достигается? Как вы…
Снова язвительный смех.
— Нет, ты сперва подумай как следует, Тайлер… Реши, так ли уж вам это нужно. Потом можно и потолковать.
— Сделку предлагаете? — сказал Вебстер.
Джо кивнул.
— С подвохом небось?
— Даже с двумя. Найдете, потолкуем и об этом.
— Ну, а что вы хотите получить взамен?
— Много чего, — ответил Джо. — Но ведь и вы внакладе не останетесь.
Экран погас, а Вебстер все еще глядел на него невидящими глазами. Подвох? Разумеется. Ясно как день.
Он плотно зажмурился и услышал стук крови в мозгу.
Что там говорили про учение Джуэйна в те далекие дни, когда оно было утеряно? Будто за несколько десятилетий оно продвинуло бы человечество вперед на сотню тысяч лет. Что — то вроде этого…
Допустим, гипербола, но не такая уж большая. Так сказать, позволительное преувеличение.
Человек по — настоящему понимает другого человека, воспринимает его мысли не искаженно, видит не только слова, но и вложенный в них смысл, оценивает точку зрения другого как свою собственную. И включает ее в мерки, с которыми подходит к тому или иному вопросу. Конец недоразумениям, конец предвзятости, подозрительности, препирательствам — ясное, полное осознание всех спорных сторон всякой проблемы. Применимо в любой области человеческой деятельности. В социологии, в психологии, в технике, — какую грань цивилизации ни возьми. Конец раздорам, конец нелепым ошибкам, честная и разумная оценка наличных фактов и идей.
Сто тысячелетий за несколько десятков лет? Что ж, пожалуй, не так уж и невероятно.
А подвох?.. Или никакого подвоха нет? Действительно ли мутанты решили уступить? В обмен на что — нибудь? Или это кошелек на веревочке, а за углом мутанты со смеха покатываются?..
Сами они не использовали учение. Естественно, они — то в нем не нуждаются. У них есть телепатия, их она вполне устраивает. Для чего индивидуалистам средство понимать друг друга, когда они отлично обходятся без такого понимания. Мутанты в своих взаимоотношениях довольствуются теми контактами, которые необходимы, чтобы обеспечить их интересы, но не больше того. Они сотрудничают для спасения своей шкуры, но радости им это не доставляет.
Предложение от души? Приманка, чтобы отвлечь внимание и тем временем незаметно провернуть какую — то махинацию? Розыгрыш? Подвох?..
Вебстер покачал головой. Пойди разберись. Разве угадаешь побуждения и мотивы мутанта!
С приближением вечера стены и потолок кабинета пропитались мягким скрытым светом, он становился все ярче по мере того, как сгущалась темнота. Вебстер поглядел на окно — черный прямоугольник с редкими вспышками реклам, озаряющих контуры зданий.
Он нажал рычажок, соединяясь с секретарем.
— Простите, я вас задержал. Совсем забыл про время.
— Ничего, сэр, — ответил секретарь. — Вас тут ждет посетитель. Мистер Фаулер.
— Фаулер?
— Тот джентльмен, который прилетел с Юпитера.
— Да — да, — тоскливо произнес Вебстер. — Пусть войдет.
Он едва не забыл про Фаулера и его угрозы.
Вебстер рассеянно поглядел на стол, задержал свой взгляд на калейдоскопе.
Забавная игрушка… Оригинальная вещица. Бесхитростная забава для простодушных умов далекого прошлого. Но для сынишки это будет событие.
Он протянул руку, взял калейдоскоп, поднес его к глазу. Преображенный трубою свет создал буйную комбинацию красок, какую — то геометрическую фантасмагорию. Вебстер слегка повернул трубу — узор изменился. Повернул еще…
Внезапно мозг пронизала щемящая мука, краски обожгли сознание ни с чем не сравнимой болью.
Калейдоскоп со стуком упал на столешницу. Вебстер ухватился руками за край стола.
Вот так детская игрушка! — подумал он с содроганием.
Недомогание прошло, сознание прояснилось, дыхание успокоилось, а он все сидел будто каменный.
Странно… Странно, почему эта штука так на меня подействовала? Или калейдоскоп тут вовсе не при чем? Приступ? Сердце шалит? Да нет, вроде бы рановато. И ведь он совсем недавно проверялся.
Щелкнула дверь, и Вебстер поднял взгляд на посетителя.
Фаулер степенно, не торопясь, подошел к столу и остановился.
— Слушаю вас, Фаулер.
— Я вспылил тогда, в саду, — начал Фаулер, — и зря. Мне казалось, вы меня обязаны понять, хотя почему, собственно, обязаны? И меня такая досада взяла… Судите сами: возвращаюсь с Юпитера, чувствую, что все — таки не напрасно столько лет провел там в куполах, все, что я пережил, когда посылал людей на эксперимент, окупилось, что ли. Да, возвращаюсь с известием, которого ждал весь мир, с таким известием, что лучшего и представить невозможно! И мне казалось, вы это сразу поймете, все люди поймут! У меня было такое чувство, словно я принес им ключи от рая. Ведь это так и есть, Вебстер… Так и есть, другого слова не подберешь.
Фаулер оперся ладонями о стол и наклонился вперед.
— Неужели вы меня не понимаете, Вебстер? — произнес он шепотом. — Хоть сколько — нибудь?..
У Вебстера дрожали руки, он опустил их на колени и сжал в кулаки до боли в суставах.
— Понимаю, — прошептал он в ответ, — кажется, понимаю.
Он и в самом деле понял.
Понял больше того, что ему сказали слова. Он физически ощутил кроющуюся за словами тревогу, мольбу, горькое разочарование. Ощутил так, будто сам на минуту стал Фаулером и говорил за него.
— Что с вами, Вебстер? — испуганно воскликнул Фаулер. — Что случилось?
Вебстер пытался заговорить, но слова не давались ему. Горло словно закупорило пробкой боли.
Он сделал новое усилие и с натугой, тихо заговорил:
— Скажите, Фаулер… Вы там приобрели много новых качеств. Много такого, чего человек совсем не знает или представляет себе очень смутно. Вроде мощной телепатии… Или, скажем…
— Да, — подтвердил Фаулер, — я многое там приобрел. Но ничего не сохранил. Как только снова стал человеком, так и вся натура стала прежней, человеческой. Ничего не прибавилось. Остались только смутные воспоминания и… Ну, и тоска какая — то, что ли.
— Значит, вы не сохранили ничего из качеств, которыми обладали, когда были скакуном?
— Ничего.
— А не осталось у вас способности внушить мне какую — нибудь важную для вас мысль? Сделать так, чтобы я воспринял что — то так же, как вы воспринимаете?
— Увы.
Вебстер вытянул руку, подтолкнул пальцем калейдоскоп. Он откатился и снова замер.
— Почему вы сейчас вернулись? — спросил Вебстер.
— Чтобы найти общий язык с вами. Сказать, что я совсем не обижаюсь. И попытаться объяснить вам свою позицию. Просто мы по — разному глядим на вещи, только и всего. Стоит ли из — за этого ссориться…
— Понятно. И вы по — прежнему твердо намерены обратиться к народу?
Фаулер кивнул.
— Я обязан это сделать. Уверен, вы меня понимаете, Вебстер. Это для меня… это… ну, в общем, что — то вроде религии. Я в это верю и обязан рассказать другим, что существует лучший мир и лучшая жизнь. Должен указать им дорогу.
— Мессия, — произнес Вебстер.
Фаулер выпрямился.
— Ну вот, так я и знал. Насмешка не…
— Я вовсе не насмехаюсь, — мягко объяснил Вебстер.
Он поставил калейдоскоп торчком и принялся его поглаживать, размышляя:
Не готов… Еще не готов… я должен в себе разобраться. Хочу ли я, чтобы он понимал меня так же хорошо, как я его понимаю?
— Послушайте, Фаулер, — сказал он, — подождите день — два. Потерпите немного. Два дня, не больше. А потом побеседуем с вами еще раз.
— Я прождал достаточно долго.
— Но мне нужно, чтобы вы поразмыслили вот о чем… Человек появился миллион лет назад, он был тогда просто животным. Потом он шаг за шагом взбирался вверх по лестнице. Шаг за шагом одолевал трудности и созидал свой образ жизни, созидал свою философию, вырабатывал свой подход к решению практических проблем. Можно даже говорить о геометрической прогрессии. Сегодняшние возможности человека намного выше вчерашних. Завтра они будут больше сегодняшних. Впервые за всю историю своего племени человек, что называется, начинает осваивать технику игры. Можно сказать, он только — только пересек стартовую черту. Дальше он в более короткий срок пройдет куда больше, чем прошел до сих пор.
Может быть, такого блаженства, как на Юпитере, не будет, может быть, нас ждет нечто совсем другое. Возможно, человечество — серенький воробушек рядом с юпитерианами. Но это наша жизнь. То, за что боролся человек. То, что он построил своими руками. Предначертание, которое он сам выполнял.
Страшно подумать, Фаулер, неужели мы в ту самую минуту, когда из нас начинает получаться толк, променяем свою судьбу на другую, о которой ровным счетом ничего не знаем, не знаем, чем она чревата?
— Я подожду, — сказал Фаулер. — Подожду день — два. Но я предупреждаю. Вам от меня не отделаться. Не удастся меня переубедить.
— Большего я и не прошу. — Вебстер встал и протянул ему руку. — По рукам?
Но, пожимая руку Фаулера, Вебстер уже знал, что все это понапрасну. Джуэйн не Джуэйн — человечество стоит перед решающей проверкой. И учение Джуэйна только усугубляет все дело. Потому что мутанты своего никогда не упустят… Если он верно угадал, если они задумали таким способом избавиться от человечества, то у них все предусмотрено. К завтрашнему утру так или иначе не останется ни одного мужчины, ни одной женщины, ни одного ребенка, которые не посмотрели бы в калейдоскоп. Да и почему непременно калейдоскоп? Один бог ведает, сколько еще способов они знают…
Проводив взглядом Фаулера, он подошел к окну. Очертания домов озарялись новой световой рекламой, какой не было прежде. Какой — то диковинный узор озарял ночь многоцветными вспышками. Вспыхнет — погаснет, вспыхнет — погаснет, словно кто — то крутил огромный калейдоскоп.
Вебстер стиснул зубы. Этого следовало ожидать.
Мысль о Джо наполнила его душу лютой ненавистью. Так вот для чего он вызывал его к видеофону — лишний раз втихую посмеяться над людьми… Очередной жест трюкача, который снизошел до того, чтобы намекнуть простакам, в чем хитрость, когда их уже обвели вокруг пальца и поздно что — то предпринимать.
Надо было перебить их всех до единого, сказал себе Вебстер и подивился тому, как трезво и бесстрастно его мозг пришел к такому умозаключению.
Искоренить, как искореняют опасную болезнь.
Но человек отверг насилие как средство решать общественные и личные конфликты. Вот уже сто двадцать пять лет, как люди не ходят стенка на стенку.
Во время разговора с Джо учение Джуэйна лежало на моем столе. Достаточно потом было протянуть руку, чтобы… Вебстер остолбенел, осененный догадкой. Достаточно было протянуть за ним руку… И я это сделал!
Это даже не телепатия, не чтение мыслей. Джо знал, что он возьмет в руки калейдоскоп, — конечно, знал! Особое предвидение, умение заглянуть в будущее. Хотя бы на час — другой вперед, а больше и не требовалось.
Джо, и не только Джо, все мутанты знали про Фаулера. Мозг, наделенный даром проникать в чужие мысли, может легко выведать все, что нужно.
Но это не все, тут кроется еще что — то.
Глядя на цветные вспышки, он представил себе, как тысячи людей сейчас видят их. Видят, и сознание их поражает внезапный шок.
Вебстер нахмурился, соображая, в чем сила этих мелькающих узоров. Возможно, они действуют особым образом на какой — то центр в мозгу… До сих пор центр этот не работал, время не приспело, а тут его подхлестнули, и он включился.
Учение Джуэйна, наконец! Веками искали — и вот обрели. Но обрели в такую минуту, когда человеку лучше бы вовсе не знать его.
В своем отчете Фаулер написал:
Я не могу сообщить объективных данных, потому что у меня нет для этого нужных определений.
У него и теперь, разумеется, нет нужных слов, зато есть кое — что получше: слушатели, способные почувствовать искренность и убежденность тех слов, которыми он располагает. Слушатели, наделенные новым свойством, позволяющим хотя бы отчасти уловить величие того, что принес им Фаулер.
Джо все предусмотрел. Он ждал этой минуты. И превратил учение Джуэйна в учение против человечества.
Потому что само это учение приведет к тому, что человек улетит на Юпитер. Сколько его ни вразумляй, он все равно улетит на Юпитер. Во что бы то ни стало улетит.
Единственная надежда победить в поединке с Фаулером заключалась в том, что он был бессилен описать виденное, рассказать о пережитом, не мог довести до сознания людей то, что его волновало. Выраженная заурядными земными словами, его мысль прозвучала бы тускло, неубедительно. Даже если бы ему поверили в первую минуту, эта вера была бы непрочной, людей можно было бы переубедить. Теперь надежда рухнула, ведь слова Фаулера уже не покажутся тусклыми и неубедительными. Люди ощутят, что такое Юпитер, так же явственно, так же живо, как это ощущает Фаулер.
И земляне переберутся на Юпитер, отдав предпочтение юпитерианской жизни.
А Солнечная система, вся Солнечная система, кроме Юпитера, будет в распоряжении нового племени, племени мутантов, они будут создавать культуру по своему вкусу, и вряд ли эта культура пойдет по тому же пути, что цивилизация предков.
Вебстер отвернулся от окна, быстро подошел к столу. Нагнулся, выдвинул ящик, сунул внутрь руку. И вынул предмет, которым никогда в жизни не собирался пользоваться, — реликвию, музейный экспонат, много лет пролежавший в забвении.
Он протер носовым платком металлическую поверхность пистолета, потом дрожащими пальцами проверил механизм.
Все упирается в Фаулера. Если Фаулер умрет…
Если Фаулер умрет и станции на Юпитере демонтируют и покинут, затея мутантов сорвется. В активе человека будет учение Джуэйна и свой, ему предначертанный путь. «Экспедиция Центавр» отправится к звездам. Будут продолжаться эксперименты по освоению Плутона. Человек пойдет дальше по курсу, проложенному его цивилизацией. Пойдет быстрее, чем когда — либо. Превосходя все самые дерзкие мечты.
Два великих завоевания… Отказ от насилия как средства решать противоречия между людьми. И дарованное учением Джуэйна взаимопонимание. Два могучих ускорителя на путях в будущее.
Отказ от насилия и…
Вебстер уставился на зажатый в руке пистолет, а в мозгу у него словно ураган гудел. Два великих завоевания — и он собирается перечеркнуть первое из них.
Сто двадцать пять лет не было убийства человека человеком, и вот уже больше тысячи лет, как убийство отвергнуто как способ разрешения общественных конфликтов.
Тысяча лет мира — и один смертный случай может все свести на нет. Одного выстрела в ночи довольно, чтобы рухнуло все здание, чтобы человек вернулся к прежним, звериным суждениям.
Вебстер убил — почему мне нельзя? Если уж на то пошло, кое — кого не мешало бы прикончить. Правильно Вебстер сделал, только надо было не останавливаться на этом. И не вешать его надо, а наградить. Вешать надо мутантов. Если бы не они…
Именно так будут рассуждать люди.
Вот о чем гудит ураган в моем мозгу.
…Вспышки пестрых узоров рождали призрачный отсвет на стенах и полу.
Фаулер видит эти узоры. Он тоже глядит на диковинные вспышки, а если и не глядит, так ведь у меня есть еще калейдоскоп. Он придет сюда, мы сядем и потолкуем.
Сядем и потолкуем…
Вебстер швырнул пистолет обратно в ящик и пошел к двери.
Комментарий к шестому преданию
Если о происхождении других преданий цикла еще можно спорить, то здесь все очевидно. Шестое предание отмечено явственной печатью псовой сказительской традиции. В нем есть и глубокие эмоциональные ценности, и пристальное внимание к этическим проблемам, которое присуще всем прочим сказаниям Псов.
И однако Резон, как ни странно, именно в этом предании видит наиболее веское свидетельство того, что человечество якобы существовало на самом деле. Перед нами, утверждает он, доказательство, что эти самые предания рассказывали Псы, сидя у пылающих костров и толкуя о Человеке, погребенном в Женеве или улетевшем на Юпитер. Перед нами, говорит он также, сообщение о первом исследовании Псами миров гоблинов и о первых шагах к созданию братства животных.
И он видит здесь свидетельство того, что Человек представлял племя, которое одно время шло вместе с Псами по пути развития культуры. По мнению Резона, нет оснований утверждать, что именно описанная в предании катастрофа сокрушила Человека. Он допускает, что предание в том виде, в каком мы знаем его сегодня, за сотни лет было дополнено и приукрашено. При всем при том он видит в нем веские и убедительные доказательства того, что на род людской была наслана какая-то кара.
Борзый, который не усматривает в предании фактических свидетельств, будто бы обнаруженных Резоном, полагает, что сказитель просто доводит до логического финала культуру, якобы созданную Человеком. Без широкой перспективы, без элементов органической стабильности не может выжить ни одна культура — вот, по мнению Борзого, урок настоящего предания.
В отличие от других частей цикла это предание говорит о Человеке с какой-то нежностью. Он одновременно одинок и несчастен, но и по-своему величествен. Как типичен для него гордый жест, когда под конец ценой самопожертвования он обретает божественный ореол. И все-таки в преклонении Эбинизера перед Человеком есть какие-то странные оттенки, давшие пищу для особенно ожесточенных споров среди исследователей цикла.
В своей книге «Миф о Человеке» Разгон спрашивает: «Если б Человек пошел по другому пути, может быть, со временем он достиг бы такого же величия, как Пес?»
Вероятно, многие читатели цикла уже перестали задавать себе этот вопрос.
VI. Развлечения
Кролик свернул за куст, маленький черный пес метнулся за ним и с разбегу остановился. На тропке перед ним стоял волк, в его зубах трепетала окровавленная тушка кролика.
Эбинизер застыл на месте, вывесив язык красной тряпкой, он тяжело дышал, и его слегка мутило от увиденного.
Кролик был такой славный!
Чьи — то ноги простучали по тропе за спиной Эбинизера, из — за куста опрометью выскочил Сыщик и остановился рядом с ним.
Волк быстро перевел взгляд с пса на карликового робота, потом обратно на пса. Бешеное янтарное пламя в его глазах постепенно потухло.
— Зря ты так сделал, волк, — мягко произнес Эбинизер. — Кролик знал, что я его не трону, что все это понарошку. Он нечаянно наскочил на тебя, а ты его сразу схватил.
— Нашел с кем разговаривать, — прошипел Сыщик. — Он же ни слова не понимает. Смотри, как бы тебя не сожрал.
— Не бойся, при тебе он меня не тронет, — возразил Эбинизер. — К тому же он меня знает. С прошлой зимы помнит. Он из той стаи, которую мы подкармливали.
Медленно переступая, волк, крадучись, двинулся вперед, в двух шагах от пса остановился, тихо, нерешительно положил кролика на землю и подтолкнул его носом к Эбинизеру.
Сыщик не то пискнул, не то ахнул.
— Он отдает его тебе!
— Вижу, — спокойно ответил Эбинизер. — Я же говорю, что он помнит. У него еще ухо было обморожено, а Дженкинс его подлечил.
Вытянув морду и виляя хвостом, пес шагнул вперед. Волк на миг оцепенел, потом наклонил свою уродливую голову, принюхиваясь. Еще секунда, и они коснулись бы друг друга мордами, но тут волк отпрянул.
— Пойдем лучше отсюда, — позвал Сыщик. — Ты давай улепетывай, а я прикрою тебя с тыла. Если попробует…
— Ничего он не попробует, — перебил его Эбинизер. — Он наш друг. И за кролика его винить нельзя. Он же не понимает. Он так привык. Для него кролик просто кусок мяса.
Так же, как это когда — то было для нас, подумал он. Как было для нас, пока первый пес не сел рядом с человеком у костра перед входом в пещеру. Да и после еще долго так было… Даже теперь иной раз, как увидишь кролика…
Медленно, как бы извиняясь, волк дотянулся до кролика и взял его зубами. При этом он помахивал хвостом, только что не вилял им.
— Ну что! — воскликнул Эбинизер, и в ту же секунду волк метнулся прочь.
Серым пятном мелькнул среди деревьев, серой тенью растаял в лесу.
— Забрал, вот что, — возмутился Сыщик. — Этот мерзкий…
— Но сперва он отдал его мне, — торжествующе возразил Эбинизер. — Просто очень голодный был, оттого и не выдержал. А ведь такое сделал, чего не делал еще ни один волк. На мгновение зверь в нем отступил…
— Он хотел подарок за подарок.
Эбинизер покачал головой.
— Ему же стыдно было, когда он его забирал. Видел, как он хвостом помахивал? Это он объяснял, что хочет есть, что кролик ему нужен. Нужнее, чем мне.
Скользя глазами по зеленым просветам в волшебном лесу, пес втягивал носом запах перегноя, пьянящее благоухание изящных подснежников и фиалок, бодрящий, острый аромат молодой листвы, пробуждающегося весеннего леса.
— Смотришь, когда — нибудь… — заговорил он.
— Знаю, знаю, — вступил Сыщик. — Смотришь, когда — нибудь и волки станут цивилизованными. И кролики, и белки, и все остальные дикие твари. Вы, псы, все томитесь…
— Не томимся, а мечтаем, — поправил его Эбинизер. — У людей было заведено мечтать. Бывало, сидят и что — нибудь придумывают. И мы так появились. Нас придумал человек по имени Вебстер. И повозился же он с нами! Горло переделал, чтобы мы говорить могли. Сделал нам контактные линзы, чтобы читали. Еще…
— Много проку было людям от их мечтаний, — ехидно произнес Сыщик.
Святая правда, подумал Эбинизер. Сколько людей на Земле осталось? Одни мутанты, которые невесть чем заняты в своих башнях, да маленькая колония взаправдашних людей в Женеве. Остальные давно уже перебрались на Юпитер м превратились там из людей во что — то совсем другое.
Опустив хвост, Эбинизер повернул кругом и медленно поплелся по троне.
Жаль кролика, думал он. Такой был славный… Так здорово улепетывал. И совсем не от страха. Я за ним сколько раз гонялся, он знал, что я не собираюсь его ловить.
Но все равно Эбинизер не винил волка. Волк за кроликом не для потехи бегает. У волков нет скота, который дает мясо и молоко, нет посевов, дающих муку для галет.
— А ведь мне придется сказать Дженкинсу, что ты убежал, — ворчал жестокосердный Сыщик, топая за ним по пятам. — Знаешь ведь, что тебе сейчас положено слушать.
Пес продолжал молча трусить по тропе. Сыщик прав… Эбинизеру полагалось не гоняться за кроликами, а сидеть в усадьбе Вебстеров и слушать. Ловить звуки и запахи и все время быть готовым почуять, когда вблизи что — то появится. Как будто сидишь у стены и слушаешь, что за ней делается, а слышно еле — еле. Хорошо, если хоть что — то уловишь, а понять, что именно, и того труднее.
Это зверь во мне сидит и никак меня не отпускает, думал Эбинизер. Древний пес, который сражался с блохами, глодал кости, раскапывал сусличьи норы. Это он заставляет меня убегать из дома и гоняться за кроликом, когда мне положено слушать, заставляет рыскать по лесу, когда мне положено читать старые книги с длинных полок в кабинете.
Слишком быстро…
Мы слишком быстро продвигались.
Так было нужно.
Человеку понадобились тысячи лет, чтобы из нечленораздельных звучаний развились зачатки речи. Тысячи лет, ушли на то, чтобы приручить огонь, и еще столько, чтобы изобрести лук и стрелы. Тысячи лет, чтобы научиться возделывать землю и собирать урожай, тысячи лет, чтобы сменить пещеру на жилище, построенное своими руками.
А мы всего какую — нибудь тысячу лет как научились говорить и уже во всем предоставлены самим себе.
Конечно, если не считать Дженкинса.
Лес поредел, дальше только узловатые дубы тяжело карабкались вверх по склону, будто заплутавшиеся старики.
Усадьба распласталась на бугре. Прильнув к земле, пустив глубокие корни, стояло размашистое сооружение, такое старое, что оно стало под цвет всему окружающему: деревьям, траве, цветам, небу, ветру, дождю. Усадьба, построенная людьми, которые были привязаны к ней и к земле кругом так же, как теперь к ней привязались псы. Усадьба, в которой жили и умирали члены легендарного рода, оставившего в веках след яркий, как метеор. Люди, что вошли в предания, которые теперь рассказывали у пылающего камина в ненастные ночи, когда ветер с воем тормошил крышу… Предания о Брюсе Вебстере и первом псе Нэтэниеле; о человеке по имени Грант, который велел Нэтэниелу передать потомкам наказ; о другом человеке, который хотел долететь до звезд, и о старике, который сидел и ждал его на лужайке. И еще предания об ужасных мутантах, за которыми псы много лет следили.
И вот теперь люди ушли, но имя Вебстеров не забыто, и псы не забыли наказ, который Грант дал Нэтэниелу в тот давно минувший день.
Как будто вы — люди, как будто пес стал человеком.
Вот наказ, который десять столетий передавался из поколения в поколение. И настало время выполнять его.
Когда люди ушли, псы возвратились домой, со всех концов света вернулись туда, где первый пес произнес первое слово, где первый пес прочел первую печатную строку. Вернулись в усадьбу Вебстеров, где в незапамятные времена жил человек, мечтавший о двойной цивилизации, о том, чтобы человек и пес шли в веках вместе, лапа об руку.
— Мы старались как могли, — сказал Эбинизер вслух, словно обращаясь к кому — то. — И продолжаем стараться.
Из — за бугра донесся звон колокольчика, потом неистовый лай. Щенки гнали коров домой на вечернюю дойку.
В подземелье отложилась вековая пыль, серой пудрой лежала пыль не откуда — то извне, а неотъемлемая часть самого подземелья, та его часть, которая со временем обратилась в прах.
Пряный запах пыли перебивал влажную затхлость, в голове жужжанием отдавалась тишина. Радиевая лампочка тускло освещала пульт с маховичком, рубильником и пятью — шестью шкалами.
Опасаясь нарушить спящую тишину, придавленный источаемым сводами грузом веков, Джон Вебстер медленно подошел к пульту. Протянул руку и тронул рубильник, словно проверяя, настоящий ли он, словно ему нужно было ощутить пальцем сопротивление, чтобы удостовериться, что рубильник на месте.
Рубильник был на месте. Рубильник, и маховичок, и шкалы, освещенные одинокой лампочкой. И все. Больше ничего. В тесном подземелье с голыми стенами больше ничего не было.
Все так, как обозначено на старом плане.
Джон Вебстер покачал головой… Как будто могло быть иначе. План верен. План помнит. Это мы забыли — забыли, а может быть, никогда и не знали, а может быть, и знать не хотели. Пожалуй, это вернее всего: знать не хотели.
Впрочем, с самого начала, наверно, лишь очень немного людей знали про это подземелье. Мало кто знал, потому что так было лучше для всех. С другой стороны, то, что сюда никто не приходил, еще не залог полной тайны. И не исключено…
Он в раздумье смотрел на пульт. Снова рука протянулась вперед, но тут же он ее отдернул. Не надо, лучше не надо! Ведь план ничего не говорит о назначении подземелья, о действии рубильника.
«Оборона» — вот и все, что написано на плане.
Оборона! Тогда, тысячу лет назад, естественно было предусмотреть оборону. Она так и не пригодилась, но ее держали на всякий пожарный случай. Потому что даже тогда братство людей было настолько зыбким, что одно слово, один поступок могли его разрушить. Даже после десяти веков мира жила память о войне, и Всемирный комитет неизменно считался с ее возможностью, думал о ней и о том, как ее избежать.
Застыв на месте, Вебстер слушал биение пульса истории. Истории, которая завершила свой ток. Истории, которая зашла в тупик, и вот уже вместо полноводной реки — заводь, несколько сот бесплодных человеческих жизней, стоячий пруд, не питающий родников человеческой энергии и терзаний.
Вытянув руку, он коснулся ладонью стены и ощутил липучий холод, щекочущий ворс пылинок.
Фундамент империи… Погреб… Нижний камень могучего сооружения, гордо возвышавшегося над поверхностью земли, величавого здания, куда в древности сходились живые нити Солнечной системы. Империя не как символ захватничества, а как торжество упорядоченных человеческих взаимоотношений, построенных на взаимном уважении и мудрой терпимости.
Резиденция правительства, которое черпало психологическую уверенность в мысли о том, что есть верная, надежная оборона. И можно положиться на то, что она в самом деле верная, непременно надежная. Люди той поры не оставляли случаю никаких лазеек. Они прошли суровую школу и кое — что соображали.
Вебстер медленно повернулся, поглядел на следы, оставленные в пыли его ногами. Бесшумно, аккуратно ступая след в след, он вышел из подземелья, закрыл за собой тяжелую дверь и повернул замок, тщательно охраняющий тайну.
Идя вверх по ступенькам потайного хода, он думал:
Теперь модно садиться и писать свои исторический обзор. Наброски в основном сделаны, композиция ясна. Это будет превосходное, всестороннее исследование, вполне заслуживающее того, чтобы его прочли.
Но Вебстер знал, что никто не прочтет его труд. Не найдется желающих тратить на это время и силы.
На широком мраморном крыльце своего дома Вебстер остановился и окинул взглядом улицу. Красивая улица, самая красивая во всей Женеве: зеленый бульвар, ухоженные клумбы, доведенные до блеска неугомонными роботами пешеходные дорожки. Ни души на улице, и в этом ничего удивительного. Роботы рано заканчивают уборку, а людей в городе очень мало.
На высоком дереве пела птица — эта песенка вобрала в себя и солнце, и цветы, она рвалась из переполненного счастьем горлышка, пританцовывая от неиссякаемой радости.
Чистая улица, прикорнувшая в солнечных лучах, и большой прекрасный город. А какой в них смысл? Такую улицу должны заполнять смеющиеся дети, влюбленные пары, отдыхающие на солнце старики. Такой город — последний город на Земле, единственный город на Земле — должен быть полон движения и жизни.
Пела птица, и человек стоял на ступеньках, и тюльпаны блаженно кивали реющему по улице душистому ветерку.
Вебстер повернулся к двери, толкнул ее и переступил через порог.
Комната была тихая и торжественная, похожая на собор. Витражи, мягкие ковры… Старое дерево рдело патиной веков, медь и серебро искрились в свете лучей из стрельчатых окон. Над очагом висела выполненная в спокойных тонах большая картина: усадьба на бугре, усадьба, которая пустила корни в землю и ревниво льнула к ней. Из трубы вился дым — жидкая струйка, размазанная ветром по ненастному небу.
Вебстер прошел через комнату, не слыша своих шагов.
Ковры, подумал он, ковры стерегут здесь тишину. Рендолл и тут хотел все переиначить на свой лад, но я ему не позволил и хорошо сделал. Человек должен сохранять что — нибудь старинное, быть верным чему — то, в чем слиты былые голоса и будущие надежды.
Подойдя к рабочему столу, он нажал кнопку, и над столом зажегся свет. Он медленно опустился в кресло, протянул руку за папкой с черновиками. Открыл ее и прочел заглавие:
«ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЖЕНЕВЫ».
Превосходное заглавие. Солидное, ученое. А сколько труда вложено… Двадцать лет. Двадцать лет он рылся в пыльных архивах, двадцать лет читал и сопоставлял, взвешивал слова и суждения предшественников, двадцать лет просеивал, отсеивал, отбирал факты, выявляя параметры не только города, но и людей. Никакого культа героев, никаких легенд, одни факты. А факты добыть далеко не просто.
Что — то прошелестело в комнате. Не шаги — просто шелест. И ощущение, что рядом кто — то стоит. Вебстер повернулся. Сразу за световым кругом от лампы стоял робот.
— Простите, сэр, — сказал робот, — но мне поручено вам доложить. Мисс Сара ждет в морской.
Вебстер вздрогнул.
— Что, мисс Сара? Давно она здесь не появлялась.
— Совершенно верно, сэр, — отозвался робот. — Когда она вошла, сэр, мне показалось, что вернулись былые времена.
— Благодарю, Оскар, — сказал Вебстер. — Я сейчас. Принесите нам что — нибудь выпить.
— Она принесла с собой, сэр, — ответил Оскар. — Одну из этих смесей мистера Бэлентри.
— Бэлентри! Надеюсь, это не отрава?
— Я наблюдал за ней, — доложил Оскар. — Она уже пила, и с ней пока ничего не случилось.
Вебстер встал, вышел из кабинета и прошел по коридору. Толчком отворил дверь, и его встретил плеск прибоя. Он невольно прищурился от яркого света на раскаленном песке пляжа, белой чертой уходящего вправо и влево за горизонт. Перед ним простирался океан, голубые волны с солнечными блестками и с белыми мазками бурлящей пены.
Он двинулся вперед по шуршащему песку, постепенно глаза его освоились с разлитым в воздухе солнцем, и он увидел Сару.
Она сидела в пестром шезлонге под пальмами, рядом на песке стоял элегантный, пастельных тонов кувшин.
Воздух был с привкусом соли, и дыхание океана разбавляло прохладой зной на берегу.
Заслышав шаги, женщина встала и протянула руки навстречу Вебстеру. Он подбежал, стиснул протянутые руки и посмотрел на нее.
— Нисколько не состарилась. Такая же прекрасная, как в день нашей первой встречи.
Она улыбнулась, ее глаза лучились.
— И ты, Джон… Немного поседели виски. Это тебе даже к лицу. Вот и все.
Он рассмеялся.
— Мне скоро шестьдесят, Сара. Зрелость подкрадывается.
— Я тут принесла… Один из последних шедевров Бэлентри. Сразу станешь вдвое моложе.
Он крякнул.
— И как только Бэлентри не угробил половину Женевы своим зельем.
— Но этот напиток ему удался.
Она была права. Пьется легко, и вкус необычный — пьяняще — звонкий.
Вебстер пододвинул себе шезлонг и сел, не отрывая глаз от Сары.
— Красиво у тебя здесь, — сказала она. — Рендолл?
Вебстер кивнул:
— Уж он отвел душу, так разошелся, что я его еле остановил. А эти его роботы! На что он шальной, так они еще хлестче!
— Зато какие великолепные вещи делает! Оборудовал для Квентина марсианскую комнату — это что — то неземное!
— Слышал, — сказал Вебстер. — Мне он непременно хотел отделать кабинет под уголок космоса. Дескать, самая лучшая обстановка, чтобы посидеть, поразмышлять. Даже обиделся, когда я сказал, что не надо.
Глядя в голубую даль, он потер левую руку большим пальцем правой руки. Сара наклонилась и отвела палец в сторону.
— До сих пор не избавился от бородавок, — заметила она.
— Ага, — ухмыльнулся он. — Можно свести, да все никак не соберусь. Очень я занятой человек. Да и свыкся с ними.
Она выпустила его палец, и он опять принялся машинально скрести бородавки.
— Занятой человек, — повторила она. — То — то тебя давно не видно. Как книга подвигается?
— Можно садиться и писать. Уже размечаю главы. Сегодня проверял последний пункт. Хочется ведь, чтобы все было точно. Побывал в одном месте глубоко под землей, это под старым зданием Управления Солнечной системы. Какая — то оборонительная установка. Оперативный центр. Включаешь рубильник — и…
— И что?
— Не знаю, — ответил Вебстер. — Надо думать, что — нибудь достаточно эффективное. Не мешало бы выяснить, да не могу себя заставить. Столько копался в пыли последние двадцать лет, больше сил нет.
— Я смотрю, ты что — то приуныл, Джон. Как будто устал. С чего бы это? Не вижу причин, ты у нас такой энергичный. Налить еще?
Он покачал головой.
— Нет, Сара, спасибо. Не то настроение. Мне страшно, Сара, страшно.
— Страшно?
— Эта комната… Иллюзии. Зеркала, которые создают иллюзию простора. Вентиляторы, которые насыщают воздух брызгами соленой воды, насосы, которые нагоняют воду. Искусственное солнце. А не хочется солнца — щелкни рычажком, и вот тебе луна.
— Иллюзии, — произнесла Сара.
— Вот именно. Вот все, что у нас есть. Нет настоящего дела, нет настоящей работы. К чему стремиться, для чего стараться? Вот я проработал двадцать лет, а закончу книгу — кто ее прочтет? Потратить на нее немного времени — вот все, что от них требуется. Куда там! Зайдите, попросите у меня экземпляр, а если недосуг, я и сам буду рад принести, лишь бы прочли. Никто и не подумает. И стоять ей на полке рядом со всеми прочими книгами. Так какой мне от этого толк? Что ж… я тебе отвечу. Двадцать лет труда, двадцать лет самообмана, двадцать лет умственного здоровья.
— Знаю, — мягко сказала Сара. — Все это мне известно, Джон. Последние три картины…
Он живо повернулся к ней.
— Как, неужели…
Она покачала головой.
— Нет, Джон. Они никому не нужны. Мода не та. Реализм — это старо. Сейчас в чести импрессионизм. Мазня…
— Мы слишком богаты, — сказал Вебстер. — У нас слишком много всего. Мы получили все, все и ничего. Когда человечество перебралось на Юпитер, Землю унаследовали те немногие, которые на ней остались, и оказалось, что наследство для них чересчур велико. Они не могли с ним справиться, не могли осилить. Думали, что обладают им, а вышло наоборот. Над ними возобладало, их подчинило себе, их подавило все то, что им предшествовало.
Она протянула руку, коснулась его руки.
— Бедный Джон.
— От этого не отвертишься, — продолжал он. — Настанет день, когда кому — то из нас придется взглянуть правде в глаза, придется начинать сначала, с первой буквы.
— Я…
— Да, что ты хотела сказать?
— Я ведь пришла проститься.
— Проститься?
— Я выбрала Сон.
Он быстро, испуганно вскочил на ноги.
— Что ты, Сара!
Она рассмеялась, но смех был насильственный.
— Присоединяйся, Джон. Несколько сот лет… Может быть, когда проснемся, все будет иначе.
— Только потому, что никто не берет твоих картин. Только потому…
— По тому самому, о чем ты сам сейчас говорил. Иллюзии, Джо. Я знала, чувствовала, просто не умела до конца осмыслить.
— Но ведь Сон — тоже иллюзия.
— Конечно. Но ты — то об этом не будешь знать. Ты будешь воспринимать его как реальность. Никаких тормозов и никаких страхов, кроме тех, которые запрограммированы. Все очень натурально, Джо, натуральнее, чем в жизни. Я ходила в Храм, мне там все объяснили.
— А потом, когда проснешься?
— Проснешься вполне приспособленным к той жизни, к тем порядкам, которые будут тогда царить. Словно ты родился в той эре. А ведь она может оказаться лучше. Как знать? Вдруг окажется лучше.
— Не окажется, — сурово возразил Джон. — Пока или если никто не примет мер. А народ, который ищет спасения в Сне, уже ни на что не отважится.
Она вся сжалась, и ему вдруг стало совестно.
— Прости меня, Сара. Я ведь не о тебе… Вообще ни о ком в частности. А обо всех нас, вместе взятых.
Хрипло шептались пальмы, шурша жесткими листьями. Блестели на солнце лужицы, оставленные схлынувшей волной.
— Я не стану тебя переубеждать, — добавил Вебстер. — Ты все продумала и знаешь, чего тебе хочется.
Люди не всегда были такими, подумал он. В прошлом, тысячу лет назад, человек стал бы спорить, доказывать. Но джуэйнизм положил конец мелочным раздорам.
Джуэйнизм многому положил конец.
— Мне все кажется, — мягко заговорила Сара, — если бы мы не разошлись…
Он сделал нетерпеливый жест.
— Вот тебе еще один пример того, что нами потеряно, что упущено человечеством. Да, многого мы лишились, если вдуматься… Нет у нас ни семейных уз, ни деловой жизни, нет осмысленного труда, нет будущего.
Он повернулся и посмотрел на нее в упор.
— Сара, если ты хочешь вернуться…
Она покачала головой.
— Ничего не получится, Джон. Слишком много лет прошло.
Он кивнул. Что верно, то верно.
Она встала и протянула ему руку.
— Если ты когда — нибудь предпочтешь Сон, найди мой шифр. Я скажу, чтобы оставили место рядом со мной.
— Не думаю, чтобы я захотел, — ответил он.
— Нет так нет. Всего доброго, Джон.
— Постой, Сара. Ты ничего не сказала о нашем сыне. Прежде мы с ним часто встречались, но…
Она звонко рассмеялась.
— Том почти уже взрослый, Джон. И только представь себе, он…
— Я его давно не видел, — снова начал Вебстер.
— Ничего удивительного. Он почти не бывает в городе. Видно, в тебя пошел. Хочет стать каким — то первооткрывателем, что ли, не знаю, как это называется. Это его хобби.
— Ты подразумеваешь какие — нибудь новые исследованиям. Что — нибудь необыкновенное?
— Это точно, необыкновенное, но не исследование. Просто он уходит в лес и живет там сам по себе. Он и несколько его друзей. Мешочек соли, лук со стрелами… Странно, что говорить, но он очень доволен. Уверяет, будто там есть чему поучиться. И вид у него здоровый. Что твой волк: сильный, поджарый, глаза такие яркие…
Она повернулась и пошла к двери.
— Я провожу, — сказал Вебстер.
Она покачала головой.
— Нет, лучше не надо.
— Ты забыла кувшин.
— Возьми его себе, Джон. Там, куда я иду, он мне не понадобится.
Вебстер надел «мыслительный шлем» из пластика и включил пишущую машинку на своем рабочем столе.
Глава двадцать шестая, подумал он, и тотчас машинка защелкала, застучала, появились буквы:
«Глава XXVI».
На минуту Вебстер отключился, перебирая в уме данные и намечая план, затем продолжил изложение. Стук литер слился в ровное жужжание:
«Машины продолжали работать, как прежде, под присмотром роботов производя все то, что производили прежде. И роботы, зная, что это их право — право и долг, — продолжали трудиться, делая то, для чего их сконструировали. Машины всё работали, и роботы всё работали, производя материальные ценности, словно было для кого производить, словно людей были миллионы, а не каких — нибудь пять тысяч.
И эти пять тысяч — кто сам остался, кого оставили — неожиданно оказались хозяевами мира, соразмеренного с потребностями миллионов, оказались обладателями ценностей и услуг, которые всего несколько месяцев назад предназначались для миллионных масс.
Правительства не было, да и зачем оно, если все преступления и злоупотребления, предотвращаемые правительством, теперь столь же успешно предотвращались внезапным изобилием, выпавшим на долю пяти тысяч. Кто же станет красть, когда можно без воровства получить все, что тебе угодно. Кто станет тягаться с соседом из — за земельного участка, когда весь земной шар — сплошная незанятая делянка. Право собственности почти сразу стало пустой фразой в мире, где для всех всего было в избытке.
Насильственные преступления в человеческом обществе давно уже фактически прекратились, и, когда с исчезновением самого понятия материальных проблем право собственности перестало порождать трения, надобность в правительстве отпала. Вообще отпала надобность в целом рясе обременительных обычаев и условностей, которые человек начал вводить, едва появилась торговля. Стали ненужными деньги: ведь финансы потеряли всякий смысл в мире, где и так можно было получить все, что нужно, — хоть попроси, хоть сам возьми.
С исчезновением экономических уз начали ослабевать и социальные. Человек больше не считал для себя обязательным подчиняться обычаям и нормам, игравшим столь важную роль в насквозь пронизанном коммерцией доюпитерианском мире.
Религия, которая из столетия в столетие теряла свои позиции, теперь совсем исчезла. Семья, которую скрепляла традиция и экономическая потребность в кормильце и защитнике, распалась. Мужчины и женщины жили друг с другом без оглядки на экономические и социальные обстоятельства, которые перестали существовать».
Вебстер снова отключился, и машинка умиротворенно замурлыкала. Он поднял руки, снял шлем, перечитал последний абзац.
Вот оно, подумал, вот корень. Если бы не распались семьи. Если бы мы с Сарой не разошлись…
Он потер бородавки на руке.
Интересно, чья у Тома фамилия — моя или ее? Обычно они берут фамилию матери. Вот и я так поступил сперва, но потом мать попросила меня взять отцовскую. Сказала, что отцу будет приятно, а она не против. Сказала, что он гордится своей фамилией и я у него единственный ребенок. А у нее были еще дети.
Если бы мы не разошлись… Тогда было бы ради чего жить. Если бы не разошлись, Сара не выбрала бы Сон, не лежала бы сейчас в забытьи с «шлемом грез» на голове. Интересно, какие сны она выбрала, на какой искусственной жизни она остановилась? Хотел спросить ее, но не решился. Да и не пристало спрашивать о таких вещах…
Он снова взял шлем, надел его на голову и привел в порядок свои мысли. Машинка сразу защелкала:
«Человек растерялся. Но ненадолго. Человек пытался что — то сделать. Но недолго. Потому что пять тысяч не могли заменить миллионы, которые отправились на Юпитер, чтобы в ином обличье начать лучшую жизнь. У оставшихся пяти тысяч не было ни сил, ни идей, ни стимула.
Сыграли свою роль и психологические факторы. Традиция — она тяжелым грузом давила на сознание тех, кто остался. Джуэйнизм — он принудил людей быть честными с собой и с другими, принудил людей осознать наконец тщетность их потуг. Джуэйнизм не признавал превратной доблести.
А между тем оставшиеся пять тысяч больше всего нуждались именно в превратной, бездумной доблести, не отдающей себе отчета в том, что ей противостоит.
Все их усилия выглядели жалкими перед тем, что было совершено до них, и в конце концов они поняли, что пяти тысячам не под силу осуществить мечту миллионов.
Всем жилось хорошо. Так зачем терзаться? Есть еда, есть одежда, есть кров, есть дружеское общение, развлечения, всяческие удобства. Есть все, чего только можно себе пожелать. И человек прекратил попытки что — то сделать. Он наслаждался жизнью. Стремление достичь чего — то ушло в небытие, вся жизнь людей превратилась в рай для пустоцветов».
Вебстер снова снял шлем, протянул руку и нажал кнопку, выключая машинку.
Если бы нашелся хоть один желающий прочесть то, что я напишу, думал он. Хоть один желающий прочесть и осознать. Хоть один, способный уразуметь, куда идет человек.
Конечно, можно им рассказать об этом. Выйти на улицу, хватать каждого за рукав и держать, пока все не выскажу. И ведь они меня поймут, на то и джуэйнизм.
Поймут, но вдумываться не станут, отложат впрок где — нибудь на задворках памяти, а извлечь оттуда потом будет лень или недосуг.
Будут предаваться все тем же дурацким занятиям, развлекаться все теми же бессмысленными хобби, которые заменили им труд. Рендолл с его отрядом шалых роботов ходит и упрашивает соседей, чтобы позволили переоборудовать их дома. Бэлентри часами изобретает новые алкогольные напитки. Ну, а Джон Вебстер убивает двадцать лет, копаясь в истории единственного города Земли.
Тихо скрипнула дверь, и Вебстер обернулся. В комнату неслышно вошел робот.
— Да, в чем дело, Оскар?
Робот остановился — туманная фигура в полумраке кабинета.
— Пора обедать, сэр. Я пришел узнать…
— Что придумаешь, то и годится, — сказал Вебстер. — Да, Оскар, положи — ка дров в камин.
— Дрова уже положены, сэр.
Оскар протопал к камину, наклонился, в его руке мелькнуло пламя, и щепки загорелись.
Понурившись в кресле, Вебстер глядел, как огонь облизывает поленья, слушал, как они тихо шипят и потрескивают, как в дымоходе просыпается тяга.
— Красиво, сэр, — сказал Оскар.
— Тебе тоже нравится?
— Очень нравится.
— Генетическая память, — сухо произнес Вебстер. — Воспоминание о кузнице, в которой тебя выковали.
— Вы так думаете, сэр?
— Нет, Оскар, я пошутил. Просто мы с тобой оба анахронизмы. Теперь мало кто держит камины. Незачем. А ведь есть в них что — то, что — то чистое, умиротворяющее.
Он поднял глаза на картину над камином, озаряемую колышущимся пламенем. Оскар проследил его взгляд.
— Как жаль, сэр, что с мисс Сарой все так вышло, — сказал он.
Вебстер покачал головой.
— Нет, Оскар, она сама так захотела. Покончить с одной жизнью и начать другую. Будет лежать там, в Храме, и спать много лет, и будет у нее другая жизнь. Причем счастливая жизнь, Оскар. Потому что она ее сама задумала.
Его мысли обратились к давно минувшим дням в этой самой комнате.
— Это она писала эту картину, Оскар. Долго работала, все старалась поточнее передать то, что ее занимало. Иной раз смеялась и говорила мне, что я тоже здесь изобретен.
— Я не вижу вас, сэр, — сказал Оскар.
— Верно, меня там нет. А впрочем, может быть, и есть. Не весь, так частица. Частица моих корней. Этот дом на картине — усадьба Вебстеров в Северной Америке. А я тоже Вебстер, но как же я далек от этой усадьбы, как далек от людей, которые ее построили.
— Северная Америка не так уж далеко, сэр.
— Верно, Оскар. Недалеко, если говорить о расстоянии. В других отношениях далеко. Он почувствовал, как тепло камина, наполняя кабинет, коснулось его.
…Далеко. Слишком далеко — и не в той стороне.
Утопая ступнями в ковре, робот тихо вышел из комнаты.
Она долго работала, все старалась поточнее передать то, что ее занимало.
А что ее занимало? Он никогда не спрашивал, и она ему никогда не говорила. Помнится, ему всегда казалось, что, вероятно, речь идет о дыме — как ветер гонит его по небу; об усадьбе — как она приникла к земле, сливаясь с деревьями и травой, укрываясь от надвигающегося ненастья.
Но, может быть, что — нибудь другое? Какая — нибудь символика, какие — нибудь черты, роднящие дом с людьми, которые его строили.
Он встал, подошел ближе и остановился перед камином, запрокинув голову. Теперь он различал мазки, и картина смотрелась не так, как на расстоянии. Видно технику, основные мазки и оттенки — приемы, которыми кисть создает иллюзию.
Надежность. Она выражена в самом облике крепкого добротного строения. Стойкость. Она в том, как здание словно вросло в землю. Суровость, упорство, некоторая сумрачность…
Целыми днями она просиживала, настроив видеофон на усадьбу, прилежно делала эскизы, писала не спеша, часто сидела и просто смотрела, не прикасаясь к кистям. Видела собак, по ее словам, видела роботов, но их она не изобразила, ей нужен был только дом. Одно из немногих сохранившихся поместий. Другие, веками остававшиеся в небрежении, разрушились, вернули землю природе.
Но в этой усадьбе были собаки и роботы. Один большой робот, по ее словам, и множество маленьких.
Вебстер тогда не придал этому значения — был слишком занят.
Он повернулся, прошел обратно к столу.
Странно, если вдуматься. Роботы и собаки живут вместе. Один из Вебстеров когда — то занимался собаками, мечтал помочь им создать свою культуру, мечтал о двойной цивилизации человека и пса.
В мозгу мелькали обрывки воспоминаний. Смутные обрывки сохранившихся в веках преданий об усадьбе Вебстеров. Что — то о роботе по имени Дженкинс, который с первых дней служил семье Вебстеров. Что — то о старике, который сидел на лужайке перед домом в своей качалке, глядя на звезды и ожидая исчезнувшего сына. Что — то о довлеющем над домом проклятье, которое выразилось в том, что мир не получил учения Джуэйна.
Видеофон стоял в углу комнаты, словно забытый предмет обстановки, которым почти не пользуются. Да и зачем им пользоваться — весь мир сосредоточился здесь, в Женеве.
Вебстер встал, сделал несколько шагов, потом остановился. Номера — то в каталоге, а где каталог? Скорее всего в одном из ящиков стола.
Он вернулся к столу, начал рыться в ящиках. Охваченный возбуждением, он рылся нетерпеливо, словно терьер, ищущий кость.
Дженкинс, робот — патриарх, потер металлический подбородок пальцами. Он всегда так делал, когда задумывался, — бессмысленный жест, нелепая привычка, заимствованная у людей, с которыми он так долго общался.
Его взгляд снова обратился на черного песика, сидящего на полу рядом с ним.
— Так ты говоришь, волк вел себя дружелюбно? — сказал Дженкинс. — Предложил тебе кролика?
Эбинизер взволнованно заерзал.
— Это один из тех, которых мы кормили зимой. Из той стаи, которая приходила к дому, и мы пытались ее приручить.
— Ты смог бы его узнать?
Эбинизер кивнул.
— Я запомнил его запах. Я узнаю.
Сыщик переступил с ноги на ногу.
— Послушай, Дженкинс, задай ты ему взбучку! Ему положено было слушать тут, а он убежал в лес. Что это он вдруг вздумал гоняться за кроликами…
— Это ты заслужил взбучку, Сыщик, — строго перебил его Дженкинс. — За такие слова. Тебя придали Эбинизеру, ты его часть. Не воображай себя индивидом, ты всего — навсего руки Эбинизера. Будь у него свои руки, он обошелся бы без тебя. Ты ему не наставник и не совесть. Только руки, запомни.
Сыщик возмущенно зашаркал ногами.
— Я убегу, — сказал он.
— К диким роботам, надо думать.
Сыщик кивнул:
— Они меня с радостью примут. У них такие дела затеяны… Я им пригожусь.
— Пригодишься как металлолом, — язвительно произнес Дженкинс. — Ты же ничему не обучен, ничего не знаешь, где тебе с ними равняться.
Он повернулся к Эбинизеру.
— Подберем тебе другого.
Эбинизер покачал головой.
— По мне, и Сыщик хорош. Я с ним как — нибудь полажу. Мы друг друга знаем. Он не дает мне лениться, заставляет все время быть начеку.
— Вот и прекрасно, — заключил Дженкинс. — Тогда ступайте. И если тебе, Эбинизер, случится опять погнаться за кроликом и ты снова встретишь этого волка, попробуй с ним подружиться.
Сквозь окна в старинную комнату струились лучи заходящего солнца, они несли с собой тепло весеннего вечера.
Дженкинс спокойно сидел в кресле, слушая звуки снаружи. Там звякали коровьи колокольчики, тявкали щенки, гулко стучал колун.
Бедняжка, думал он, улизнул и погнался за кроликом, вместо того чтобы слушать. Слишком много, слишком быстро… Это надо учитывать. А то как бы не надорвались. Осенью устроим передышку на неделю — другую, поохотимся на енотов. Это пойдет им только на пользу.
А там, глядишь, настанет день, когда и вовсе прекратится охота на енотов, гонка за кроликами. День когда псы уже всех приручат, когда все дикие твари научатся мыслить, говорить, трудиться. Дерзкая мечта, и сбудется она не скоро, а впрочем, не более дерзкая, чем иные человеческие мечты.
Может быть, их мечта даже лучше, ведь в ней нет и намека на взращенную людьми черствость, нет тяги к машинному бездушию, творцом которого был человек.
Новая цивилизация, новая культура, новое мышление.
Возможно, с оттенком мистики и фантазерства, но разве человек не фантазировал? Мышление, стремящееся проникнуть в тайны, на которые человек не желал тратить время, считая их чистейшим суеверием, лишенным какой — либо научной основы.
Что стучит по ночам?.. Что бродит около дома, заставляя псов просыпаться и рычать, — и никаких следов на снегу? Отчего воют к покойнику?..
Псы знают ответ. Они знали его задолго до того, как получили речь, чтобы говорить, и контактные линзы, чтобы читать. Они не зашли в своем развитии так далеко, как люди, — не успели стать циничными скептиками. Они верили в то, что слышали, в то, что чуяли. Они не избрали суеверие как форму самообмана, как средство отгородиться от незримого.
Дженкинс снова повернулся к столу, взял ручку, наклонился над лежащим перед ним блокнотом. Перо скрипело под нажимом его руки.
«Эбинизер наблюдал дружелюбие у волка. Рекомендовать Совету, чтобы Эбинизера освободили от слушания и поручили ему наладить контакт с волком».
С волками полезно подружиться. Из них выйдут отменные разведчики. Лучше, чем собаки. Более выносливые, быстрые, ловкие. Можно поручить им вместо псов слежку за дикими роботами за рекой, поручить наблюдение за замками мутантов.
Дженкинс покачал головой.
Теперь никому нельзя доверять. Те же роботы… Вроде бы ничего плохого не делают. Держатся дружелюбно, заходят в гости и в помощи не отказывают. Соседи как соседи, ничего не скажешь. Да разве наперед угадаешь… И ведь они машины изготавливают.
Мутанты никому не докучают, они вообще почти не показываются. Но и за ними лучше присматривать. Кто знает, какая у них чертовщина на уме. Как они с человеком поступили, какой подлый трюк выкинули: подсунули джуэйнизм в такое время, когда он погубил род людской.
Люди… Они были для нас богами, а теперь ушли, бросили нас на произвол судьбы. Конечно, в Женеве еще есть сколько — то людей, но разве можно их беспокоить, им до нас дела нет.
Сидя в сумерках, он вспоминал, как приносил виски, как выполнял разные поручения, вспоминал дни, когда в этих стенах жили и умирали Вебстеры.
Теперь он выполняет роль духовного отца для псов. Славный народец, умные, смышленые. И стараются вовсю.
Негромкий звонок заставил Дженкинса подскочить в кресле. Снова звонок, одновременно на пульте видеофона замигала зеленая лампочка. Дженкинс встал и оцепенел, не веря своим глазам.
Кто — то звонит!
Кто — то звонит после почти тысячелетнего молчания!
Пошатываясь, он добрел до видеофона опустился в кресло, дотянулся дрожащими пальцами до тумблера и нажал его.
Стена перед ним растаяла, и он оказался лицом к лицу с человеком, сидящим за письменным столом. За спиной человека пылающий камин озарял комнату с цветными стеклами в стрельчатых окнах.
— Вы Дженкинс, — сказал человек, и в его лице было нечто такое, от чего у Дженкинса вырвался крик.
— Вы!.. Вы!..
— Я Джон Вебстер, — представился человек.
Дженкинс уперся ладонями в верхнюю кромку видеофона и замер, испуганный непривычными для робота эмоциями, которые бурлили в его металлической душе.
— Я вас где угодно узнал бы, — произнес он. — Та же внешность. Любого из вас узнал бы. Я вам столько прислуживал! Виски приносил и… и…
— Как же, как же, — сказал Вебстер. — Ваше имя передавалось от старших к младшим. Мы вас помнили.
— Вы ведь сейчас в Женеве, Джон? — Дженкинс спохватился: — Я хотел сказать — сэр…
— Зачем так торжественно? Джон, и все. Да, я в Женеве. Но мне хотелось бы с вами встретиться. Вы не против?
— Вы хотите сказать, что собираетесь приехать?
Вебстер кивнул.
— Но усадьба кишит псами, сэр.
Вебстер усмехнулся.
— Говорящими псами? Ну да, — подтвердил Дженкинс, — и они будут рады вас видеть. Они ведь все знают про ваш род. По вечерам на сон грядущий слушают рассказы про былые времена и… и…
— Ну, что еще, Дженкинс?
— Я тоже буду рад увидеть вас. А то все один да один!
Бог прибыл.
От одной мысли об этом притаившегося во мраке Эбинизера бросало в дрожь.
Если бы Дженкинс знал, что я здесь, думал он, шкуру с меня содрал бы. Дженкинс велел, чтобы мы хоть на время оставили в покое гостя.
Перебирая мягкими лапами, Эбинизер дополз до двери кабинета и понюхал. Дверь была открыта — чуть — чуть!..
Он прислушался, вжимаясь в пол, — ни звука. Только запах, незнакомый резкий запах, от которого по всему телу пробежала волна блаженства и шерсть на спине поднялась дыбом.
Он быстро оглянулся — никого. Дженкинс в столовой, наставляет псов, как им надлежит себя вести, а Сыщик ходит где — то по делам роботов.
Осторожно, тихонько Эбинизер подтолкнул носом дверь. Щель стала шире. Еще толчок, и дверь отворилась наполовину.
Человек сидел в мягком кресле перед камином, скрестив свои длинные ноги, сплетя пальцы на животе.
Эбинизер еще плотнее вжался в пол, из его глотки невольно вырвался слабый визг.
Джон Вебстер сел прямо.
— Кто там? — спросил он.
Эбинизер оцепенел, только сердце отчаянно колотилось.
— Кто там? — снова спросил Вебстер, заметил пса и произнес уже гораздо мягче: — Входи, дружище. Давай входи.
Эбинизер не двигался.
Вебстер щелкнул пальцами.
— Я тебя не обижу. Входи же. А где все остальные?
Эбинизер попытался встать, попытался ползти, но кости его обратились в каучук, кровь — в воду. А человек уже шагал через кабинет прямо к нему. Эбинизер увидел, как человек нагибается над ним, ощутил прикосновение сильных рук, потом вознесся в воздух. И запах, который он уловил из — за двери, — одуряющий запах бога — распирал его ноздри.
Руки прижали его к незнакомой материи, которая заменяла человеку мех, затем послышался ласковый голос. Эбинизер не разобрал сразу слов, только почувствовал — все в порядке.
— Пришел познакомиться, — говорил Джон Вебстер. — Улизнул, чтобы познакомиться со мной.
Эбинизер робко кивнул.
— Ты не сердишься? Не скажешь Дженкинсу?
Вебстер покачал головой.
— Нет, не скажу Дженкинсу.
Он сел, и Эбинизер уселся на его коленях, глядя на его лицо, волевое, изборожденное складками, которые казались еще глубже в неровном свете каминного пламени.
Рука Вебстера поднялась и стала гладить голову Эбинизера, и Эбинизер заскулил от восторга, переполнявшего его псиную душу.
— Все равно что вернуться на родину, — говорил Вебстер, обращаясь к кому — то другому. — Как будто ты надолго куда — то уезжал и наконец вернулся домой. Так долго дома не был, что ничего не узнаешь. Ни обстановку, ни расположение комнат. Но чувство родного дома владеет тобой, и ты рад, что вернулся.
— Мне здесь нравится, — сказал Эбинизер, подразумевая колени Вебстера, но человек понял его по — своему.
— Еще бы, — отозвался он — Для тебя это такой же родной дом, как для меня. Даже больше, ведь вы оставались здесь и следили за домом, а я о нем позабыл.
Он гладил голову Эбинизера, теребил его уши.
— Как тебя звать? — спросил он.
— Эбинизер.
— И чем же ты занимаешься, Эбинизер?
— Я слушаю.
— Слушаешь?
— Ну да, это моя работа. Ловить слухом гоблинов.
— И ты их в самом деле слышишь?
— Иногда. Я не очень хороший слухач. Начинаю думать про кроликов и отвлекаюсь.
— Какие же звуки издают гоблины?
— Когда какие. Когда ходят, когда просто тюкают. Иногда говорят. Только они чаще думают.
— Постой, Эбинизер, а где же находятся эти гоблины?
— А нигде, — ответил Эбинизер. — Во всяком случае, не на нашей Земле.
— Не понимаю.
— Это как большой дом. Большой дом, в котором много комнат. Между комнатами двери. Из одной комнаты тебе слышно, есть ли кто в других комнатах, но попасть к ним ты не можешь.
— Почему же не можешь? — возразил Вебстер. — Открыл дверь да вошел.
— Но ты не можешь открыть дверь. Ты даже не знаешь про нее. Тебе кажется, что твоя комната — одна во всем доме. И даже если бы ты знал про дверь, все равно не смог бы ее открыть.
— Ты говоришь про разные измерения.
Эбинизер озабоченно наморщил лоб.
— Я не знаю такого слова — измерения. Я объяснил тебе так, как Дженкинс нам объяснял. Он говорил, что на самом деле никакого дома нет, и комнат на самом деле нет, и те, кого мы слышим, наверно, совсем не такие, как мы.
Вебстер кивнул своим мыслям. Вот так и надо действовать. Не торопясь. Не обескураживать их трудными словами. Пусть сперва схватят суть, потом можно вводить более точную, научную терминологию. И скорее всего она окажется искусственной. Ведь уже есть название. Гоблины — то, что за стеной, то, что слышишь, а определить не можешь, жители соседней комнаты.
Гоблины. Берегись, не то тебя гоблин заберет.
Такой подход у человека. Он чего — то не может понять. Не может увидеть. Не может пощупать. Не может проверить. Все — значит, этого нет. Не существует. Значит, это призрак, вурдалак, гоблин.
Тебя гоблин заберет.
Так проще, удобнее. Страшно? Да, но при свете дня можно про них забыть. И ведь они тебя не преследуют, не донимают. Если очень постараться, можно внушить себе, что их нет. Назови их призраками, гоблинами, и можно даже посмеяться над ними. При свете дня.
Горячий шершавый язык лизнул подбородок Вебстера, и Эбинизер заерзал от восторга.
— Ты мне нравишься, — сказал он. — Дженкинс никогда меня так не держал. Никто так не держал.
— У Дженкинса много дел, — ответил Вебстер.
— Конечно, — подтвердил Эбинизер. — Он сидит и все записывает в книгу. Что мы услышали, псы, и что нам нужно сделать.
— Ты что — нибудь знаешь про Вебстеров? — спросил человек.
— Конечно. Мы про них все знаем. Ты тоже Вебстер. Мы думали, их уже не осталось.
— Остались. И один все время здесь был. Дженкинс тоже Вебстер.
— Он нам никогда об этом не говорил.
— Еще бы.
Дрова прогорели, и в комнате стало совсем темно. Язычки пламени, фыркая, озаряли стены и пол слабыми сполохами.
И было что — то еще. Тихий шорох, тихий шепот, собравший в себя нескончаемые воспоминания и долгий ток жизни — две тысячи лет. Дом, который строился на века и простоял века, который должен был стать родным очагом и до сих пор остается родным. Надежный приют, который обнимает тебя теплыми руками и ревниво прижимает к сердцу.
В мозгу отдались шаги — шаги из далекого прошлого, шаги, отзвучавшие навсегда много столетий назад. Поступь Вебстеров. Тех, которые ему предшествовали, тех, которым Дженкинс прислуживал со дня их рождения до смертного часа. История. Его окружала история. Она шелестела гардинами, стлалась по половицам, хоронилась в углах, глядела со стен. Живая история, которую чувствуешь нутром, воспринимаешь кожей, — пристальный взгляд давно угасших глаз, вернувшихся из ночи.
Что, еще один Вебстер? Дрянцо. Пустышка. Выдохлась порода. Разве мы такими были? Последыш.
Джон Вебстер поежился.
— Нет, не последыш, — возразил он. — У меня есть сын.
Ну и что из того? Сын, говорит. А много ли он стоит, этот сын…
Вебстер вскочил с кресла, уронив Эбинизера на пол.
— Неправда! — закричал он. — Мой сын…
И снова опустился в кресло.
Его сын — в лесу, играет луком и стрелами, забавляется.
«Хобби», — сказала Сара, прежде чем подняться в Храм, чтобы сто лет смотреть сны.
Хобби. А не деятельность. Не профессия. Не насущная необходимость.
Развлечение.
Ненастоящее занятие. Ни то ни се. В любую минуту брось, никто даже и не заметит.
Вроде изобретения разных напитков.
Вроде писания никому не нужных картин.
Вроде переделки комнат с помощью отряда шальных роботов.
Вроде составления истории, которая никого не интересует.
Вроде игры в индейцев, или пионеров, или дикарей с луком и стрелами.
Вроде сочинения длящихся веками снов для людей, которые пресытились жизнью и жаждут вымысла.
Человек сидел в кресле, уставившись в простертую перед ним пустоту, ужасающую, жуткую пустоту, поглотившую и завтра, и все дни.
Он рассеянно переплел пальцы, и большой палец правой руки потер левую.
Эбинизер подобрался к человеку через озаряемый тусклыми сполохами мрак, оперся передними лапами о его колени и заглянул ему в лицо.
— Повредил руку? — спросил он.
— Что?
— Повредил руку? Ты ее трешь.
Вебстер усмехнулся.
— Да нет, просто бородавки. — Он показал их псу.
— Надо же, бородавки! — сказал Эбинизер. — Разве они тебе нужны?
— Нет. — Вебстер помялся. — Пожалуй, не нужны. Все никак не соберусь пойти, чтобы мне их свели.
Эбинизер опустил морду и поводил носом по руке Вебстера.
— Вот так, — торжествующе произнес он.
— Что — вот так?
— Погляди на бородавки.
Вспыхнула обвалившаяся головешка, Вебстер поднял руку к глазам и присмотрелся.
Нет бородавок. Гладкая, чистая кожа.
Дженкинс стоял во мраке, слушая тишину, податливую сонную тишину, которая уступала дом теням, полузабытым шагам, давно произнесенным фразам, бормотанию стен и шелесту гардин.
Стоило пожелать, и ночь превратилась бы в день, линзы переключить очень просто, но старик робот не стал изменять зрение. Ему нравилось размышлять в темноте, он дорожил этими часами, когда спадала пелена настоящего и возвращалось, оживая, прошлое.
Остальные спали, но Дженкинс не спал. Ведь роботы никогда не спят. Две тысячи лет бдения, двадцать веков непрерывной деятельности, и сознание не отключалось ни на миг.
Большой срок, думал Дженкинс. Большой даже для робота. Ведь еще до того, как люди перебрались на Юпитер, почти всех старых роботов деактивировали, умертвили, отдали предпочтение новым моделям. Новые модели больше походили на человека, мягче двигались, лучше говорили, быстрее соображали своим металлическим мозгом…
Но Дженкинс остался, потому что он был старым верным слугой, потому что без него усадьба Вебстеров не была бы родным очагом.
— Они меня любили, — сказал себе Дженкинс.
В этих трех словах он черпал утешение в мире, скупом на утешение, в мире, где слуга стал предводителем и остро желал снова стать слугой.
Стоя у окна, он смотрел через двор на ковыляющие вниз по склону черные глыбы дубов. Сплошной мрак. Ни одного огонька. А ведь когда — то были огни. В заречном краю приветливо лучились окна.
Но человек исчез, и огни пропали. Роботам огни не нужны, они видят в темноте, как и Дженкинс может видеть, если захочет. А замки мутантов, что днем, что ночью, одинаково сумрачные, одинаково зловещие.
Теперь человек появился опять — один человек. Появился, да только вряд ли останется. Переночует несколько ночей в господской спальне на втором этаже, потом вернется в Женеву. Обойдет старое, забытое поместье, поглядит на заречные дали, полистает книги на полках в кабинете — и в путь.
Дженкинс повернулся.
Проверить, как он там, подумал он. Спросить, не нужно что — нибудь. Может, виски принести? Боюсь только, что виски теперь уже никуда не годиться. Тысяча лет — большой срок даже для бутылки доброго виски…
Идя через комнату, он ощутил благодатный покой, глубокую умиротворенность, какой не испытывал с тех давних пор, когда, счастливый, как терьер, носился по дому, выполняя всевозможные поручения.
Подходя к лестнице, он напевал про себя что — то ласковое.
Он только заглянет и, если Джон Вебстер уснул, уйдет, а если не уснул, спросит: «Вам удобно, сэр? Может быть, чего — нибудь пожелаете? Может, горячего пунша?»
Он шагал через две ступеньки.
Ведь он снова прислуживал Вебстеру.
Джон Вебстер полусидел в постели, обложившись подушками. Кровать была жесткая и неудобная, комната — тесная и душная, не то что его спальня в Женеве, где лежишь на травке у журчащего ручья и глядишь на мерцание искусственных звезд в искусственном небе. И вдыхаешь искусственный запах искусственной сирени, цветы которой долговечнее человека. Ни тебе бормотания незримого водопада, ни мигающих в заточении светлячков. А тут… Просто — напросто кровать и спальня.
Вебстер вытянул руки поверх одеяла и согнул пальцы, размышляя.
Эбинизер только коснулся бородавок, и бородавки пропали. И это не было случайностью, он все проделал намеренно. Это было не чудо, а сознательный акт. Чудеса не всегда удаются, а Эбинизер был уверен в успехе.
Быть может, тут способность, добытая в соседней комнате, похищенная у гоблинов, которых слушает Эбинизер.
Способность исцелять без лекарств, без хирургии, нужно только некое знание, особое знание.
Были же в древние непросвещенные века люди, уверявшие, будто могут сводить бородавки. Они «покупали» их за монетку, «выменивали» за какую — нибудь вещь, заговаривали — и случалось, бородавки постепенно сами пропадали.
Может быть, эти необычные люди тоже слушали гоблинов?
Чуть слышно скрипнула дверь, и Вебстер сел прямо.
Из темноты прозвучал голос:
— Вам удобно, сэр? Может быть, чего — нибудь пожелаете?
— Дженкинс?
— Он самый, сэр.
Темный силуэт крадучись вошел в спальню.
— Пожелаю, — сказал Вебстер. — Мне хочется поговорить с тобой.
Он пристально посмотрел на металлическое существо, стоящее возле кровати.
— Насчет собак, — добавил он.
— Они стараются изо всех сил, — сказал Дженкинс. — Нелегко им приходится. Ведь у них никого нет. Ни души.
— У них есть ты.
Дженкинс покачал головой.
— Но ведь этого мало. Я же только… ну, только наставник, и все. А им люди нужны. Потребность в людях у них в крови. Тысячи лет человек и пес были рядом. Человек и пес вместе охотятся. Человек и пес вместе пасут стада. Человек и пес вместе сражаются с врагами. Пес караулит, пока человек спит, человек отдает псу последний кусок. Сам голодный, а пса накормит.
Вебстер кивнул.
— Что ж, пожалуй, ты и прав.
— Они каждый вечер перед сном говорят о людях, — продолжал Дженкинс. — Садятся в кружок, и кто — нибудь из стариков рассказывает какое — нибудь старинное предание, а все остальные сидят и дивятся, сидят и мечтают.
— Но какая у них цель? Чего они хотят добиться? Как представляют себе будущее?
— Какие — то черты намечаются, — ответил Дженкинс. — Смутно, правда, но все — таки видно. Понимаете, они ведь медиумы. От роду медиумы. Никакого расположения к механике. Вполне естественно, у них же нет рук. Где человека выручал металл, псов выручают призраки.
— Призраки?
— То, что вы, люди, называете призраками. На самом деле это не призраки. Я в этом убежден. Это жители соседней комнаты. Какая — то иная форма жизни на другом уровне.
— Ты допускаешь, что на Земле одновременно существует жизнь на разных уровнях?
Дженкинс кивнул.
— Я начинаю в это верить, сэр. У меня целый блокнот исписан тем, что видели и слышали псы, и вот теперь многолетние наблюдения складываются в какой — то узор.
Он поспешно добавил:
— Возможно, я ошибаюсь, сэр. Ведь у меня нет никакого опыта. В старые времена я был всего лишь слугой, сэр. После… после Юпитера я попытался что — то наладить, но это было не так — то просто. Один робот помог мне смастерить нескольких маленьких роботов для псов, а теперь маленькие сами мастерят себе подобных, когда нужно.
— Но ведь псы только сидят и слушают.
— Что вы, сэр! Они много чего еще делают. Стараются подружиться с животными, следят за дикими роботами и мутантами.
— А много их, этих диких роботов?
Дженкинс кивнул.
— Много, сэр. По всему свету разбросаны в небольших лагерях. Это те, которых бросили хозяева, сэр. Которые больше не нужны были человеку, когда он отправился на Юпитер. Объединились в группы и работают…
— Работают? Над чем же?
— Не знаю, сэр. Чаще всего машины изготовляют. Помешались на механике. Хотел бы я знать, что они будут делать со всеми этими машинами. Для чего они им нужны.
— Да, хотелось бы знать, — сказал Вебстер.
Устремив взгляд в темноту, он дивился — дивился, до какой же степени люди, запершись в Женеве, потеряли всякую связь с остальным миром. Ничего не знают о том, чем заняты псы, не знают о лагерях деловитых роботов, о замках страшных и ненавистных мутантов.
Мы потеряли связь, говорил он себе. Мы отгородились от внешнего мира. Устроили закуток и забились в него — в последний город на свете. И ничего не знали о том, что происходит за пределами города. Могли знать, должны были знать, но нас это не занимало.
Пора бы и нам что — то предпринять.
Мы растерялись, мы были подавлены, но первое время еще пытались что — то сделать, а потом окончательно пали духом. Те немногие, которые остались, впервые осознали величие рода человеческого, впервые рассмотрели грандиозный механизм, созданный рукой человека. И они пытались держать его в исправности и не смогли. И они искали рационалистических объяснений — человек почти всегда ищет рационалистических объяснений. Внушает себе, что на самом деле никаких призраков нет, называет то, что стучит в ночи, первым пришедшим в голову обтекаемым словом.
Мы не смогли держать механизмы в исправности и занялись рационалистическими объяснениями, хоронились за словесным занавесом, и джуэйнизм помог нам в этом. Мы подошли вплотную к культу предков. Мы принялись возвеличивать род людской. Не могли продолжать деяния человека, тогда мы попытались его возвеличить, попытались поднять на пьедестал тех, кому задача была по плечу. Мы ведь все хорошее пытаемся возвеличить, возвести на пьедестал посмертно.
Мы превратились в племя историков, копались грязными пальцами в руинах рода человеческого и прижимали каждый случайный фактик к груди, словно бесценное сокровище. Это была первая стадия, хобби, которое поддерживало нас, пока мы не осознали, чт мы есть на самом деле: муть на опрокинутой чаши человечества.
Но мы пережили это. Разумеется, пережили. Достаточно было смениться одному поколению. Человек легко приспосабливается, он все, что угодно, переживет. Ну не сумели построить звездные корабли; ну не долетели до звезд; ну не разгадали тайну жизни — ну и что?
Мы оказались наследниками, все досталось нам, мы были обеспечены лучше, чем кто — либо до нас и после нас. И мы опять предались рационалистическим объяснениям, а величие рода выбросили из головы: хоть и лестная штука, но, с другой стороны, несколько обременительная даже унизительная.
— Дженкинс, — трезво сказал Вебстер, — мы разбазарили целых десять столетий.
— Не разбазарили, сэр, — возразил Дженкинс. — Просто передохнули, что ли. А теперь, может быть, опять займете свое место… Вернетесь к нам.
— Мы вам нужны?
— Вы нужны псам, — сказал Дженкинс. — И роботам тоже. Ведь и те, и другие всегда были только слугами человека. Без вас они пропадут. Псы строят свою цивилизацию, но дело подвигается медленно.
— Быть может, их цивилизация окажется лучше нашей, — заметил Вебстер. — Может, больше преуспеет. Наша ведь не преуспела, Дженкинс.
— Возможно, она будет подобрее, — согласился Дженкинс, — зато не особенно предприимчивая. Цивилизация, основанная на братстве животных, на сверхчувственном восприятии, может быть, в конечном счете и дойдет до общения и обмена с сопряженными мирами. Цивилизация большой и чуткой души, но не очень конструктивная. Никаких конкретных задач, и лишь самая необходимая техника. Просто поиски истины, притом в направлении, которым человек совершенно пренебрег.
— И ты считаешь, что человек тут мог бы помочь?
— Человек мог бы направлять.
— Направлять так, как надо?
— Мне трудно ответить.
Лежа в темноте, Вебстер вытер об одеяло вспотевшие ладони.
— Ты мне правду скажи, — угрюмо произнес он. — Вот ты говоришь, что человек мог бы направлять. А если он снова начнет верховодить? Отвергнет как непрактичное то, чем занимаются псы. Выловит всех роботов и направит их технические способности по старому, заезженному руслу. Ведь и псы, и роботы подчинятся человеку.
— Конечно, — согласился Дженкинс. — Однажды они ведь уже были слугами. Но человек мудр, человек лучше знает.
— Спасибо, Дженкинс, — сказал Вебстер. — Большое спасибо.
И, устремив глаза в темноту, он прочел там правду.
Его следы по — прежнему были запечатлены на полу, и воздух был пряный от запаха пыли. Радиевая лампочка рдела над пультом, и рубильник, шкалы и маховичок ждали — ждали того дня, когда они понадобятся.
Стоя на пороге, Вебстер вдыхал смягчающий пыльную горечь запах влажных стен.
Оборона, думал он, глядя на рубильник. Оборона — мера против вторжения, средство защитить то или иное место от всех действительных и воображаемых видов оружия, которые может пустить в ход предполагаемый враг.
Но защита, не пропускающая врага внутрь, очевидно, не пропустит обороняющегося наружу. Конечно, поручиться нельзя, но все — таки…
Он пересек помещение, и остановился перед рубильником, и протянул руку, и сжал рукоятку, стронул ее с места, и понял, что механизм действует.
Тут рука его быстро метнулась вперед, и контакт замкнулся. Откуда — то снизу, глубоко — глубоко, донеслось глухое жужжание — заработали какие — то машины. На шкалах стрелки вздрогнули и оторвались от штифта.
Пальцы Вебстера нерешительно коснулись маховичка, повернули его, и стрелки, вздрогнув опять, поползли дальше. Вебстер решительно, быстро продолжал крутить маховичок, и стрелки ударились в противоположный штифт.
Вебстер круто повернулся, вышел из подземелья, закрыл за собой дверь, зашагал вверх по крошащимся ступенькам.
Только бы он работал, думал он. Только бы работал.
Ноги быстрее пошли по ступеням, в висках стучала кровь.
Только бы он работал!
Когда включился рубильник, глубоко — глубоко внизу сразу же загудели машины… Значит, оборонительный механизм — во всяком случае часть его — еще работает.
Но даже если так, сделает ли он то, что надо? Что, если защита не пропускает врагов внутрь, а человека наружу пропустит?
Что, если…
Выйдя на улицу, он увидел, что небо изменилось. Свинцово — серая пелена скрыла солнце, и город погрузился в потемки, лишь наполовину разбавленные светом автоматических уличных фонарей. Слабый ветерок погладил щеку Вебстера.
Серый, сморщенный пепел сожженных заметок и плана, который он нашел, по — прежнему лежал в очаге, и Вебстер, быстро подойдя к камину, схватил кочергу и яростно мешал ею пепел до тех пор, пока не уничтожил все следы.
Все, сказал он себе. Последний ключ уничтожен. Без плана, не зная про город того, что выведал он за двадцать лет, никто и никогда не найдет тайник с рубильником, и маховичком, и шкалами под одинокой лампочкой.
Никто не поймет толком, что произошло. Даже если станут догадываться, все равно удостовериться не смогут. Даже если удостоверятся, все равно ничего не смогут изменить.
Тысячу лет назад было бы иначе. В те времена человек, только дай зацепку, решил бы любую задачу.
Но человек изменился. Нет прежних знаний, нет прежней сноровки. Ум стал дряблым. Человек живет лишь сегодняшним днем, без каких — либо лучезарных целей. Зато остались старые пороки — пороки, которые он полагал достоинствами, считая, что они поставили его на ноги.
Осталась незыблемая уверенность, что только его жизнь, только его племя чего — то стоит, — самодовольный эгоизм, сделавший человека властелином мироздания.
С улицы донесся звук бегущих ног, и Вебстер, отвернувшись от камина, посмотрел на темные стрельчатые окна.
Зашевелились… Забегали. Волнуются. Ломают голову, что произошло. Сотни лет их не тянуло за город, а теперь, когда путь закрыт, с пеной у рта рвутся.
Улыбка растянула его губы.
Глядишь, до того взбодрятся, что придумают какой — нибудь выход. Крысы в крысоловке способны на самые неожиданные хитрости, если только раньше не сойдут с ума.
И если люди выберутся на волю — что ж, значит, у них есть на это право. Если выберутся на волю, значит, заслужили право верховодить.
Он пересек комнату, в дверях на минуту остановился, глядя на картину над очагом. Неловко поднял руку и отдал честь — мученический прощальный жест… Потом вышел из дома и зашагал по улице вверх — туда же, куда всего несколько дней назад ушла Сара.
Храмовые роботы держались учтиво и приветливо, ступали мягко и величественно. Они проводили его туда, где лежала Сара, и показали соседний отсек, который она попросила оставить для него.
— Может быть, вам угодно выбрать себе сон? — сказал старший. — Мы можем показать различные образцы. Можем составить смесь по вашему вкусу. Можем…
— Благодарю, — ответил Вебстер. — Я не хочу снов.
Робот кивнул.
— Понятно, сэр. Вы хотите просто переждать, провести время.
— Да, — подтвердил Вебстер. — Пожалуй, что так.
— И сколько же?
— Сколько?..
— Ну да. Сколько вы хотите ждать?
— А, понятно… Предположим, бесконечно.
— Бесконечно?!
— Вот именно, бесконечно, — подтвердил Вебстер. — Я мог бы сказать — вечно, но какая, в сущности, разница. Нет смысла финтить из — за двух слов, которые означают примерно одно и то же.
— Так точно, сэр, — сказал робот.
Нет смысла финтить. Разумеется, нет. Он не может рисковать. Скажешь — тысячу лет, а когда они пройдут, вдруг передумаешь, спустишься в тайник и выключишь рубильник.
А этого случиться не должно. Пусть псы используют возможность. Пусть без помех попробуют добиться успеха там, где род людской потерпел крушение. Пока сохраняется человеческий фактор, у них такой возможности не будет. Потому что человек непременно захочет верховодить, непременно влезет и все испортит, высмеет гоблинов, которые разговаривают за стеной, выступит против приручения и цивилизации диких тварей.
Новая модель… Новый образ жизни и мыслей… Новый подход к извечной проблеме общества… Нельзя допустить, чтобы все это было искажено чуждым духом человеческого мышления.
Вечерами, закончив свои дела, псы будут сидеть и говорить о человеке. Мешая быль и небылицы, будут рассказывать древние предания, и человек превратится в бога.
Лучше уж так. Ведь боги непогрешимы.
Комментарий к седьмому преданию
Несколько лет назад были обнаружены фрагменты древнего литературного произведения. Судя по всему, сочинение было объемистое, и, хотя до нас дошла только малая часть, содержание позволяет предположить, что это был сборник басен, повествующих о различных членах братства животных.
Басни архаичны, содержащиеся в них мысли и стиль изложения сегодня звучат для нас странно. Ряд исследователей, изучавших эти фрагменты, согласны с Резоном в том, что они скорее всего сочинены не Псами. Заглавие упомянутых фрагментов — «Эзоп». Следующее, седьмое предание тоже озаглавлено «Эзоп» — это исконное заглавие, дошедшее до нас из седой древности вместе с самим преданием.
Что это значит? — спрашивают себя исследователи. Резон, естественно, видит здесь еще один довод в пользу своей гипотезы, что авторство всего цикла принадлежит Человеку. Большинство остальных исследователей цикла не согласны с ним, однако до сих пор не выдвинуто взамен никаких других объяснений. Резон указывает также на седьмое предание как на свидетельство того, что Человека намеренно предали забвению, память о нем стерли, чтобы обеспечить развитие Псовой цивилизации в наиболее чистом виде, — этим-де объясняется полное отсутствие исторических свидетельств существования Человека. В этом предании Человек окончательно забыт Псами. Немногочисленных представителей рода людского, которые живут вместе с ними, Псы не воспринимают как людей, называя эти странные создания Вебстерами по фамилии древнего рода. Однако слово «Вебстер» из собственного существительного стало нарицательным.
Люди стали для Псов вебстерами, только для Дженкинса они по-прежнему остаются Вебстерами.
— Что такое люди? — спрашивает Лупус, и Мишка оказывается не в состоянии ответить на этот вопрос. Дженкинс говорит в этом предании, что Псам незачем знать о Человеке. В главной части повествования он перечисляет нам меры, которые принял, чтобы стереть память о Человеке. Старые родовые предания забыты, говорит Дженкинс. Резон толкует это как сознательный заговор молчания, призванный оградить достоинства Псов, и, пожалуй, не такой уж альтруистический заговор, как старается изобразить Дженкинс. Предания забыты, говорит Дженкинс, и не надо их извлекать из забвения. Однако же мы видим, что они не были забыты. Где-то, в каком-то отдаленном уголке земного шара их по-прежнему рассказывали, потому-то они и сохранились до наших дней. Но если предания сохранялись, то сам Человек исчез или почти исчез. Дикие роботы продолжали существовать — если только они не были плодом воображения, — однако ныне и они тоже исчезли. Исчезли Мутанты, а они с Человеком из одного племени. Если существовал Человек, вероятно, существовали и Мутанты.
Всю развернувшуюся вокруг цикла полемику можно свести к одному вопросу: существовал ли Человек на самом деле? Если читатель, знакомясь с преданиями, станет в тупик, он окажется в превосходной компании: ученые и специалисты, всю жизнь посвятившие исследованию цикла, пусть даже у них больше информации, пребывают в таком же тупике.
VII. Эзоп
Серая тень скользила вдоль скальной полки к логову, поскуливая от досады и разочарования, потому что заклинание не подействовало.
Косые лучи вечернего солнца высвечивали лицо, голову, туловище — расплывчатые, смутные, подобно утренней мгле над ущельем.
Внезапно полка оборвалась, и тень растерянно присела, прижимаясь к стенке: логова не было! На месте логова — обрыв!
Тень стремительно повернулась, окинула взглядом долину. И река совсем не та. Ближе к утесам течет, чем прежде текла. И на скале появилось ласточкино гнездо там, где раньше никакого ласточкиного гнезда не было.
Тень замерла, и ветвистые щупальца на ее ушах развернулись, исследуя воздух.
Жизнь! В воздухе над пустынными распадками среди череды холмов реял едва уловимый запах жизни.
Тень зашевелилась, встала, поплыла вдоль полки.
Логова нет, и река другая, и к скале прилепилось ласточкино гнездо.
Тень затрепетала от вожделения. Заклинание подействовало, не подвело. Она проникала в другой мир.
Другой — и не только с виду. Мир, до того насыщенный живностью, что сам воздух ею пахнет. И может быть, эта живность не умеет так уж быстро бегать и так уж ловко прятаться.
Волк и медведь встретились под большим дубом и остановились поболтать.
— Говорят, убийства происходят, — сказал Лупус.
— Непонятные убийства, брат, — пробурчал Мишка. — Убьют и не съедают.
— Символические убийства, — предположил волк.
Мишка покачал головой.
— Вот уж никогда не поверю, что могут быть символические убийства. Эта новая психология, которую псы нам преподают, совсем тебе голову заморочила. Убийства могут происходить либо из ненависти, либо от голода. Стану я убивать то, чего не могу съесть.
Он поспешил внести ясность:
— Да я вообще не занимаюсь убийством, брат. Ты ведь это знаешь.
— Конечно, — подтвердил волк.
Мишка лениво зажмурил свои маленькие глазки, потом открыл их и подмигнул.
— Нет, вообще — то случается иногда перевернуть камень и слизнуть муравьишку — другого.
— Не думаю, чтобы псы посчитали это убийством, — серьезно заметил Лупус. — Одно дело — зверь или птица, другое дело — насекомое. Никто нам не говорил, что нельзя убивать насекомых.
— А вот и неверно, — возразил Мишка. — В канонах на этот счет ясно сказано: «Не губи жизнь. Не лишай другого жизни».
— Вообще — то, кажется, ты прав, брат, — ханжески произнес волк. — Кажется, там так и сказано. Но ведь и сами псы не больно — то церемонятся с насекомыми. Слышал небось, они все стараются придумать блохомор посильнее. А что такое блохомор, спрашивается? Средство морить блох. Убивать их, понял? А ведь блохи — живность, блохи — живые твари.
Мишка яростно взмахнул передней лапой, отгоняя зеленую мушку, которая жужжала у него над носом.
— Пойду на пункт кормления, — сказал волк. — Ты не идешь со мной?
— Я еще не хочу есть, — ответил медведь. — И вообще сейчас рано. До обеда еще далеко.
Лупус облизнулся.
— А я иногда зайду туда как бы невзначай, и дежурный вебстер обязательно что — нибудь найдет для меня.
— Смотри, — предостерег его Мишка. — Просто так он тебя не станет подкармливать. Не иначе что — нибудь замыслил. Не верю я этим вебстерам.
— Этому верить можно, — возразил волк. — Он дежурит на пункте кормления, а ведь совсем не обязан. Любой робот справится с этим делом, а он попросил ему поручить. Мол, надоело торчать в этих душных домах, где, кроме игр, никаких занятий. Зайдешь к нему — смеется, разговаривает, все равно как мы. Славный парень, этот Питер.
— А я вот слышал от одного пса, — пророкотал медведь, — будто Дженкинс говорил, что на самом деле их вовсе не вебстерами зовут. Мол, никакие они не вебстеры, а люди…
— А что такое люди? — спросил Лупус.
— Ведь я же тебе толкую: это Дженкинс так говорит…
— Дженкинс, — объявил Лупус, — до того старый стал, что у него ум за разум заходит. Столько надо всего в голове держать! Ему небось уже тысяча лет с лишком.
— Семь тысяч, — отозвался медведь. — Псы задумали ему на день рождения большой праздник устроить. Готовят в подарок новое туловище. Старое уже совсем износилось, чуть не каждый месяц в починке.
Он глубокомысленно покачал головой.
— Что ни говори, Лупус, а все — таки псы для нас немало сделали. Взять хотя бы пункты кормления… А медицинские роботы, а всякие прочие вещи. Да вот в прошлом году у меня зуб зверски разболелся…
— Ну, кормить — то можно было бы получше, — перебил его волк. — Они все твердят, дескать, дрожжи — все равно что мясо, такие же питательные и так далее. Но разве вкус с мясом сравнишь…
— А ты — то откуда знаешь? — спросил Мишка.
Волк замялся только на секунду.
— То есть… как откуда? Мне дед говорил. Такой разбойник был — нет — нет да закусит олениной. Он и рассказал мне, какой вкус у сырого мясца. Правда, тогда не было столько охранников, сколько их теперь развелось.
Мишка зажмурился, потом снова открыл глаза.
— Кто бы мне рассказал, какой вкус у рыбки… В Сосновом ручье форель водится. Я уже приметил. Проще простого: сунул лапу в ручей да выловил штучку — другую.
Он поспешно добавил:
— Конечно, я себе не позволю.
— Ну, конечно, — подхватил волк.
Один мир, а за ним другой, цепочка миров. Один наступает на пятки другому, шагающему впереди. Завтрашний день одного мира — сегодняшний день другого. Вчера — это завтра, и завтра — это тоже прошлое.
С той небольшой поправкой, что прошлого нет. Нет, если не считать воспоминаний, которые порхают на ночных крыльях в тени сознания. Нет прошлого, в которое можно проникнуть. Никаких фресок на стене времени. Никакой киноленты, которую прокрутил назад и увидел былое.
Джошуа встал, встряхнулся, снова сел и почесался задней лапой. Икебод сидел как вкопанный, постукивая металлическими пальцами по столу.
— Все верно, — сказал робот. — Мы тут бессильны. Все сходится. Мы не можем отправиться в прошлое.
— Не можем, — подтвердил Джошуа.
— Зато мы знаем, где находятся гоблины, — продолжал Икебод.
— Да, мы знаем, где находятся гоблины, — сказал Джошуа. — И может быть, сумеем к ним проникнуть. Теперь мы знаем путь.
Один путь открыт, а другой закрыт. Нет, не закрыт, конечно, ведь его и не было. Потому что прошлого нет, прошлого никогда не было, ему негде быть. На месте прошлого оказался другой мир.
Словно два пса, которые идут след в след. Один вышел, другой вошел. Словно длинный, бесконечный ряд шариковых подшипников, которые катятся по желобу, почти соприкасаясь, почти, но не совсем. Словно звенья бесконечной цепи на вращающейся шестеренке с миллиардами зубцов.
— Опаздываем, — сказал Икебод, глянув на часы. — Нам надо еще приготовиться, чтобы пойти на день рождения Дженкинса.
Джошуа опять встряхнулся.
— Да, не мешает. Сегодня у Дженкинса такой день! Ты только подумай, Икебод, семь тысяч лет!
— Я уже готов, — гордо сообщил Икебод. — Еще утром отполировал себя, а тебе надо бы причесаться. Вон какой лохматый.
— Семь тысяч лет, — повторил Джошуа. — Не хотел бы я столько жить.
Семь тысяч лет — семь тысяч миров, ступающих след в след. Да нет, куда больше. Каждый день — мир. Семь тысяч на триста шестьдесят пять. А может быть, каждый час или каждая минута — мир. Или даже что ни секунда, то мир. Секунда — вещь плотная, достаточно плотная, чтобы разделить два мира, достаточно емкая, чтобы вместить два мира. Семь тысяч на триста шестьдесят пять, на двадцать четыре, на шестьдесят раз шестьдесят…
Вещь плотная и окончательная. Ибо прошлого нет. Назад пути нет. Нельзя вернуться и проверить рассказы Дженкинса: то ли это правда, то ли покоробившиеся за семь тысяч лет воспоминания. Нельзя вернуться и проверить туманные предания, повествующие о какой — то усадьбе, каком — то роде вебстеров, каком — то непроницаемом куполе небытия в горах далеко за морями.
Икебод подошел со щеткой и гребешком, и Джошуа отскочил в сторону.
— Не дури, — сказал Икебод. — Я не сделаю тебе больно.
— В прошлый раз чуть всю шкуру с меня не содрал, — пожаловался Джошуа. — Поосторожней там, где шерсть запуталась.
Волк пришел, надеясь подкрепиться, но ему ничего не предложили, а просить учтивость не позволяла, и теперь он сидел, аккуратно обвив лапы косматым хвостом, и смотрел, как Питер скоблит ножом прут.
Белка Поня прыгнула с развесистого дерева прямо на плечо Питера.
— Что это у тебя? — опросила она.
— Метательная палка, — ответил Питер.
— Метать любую палку можно, — заметил волк. — Зачем тебе такая отделка? Бери какую попало и бросай.
— Это совсем новая штука, — объяснил Питер. — Я придумал и сделал. Только еще не знаю, что это такое.
— У нее нет названия? — спросила Поня.
— Пока нет, — сказал Питер. — Надо будет придумать.
— Но ведь любую палку можно бросить, — твердил волк. — Какую захотелось, ту и бросил.
— Не так далеко, — ответил Питер. — И не так сильно.
Он покрутил прут между пальцами — гладкий, круглый, потом поднес к глазу, проверяя, не криво ли получилось.
— Я его не рукой метаю, — объяснил он, — а другой палкой и веревкой.
Он взял вторую палку, прислоненную к дереву.
— А мне вот еще что непонятно. — сказала Поня. — Зачем тебе вообще понадобилось метать палки?
— Сам не знаю, — ответил Питер. — Интересно, вот и бросаю.
— Вы, вебстеры, странные твари, — строго произнес волк. — Иногда мне кажется, что вы не в своем уме.
— Можно в любую цель попасть. — сказал Питер. — Только надо, чтобы метательная палка была прямая и веревка хорошая. Первая попавшаяся деревяшка тут не годится. Пока подберешь…
— Покажи мне, — попросила Поня.
— Гляди. — Питер поднял повыше ореховое древко. — Видишь, крепкая, упругая. Согни ее — тут же опять выпрямляется. Я связываю оба конца веревкой, кладу вот так метательную палку, упираю ее одним концом в веревку и оттягиваю…
— Вот ты говоришь, можно в любую цель попасть, — сказал волк. — Попробуй попади.
— А во что? Выбирайте, а я…
Поня взволнованно показала:
— Вон, вон на дереве малиновка сидит.
Питер быстро прицелился, оттянул веревку, и древко изогнулось дугой. Метательная палка просвистела над поляной. Малиновка закувыркалась в воздухе, роняя перышки. Она упала на землю с глухим, мягким стуком и застыла, маленькая, жалкая, согнутые коготки смотрят вверх… Кровь из клювика окрасила листья под головой.
Белка оцепенела на плече у Питера, волк вскочил на ноги.
Тишина, притихла листва, беззвучно плывут облака в голубом полуденном небе…
— Ты ее убил! — закричала вдруг Поня, захлебываясь ужасом. — Она мертвая! Ты ее убил!
— Я не знал, — промямлил ошеломленный Питер. — Я еще никогда не целился ни во что живое. Только в метки бросал…
— Все равно, ты убил малиновку. А убивать запрещается.
— Знаю, — сказал Питер. — Знаю, что запрещается. Но ведь вы сами меня попросили попасть в нее. Вы мне показали. Вы…
— Я не говорила, чтобы ты ее убивал! — кричала Поня. — Я думала, ты ей просто дашь хорошего тычка. Напугаешь ее как следует. Она всегда такая важная, надутая была…
— Я же сказал вам, что палка сильно бьет.
Страх пригвоздил вебстера к месту.
Далеко и сильно, думал он. Далеко и сильно — быстро.
— Не тревожься, дружище, — мягко произнес волк. — Мы знаем, что ты не нарочно. Это останется между нами. Мы никому не скажем.
Поня прыгнула на дерево и запищала с ветки:
— Я скажу! Скажу вот Дженкинсу!
Волк цыкнул на нее с лютой ненавистью:
— Ты доносчица паршивая! Подлая сплетница!
— Скажу, скажу! — не унималась Поня. — Вот увидите! Скажу Дженкинсу.
Она стремглав поднялась по стволу, добежала до конца ветки и перескочила на другое дерево.
Волк сорвался с места.
— Куда? — осадил его Питер.
— Всю дорогу по деревьям ей не пробежать, — торопливо объяснил волк. — На лугу придется спуститься на землю. Ты не тревожься.
— Нет, — сказал Питер. — Не надо больше убийств. Хватит одного.
— Но ведь она в самом деле скажет.
Питер кивнул.
— Не сомневаюсь.
— А я могу ей помешать.
— Кто — нибудь увидит и донесет на тебя, — сказал Питер. — Нет, Лупус, я тебе не разрешаю.
— Тогда улепетывай поскорей. Я знаю место, где ты можешь спрятаться. Тысячу лет искать будут, не найдут.
— Ничего не выйдет. В лесу глаза есть. Слишком много глаз. Они скажут, куда я пошел. Прошли те времена, когда можно было спрятаться.
— Наверно, ты прав, — медленно произнес волк. — Да, наверно, прав.
Он повернулся и посмотрел на убитую малиновку.
— Ну, а как насчет того, чтобы изъять доказательство? — спросил он.
— Доказательство?..
— Вот именно…
Волк быстро сделал несколько шагов, опустил голову. Послышался хруст. Лупус облизал усы и сел, обвив ланы хвостом.
— Сдается мне, мы с тобой могли бы поладить, — сказал он. — Честное слово, могли бы. У нас так много общего.
На носу его предательски трепетало перышко.
Туловище было хоть куда.
Нержавеющее, крепкое — никакой молот не возьмет. А всевозможных приспособлений и не счесть. Это был подарок Дженкинсу ко дню рождения. Изящная гравировка на груди так и гласила:
Дженкинсу от Псов.
Все равно я не смогу им воспользоваться, сказал себе Дженкинс. Оно слишком роскошное для меня, для такого старого робота. Я сам буду неловко чувствовать в этаком убранстве.
Покачиваясь в кресле, он слушал, как воет ветер под застрехой.
Но ведь подарок сделан от души… А обижать их нельзя ни за что на свете. Так что изредка придется все же пользоваться новым туловищем — просто так, для вида, чтобы сделать приятное псам. Нельзя совсем не пользоваться им, ведь они столько хлопотали, чтобы его изготовить. Конечно, это туловище не на каждый день, только для исключительных случаев.
Таких, как Вебстерский пикник. На пикник стоит принарядиться. Торжественный день… День, когда все Вебстеры на свете, все Вебстеры, которые еще живы, собираются вместе. И меня приглашают. Да — да, всякий раз меня приглашают. Ведь я Вебстерский робот. Вот именно, всегда был и буду Вебстерским.
Опустив подбородок на грудь, он прислушался к шепоту комнаты и повторил за ней слова. Слова, которые он и комната помнили. Слова из давно минувшего.
Качалка поскрипывала, и звук этот был неотделим от пропитанной настоем времени комнаты, неотделим от воя ветра и бормотания дымохода.
Огонь, подумал Дженкинс. Давно мы огня не разводили.
Людям нравилось, чтобы в камине был огонь. Бывало, сидят перед ним, и смотрят, и представляют себе разные картины. И мечтают…
Но мечты людей — да, где вы, мечты людей? Улетели на Юпитер, погребены в Женеве, и теперь только — только начинают пробиваться хилые ростки у нынешних Вебстеров.
Прошлое… Я чересчур занят прошлым. Поэтому от меня мало проку. Мне столько надо помнить, так много, что очередные дела отходят на второе место. Я живу в прошлом, а это неправильно.
Ведь Джошуа говорит, что прошлого нет, а уж кому об этом знать, как не ему. Изо всех Псов только он один и может знать. Он так старался найти прошлое, чтобы отправиться туда, отправиться назад во времени и проверить то, что я ему рассказывал. Он думает, что у меня маразм, считает мои рассказы старыми роботскими побасенками, полуправдой, полувымыслом, причесанным для гладкости.
Спроси его, ни за что не признается, но ведь думает именно так, плутишка. И думает, что я не знаю этого, да не тут — то было.
Дженкинс усмехнулся про себя.
Где ему провести меня. Меня никто из них не проведет. Я их насквозь вижу, знаю, чем они дышат. Я помогал Брюсу Вебстеру переделывать самых первых из них. Слышал самое первое слово, какое было ими произнесено. Они — то, может быть, забыли, да я помню каждый взгляд, каждый жест, каждое слово.
А может быть, это только естественно, что они забыли. И ведь они немалого достигли. Я старался поменьше вмешиваться, так оно было лучше. Так мне велел и Джон Вебстер в ту далекую ночь. Потому Джон Вебстер и сделал то, что ему пришлось сделать, чтобы закрыть наглухо город Женеву. Конечно, Джон Вебстер.
Кто же еще. Кроме него, некому.
Он думал, что всех людей запер там и освободил Землю для псов. Но он забыл одну вещь. Вот именно забыл. Он забыл про своего собственного сына с его компанией лучников, которые с утра пораньше отправились в лес играть в дикарей и дикарок.
И ведь игра обратилась горькой действительностью почти на тысячу лет. Пока мы их не нашли и не доставили домой. В усадьбу Вебстеров — туда, откуда все пошло.
Наклонив голову и сложив руки на коленях, Дженкинс продолжал медленно качаться. Поскрипывало кресло, и ветер гулял под застрехой, и дребезжало окно. И камин с его прокопченной глоткой толковал что — то про былые дни, про других людей, про давно отшумевшие западные ветры.
Прошлое, думал Дженкинс. Вздор. Безделица, когда впереди еще столько дел. Еще столько проблем ожидает Псов.
Например, перенаселение. Уж сколько мы о нем думаем, сколько говорим. Слишком много кроликов, потому что ни волкам, ни лисам не разрешается их убивать. Слишком много оленей, потому что койотам и волкам запрещается есть оленину. Слишком много скунсов, слишком много мышей, слишком много диких кошек. Слишком много белок, дикобразов, медведей.
Запрети убийство — этот могучий регулятор — и разведется слишком много живности. Укроти болезни, обрати на борьбу с травмами быстроходных медицинских роботов — еще одним регулятором меньше. Человек заботился об этом. Уж он заботился… Люди убивали всех на своем пути, будь то животное или другие люди.
А псы мечтали об этом. И добились этого. Все равно как в сказке про братца Кролика… Как в детских фантазиях минувших времен. Или как в библейской притче про льва и агнца, которые лежали рядом друг с другом. Или как на картинках Уолта Диснея с той поправкой, что картинки всегда отдавали фальшью, потому что воплощали человеческий образ мыслей.
Скрипнула дверь, кто — то переступил с ноги на ногу. Дженкинс повернулся.
— Привет, Джошуа, — сказал он. — Привет, Икебод. Прошу, входите. Я тут немножко задумался.
— Мы проходили мимо и увидели свет, — объяснил Джошуа.
— Я думал про свет. — Дженкинс глубокомысленно кивнул. — Думал про ту ночь пять тысяч лет назад. Из Женевы прибыл Джон Вебстер — первый человек, который навестил нас за много столетий. Он лежал в спальне наверху, и все псы спали, и я стоял вон там у окна и смотрел за реку. А там — ни одного огня, ни единого. В какую сторону ни погляди — сплошной кромешный мрак. Я стоял и вспоминал то время, когда там были огни, и спрашивал себя, увижу ли я их когда — нибудь снова.
— Теперь там есть огни, — мягко произнес Джошуа. — Сегодня ночью по всему миру светят огни. Даже в логовах и пещерах.
— Знаю, знаю, — сказал Дженкинс. — Сейчас стало даже лучше, чем было прежде.
Икебод протопал в угол, где стояло сверкающее туловище, поднял руку и почти нежно погладил металлический кожух.
— Я очень благодарен псам, что они подарили мне туловище, — сказал Дженкинс. — Да только зачем это? Достаточно подлатать немного старое, и оно еще вполне послужит.
— Просто мы тебя очень любим, — объяснил Джошуа. — Псы в таком долгу перед тобой. Мы и раньше пытались что — нибудь сделать для тебя, но ведь ты нам никогда не позволял. Хоть бы ты разрешил нам построить тебе новый дом, современный дом со всякими новинками.
Дженкинс покачал головой.
— Это совершенно бесполезно, ведь я все равно не смогу там жить. Понимаешь, для меня дом — здесь. Усадьба всегда была моим домом. Только латайте ее время от времени, как мое туловище, и мне ничего другого не надо.
— Но ты совсем одинок.
— Ничего подобного, — возразил Дженкинс. — Здесь полно народу.
— Полно народу? — переспросил Джошуа.
— Люди, которых я знал.
— Ух ты, какое туловище! — восхищался Икебод. — Вот бы примерить.
— Икебод! — завопил Джошуа. — Сейчас же пойди сюда. Не смей трогать…
— Оставь ты этого юнца в покое, — вмешался Дженкинс. — Пусть зайдет, когда я буду посвободнее…
— Нет, — отрезал Джошуа.
Ветка поскреблась о застреху, тонкими пальцами постучалась в стекло. Брякнула черепица, ветер прошелся по крыше легкой, танцующей походкой.
— Хорошо, что вы заглянули, — произнес Дженкинс. — Мне надо вам кое — что сказать.
Он покачивался в кресле взад — вперед, и один полоз поскрипывал.
— Меня не хватит навечно, — продолжал Дженкинс. — Семь тысяч лет тяну, как еще до сих пор не рассыпался.
— С новым туловищем тебя еще на трижды семь тысяч лет хватит, — возразил Джошуа.
Старый робот покачал головой.
— Я не о туловище, а о мозге говорю. Как — никак машина. Хорошо сработан, на совесть, но навечно его не хватит. Рано или поздно что — нибудь поломается, и тогда конец моему мозгу.
Кресло поскрипывало в притихшей комнате.
— А это значит смерть, — продолжал Дженкинс, — значит, что я умру. Все правильно. Все как положено. Все равно от меня уже никакого толку. Был я когда — то нужен.
— Ты нам всегда будешь нужен, — мягко сказал Джошуа. — Без тебя нам не справиться.
Но Дженкинс продолжал, словно и не слышал его:
— Мне надо рассказать вам про Вебстеров. Надо вам объяснить. Чтобы вы поняли.
— Я постараюсь понять, — ответил Джошуа.
— Вы, псы, называете их вебстерами — это ничего. Называйте как хотите, лишь бы вы знали, кто они такие.
— Иногда ты называешь их людьми, а иногда называешь вебстерами, — заметил Джошуа. — Не понимаю.
— Они были люди, и они правили Землей. И среди них был один род по фамилии Вебстер. Вот эти самые Вебстеры и сделали для вас такое замечательное дело.
— Какое замечательное дело!
Дженкинс крутнулся вместе с креслом и остановил его.
— Я стал забывчивым, — пробурчал он. — Все забываю. Чуть что, сбиваюсь.
— Ты говорил о каком — то замечательном деле, которое сделали для нас вебстеры.
— Что? Ах, да. Вот именно. Вы должны присматривать за ними. Главное — присматривать.
Он медленно раскачивался в кресле, а мозг его захлестнули мысли, перемежаемые скрипом качалки.
Чуть не сорвалось с языка, говорил он себе. Чуть не погубил мечту…
Но я вовремя вспомнил. Да, Джон Вебстер, я вовремя спохватился. Я сдержал слово, Джон Вебстер. Я не сказал Джошуа, что псы когда — то были у людей домашними животными, что обязаны людям своим сегодняшним положением. Ни к чему им об этом знать. Пусть держат голову высоко. Пусть продолжают свою работу. Старые родовые предания забыты, и не надо извлекать их из забвения.
А как хотелось бы рассказать им. Видит бог, хотелось бы рассказать. Предупредить их, чего надо остерегаться. Рассказать им, как мы искореняли старые представления у дикарей, которых привезли сюда из Европы. Как отучали их от того, к чему они привыкли. Как стирали в их мозгу понятие об оружии, как учили их миру и любви.
И как мы должны быть начеку, чтобы не прозевать тот день, когда они примутся за старое, когда возродиться старый человеческий образ мыслей.
— Но ты же сказал… — не унимался Джошуа.
Дженкинс сделал отрицательный жест.
— Пустяки, не обращай внимания, Джошуа. Мало ли что плетет старый робот. У меня иной раз все путается в мозгу, и я начинаю заговариваться. Слишком много о прошлом думаю, а ведь ты сам говоришь, что прошлого нет.
Икебод присел на корточках, глядя на Дженкинса.
— Конечно же, нет, — подтвердил он. — Мы проверяли и так и сяк — все данные сходятся, все говорят одно. Прошлого нет.
— Ему негде быть. — сказал Джошуа. — Когда идешь назад по временной оси, тебе встречается не прошлое, а совсем другой мир, другая категория сознания. Хотя Земля та же самая или почти та же самая. Те же деревья, те же реки, те же горы, и все — таки мир не тот, который мы знаем. Потому что он по — другому жил, по — другому развивался. Предыдущая секунда — вовсе не предыдущая секунда, а совсем другая, особый сектор времени. Мы все время живем в пределах одной и той же секунды. Двигаемся в ее рамках, в рамках крохотного отрезка времени, который отведен нашему миру.
— Наш способ мерить время никуда не годится, — подхватил Икебод. — Это он мешал нам верно представить себе время. Мы все время думали, что перемещаемся во времени, а фактически было иначе и ничего похожего. Мы двигались вместе со временем. Мы говорили: еще секунда прошла, еще минута прошла, еще час, еще день, — а на самом деле ни секунда, ни минута, ни час никуда не делись. Все время оставалась одна и та же секунда. Просто она двигалась — и мы двигались вместе с ней.
Дженкинс кивнул.
— Понятно. Как бревна в реке. Как щепки, которые несет течением. На берегу одна картина сменяется другой, а поток все тот же.
— В этом роде, — сказал Икебод. — С той разницей, что время — твердый поток и разные миры зафиксированы крепче, чем бревна в реке.
— И как раз в этих других мирах живут гоблины?
Джошуа кивнул:
— А где же им еще жить?
— И ты теперь, надо думать, соображаешь, как проникнуть в эти миры, — заключил Дженкинс.
Джошуа легонько почесался.
— Конечно, соображает, — подтвердил Икебод. — Мы нуждаемся в пространстве.
— Но ведь гоблины…
— Может быть, они не все миры заняли, — сказал Джошуа. — Может быть, есть еще свободные. Если мы найдем незанятые миры, они нас выручат. Если не найдем — нам туго придется. Перенаселение вызовет волну убийств. А волна убийств отбросит нас к тому месту, откуда мы начинали.
— Убийства уже происходят, — тихо произнес Дженкинс.
Джошуа наморщил лоб и прижал уши.
— Странные убийства. Убьют, но не съедают. И крови не видно. Как будто шел — шел — и вдруг упал замертво. Наши медицинские роботы скоро с ума сойдут. Никаких изъянов. Никаких причин для смерти.
— Но ведь умирают, — сказал Икебод.
Джошуа подполз поближе, понизил голос:
— Я боюсь, Дженкинс. Боюсь, что…
— Чего же тут бояться?
— В том — то и дело, что есть чего. Ангес сказал мне об этом. Ангес боится, что кто — то из гоблинов… кто — то из гоблинов проник к нам.
Порыв ветра потянул воздух из дымохода, прокатился кубарем под застрехой. Другой порыв поухал совой в темном закоулке поблизости. И явился страх, заходил туда и обратно по крыше, глухо, сторожко ступая по черепицам.
Дженкинс вздрогнул и весь напрягся, укрощая дрожь. У него сел голос.
— Никто еще не видел гоблина, — проскрежетал он.
— А его, может, вообще нельзя увидеть.
— Возможно, — согласился Дженкинс. — Возможно, его нельзя увидеть.
Разве не это самое говорил человек? Призрак нельзя увидеть, привидение нельзя увидеть, но можно ощутить их присутствие. Ведь вода продолжает капать, как бы туго ни завернули кран, и кто — то скребется в окно, и ночью псы на кого — то воют, и никаких следов на снегу.
Кто — то поскребся в окно.
Джошуа вскочил на ноги и замер. Статуя собаки — лапа поднята, зубы оскалены, обозначая рычание. Икебод весь превратился в слух, выжидая.
Кто — то поскребся опять.
— Открой дверь, — сказал Икебоду Дженкинс. — Там кто — то просится в дом.
Икебод прошел через сгусток тишины. Дверь скрипнула под его рукой. Он отворил, тотчас в комнату юркнула белка, серой тенью прыгнула к Дженкинсу и опустилась на его колени.
— Это же Поня! — воскликнул Дженкинс.
Джошуа сел и спрятал клыки. Металлическая физиономия Икебода расплылась в дурацкой улыбке.

— Я видела, как он это сделал! — закричала Поня. — Видела, как он убил малиновку. Он попал в нее метательной палкой. И перья полетели. И на листике была кровь.
— Успокойся, — мягко произнес Дженкинс. — Не торопись так, расскажи все по порядку. Ты слишком возбуждена. Ты видела, как кто — то убил малиновку.
Поня всхлипнула, стуча зубами.
— Это Питер убил.
— Питер?
— Вебстер, которого зовут Питером.
— Ты видела, как он метнул палку?
— Он метнул ее другой палкой. Оба конца веревкой связаны, он веревку потянул, палка согнулась…
— Знаю, — сказал Дженкинс. — Знаю.
— Знаешь? Тебе все известно?
— Да, — подтвердил Дженкинс. — Мне все известно. Это лук и стрела.
И было в его тоне нечто такое, отчего они все притихли, и комната вдруг показалась им огромной и пустой, и стук ветки по стеклу превратился в потусторонний звук, прерывающийся замогильный голос, причитающий, безутешный.
— Лук и стрела? — вымолвил наконец Джошуа. — Что такое лук и стрела?
Да, что это такое? подумал Дженкинс. Что такое лук и стрела?
Это начало конца. Это извилистая тропка, которая разрастается в громовую дорогу войны. Это игрушка, это оружие, это триумф человеческой изобретательности. Это первый зародыш атомной бомбы. Это символ целого образа жизни.
И это слова из детской песенки:
Кто малиновку убил?
Я, ответил воробей.
Лук и стрелы смастерил
И малиновку убил!
То, что было забыто. То, что теперь воссоздано. То, чего я опасался.
Он выпрямился в кресле, медленно встал.
— Икебод, — сказал он, — мне понадобится твоя помощь.
— Разумеется, — ответил Икебод. — Только скажи.
— Туловище, — продолжал Дженкинс. — Я хочу воспользоваться моим новым туловищем. Тебе придется отделить мою мозговую коробку…
Икебод кивнул.
— Я знаю, как это делается, Дженкинс.
Голос Джошуа зазвенел от испуга:
— В чем дело, Дженкинс? Что ты задумал?
— Я пойду к мутантам, — раздельно произнес Дженкинс. — Настало время просить у них помощи.
Тень скользила вниз через лес, сторонясь прогалин, озаренных лунным светом. В лунном свете она мерцала, ее могли заметить, а этого допустить нельзя. Нельзя срывать охоту другим, которые последуют за ней.
Потому что другие последуют. Конечно, не сплошным потоком, все будет тщательно рассчитано. По три, по четыре — и в разных местах, чтобы не всполошить живность этого восхитительного мира.
Ведь если они всполошатся — все пропало.
Тень присела во мраке, приникла к земле, исследуя ночь напряженными, трепещущими нервами. Выделяя знакомые импульсы, она регистрировала их в своем бдительном мозгу и откладывала в памяти для ориентировки.
Кроме знакомых импульсов, были загадочные — совсем или наполовину. А в одном из них улавливалась страшная угроза…
Тень распласталась на земле, вытянув уродливую голову, отключила восприятие от наполняющих ночь сигналов и сосредоточилась на том, что поднималось вверх по склону.
Двое, притом отличные друг от друга. Она мысленно зарычала, в горле застрял хрип, а ее разреженную плоть пронизало острое предвкушение пополам с унизительным страхом перед неведомым.
Тень оторвалась от земли, сжалась в комок и поплыла над склоном, идя наперехват двоим.
Дженкинс был снова молод, силен, проворен, проворен душой и телом. Проворно шагал он по залитым лунным светом, открытым ветру холмам. Мгновенно улавливал шепот листвы и чириканье сонных птах. И еще кое — что.
Ничего не скажешь, туловище хоть куда. Нержавеющее, крепкое — никакой молот не возьмет. Но не только в этом дело.
Вот уж никогда не думал, говорил он себе, что новое туловище так много значит! Никогда не думал, что старое до такой степени износилось и одряхлело. Конечно, оно с самого начала было так себе, да ведь в то время и такое считалось верхом совершенства.
Что ни говори, механика может творить чудеса. Роботы, конечно постарались — дикие роботы. Псы договорились с ними, и они смастерили туловище. Вообще — то псы не очень часто общаются с роботами.
Нет, отношения хорошие, все в порядке, но потому и в порядке, что они не беспокоят друг друга, не навязываются, не лезут в чужие дела.
Дженкинс улавливал все, что происходило кругом. Вот кролик повернулся в своей норке. Вот енот вышел на ночную охоту — Дженкинс тотчас уловил вкрадчивое, вороватое любопытство в мозгу за маленькими глазками, которые глядели на него из орешника. А вон там, налево, свернувшись калачиком, под деревом спит медведь и видит сны, сны обжоры, дикий мед и выловленная из ручья рыба с приправой из муравьев, которых можно слизнуть с перевернутого камня.
Это было поразительно — и, однако, вполне естественно. Так же естественно, как ходить, поочередно поднимая ноги. Так же естественно, как обычный слух. Но ни слухом, ни зрением этого не назовешь. И воображение тут ни при чем. Потому что сознание Дженкинса вполне вещественно и четко воспринимало и кролика в его норе, и енота в кустах, и медведя под деревом.
И у самих диких роботов теперь такие же туловища, сказал он себе, ведь если они сумели смастерить такое для меня, так уж себе и подавно изготовили.
Они тоже далеко продвинулись за семь тысяч лет, как и псы, прошедшие немалый путь после исхода людей. Но мы не обращали внимания на них, потому что так было задумано. Роботы идут своим путем, псы — своим и не спрашивают, кто чем занят, не проявляют любопытства. Пока роботы собирали космические корабли и посылали их к звездам, пока мастерили новые туловища, пока занимались математикой и механикой, псы занимались животными, ковали братство всех тех, кого во время человека преследовали как дичь, слушали гоблинов и зондировали пучины времени, чтобы установить, что времени нет.
Но если псы и роботы продвинулись так далеко, то мутанты, конечно же, ушли еще дальше. Они выслушают меня, говорил себе Дженкинс, должны выслушать, ведь я предложу задачу, которая придется им по нраву.
Как — никак мутанты — люди, несмотря на все свои причуды, они сыны человека. Оснований для злобы у них не может быть, ведь имя человек теперь не больше, чем влекомая ветром пыль, чем шелест листвы в летний день.
И кроме того, я семь тысяч лет их не беспокоил, да и вообще никогда не беспокоил. Джо был моим другом, насколько это вообще возможно для мутанта. С людьми иной раз не разговаривал, а со мной разговаривал. Они выслушают меня и скажут, что делать. И они не станут смеяться.
Потому что дело нешуточное. Пусть только лук и стрела — все равно нешуточное. Возможно, когда — то лук и стрелой были потехой, но история заставляет пересматривать многие оценки. Если стрела — потеха, то и атомная бомба — потеха, и шквал смертоносной пыли, опустошающей целые города, потеха, и ревущая ракета, которая взмывает вверх, и падает за десять тысяч миль, и убивает миллион людей…
Правда, теперь и миллиона не наберется. От силы несколько сот, обитающих в домах, которые построили им псы, потому что тогда псы еще помнили, кто такие люди, помнили, что их связывало с ними, и видели в людях богов. Видели в людях богов и зимними вечерами у очага рассказывали древние предания, и надеялись, что наступит день, когда человек вернется, погладит их по голове и скажет: «Молодцом, верный и надежный слуга».
И зря, говорил себе Дженкинс, шагая вниз по склону, совершенно напрасно. Потому что люди не заслуживали преклонения, не заслуживали обожествления.
Господи, я ли не любил людей? Да и сейчас люблю, если на то пошло, но не потому, что они люди, а ради воспоминаний о некоторых из великого множества людей.
Несправедливо это было, что псы принялись работать на человека. Ведь они строили свою жизнь куда разумнее, чем человек свою. Вот почему я стер в их мозгу память о человеке. Это был долгий и кропотливый труд, много лет я искоренял предания, много лет наводил туман, и теперь они не только называют, но и считают людей вебстерами.
Я сомневался, верно ли поступил. Чувствовал себя предателем. И были мучительные ночи, когда мир спал, окутавшись мраком, а я сидел в качалке и слушал, как ветер стонет под застрехой. И думал: вправе ли был так поступить? А может быть, Вебстеры не одобрили бы мои действия? До того сильна была их власть надо мной, так сильна она до сих пор, через тысячи лет, что сделаю что — нибудь и переживаю: вдруг это им не понравилось бы?
Но теперь я убедился в своей правоте. Лук и стрелы это доказывают. Когда — то я допускал, что человек просто пошел не по тому пути, что некогда, во времена темной дикости, которая была его колыбелью и детской комнатой, он свернул не в ту сторону, шагнул не с той ноги. Теперь я вижу, что это не так. Человек признает только один — единственный путь — путь лука и стрел.
Уж как я старался! Видит бог, я старался. Когда мы выловили этих шатунов и доставили их в усадьбу Вебстеров, я изъял их оружие, изъял не только из рук — из сознания тоже. Я переделал все книги, какие можно было переделать, а остальные сжег. Я учил их заново читать, заново петь, заново мыслить. И в книгах не осталось и намека на войну и оружие, на ненависть и историю — ведь история есть ненависть, — не осталось ни намека на битвы, подвиги и фанфары.
Да только попусту старался… Теперь я вижу, что попусту старался. Потому что, сколько не старайся, человек все равно изобретет лук и стрелы.
Закончив долгий спуск, он пересек ручей, скачущий вниз к реке, и начал карабкаться вверх, к мрачным, суровым контрфорсам, венчающим высокий бугор.
Кругом что — то шуршало, и новое туловище сообщило сознанию, что это мыши — мыши снуют в ходах, которые проделали в густой траве. И на мгновение он уловил незатейливое счастье резвящихся мышек, незатейливые, простенькие, легкие мысли счастливых мышек.
На стволе упавшего дерева притаилась ласка — ее душу переполняло зло, вызванное мыслью о мышах и воспоминанием о тех днях, когда ласки кормились мышами. Вражда крови — и страх, страх перед тем, что сделают псы, если она убьет мышь, страх перед сотней глаз, следящих за тем, чтобы убийство больше не шествовало по свету.
Но ведь человек убил. Ласка убивать не смеет, а человек убил. Пусть даже не со зла, не намеренно. Но ведь убил. А каноны запрещают лишать жизни.
Случались и прежде убийства, и убийц наказывали. Значит, человек тоже должен быть наказан. Нет, мало наказать. Наказание проблемы не решит. Проблема — то не в одном человеке, а во всех людях, во всем человеческом роде. Ведь что один сделал, могут сделать и остальные.
Замок мутантов высился черной громадой на фоне неба, до того черной, что она мерцала в лунном свете. И никаких огней, но в этом не было ничего удивительного, потому что никто еще не видел в замке огней. И никто не помнил, чтобы отворялись двери замка. Мутанты выстроили замки в разных концах света, вошли в них, и на том все кончилось. Прежде они вмешивались в людские дела, даже вели с людьми нечто вроде саркастической войны, когда же люди исчезли, мутанты тоже перестали показываться.
У широкой каменной лестницы Дженкинс остановился. Запрокинув голову, он глядел на возвышающееся перед ним сооружение.
Джо, наверное, умер, сказал он себе. Он был долгожитель, но ведь не бессмертный. Вечно жить он не мог. Странно будет теперь встретиться с мутантом и знать, что это не Джо.
Он начал подниматься по ступенькам, шел медленно — медленно, все нервы на взводе, готовый к тому, что вот — вот на него обрушится первая волна сарказма.
Однако ничего не произошло.
Он одолел лестницу и остановился перед дверью, размышляя, как дать мутантам знать о своем приходе.
Ни колокольчика. Ни звонка. Ни колотушки. Гладкая дверь, обыкновенная ручка. И все.
Он нерешительно поднял кулак и постучал несколько раз, потом подождал. Никакого отклика. Дверь оставалась немой и недвижимой.
Он постучал еще, на этот раз погромче. И опять никакого ответа.
Медленно, осторожно он взялся за дверную ручку и нажал на нее. Ручка подалась, дверь отворилась, и Дженкинс ступил внутрь.
— Дурень ты, дурень, — сказал Лупус. — Я заставил бы их поискать меня. Заставил бы погоняться за мной. Я бы так просто им не поддался.
Питер покачал головой.
— Может быть, ты так и поступил бы, Лупус, может быть, для тебя это годится. Но для меня это не подходит. Вебстеры никогда не убегают.
— Откуда ты это взял? — не унимался волк. — Чушь какую — то порешь. До сих пор ни одному вебстеру не надо было убегать, а раз ни одному вебстеру еще не приходилось убегать, откуда ты можешь знать, что они никогда…
— Ладно, заткнись, — отрезал Питер.
Они продолжали молча подниматься по каменистой тропе, взбираясь на холм.
— За нами кто — то следует, — вдруг сказал Лупус.
— Тебе померещилось, — возразил Питер. — Кому это нужно следовать за нами?
— Не знаю, но…
— Что, запах чуешь?
— Нет…
— Что — нибудь услышал? Или увидел?
— Нет, но…
— Значит, никто за нами не следует, — решительно заявил Питер. — Теперь вообще никто никого не выслеживает.
Свет луны, струясь между деревьями, испестрил серебром черный лес. В ночной долине, на реке, утки о чем — то сонно спорили вполголоса. Слабый ветерок снизу принес с собой дыхание речной мглы.
Тетива зацепилась за куст, и Питер остановился, чтобы освободить ее. При этом он уронил на землю несколько стрел и нагнулся, чтобы поднять их.
— Придумал бы какой — нибудь другой способ носить эти штуки, — пробурчал Лупус. — Без конца то зацепишься, то уронишь, то…
— Я уже думал об этом, — спокойно ответил Питер. — Пожалуй, сделаю что — нибудь вроде сумки, чтобы можно было повесить на плечо.
Подъем продолжался.
— Ну и что ты собираешься сделать, когда придешь в усадьбу Вебстеров? — спросил Лупус.
— Я собираюсь найти Дженкинса, — ответил Питер. — Собираюсь рассказать ему, что я сделал.
— Поня уже рассказала.
— Может быть, она не так рассказала. Может быть, что — нибудь напутала. Поня очень волновалась.
— Да она вообще ненормальная.
Они пересекли лунную прогалину и снова нырнули во мрак.
— Что — то у меня нервишки разгулялись, — сказал Лупус. — Затеял ты ерунду какую — то. Я тебя до сих пор проводил и…
— Ну и возвращайся, — сердито ответил Питер. — У меня нервы в порядке. Я…
Он круто обернулся, волосы на голове у него поднялись дыбом.
Что — то было не так… Что — то в воздухе, которым он дышал, что — то в его мозгу… Тревожное, жуткое ощущение опасности, но еще сильнее — чувство омерзения, оно вонзило когти ему в лопатки и поползло по спине миллионами цепких ножек.
— Лупус! — вскричал он. — Лупус!
Возле тропы внизу вдруг сильно качнулся куст, и Питер стремглав бросился туда. Обогнув кусты, он круто остановился. Вскинул лук и, мгновенно выхватив из левой руки стрелу, упер ее в тетиву.
Лупус распростерся на траве — половина туловища в тени, половина на свету. Его пасть оскалилась клыками, одна лапа еще царапала землю.
А над ним наклонилась какая — то тень. Тень, силуэт, призрак. Тень шипела, тень рычала, в мозгу Питера отдался целый поток яростных звуков. Ветер отодвинул ветку, пропуская лунный свет, и Питер рассмотрел нечто вроде лица — смутные очертания, словно полустертый рисунок мелом на пыльной доске. Лицо мертвеца, и воющий рот, и щели глаз, и отороченные щупальцами уши.
Тренькнула тетива, и стрела вонзилась в лицо — вонзилась, и прошла насквозь, и упала на землю. А лицо все так же продолжало рычать.
Еще одна стрела уперлась в тетиву и поползла назад, дальше, дальше, почти до самого уха. Стрела, выброшенная упругой силой крепкой прямослойной древесины, выброшенная ненавистью, страхом, отвращением человека, который натягивал тетиву.
Стрела поразила размытое лицо, замедлила полет, закачалась — и тоже упала.
Еще одна стрела — и сильнее натянуть тетиву. Еще сильнее, чтобы летела быстрее и убила наконец эту тварь, которая не желает умирать, когда ее поражает стрела. Тварь, которая только замедляет стрелу, и заставляет ее качаться, и пропускает на сквозь.
Сильнее, сильнее — еще сильнее. И… Лопнула тетива.
Секунду Питер стоял, опустив руки: в одной никчемный лук, в другой никчемная стрела. Стоял, измеряя взглядом просвет, отделяющий его от призрачной нечисти, присевшей над останками серого.
В душе его не было страха. Не было страха, хотя он лишился оружия. Была только бешеная ярость, от которой его трясло, и был голос в мозгу, который чеканил одно и то же звенящее слово:
— Убей… убей… убей…
Он отбросил лук и пошел вперед — руки согнуты в локтях, пальцы словно кривые когти. Жалкие когти…
Тень попятилась — попятилась под напором волны страха, внезапно захлестнувшей ей мозг, страха и ужаса перед лицом лютой ненависти, излучаемой идущим на нее созданием. Властная, свирепая ненависть…
Ужас и страх ей и прежде были знакомы — ужас, и страх, и отчаяние, но здесь она столкнулась с чем — то новым. Как будто мозг ожгло карающей плетью.
Это была ненависть.
Тень заскулила про себя — заскулила, захныкала, попятилась, лихорадочно копаясь мысленными пальцами в помутившемся мозгу в поисках формулы бегства.
Комната была пустая — пустая, заброшенная, гулкая. Комната, которая, поймав скрип открывающейся двери, потолкла его в глухих углах, потом возвратила. Комната, воздух которой загустел от пыли забвения, пропитался торжественным молчанием праздных столетий.
Дженкинс стоял, держась за дверную ручку, стоял, прощупывая все углы и темные ниши обостренным чутьем новой аппаратуры, составляющей его туловище. Ничего. Ничего, кроме тишины, и пыли, и мрака. И похоже, тишина, пыль и мрак безраздельно царят здесь уже много лет. Никакого намека на дыхание хоть какой — нибудь бросовой мыслишки, никаких следов на полу, никаких каракуль, начертанных небрежным пальцем на столе.
Откуда — то из тайников мозга просочилась в сознание старая песенка, старая — престарая — она была старой уже тогда, когда ковали первое туловище Дженкинса. Его поразило, что она существует, поразило, что он вообще ее знал. А еще ему стало не по себе от разбуженной ею шквала столетий, не по себе от воспоминания об аккуратных белых домиках на миллионе холмов, не по себе при мысли о людях, которые любили свои поля и мерили их уверенной, спокойной хозяйской поступью.
Энни больше нету здесь.
Нелепо, сказал себе Дженкинс. Нелепо, что какой — то вздор, сочиненный племенем, которое почти перевелось, вдруг пристал ко мне и не дает покоя. Нелепо.
Кто малиновку убил?
Я, ответил воробей.
Он закрыл дверь и пошел через комнату.
Пыльная мебель ждала человека, который так и не вернулся. Пыльные инструменты и аппараты лежали на столах. Пылью покрылись названия книг, выстроенных рядами на массивных полках.
Ушли, сказал себе Дженкинс. Иникому не ведомо, когда и почему ушли. И куда, тоже неведомо. Никому ничего не говоря, ночью незаметно ускользнули. И теперь, как вспомнят, конечно же, веселятся — веселятся при мысли о том, что мы стережем и думаем — они еще там, думаем — как бы не вышли.
В стенах были еще двери, и Дженкинс подошел к одной из них. Взявшись за ручку, он сказал себе, что открывать нет смысла, продолжать поиски нет смысла. Если эта комната пуста и заброшена, значит, и все остальные такие же.
Он нажал на ручку, и дверь отворилась, и его обдало зноем, но комнаты он не увидел. Перед ним была пустыня, золотистая пустыня простерлась до подернутого маревом ослепительного горизонта под огромным голубым солнцем.
Нечто зеленое и пурпурное — вроде ящерицы, но совсем не ящерица, — семеня ножками, с мертвящим свистом молнией проскользнуло по песку.
Дженкинс захлопнул дверь, оглушенный и парализованный.
Пустыня. Пустыня и что — то скользящее по песку. Не комната, не зал и не терраса — пустыня.
И солнце было голубое. Голубое и палящее.
Медленно, осторожно он снова отворил дверь, сперва самую малость, потом пошире.
По — прежнему пустыня.
Захлопнув дверь, Дженкинс уперся в нее спиной, словно требовалась вся сила его металлического туловища, чтобы не пустить пустыню внутрь, преградить путь тому, что эта дверь и пустыня означали.
Да, здорово у них голова варила, сказал он себе. Здорово и быстро, куда там обыкновенным людям за ними гнаться. Мы и не представляли себе, как у них здорово варила голова. Но теперь — то я вижу, что она у них варила лучше, чем мы думали.
Эта комната — всего лишь прихожая, мост через немыслимые дали а другим мирам, другим планетам, вращающимся вокруг безвестных солнц. Средство покинуть Землю, не покидая ее, ключ, позволяющий, открыв дверь, пересечь пустоту.
В стенах были другие двери, и Дженкинс посмотрел на них, посмотрел и покачал головой.
Он медленно прошел через комнату к выходу. Тихо, чтобы не нарушить безмолвие пыльного помещения, нажал дверную ручку, и вышел, и увидел знакомый мир. Мир луны и звезд; ползущей между холмами речной мглы, перешептывающихся через распадок древесных крон.
Мыши все так же сновали по своим травяным ходам, и в голове у них роились радостные мышиные мысли или что — то вроде мыслей. На дереве сидела сова, думая кровожадную думу.
Рядом, думал Дженкинс, совсем еще рядом таится она — древняя лютая ненависть, древняя жажда крови. Но мы с самого начала обеспечили им преимущество, какого не было у человека, а впрочем, человечество скорее всего при любом начале осталось бы таким же.
И вот мы снова видим искони присущую человеку жажду крови, стремление выделиться, быть сильнее других, утверждать свою волю посредством своих изобретений — предметов, которые позволяют его руке стать сильнее любой другой руки или лапы, позволяют его зубам впиваться в плоть глубже любого клыка, которые достают и поражают на расстоянии.
Я думал получить помощь. Я пришел сюда за помощью.
А помощи не будет.
Не будет помощи. Ведь только мутанты могли мне помочь, а они ушли.
Теперь вся ответственность на тебе, говорил себе Дженкинс, идя вниз по ступеням. Ты отвечаешь за людей. Ты должен их как — то остановить. Должен их как — то изменить. Ты не можешь позволить им погубить дело, начатое Псами. Не можешь позволить им опять превратить этот мир в мир лука и стрел.
Он шел по темной лощине под лиственным сводом и ощущал запах гниющих прошлогодних листьев, скрытых под новой зеленью. Ничего подобного он прежде не испытывал.
Его старое туловище не обладало обонянием.
Обоняние, обостренное зрение, восприятие мыслей других существ — способность читать мысли енотов, угадывать мысли мышей, жажду крови в мозгу ласок и сов…
И еще кое — что: отголосок чьей — то ненависти в дыхании ветра и какой — то чужеплеменный крик ужаса.
Эта ненависть, этот крик пронизали его сознание и приковали его к месту, потом заставили сорваться с места и бежать, мчаться вверх по склону, не так, как человек бежал бы в темноте, а как бежит робот, видящий во мраке и наделенный железным организмом, которому неведомы тяжелое дыхание и задыхающиеся легкие.
Ненависть — и он знал лишь одну ненависть, равную этой.
Чувство становилось все сильнее, все острее по мере того, как он мерил тропу скачками, и мысль его стонала от мучительного страха — страха перед тем, что он увидит.
Он обогнул кустарник и круто остановился.
Человек шел вперед, согнув руки в локтях, и на траве лежал сломанный лук. Волк распростерся на земле — половина серого туловища на свету, половина в тени, и от волка пятилась какая — то призрачная тварь, наполовину тень, наполовину свет, то ли видно, то ли не видно, будто фантом из кошмара.
— Питер! — крикнул Дженкинс, но крик его был беззвучным.
Потому что он уловил исступление в мозгу полупрозрачной твари — исступление и панический ужас пробились сквозь ненависть человека, который наступал на сжавшуюся в комок, брызгающую слюной тень. Панический ужас и отчаянное стремление — стремление что — то найти, что — то вспомнить.
Человек почти настиг ее. Он шел прямо, решительно — тщедушное тело, нелепые кулачки. И отвага.
Отвага, сказал себе Дженкинс, с такой отвагой ему сам черт не страшен. С такой отвагой он сойдет в преисподнюю, и разворотит дрожащую брусчатку, и выкрикнет злую, скабрезную остроту в лицо князю тьмы.
Но тень уже нашла — нашла искомое, вспомнила заветное. Дженкинс ощутил волну облегчения, которая пронизала ее плоть, услышал магическую формулу — то ли слово, то ли образ, то ли мысль. Что — то вроде ворожбы, заклинания, чародейства, но не всецело. Мысленное усилие, мысль, подчиняющая себе тело, — так, пожалуй, вернее.
Потому что формула помогла.
Тварь исчезла. Исчезла — улетучилась из этого мира.
Никакого намека, ни малейшего признака. Словно ее никогда и не было.
А то, что она произнесла, то, что подумала? Сейчас. Вот оно…
Дженкинс осекся. Формула запечатлена в его мозгу, он помнит ее, помнит слово, помнит мысль, помнит нужную интонацию, но он не должен пускать ее в ход, должен забыть о ней, хранить ее в тайниках сознания.
Ведь она подействовала на гоблина. Значит, подействует и на него. Непременно подействует.
Человек тем временем повернулся кругом и теперь стоял, уставившись на Дженкинса, — плечи опущены, руки повисли.
На белом пятне лица зашевелились губы:
— Ты… ты…
— Я Дженкинс, — сказал ему Дженкинс. — У меня новое туловище.
— Здесь что — то было, — произнес Питер.
— Гоблин, — ответил Дженкинс. — Джошуа мне сказал, что к нам проник гоблин.
— Он убил Лупуса.
Дженкинс кивнул:
— Да, он убил Лупуса. Он и многих других убил. Это он занимался убийством.
— А я убил его, — сказал Питер. — Убил его… или прогнал… или…
— Ты его испугал, — объяснил Дженкинс. — Ты оказался сильнее его. Он испугался тебя. Страх перед тобой прогнал его обратно в тот мир, откуда он пришел.
— Я мог его убить, — похвастался Питер, — но веревка лопнула…
— В следующий раз, — спокойно заметил Дженкинс, — постарайся сделать более прочную тетиву. Я тебя научу. И сделай стальной наконечник для стрелы…
— Для чего?
— Для стрелы. Метательная палка — стрела. А палка с веревкой, которой ты ее метаешь, называется луком. Все вместе называется лук и стрела.
Питер сник.
— Значит, не я первый? Еще до меня додумались?
Дженкинс покачал головой:
— Нет, не ты первый.
Он пересек поляну и положил руку на плечо Питера.
— Пошли домой, Питер.
Питер мотнул головой.
— Нет. Я посижу здесь около Лупуса, пока не рассветет. Потом позову его друзей, и мы похороним его. — Он поднял голову и добавил, глядя в глаза Дженкинсу: — Лупус был мой друг, Дженкинс. Очень хороший друг.
— Иначе и быть не могло, — ответил Дженкинс. — Но мы еще увидимся?
— Конечно. Я приду на пикник. Вебстерский пикник. До него осталось около недели.
— Верно, — произнес Дженкинс, думая о чем — то. — Через неделю. И тогда мы с тобой увидимся.
Он повернулся и медленно пошел вверх по склону.
Питер сел около мертвого волка ждать рассвета. Раз или два его рука поднималась, чтобы вытереть щеки.
Они сидели полукругом лицом к Дженкинсу и внимательно слушали его.
— Теперь сосредоточьтесь, — говорил Дженкинс. — Это очень важно. Сосредоточьтесь, думайте, думайте как следует и представьте себе вещи, которые принесли с собой: корзины с едой, луки и стрелы и все остальное.
— Это новая игра, Дженкинс? — прыснула одна из девочек.
— Да, — сказал Дженкинс, — что — то вроде игры. Вот именно, новая игра. Увлекательная игра. Захватывающая.
— Дженкинс всегда к пикнику Вебстеров придумывает какуюнибудь новую игру, — заметил кто — то.
— А теперь, — продолжал Дженкинс, — внимание. Смотрите на меня и постарайтесь угадать, что я задумал…
— Это игра в угадайку! — взвизгнула смешливая девочка. — Угадайка — моя любимая игра!
Дженкинс растянул рот в улыбку.
— Ты права. Совершенно верно: это игра в угадайку. А теперь все сосредоточьтесь и смотрите на меня…
— Мне хочется испытать лук и стрелы, — сказал один из мужчин. — Потом, когда кончится игра, можно будет испытать их, Дженкинс?
— Можно, — терпеливо произнес Дженкинс. — Когда кончится игра, можете испытать их.
Он закрыл глаза и стал мысленно включаться в сознание каждого из них, проверяя всех поочередно и улавливая трепетное предвкушение в направленных к нему мыслях, ощущая, как его мозг тихонько щупают пытливые мысленные пальцы.
Сильней! говорил он про себя. Сильней! Сильней!
На экране его сознания появилась легкая рябь, и он поспешил разгладить ее.
Не гипноз, даже не телепатия, но что — то похожее, что — то очень похожее… Сосредоточить, слить воедино души собравшихся — вот в чем заключается его игра.
Медленно, осторожно он извлек из тайника формулу — слово, мысленный образ, интонацию. Потом передал все это в мозг, исподволь, не спеша — так разговаривают с ребенком, стараясь научить его верно произносить слова, правильно держать губы, двигать языком.
Подождал секунду, чувствуя, как другие ощупывают формулу, простукивают ее мысленными пальцами. А затем подумал громко — так, как думал гоблин.
И ничего не произошло. Ровным счетом ничего. Ни щелчка в мозгу. Ни такого чувства, словно падаешь. Ни головокружения. Вообще никаких ощущений.
Значит, провал. Значит, все кончено. Значит, игра проиграна.
Он открыл глаза и увидел тот же склон. И солнце так же светило в бирюзовом небе.
Он сидел молча, сидел как истукан, ощущая устремленные на него взгляды.
Кругом все осталось по — прежнему.
Если не считать…
Там, где прежде алел кустик иван — чая, теперь покачивалась маргаритка. А рядом с ней появился колокольчик, которого не было, когда он закрыл глаза.
— Уже все?
Смешливая девочка была заметно разочарована.
— Все, все, — ответил Дженкинс.
— Можно нам теперь проверить луки и стрелы? — спросил один из юношей.
— Можно, только поосторожней. Не цельтесь друг в друга. Это опасная штука. Питер вам покажет, как ими пользоваться.
— А мы пока разберем припасы, — сказала одна женщина. — Ты захватил свою корзину, Дженкинс?
— Захватил, — ответил Дженкинс. — Она у Эстер. Я дал ей подержать на время игры.
— Чудесно, — отозвалась женщина. — Не было года, чтобы ты нас чем — нибудь не удивил.
И в этом году удивлю, еще как удивлю, сказал себе Дженкинс. Вас поразят пакетики с ярлычками, в каждом пакетике — семена. Да, нам понадобятся семена. Они понадобятся, чтобы вновь появились сады, вновь зеленели поля, чтобы люди вновь растили урожай. Нам понадобятся луки и стрелы, чтобы добывать мясо. Понадобятся остроги и рыболовные крючки.
Постепенно он стал примечать еще кое — какие отличия. Другой наклон дерева на краю поляны. Новый изгиб реки в долине внизу.
Дженкинс сидел на солнце, прислушиваясь к возгласам мужчин и подростков, которые испытывали луки и стрелы, слушая болтовню женщин, которые расстелили скатерть и теперь раскладывали еду.
Скоро придется сказать им, думал он. Придется предупредить, чтобы не очень налегали на еду — не уписывали все в один присест. Эти припасы нужны нам, чтобы перебиться день — два, пока мы не накопаем корней, не наловим рыбы, не соберем плодов.
Да, сейчас придется созвать их и сообщить, что произошло. Объяснить, что отныне они могут полагаться только на собственные силы. Объяснить — почему.
Объяснить, чтобы брались за дело и действовали по своему разумению. Потому что здесь их окружает девственный мир.
Предупредить их насчет гоблинов.
Впрочем, это не самое важное. Человек знает способ — жестокий способ. Способ одолеть любого, кто станет на его пути.
Дженкинс вздохнул.
— Господи, помоги гоблинам, — произнес он.
Комментарий к восьмому преданию
Существует подозрение, что восьмое, заключительное предание — фальсификация, что оно не входило в древний цикл; перед нами позднее сочинение, состряпанное сказителем, жаждавшим публичной похвалы.
Композиция не вызывает особых возражений, но слог заметно уступает словесному мастерству других преданий.
Кроме того, бросается в глаза литературная конструкция. Очень уж ловко организован материал, слишком плавно совмещены здесь контуры, сходятся сюжетные линии предыдущих частей цикла. А между тем если ни в одном из остальных преданий нет ничего похожего на историческую подоплеку, если в них явно преобладает мифическое начало, то восьмое предание зиждется на исторической основе.
Досконально известно, что один из закрытых миров закрыт потому, что он принадлежит муравьям. Он является муравьиным миром, причем стал таким еще в незапамятные времена. Нет никаких данных о том, чтоб мир муравьев был исконной родиной Псов, но и обратное не доказано. Тот факт, что до сих пор науке не удалось обнаружить какого-либо иного мира, который мог считаться родиной Псов, как будто указывает на то, что мир муравьев, возможно, и есть так называемая Земля.
Если это так, придется, видимо, оставить все надежды на обнаружение новых данных о происхождении цикла, ведь только в первом мире Псов можно было бы найти остатки материальной культуры, позволяющие неопровержимо установить происхождение цикла. Только там можно было бы получить ответ на основной вопрос: существовал Человек или не существовал? Если планета муравьев — Земля, тогда закрытый город Женева и усадьба на Вебстер Хилл для нас утрачен навсегда.
VIII. Простой способ
Енот Арчи, маленький беглец, припал к земле, стараясь поймать одну из снующих в траве крохотных тварей. Его робот Руфес обратился к нему, но енот был слишком занят и не отозвался.
Хомер сделал нечто такое, чего до него не делал ни один Пес. Он пересек реку и затрусил к лагерю диких роботов, борясь со страхом: ведь невозможно было предугадать, как с ним поступят дикие роботы, когда обернутся и увидят его. Но то, что его беспокоило, перевесило страх, и он побежал быстрей.
В недрах уединенного муравейника муравьи мечтали и рассчитывали, как овладеть миром, недоступным их разумению. И наступали на этот мир с надеждой на успех и с верой в дело, недоступное разумению ни Псов, ни роботов, ни людей.
В Женеве Джон Вебстер округлил десятое тысячелетие своего забытья и продолжал спать, лежа без движения. На бульваре блуждающий ветерок тормошил листву, но этого никто не слышал и никто не видел.
Дженкинс мерил шагами склон, не глядя ни налево, ни направо, потому что с обеих сторон были вещи, которые ему не хотелось видеть. Дерево, стоящее на том же месте, где в другом мире стояло другое дерево. Откос, запечатлевшийся в его мозгу с миллиардом шагов через десять тысячелетий.
И если хорошенько вслушаться, можно было услышать отдающийся в веках хохоток — сардонический хохоток человека по имени Джо.
Арчи поймал одну снующую тварь и крепко зажал ее в лапе. Осторожно поднял лапу и разжал ее: вот она, исступленно мечется, норовит убежать.
— Арчи, — сказал Руфес, — ты меня не слушаешь.
Снующая тварь нырнула в мех Арчи и устремилась вверх по руке.
— Похоже на блоху. — Арчи сел и почесал себе брюхо. — Новый род блох. Вот было бы некстати. Они и старые — то осточертели.
— Ты не слушаешь, — повторил Руфес.
— Я занят, — отозвался Арчи. — Вся трава кишит этими тварями. Мне надо выяснить, что это такое.
— Я ухожу от тебя, Арчи.
— Что?
— Ухожу от тебя. Пойду к Зданию.
— Ты рехнулся, — вспылил Арчи. — Ты не можешь меня бросить. Ты какой — то психованный с тех самых пор, как шлепнулся на муравейник…
— Меня позвал Голос, — сказал Руфес. — Я не могу не пойти.
— Я тебя берег, — умоляюще продолжал енот. — Никогда не перегружал работой. Обращался с тобой как с товарищем, а не как с роботом. Так, как будто ты зверь.
Руфес упрямо мотал головой.
— И не пробуй меня удержать. Все равно я не могу остаться, чтобы ты ни делал. Меня позвал Голос, и я не могу не пойти.
— Но ведь я так окажусь совсем без робота, — не унимался Урчи. — Они вытащили мой номер, и я убежал. Теперь я дезертир, и ты это знаешь. Знаешь, что я не могу добыть себе другого робота, потому что за мной следят.
Руфес никак не реагировал на его слова.
— Ты мне нужен, — настаивал Арчи. — Ты должен остаться и помогать мне таскать корм. Мне нельзя близко подходить к пунктам кормления, сторожа сразу схватят меня и поволокут на Вебстер Хилл. Ты должен помочь мне выкопать нору. Скоро зима, и мне понадобится логово. Пусть без света и отопления, но логово нужно. И ты должен…
Руфес уже повернулся и шагал вниз по склону к тропе, вьющейся по берегу реки. Вот вышел на тропу, взял курс на темное пятно вдали над горизонтом.
Арчи сидел, обвив хвостом лапы и ежась от ветра, который ворошил его мех. Какой студеный ветер, всего час назад он не был таким студеным… И не погода сделала его холодным, а что — то еще.
Яркие глаза — бусинки обрыскали весь склон: нет Руфеса…
Без корма, без логова, без робота. И стража его разыскивает. И блохи нещадно едят.
А тут еще это Здание — темная клякса на дальних холмах за рекой.
Сто лет назад (так записано в книгах) Здание было не больше усадьбы Вебстеров.
Но с тех пор оно выросло, раздалось во все стороны, этому строительству не видно конца. Сначала Здание занимало один акр. Потом квадратную милю. Теперь оно целый уезд захватило. И продолжает расти, расползается вширь, тянется ввысь.
Клякса над холмами… И гроза для суеверного лесного народца, который наблюдает за ней. Слово, которым стращают расшумевшихся козлят, щенят и котят.
Потому что Здание воплощало зло, как все непонятное воплощает зло… Зло скорее угадываемое и предполагаемое, чем слышимое, зримое, обоняемое. Угадываемое чутьем — особенно темной ночью, когда погашен свет, и ветер скулит у входа в логово, и все звери спят, только один не спит и слушает плывущий между мирами другой Голос.
Арчи моргнул, взглянув на осеннее солнце, украдкой почесал бок.
Возможно, когда — нибудь, сказал он себе, кто — нибудь придумает способ совладать с блохами. Какое — нибудь средство, чтобы натер мех — и ни одна блоха не сунется.
Или придумают способ общаться с ними, чтобы можно было потолковать и урезонить их. Возможно, учредят для них заповедник, где бы они не жили и получали пищу, а зверей оставили бы в покое. Или что — нибудь в этом роде.
А пока что же остается?.. Чешись. Попроси своего робота, чтобы выловил блох, да только робот больше шерсти надергает, чем блох поймает. Катайся в песке или пыли. Искупайся, чтобы утопить несколько штук… Нет, не утопить, конечно, а просто смыть, если же при этом какая — нибудь из них захлебнется, пусть на себя пеняет.
Попроси робота… Но робота больше нет.
Нет робота, который ловил бы твоих блох.
Нет робота, который помогал бы добывать пищу.
Постой, ведь внизу, в долине, стоит куст боярышника, и ягоды, наверно, уже тронуты ночным морозцем. При мысли о ягодах Арчи облизнулся. А за горой — кукурузное поле. Тому, кто легок на ногу, кто умеет выбирать подходящую минуту и незаметно подкрадываться, ничего не стоит раздобыть початочек. На худой конец всегда найдутся коренья, желуди, а на песчаной косе дикий виноград растет.
— Пусть Руфес уходит, — пробурчал Арчи себе под нос. — Пусть псы кичатся своими пунктами кормления. Пусть сторожа сторожат.
Он будет жить сам по себе. Будет есть плоды, и выкапывать коренья, и устраивать набеги на кукурузные поля, как его далекие предки ели плоды, выкапывали коренья, устраивали набеги на кукурузные поля.
Будет жить, как все еноты жили, прежде чем явились Псы со своими идеями насчет братства животных. Как жили все звери до того, как научились говорить словами, научились читать печатные книги, полученные от Псов, до того, как обзавелись роботами, выполняющими роль рук, до того, как в норах появилось отопление и свет.
И до того, как появилась лотерея, распоряжающаяся, оставаться тебе на Земле или отправляться в другой мир.
Ничего не скажешь, псы все это излагали очень убедительно, очень рассудительно и деликатно. Некоторым животным, говорили они, придется перебираться в другие миры, иначе на Земле будет слишком много животных. Земля, говорили они, недостаточно велика, чтобы всех поместить. И лотерея, указывали они, — самый справедливый способ решить, кому именно переправляться в другие миры.
И ведь другие миры, говорили они, мало чем отличаются от Земли. Потому что они всего лишь пристройки к Земле. Это просто другие миры, которые идут по пятам за Землей. Может быть, не совсем так, но что — то очень похожее. Почти никакой разницы. Может быть, нету дерева там, где на Земле растет дерево. Может быть, стоит дуб там, где на Земле растет орешник. Может быть, бьет источник с холодной чистой водой там, где на Земле никакого источника нет.
— Может быть, — говорил ему Хомер, воодушевляясь, — может быть, мир, куда ты попадешь, окажется даже лучше Земли.
Арчи припал к земле, чувствуя, как теплые лучи осеннего солнца пробиваются сквозь знобкий холод осеннего ветра. Он думал о боярышнике, о мягких и сочных ягодах. Некоторые даже упали на землю. Сперва он съест те, которые лежат на земле, потом залезет на деревцо и сорвет еще несколько штук, потом слезет и подберет те, которые осыпались, пока он лазил.
Он будет есть их, и брать лапами, и растирать по мордочке. Можно даже покататься на них.
Уголком глаза он видел, как копошатся в траве снующие твари. Совсем как муравьи, хотя это вовсе не муравьи. Во всяком случае, непохожи на тех муравьев, которых он видел до сих пор.
Может быть, блохи? Новая порода блох. Его лапа метнулась вперед и схватила одну тварь. Он почувствовал, как она копошится в ладони. Разжал пальцы и посмотрел, как она мечется, и снова сжал пальцы.
Поднес лапу к уху и прислушался.
Тварь, которую он поймал, тикала!
Лагерь диких роботов оказался совсем не таким, каким его представлял себе Хомер. Он не увидел никаких зданий. Только пусковые установки, и три космических корабля, и пять или шесть роботов, которые трудились над одним из кораблей.
Впрочем, если вдуматься, он мог бы заранее сообразить, что в лагере роботов не будет зданий. Ведь роботы не нуждаются в убежище, а что такое дом, как не убежище.
Хомеру было страшно, но он изо всех сил старался не показывать этого: хвост крючком, голову выше, уши вперед — и решительно затрусил прямо к роботам. Около них он сел и вывесил язык, ожидая, когда кто — нибудь обратит на него внимание. Но никто не обратил на него внимания, тогда Хомер собрался с духом и сам заговорил.
— Меня зовут Хомер, — сказал он, — я представляю псов. Если у вас есть старший робот, я хотел бы с ним поговорить.
С минуту роботы продолжали работать, наконец один из них повернулся, подошел к Хомеру и присел на корточках так, что его голова оказалась вровень с головой пса. Остальные роботы продолжали работать как ни в чем не бывало.
— Я робот по имени Эндрю, — сказал робот, присевший на корточках рядом с Хомером. — Меня нельзя назвать старшим роботом, потому что у нас таких вообще нет. Но я могу поговорить с тобой.
— Я пришел к вам насчет Здания, — сообщил Хомер.
— Насколько я понимаю, — ответил робот по имени Эндрю, — ты говоришь о постройке, что к северо — востоку от нас. О постройке, которую ты можешь увидеть отсюда, если повернешься кругом.
— Вот именно, о ней, — подтвердил Хомер. — Я пришел спросить, зачем вы ее строите.
— Мы не строим ее, — сказал Эндрю.
— Мы видели, как там работают роботы.
— Да, там работают роботы. Но мы не строим ее.
— Вы кому — то помогаете?
Эндрю покачал головой.
— Некоторых из нас призвали… призвали пойти и работать там. И мы их не стали задерживать, потому что каждый из нас волен распоряжаться собой.
— Но кто же строит ее? — спросил Хомер.
— Муравьи.
У Хомера отвисла нижняя челюсть.
— Муравьи? Вы про насекомых говорите? Маленьких таких, которые в муравейниках живут?
— Вот именно, — подтвердил Эндрю.
Его пальцы пробежали по песку, изображая встревоженного муравья.
— Но они на это не способны, — возразил Хомер. — Они тупые.
— Теперь уже нет, — сказал Эндрю.
Хомер сидел неподвижно, будто примерз к песку, и холодные мурашки бежали у него по телу.
— Теперь уже нет, — повторил про себя Эндрю. — Теперь не тупые. Понимаешь, жил — был на свете человек по имени Джо…
— Человек? Что это такое? — спросил Хомер.
Робот прищелкнул с мягкой укоризной.
— Это были такие животные, — объяснил он. — Животные, которые ходили на двух ногах. Очень похожие на нас, с той разницей, что они были из живой плоти, а мы металлические.
— Ты, наверно, про вебстеров говоришь. Мы слышали про таких тварей, только зовем их вебстерами.
Робот медленно кивнул.
— Вебстеры — люди?.. Пожалуй. Помнится, был один род с такой фамилией. Как раз за рекой жили.
— Там находится усадьба Вебстеров, — сказал Хомер. — На макушке Вебстер Хилл.
— Она самая, — подтвердил Эндрю.
— Мы смотрим за этим домом, — продолжал Хомер. — Он считается у нас святыней, хотя нам не совсем понятно почему. Такой наказ передается из поколения в поколение — смотреть за усадьбой Вебстеров.
— Это вебстеры научили вас, псов, говорить, — сообщил Эндрю.
Хомер внутренне ощетинился.
— Никто нас не учил говорить. Мы сами научились. Мы постепенно совершенствовались. И других животных научили.
Сидя на корточках, робот Эндрю качал головой, словно кивал собственным мыслям.
— Десять тысяч лет, — сказал он. — Если не двенадцать. Что — нибудь около одиннадцати.
Хомер ждал, и, ожидая, он ощутил тяжелое бремя лет, давящее на холмы… годы реки и солнца, годы песка, и ветра, и неба.
Годы Эндрю.
— Ты старый, — произнес он. — И ты помнишь то, что было столько лет назад?
— Помню, — ответил Эндрю. — Хотя я один из последних роботов, сделанных людьми. Меня изготовили за несколько лет до того, как они отправились на Юпитер.
Хомер притих, он был в полном смятении.
Человек… Новое слово.
Животное, которое ходило на двух ногах.
Животное, которое изготавливало роботов, которое научило псов говорить.
Эндрю словно прочитал его мысли:
— Напрасно вы нас сторонились. Нам надо было сотрудничать. Когда — то мы сотрудничали. Для обеих сторон был бы выигрыш, если бы мы продолжали сотрудничать.
— Мы вас боялись, — сказал Хомер. — Я и теперь вас боюсь.
— Ну да. Конечно, так и должно быть. Конечно, Дженкинс позаботился о том, чтобы вы нас боялись. Он был башковитый, этот Дженкинс. Он понимал, что вам надо начинать с чистой страницы. Понимал, что незачем вам таскать на себе мертвым грузом память о человеке.
Хомер сидел молча.
— А мы, — продолжал робот, — не что иное, как память о человеке. Мы делаем то же, что он делал, только более научно. Ведь мы машины, значит, в нас больше науки. Делаем более терпеливо, чем человек, потому что у нас сколько угодно времени, а у него были всего какие — то годы.
Эндрю начертил на песке две параллельные линии, потом еще две поперек. Нарисовал крестик в левом верхнем углу.
— Ты думаешь, я сумасшедший, — сказал он. — Думаешь, чушь горожу.
Хомер поерзал на песке.
— Я не знаю, что и думать, — ответил он. — Все эти годы…
Эндрю нарисовал пальцем нолик в клетке посередине.
— Понятно, — сказал он. — Все эти годы вас поддерживала мечта. Мысль о том, что псы были застрельщиками. Факты иной раз трудно признать, трудно переварить. Пожалуй, лучше тебе забыть то, что я сказал. Факты иной раз ранят душу. Робот обязан оперировать фактами, ему больше нечем оперировать. Мы ведь не можем мечтать. У нас нет ничего, кроме фактов.
— Мы давно уже перешагнули через факт, — сообщил Хомер. — Это не значит, что мы совсем пренебрегаем фактами, нет, иногда мы ими пользуемся. Но вообще — то мы действуем иначе. У нас главное интуиция, гоблинство, слушание.
— Вы не мыслите механически, — заметил Эндрю. — Для вас дважды два не всегда четыре, для нас — всегда. Иногда я спрашиваю себя, не слепит ли нас традиция. Спрашиваю себя, может быть, дважды два бывает больше или меньше четырех.
Они посидели молча, глядя на реку — ленту из расплавленного серебра на цветном поле.
Эндрю нарисовал крестик в верхнем правом углу, нолик над центральной клеткой, крестик в средней клетке внизу. Потом стер все ладонью.
— Никак не могу выиграть у себя. Слишком сильный противник.
— Ты говорил про муравьев, — сказал Хомер. — Что они уже не тупые.
— А, да — да, — подтвердил Эндрю. — Я говорил про человека по имени Джо…
Дженкинс мерил шагами склон, не глядя ни налево, ни направо, потому что с обеих сторон были вещи, которые ему не хотелось видеть, которые вызывали слишком волнующие воспоминания. Дерево, стоящее там же, где в другом мире стояло другое дерево. Откос, запечатлевшийся в его мозгу с миллиардом шагов через десять тысячелетий.
В зимнем небе тускло мерцало вечернее солнце, мерцало, будто свеча на ветру, потом перестало мерцать, и это был уже не солнечный свет, а лунный.
Дженкинс остановился, и обернулся, и увидел усадьбу… Она распласталась на холме, приникла к холму, словно спящее юное существо, льнущее к матери — земле.
Дженкинс нерешительно шагнул вперед, и сразу же его металлическое туловище засверкало, заискрилось в лунном свете, который мгновение назад был солнечным.
Из долины донесся крик ночной птицы, а в кукурузном поле под гребнем скулил енот.
Дженкинс сделал еще шаг, заклиная небо, чтобы усадьба не исчезла, хотя знал, что усадьба не может исчезнуть, потому что ее и так нет. Ведь он шел по пустынному холму, на котором никогда не было никакой усадьбы. Он находился в другом мире, где вообще не существовало домов.
Дом продолжал стоять на месте, темный, безмолвный, без дыма над трубами, без огней в окнах, но знакомые очертания, ошибиться невозможно.
Дженкинс ступал медленно, осторожно, боясь, что дом скроется, боясь спугнуть его.
Но дом не двигался с места. И ведь есть еще приметы. Вон там стояла ольха, а теперь дуб стоит, как и тогда. И вместо зимнего солнца светит осенняя луна. И ветер дует с запада, а не с севера.
Что — то произошло, сказал себе Дженкинс. Что — то зрело во мне. Я чувствовал, но не мог понять, что именно. Новое свойство развилось? Новое чувство прорезалось? Новая сила, о которой я не подозревал?
Способность переходить по своему желанию из одного мира в другой. Способность переноситься в любое место кратчайшим путем, какой только могут измыслить для меня закрученные нужным образом силовые линии.
Он зашагал смелее, и дом никуда не делся, продолжал стоять, реальный, вещественный.
Он пересек двор, заросший травой, и остановился перед дверью.
Неуверенно поднял руку и взялся за щеколду. Щеколда была настоящая. Нет, не иллюзия, реальный металл.
Он медленно поднял ее, и дверь отворилась внутрь, и он переступил через порог.
Через пять тысяч лет Дженкинс вернулся домой… Вернулся в усадьбу Вебстеров.
Итак, был некогда человек по имени Джо. Не вебстер, а человек. Потому что вебстер — это человек. И не псы были застрельщиками.
Хомер — рыхлый ком шерсти, костей и мышц — лежал перед очагом, вытянув лапы вперед и положив на них голову. Сквозь щелочки глаз он видел пламя и тени, и тепло от горящих поленьев, достав его, распушило шерсть.
Но внутреннему взгляду Хомера рисовался песок, и сидящий на корточках робот, и холмы с гнетущим грузом лет.
Эндрю сидел на корточках на песке и рассказывал, и плечи его озаряло осеннее солнце… Рассказывал про людей, и про псов, и про муравьев. Об одном деле, которое произошло еще во времена Нэтэниела, и было это давным — давно, ведь Нэтэниел был первым псом.
Жил — был человек по имени Джо, человек — мутант, человек — титан, который двенадцать тысяч лет назад обратил внимание на муравьев. И задумался, почему остановилось их развитие, почему их стезя зашла в тупик.
Может быть, голод, рассуждал Джо, беспрестанная необходимость запасать пищу, чтобы выжить. Может быть, спячка, зимний застой, когда рвется цепочка памяти. И начинай все сначала, что ни год — муравьи словно заново на свет появляются.
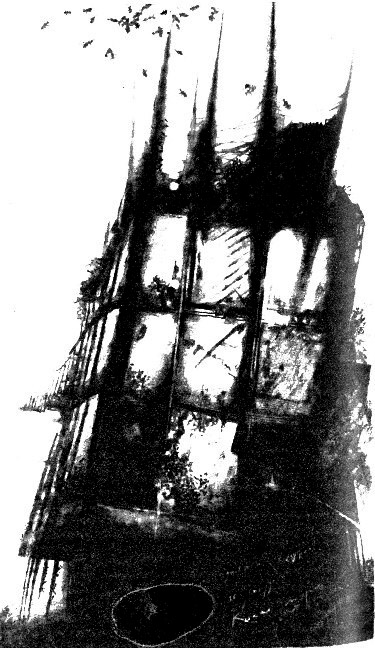
И тогда, говорил Эндрю, поблескивая на солнце металлической лысиной, Джо выбрал один муравейник и назначил себя богом, чтобы изменить судьбы муравьев. Он кормил их, так что им не надо было бороться с голодом. Он накрыл муравейник куполом и подогревал его, так что отпала надобность в зимней спячке.
И вмешательство помогло. Муравьи делали успехи. Они мастерили тележки, и они плавили металл. Это были зримые успехи, ведь тележки катили поверху, а торчащие из муравейника трубы исторгали едкий дым. Чего еще они постигли, чему еще научились в глубине подземных ходов, никто не знал и не ведал.
Джо был сумасшедший, говорил Эндрю. Сумасшедший… А может быть, и не такой уж сумасшедший.
Потому что однажды он разбил плексигласовый купол и ударом ноги распахал муравейник, а затем повернулся и ушел, потеряв всякий интерес к будущему муравьев.
Но муравьи не потеряли интерес.
Рука, разбившая купол, нога, распахавшая муравейник, толкнули муравьев на путь к величию. Заставили их бороться, бороться, чтобы отстоять завоеванное, чтобы стезя их снова не уперлась в тупик.
Встряска, говорил Эндрю. Муравьи получили встряску. И она придала им ускорение в нужном направлении.
Двенадцать тысяч лет назад разрушенный, разваленный муравейник — сегодня могучее здание, растущее с каждым годом. Здание, которое за какую — нибудь сотню лет заняло целый уезд, а еще через сотню лет займет сотню уездов. Здание, которое будет разрастаться, занимая землю. Землю, которая принадлежит не муравьям, а зверям.
Здание… Не совсем это верно, просто с самого начала повелось называть его Зданием. Ведь по — настоящему здание — это убежище, место, где можно укрыться от холода и ненастья. А зачем оно муравьям, когда у них есть подземные ходы и муравейники? Зачем понадобилось муравью воздвигать сооружение, которое за сто лет простерлось на целый уезд и все еще продолжает расти? Какая муравью польза от такого сооружения?
Хомер зарылся подбородком в шерсть между лапами, из горла его вырвалось ворчание.
Этого невозможно понять. Ведь сперва надо понять, как мыслит муравей. Надо понять, к чему он стремится, чего добивается. Надо получить понятие о его знаниях.
Двенадцать тысяч лет познания. Двенадцать тысяч лет, считая от начального уровня, который сам по себе непознаваем.
Но понять нужно. Должен быть способ понять.
Потому что из года в год Здание будет разрастаться. Миля в поперечнике, потом шесть, потом сто. Сто миль, и еще сто, а затем весь мир.
Отступать? сказал себе Хомер. Да, можно отступать. Можно переселиться в другие миры, те самые миры, которые плывут за нами в потоке времени, те самые миры, которые наступают на пятки друг другу. Можно отдать Землю муравьям, нам все равно найдется место.
Но ведь это наш дом. Здесь возникли псы. Здесь мы научили животных говорить, и мыслить, и действовать сообща. Здесь мы создали братство зверей.
Не так уж важно, кто был застрельщиком, — вебстер или пес. Здесь наша родина. В такой же мере наша, как и вебстера. В такой же мере наша, как и муравья. И мы должны остановить муравьев. Должен быть какой — то способ остановить их. Способ переговорить с ними, выяснить, чего они хотят. Способ урезонить их. Должна найтись какая — то основа для переговоров. И путь к соглашению.
Хомер лежал неподвижно перед очагом, слушая наполняющие дом шорохи, мягкую, приглушенную поступь хлопочущих роботов, неразборчивый говор псов где — то этажом выше, треск пламени, обгрызающего полено.
Неплохая жизнь, пробормотал про себя Хомер. Неплохая жизнь, и мы думали, что это все сделано нами. А вот Эндрю говорит — не нами. Эндрю говорит, что мы ни грана не добавили к оставленному нам в наследство инженерному искусству и машинной логике и что нами много утрачено. Он толковал о химии и пробовал что — то объяснить, но я ничего не понял. Толковал об изучении элементов и каких — то атомов и молекул. И электроники… Правда он сказал, что мы без электроники умеем делать такие чудеса, каких не сумел бы сделать человек со всеми его знаниями. Сказал, что можно миллион лет изучать электронику и не добраться до других миров, даже не знать про них…
А мы с этим справились, сделали то, чего вебстер не смог бы сделать.
Потому что мы мыслим не так, как вебстер. Нет, это называется человек, а не вебстер.
Или взять наших роботов. Наши роботы не лучше тех, которые нам оставил человек. Небольшие изменения… очевидные изменения, но никаких существенных улучшений.
Да и кому могла прийти в голову мысль о более совершенном роботе?
Кукурузный початок покрупнее — это понятно. Или грецкий орех поразвесистей. Или водяной рис с колосками потяжелее. Или лучший способ производить дрожжи, заменяющее мясо.
Но более совершенный робот… Зачем, когда робот и так выполняет все, что от него требуется. Зачем его совершенствовать?
А впрочем… Роботы слышат призыв и отправляются работать к Зданию, отправляются строить махину, которая сгонит нас с Земли.
Мы не можем разобраться. Конечно, не можем разобраться. Если бы лучше знали наших роботов, мы, может быть, разобрались бы, в чем дело. И разобравшись, может быть, сумели бы сделать так, чтобы роботы не получали призыва или, услышав призыв, оставляли его без внимания.
А это, конечно, решило бы проблему. Если роботы не будут трудиться, строительство прекратиться. Одни муравьи, без помощи роботов, не смогут продолжать стройку.
По голове Хомера пробежала блоха, и он дернул ухом.
Но ведь Эндрю может ошибаться. У него есть легенда о рождении братства зверей, а у диких роботов есть легенда о падении человека. Кто теперь скажет, которая из легенд верна?
Вообще — то рассказ Эндрю звучит правдоподобно. Были псы, и были роботы, и когда пал человек, их пути разошлись…
Правда, мы оставили себе роботов, которые служили нам руками. Несколько роботов остались с нами, но ни один пес не остался с роботами.
Из какого — то угла вылетела осенняя муха и ошалело заметалась перед пламенем. Пожужжав над головой Хомера, она села ему на нос. Хомер свирепо уставился на нее, а она подняла задние лапки и нахально принялась чистить крылышки. Хомер взмахнул лапой, и муха улетела.
Раздался стук в дверь.
Хомер поднял голову и несколько раз моргнул.
— Войдите, — сказал он наконец.
Это был робот Хезикайя.
— Они поймали Арчи, — сказал Хезикайя.
— Арчи?
— Енота Арчи.
— Ах да, это он убежал.
— Они привели его сюда. Хочешь с ним поговорить?
— Пусть войдут, — сказал Хомер.
Хезикайя сделал знак пальцем, и Арчи трусцой вбежал в комнату. Шерсть его была вся в репьях, хвост волочился по полу. Следом за ним вошли два робота — сторожа.
— Он подбирался к кукурузе, — доложил один из сторожей, — и тут мы его застали, но нам пришлось побегать за ним.
Нехотя сев, Хомер уставился на Арчи. Арчи ответил тем же.
— Они меня ни за что не поймали бы, — сказал он, — будь у меня Руфес. Руфес был мой робот, и он меня предупредил бы.
— А куда же делся Руфес?
— Его сегодня позвал Голос, и он бросил меня, пошел к Зданию.
— Скажи — ка, а с Руфесом ничего не случилось, прежде чем он ушел? Ничего необычного? Ничего из ряда вон выходящего?
— Ничего, — ответил Арчи. — Если не считать, что он шлепнулся на муравейник. Он был очень неуклюжий. Настоящий раззява… Все время спотыкался, в собственных ногах путался. С координацией что — то неладно. Какого — то винтика не хватало.
С носа Арчи соскочила крохотная черная тварь и помчалась по полу. Молниеносным движением лапы енот поймал ее.
— Лучше отойди от него подальше, — предостерег Хезикайя Хомера. — С него блохи так и сыплются.
— Это не блоха. — Арчи возмущенно надул щеки. — Это что — то другое. Я эту тварь сегодня поймал. Она тикает, и она похожа на муравья, но это не муравей.
Тикающая тварь протиснулась между пальцами Арчи и упала на пол. Приземлившись на ноги, она снова ринулась наутек. Урчи выбросил вперед лапу, но тварь увернулась. Мигом добежала до Хезикайи и устремилась вверх по его ноге.
Хомер вскочил, осененный внезапной догадкой.
— Скорей! — вскричал он. — Хватайте ее! Ловите! Не давайте ей…
Но тварь уже исчезла.
Хомер медленно сел опять.
— Стража, — он говорил спокойно, спокойно и сурово, — отведите Хезикайю в тюрьму. Не отходите от него ни на шаг, не давайте ему убежать. Докладывайте обо всем, что он будет делать.
Хезикайя попятился.
— Но я ничего не сделал.
— Верно, — мягко произнес Хомер. — Верно, ты ничего не сделал. Но ты сделаешь. Ты услышишь Голос, и ты попытаешься уйти от нас, уйти к Зданию. И прежде чем отпустить тебя, мы выясним, что заставляет тебя уходить. Что это за штука и как она действует.
Хомер повернулся, оскалив зубы в псиной улыбке.
— Ну так, Арчи…
Но Арчи не было.
Было открытое окно. И никакого Арчи.
Хомер поежился на мягкой постели, ему не хотелось просыпаться, из глотки вырвалось ворчание.
Старею, думал он. Годы гнетут не только холмы, но и меня, их слишком много. А бывало, только заслышу шум за дверью, тотчас вскочу, весь в сене, и лаю как оглашенный, оповещаю роботов.
Снова послышался стук, и Хомер заставил себя встать.
— Входите! — крикнул он. — Сколько можно барабанить, входите!
Дверь отворилась, и вошел робот, такого огромного робота Хомер еще никогда не видел. Блестящий, могучий, тяжелый, полированное туловище даже во мраке светилось, как угли в очаге. А на плече робота восседал енот Арчи.
— Я Дженкинс. — сказал робот. — Я вернулся сегодня ночью.
Хомер судорожно глотнул и сел.
— Дженкинс, — вымолвил он. — У нас есть предания… легенды… старинные легенды.
— Только легенды, и все? — спросил Дженкинс.
— И все, — ответил Хомер. — Есть легенда о роботе, который смотрел за нами. Хотя Эндрю сегодня говорил о Дженкинсе так, словно сам его знал. Есть еще предание о том, как псы подарили вам новое туловище в день вашего семитысячелетия, и это было потрясающее туловище, оно…
У него перехватило дыхание, потому что туловище робота, который стоял перед ним с енотом на плече… это туловище… ну, конечно, это и есть тот подарок.
— А усадьба Вебстеров? — спросил Дженкинс. — Вы смотрите за усадьбой Вебстеров?
— Да, мы смотрим за усадьбой Вебстеров, — сказал Хомер. — Следим, чтобы все было в порядке. Это так положено.
— А Вебстеры?
— Вебстеров нет.
Дженкинс кивнул. Необычно острое чутье уже сказало ему, что вебстеров нет. Не было вебстеровских излучений, не было мыслей о вебстерах в сознании тех, с кем он общался.
Что ж, так и должно быть.
Он медленно прошел через комнату, ступая мягко, как кошка, несмотря на огромный вес, и Хомер ощутил, как он движется, ощутил дружелюбие и доброту этого металлического существа, ощутил заключенную в могучей силе надежную защиту.
Дженкинс присел на корточки перед ним.
— У вас неприятности, — сказал он.
Хомер молча смотрел на него.
— Муравьи, — продолжал Дженкинс. — Арчи рассказал мне. Рассказал, что вам досаждают муравьи.
— Я хотел спрятаться в усадьбе Вебстеров, — объяснил Арчи. — Я боялся, что вы меня опять настигнете, и я подумал, что усадьба Вебстеров…
— Помолчи, Арчи, — остановил его Дженкинс. — Ты ничего не знаешь об усадьбе. Ты сам сказал мне, что не знаешь. Ты просто рассказал, что у псов неприятности с муравьями, и все.
Он снова перевел взгляд на Хомера.
— Я подозреваю, что это муравьи Джо, — сказал он.
— Значит, тебе известно про Джо? — отозвался Хомер. — Значит, на самом деле был человек по имени Джо?
— Да, был такой смутьян, — рассмеялся Дженкинс. — Хотя временами ничего парень. С огоньком.
— Они строят, — сказал Хомер. — Заставляют работать на себя роботов и воздвигают Здание.
— Ну и что, — ответил Дженкинс, — у муравьев тоже есть право строить.
— Но они строят чересчур быстро. Они вытеснят нас с Земли. Еще тысяча лет, и они всю Землю займут, если и дальше будут строить в таком духе.
— А вам некуда деться? Вот что вас заботит.
— Почему же, нам есть куда деться. Места много. Все остальные миры. Миры гоблинов.
Дженкинс важно кивнул.
— Я был в мире гоблинов. Первый мир после этого. Переправил туда несколько вебстеров пять тысяч лет назад. И только сегодня ночью вернулся оттуда. Я понимаю, что вы чувствуете. Никакой другой мир не заменит родного. Я тосковал по Земле все эти пять тысяч лет. Я вернулся в усадьбу Вебстеров и застал там Арчи. Он рассказал мне про муравьев, и тогда я пришел сюда. Надеюсь, вы не против?
— Мы рады тебе, — мягко произнес Хомер.
— Эти муравьи, — продолжал Дженкинс. — Очевидно, вам хотелось бы их остановить.
Хомер кивнул.
— Способ есть, — сказал Дженкинс. — Я знаю, что способ есть. У вебстеров был способ, надо только вспомнить. Но это было так давно. Я помню только, что простой способ. Очень простой способ.
Рука его поднялась и поскребла подбородок.
— Почему ты так делаешь? — спросил Арчи.
— Что?
— Лицо вот так трешь. Почему ты это делаешь?
Дженкинс опустил руку.
— Просто привычка, Арчи. Вебстерская манера. У них был такой способ думать. Я у них перенял.
— И тебе это помогает думать?
— Не знаю, может быть. А может быть, нет. Вебстерам как будто помогало. Ну, хорошо, как поступил бы вебстер в таком случае? Вебстеры могли бы нас выручить. Я знаю, что могли бы.
— Те вебстеры, которые в мире гоблинов? — сказал Хомер.
Дженкинс покачал головой.
— Там нет вебстеров.
— Но ведь ты сказал, что переправил туда…
— Верно. Но теперь их там нет. Я почти четыре тысячи лет как живу один в мире гоблинов.
— Но тогда вебстеров совсем нигде нет. Остальные отправились на Юпитер. Так мне Эндрю сказал. Дженкинс, где находится Юпитер?
— Как же, есть, — ответил Дженкинс. — Я хочу сказать, есть здесь вебстеры. Во всяком случае, были. Те, которые остались в Женеве.
— А дело — то непростое, — заметил Хомер. — Даже для вебстера. Эти муравьи хитрющие. Арчи ведь рассказал тебе про блоху, которую он поймал?
— Это была вовсе не блоха, — возразил Арчи.
— Да, он мне рассказал, — подтвердил Дженкинс. — Сказал, что она залезла на Хезикайю.
— Не совсем так, — сказал Хомер. — Она внутрь залезла. Это была не блоха… это был робот, крохотный робот. Он просверлил дырочку в черепе Хезикайи и забрался в его мозг. А дырочку за собой заделал.
— И чем же теперь занят Хезикайя?
— Ничем, — ответил Хомер. — Но мы наперед знаем, что он сделает, как только робот — муравей изменит настройку. Его позовет Голос. Он услышит призыв и отправится строить Здание.
Дженкинс кивнул:
— Берут управление на себя. Самим такая работа не по силам, поэтому они подчиняют себе тех, кому она по силам.
Он опять поднял руку и поскреб подбородок.
— Интересно, Джо это предвидел? — пробормотал он. — Предвидел, когда выступал в роли бога для муравьев? Да нет, ерунда. Джо не мог этого предвидеть. Даже такой гигант, как Джо, не мог заглянуть на двенадцать тысяч лет вперед.
Так давно это было, подумал Дженкинс. Так много всего произошло с тех пор. Тогда Брюс Вебстер только — только начинал опыты с псами, только начал осуществлять свою мечту о говорящих, мыслящих псах, которые будут идти по дорогам судьбы лапа об руку с Человеком… И не подозревал, что всего через несколько столетий человечество разбредется по вселенной и оставит Землю роботам и псам. Не знал, что само имя человека утонет в прахе веков. Что все племя будут называть фамилией одного рода.
Что же, род Вебстеров того заслуживал. Помню их, словно это было вчера. И ведь было время, когда я о себе самом думал как о Вебстере.
Видит бог, я старался быть Вебстером. Изо всех сил старался. Продолжал помогать вебстерским псам, когда род людской исчез, и наконец переправил последних суматошных представителей этого племени сорвиголов в другой мир, чтобы расчистить путь для псов, чтобы псы могли преобразить Землю по своему разумению.
А теперь и эти последние непоседы исчезли… исчезли куда — то… невесть куда. Нашли убежище в какой — то из причуд человеческой мысли. Что до людей на Юпитере, так ведь они не люди, а что — то другое. И Женева закрыта… отгорожена от всего мира.
А впрочем, вряд ли она более далека или более надежно отгорожена, чем мир, из которого я пришел. Мне бы только разобраться, как у меня это вышло, что я из отшельничества в мире гоблинов вернулся в усадьбу Вебстеров. Тогда, может быть, вероятно, я так или иначе нашел способ проникнуть в Женеву.
Новое свойство, сказал себе Дженкинс. Новая способность. Которая постепенно развивалась незаметно для меня самого. Который любой человек, любой робот… возможно, даже любой Пес… мог бы воспользоваться, суметь бы только разгадать, в чем тут хитрость.
Хотя, может быть, все дело в моем туловище, этом самом туловище, которое псы подарили мне в день семитысячелетия. Туловище, с которым никакая плоть и кровь не сравнятся, которому открыты мысли медведя, и мечты лисы, и снующая в траве крохотная мышиная радость. Исполнение желаний. Возможно. Реализация странного, нелогичного стремления во что бы то ни стало получить то, чего вовсе нет или редко бывает, и что вполне достижимо, если взлелеешь, или разовьешь, или привьешь себе новую способность, которая направляет тело и дух на исполнение желаний.
Я каждый день ходил через этот холм, вспоминал он. Ходил, потому что не мог удержаться, потому что меня неодолимо влекло к нему, но я старался не приглядываться, не хотел видеть всех различий.
Я ходил через него миллион раз, пока сокровенная способность не достигла нужной силы.
Ведь я был в западне. Слово, мысль, образ, которые перенесли меня в мир гоблинов, оказались билетом в один конец, формула доставила меня туда, а в обратную сторону не работала. Но был еще другой способ, которого я не знал. Да я и теперь его не понимаю.
— Ты сказал что — то про способ, — нетерпеливо произнес Хомер.
— Способ?
— Да, способ остановить муравьев.
Дженкинс кивнул.
— Я выясню. Я отправлюсь в Женеву.
Джон Вебстер проснулся.
Странно, подумал он, ведь я сказал — вечно. Сказал, что хочу спать бесконечно, а у бесконечности нет конца.
Все остальное тонуло в серой мгле сонного забытья, но эта мысль четко отпечаталась в сознании: вечно, а это не вечность.
Какое — то слово стучалось в мозг, словно кто — то далеко — далеко стучался в дверь.
Он лежал, прислушиваясь к стуку, и слово превратилось в два слова… два слова, имя и фамилия, его имя и его фамилия.
— Джон Вебстер. Джон Вебстер.
Снова и снова, снова и снова два слова стучались в его мозг.
— Джон Вебстер.
— Джон Вебстер.
— Да, — сказал мозг Вебстера, и слова перестали звучать.
Безмолвие и редеющая мгла забытья. И струйка воспоминаний. Капля за каплей.
Был некогда город, и назывался он Женева.
В городе жили люди, но люди без идеалов.
За пределами города жили Псы… Они населяли весь мир за его пределами. У Псов был идеал и была мечта.
Сара поднялась на холм, чтобы на сто лет перенестись в мир мечты.
А я… Я поднялся на холм и сказал: вечно. Это не вечность.
— Это Дженкинс, Джон Вебстер.
— Слушаю, Дженкинс, — сказал Джон Вебстер, но сказал не ртом, и не языком, и не губами, потому что чувствовал, как его тело в капсуле облегает жидкость, которая питала его и не давала ему обезвоживаться. Жидкость, которая запечатала его губы, и уши, и глаза.
— Слушаю, Дженкинс, — мысленно ответил Вебстер. — Я тебя помню. Теперь вспомнил. Ты был с нами с самого начала. Ты помогал нам обучать псов. Ты остался с ними, когда кончился наш род.
— Я и теперь с ними, — ответил Дженкинс.
— Я укрылся в вечность, — сказал Вебстер. — Закрыл город и укрылся в вечность.
— Мы часто думали об этом, — сказал Дженкинс. — Зачем вы закрыли город?
— Псы, — отозвался мозг Вебстера. — Чтобы псы использовали возможность.
— Псы развернулись вовсю. — сообщил Дженкинс.
— А город теперь открыт?
— Нет, город по — прежнему закрыт.
— Но ведь ты здесь.
— Да, но я один знаю путь. И других не будет. Во всяком случае, до тех пор еще много времени пройдет.
— Время, — произнес Вебстер. — Я уже забыл про время. Сколько времени прошло, Дженкинс?
— С тех пор, как вы закрыли город? Около десяти тысяч лет.
— А здесь еще кто — нибудь есть?
— Есть, но они спят.
— А роботы? Роботы по — прежнему бродят?
— Роботы по — прежнему бдят.
Вебстер лежат спокойно, и в душе его воцарился покой. Город по — прежнему закрыт, и последние люди спят. Псы развернулись, и роботы бдят.
— Напрасно ты меня разбудил, — сказал он. — Напрасно прервал сон.
— Мне нужно узнать одну вещь. Я знал когда — то, но забыл, а дело совсем простое. Простое, но страшно важное.
Вебстер мысленно рассмеялся.
— Ну, что у тебя за дело, Дженкинс?
— Это насчет муравьев, — сказал Дженкинс. — Муравьи, бывало, досаждали людям. Как вы тогда поступали?
— Очень просто, мы их травили, — ответил Вебстер.
Дженкинс ахнул.
— Травили?!
— Ну да, — сказал Вебстер. — Это очень просто. Мы приманивали муравьев на сироп, сладкий сироп. А в сироп был добавлен яд, смертельный яд для муравьев. Но яд добавляли в меру, чтобы не сразу убивал. Он действовал медленно, понимаешь, так что они успевали его донести до муравейника. Таким способом мы убивали сразу много муравьев, а не двух или трех.
В голове Вебстера жужжала тишина… ни мыслей, ни слов.
— Дженкинс, — окликнул он. — Дженкинс, ты…
— Да, Джон Вебстер, я здесь.
— Это все, что тебе надо?
— Да, это все, что мне надо.
— Мне можно снова уснуть?
— Да, Джон Вебстер. Можете снова уснуть.
Стоя на холме, Дженкинс ощутил летящее над краем первое суровое дыхание зимы. Склон спадал к реке черными и серыми штрихами, торчали скелеты оголившихся деревьев.
На северо — востоке возвышался призрачный силуэт, зловещее предзнаменование, нареченное Зданием. Неуклонно растущее порождение муравьиного мозга, и никто, кроме муравьев, даже представить себе не может, для чего и зачем оно строится.
Но с муравьями можно бороться, есть способ.
Человеческий способ.
Способ, про который Джон Вебстер рассказал ему, проспав десять тысяч лет. Простой и надежный способ, жестокий, но действенный способ. Взять сиропа, сладкого сиропа, чтобы пришелся по вкусу муравьям, и добавить в него яду… Такого яду, чтобы не сразу подействовал.
Простой способ — яд, сказал себе Дженкинс. Простейший способ.
Да только тут нужна химия, а химия псам неизвестна.
Да только тут нужно убивать, а убийства прекращены.
Даже блох не убивают, а блохи отчаянно донимают псов. Даже муравьев… и муравьи грозят отнять у зверей их родной мир.
Уже пять тысяч лет, если не больше, как не было убийства. Сама мысль об убийстве искоренена из сознания тварей.
И так — то оно лучше, сказал себе Дженкинс. Лучше потерять этот мир, чем снова убивать.
Он медленно повернулся и пошел вниз по склону.
Хомер огорчится.
Страшно огорчится, когда услышит, что вебстеры не знали способа бороться с муравьями…
Все живое…

1
Когда я выехал из нашего городишка и повернул на шоссе, позади оказался грузовик. Этакая тяжелая громадина с прицепом, и неслась она во весь дух. Шоссе здесь срезает угол городка, и скорость разрешается не больше сорока пяти миль в час, но в такую рань, понятно, никто не станет обращать внимание на дорожные знаки.
Впрочем, я тотчас забыл о грузовике. Примерно через милю, у «Стоянки Джонни», надо было подобрать Элфа Питерсона; он, наверно, уже ждал меня там со своей рыболовной снастью. Было и еще о чем подумать: прежде всего загадочный телефон; и с кем я все — таки говорил? Три разных голоса, но все какие — то странные, и почему — то казалось — это один и тот же голос так чудно меняется, он мне даже знаком, только никак не сообразить, кто же это. Затем Джералд Шервуд — как он сидит у себя в кабинете, где две стены сплошь заставлены книгами, и рассказывает мне о рабочих чертежах, что непрошеные, сами собой, возникают у него в голове. И еще Шкалик Грант как он меня заклинал не допустить, чтобы сбросили бомбу. И про полторы тысячи долларов тоже следовало подумать.
Дорога вела прямо к владениям Шервуда, но дом его на вершине холма было не разглядеть, он совсем терялся среди вековых дубов, которые обступали его со всех сторон, огромные и черные в предрассветной мгле. Глядя на вершину холма, я позабыл и про телефон, и про Джералда Шервуда, его заставленный книгами кабинет и голову, битком набитую проектами, и стал думать о Нэнси, — мы когда — то вместе учились в школе и вот снова встретились после стольких лет. Мне вспомнились те дни, когда мы с ней были неразлучны и всюду ходили, взявшись за руки, неповторимо гордые и счастливые — так бывает только раз в жизни, в юности, когда весь мир молод и первая безоглядная любовь ошеломляет свежестью и новизной.
Передо мною лежало широкое пустынное шоссе, рассчитанное на езду в четыре ряда, миль через двадцать оно сузится до двухрядного. Сейчас на нем только и было, что моя машина да тот грузовик, он мчал полным ходом. По отражению его фар в моем зеркальце я понимал, что он вот — вот меня обгонит.
Я ехал не быстро, места для обгона было вдоволь, наткнуться не на что, — и вдруг я на что — то наткнулся.
Словно уперся в протянутую поперек дороги полосу очень прочной резины. Ни стука, ни треска. Просто машина стала замедлять ход, как будто я нажал на тормоза. Ничего не было видно, и я сперва подумал: что — то стряслось с машиной — мотор забарахлил, тормоз отказал или еще что — нибудь неладно. Я снял ногу с педали, и машина остановилась, а потом стала пятиться — быстрей, быстрей, точно я и впрямь уткнулся в упругую ленту и она прогнулась, а теперь расправляется. Завизжали покрышки, запахло резиной; тогда я выключил мотор — и тотчас машину отбросило назад, да так, что меня швырнуло на баранку.
Позади яростно взревел клаксон, стоном заскрипели шины, грузовик круто вильнул в сторону, чтобы не напороться на меня. Он со свистом пронесся мимо, казалось, шины смачно причмокивают, всасывая в себя шоссе, и огромная махина свирепо рычит на меня, как на досадную помеху. Он промчался, а моя машина наконец остановилась на самой обочине.
И тут грузовик налетел на тот же заслон, что и я. Послышалось что — то вроде негромкого всплеска. Я подумал — пожалуй, грузовик прорвет эту непонятную преграду, уж очень он был большой, тяжелый, и гнал во всю мочь, и еще секунду — другую ничуть не сбавлял скорость. А потом он все — таки стал замедлять ход, и я видел: огромные колеса скользят и подскакивают, упрямо вертятся вхолостую — и нисколько не продвигаются вперед. Тяжелая машина пролетела дальше того места, где сперва остановился я, футов на сто. Потом остановилась, забуксовала и начала скользить назад. Сперва плавно, только покрышки визжали, сползая по асфальту, а потом ее занесло. Прицеп вывернулся вбок и стал пятиться поперек дороги, прямо на меня.
Все это время я преспокойно сидел за рулем, не ошарашенный случившимся, даже не слишком удивленный. Просто не успел удивиться. Да, конечно, произошло что — то странное, но, видно, ощущение у меня было такое: вот сейчас соберусь с мыслями — и все станет на свое место.
Итак, я сидел и смотрел, что творится с грузовиком. Но когда его стало отжимать назад, а прицеп занесло вбок, я схватился за ручку, наддал плечом на дверцу и вывалился из машины. Треснулся об асфальт, кое — как вскочил и кинулся бежать.
Позади раздался визг покрышек, металлический грохот и лязг — тут я соскочил на поросшую травой обочину и оглянулся. Прицеп врезался в мою машину, свалил ее в канаву и теперь медленно, чуть ли не величественно опрокидывался туда же, прямо на нее.
— Эй, ты! — заорал я.
Толку, понятно, никакого, да я и не ждал толку. Просто сорвалось с языка.
Грузовик удержался на дороге, только накренился так, что одно колесо повисло в воздухе. Из кабины осторожно выбирался водитель.
Вокруг было тихо, мирно. На западе по еще темному небосклону метались зарницы. В воздухе та свежесть, что бывает только ранним летним утром, пока не взошло солнце и на тебя не обрушилась жара. Справа на улице еще горели фонари — яркие, неподвижные в полнейшем безветрии. Чудесное утро, подумал я, в такое утро просто не может случиться ничего худого.
На шоссе по — прежнему было пусто — только я да водитель грузовика, его машина наполовину сползла в канаву, придавив мою. Он направился ко мне.
Подошел, остановился, свесив руки, поглядел на меня круглыми глазами.
— Что за чертовщина? — сказал он. — На что это мы напоролись?
— Понятия не имею, — ответил я.
— Вашей машине досталось, уж не взыщите, — продолжал он. — Я доложу, как было дело. Убытки вам возвестят.
Он стоял передо мной, точно в землю врос и никогда уже не сдвинется.
— Надо же — споткнуться о пустое место! Тут же ничего нет! — сказал он. В нем разгоралась злость. — Нет, черт подери, сейчас я докопаюсь, что там такое!
Он круто повернулся и зашагал туда, где мы налетели на невидимое препятствие. Я пошел за ним. Он глухо ворчал, точно разъяренный кабан.
Шагая по самой середине шоссе, он наткнулся на ту же невидимую преграду, но теперь он уже себя не помнил от бешенства и не собирался отступать — он все рвался вперед, я никак не ждал, что он пройдет так далеко. Но в конце концов непонятная помеха все — таки остановила его, и секунду он стоял, нелепо наклонясь, упираясь всем телом в пустоту, и упрямо переступал ногами: как будто работали хорошо смазанные рычаги, тщетно силясь сдвинуть его еще хоть на шаг вперед. В утренней тишине громко шаркали по асфальту тяжелые башмаки.
А потом загадочный барьер задал ему жару. Его отшвырнуло прочь — будто внезапным порывом ветра свалило с ног, и он покатился кувырком по шоссе. Наконец он влетел под задранный в небо нос своего же грузовика и там застрял.
Я подбежал к нему, выволок за ноги из — под машины и помог подняться. Он был весь в кровоточащих ссадинах — ободрало асфальтом, — одежда разорвана и перепачкана. Но злость как рукой сняло — теперь он попросту перепугался. Он с ужасом глядел на дорогу, будто ему там явилось привидение, и его била дрожь.
— Там же ничего нет! — сказал он.
— Скоро день, пойдут машины, а ваша торчит на самом ходу, — сказал я. — Может, выставим сигналы, фонари, что ли, или флажки?
Тут он словно опомнился.
— Флажки?
Залез в свою кабину, вытащил сигнальные флажки и пошел расставлять их поперек шоссе. Я шагал рядом.
Установив последний флажок, он присел на корточки, вытащил платок и стал утирать лицо.
— Где тут телефон? — спросил он. — Надо вызвать подмогу.
— Кто — нибудь должен сообразить как снять этот барьер, сказал я. — Скоро здесь набьется полно машин. Такая будет пробка — на несколько миль.
Он все утирал лицо. Оно было в поту и в смазке. И ссадины еще кровоточили.
— Так откуда тут позвонить? — повторил он.
— Да откуда угодно, — сказал я. — Зайдите в любой дом, к телефону всюду пустят.
А про себя подумал: ну и ну, разговариваем так, будто на дороге нет ничего необыкновенного, просто дерево упало поперек или канаву размыло.
— Послушайте, а как называется это место? Надо же им сказать, где я застрял.
— Милвилл, — сказал я.
— Вы здешний?
Я кивнул.
Он поднялся, засунул платок в карман.
— Ладно, — сказал он. — Пойду поищу телефон.
Он ждал, что я пойду с ним, но у меня была другая забота. Надо было обойти эту непонятную штуку, которая перегородила шоссе, добраться до «Стоянки Джонни» и объяснить Элфу, почему я задержался.
Я стоял и смотрел вслед водителю грузовика.
Потом повернулся и пошел в другую сторону, к тому невидимому, что останавливало машины. Оно остановило и меня — не рывком, не толчком, а мягко: словно, отнюдь не собираясь меня пропустить, предпочитало при этом сохранять учтивость и благоразумие. Я протянул руку — ничего! Я пытался нащупать невидимую стену, потереть ее, погладить — но погладить было нечего, моя ладонь ничего не ощущала, под нею ничего не было, ровным счетом ничего, — одна лишь непонятная сила, которая мягко отталкивала, отжимала меня прочь.
Я посмотрел в один конец шоссе, потом в другой — никаких машин все еще не было, но я знал, скоро они появятся. Может, расставить флажки по ту сторону барьера, чтоб встречные машины на него не напоролись? Надо же предупредить людей, раз тут неладно. Это минутное дело, поставлю их на ходу, когда буду огибать барьер, чтоб добраться до «Стоянки Джонни».
Я вернулся к грузовику, нашел в кабине два флажка, спустился с насыпи в кювет и стал взбираться на холм, думая обойти невидимый барьер по кривой, — и, описывая эту широкую кривую, снова наткнулся на преграду. Я попятился и пошел вдоль нее, все время взбираясь в гору. Это оказалось нелегко. Будь этот самый барьер обыкновенной стеной или забором, все было бы просто, но он был невидим, и я то и дело на него наталкивался. Вот таким — то способом и пришлось определять, где он: упрешься в него, вильнешь в сторону, потом опять упрешься…
Я думал, барьер вот — вот кончится или, может быть, станет потоньше. Несколько раз пытался пойти напролом, но преграда была все такой же плотной и неподатливой. Страшная мысль шевельнулась у меня в голове. И чем выше взбирался я на холм, тем настойчивей становилась эта мысль. Наверно, тогда — то я и обронил флажки.
Внизу послышался скрип буксующих колес, и я обернулся. Машина, направлявшаяся на восток, нам навстречу, уперлась в барьер, — и теперь ее заносило назад и вбок, поперек шоссе. Другая машина, шедшая следом, пыталась затормозить. Но то ли тормоза отказали, то ли слишком она разогналась — и не смогла остановиться вовремя. У меня на глазах шофер круто свернул, машина съехала одним боком на траву и все — таки другим слегка задела ту, что стояла поперек. Потом наткнулась на барьер, но скорость была уже невелика, и машина мало продвинулась вглубь. Барьер медленно отжал ее назад, она уткнулась в первую машину и остановилась.
Первый шофер выбрался наружу и двинулся в обход своей машины ко второму автомобилю. И вдруг вскинул голову — видно, заметил меня. Он замахал руками, что — то закричал, но на таком расстоянии я не разобрал слов.
На нашей стороне шоссе все еще было пусто, если не считать моей машины и подмявшего ее грузовика. Странно, почему больше никто не едет на запад, мелькнуло у меня.
На холме стоял дом, почему — то к его не узнал. Не мог же я не знать хозяев, ведь я всю жизнь прожил в Милвилле, только на год уезжал в колледж, и все милвиллцы мне хорошо знакомы. Непонятно почему, на минуту у меня в голове все перепуталось. Я ничего вокруг не узнавал и стоял в растерянности, пытаясь понять, куда же меня занесло.
Восток все светлел, еще полчаса — и взойдет солнце. На западе громоздились гневные тучи, их опять и опять взмахами огненной шпаги прорезла молния: надвигалась гроза.
Я стоял и смотрел вниз, на наш городишко, и наконец понял где я: на холме живет Билл Доневен, мусорщик.
Вдоль невидимого барьера я двинулся к дому Билла и на мгновенье усомнился — а не окажется ли он по ту сторону? Нет, скорее по эту, но впритык к барьеру.
Я дошел до забора, перелез через него и зашагал по захламленному двору к покосившемуся заднему крыльцу. Осторожно поднялся по шатким ступеням, поискал глазами звонок. Звонка не оказалось. Я постучал в дверь кулаком и стал ждать. В доме послышалось движение, дверь распахнулась — на пороге стоял Билл, он в недоумении уставился на меня. Огромный, косматый, как медведь, волосы дыбом, свирепые брови насуплены. Поверх пижамы он натянул брюки, но не успел застегнуть их, так что клок лиловой пижамы торчал наружу. Обуться он тоже не успел и стоял босой, зябко поджимая пальцы: пол в кухне был холодный.
— Что случилось, Брэд? — спросил он.
— Сам не знаю, — сказал я. — На шоссе творится что — то непонятное.
— Авария?
— Не авария. Говорю тебе, сам не знаю, что такое. Поперек дороги какой — то барьер. Его не видно, а проехать нельзя. Упрешься в него — и ни с места. Вроде как стена, только ее ни потрогать, ни нащупать нельзя.
— Входи — ка, — сказал Билл. — Выпей чашку кофе, тебе не повредит. Сейчас сварю. Все равно пора завтракать. Жена уже встает.
Он протянул руку и зажег в кухне свет, потом посторонился, давая мне пройти. Шагнул к раковине, снял с полки стакан и отвернул кран.
— Надо немного слить, а то теплая, — пояснил он. Наполнил стакан холодной водой и протянул мне: — Выпей.
— Спасибо, не хочу, — сказал я.
Билл поднес стакан к губам и стал пить большими, шумными глотками.
Где — то в доме раздался отчаянный женский вопль. Проживи я хоть до ста лет, мне его не забыть.
Доневен выронил стакан — расплескалась вода, брызнули осколки.
— Лиз! — закричал он. — Лиз, что с тобой?
Он бросился вон из кухни, а я застыл на месте, не сводя глаз с кровавых следов на полу: Доневен босыми ногами напоролся на стекло.
Опять закричала женщина, но на этот раз глуше, словно уткнулась лицом в подушку или в стену.
Я наугад прошел из кухни в столовую, споткнулся то ли о скамеечку, то ли о какую — то игрушку, пролетел до середины комнаты, изо всех сил стараясь не упасть и не грохнуться головой о стол или стул…
…и снова налетел на ту же упругую стену, что остановила меня на шоссе. Я уперся в нее, навалился на нее всем телом, кое — как выпрямился и стал посреди столовой, в полутьме, перед этой невидимой стеной; мороз продирал по коже, все внутри переворачивалось от страха.
Я больше не касался этой стены, но чувствовал: вот она, передо мной. Там, на дороге, под открытым небом я только изумлялся и недоумевал — но тут, в доме, в обычном человеческом жилище мне стало по — настоящему жутко от этого непостижимого дьявольского наваждения.
— Дети! — кричала женщина. — Я не могу попасть к детям!
Теперь, хоть окна были занавешены, я немного осмотрелся. Разглядел стол, буфет и дверь, ведущую в коридор и дальше в спальню.
На пороге появился Доневен. Он вел жену, вернее сказать, почти нес на руках.
— Я хотела к детям! — кричала она. — Там… там что — то есть, оно меня не пускает. Я не могу пройти к детям!
Доневен посадил ее прямо на пол, прислонил к стене и осторожно опустился рядом на колени. Потом поднял голову и посмотрел на меня, в глазах у него были и растерянность, и ярость, и страх.
— Это тот самый барьер, — сказал я. — Тот, что на шоссе. Он проходит через ваш дом.
— Но я не вижу никакого барьера, — возразил Доневен.
— Его никто не видит, черт бы его побрал. Но все равно он тут.
— Как же нам быть?
— С детьми ничего не случилось, — уверил я, от души надеясь, что так оно и есть. — Просто они по ту сторону барьера. Мы не можем добраться до них, а они до нас, но с ними ничего худого не случилось.
— Я только пошла на них поглядеть, — повторяла женщина. — Встала, пошла на них поглядеть, а там в коридоре что — то есть… и оно не пускает…
— Сколько у вас детей? — спросил я.
— Двое, — ответил Доневен. — Меньшому шесть, старшему восемь.
— А нельзя кому — нибудь позвонить? Есть у вас кто — нибудь, кто живет не в самом Милвилле? Пускай приедут, возьмут детишек и позаботятся о них, пока мы тут разберемся, что к чему. Кончается же где — нибудь эта стена. Я как раз и искал, где ей конец…
— У нее есть сестра, — кивнул Доневен на жену. — Живет от нас миль за пять, дальше по шоссе.
— Вот ты ей и позвони, — сказал я.
И тут меня как обухом по голове стукнуло, а вдруг телефон не работает? Вдруг этот окаянный барьер перерезал провода?
— Посидишь минутку одна, Лиз? — спросил Доневен.
Жена только мотнула головой; она все еще сидела на полу и даже не пыталась подняться.
— Пойду позвоню Мирт, — сказал он.
Я прошел за ним в кухню; телефон висел на стене, и, когда Билл взялся за трубку, я затаил дыхание и отчаянно взмолился про себя: только бы работал! На сей раз мои надежды не пропали втуне: едва Билл снял трубку, я услышал слабое жужжанье — линия работала.
Из столовой доносились приглушенные всхлипывания миссис Доневен.
Грубыми, корявыми пальцами, темными от несмываемой, въевшейся в кожу грязи, Доневен стал поворачивать диск, видно было, что занятие это ему не в привычку. Наконец он набрал номер.
Он ждал, прижав трубку к уху. В кухне стояла такая тишина, что я отчетливо слышал гудки.
— Это ты, Мирт? — сказал потом Доневен. — Да, это я, Билл. У нас тут вышла заварушка. Может, вы с Джейком приедете?.. Да нет, просто что — то неладно, Мирт. Не могу толком объяснить. Может, вы приедете и заберете ребят? Только идите с парадного крыльца. С черного не войти… Да вот такая чертовщина, ничего понять нельзя. Вроде какая — то стенка появилась. Мы с Лиз сидим в задних комнатах, а в передние пройти не можем. А ребятишки там… Нет, Мирт, я и сам не знаю, что это такое. Только ты уж делай, как я говорю. Детишки там одни, и нам до них никак не добраться… Ну да, так весь дом и перегородило. Скажи Джейку, пускай прихватит с собой топор. Эта штука перегородила дом напополам. Парадная дверь на запоре, придется Джейку ее ломать. Или пускай окно выбьет, может, это проще… Ну да, ну да, я прекрасно понимаю, что говорю. А ты давай не спорь. Что угодно ломайте, только вытащите ребят. Ничего я не спятил. Говорят тебе, тут что — то неладно. Что — то стряслось неладное. Ты знай слушай, Мирт, и делай, что говорят… Да плевать на дверь, ломайте ее к чертям. Так ли, эдак ли, только вытащите малышей и приглядите за ними, пока мы тут торчим.
Он повесил трубку и обернулся ко мне. Рукавом утер взмокший лоб.
— Вот бестолочь, — сказал он. — Спорит и спорит. Лишь бы языком трепать… — Он поглядел на меня. — Ну, дальше что?
— Пойдем вдоль барьера, — сказал я. — Посмотрим, докуда он тянется. Глядишь, и отыщем такое место, где его можно обойти. Тогда и доберемся до ваших малышей.
— Пошли.
Я махнул в сторону столовой:
— А жену одну оставишь?
— Нет, — сказал он. — Нет, это не годится. Ты ступай вперед. Мирт с Джейком приедут, заберут ребят. А я сведу Лиз к кому — нибудь из соседей. И тогда уж тебя догоню. Дело такое, может, тебе понадобится подмога.
— Спасибо, — сказал я.
За окнами, по холмам и полям, уже понемногу разливался бледный предутренний свет. От всего исходило призрачное сияние — не то чтобы белое, но и не какого — нибудь определенного света, — так бывает только ранней ранью в августе.
Внизу на шоссе, по ту сторону барьера, сгрудились десятка два машин державших путь нам навстречу, на восток; кучками стояли люди. До меня доносился громкий голос, он с жаром, не умолкая, что — то выкрикивал, такой неугомонный горлопан непременно найдется в любой толпе. Кто — то развел на зеленой разделительной полосе небольшой костер, непонятно зачем — утро выдалось совсем теплое, а днем наверняка будет жара невыносимая.
И тут я вспомнил: я же хотел как — то связаться с Элфом и предупредить, что не приеду. Надо было позвонить от Доневена, а я совсем про это забыл. Я стоял в нерешимости — может, все — таки вернуться? Ведь ради этого телефонного звонка я и зашел к Доневену?
На шоссе скопились машины, идущие на восток, а на запад держали путь только моя машина да придавивший ее грузовик стало быть, где — то дальше на востоке дорога тоже перекрыта. Так может быть… может быть, Милвилл огорожен со всех сторон?
Я раздумал звонить и двинулся в обход дома. Снова наткнулся на невидимую стену и пошел вдоль нее. Теперь я уже немного освоился с нею. Я смутно ощущал, что она здесь, рядом, и шел, доверяясь этому ощущению, так что держался чуть поодаль и лишь изредка все же на нее натыкался. В общем барьер шел по окраине Милвилла, лишь несколько одиноких домишек остались по другую сторону. Идя вдоль него, я пересек несколько тропинок, миновал две — три улочки, которые никуда ни вели, а просто обрывались на краю поля, и наконец дошел до неширокой дороги, что соединяет Милвилл с Кун Вэли, — это от нас миль за десять.
Дорога здесь спускается к Милвиллу по отлогому склону, и на склоне, сразу за барьером, стояла машина — старый — престарый расхлябанный драндулет. Мотор работал, дверца со стороны водителя была распахнута настежь, но внутри и вокруг ни души. Похоже, что водитель, наткнувшись на невидимую стену, перетрусил и бежал куда глаза глядят.
Пока я стоял и смотрел, тормоза стали отпускать и драндулет двинулся вперед — сперва еле — еле, чуть заметно, потом быстрей, быстрей; под конец тормоза отказали начисто, машина рванулась под гору, через барьер, и налетела на дерево. Она медленно опрокинулась набок, из — под капота просочилась струйка дыма.
Но я вмиг забыл о машине, тут было кое — что поважней. Я бегом кинулся туда.
Драндулет прошел сквозь барьер, проехал дальше по дороге и разбился — значит, в этом месте никакого барьера нет! Я дошел до конца!
Я бежал по дороге вне себя от радости, у меня гора с плеч свалилась, ведь я все время втайне опасался — и с большим трудом подавлял это чувство, — что барьер идет вокруг всего Милвилла. Но облегчения и радости хватило не надолго я опять грохнулся о барьер. Грохнулся изрядно, потому что налетел на него с разбегу, ведь я был уверен, что его здесь нет, и очень спешил в этом утвердиться. С разгона я продвинулся еще на три прыжка, глубже врезался в невидимое — и тут оно меня отшвырнуло. Я распластался на спине, с маху ударился затылком о мостовую. Из глаз посыпались искры.
Я медленно перекатился на бок, встал на четвереньки и постоял так минуту — другую, точно пес, угодивший под колеса; голова бессильно болталась, и я изредка поматывал ею, пытаясь избавиться от искр, которые все еще мелькали перед глазами.
На дороге затрещало, взревело пламя, и я вскочил. Ноги подгибались, меня шатало и качало, но надо было уходить. Разбитая машина горела, как свеча, того и гляди пламя дойдет до бензобака и ее взорвет ко всем чертям.
Впрочем, эффект оказался поскромнее, чем я ожидал: в машине глухо, свирепо фыркнуло и взвился огненный фонтан. Все — таки получилось достаточно шумно, и кое — кто вышел посмотреть, что происходит. По дороге бежали доктор Фабиан и адвокат Николс, а за ними с громкими криками и лаем неслась орава мальчишек и собак.
Пожалуй, стоило бы их дождаться, я многое мог им сказать и мне не хватало слушателей, но я тут же передумал. Медлить нельзя, надо проследить, куда идет дальше этот барьер, и найти, где он кончается… если только он где — нибудь кончается.
В голове у меня стало проясняться, перед глазами уже не плясали искры, и я немного собрался с мыслями.
Одно ясно и несомненно: пустая машина может прорваться сквозь барьер, но если в ней кто — нибудь есть, барьер нипочем ее не пропустит. Человеку его не одолеть, но можно снять телефонную трубку и говорить с кем угодно. И ведь еще раньше на шоссе я слышал крики людей, стоявших по ту сторону, слышал совсем отчетливо.
Я подобрал несколько палок и камней и стал кидать в барьер. Они пролетели насквозь, словно не встречали никакой преграды.
Стало быть, этот барьер неодушевленным предметам не помеха. Он только не пропускает ничего живого. Но откуда он, спрашивается, взялся? И для чего это нужно — не пускать к нам или не выпускать от нас ни одно живое существо?!
А между тем Милвилл просыпался.
Вышел на заднее крыльцо наш парикмахер Флойд Колдуэлл без пиджака, подтяжки болтаются. Во всем Милвилле, кроме доктора Фабиана, один только Флойд ходит в подтяжках. Но у старика доктора они черные и узкие, как и подобает человеку степенному, а Флойд щеголяет в широченных и притом ярко — красных. Все, кому не лень, острят насчет этих его красных подтяжек, но Флойд не обижается. Он у нас малый не промах, сам первый остряк — и, видно, не зря старается: прославился на всю округу, от клиентов отбою нет, фермеры, которые с таким же успехом могли бы постричься в Кун Вэли, предпочитают съездить к нам в Милвилл, лишь бы послушать шуточки Флойда и поглядеть, как он валяет дурака.
Стоя на заднем крыльце, Флойд потянулся и зевнул. Потом поглядел на небо — какова будет погода? — и почесал бок. Где — то в конце улицы женский голос позвал собаку, и немного погодя хлопнула дверь — значит, собака прибежала на зов.
Странно, подумал я, все спокойно, никто не поднял тревогу. Может быть, пока еще мало кто знает про этот барьер. Может, те немногие, кто на него наткнулся, слишком ошарашены и еще не успели опомниться. Может, им еще не верится. А возможно, они, как и я, боятся сразу поднимать шум, пробуют сперва хоть отчасти разобраться, что к чему.
Но, конечно, это безмятежное спокойствие не надолго. Еще немного — и поднимется суматоха.
Теперь, двигаясь вдоль барьера, я шел задворками одного из самых старых домов Милвилла. Некогда это был красивый, с большим вкусом построенный особняк, но владельцы давно обеднели, и теперь здесь царила мерзость запустения.
По шатким ступеням заднего крыльца, опираясь на палку, спускалась тощая старуха. Редкие, совершенно белые волосы развевались даже в безветрии, окружая ее голову зыбким ореолом.
Она поплелась было по дорожке, ведущей в убогий садик, но заметила меня, остановилась и стала приглядываться, по — птичьи склонив голову набок. За толстыми стеклами очков поблескивали выцветшие голубые глаза.
— Как будто Брэд Картер? — неуверенно сказала она.
— Он самый, миссис Тайлер. Как вы нынче себя чувствуете?
— Да так, терпимо, — отвечала старуха. — Лучшего мне ждать не приходится. Я так и подумала, что это ты, а потом засомневалась, уж очень стала слаба глазами.
— Славное утро выдалось, миссис Тайлер. Погодка — лучше не надо.
— Верно, верно. А я вот ищу Таппера. Опять он куда — то запропастился. Ты его не видал, нет?
Я покачал головой. Уже десять лет никто не видал Таппера Тайлера.
— Такой неугомонный мальчишка, — продолжала она. — Вечно он где — то плутает. Прямо не знаю, как с ним быть.
— Не тревожьтесь, — сказал я. — Побродит, да и придет.
— Надо полагать, он ведь всегда так. — Она потыкала палкой в землю, где росли, окаймляя дорожку, лиловые цветы. — Очень они хороши в нынешнем году. И не упомню, когда они так пышно распускались. Твой отец дал мне их двадцать лет тому назад. Мистер Тайлер с твоим отцом были такие друзья водой не разольешь. Ты, конечно, и сам помнишь.
— Да, — сказал я, — это я очень хорошо помню.
— А как поживает твоя матушка? Расскажи мне про нее. Прежде — то мы с нею часто виделись.
— Вы запамятовали, миссис Тайлер, — мягко сказал я. Матушка уже скоро два года как умерла.
— Да, да, твоя правда. Совсем я стала беспамятная. А все от старости. И зачем только ее придумали!
— Мне пора, — сказал я. — Рад был вас повидать.
— Очень приятно, что ты меня навестил, — сказала миссис Тайлер. — Может, у тебя есть минутка свободная? Зашел бы в дом, выпил бы чаю. Теперь редко кто заходит на чашку чая. Видно, времена не те. Все спешат, всем недосуг, чайку попить — и то некогда.
— Простите, никак не могу, — сказал я. — Я только так, по дороге заглянул.
— Что ж, очень мило с твоей стороны. Если, часом, увидишь Таппера, будь так добр, скажи ему, пусть идет домой.
— Непременно скажу, — пообещал я.
Я рад был унести ноги. Конечно, старуха очень славная, но все — таки немного не в своем уме. Столько лет, как Таппер исчез, а она все ждет его, будто он только что вышел, и всегда она спокойная, и ничуть не сомневается, что он вот — вот вернется. Так здраво рассуждает, такая приветливая, ласковая, и только самую малость тревожится о полоумном сыне, который десять лет назад как сквозь землю провалился.
Он всегда был нудный, этот Таппер. Ужасно всем надоедал, а мне больше всех. Он очень любил цветы, а у моего отца были теплицы. Таппер вечно возле них околачивался, и отец, неисправимый добряк, который за всю жизнь мухи не обидел, конечно, терпел его присутствие и его неумолчную бессмысленную болтовню. Таппер привязался и ко мне и, как я его ни гнал, всюду ходил за мной по пятам. Он был старше меня лет на десять, но это ему не мешало: сущий младенец умом, он с годами не становился разумнее. Так и слышу его беспечный лепет — как он бессмысленно радуется всему на свете, что — то ласково лопочет цветам, пристает с дурацкими вопросами. Понятно, я его не выносил, но по — настоящему возненавидеть его было не за что. Таппер был вроде стихийного бедствия — его приходилось терпеть. И не забыть мне, как он беззаботно и весело лопотал, распуская при этом слюни, не забыть его нелепую привычку поминутно пересчитывать собственные пальцы бог весть зачем ему это было нужно, быть может, он боялся их растерять.
Взошло солнце, все вокруг засверкало в потоках света, и тут я окончательно уверился, что наш Милвилл окружен и отрезан от мира: кто — то (или что — то), неведомо почему и зачем, засадил нас в клетку. Оглядываясь назад, я теперь ясно видел, что все время шел по кривой. И, глядя вперед, нетрудно было представить, как эта кривая замкнется.
Но почему это случилось? И почему именно с нашим Милвиллом? С захудалым городишкой, каких тысячи и тысячи?
А впрочем, может быть, он и не такой, как другие? Раньше я бы сказал — в точности такой же, и, наверно, все остальные милвиллцы сказали бы то же самое. То есть, все кроме Нэнси Шервуд — она только накануне вечером ошарашила меня своей теорией, будто наш город совсем особенный. Неужели она права? Неужели Милвилл чем — то непохож на все другие заштатные городишки?
Передо мной была улица, на которой я жил, и нетрудно было рассчитать, что как раз за нею проходит дуга незримой баррикады.
Дальше идти незачем, сказал я себе. Пустая трата времени. Зачем возвращаться к исходной точке, когда и так ясно, что мы замкнуты в кольце.
Я пересек задворки дома, где жил пресвитерианский священник, — напротив, через улицу, в зарослях цветов и кустарника, стоял мой дом, а за ним заброшенные теплицы и старый сад, целое озеро лиловых цветов — таких же, в какие ткнула палкой миссис Тайлер и сказала, что в этом году они цветут пышней, чем всегда.
С улицы я услыхал протяжный скрип: опять ко мне в сад забрались мальчишки и раскачиваются на старых качелях подле веранды!
Вспылив, я ускорил шаг. Сколько раз я им говорил, чтоб не смели подходить к этим качелям! Столбы ветхие, ненадежные, того и гляди рухнут либо переломится поперечина и кто — нибудь из малышей разобьется. Можно бы, конечно, и сломать качели, но рука не поднимается: ведь это память о маме. Немало тихих часов провела она здесь, во дворе, слегка раскачиваясь взад и вперед и глядя на цветы.
Двор огораживали старые, густо разросшиеся кусты сирени, и мне не видно было качелей, пока я не дошел до калитки.
Я со злостью распахнул калитку, с разгона шагнул еще раз — другой и стал как вкопанный.
Никаких мальчишек тут не было. На качелях сидел взрослый дядя, и, если не считать нахлобученной на голову драной соломенной шляпы, он был совершенно голый.
Завидев меня, он расплылся до ушей.
— Эй! — радостно окликнул он и тотчас, распустив слюни, начал пересчитывать собственные пальцы.
При виде этой дурацкой ухмылки, при звуке давно забытого, но такого памятного голоса я оторопел — и мысль моя шарахнулась к тому, что произошло накануне.
2
Накануне ко мне пришел Эд Адлер, очень смущенный: ему велено было выключить у меня телефон.
— Ты уж извини, Брэд, — сказал он. — И рад бы не выключать, да ничего не поделаешь. Распоряжение Тома Престона.
Мы с Эдом друзья. Еще в школе подружились и дружим до сих пор. Том Престон, конечно, тоже учился в нашей школе, но с ним — то никто не дружил. Мерзкий был мальчишка, и вырос из него мерзкий тип.
Вот так оно и идет, подумал я. Видно, подлецы всегда преуспевают. Том Престон — управляющий телефонной станцией, а Эд Адлер служит у него монтером — устанавливает аппараты, исправляет повреждения в сети; а вот я был страховым агентом и агентом по продаже недвижимости, а теперь бросаю это дело. Не по доброй воле, но потому, что нет у меня другого выхода: и за телефон в конторе я задолжал, и за помещение арендная плата давно просрочена.
Том Престон — преуспевающий делец, а я неудачник; Эду Адлеру кое — как удается прокормить семью, но и только. А другие наши однокашники? Чего — то они достигли — вся наша компания? Понятия не имею, почти всех потерял из виду. Почти все поразъехались. В такой дыре, как Милвилл, человеку делать нечего. Я и сам бы, наверно, тут не остался, да пришлось ради матери. Когда умер отец, я бросил художественное училище: надо было помогать ей в теплицах. А потом и ее не стало, но к этому времени я уже столько лет прожил в Милвилле, что трудно было сдвинуться с места.
— Эд, — сказал я, — а из наших школьных ребят тебе кто — нибудь пишет?
— Нет, — отвечал он. — Даже и не знаю, кто куда подевался.
— Помнишь Тощего Остина? — сказал я. — И Чарли Томсона, и Марти Холла, и Эльфа… смотри — ка, забыл фамилию!
— Питерсон, — подсказал Эд.
— Верно, Питерсон. Надо же — забыл фамилию Элфа! А как нам бывало весело…
Эд отключил провод и выпрямился, держа телефон на весу.
— Что же ты теперь будешь делать? — спросил он.
— Да, видно, надо прикрывать лавочку. Тут не один телефон, тут все пошло наперекос. За помещение тоже давно не плачено. Дэн Виллоуби у себя в банке сильно из — за этого расстраивается.
— А ты веди дело прямо у себя на дому.
— Какое там дело, Эд, — перебил я. — Нет у меня дела и никогда не было. Я прогорел с самого начала.
Я поднялся, нахлобучил шляпу и вышел. Улица была пустынна. Лишь две — три машины стояли у обочины да бродячий пес обнюхивал фонарный столб, а перед кабачком под вывеской «Веселая берлога» подпирал стену Шкалик Грант в надежде, что кто — нибудь угостит его стаканчиком.
Мне было тошно. Телефон, конечно, мелочь, и все — таки это означает конец всему. Окончательно и бесповоротно установлено: я неудачник. Можно месяцами играть с самим собой в прятки, тешить себя мыслью — мол, все не так плохо и еще наладится и стрясется, но потом непременно нагрянет что — нибудь такое, что заставит посмотреть правде в глаза. Вот пришел Эд Адлер, отключил телефон и унес, и никуда от этого не денешься.
Я стоял на тротуаре, смотрел вдоль улицы и изнемогал от ненависти к этому окаянному городишке — не к тем, кто в нем живет, а именно к самому городу, к ничтожной точке на географической карте.
Этот насквозь пропыленный городишко, невыразимо нахальный и самодовольный, словно издевался надо мной. Как же я просчитался, что не унес вовремя ноги! Я пробовал устроить здесь свою жизнь, потому что привык к Милвиллу и любил его, и я жестоко ошибся. Я ведь тоже понимал то, что понимали все мои друзья, которые отсюда уехали, — и все — таки не желал видеть бесспорную, очевидную истину: здесь ничего не сохранилось такого, ради чего стоило бы остаться. Милвилл отжил свое и теперь умирает, как неизбежно умирает все старое и отжившее. Он задыхается из — за новых дорог: ведь теперь, если надо что — нибудь купить, можно быстро и легко съездить туда, где больше магазинов и богаче выбор товаров; он умирает, потому что вокруг пришло в упадок земледелие, умирает вместе с убогими фермами на склонах окрестных холмов, захиревшими и обезлюдевшими, ибо они уже не могут прокормить семью. Милвилл — обитель благопристойной нищеты, в нем даже есть своя обветшалая прелесть, он изысканно благоухает лавандой, и манеры его безупречны, но, невзирая ни на что, он умирает.
Я повернулся и пошел прочь из пыльного делового квартала, к речушке, огибающей город с востока. По берегу, под раскидистыми деревьями, вьется заброшенная тропка, я шагал по ней и слушал, как в жаркой летней тишине журчит вода, омывая заросшие травою берега и перекатываясь по гальке. На меня нахлынули воспоминания давних, невозвратных лет. Сейчас я дойду до излучины, это у милвиллцев излюбленное место купания, дальше — мелководье, где я каждую весну ловлю сачком мелкую рыбешку.
На берегу, за тем поворотом — наш заветный уголок. Сколько раз мы там разводили костер и жарили шницели по — венски и пекли сладкий корень алтея, а потом просто сидели и смотрели, как меж деревьев и по лугам подкрадывается вечер. Потом всходила луна и все вокруг преображалось, и это было заколдованное царство, расчерченное тончайшей сетью теней и лунных бликов. И мы переговаривались только шепотом, и всеми силами души заклинали время идти помедленнее, чтобы дольше длилось волшебство. Но как ни страстно мы этого жаждали, все было тщетно, такова уж природа времени — даже и в ту пору его невозможно было ни замедлить, ни остановить.
Мы приходили сюда вчетвером — я с Нэнси и Эд Адлер с Присциллой Гордон, а порою к нам присоединялся и Элф Питерсон, но, помнится, всякий раз с другой девушкой.
Я постоял немного на тропинке, пытаясь воскресить все это: сияние луны и мерцание угасающего костра, тихие девичьи голоса и нежное девичье тело, чудо юности — всепоглощающую нежность, и жар, и трепет, и благодарность. Я вновь искал здесь зачарованную тьму и лучистое счастье или хотя бы только их призраки… но ничего не ощутил, только рассудком знал, что когда — то все это было — и минуло.
Так вот что я такое — неудачник, неудачник во всем, даже воспоминания и те не сумел сохранить, все потускнело и выцвело. В эту минуту я трезво оценил себя, впервые посмотрел правде прямо в глаза. Что же дальше?
Быть может, напрасно я забросил теплицы? Но нет, глупости, ничего бы у меня не вышло — с тех пор как умер отец, они медленно, но верно приходили в упадок. Пока он был жив, они давали недурной доход, но ведь тогда мы работали втроем, да к тому же у отца было особое чутье. Он понимал каждый кустик, каждую былинку, холил их и нежил, у него все цвело и плодоносило на диво. А я начисто лишен этого дара. В лучшем случае у меня всходят хилые и тощие растеньица, и вечно на них нападают какие — то жучки и гусеницы и всяческая хворь, какая только существует в зеленом царстве.
И внезапно река, тропа, деревья — все отодвинулось куда — то в далекое прошлое, стало чужим и незнакомым. Словно я, непрошенный гость, забрел в некое запретное пространство и время и мне здесь не место. И это было куда страшней, чем если бы я в вправду попал сюда впервые, ибо втайне я с дрожью сознавал, что здесь заключена часть меня самого.
Я повернулся и пошел обратно, спиной ощущая леденящее дыхание страха, готовый очертя голову кинуться бежать. Но не побежал. Я нарочно замедлял шаг, я решил одержать победу над собой, она была мне необходима, хотя бы вот такая жалкая, никчемная победа — идти медленно и размеренно, когда так и тянет побежать.
Потом из — под свода ветвей, из густой тени я вышел на улицу, окунулся в тепло и солнечный свет, и все стало хорошо. Ну, не совсем хорошо, но хотя бы так, как было прежде. Улица передо мною лежала такая же, как всегда. Разве что прибавилось несколько машин у обочины, бродячий пес исчез да Шкалик подпирал теперь другую стену. От кабачка «Веселая берлога» он перекочевал к моей конторе.
Вернее сказать, к моей бывшей конторе. Потому что теперь я знал: ждать больше нечего. С таким же успехом можно хоть сейчас забрать из ящиков стола все бумаги, запереть дверь и снести ключ в банк. Дэниел Виллоуби, разумеется, будет весьма холоден и высокомерен… ну и черт с ним. Да, конечно, я задолжал ему арендную плату, мне нечем уплатить, и он, надо думать, обозлится, но у него и кроме меня полгорода в долгу, а денег ни у кого нет и едва ли будут. Он сам этого добивался — и добился, чего хотел, а теперь злится на всех. Нет уж, пускай лучше я останусь жалким неудачником, чем быть таким, как Дэн Виллоуби, изо дня в день ходить по улицам и чувствовать, что каждый встречный ненавидит тебя и презирает и не считает человеком.
Будь все, как обычно, я не прочь бы постоять и поболтать немного со Шкаликом Грантом. Хоть он и первый лодырь в Милвилле, а все равно он мне друг. Он всегда рад за компанию пойти порыбачить, знает, где лучше клюет, и вы даже не представляете, как интересно его послушать. Но теперь мне было не до разговоров.
— Эй, Брэд, — сказал Шкалик, когда я с ним поравнялся. — У тебя, часом, доллара не найдется?
Я поразился. Грант уже давным — давно не пробовал поживиться за мой счет, с чего это ему вдруг вздумалось? Правда, он пьяница, лодырь и попрошайка, но при этом настоящий джентльмен и необычайно деликатен. Никогда он не станет выпрашивать подачку у того, кто и сам еле сводит концы с концами. У Шкалика редкостное чутье, он точно знает, когда и как закинуть удочку, чтоб не нарваться на отказ.
Я сунул руку в карман, там была тоненькая пачка бумажек и немного мелочи. Я вытащил пачку и протянул Гранту доллар.
— Спасибо, Брэд, — сказал он. — Мне весь день нечем бы — по горло промочить.
Сунул доллар в карман обвисшей, латанной — перелатанной куртки и торопливо заковылял через улицу в кабачок.
Я повернул ключ, вошел в контору, затворил за собой дверь, и тут раздался телефонный звонок.
Я стал столбом и как дурак уставился на телефон.
А он все звонил и звонил, так что я подошел и снял трубку.
— Мистер Брэдшоу Картер? — осведомился нежнейший, очаровательнейший голосок.
— Он самый, — сказал я. — Чем могу служить?
Я мигом понял, что это не может быть никто из здешних: в Милвилле все звали меня просто Брэд. И потом, ни у одной моей знакомой даже нот таких нету в голосе. Этот голосок вкрадчиво мурлыкал, будто красотка с экрана телевизора читала рекламное объявление про мыло или крем для лица, и в то же время в нем слышался словно хрустальный звон — так должна бы говорить принцесса из сказки.
— Скажите, пожалуйста, мистер Брэдшоу Картер, это у вашего отца были теплицы?
— Совершенно верно.
— А вы теперь ими не занимаетесь?
— Нет, — сказал я, — не занимаюсь.
И тут голос переменился. Был нежный девичий голосок — и вдруг стал мужской, энергичный и деловитый. Будто трубку взял совсем другой человек. И однако, как это ни дико, я почему — то не сомневался, что собеседник у меня все тот же, переменился только голос.
— Насколько мы понимаем, — сказал этот новый голос, вы сейчас свободны и могли бы выполнить для нас кое — какую работу.
— Да, пожалуй, — сказал я. — Но в чем дело? Почему вы заговорили другим голосом? И вообще кто это говорит?
Вопрос был преглупый: сомневался я там или не сомневался, а никто не может так внезапно и резко менять голос. Конечно же, со мной говорили два разных человека.
Но вопрос мой остался без ответа.
— Мы надеемся, что вы можете выступать от нашего имени, — продолжал голос. — Вас рекомендуют наилучшим образом.
— А в качестве кого я должен выступать?
— В качестве дипломата, — сказал голос. — Кажется, это самое точное определение.
— Но я не дипломат. Я этому не учился и не умею…
— Вы нас не поняли, мистер Картер. Совершенно не поняли. Видимо, нам следует кое — что разъяснить. Мы уже установили контакт со многими вашими земляками. И они оказывают нам различные услуги. Например, у нас есть чтецы…
— Чтецы?
— Именно. Те, кто для нас читает. Понимаете, они читают самые разные тексты. Из разных областей. Британская энциклопедия, Оксфордский словарь, всевозможные учебники и руководства. Литература и история, философия и экономика. И все это в высшей степени интересно.
— Но вы и сами можете все это прочитать. Зачем вам чтецы? Нужно только достать книги…
В трубке покорно вздохнули:
— Вы нас не поняли. Вы слишком спешите с выводами.
— Ну, ладно, — сказал я. — Я вас не понял. Пусть так. Чего же вы от меня хотите? Имейте в виду, читаю я прескверно и безо всякого выражения.
— Мы хотим, чтобы вы выступали от нашего имени. Прежде всего мы хотели бы с вами побеседовать, услышать, как вы оцениваете положение, а затем можно было бы…
Он говорил что — то еще, но а уже не слушал. Вдруг до меня дошло, что же тут неладно. То есть, конечно, это все время было у меня перед глазами, но как — то не доходило до сознания. И без того на меня свалилось слишком много неожиданностей: невесть откуда опять взявшийся телефон, хотя телефон у меня только что сняли, и внезапно меняющиеся голоса в трубке, и этот дикий, непонятный разговор… Мысль моя лихорадочно работала и не успевала охватить все в целом.
Но тут меня будто ударило — а ведь телефон какой — то не такой! — и я уже не разбирал слов, все слилось в невнятное жужжанье. Аппарат совсем не тот, что стоял час назад у меня на столе. У него нет диска и нет провода, который соединял бы его с розеткой на стене.
— Что такое? — закричал я. — Кто это говорит? Откуда вы звоните?
Тут послышался новый голос, не поймешь, женский или мужской, не деловитый и не вкрадчиво нежный, а странно безличный, словно бы чуточку насмешливый, но лишенный какой бы то ни было определенности.
— Напрасно вы так встревожились, мистер Картер, — произнес этот безличный голос. — Мы очень заботимся о тех, кто нам помогает. Мы умеем быть благодарными. Поверьте, мистер Картер, мы вам очень благодарны.
— За что?!
— Навестите Джералда Шервуда, — сказал безличный голос. — Мы побеседуем с ним о вас.
— Слушайте! — заорал я. — Я не понимаю, что происходит, но…
— Поговорите с Джералдом Шервудом, — повторил голос.
И телефон заглох. Как отрезало. Не было смутного гуденья, не ощущалось, что где — то там по проводам идет ток. Все глухо и пусто.
— Эй! — кричал я. — Эй, кто там!
Никакого ответа.
Я отвел трубку от уха и, не выпуская ее из рук, мучительно шарил в памяти. Этот голос, что говорил последним… словно бы он мне знаком. Где — то когда — то а его слышал. Но где? Когда? Не помню, хоть убей.
Я опустил трубку на рычаг и взял аппарат в руки. С виду самый обыкновенный телефон, но без диска и ни признака проводов и контактов. Я осмотрел его со всех сторон — ни фабричной марки, ни имени фабриканта, ни адреса фирмы не оказалось.
Только сегодня Эд Адлер снял у меня телефон. Он перерезал провода, и, когда я уходил из конторы, он стоял тут, держа аппарат на весу.
Когда я, возвратясь, услыхал звонок и увидел на столе телефон, в голове у меня мелькнуло не слишком логичное, но самое простое объяснение: почему то Эд не унес телефон и снова его подключил. Может быть, потому, что он мне друг; может, он готов ради меня не выполнить хозяйское распоряжение. Или, может, сам Престон передумал и решил дать мне небольшую отсрочку. А может быть, даже нашелся неведомый доброжелатель, который уплатил по счету, чтобы я не лишился телефона.
Но теперь я знал: все это чепуха. Потому что телефон у меня на столе — не тот, который сегодня отключил Эд.
Я опять снял трубку и поднес к уху.
И опять раздался деловитый мужской голос. Он не сказал — «слушаю», не спросил, кто говорит. Он сказал:
— Очевидно, вы относитесь к нам с подозрением, мистер Картер. Мы прекрасно понимаем, что вы смущены и не доверяете нам. Мы вас не осуждаем, но при том, как вы сейчас настроены, продолжать разговор бесполезно. Побеседуйте сначала с мистером Шервудом, а потом возвращайтесь — и тогда поговорим.
И телефон снова заглох. На этот раз я не стал кричать в надежде, что голос снова отзовется. Я знал, это бесполезно. Опустил трубку на рычаг и отодвинул телефон.
Повидайте Джералда Шервуда, сказал голос, а после поговорим. Но при чем тут, спрашивается, Джералд Шервуд?
Невозможно поверить, чтобы Джералд Шервуд был причастен к этой странной истории, не такой он человек.
Отец Нэнси Шервуд, в некотором роде промышленник, был коренной милвиллец и жил на краю города, на вершине холма, в старом прадедовском доме. Не в пример всем нам, он не ограничивал свою жизнь рамками Милвилла. Ему принадлежала фабрика в Элморе — до Элмора от нас миль пятьдесят и там чуть ли не сорок тысяч жителей. Фабрика досталась Джералду от его отца и когда — то выпускала сельскохозяйственные машины. Но несколько лет назад разразился крах, сельскохозяйственные машины стали никому не нужны, и Шервуд занялся всевозможной технической мелочью. Какие там штучки и приспособления выпускала его фабрика, я понятия не имел: семейство Шервуд меня не слишком занимало, если не считать той поры, когда я кончал школу и всерьез увлекся дочерью Джералда.
Джералд Шервуд был человек солидный, состоятельный, в городе его уважали. Но деньги свои он, как и отец его, наживал не в Милвилле, а на стороне, притом Шервуды были если и не по — настоящему богаты, то все же люди с достатком, а мы, остальные, бедны как церковные мыши, и потому их всегда считали отчасти чужаками. У них были еще и какие — то другие интересы, не те, что у нас, мы, жители Милвилла, куда теснее связаны между собой. И Шервуды держались немного особняком не по своей воле, но потому, что мы сами их сторонились.
Так что же мне делать? Нагрянуть к Шервудам и разыгрывать дурачка? Ввалиться без приглашения и спросить, что ему известно о сумасшедшем телефоне без проводов?
Я взглянул на часы — еще только четыре. Даже если идти к Шервуду, то не сейчас, а под вечер. Уж наверно, он возвращается из Элмора часам к шести, не раньше.
Я выдвинул ящик письменного стола и стал собирать свои пожитки. Потом сунул все назад и задвинул ящик. Контору пока закрывать нельзя, попозже вечером я должен буду вернуться, мне ведь надо еще поговорить с незнакомцем (или незнакомцами?) по этому, с позволения сказать, телефону. Когда стемнеет, я могу, если захочу, забрать аппарат и унести его домой. Но не идти же по Милвиллу с телефоном под мышкой средь бела дня!
Я вышел, запер дверь и зашагал по улице. И в растерянности остановился на первом же углу, пытаясь собраться с мыслями. Конечно, можно пойти домой, но очень это мне не по душе. Словно я удираю и ищу, куда бы зарыться. Можно пойти в муниципалитет, там, верно, найдется, с кем перемолвиться словом. Хотя вполне возможно, что я застану там одного только Хайрама Мартина, полицейского. Хайрам пристанет, чтобы я играл с ним в шашки, а мне сейчас не до шашек. Притом он не умеет вести себя прилично, когда проигрывает, и ему волей — неволей поддаешься, лишь бы не бесился.
Мы с Хайрамом спокон веку не ладили. В школе он был первый задира и хулиган, мы вечно дрались. Он был куда сильнее, мне порядком доставалось, но ни разу он не добился, чтоб я запросил пощады, и потому меня терпеть не мог. Вот если раза два в год позволишь Хайраму себя поколотить и признаешь себя побежденным, тогда он соизволит зачислить тебя в друзья. Очень может быть, что я застану там сейчас еще и Хигмена Морриса, а разговаривать с ним в такой день свыше моих сил. Хигги — мэр нашего города, столп общества и опора церкви, член школьного попечительского совета, член правления банка, чванливый болван и ничтожество. Даже в лучшие мои времена я плохо переваривал Хигги и как мог его избегал.
Можно еще пойти в редакцию нашей «Трибюн» и провести часок с ее редактором Джо Эвансом, время у него найдется, ведь газета вышла только нынче утром. Но Джо станет рассуждать о высокой политике в масштабах нашего округа, о том, что пора наконец соорудить бассейн для плавания, и о прочих столь же злободневных и животрепещущих вопросах, а мне что — то не до них.
Пойду — ка я в «Веселую берлогу», решил я, заберусь в угол за перегородкой в глубине, посижу подольше над кружкой пива — постараюсь убить время и о думать, как и что. Я не пьяница. При моих доходах не разгуляешься, но кружка — другая пива меня не разорит, а в иные минуты от глотка пива куда как легче становится на душе. Время раннее, народу скорее всего еще немного, смогу побыть один. Там сейчас почти наверняка пропивает мой доллар Шкалик Грант. Но Грант джентльмен, и он всегда все понимает. Если увидит, что мне компания ни к чему, даже не подойдет.
В «Берлоге» было темно и прохладно, после ярко освещенной солнцем улицы пришлось двигаться почти ощупью. Угол в глубине за перегородкой был свободен, и я сел за столик. Посетителей — никого, занят еще только один отгороженный столик у самого входа.
Из — за стойки навстречу мне вышла Мэй Хаттон.
— А, Брэд! Редкий гость!
— А ты что же, заменяешь Чарли? — спросил я.
Чарли — это ее отец, хозяин «Веселой берлоги».
— Он прилег вздремнуть, — объяснила Мэй. — В эту пору много народу не бывает. Я и одна управлюсь.
— Пива можно?
— Ну, конечно. Большую кружку или маленькую?
— Давай большую, — сказал я.
Она подала мне пиво и вернулась за стойку. «Берлога» местечко мирное, отдохновенное — никакой изысканности и, пожалуй, грязновато, зато отдыхаешь. В окна врывался яркий солнечный свет, но быстро выцветал, словно растворялся в сумерках, затаившихся в глубине.
Рядом за перегородкой поднялся человек. Я не заметил его, когда вошел. Вероятно, он сидел в самом углу, у стены. С недопитой кружкой в руке он обернулся и уставился на меня. Потом шагнул раз — другой и остановился у моего столика. Я поднял голову, но его лицо показалось мне незнакомым. Да и глаза мои еще не освоились с полутьмой «Берлоги».
— Брэд Картер? Да неужто Брэд Картер?
— А почему бы и нет? — сказал я.
Он поставил кружку и сел напротив меня. И тут я узнал эти черты, в которых было что — то лисье.
— Элф Питерсон! — изумился я вслух. — Надо же, только час назад мы с Эдом Адлером тебя вспоминали.
Он протянул руку, я стиснул ее — я рад был его видеть, сам не знаю, отчего я так обрадовался этому выходцу из далекого прошлого! Он ответил сильным, крепким пожатием — явно тоже обрадовался мне.
— Боже милостивый! — сказал я. — Сколько же это времени прошло?
— Шесть лет. А то и побольше.
Мы сидели и смотрели друг на друга в неловком молчании, как бывает с давними приятелями после долгой разлуки: не знаешь, с чего начать, ищешь для разговора темы попроще, побезопаснее.
— Приехал погостить? — спросил я.
— Угу. В отпуск.
— Что ж сразу ко мне не зашел?
— Да я только часа три как приехал.
Странно, что ему тут делать, подумал я, ведь у него в Милвилле никого не осталось. Его семья уже несколько лет как переехала куда — то на восток. Питерсоны родом не здешние. Они провели в Милвилле всего лет пять, пока отец Элфа работал инженером на строительстве шоссе.
— Поживешь у меня, — сказал я. — Места сколько угодно. Я один.
— Да я остановился в мотеле, это немного западнее Милвилла. Называется «Стоянка Джонни».
— Надо было прямо ко мне.
— Верно, да ведь я не знал. Мало ли, может, ты уже уехал из Милвилла. Или, может, женился. Нельзя же просто так ввалиться к женатому человеку.
Я покачал головой:
— И не уехал, и не женился.
Выпили пива. Элф отставил кружку.
— Как делишки, Брэд?
Я уже раскрыл рот, чтобы соврать, но опомнился. Какого черта?! Ведь напротив сидит не чужой человек, ведь это же Элф Питерсон, в прежние годы он был мне едва ли не лучший друг. Чего ради я стану ему врать? Из самолюбия? Когда говоришь с другом, самолюбие ни при чем, надо начистоту.
— Делишки неважные, — сказал я.
— Ох, извини.
— Я дал маху, — сказал я. — Давно надо было убираться отсюда подобру — поздорову. Милвилл — гиблое место, тут делать нечего.
— Ты же хотел стать художником. Помнишь, вечно чего — то чиркал карандашом, даже красками писал.
Я только рукой махнул.
— Будто ты так и не пробовал ступить на эту дорожку? Брось, все равно не поверю! — сказал Элф. — Когда мы кончали школу, ты собирался в художественное училище.
— Ну да, собирался. И даже год проучился. В Чикаго. А потом отец умер, маме одной было не управиться. И денег ни гроша. Просто не пойму, как отец мне на один — то год наскреб.
— А мама? Ты сказал — живешь один?
— Она два года как умерла.
Элф кивнул:
— И теплицы теперь на тебе.
Я покачал головой.
— С теплицами у меня ничего не вышло. Они после отца захирели вконец. Был я страховым агентом, пробовал ввязаться в перепродажу недвижимости. Ничего у меня не получается, Элф. Завтра утром прикрываю лавочку.
— А дальше что?
— Не знаю. Пока не придумал.
Элф помахал Мэй, чтоб принесла еще пива.
— Видно, тебя тут больше ничто не держит, — сказал он.
Я опять покачал головой:
— Не забудь, остается дом. До смерти не хочется его продавать. Если уеду, просто запру его на замок. Но ехать — то никуда неохота, Элф, вот беда. Не знаю, как тебе объяснить. Надо было унести отсюда ноги хотя бы года два назад. А теперь Милвилл так прочно в меня въелся — не вытравить.
Элф кивнул:
— Кажется, понимаю. В меня он тоже въелся. Потому я и приехал. И сам не пойму, зачем. Конечно, я очень рад тебя повидать, и, может, еще кое — кого, но все равно чувство такое, что зря я сюда вернулся. Как — то здесь пусто. Будто от прежнего Милвилла ничего и не осталось, одна скорлупа — понимаешь, что я хочу сказать? Может, на самом деле он и не изменился, но такое у меня чувство.
Мэй принесла пиво и забрала пустые кружки.
— Придумал! — сказал Элф. — Хочешь послушать?
— Конечно. Отчего не послушать.
— Через денек — другой я отправлюсь восвояси. Может, поедешь со мной? Я работаю в одном презабавном заведении. Там и для тебя найдется место. У меня отличные отношения с главным, могу замолвить за тебя словечко.
— А что там делать? — спросил я. — Вдруг я не сумею?
— Не знаю, как толком объяснить. Это вроде исследовательской лаборатории… лаборатория мысли. Сидишь в четырех стенах и думаешь.
— И все?
— Угу. Звучит диковато, а? На самом деле это не так уж дико. Входишь в закрытую кабинку и получаешь карточку, а на ней напечатан вопрос, какая — то задача. И ты думаешь над этой задачей, причем думать надо вслух — будто говоришь сам с собой, иногда сам с собой споришь. На первых порах словно бы неловко, но потом привыкаешь. Кабинка звуконепроницаемая, никто тебя не видит и не слышит. Наверно, какой — нибудь аппарат записывает твои слова, но если он и есть, так где — то скрыт, его не видно.
— И за это платят?
— Да, и неплохо. Прожить можно.
— А для чего это все?
— Мы не знаем, — сказал Элф. — Не то чтобы никто ни разу не спросил. Но тут такое условие: когда поступаешь на работу, тебе не объясняют, что к чему. Наверно, они проводят какой — то эксперимент. Я так думаю, за этим стоит какой — нибудь университет или научно — исследовательский институт. Нам объяснили, что если мы будем знать, в чем суть, это повлияет на ход нашей мысли. Невольно станешь подгонять свои рассуждения к конечной цели эксперимента.
— Ну, а результаты?
— Нам не говорят. Для каждого, кто вот так сидит и думает, существует особый план, но если знать его заранее, это может помешать развитию мысли. Сам того не замечая, начнешь подстраиваться к схеме, соблюдать какую — то последовательность или, наоборот, попробуешь вырваться из рамок. А когда не знаешь результатов работы, нельзя угадать основную схему и нет опасности, что она свяжет твою мысль.
Мимо по улице покатил грузовик, в тишине «Берлоги» его громыхание показалось оглушительным. А когда он проехал, стало слышно, как о потолок бьется муха. Те, кто занимал отгороженный столик у входа, видно, ушли или по крайней мере замолчали. Я обернулся, поискал глазами Гранта — его не было. Тут я вспомнил, что с самого начала не увидел его в «Берлоге». Что за чудеса, ведь я только что дал ему доллар!
— А где оно находится, это ваше заведение? — спросил я.
— В Гринбрайере, штат Миссисипи. Захудалый такой городишко. Вроде Милвилла, пожалуй. Даже не город, а так, поселок — тишина, пылища, жарища. Ох, и жарища — прямо пекло! Но у нас в здании воздух кондиционированный. И вообще не дурно.
— Захудалый городишко, — повторил я. — Чудно что — то, неужели для вашего заведения не нашлось места получше.
— А это маскировка, — сказал Элф. — Чтоб не было лишнего шуму. И нам велено держать язык за зубами. Для секретной работы лучшего места не придумаешь. Никому и в голову не придет искать такую лабораторию в какой — то богом забытой дыре.
— Но ты ведь приезжий…
— Ну, ясно, потому меня туда и взяли. Они не хотят брать на работу много местных жителей. Считается, что у людей, которые выросли в одних и тех же условиях, и мысль работает почти одинаково. Так что там охотно берут приезжих. В этой лаборатории куча всякого пришлого народу.
— А раньше что было?
— Раньше? А, со мной — то. Чего только не было. Шатался по свету, валял дурака. Нигде подолгу не застревал. Поработаю недели две в одном месте, перекочую немного подальше там месячишко поработаю. В общем плыл по воле волн. Бывало, когда оставался без гроша, а лучшего ничего не подворачивалось, так и с бетонщиками спину гнул, и посуду в ресторане мыл. Месяца два служил садовником в Луисвиле, у одного земельного туза. Был одно время сборщиком помидоров, но на такой работе живо с голоду подохнешь, пришлось двинуться дальше. Словом, чего только не перепробовал. А в Гринбрайере вот уже одиннадцатый месяц.
— Ну, это рано или поздно кончится. Соберут они там все данные, какие им требуются, — и крышка.
Элф кивнул.
— Да я и сам понимаю. А обидно! Лучшей работы у меня не было и не будет. Так что ж, Брэд? Поедешь со мной?
— Надо подумать, — отвечал я. — А ты не можешь тут задержаться не на день — два, а немного подольше?
— Пожалуй, это можно, — сказал Элф. — Отпуск у меня на две недели.
— Съездим на рыбалку, хочешь?
— Отлично!
— Тогда давай завтра утром и отправимся, ладно? Двинем на недельку на север. Там, думаю, сейчас прохладно. Я прихвачу палатку и всякую походную снасть. Поищем такое местечко, где водится лупоглаз.
— Здорово придумано!
— Поедем на моей машине.
— А я куплю бензин, — предложил Элф.
— Что ж, купи, — сказал я. — Мои финансы такие, что спорить не стану.
3
Если бы не фасад с колоннами да не плоская крыша, обнесенная ослепительно белой балюстрадой, дом Шервудов был бы очень обыкновенным и даже унылым. А ведь когда — то я воображал, что это самый красивый дом на свете. Но уже лет шесть, а то и семь прошло с тех пор, как я был здесь в последний раз.
Я остановил машину, вылез и постоял минуту, глядя на дом. Еще не совсем стемнело, четыре высокие колонны чуть поблескивали в последних отсветах угасающего дня. С этой стороны все окна были темные, но я видел, что где — то в задних комнатах горит огонь.
Я поднялся по отлогим ступеням, пересек веранду. Ощупью отыскал и нажал кнопку звонка.
В прихожей раздались торопливые женские шаги. Наверно, миссис Флаэрти, подумал я, экономка. Она ведет здесь хозяйство с тех самых пор, как миссис Шервуд ушла из этого дома и не вернулась.
Но мне открыла не миссис Флаэрти.
Дверь распахнулась — и вот она стоит на пороге, уже совсем взрослая, уверенная в себе и еще красивее, чем прежде.
— Нэнси! — вырвалось у меня. — Да ведь это Нэнси!
Совсем не те слова, что нужно, но у меня не было времени подумать.
— Ну да, Нэнси. Что тут такого удивительного?
— Я думал, тебя здесь нет. Когда ты вернулась?
— Только вчера, — сказала она.
Мне показалось, она меня не узнала. Но понимает, что это кто — то знакомый. И пытается вспомнить.
— Чего же мы тут стоим, Брэд, — сказала она (стало быть, узнала!). — Входи.
Я переступил порог, она закрыла дверь, и вот мы стоим в полутемной прихожей и смотрим друг на друга.
Она протянута руку и коснулась отворота моей куртки.
— Мы так долго не виделись, Брэд. Как ты живешь?
— Прекрасно, — сказал я. — Превосходно.
— Говорят, тут почти никого не осталось. Почти никого из нашей компании.
Я покачал головой.
— Ты говоришь так, будто рада, что вернулась.
Она засмеялась легко, мимолетно:
— Ну, конечно, рада!
Смех был совсем прежний: так свойственная ей мгновенная вспышка искрометной веселости.
Послышались шаги.
— Нэнси, — окликнул чей — то голос, — кто там пришел? Малыш Картер?
— Разве ты пришел к папе? — спросила Нэнси.
— Я к нему ненадолго, — сказал я. — Потом еще поговорим?
— Да, конечно. Нам есть о чем поговорить.
— Нэнси!
— Да, папа.
— Иду! — отозвался я.
И пошел к темной фигуре в дальнем конце прихожей. Шервуд распахнул дверь комнаты, повернул выключатель.
Я вошел, и он затворил за мною дверь.
Он был высок ростом, плечи очень широкие, изящно вылепленная голова, аккуратно, почти щегольски подстриженные усы.
— Мистер Шервуд, — сказал я со злостью, — я не малыш Картер. Я Брэдшоу Картер. Для друзей — Брэд.
Злиться было довольно глупо, да, наверно, и не из — за чего. Но уж очень он меня взбесил там, в прихожей.
— Извини, Брэд, — сказал он теперь. — Никак не укладывается в голове, что все вы уже взрослые — и Нэнси, и ребятишки, с которыми она дружила.
Он прошел через комнату к письменному столу у стены. Достал из ящика пухлый конверт, выложил на стол.
— Это тебе.
— Мне?
— Ну да. Я думал, ты знаешь.
Я покачал головой; в этой комнате мне отчего — то стало не по себе, почти жутко. Мрачная комната, по двум стенам сплошь книжные полки, в третьей — наглухо завешенные окна и между ними мраморный камин.
— Так вот, это тебе, — повторил Шервуд. — Бери, чего же ты?
Я подошел к столу и взял конверт. Он был не запечатан, я открыл его. Внутри оказалась толстая пачка денег.
— Полторы тысячи долларов, — сказал Джералд Шервуд. Как будто, должно быть именно полторы.
— В первый раз слышу про какие — то полторы тысячи. Мне только сказали по телефону, чтобы я с вами побеседовал.
Он поморщился и посмотрел на меня очень внимательно, словно бы даже недоверчиво.
— Вот по такому же телефону, — прибавил я и показал на аппарат у него на столе.
Шервуд устало кивнул.
— Понятно. А давно у тебя появился такой телефон?
— Только сегодня. Эд Адлер пришел и снял мой прежний телефон, обыкновенный, потому что мне нечем платить. Я пошел пройтись, хотел немного собраться с мыслями, а когда вернулся, вдруг зазвонил вот такой телефон.
Движением руки Шервуд остановил меня.
— Возьми конверт, — сказал он. — Положи в карман. Это не мои деньги. Они твои.
Но я положил конверт на стол. Мне позарез нужны были полторы тысячи. Позарез нужны были любые деньги, откуда бы они ни свалились. Но этот конверт я взять не мог. Сам не знаю почему.
— Ладно, — сказал Шервуд. — Садись.
Я опустился на стул, стоявший боком у стола. Шервуд открыл ящик с сигарами.
— Хочешь?
— Я не курю.
— Может, выпьешь чего — нибудь?
— Выпить я не прочь.
— Бурбон?
— Отлично.
Он подошел к шкафчику стоящему в углу, опустил в бокалы лед.
— Как тебе разбавить, Брэд?
— Хватит и льда.
Шервуд усмехнулся:
— Сразу видно понимающего человека.
Я сидел и смотрел на книжные полки, протянувшиеся вдоль двух стен кабинета от пола и до самого потолка. Тут было немало каких — то многотомных собраний и комплектов, почти все, насколько я мог разглядеть, в дорогих переплетах.
Наверно, это очень здорово — быть не то что богачом, но человеком с достатком, не маяться и не раздумывать, если тебе понадобилась какая — то мелочь, не выгадывать каждый грош, а спокойно взять и купить, что хочешь. Жить в таком вот доме, с книгами по стенам, с тяжелыми занавесями на окнах, и чтобы, когда хочется выпить, было из чего выбрать и не приходилось держать единственную бутылку дрянного виски в кухне на полке…
Шервуд подал мне бокал, обогнул стол и снова опустился в кресло. С жадностью отпил несколько глотков и отставил бокал.
— Брэд, — начал он, — много ли тебе известно?
— Ровным счетом ничего. Только то, что я вам уже сказал. Я говорил с кем — то по телефону. И мне предложили работу.
— Ты согласился?
— Нет, — сказал я. — Пока нет, но, может, и соглашусь. Мне не худо бы найти работу. Но то, что они предлагали, — не знаю, кто они такие, — звучит довольно бессмысленно.
— Они?
— Ну, не знаю — либо их было трое, либо там кто — то один три раза менял голос. Конечно, это очень странно, но, по — моему, один и тот же человек говорил на разные голоса.
Шервуд опять жадно глотнул виски. Поднял бокал, посмотрел на свет и, кажется, очень удивился, что там уже только на донышке. Тяжело поднялся и пошел за бутылкой. Налил себе, чуть расплескав, потом протянул мне бутылку.
— Я еще не начинал, — сказал я.
Он поставил бутылку на стол и опять сел.
— Ладно, — сказал он. — Вот ты пришел и мы побеседовали. Все в порядке. Соглашайся на эту работу. Бери свои деньги и ступай. Нэнси, верно, тебя заждалась. Своди ее в кино или еще куда — нибудь.
— И это все?
— Все.
— Значит, вы раздумали, — сказал я.
— Раздумал?
— Вы хотели мне что — то сказать. А потом передумали.
Шервуд холодно, в упор посмотрел на меня.
— Вероятно, ты прав. Но это все равно.
— А мне не все равно. Я ведь вижу, вы чего — то боитесь.
Я ждал, что он обозлится. Кому приятно, когда тебя назовут трусом.
Но он не обозлился. И даже не поморщился, сидел как каменный. Потом сказал:
— Пей же, черт подери. Смотреть на тебя тошно, сидит тут — и ни с места!
Я отхлебнул глоток виски: я соврем забыл про свой бокал.
— Вероятно, ты вообразил себе всякие небылицы. И, конечно, подозреваешь, что я ввязался в какие — то темные дела. Вряд ли ты мне поверишь, но представь, я и сам не знаю, в какие такие дела я ввязался.
— Да нет, я вам верю, — сказал я.
— Чего только я не натерпелся на своем веку, — сказал Шервуд. — Да разве я один. У каждого свои беды — не одно, так другое. На меня свалилось все сразу. Так тоже часто бывает.
Я покивал в знак согласия.
— Началось с того, что меня бросила жена. Это ты, конечно, знаешь. В ту пору, надо думать, все милвиллские сплетники только об этом и говорили.
— Не помню, — сказал я. — Тогда я был еще мальчишкой.
— Да, верно. Скажу одно, оба мы вели себя вполне пристойно. Ни крику, ни скандалов, никакой грязи на суде. Всей этой мерзости мы постарались избежать. И сразу после развода — банкротство. В производстве сельскохозяйственных машин разразился кризис, и я боялся, что придется закрыть фабрику. Очень многие мелкие предприятия тогда прогорели. Держались по пятьдесят, по шестьдесят лет, приносили солидный доход, а тут лопнули.
Шервуд помолчал, словно выжидая, не скажу ли я чего — нибудь. А что было говорить?
Он налил себе еще виски и продолжал:
— Во многих отношениях я просто глуп. Я умею вести дело. Умею поддерживать фабрику на ходу, пока есть хоть какая — то надежда, пока можно из нее выжать хоть какие — то гроши. У меня, видно, есть хватка, есть способности. Но и только. За всю жизнь я ни разу не додумался до чего — нибудь нового, до чего — нибудь значительного.
Он подался вперед, крепко стиснул руки и оперся ими на стол.
— Я все ломаю голову, — сказал он. — Все пытаюсь понять, что же произошло? Почему именно со мной? Невозможно понять! Не должно это было со мной случиться, не такой я человек. Мне грозило разорение, и ничего я тут не мог поделать. В сущности, все это проще простого. Спрос на сельскохозяйственный инвентарь резко упал, на то были веские экономические причины. Крупным фирмам, у которых свои крупные магазины и вдоволь денег на рекламу, такая передряга не страшна. У них есть простор, они могут перестроиться, как — то извернуться, смягчить удар. А таким, как я, тесно, у нас нет в запасе ни лишних возможностей, ни лишних денег. Моему предприятию, как и многим другим, грозил крах. Пойми, мне совершенно не на что было надеяться. Я вел дело по старинке, по испытанным и проверенным канонам, как до меня мой дед и мой отец. А каноны эти говорят: если ты больше ничего не можешь продать, значит — все, крышка. Другие, может, исхитрились бы, нашли какой — то выход, а мне это не под силу. Делец я толковый, но у меня нет воображения. Мне не хватает новых идей. И вдруг, ни с того ни с сего, у меня начинают возникать новые идеи. Но они не мои. Как будто мне их внушает кто — то другой.
— Понимаешь, — продолжал он, — иногда бывает и так, что новая идея возникает мгновенно. Ни с того ни с сего. Словно бы на пустом месте. Ее никак не свяжешь с тем, что ты делал раньше, или читал, или слышал — ничего подобного! Но, наверно, если копнуть поглубже, можно докопаться до ее корней и проследить, откуда что взялось, только мало кто из нас обучен вот так докапываться. А главное, новая идея — это почти всегда только зернышко, отправной пункт. Может, она и хорошая, и ценная, но ее еще надо вынянчить. Надо ее развить. Обмозговать, повертеть и так и эдак, оглядеть со всех сторон, помучиться с нею, все сообразить и взвесить — и только тогда вылепишь из нее что — то полезное.
А с нынешними моими находками не так. Они выскакивают неизвестно откуда совсем готовенькие. Мне нечего додумывать. Хлоп — и все уже в голове, законченное, отшлифованное, заботиться больше не о чем. Бери и пользуйся. Просыпаюсь утром а к моим услугам новое открытие, я знаю массу такого, о чем прежде и понятия не имел. Выйду пройтись, возвращаюсь — а в голове еще открытие. Они рождаются пачками. Сразу эдакий букет, будто кто посеял их у меня в мозгу, они полежали там немножко, созрели — и вот прорастают.
— И все это разные механические поделки? — спросил я.
Шервуд посмотрел на меня с любопытством:
— Вот именно, поделки. А что ты про них знаешь?
— Ничего. Знаю только, что, когда с сельскохозяйственными машинами стало худо, вы начали выпускать всякую техническую мелочь. А что именно — не слыхал.
Но он мне этого не объяснил. Он продолжал рассуждать о своих странных озарениях:
— Сначала я не понимал, что происходит. А потом открытия посыпались, как из мешка, и стало ясно: что — то тут не так. Маловероятно, чтобы я сам додумался хоть до одной такой новинки, а тут сразу целый фонтан. Скорее всего я вообще никогда бы ничего не придумал, у меня от природы нет воображения и никакой я не изобретатель. Ну, ладно, допустим, идейки две — три я еще мог бы родить, да и то вряд ли. А уж на большее меня нипочем бы не хватило. Словом, хочешь не хочешь, а пришлось себе сознаться, что мне помогает кто — то извне.
— Как же так? Кто?
— Не знаю. И по сей день не знаю.
— А идеями этими вы все — таки пользуетесь, — заметил я.
— Я человек трезвый, практический. Кое — кто, наверно, даже скажет — прожженный делец. Но подумай сам: предприятие лопнуло. И не просто мое предприятие, пойми, а родовое, его основал мой дед и я получил его от отца. Не просто мое дело, а дело, которое мне доверено. Это совсем не одно и то же. Когда идет прахом то, что ты построил сам, — ладно, перетерпишь: мол, на первых порах мне все — таки повезло, начну все сызнова, глядишь, и еще раз повезет. А когда фирма перешла к тебе по наследству, тут совсем другое. Во — первых, позор. А во — вторых, нет уверенности, что сумеешь все поправить. Ведь не ты положил начало, первый успех не твой. Ты пришел на готовенькое. И еще вопрос, способен ли ты сам добиться успеха, восстановить то, что разрушено. В сущности, тебе всю жизнь внушалось обратное.
Шервуд умолк; в тишине я услышал где — то позади негромкое тиканье, но часов не видел и не поддался искушению обернуться. И чувствовал, если поверну голову или хотя бы шелохнусь, что — то незримое в комнате разобьется вдребезги. Будто в посудной лавке, где полным — полно стекла и фарфора и все держится на честном слове: страшно вздохнуть, не дай бог, стронется что — нибудь одно — и все рухнет.
— А ты бы как поступил на моем месте? — спросил Шервуд.
— Цеплялся бы за что попало, — сказал я.
— Вот я и уцепился. С отчаяния. Выхода — то не было. Фабрика, дом, Нэнси, честное имя — все поставлено на карту! И я ухватился за эти самые идеи, записал их, собрал своих инженеров, конструкторов, чертежников — и мы взялись за работу. Понятно, всю заслугу приписали мне. Тут я ничего не мог поделать. Не мог я им объяснить, что не я все это выдумал. И, знаешь, может, оно тебе и странно покажется, но это — то и есть самое тяжкое: что поневоле пользуешься почетом и уважением за то, чего не делал.
— Значит, так, — сказал я. — Родовая фирма спасена и все прекрасно. На вашем месте я не стал бы особенно терзаться и каяться.
— Но ведь этому нет конца, — сказал Шервуд. — Будь оно все позади, я бы выкинул это из головы. Если б мне вдруг помогли избежать разорениях — ну, ладно. Но конца — то не видно. Как будто я раздвоился, что ли: есть обыкновенный, всем известный Джералд Шервуд, который сидит вот за этим самым столом, а есть еще какой — то другой, и он думает за меня. Все время на ум приходит что — то новое, иногда только диву даешься, до чего здорово, а иногда кажется — ну чистейшая бессмыслица! Будто из другого мира, серьезно тебе говорю, у нас такого быть не может. Вещи, которым нет на Земле никакого подобия и соответствия, вещи ни с чем не сообразные. Догадываешься, что в них скрыты какие — то возможности, прямо на ощупь чуешь: есть в этом что — то очень важное, значительное, — а как их применить, непонятно.
И тут не только идеи, изобретения, тут еще и знание. Вдруг оказывается я знаю такое, о чем никогда и не подозревал. Какие — то взрывы, откровения. Никогда этим не интересовался, даже не задумывался. Или такое, что наверняка вообще никому на свете не известно. Как будто кто — то взял самые разные факты и сведения, сгреб в одну кучу клочки, обрывки вперемешку, беж разбору — и запихал мне в башку.
Он потянулся за бутылкой, налил себе еще виски. Ткнул горлышком в мою сторону, и я тоже подставил бокал. Шервуд налил мне до краев.
— Пей, — сказал он. — Сам тянул меня за язык, так слушай. Завтра я, верно, стану ломать голову — чего ради я тебе все это выложил. Ну да ладно.
— Если вы не хотите рассказывать… Если вам кажется, что я сую нос, куда не просят…
Шервуд отмахнулся:
— Ладно, не нравится — не слушай. На, бери свои полторы тысячи.
Я покачал головой:
— Нет уж. Сперва объясните, откуда они взялись и почему вы мне их даете.
— Деньги не мои. Я только посредник. Мне их поручили.
— Кто? Ваш двойник?
Шервуд кивнул:
— Правильно. Как ты догадался?
Я показал на телефон без диска. Шервуд поморщился.
— Ни разу не пользовался этой штукой. Вот ты, говоришь, нашел такой же у себя в конторе, а я и не знал, что у кого — то еще такие есть. Я их выпускаю сотнями…
— Вы?!
— Ну, ясно. Только не для себя. Для этого двойника. А впрочем (Шервуд подался ко мне через стол, доверительно понизил голос)… я начинаю подозревать, что никакой это не двойник.
— Тогда что же это?
Он снова медленно откинулся на спинку кресла.
— А черт его знает. Раньше я думал да гадал, ломал голову, покоя не находил — и все равно понять ничего не мог. А теперь мне плевать. Может, есть и еще такие, как я. Может, я не один… все — таки утешение.
— Ну а этот телефон?
— Я сам его спроектировал. Или, может, не я, а тот двойник, если только он человек. Этот телефон вдруг очутился у меня в голове, я и выложил его на бумагу. И учти, я чертил, а сам понятия не имел, что это за штука и для чего она. То есть, конечно, я сообразил, что это какое — то подобие телефона. Но, хоть убей, не понимаю, каким образом он работает. И никто на фабрике не понимает. Если верить законам физики и здравому смыслу, то эта чертовщина просто не может работать.
— Но вы сами сказали, ваша фабрика выпускает еще уйму всяких поделок, в которых вроде бы нет никакого толку.
— Сколько угодно, — подтвердил Шервуд. — Но там я не сам составлял планы и чертежи, я их и не касался. А с этим так называемым телефоном совсем другой коленкор. Я знал, что надо такие телефоны производить, знал, сколько их понадобится и что с ними делать.
— Что же вы с ними делали?
— Переправлял их одной фирме в Нью — Джерси.
Что за чушь!
— Как же так? Значит, у вас в голове неведомо откуда берется чертеж… что — то вам подсказывает — дескать, фабрикуй у себя эти телефоны, а потом отсылай их куда — то в Нью — Джерси. И вы ничтоже сумняшеся покорно все это выполняете?
— Какое там ничтоже сумняшеся. Не только сомневался, а чувствовал себя дурак дураком. Но ты сообрази: этот мой двойник, мой второй мозг, неведомый помощник из другого мира — зови, как хочешь, — ни разу меня не подвел. Он спас меня от банкротства, давал дельные советы, столько раз меня выручал. Кто же отвернется от своего доброго гения?
— Кажется, понимаю, — сказал я.
— Чего ж не понять. Игрок верит в свою удачу. Вкладчик, когда покупает акции, полагается на чутье. Но и удача и чутье могут изменить, а тут у меня штука верная и надежная.
Он протянул руку, взял телефон без диска, пытливо оглядел и опять поставил на стол.
— Этот — один из первых, я давным — давно принес его домой, так он и стоит. Все годы я ждал, но он ни разу не позвонил.
— Да ведь вам телефон ни к чему, вы и так обходитесь.
— Думаешь, причина в этом?
— Уверен.
— Пожалуй, так оно и есть. Но иногда не знаешь, что и думать.
— Ну, а эта фирма в Нью — Джерси — они вам пишут?
Шервуд покачал головой.
— Ни строчки. Просто я отсылаю туда аппараты.
— И расписок не получаете?
— Никаких расписок. И никакой платы. Да я ее и не ждал. Когда ведешь дело сам с собой…
— Сам с собой?! Так, по — вашему, фирмой в Нью — Джерси заправляет тот двойник?
— Не знаю, — сказал Шервуд. — Ничего я не знаю, черт подери. Столько лет это гвоздем торчит у меня в голове, и все время я пытался хоть что — то понять, но так и не понял.
Лицо у него стало затравленное, и я от души его пожалел. Должно быть, он это заметил. Он вдруг рассмеялся:
— Ты из — за меня не огорчайся. Вытерплю. Я что угодно вытерплю. Не забывай, мне заплачено с лихвой. Расскажи — ка лучше о себе. Занимаешься перепродажей недвижимости?
— Да, и еще страхованием.
— А заплатить по счету за телефон нечем.
— Можете меня не жалеть, — сказал я. — Уж как — нибудь да выкручусь.
— Чудно с вами, с молодежью. Почти никто не остался в Милвилле. Видно, ничто вас тут не держит.
— Видно, что так, — согласился я.
— Нэнси только вчера вернулась из Европы. Я ей рад. Тоскливо одному в пустом доме. В последние годы я ее почти и не видел. Училась в колледже, потом ударилась во всякую общественную деятельность, потом ездила по Европе. А сейчас вот хочет пожить дома. Надумала писать книжку.
— Это у нее, наверно, хорошо получится, — сказал я. В школе у нее всегда были лучшие отметки за сочинения.
— Она прямо помешалась на писательстве. Уже напечатала с полдюжины статеек в этой, как ее… в периодике. Знаешь, все эти журнальчики, которые выходят раз в три месяца и не платят авторам ни гроша, а только присылают несколько штук номеров. Прежде я про такие и не слыхивал. Статейки ее я прочитал, но это ведь не по моей части. Кто их там знает, хороши они или плохи. Наверно, что — то в них есть, раз напечатали. Главное, ради своего писания она поживет тут со мной, а мне только того и надо.
Я поднялся.
— Пойду. Уж извините, засиделся.
— Нет — нет, я рад был с тобой потолковать. И не забудь деньги. Этот мой двойник, или как бишь его, велел отдать их тебе. Я так понимаю, это вроде аванса.
— Что за фокусы, — сказал я почти со злостью. — Деньги — то даете вы.
— Ничего подобного. Они взяты из особого фонда, он основан много лет назад. Не годится мне одному снимать все сливки, ведь по — настоящему изобретения не мои. Вот я и стал откладывать десять процентов прибыли в особый фонд…
— Наверно, тоже по подсказке того двойника.
— Да, пожалуй… хотя это было так давно, что я уже и сам не знаю. Короче говоря, завел я такой фонд и все годы давал деньги разным людям, как подсказывал этот самый, который хозяйничает у меня в голове.
Я уставился на Шервуда во все глаза, невежа — невежей. Но уж очень это было дико: сидит человек и преспокойно рассказывает, как кто — то неведомый хозяйничает у него в голове! Свыкся он с этим, что ли, за столько лет? Нет, все равно непостижимо!
— Я немало выплачивал из этого фонда, — невозмутимо продолжал Шервуд, — но все равно набралась кругленькая сумма. С тех пор как у меня в голове завелся сожитель, чего ни коснусь, все приносит изрядный доход.
— И вы не боитесь мне про это рассказывать?
— А чего бояться — что ты пойдешь болтать направо и налево?
— Ну да. Только я болтать не стану.
— Еще бы. Тебя просто поднимут на смех. Кто ж тебе поверит.
— Никто, надо думать.
— Брэд, — сказал Шервуд почти ласково, — не валяй дурака, черт тебя дери. Возьми — ка этот конверт и сунь в карман. Приходи когда — нибудь еще. Как захочешь, так и приходи — посидим, потолкуем. Чует мое сердце, что нам найдется о чем потолковать.
Я протянул руку и взял деньги. И сунул в карман.
— Спасибо, сэр.
— Не стоит благодарности, — сказал он и помахал рукой на прощанье. — Еще увидимся.
4
Я медленно прошел через прихожую — Нэнси нигде не было видно, ее не оказалось и на веранде, а я — то надеялся, что она меня там ждет. Она ведь сказала — да, попозже увидимся, нам надо о многом поговорить, и я, конечно, решил, что это значит — попозже сегодня же вечером. А может, она совсем этого не думала. Может, она думала — как — нибудь в другой раз. Или, может, она меня ждала, а потом ей надоело. Я ведь и правда очень засиделся у ее отца.
В безоблачном небе взошла луна, в тиши — ни ветерка. Исполинские дубы стояли недвижно, как изваяния, летнюю ночь пронизывали сверкающие нити лунного света. Я спустился с крыльца и замер, будто очутился в каком — то заколдованном круге. Эти великаны — дубы, словно призрачные угрюмые стражи, и все насквозь пронизавший лунный свет, и необъятная тишина, полная затаенным ожиданием чего — то, и слабый, какой — то потусторонний аромат, незримой пеленой стелющийся над податливой чернотой под ногами, — да разве это мой знакомый, привычный мир, моя Земля?
А потом колдовство рассеялось, сверканье померкло — меня вновь окружал тот прежний мир, который я знал с детства.
В летней ночи меня пробирала дрожь. Быть может, то был холод разочарования оттого, что меня выгнали из волшебной страны, от сознания: она существует, эта страна, но у меня нет надежды там остаться. Я ощутил под ногами асфальт дорожки и ясно видел теперь, что тенистые дубы — все — таки просто дубы, а никакие не изваяния.
Я встряхнулся, точно пес, вылезший из воды, окончательно овладел собой и зашагал по дорожке. Вот и моя машина; я обошел ее, нашарил в кармане ключи и распахнул дверцу.
Только усаживаясь за баранку, я увидел, что рядом сидит Нэнси.
— Я думала, ты уже никогда не придешь, — сказала она. О чем это вы с отцом так долго рассуждали?
— Да так, о разном. Все пустяки, ничего интересного.
— Ты часто у него бываешь?
— Нет, не очень.
Почему — то мне не хотелось объяснять ей, что до этого вечера я ни разу с Шервудом и двух слов не сказал.
В темноте я на ощупь вставил ключ.
— Прокатимся? — предложил я. — Может, заедем куда — нибудь, выпьем по стаканчику?
— Нет, не стоит. Лучше просто посидим и поговорим.
Я откинулся на спинку сиденья.
— Славный вечер, — сказала Нэнси. — Тихо, спокойно. По — настоящему тихое место теперь такая редкость.
— Тут у вас есть совсем заколдованное местечко, — сказал я. — Как раз перед крыльцом. Я нечаянно ступил на него, да только колдовство быстро пропало. Все заливает луна, и так странно пахнет…
— Это те цветы…
— Какие?
— На клумбе, что у поворота дорожки. Она вся засажена чудесными цветами, их еще давно отыскал где — то в лесу твой отец.
— Значит, и у вас они растут, — сказал я. — Наверно, в Милвилле в каждом саду есть такая клумба.
— Твой отец был необыкновенно славный, я таких людей больше не встречала. Когда я была маленькая, он всегда мне дарил цветы. Бывало, иду мимо, а он непременно сорвет хоть один цветок и даст мне.
Да, правда, отец был, что называется, очень славный. Славный и сильный, и при этим странный и, однако, несмотря на свою силу и на все свои странности, удивительно мягкий. Цветы, плодовые деревья и все, что растет на земле, он знал, как свои пять пальцев. Помню, кусты томатов у него поднимались высокие, крепкие, листья у них были какого — то особенно густого темно — зеленого света, и по весне весь Милвилл приходил к нему за рассадой.
И вот однажды отец понес вдове Хиклин томатную и капустную рассаду и корзину многолетних растений — и возвратился с какими — то странными лиловыми цветами: он наткнулся на них по дороге, в Темной Лощине, осторожно выкопал с полдюжины, заботливо окутал корни куском холстины и принес домой.
Никогда еще отец не видывал таких цветов; оказалось, и никто другой их прежде не видел. Отец высадил их на отдельную клумбу, холил за ними, как за малыми детьми, и цветы благодарно отозвались на добрую заботу. И теперь едва ли найдешь в Милвилле клумбу, где не росло бы хоть несколько лиловых цветов — цветов, открытых моим отцом.
— Странные они, эти его цветы, — сказала Нэнси. — А удалось ему определить, к какому виду они относятся?
— Нет, — сказал я, — так и не удалось.
— Надо было послать образчик в какой — нибудь университет хотя бы. Кто — нибудь объяснил бы ему, что же это такое.
— Да он сколько раз об этом заговаривал. Но так и не собрался. Всегда работы по горло. Ни минуты передышки. С этими теплицами вечно крутишься, как белка в колесе.
— Ты сильно не любил теплицы, Брэд?
— Не то чтобы уж очень не любил. Я с детства к ним привык, умел кое — как управляться. Но у отца был особый дар, сноровка, а у меня — нет. Вся эта зелень у меня просто не желала расти.
Нэнси потянулась так, что руками, сжатыми в кулаки, коснулась верха машины.
— А приятно вернуться домой! Пожалуй, я тут поживу. Мне кажется, папе плохо одному.
— Он говорил, ты хочешь стать писательницей.
— Так и сказал?
— Да. По — моему, он не считал, что это секрет.
— Ну, пусть. Но вообще об этом как — то не говорят заранее, надо сначала написать хотя бы половину. Может быть, ничего и не выйдет, тут столько подводных камней… Есть такие мнимые литераторы — либо он вечно что — то пишет и никак не допишет, либо вечно рассуждает о своей будущей книге и никак за нее не сядет, а я так не хочу!
— А о чем ты собираешься писать?
— Вот об этом. О нашем городе.
— О Милвилле?
— Ну да, чем плохо? Наш городок и его жители.
— Да тут же не о чем писать!
Нэнси засмеялась и мимолетно коснулась моего плеча.
— Очень даже есть о чем! Сколько знаменитостей! Какие своеобразные характеры!
— У нас — знаменитости? — изумился я.
— Конечно! Билл Симпсон Ноуэлз — известная романистка, Бен Джексон — прославленный адвокат по уголовным делам, Джон Хартфорд стоит во главе исторического факультета в…
— Но ведь они уже не живут в Милвилле, — перебил я. Здесь им нечего было делать. Они уехали куда — то и там прославились — и глаз не кажут в Милвилл, погостить и то не приедут.
— Но первые — то шаги они сделали тут, у нас, — возразила Нэнси. — Талант у них был, когда они еще не выезжали из Милвилла. И ты меня перебил, я не всех назвала. Из Милвилла вышло еще много выдающихся людей. Маленький, глупый, захолустный городишко, а породил столько прославленных деятелей, и мужчин и женщин, что больше ни один такой городок с ним не сравнится.
— Ты уверена?
Она говорила с таким жаром, что меня разбирал смех, но засмеяться я все же не посмел.
— Придется еще проверить, — сказала она, — но незаурядных людей из Милвилла вышло очень много.
— А насчет своеобразных характеров ты, пожалуй, права. Чудаков в Милвилле хватает. Шкалик Грант, Флойд Колдуэлл, мэр Хигги…
— Это все не то. Они своеобразные не в том смысле. Я бы даже не сказала, что они — характеры. Просто они личности. Они росли привольно, в непринужденной обстановке. Никто не подавлял их, не связывал всякими строгостями и ограничениями, и они остались самими собой. Наверно, в наше время только в таких захолустных городках и можно еще найти подлинно свободную индивидуальность.
Сроду я не слыхал ничего подобного. В жизни мне никто не говорил, что Хигги Моррис — личность. Да и какая он личность! Просто самодовольное ничтожество. И Хайрам Мартин тоже никакая не личность. Уж я — то знаю. В школьные годы он был драчун и нахал, и вырос в безмозглого фараона.
— Ты со мной не согласен? — спросила Нэнси.
— Не знаю. Никогда об этом не думал.
А про себя подумал: ох, уж эта образованность. Сколько лет Нэнси училась в университете, потом увлеклась общественной деятельностью, работала в Нью — Йорке по улучшению быта населения, потом год путешествовала по Европе — вот оно все и сказывается. Она чересчур уверена в себе, напичкана теориями и всяческой премудростью. Милвилл стал ей чужим. Она больше не чувствует его и не понимает — на родной дом не станешь смотреть со стороны и разбирать по косточкам. То есть, она сколько угодно может по привычке называть наш городишко домом, но на самом деле он ей больше не дом. А может, никогда и не был домом? Правильно ли девчонке (или мальчишке, все равно) называть родным домом захудалый нищий поселок, если сама она живет в единственном богатом особняке, каким может похвастать эта богом забытая дыра, и папаша разъезжает в кадиллаке, и к их услугам кухарка, горничная и садовник? Нет, Нэнси вернулась не домой; скорее, здесь для нее опытное поле, удобное место для наблюдений и изысканий. Она будет смотреть на Милвилл с высоты Шервудова холма, исследовать, раскладывать по полочкам, она разденет нас донага и, как бы мы ни корчились от позора и мук, выставит нас напоказ, на забаву и поучение той публике, что читает подобные книги.
— Мне кажется, — сказала Нэнси, — в Милвилле есть что — то такое, что может быть полезно всему миру и чего пока в мире недостает. Некий катализатор, благодаря которому в человеке вспыхивает искра творчества. Особый голод, неутолимая пустота внутри, которая заставляет стремиться к величию.
— Голод и пустота внутри, — повторил я. — У нас тут есть семьи, которые тебе могут все до тонкости порассказать про голод и пустоту внутри.
Я не шутил. В Милвилле иные семьи живут впроголодь — не то чтобы умирают с голоду, но вечно недоедают, и едят не добротную, вкусную и полезную пищу, а так, что придется. Три такие семьи я мог назвать с ходу, не задумываясь.
— Брэд, — сказала Нэнси, — тебе, видно, не по душе эта моя затея.
— Да нет, я не против. Какое у меня право говорить что — то против. Только уж, пожалуйста, пиши так, как будто ты тоже наша, здешняя, а не гостья — поглядываешь со стороны и посмеиваешься. Постарайся нам хоть немного посочувствовать. Попробуй влезть в шкуру тех, про кого пишешь. Это будет не так уж трудно, все — таки ты столько лет жила в Милвилле.
Нэнси засмеялась, но на этот раз ее смех прозвучал невесело.
— Я очень боюсь, что у меня просто ничего не выйдет. Начну, изведу гору бумаги, но все время надо будет возвращаться к началу, и менять, и переделывать, потому что меняются люди, про которых пишешь, или начинаешь смотреть на них другими глазами и понимать по — другому… и до конца я дописать не сумею. Так что можешь не беспокоиться.
Вероятно, она права, подумал я. Чтобы написать книгу, чтобы довести ее до конца, тоже нужно ощущать голод, пустоту внутри, только это совсем другой голод. А Нэнси вряд ли так голодна, как ей кажется.
— Надеюсь, — сказал я. — То есть, надеюсь, что ты напишешь свою книгу. И это будет хорошая книга, я уж знаю. Иначе просто быть не может.
Я старался как — то искупить недавнюю резкость, и Нэнси, видно, это поняла. Но ничего не сказала.
Экая глупость, ребячество, корил я себя. Разобиделся, распетушился, как заправский провинциал. А не все ли равное Не все ли мне равно, что она там напишет, когда я и сам только сегодня стоял посреди улицы и чуть зубами не скрипел от ненависти к этому убогому городишке, к жалкому географическому ничтожеству под названием Милвилл.
А рядом сидит Нэнси Шервуд. Та самая, с которой на заре нашей юности мы ходили, взявшись за руки… Та, кого я вспоминал сегодня, когда бродил по берегу реки, пытаясь убежать от самого себя.
Что же случилось, не пойму… И вдруг Нэнси спросила:
— Что случилось, Брэд?
— Не знаю. Разве что — нибудь случилось?
— Не ершись, пожалуйста. Ты же сам знаешь, что — то неладно. Что — то у нас с тобой нехорошо.
— Наверно, ты права. Все как — то не так. Я думал, когда ты вернешься, будет совсем по — другому.
Меня тянуло к ней, мне хотелось ее обнять — и, однако, даже в эту минуту я понимал, что хочу обнять не эту Нэнси Шервуд, которая сидит рядом в машине, а ту, прежнюю подругу далеких — далеких дней.
Посидели, помолчали. И Нэнси промолвила:
— Давай как — нибудь в другой раз попробуем начать сначала. Давай забудем этот разговор. Как — нибудь вечером я надену свое самое нарядное платье и мы с тобой поедем куда — нибудь, поужинаем вместе и немножко выпьем.
Я повернулся, протянул руку, но она уже отворила дверцу и вышла.
— Спокойной ночи, Брэд, — сказала она и побежала по дорожке к дому.
Я сидел и слушал, как она бежит по дорожке, потом по веранде. Хлопнула входная дверь, а я все сидел в машине, и эхо быстрых легких шагов все еще отдавалось где — то у меня внутри.
5
Поеду домой, говорил я себе. Даже не подойду к своей конторе и к телефону, который ждет на столе: сперва надо все путем обдумать. Ведь если, допустим, я пойду, сниму телефонную трубку и один из тех голосов отзовется — что я скажу? В лучшем случае — что я был у Джералда Шервуда и получил деньги, но, прежде чем браться за работу, которую они мне предлагают, надо же все — таки понять, что к чему. Нет, это не годится: что толку бубнить заранее заготовленные слова, точно тупица по шпаргалке? Так я ничего не добьюсь.
И тут я вспомнил, что сговорился с Элфом Питерсоном с утра пораньше отправиться на рыбалку, и преглупо обрадовался: значит, утром некогда будет идти в контору!
Вряд ли что — либо менялось оттого, сговорился я насчет рыбалки или не сговорился. Вряд ли тут что — либо могло измениться, какими бы рассуждениями я себя ни тешил. В ту самую минуту, как я давал себе клятву немедленно ехать домой, я уже знал, что неминуемо окажусь в конторе.
На Главной улице было тихо и безлюдно. Почти все магазины уже закрылись, только редкие машины еще стояли у обочин. Перед «Веселой берлогой» толпилась кучка фермеров видно, собралась компания выпить пива.
У конторы я остановил машину и вылез. Вошел и даже не потрудился повернуть выключатель. Было не так уж темно: в окно падал с перекрестка свет уличного фонаря.
Я подошел к письменному столу, протянул руку, хотел снять трубку… телефона не было!
Я стоял столбом, смотрел на стол и глазам не верил. Наклонился, провел по столу ладонью, обшарил его весь, будто вообразил, что телефон вдруг стал невидимкой и если его не углядишь, то нащупать все — таки можно. На самом деле ничего такого а не думал. А просто никак не мог поверить собственным глазам.
Потом я выпрямился и застыл, а по спине у меня бегали мурашки. Наконец медленно, с опаской я повернул голову и оглядел все углы, вдруг там затаилась какая — то мрачная тень и подстерегает… Но нигде никто не прятался. И ничего в конторе не изменилось. Все было в точности как днем, когда я уходил, каждая мелочь на прежнем месте — только телефон исчез.
Я зажег свет и обыскал комнату. Пошарил по углам, заглянул под стол, перерыл все ящики, перебрал папки в шкафу.
Телефона как не бывало.
Впервые я по — настоящему стряхнул. Может, кто — то нашел этот телефон? Ухитрился залезть в контору или каким — то образом отпер дверь — и стащил аппарат? Но зачем, почему? Он вовсе не бросался в глаза. То есть, конечно, у него нет ни диска, ни проводов, но если посмотреть в окно с улицы, вряд ли можно было это заметить.
Нет, скорее, тот, кто прежде оставил этот телефон у меня на столе, вернулся и забрал его. Может быть, это означает, что те, кто мне звонил и предлагал работу, передумали: решили, что я им не подхожу. И забрали телефон, а тем самым взяли назад и свое предложение.
Если так, остается одно: забыть об этой работе и вернуть деньги. Не так — то легко будет их вернуть. Они нужны мне, ох, как нужны — просто позарез!
Потом я сидел в машине и тщетно пытался понять — что же дальше? — но так ничего и не надумал, включил мотор и медленно покатил по Главной улице.
Завтра утром, думал я, заеду за Элфом Питерсоном и двинем мы с ним на целую неделю на рыбалку. Да, хорошо бы потолковать со старым другом Элфом. Нам есть о чем потолковать — обсудим и его сумасшедшую работу в штате Миссисипи, и мое приключение с телефоном.
И может быть, когда Элф отсюда уедет, я поеду с ним. Чем дальше от Милвилла, тем лучше.
Я не стал заводить машину в гараж. Перед сном надо будет еще собрать и уложить все походное снаряжение и рыболовную снасть, чтобы завтра с утра выехать пораньше. Гараж у меня маленький, укладываться сподручнее прямо на дорожке.
Я вылез из машины и остановился. В лунном свете угрюмой горбатой тенью чернел дом; поодаль, за углом, поблескивали под луной два или три уцелевших стекла обветшалых, вросших в землю теплиц. И чуть виднелась макушка вымахавшего рядом с ними вяза. Помню, много лет назад я заметил нечаянно пробившийся побег — слабый, тоненький прутик — и хотел его выдернуть, но отец не позволил: дерево имеет такое же право жить, как и все мы, сказал он. Так и сказал: такое же право, как и мы. Удивительный человек был мой отец, в глубине души он верил, что цветы и деревья чувствуют и думают, как люди.
И опять я ощутил слабый аромат лиловых цветов, вольно разросшихся вокруг теплиц, — тот самый аромат, которым меня обдало у веранды Шервудов. Но магического круга на этот раз не было.

Я обогнул дом и остановился: в кухне горел свет. Наверно, забыл погасить, подумал я… Впрочем, хоть убей, не помню, что бы я его зажег.
Но и дверь кухни оказалась открытой, а я точно помнил, как, уходя, захлопнул ее, да еще толкнул ладонью, проверяя, защелкнулся ли замок, и только потом пошел к машине.
Может быть, кто — то меня ждет или в доме побывал вор и все очистил, хотя, бог свидетель, поживиться у меня нечем. А может, ребята озоровали — есть у нас такие шалые, никакого удержу не знают.
Несколько быстрых шагов — и я так и стал посреди кухни. Тут и впрямь был посетитель, меня ждали.
На табурете сидел Шкалик Грант; он согнулся в три погибели, прижал обе руки к животу и медленно раскачивался из стороны в сторону, словно от боли.
— Грант! — крикнул я.
В ответ он то ли застонал, то ли замычал.
Опять нализался. Пьян вдрызг, в стельку, и как он умудрился допиться до такого состояния на тот мой несчастный доллар? А может, он сперва выпросил и еще у двоих или троих, чтобы уж сразу налакаться всласть?
— Грант, — зло повторил я, — какого черта?
Я обозлился всерьез. Пусть его пьет, сколько влезет, это не моя забота, но по какому праву он врывается ко мне в дом?
Шкалик опять простонал, свалился с табурета и нелепой кучей тряпья шмякнулся на пол. Что — то выпало из кармана его драной куртки, забренчало, зазвенело и покатилось по истертому линолеуму.
Я опустился на колени и с немалым трудом кое — как перевернул пьянчугу на спину, физиономия у него была распухшая, вся в багровых пятнах, дыхание неровное, прерывистое, но перегаром от него не пахло. Не веря себе, я наклонился пониже — нет, он явно трезвый!
— Брэд! — пробормотал он. — Это ты, Брэд?
— Я, я, не волнуйся. Сейчас я тебе помогу.
— Уже скоро, — зашептал он. — Времени в обрез.
— Что скоро?
Но он не ответил. Его одолел приступ удушья. Он силился что — то сказать и не мог, слова душили его, застревали в горле.
Я вскочил, кинулся в гостиную, зажег свет у телефона. Второпях, бестолково и неуклюже стал листать телефонную книжку, все время подворачивались не те страницы. Наконец я отыскал номер доктора Фабиана, набрал и стал ждать: в трубке раздавался гудок за гудком. Хоть бы старик был дома, хоть бы не укатил куда — нибудь по вызову! Если его нету, никто не отзовется, на миссис Фабиан надеяться нечего. У нее жестокий артрит, она еле ползает. Доктор всегда старается залучить кого — нибудь, чтоб присматривали за ней, когда его нет дома, и отвечали на звонки, но это ему не всякий раз удается. Миссис Фабиан — старуха нравная, на нее не угодишь, и сносить ее придирки никому не охота.
Наконец доктор снял трубку, и у меня гора с плеч свалилась.
— Док, — сказал я, — у меня тут Шкалик Грант, с ним что — то неладно.
— Пьян, наверно.
— Да нет, не пьян. Прихожу домой, а он сидит у меня на кухне. Его всего скрючило, и он что — то лопочет.
— Что же он лопочет?
— Не знаю. Говорить не может, лопочет, не поймешь что.
— Хорошо, — сказал доктор Фабиан, — сейчас приеду.
Надо отдать старику справедливость: на него можно положиться. Днем ли, ночью, в ненастье ли — никогда не откажет.
Я вернулся в кухню. Грант перекатился на бок, он по — прежнему держался обеими руками за живот и тяжело дышал. Я не стал его трогать. Доктор скоро будет, а до тех пор я ничем не могу помочь. Уложить поудобнее? А может, ему удобней лежать на боку, а не на спине?
Я подобрал металлический предмет, который выпал у Гранта из кармана. Это оказалось кольцо с полудюжиной ключей. На что ему, спрашивается, столько ключей? Может, он их таскает для пущей важности — воображает, будто они придают ему весу?
Я положил ключи на стол, вернулся к Шкалику и присел подле него на корточки.
— Я звонил доку, Грант, — сказал я. — Он сейчас приедет.
Шкалик, кажется, услыхал. Минуту — другую он пыхтел и захлебывался, потом выдавил из себя прерывистым шепотом:
— Больше помочь не могу. Ты остаешься один.
У него это вышло далеко не так связно — какие — то клочки, обрывки слов.
— Про что это ты? — спросил я, как мог мягко. — Объясни — ка, в чем дело.
— Бомба, — сказал он. — Они захотят пустить в ход бомбу. Не давай им сбросить бомбу, парень.
Не зря я сказал доктору Фабиану, что Грант не говорит, а лопочет.
Я вышел к парадной двери поглядеть, не видно ли доктора, и тут он как раз показался на дорожке.
Он прошел впереди меня в кухню и постоял минуту, глядя на Шкалика сверху вниз. Потом отставил свои чемоданчик, тяжело опустился на корточки и повернул Гранта на спину.
— Как самочувствие? — спросил он.
Шкалик не ответил.
— Глубокий обморок, — сказал доктор.
— Он только что со мной говорил.
— Что же он сказал?
Я покачал головой:
— Да так, чушь какую — то.
Доктор Фабиан вытащил из кармана стетоскоп и стал слушать сердце Гранта. Потом вывернул ему веки и посветил в глаза. Потом медленно поднялся на ноги.
— Что с ним? — спросил я.
— Шок. Не понимаю в чем дело. Надо бы свезти его в Элмор, в больницу, и там обследовать по всем правилам.
Доктор устало повернулся и побрел в гостиную.
— Где у тебя телефон?
— В углу, возле лампы.
— Позвоню Хайраму, — сказал доктор. — Он отвезет нас в Элмор. Гранта уложим на заднее сиденье, я сам тоже поеду, пригляжу за ним.
На пороге он обернулся:
— У тебя найдется парочка одеял? Надо его укутать потеплее.
— Что — нибудь найду.
Я пошел за одеялами. Когда вернулся, доктор уже снова был на кухне. Вдвоем мы спеленали Гранта, как младенца. Он был весь обмякший, будто без костей, по лицу его ручьями струился пот.
— Непостижимо, как еще в нем душа держится, — сказал доктор Фабиан. — Живет в этой своей развалюхе у самого болота, хлещет спиртное подряд, без разбору, питается вообще неизвестно чем. Ест всякую дрянь, сущие помои. И за последние десять лет навряд ли хоть раз толком вымылся. — Старик вдруг вспылил: — Черт знает, до чего безобразно иные субъекты относятся к собственному телу.
— Откуда он взялся? — спросил я. — Я всегда считал, что он родом нездешний. Но сколько себя помню, он вечно околачивался в Милвилле.
— Его сюда занесло уже тому лет тридцать, а то и побольше, — сказал доктор Фабиан. — Тогда он был еще совсем молодой. Нанимался то туда, то сюда, подрабатывал по мелочам, так тут и застрял. Никто не обращал на него внимания. Верно, думали — перекати — поле, опять его каким — нибудь ветром унесет. А потом как — то так прижился, что Милвилл без него и представить нельзя. Может, ему здесь понравилось. А может, просто не хватило ума двинуться дальше.
Мы помолчали.
— А почему он вдруг ввалился к тебе? — спросил доктор.
— Право, не знаю. Мы с ним всегда ладили. Иногда ходим вместе на рыбалку. Может, он просто шел мимо и вдруг ему стало худо.
— Может быть, и так, — согласился доктор.
В дверь позвонили, я вышел открыть и впустил Хайрама Мартина. Хайрам — рослый детина, морда у него мерзкая, зато полицейская бляха на лацкане всегда начищена до блеска.
— Где он? — спросил Хайрам.
— На кухне, — сказал я. — И доктор с ним.
Сразу видно было, что Хайраму вовсе не улыбается везти Шкалика в Элмор.
Он прошествовал в кухню и остановился, глядя на укутанное тело на полу.
— Пьян, что ли?
— Нет, — сказал доктор. — Он болен.
— Ладно, — проворчал Хайрам. — Машина у крыльца, мотор не выключен. Давайте перетащим его и поехали.
Втроем мы вынесли Шкалика из дому и пристроили на заднем сиденье.
Я стоял на дорожке, смотрел им вслед и спрашивал себя, каково — то будет Гранту очнуться в больнице. Уж верно, он вовсе не стремился туда попасть.
И еще мне было не по себе из — за доктора Фабиана. Он уже очень не молод, наверняка целый день мотался по больным и все — таки счел своим долгом поехать со Шкаликом.
Вернувшись на кухню, я надумал сварить себе кофе, хотел уже налить воду в кофейник — и увидел ту связку ключей, я ее раньше подобрал с полу и кинул на стол. Я взял ее в руки и стал разглядывать. Два ключа были большие, возможно, от сарая, два — самые обыкновенные ключи, неизвестно от чего, один от машины и еще один, похоже, от сейфа. Я вертел их в руках, уже почти не глядя, и мысленно пожимал плечами. Откуда у нашего выпивохи ключ от машины, а тем более от сейфа? Машины у него нет — и, даю голову на отсечение, сроду у него не было ничего такого, что стоило бы хранить в сейфе.
Времени в обрез, сказал он мне, они захотят сбросить бомбу. Доктору я сказал, что Шкалик лопочет безо всякого смысла, но теперь, как вспомню, не так уж я в этом уверен. Он задыхался, каждое слово давалось ему с великим трудом, и все же он так старался. Нет, это были осмысленные слова, ему важно было их выговорить. Он непременно хотел их сказать, собрал для этого последние силы? Совсем не похоже на бред, когда язык сам собою мелет и мелет всякую чушь. Но он сказал слишком мало. Ему не хватило сил или, может быть, времени. Ему удалось выговорить лишь несколько слов, но в чем их смысл, понять невозможно.
Есть одно место, где я, пожалуй, еще до чего — нибудь дознаюсь и тогда пойму, что он хотел сказать, только очень мне это не по душе. Пьянчужка Грант — мой старинный друг, мы стали друзьями в тот далекий день, когда Грант, идучи ловить рыбу, прихватил с собой десятилетнего мальца и до вечера просидел с ним на берегу, без устали рассказывая всякие удивительные истории. Помню, тогда нам и кое — какая рыба попалась, но рыба — это было не главное. Важнее всего — это важно и по сей день, — что взрослый человек понимал десятилетнего мальчишку и держался с ним на равных. В тот день, в те несколько предвечерних часов, я разом вырос. Пока мы сидели на берегу реки, я был ничуть не меньше его — такой же человек, а это случилось со мной впервые.
Да, надо кое — что сделать… очень мне это не во душе… но, может, Шкалик и не рассердится. Он ведь пытался мне что — то сказать и не сумел, не хватило сил. Уж, конечно, он поймет, что если я воспользуюсь ключами и заберусь в его лачугу, так не с каким — то злым умыслом и не из праздного любопытства: надо же хоть попытаться понять, о чем он старался меня предупредить.
Еще никто никогда не переступал его порога. Свою халупу на окраине Милвилла, у самого болота, в которое переходит луг Джека Диксона, Грант строил понемногу, год за годом, из всякого хлама, какой попадался под руку: бревешко или доска, которая плохо лежит, расплющенная жестянка, обломок фанеры все шло в ход. Сперва получилось что — то вроде конуры или курятника с односкатной крышей — лишь бы кое — как укрыться от ветра и дождя. Но по кусочку, по щепочке год за годом Грант все укреплял и увеличивал эту странную постройку — и в конце концов вышло хоть и нелепое, нескладное, с какими — то корявыми выступами и углами, а все — таки жилище.
Итак, я решился, в последний раз подбросил ключи, на лету поймал и сунул в карман. Вышел из дому и сел в машину.
6
Призрачно белый туман тонкой пеленой стлался над болотом и завивался у подножия пригорка, на котором стояла хижина Шкалика. Дальше, за этой плоской белизной, вздымалась смутная тень: среди болота торчал поросший лесом островок.
Я остановил машину и вылез; в нос ударил едкий болотный дух: пахло тлением, плесенью, гниющими травами, ржавой стоячей водой. В сущности, не такой уж тошнотворный завах, и, однако, было в нем что — то нечистое, меня даже передернуло. Вероятно, к этому можно привыкнуть, подумал я. Шкалик живет здесь так долго, что, скорей всего, принюхался и уже ничего не чувствует.
Я оглянулся на город — сквозь темную массу мрачных, будто в дурном сне приснившихся деревьев на миг блеснул луч уличного фонаря, что раскачивался на ветру. Да, можно не беспокоиться, я наверняка доехал незамеченным. Прежде чем свернуть с шоссе, я погасил фары и дальше, по проселочной дороге, которая, петляя, доходила до хижины Гранта, полз, как черепаха, при одном лишь тусклом свете луны.
Яко тать в нощи, подумалось мне. Да так оно и есть, вот только красть я ничего не собираюсь.
Тропинка привела меня к двери, слепленной, будто из заплат, из кривых, бросовых дощечек и обрезков; дверь заперта была на тяжелый засов с огромные висячим замком. Я попробовал один из больших ключей, он подошел, дужка замка откинулась. Толкнул дверь, она со скрипом отворилась.
Я засветил карманный фонарик, который на всякий случай прихватил из машины. С порога повел лучом вправо и влево. Стол, три стула, у одной стены койка, у другой очаг.
И — чистота. Деревянный пол устлан заботливо пригнанными друг к другу кусками линолеума. И линолеум протерт до блеска. Стены оштукатурены и тщательно оклеены клочками обоев, причем на какое — либо соответствие света и узора мастеру было в высшей степени наплевать.
Медленно поводя по сторонам лучом фонаря, я вошел в комнату. Теперь, кроме самых больших вещей, которые первыми бросились мне в глаза, — печка, стол, стулья, кровать, я стал замечать и другие, помельче.
И среди прочего — то, что должен был бы заметить прежде всего, но почему — то не заметил: на столе стоял телефон.
Я направил на него луч фонаря и долгие секунды смотрел, проверял то, что было очевидно с самого начала, с самого первого взгляда: у этого телефона не было ни диска, ни провода. Да и окажись у него провод, его здесь не к чему было бы присоединить: телефонная линия никогда не доходила до этой халупы на краю болота.
Стало быть, их три… то есть, это я знаю три. Один стоял у меня в конторе, другой — в кабинете Джералда Шервуда, а вот и еще один — в лачуге первейшего милвиллского лодыря и забулдыги.
А впрочем, не такой уж он забулдыга, как воображает весь Милвилл. Мы — то думали, он зарос грязью в своей развалюхе. А между тем пол вымыт, стены оклеены обоями, все чисто и опрятно.
Джералд Шервуд, я и Шкалик Грант — что, спрашивается, может нас объединять? И сколько еще в Милвилле таких телефонов? С кем еще соединяют нас неведомые, непонятные узы?
Я повел фонариком, луч взобрался на постель, застланную лоскутным одеялом — не смятым, не скомканным, а расправленным гладко, без единой морщинки. А потом луч осветил еще столик по ту сторону кровати. Под ним стояли две картонные коробки. Одна без всякой надписи, на крышке другой яркие крупные буквы — известная марка превосходного шотландского виски.
Я подошел к столику и вытащил ящик из — под виски. То, что я в нем увидел, меня огорошило. Я думал, там сложено белье и прочие пожитки или свален никчемный старый хлам, но никак не ожидал, что это и правда виски.
Не веря глазам, я доставал бутылку за бутылкой — непочатые, даже нераскупоренные. Потом снова поставил их все в ящик и осторожно присел на корточки. Где — то внутри росло желание расхохотаться… но, если вдуматься, тут было не до смеха.
Только сегодня Шкалик выклянчил у меня доллар, уверяя, что ему с самого утра нечем было промочить горло. А в это самое время у него под столом стоял целый ящик первоклассного виски.
Неужели весь его вид, его повадки завзятого пьяницы и забулдыги — просто маскарад? Грязные, обломанные ногти; мятая драная одежда; вечно небритая физиономия и немытая шея, и вечно он клянчит на выпивку, и не брезгует самой грязной случайной работой ради хлеба насущного… так что же, все это — подделка и обман?
Но если это притворство, то — чего ради?
Я затолкал ящик с виски обратно под стол и вытащил вторую коробку. Тут было уже не виски, но и не какой — нибудь старый хлам. Тут были телефоны.
Я оцепенел, вытаращив глаза. Так, значит, вот каким образом тот аппарат попал ко мне на стол! Его принес Шкалик, а потом дожидался меня, подпирая стенку. Возможно, выходя из конторы, он увидал меня в конце улицы — и попытался единственно правдоподобным образом объяснить, с какой стати он тут околачивается. А может быть, это просто нахальство и больше ничего. И все время он втихомолку надо мной насмехался.
Нет, неправда. Не станет Грант надо мной насмехаться. Мы с ним старые, верные друзья, и не станет он надо мной измываться и дурачить меня. Тут кроется что — то серьезное, что — то очень, очень серьезное, тут совсем не до смеха.
Если это Шкалик принес телефон ко мне в контору, так, может, он сам его и забрал? Может, потому он и заявился вечером ко мне домой — хотел объяснить, отчего телефон исчез?
Нет, едва ли. Не похоже.
Но если телефон забрал не Шкалик, значит, тут замешан кто — то еще.
Вынимать телефоны из коробки не было никакой надобности, я отлично знал, что это такое. И все — таки вытащил их и, конечно, не ошибся. Ни дисков, ни проводов у них не было.
Я поднялся на ноги и постоял в раздумье, глядя на тот телефон, что стоял на столе; потом решился, подошел к столу и снял трубку.
— Слушаю! — отозвался уже знакомый мне деловитый голос. — Что вы можете сообщить?
— Это не Шкалик говорит, — сказал я. — Шкалика отвезли в больницу. Он заболел.
Короткая заминка, потом голос сказал:
— А, это мистер Брэдшоу Картер, не так ли? Очень мило, что вы позвонили.
— Я нашел телефонные аппараты у Шкалика. Я сейчас у него дома. А тот телефон, который был у меня в конторе, куда — то пропал. И я виделся с Джералдом Шервудом. Мне кажется, приятель, вам пора объясниться начистоту.
— Да, конечно, — сказал голос. — Как я понимаю, вы согласны представлять наши интересы.
— Стоп, одну минуту. Сперва объясните толком, в чем дело. И дайте мне время подумать.
— Ну, вот что, — сказал голос, — вы все обдумайте и позвоните нам. А что вы сказали про Шкалика, куда его увезли?
— В больницу. Он заболел.
— Почему же он не сообщил нам! — ахнули в трубке. — Мы бы привели его в порядок. Ведь он прекрасно знает…
— Может быть, он просто не успел. Когда я его нашел, он был очень плох.
— Как называется то место, куда его увезли?
— Элмор. Элморская больница.
— Элмор. Да, да, конечно. Мы знаем, где это.
— Может, вы и Гринбрайер знаете?
Сам не понимаю, как это сорвалось у меня с языка. Я и не думал про Гринбрайер. Он вдруг выскочил из подсознания быть может, где — то там, в глубине, наши здешние происшествия связались для меня с тем, что рассказывал о своей работе Элф.
— Гринбрайер? Да, разумеется. Это в, штате Миссисипи. Маленький город, совсем как Милвилл. Так вы нас известите? Когда окончательно примете решение, вы нас известите?
— Извещу.
— Большое спасибо, сэр. Рады будем сотрудничать с вами.
И телефон заглох.
Значит, и в Гринбрайере тоже. Не только в Милвилле. А может, и во всем свете то же самое. Кой черт, что же это творится?
Надо поговорить с Элфом. Пойду сейчас домой и позвоню ему. Или лучше поеду к нему, поговорим с глазу на глаз. Наверно, он уже в постели — придется разбудить. Прихвачу чего — нибудь выпить.
Я взял телефон под мышку и вышел. Притворил дверь, проверил, защелкнулся ли замок, и пошел к своей машине. Открыл заднюю дверцу, поставил телефон на пол и накрыл плащом (он лежат сложенный на заднем сиденье).
Глупо, конечно, а все же как — то спокойнее, когда эта штука спрятана подальше и не бросается в глаза.
Потом я сел за руль и задумался. Пожалуй, не стоит ничего делать второпях, очертя голову. Завтра утром мы с Элфом все равно увидимся, и тогда будет вдоволь времени на разговоры: если надо проговорим хоть целую неделю. А пока попробую сам обмозговать положение.
Час уже поздний, а надо еще собрать и уложить в машину все, что нужно для рыбалки и хоть немного поспать.
Не делай глупостей, говорил я себе. Не спеши. Постарайся все продумать.
Дельный совет. Только для кого — нибудь другого. И даже для меня — но только в другое время и при других обстоятельствах. А тут надо было действовать совсем иначе. Надо было гнать во весь дух к «Стоянке Джонни» и вломиться к Элфу. Быть может, тогда все пошло бы по — другому. А впрочем, кто его знает. Наверняка никогда ничего не знаешь.
Короче говоря, я все таки вернулся домой, уложил рыболовную снасть и все прочее в машину, соснул часок — другой (теперь понять не могу, как мне удалось уснуть), а ни свет ни заря меня поднял будильник.
И, не успев добраться до Элфа, я наткнулся на невидимый барьер.
7
— Эй! — радостно окликнуло меня развеселое пугало.
Он стоял передо мной нагишом и, пуская слюну, пересчитывал собственные пальцы.
Обознаться было невозможно. За минувшие годы он ничуть не изменился. Все то же безмятежно тупое выражение лица, лягушачий рот до ушей, в глазах ни искорки мысли. Как и все в Милвилле, я не видел его целых десять лет, но, казалось, он не стал старше. Разве что волосы отросли и спадали на плечи, но он так и остался безусым. Просто всю физиономию покрывал какой — то цыплячий пух. И он был совершенно голый, только на голове торчал невообразимый соломенный колпак. Да, это был он, Таппер. Все тот же прежний Таппер. Его нельзя было не узнать.
Он перестал считать пальцы и сглотнул слюну. Снял свою дурацкую шляпу и протянул мне, чтобы я получше ее разглядел.
— Сам сделал! — сказал он, раздуваясь от гордости.
— Отличная шляпа, — отозвался я.
А про себя подумал: Таппер — принесла же его нелегкая! Не знаю, откуда он вдруг взялся, но хуже времени выбрать не мог. У Милвилла сейчас хватает забот, ему пока не до Тапперов.
— Твой папа, — сказал Таппер Тайлер. — Где твой папа, Брэд? Мне надо ему кой — чего сказать.
А голос? Как можно было его не узнать? И как я мог забыть, что у Таппера необычайный дар подражания? Он всегда мастерски передразнивал любую птицу, лаял, мяукал и, к восторгу окружавшей его плотным кольцом хохочущей детворы, разыгрывал целые сценки — драку кошки с собакой или перебранку двух соседей.
— Твой папа? — повторил Таппер.
— Пойдем — ка в дом, — сказал я. — Дам тебе что — нибудь надеть. Нечего разгуливать, в чем мать родила.
Он рассеянно покивал.
— Цветы, — сказал он. — Много — много, красивые.
И развел руки, показывая, как много цветов.
— Луга, луга. Всюду цветы. Конца — краю нет. И все лиловые. Такие красивые, и пахнут как хорошо, и какие добрые.
Рукой, похожей на птичью лапу, он утер подбородок, по которому во время этой длинной речи побежала струйка слюны. Потом вытер ладонь о бедро.
Я взял его за локоть, повернул и повел к дому.
— А твой папа? Мне надо рассказать твоему папе про цветы.
— После расскажешь.
Я заставил его подняться на веранду, подтолкнул к двери и вошел следом. Вот так — то лучше. Нечего ему болтаться в таком виде по улицам, людей пугать. А я и без того сыт по горло. Только вчера вечером у меня в кухне валялся без памяти Шкалик, и вот заявился нагишом Таппер. Чудаки народ неплохой, и в захолустных городишках их всегда хватает, но сейчас это, право, некстати.
Все еще крепко держа Таппера за локоть, я привел его в спальню.
— Стой тут.
Он стал как пень посреди комнаты и только бессмысленно озирался, разинув рот.
Я отыскал рубашку, штаны. Вытащил пару башмаков, но поглядел на его ноги и сунул башмаки на прежнее место. Наверняка малы. У Таппера огромные, расшлепанные ножищи — видно, многие годы топал босиком.
Я протянул ему штаны и рубаху:
— Надевай. И сиди тут. Никуда не выходи.
Он не ответил и одежду не взял. И опять принялся пересчитывать свои пальцы.
До этой минуты мне недосуг было задумываться, а тут я впервые спросил себя — да где же он пропадал? Как это могло случиться: исчез человек, скрылся без следа ни много ни мало на десять лет, и вдруг — здрасте! — явился неведомо откуда…
Таппер исчез в тот год, когда я только поступил в среднюю школу, — мне это крепко запомнилось, потому что на целую неделю нас, мальчишек, отпустили с уроков и мы помогали его разыскивать. Миля за милей мы прочесывали поля и леса частой цепью, на расстоянии вытянутой руки друг от друга, и под конец думали уже, что найдем не живого человека, а мертвеца. Полиция обшарила дно реки, окрестные пруды и озера. Отряд милвиллцев под командой шерифа облазил болото за хижиной Шкалика, старательно прощупывая трясину длинными шестами. Отыскали множество бревен, два или три дырявых, выброшенных за ненадобностью бака для белья, да еще в дальнем конце давным — давно издохшего пса. Таппера не нашли.
— Ну что же ты, — сказал я ему. — На, оденься.
Он досчитал пальцы и из вежливости утер подбородок.
— Мне надо назад, — сказал он. — Цветы не могут долго ждать.
Он протянул руку и принял штаны и рубаху.
— Мои старые изорвались, — пояснил он. — Просто взяли и свалились с меня.
— Полчаса назад я видел твою матушку, — сказал я. — Она тебя искала.
Сказал и насторожился: еще вскинется, никогда не знаешь, какая муха его укусит. Но я нарочно сказал неосторожные слова — вдруг это немного встряхнет его, всколыхнет в нем каплю здравого смысла.
— А она всегда меня ищет, — беспечно отвечал Таппер. Она думает, я еще маленький, мне нянька нужна.
Как будто он и не пропадал. Как будто не прошло десять лет. Как будто он вышел из родительского дома всего час назад. Как будто время ничего для него не значило… да, наверно, так оно и было.
— Оденься, — велел я. — Сейчас вернусь.
Прошел к телефону и набрал номер доктора Фабиана. Зачастили гудки: занято.
Я повесил трубку. Кому еще позвонить? Можно Хайраму Мартину. Наверно, ему — то и надо звонить. Но стоит ли? Доктор Фабиан — вот кто здесь нужен, он умеет обращаться с людьми. А Хайрам только и умеет ими помыкать.
Я еще раз набрал номер доктора. Опять занято.
Брякнув трубку на рычаг, я кинулся в спальню. Таппера нельзя надолго оставлять одного. Кто его знает, что он может натворить.
И все — таки я мешкал слишком долго. Его совсем не годилось оставлять одного.
Спальня была пуста. Окно раскрыто настежь, рама с москитной сеткой выломана, Таппера как не бывало.
В два прыжка я пересек комнату, высунулся из окна — никого!
В глазах у меня потемнело от страха. Почему — непонятно. Ну что за важность, если Таппер и удрал, сейчас есть заботы поважнее. И однако, бог весть почему, я знал: надо его догнать, вернуть, ни в коем случае нельзя снова его упустить.
Безотчетно, не думая, я отошел вглубь комнаты, разбежался и нырнул головой в окно. Свалился наземь, ударился плечом, перевернулся и вскочил.
Таппера нигде не было видно, но теперь я понял, куда он пошел. На росистой траве ясно виднелись следы, они вели за угол дома, к старым теплицам. Он пошел прямиком к чаще лиловых цветов, они разрослись на заброшенном участке, где когда — то мой отец, а потом и я разводили на грядках цветы и овощи на продажу. Таппер прошел шагов двадцать вглубь этого лилового островка, за ним тянулась отчетливая борозда: примятые стебли еще не успехи расправиться, и листья, с которых он стряхнул росу, были темнее остальных.
В двадцати шагах борозда обрывалась. Дальше и вокруг лиловые цветы стояли совершенно прямо, сплошь посеребренные капельками росы.
И больше никаких следов. Таппер не вернулся той же дорогой и не двинулся потом в другую сторону. Только одна эта протоптанная им узкая тропинка вела прямиком в заросли лиловых цветов и там обрывалась. Словно он вдруг распахнул крылья и взлетел или же провалился сквозь землю.
Что ж, где бы он ни был, какие бы фокусы ни выкидывал, из Милвилла ему не сбежать. Милвилл замкнут со всех сторон загадочной незримой оградой.
Мир вдруг наполнился истошным воплем — пронзительным, нескончаемым, леденящим душу. Застигнутый врасплох, я вздрогнул и оцепенел. А нестерпимый вой длился и длился, вздымался до небес, заполнял Вселенную.
Я почти сразу понял, что это такое, но еще долгие секунды не проходило мучительное, сводящее каждую мышцу оцепенение, и внутри все оледенело от невыразимого ужаса. Уж очень много всякого стряслось за последние часы, и этот железный вопль добил меня, я чувствовал: еще чуть — и не выдержу!
Понемногу я кое — как совладал с собой и направился к дому.
А она все выла, вопила во всю мочь, неистово, неумолчно — сирена на здании муниципалитете, вестница тревоги.
8
Когда я дошел до дверей, по улице уже бежали люди сломя голову, вытаращив глаза, неслись они туда, откуда изливался надрывный вой, словно сирена эта — чудовищная дудка в руках Крысолова в последний день бытия, а они — крысы и нет для них ничего страшней, чем опоздать на зов.
Торопливо прихрамывал дряхлый дядюшка Эндрюс, с необычайной силой размахивая костылем, громко стуча им по тротуару, и ветер вздувал ему до самых глаз длинную седую бороду. С мрачной решимостью ковыляла мамаша Джоунс, она нахлобучила на голову старомодный капор с огромными полями для защиты от солнца, но забыла завязать ленты, и они болтались по плечам. Сия музейная редкость сохранилась у нее одной во всем Милвилле (а быть может, и в целом свете), и старуха ужасно этим чванилась, словно щеголять в головном уборе, в каких разгуливали модницы прошлого века, — признак величайшей добродетели. Следом шагал пастор Сайлас Мидлтон, на лице его застыла гримаса брезгливого осуждения, и все — таки он влился в общий поток. Продребезжал древний «форд». К рулю пригнулся сумасбродный мальчишка Джонсон; в машине полно было его приятелей, таких же хулиганов, они вопили, свистели, мяукали словом, рады были случаю пошуметь. Спешили еще и еще милвиллцы, наперегонки мчались дети и собаки.
Я отворил калитку и вышел на улицу. Но не бросился бежать, как другие, я ведь уже знал, из — за чего тревога, и меня угнетало и давило еще многое, чего пока не знал никто. Главное — Таппер Тайлер: как он связан с тем, что происходит?
Пусть это дико, нелепо, но в глубине души я уверен без Таппера тут не обошлось, каким — то образом он заварил эту кашу.
Надо бы все обдумать, разобраться, но уж очень это огромно, и никак не укладывается в голове, и не за что зацепиться… За этими мыслями а не услышал, как сзади, словно крадучись, подкатила машина. Очнулся, только когда щелкнула распахнутая дверца.
Я круто обернулся — за рулем сидела Нэнси Шервуд.
— Садись, Брэд! — крикнула она сквозь вой сирены.
Я поспешно сел рядом, захлопнул дверцу, и мы понеслись. Машина была большая, мощная, верх опущен; с непривычки как — то чудно мчаться в открытой машине, когда над головой ничего нет.
Сирена утихла. Только что мир был до отказа полон воем ее медной глотки — и вот все оборвалось коротким жалобным стоном и смолкло. Настала тишина — огромная, давящая, под ее необъятным грузом глубоко в мозгу еще таился слабый рыдающий отзвук. Словно вой не совсем кончился, а лишь отодвинулся куда — то очень далеко.
Тишина обдала холодом, я почувствовал себя беззащитным и беспомощным. Глупо: будто, пока выла сирена, у нас была цель, было зачем и куда стремиться. А смолкла она — и непонятно, куда идти и что делать.
— Хорошая у тебя машина, — сказал я первое, что пришло в голову. Ничего другого не подвернулось, а что — то сказать было необходимо.
— Это мне отец подарил ко дню рожденья, — ответила Нэнси.
Машина шла бесшумно, мотора совсем не было слышно, только глухо шуршали шины по асфальту.
— Слушай, Брэд, что происходит? Кто — то мне говорил, будто твоя машина валяется разбитая, а тебя нигде нет. Это не из — за твоей аварии запустили сирену? И еще, говорят, на шоссе пробка, застряла масса машин…
— Вокруг Милвилла поставили ограду, — сказал я.
— Кто поставил? Зачем?
— Это не простая ограда. Ее не видно.
Мы подъезжали к Главной улице, здесь народу стало больше. Шли не только по тротуарам, но и по газонам перед домами, и прямо по мостовой. Нэнси сбавила скорость, машина теперь еле ползла.
— Так ты говоришь, ограда?
— Ну, да. Автомобиль без шофера и без пассажиров может пройти сквозь нее, а человека она не пропускает. Подозреваю, что она не пропустит ничего живого. Заколдованная стена, как в волшебной сказке.
— Не хватало еще, чтобы ты верил в волшебство!
— Час назад не верил. А теперь не знаю…
Мы выехали на Главную улицу, тут перед муниципалитетом собралась толпа, все время подходили еще и еще люди. Подбежал Джордж Уокер, мясник из магазина «Рыжий филин»: край белого фартука заткнут за пояс, белый полотняный колпак съехал на ухо. Норма Шепард, секретарша доктора Фабиана, забралась на какой — то ящик посреди тротуара, чтоб лучше видеть, что творится вокруг; Батч Ормсби, хозяин заправочной станции напротив муниципалитета, стоял у обочины и усердно тер комком ветоши перепачканные смазкой ладони, словно знал, что вовеки не ототрет их дочиста, а все — таки обязан стараться.
Нэнси подвела машину к бензоколонке и заглушила мотор.
Размашисто шагая по бетонной площадке, к нам подошел какой — то человек. Наклонился, оперся скрещенными руками о дверцу.
— Ну, приятель, как дела? — спросил он.
Минуту я смотрел на него, не узнавая, и вдруг вспомнил. Он, видно, понял.
— Угу, — подтвердил он. — Я самый. Это я разбил твою машину.
Он выпрямился и протянул руку.
— Звать меня Гэбриел Томас. Попросту сказать, Гейб. Мы тогда на дороге и назваться — то не успели.
Я пожал ему руку и назвал себя, потом представил ему Нэнси.
— Говорят, на шоссе что — то случилось, мистер Томас, сказала она. — Но Бред мне не рассказывает.
— Видите ли, мисс, тут дело темное, — сказал Гейб. Вроде ничего и нет, наезжаешь на пустое место, а оно тебя не пускает — все равно как в каменную стену уперся. Проехать нельзя, а видно все насквозь.
— Звонили вы своему начальству? — спросил я.
— А как же. Ясно, звонил. Да только никто мне не поверил. Думают, я пьян. Думают, я до того допился, что боюсь ехать, вот и отсиживаюсь где — то. Думают, я сочинил эту дурацкую историю себе в оправдание.
— Они вам так и сказали, мистер Томас?
— Нет, мисс, не сказали, да только я и сам знаю, что они думают. То и обидно, что им такое в голову пришло. Я ж непьющий. И ничего за мной худого не водится. Я же три года кряду премии получал за классную езду.
— Ума не приложу, как быть, — продолжал он, обращаясь ко мне. — Никак не выберусь из этого городишки. Никакого просвета нет. В какую сторону ни подамся — всюду стена. До моего дома пятьсот миль, жена одна осталась, на руках шестеро ребятишек, меньшой еще в пеленках. Ума не приложу, как она там управится. Она, понятно, привыкла, что я уезжаю. Так ведь я всегда за три дня оборачиваюсь, на худой конец — за четыре. А ну как застряну тут недели на три, а то и на все три месяца? Что ей тогда делать? Денег взять неоткуда, а за квартиру плати да шесть ртов прокорми.
— Может, это и ненадолго, — сказал я; мне хотелось его немного подбодрить. — Может, кто — нибудь сообразит, как этот барьер одолеть. А может, он пропадет сам собой. И потом, мне кажется, компания пока будет выплачивать ваше жалованье жене. Ведь вы — то не виноваты…
Он презрительно фыркнул.
— Чтоб эти выжиги да заплатили? Держи карман шире! Знаю я ихнюю шатию.
— Да вы не волнуйтесь, — уговаривал я. — Мы еще не знаем, что случилось, надо сперва разобраться…
— Это верно, — согласился Гейб. — Все — таки я ж не один такой. Я тут со многими толковал, которые тоже попались. Вот только что у парикмахерской мне один говорил — у него жена лежит в больнице… в этом, как бишь его…
— В Элморе, — подсказала Нэнси.
— Вот — вот. Жена в Элморе в больнице, а он рвет и мечет, боится — вдруг не сумеет ее навестить. Все твердит — хоть бы это поскорей уладилось, хоть бы ему отсюда выбраться. Видно, жена очень плоха, он ее навещал каждый божий день. И она его ищет и наверняка не поймет, чего он не едет. Вроде она малость не в своем уме, и ей не втолкуешь. И еще тут один. У него вся семья гостила в Йеллоустоуне, и как раз нынче он ждет их домой. Приедут, говорит, усталые, дорога — то не близкая, а домой не попасть. Он их ждет среди дня. Решил выйти на дорогу и ждать у самого барьера. Встречай не встречай, толку — то чуть, но он говорит — больше ничего придумать не могу. Потом тут куча народу работает на стороне, и теперь они не могут попасть на работу. А еще, кто — то рассказывал, одна здешняя девушка собирается замуж за парня из Кун Вэли есть такое место поблизости, — и они хотели завтра обвенчаться, а теперь, понятно, свадьбы не выйдет.
— Вы, я вижу, со многими успели потолковать, — заметил я.
— Тише! — сказала Нэнси.
На той стороне улицы, на высоком крыльце муниципалитета, появился наш мэр Хигги Моррис и замахал руками, чтоб все замолчали.
— Сограждане! — заорал Хигги фальшивым голосом, будто на предвыборном собрании; от такого голоса сразу начинает тошнить. — Сограждане, призываю вас соблюдать тишину и спокойствие!
— А ну, скажи им, Хигги! — выкрикнул кто — то.
В толпе прокатился смех, но совсем невеселый.
— Друзья, — продолжал Хигги, — нам грозят неприятности. Вы про это, наверно, уже слышали. Не знаю, что именно вы слышали, ходит уйма всяких сплетен. Я и сам не знаю точно, что случилось. Прошу прощенья, что пришлось пустить в ход сирену, но это был самый быстрый способ созвать вас сюда.
— Да ладно, черт с ним! — крикнул кто — то. — Давай ближе к делу, Хигги!
На этот раз никто не засмеялся.
— Ладно, попробую ближе к делу, — сказал Хигги. — Не знаю, как бы это выразиться — в общем, мы отрезаны. Нас огородило каким — то непонятным забором — ни к нам, ни от нас ходу нет. Не спрашивайте, что это за забор такой и откуда он взялся. Понятия не имею. Наверно, сейчас ни одна душа этого не знает. Может, в нем ничего страшного и нет, и нечего нам волноваться. Может, это ненадолго, может, оно и само исчезнет. А я вот что хочу вам сказать: сохраняйте спокойствие. Мы все вместе очутились в этой ловушке, и надо всем вместе искать выход. Пока бояться нечего, опасности никакой нет. Мы отрезаны только в том смысле, что сами не можем выбраться из города. Но связь с внешним миром у нас есть. Телефон работает, газ подается, электричество не выключилось. Запасы продовольствия у нас есть, вполне хватит дней на десять, а то и больше. И если даже запасы придут к концу, мы достанем еще. Можно подвести грузовики с продуктами и со всем, что нам понадобится, впритык к этому самому забору, потом водитель вылезет, а машину можно будет протолкнуть или перетянуть через забор. Он не пропускает только людей и вообще живую тварь.
— Одну минутку, мэр! — крикнул кто — то.
— Да? — Хигги огляделся, отыскивая глазами того, кто посмел его перебить. — Это вы кричали, Лен?
— Я кричал.
Теперь и я увидал, что это Лен Стритер, учитель естествознания из нашей школы.
— Что вы хотите сказать? — спросил Хигги.
— Насколько я понимаю, ваше последнее утверждение будто сквозь преграду проходят только неодушевленные предметы — основано на случае с тем автомобилем на кунвэлийской дороге.
— Вот именно, — снисходительно подтвердил Хигги. — На том самом и основано. А вам что об этом известно?
— Ничего, — сказал Лен Стритер. — Об автомобиле мне ровно ничего не известно. Но, я полагаю, вы намерены расследовать это явление, строго соблюдая законы логики.
— Совершенно верно, — с лицемерной кротостью подтвердил Хигги. — Именно так мы и намерены поступать.
Ясно было, он понятия не имеет, о чем говорит Стритер и куда клонит. А Стритер продолжал:
— В таком случае должен вас предостеречь: не спешите с выводами, не то можно совершить грубую ошибку. Например, если в автомобиле не было человека, это еще не значит, что там вообще не было ничего живого.
— Так ведь не было! — возразил Хигги. — Водитель бросил машину и куда — то ушел.
— Кроме людей, в природе существуют и другие живые организмы, — терпеливо объяснял Стритер. — Мы не можем утверждать, что в этом автомобиле не было ничего живого. Напротив, с уверенностью можно сказать, что какие — то формы жизни там были. Возможно, внутри застряла муха. На капоте мог сидеть кузнечик. Безусловно, и в самой машине, и на внешней ее поверхности имелись различные микроорганизмы. А это такие же живые организмы, как и мы с вами.
Хигги слушал растерянно и с досадой. Видно, не понимал — может, Стритер попросту над ним насмехается? Должно быть, он сроду и слов таких не слыхивал: микроорганизмы…
— А знаете, Хигги, наш юный друг прав, — раздался новый голос, который я тотчас узнал: это говорил доктор Фабиан. Разумеется, микроорганизмы там были. Кое — кому из нас следовало сразу это сообразить.
— Ладно, пускай, — сказал Хигги. — Будь по — вашему, док. Пускай, Лен верно говорит. Да нам — то не все равно.
— Пока, пожалуй, все равно, — согласится доктор.
— Я просто хочу подчеркнуть, что суть не только в том живые организмы или неодушевленные предметы, — сказал Стритер. — Если мы хотим понять создавшееся положение, нельзя исходить из неверных предпосылок. Иначе мы с самого начала ступим на ложный путь.
— У меня вопрос, мэр, — сказал кто — то сзади, я обернулся, но не увидал, кто именно.
— Валяй, друг, — обрадовался Хигги, очень довольный, что кто — то прервал непонятные рассуждения Стритера.
— Вот какое дело, — продолжал тот же голос. — Я работаю на прокладке дороги, это к югу от Милвилла. А теперь на работу не попадешь. Может, денек — другой меня и не уволят, а уж больше подрядчик ждать не станет, и думать нечего. У него время считанное, сами понимаете: подрядился сделать к сроку, опоздал — за каждый лишний день плати неустойку. Ему рабочий на месте нужен. Может, день — два обождет, а там и другого наймет.
— Это я все знаю, — сказал Хигги.
— И я не один, — продолжал рабочий. — В Милвилле полно таких, кто работает на стороне. Не знаю, как другим, а мне без заработка не прожить. У меня никаких капиталов не отложено. А ежели на работу не доберешься, жалованья не получишь, сбережений ни гроша, — так что же это с нами будет?
— Про это я и хотел сказать, — заявил Хигги. — Я знаю, положение у тебя трудное. И еще у многих. Милвилл — невелик городок, на всех работы не хватает, очень многим приходится зарабатывать на стороне. И я знаю, многие из вас еле дотягивают до получки, а больше вам жить не на что. Надеюсь, это дело скоро уладится, так что вы все вовремя вернетесь к работе и места никто не потеряет. Но вот что я вам еще скажу. Даю вам слово: если это и не враз уладится, никому из вас не придется голодать. И никого не выгонят на улицу, если вы задолжаете за квартиру или не внесете в срок арендную плату. Ничего худого с вами не случится. Из — за этой чертовщины многие потеряют работу, но о вас позаботятся, ни одного человека не бросят на произвол судьбы. Я назначу особую комиссию для переговоров с торговцами и с банком, и мы установим такую систему кредита, чтоб вы могли просуществовать. Кому потребуется кредит или ссуда, тот ее получит, можете не сомневаться. Верно я говорю, Дэн?
И Хигги поглядел на Дэниела Виллоуби, который стоял там же на крыльце, ступенькой ниже.
— Да, да, — сказал банкир. — Ну конечно, все правильно. Мы сделаем все, что только в наших силах.
Но обещание Хигги пришлось ему очень не по вкусу. Это сразу было видно. И согласился он скрепя сердце. Если уж Дэн выкладывает хоть один доллар, так будьте любезны, дайте ему залог, гарантию, надежное обеспечение!
— Пока мы еще не знаем, что такое стряслось, — продолжал Хигги. — Но, может быть, уже сегодня вечером будем знать куда больше. Самое главное — сохранять спокойствие и не терять головы. Не буду врать, я не знаю, как обернется эта история. Если забор так и останется на месте, некоторых затруднений не миновать. Но пока все не так уж плохо. Еще часа два назад почти никто и не знал, что есть на свете такой городок Милвилл. По правде говоря, ничего такого примечательного в нем не было. А сейчас мы прогремим на весь мир. О нас уже наговорили и газеты, и радио, и телевидение. Вот пускай сюда выйдет Джо Эванс, он вам подробно расскажет.
Хигги оглядел толпу, высматривая Эванса.
— Эй, вы там, расступитесь — ка немного, дайте ему пройти.
Наш газетчик поднялся на крыльцо и обернулся к толпе.
— Пока что рассказывать особенно нечего, — сказал он. Меня вызывали очень многие телеграфные агентства и несколько газет. Все расспрашивали, что у нас тут происходит. Я рассказал все, что знаю, только знаю — то я немного. Одна телевизионная компания посылает к нам из Элмора съемочную группу. Когда я сейчас уходил из дому, телефон все звонил, и в редакцию, наверно, тоже звонят без передышки. Надо думать, газеты и радио уже не выпустят нас из виду, не сомневаюсь, что и власти штата, и правительство не бросят нас на произвол судьбы. Как я понимаю, нашим положением всерьез заинтересуются и научные круги.
— А, по — твоему, эта ученая братия сумеет нас выручить? — спросил все тот же дорожный рабочий.
— Не знаю, — ответил Джо.
Сквозь толпу протолкался Хайрам Мартин и деловито зашагал через улицу. Куда это он собрался?
Кто — то еще спрашивал о чем — то мэра, но озабоченный вид Хайрама отвлек меня, и я прослушал, о чем речь.
— Брэд, — раздалось над ухом.
Я обернулся.
Рядом стоял Хайрам. Шофер грузовика еще раньше куда — то скрылся.
— Что тебе? — спросил я.
— Ты свободен? Мне надо с тобой потолковать.
— Валяй, я свободен.
Он мотнул головой в сторону муниципалитете.
— Ладно, — сказал я, открыл дверцу и вылез из машины.
— Я тебя подожду, — сказала Нэнси.
Хайрам, огибая толпу, двинулся к боковому входу в здание муниципалитете. Я за ним.
Но все это мне сильно не понравилось.
9
Хайрам привел меня в свой закуток рядом с помещением, где стояли машины пожарной команды. В закутке только и хватало места для стола да двух стульев. На стене позади стола болтался огромный, кричаще яркий календарь с изображением голой девицы.
А на столе стоял телефон без диска.
Хайрам широким жестом указал на него и спросил:
— Это что такое?
— Телефон, — сказал я. — С каких пор ты стал такой важный, что у тебя целых два телефона?
— Погляди получше.
— Все равно телефон.
— Лучше гляди, — настаивал Хайрам.
— Какой — то дурацкий аппарат. У него нет диска.
— А еще чего?
— Вроде все. Только диска нету.
— И провода нету, присоединить нечем, — сказал Хайрам.
— А я и не заметил.
— Что — то чудно, — сказал Хайрам.
— Почему чудно? — обозлился я. — И на кой черт ты меня сюда приволок — чтоб я любовался каким — то дурацким телефоном?
— Чудно потому, что телефон — то этот был у тебя в конторе.
— Ничего подобного. Эд Адлер вчера снял у меня телефон. За неуплату.
— Сядь — ка, Брэд.
Я сел, и Хайрам сел напротив. Лицо у него было пока словно бы даже добродушное, но в глазах появился особенный блеск… этот блеск был мне хорошо знаком по прежним временам, так смотрел Хайрам в школьные годы, когда загонял меня в угол и знал, что податься мне некуда и не миновать драки, и он наверняка излупцует меня до полусмерти.
— Ты что, в первый раз видишь этот телефон? — спросил он.
Я кивнул:
— Когда я вчера уходил из конторы, у меня там телефона не было. Ни этого, ни какого другого.
— Удивительно!
— И мне тоже удивительно. Не знаю, куда ты гнешь. Объясни толком.
Я знал, что никакое вранье меня не выручит, но старался пока выгадать время. Уж, наверно, сейчас у него нет доказательств, что я как — то причастен к этому телефону…
— Ладно, объясню, — сказал Хайрам. — Том Престон — вот кто его у тебя видел. Он послал Эда снять у тебя аппарат, а попозже днем шел мимо, ненароком поглядел, а телефон стоит на столе. Ну, его разобрала досада. Ты, верно, и сам понимаешь.
— Еще бы, — сказал я. — У Тома характер известный. Воображаю, как его там разобрало.
— Он же велел Эду снять телефон. Сперва он подумал может, ты как — нибудь Эду заговорил зубы. Или, может, Эд сам не торопился. Том же знает, что вы с Эдом друзья.
— Значит, его так разобрала досада, что он взломал дверь и сам унес телефон.
— Нет, — сказал Хайрам, — ничего он не взламывал. Он вошел в банк и выпросил у Дэниела Виллоуби ключ.
— А между прочим, помещение арендую я.
— Арендуешь, да не платишь. Уже за целых три месяца не уплачено. Так что, я считаю, Дэниел в своем праве.
— А я считаю, что Том с Дэниелом вломились ко мне безо всякого на это права и еще обокрали меня.
— Говорят тебе, никто никуда не вламывался. И Дэниел тут ни при чем. Он просто дал Тому запасной ключ. Том вернулся один. И потом, ты ж сказал, этот телефон не твой и ты его раньше в глаза не видал?
— Не в том дело. Мало ли что у меня есть в конторе, а Том не имеет права ничего трогать. Все равно, мое оно или не мое. Почем я знаю, может, он и еще что — нибудь стащил?
— Ничего он у тебя не тащил, черт подери, ты это и сам знаешь! И сам просил, чтоб я тебе рассказал что к чему.
— Так давай рассказывай.
— Ну вот, Том взял ключ, вошел и сразу увидал, что телефон какой — то не такой. Без диска и никуда не присоединен. Он было собрался уходить, а тут телефон возьми да и зазвони.
— Как ты сказал?
— Телефон зазвонил.
— Без провода? Невключенный?
— Ну да, а все равно он зазвонил.
— Ага, — сказал я. — Стало быть, Том снял трубку, и это звонил Санта Клаус.
— Том снял трубку, и это звонил Таппер Тайлер.
— Таппер?! Но ведь он…
— Знаю, знаю, — сказал Хайрам. — Таппер пропал без вести. Уже лет десять, что ли. Но Том говорит, это голос Таппера. Говорит, обознаться невозможно.
— И что же Таппер ему сказал?
— Том снял трубку — слушаю, мол, а Таппер спросил, кто это говорит. Том сказал. Тогда Таппер ему и говорит — убирайся подальше от этого телефона, он не про тебя. И все заглохло.
— Слушай, Хайрам, да ведь Том тебя просто разыграл.
— Ну, нет. Он подумал, это его кто — то разыгрывает. Он подумал, это вы с Эдом подстроили. В насмешку. Хотели с ним сквитаться.
— Что за чушь! — сказал я. — Даже если б мы с Эдом состряпали такую штуковину — откуда нам было знать, что Том вломится в контору?
— С вас все станется.
— Да ты что? Может, ты поверил в эту ерунду?
— Ясно, поверил. Говорю тебе, дело темное, что — то тут нечисто.
Но в голосе его не было уверенности, он словно бы оборонялся. Я его провел. Он хотел припереть меня к стенке, да не вышло, и теперь он чувствовал, что попал малость впросак. Но еще немного — и он обозлится. Он такой.
— Когда Том тебе все это рассказал? — спросил я.
— Нынче утром.
— А почему не вчера вечером? Если уж он вообразил, что это так важно…
— Да нет же, говорят тебе. Он не думал, что важно. Думал, это розыгрыш. Думал, это вы подстроили ему назло. А вот нынче утром, как началась кутерьма, тут он и решил, что дело — то серьезное. Вчера — то он, когда поговорил с Таппером, просто забрал аппарат. Решил, понимаешь, что еще не известно, кто на ком отыграется. Сперва он думал, это все твои фокусы…
— Понимаю, — сказал я. — А теперь он думает, что это и вправду звонил Таппер, и звонил не кому — нибудь, а мне.
— Ну да, верно. Он забрал этот аппарат к себе домой и вечером несколько раз снимал трубку, и телефон был вроде как включенный, только никто не отзывался. Вот это его и ошарашило — что телефон вроде дышит, как будто включенный. Он все ломал голову, в чем тут секрет. Понимаешь, проводов — то нет, аппарат ни в какую сеть не включен, а дышит.
— И теперь вы с ним хотите меня за эту штуку притянуть к ответу?
Лицо у Хайрама стало злобное.
— Меня не проведешь, — сказал он. — Я же знаю, ты что — то крутишь. Ездил зачем — то вчера вечером на болото к Шкалику, вот когда мы с доком повезли его в больницу.
— Правильно, ездил, — сказал а. — Потому что нашел его ключи, они у него выпали из кармана. Вот я и поехал посмотреть, все ли там у него в порядке, может, он и дверь забыл запереть, мало ли.
— Не просто ездил, а воровским манером, — сказал Хайрам. — Когда сворачивал с шоссе, погасил фары.
— Ничего не гасил, они сами погасли. Короткое замыкание. Когда я оттуда уезжал, мне сперва пришлось исправить цепь.
Отговорка не бог весть какая. Но лучшей я наспех не придумал. Впрочем, Хайрам придираться не стал.
— Нынче утром мы с Томом тоже побывали в логове у Шкалика, — сказал он.
— Стало быть, вот кто за мной шпионил — Том!
— Он уж больно расстроился из — за этого телефона, — проворчал Хайрам. — И подозревал, что это твоих рук дело.
— И вы, значит, вломились к Шкалику в дом. Ясно, вломились. Я, когда уходил, дверь запер на замок.
— Ага, вломились, — подтвердил Хайрам. — И нашли еще такие телефоны. Полный ящик.
— Не пяль на меня глаза, — сказал я. — Я там никаких телефонов не видал. Я не сыщик, по чужим углам ничего не вынюхиваю.
Мне ясно представилось, как эти двое, точно гончие псы, с ходу ворвались в хижину Шкалика, убежденные, что напали на след какого — то преступного заговора: что именно тут кроется, в чем соль — кто его знает, но уж мы — то со Шкаликом наверняка кругом виноваты!
А ведь какой — то заговор и вправду существует, сказал я себе, и мы со Шкаликом вправду увязли… Надеюсь, хоть Шкалик понимает, в чем тут соль, потому как я — то ни черта не понимаю. От того немногого, что мне известно, все только становится еще непонятнее. И Джералд Шервуд, если он не соврал (а он едва ли врал), знает не больше моего.
Счастье еще, что Хайрам не проведал про тот аппарат, который стоит в кабинете у Шервуда! И про другие — их, наверно, немало в Милвилле у людей, что служат чтецами этим… неведомо кому… которые разговаривают по таким телефонам.
Впрочем, вряд ли Хайраму удастся пронюхать насчет остальных телефонов: уж, наверно, владельцы запрячут их понадежнее и будут держать язык за зубами, как только станет известно, что такие телефоны существуют. А слух этот наверняка через час — другой разнесется по всему Милвиллу. Хайрам и Том Престон сами же и проболтаются, они у нас первые трепачи.
Любопытно, у кого еще есть такие телефоны?.. И вдруг я понял: у разных бедолаг, невезучих и нищих, у вдов, оставшихся без всяких сбережений и без пенсии, у стариков, которые уже не в силах заработать кусок хлеба, у бродяг, никчемушников и всяких горемык, кто потерпел крах или кому и вовсе ни разу не улыбнулось счастье.
Ведь как получилось с Шервудом и со мной? С Шервудом установили связь (если можно так это назвать), только когда он обанкротился; и мною они (кто бы они ни были) тоже заинтересовались лишь после того, как я окончательно сел на мель, и сам это понял. И, очевидно, теснее всего с ними связан отъявленнейший лодырь и пропойца во всем Милвилле.
— Ну, чего молчишь? — рявкнул полицейский.
— А чего ты хочешь — чтоб я выложил, что я обо всем этом знаю?
— Вот именно. Не то тебе же будет хуже.
— Слушай, Хайрам, ты не грозись. Даже и не пробуй. Если ты думаешь меня запугать…
Дверь распахнулась.
— Пошел! — заорал с порога Флойд Колдуэлл. — Барьер пошел!
Мы кинулись к выходу. По улице с криком бежал народ, посреди мостовой подскакивала на одном месте мамаша Джоунс и пронзительно взвизгивала, капор еле держался у нее на макушке.
Я глянул через улицу — Нэнси по — прежнему сидела в своей открытой машине, я со всех ног бросился к ней. Мотор был включен, и едва Нэнси заметила меня, машина тихонько двинулась вдоль тротуара. Я ухватился за верх задней дверцы и прыгнул в машину, потом перебрался на переднее сиденье. Тем временем машина уже поравнялась с аптекой, свернула за угол и теперь набирала скорость. Еще несколько машин направлялись к шоссе, но Нэнси в два счета обогнала их.
— Знаешь, что случилось? — спросила она.
Я покачал головой:
— Слышал только, что барьер сдвинулся.
Впереди был дорожный знак — перед выездом на шоссе полагалось остановиться, однако Нэнси даже не сбавила скорости. Да и зачем сбавлять, если на шоссе — никакого движения. Оно перекрыто с обоих концов.
Нэнси свернула на ровную широкую полосу асфальта; на той стороне шоссе, по которой шло встречное движение, сейчас все впереди сплошь было забито машинами, они застыли неподвижно впритык одна к другой. Перед нами на прежнем месте торчал грузовик Гейба: нос его задрался в воздух, прицеп всей тяжестью придавил ко дну канавы мою злосчастную тележку. Еще дальше сбились в кучу встречные машины: они, видно, подались на нашу сторону шоссе в надежде объехать препятствие — и, прежде чем барьер сдвинулся, там тоже кто — то на кого — то наехал.
А барьера здесь уже не было. То есть, конечно, его все равно никто бы не увидел, но он передвинулся примерно на четверть мили — в этом нетрудно было убедиться.
Там, впереди, неслась по шоссе обезумевшая толпа, гонимая какой — то непонятной силой. А вслед за бегущими двигался огромный вал словно вихрем сметенной травы, кустов и даже вывороченных с корнями деревьев — по нему и видно было движение незримого барьера. Вял тянулся вправо и влево от шоссе сколько хватал глаз, и, казалось, жил своей особой жизнью: покачивался, вскидывался вверх, вновь медленно полз вперед, и груды деревьев неуклюже перекатывались на растопыренных во все стороны корнях и ветвях.
Наша машина подъехала к затору и остановилась. Нэнси выключила мотор. В тишине стали слышны непрестанные шорохи, шелесты — это подавал голос скошенный неведомой силой зеленый вал; порою раздавался треск: ломались сучья, несуразно ворочаясь, громыхали стволы.
Я вылез из машины, обошел ее и двинулся вперед, пробираясь в железном лабиринте. Наконец затор остался позади, передо мною тянулось свободное от машин шоссе, а по нему все еще убегали люди… впрочем, нет, теперь они уже не мчались очертя голову. Пробегут немного, приостановятся, сбившись в кучу, и оглядываются на вспухающий, медлительный зеленый вал; еще побегут и снова постоят, озираясь. Иные даже не бежали, а шли ровным, почти спокойным шагом.
Отступали не только люди. Самый воздух дрожал и трепетал: мелькали темные тельца — тучами неслись птицы и насекомые, устрашенные таинственной силой, что неотвратимо надвигалась по равнине.
А позади барьера оставалась пустыня. Обнаженная земля, на которой только и торчали два голых, иссохших дерева. Так и должно быть, подумалось мне, естественно, что они уцелели. Ведь они мертвые, для них этот барьер не существует, ибо он отбрасывает только все живое. Впрочем, если Лен Стритер прав, то барьер этот противостоит не всему живому, а лишь определенным формам жизни, быть может, живым существам каких — то определенных размеров или определенных видов.
Но если не считать двух высохших деревьев, эта полоса земли обратилась в пустыню. Ни травинки, ни хотя бы крапивы или полыни, ни кустика, ни деревца. От всего, что здесь росло и зеленело, не осталось и следа.
Я сошел с асфальтовой полосы на обочину, опустился на колени и погрузил пальцы в обнаженную почву. Она была не просто обнажена, но вспахана, разрыхлена, будто какая — то исполинская борона прошлась по ней и подготовила под новый посев. Потому она и разрыхлилась, что весь растительный покров с нее сорван. Нигде не осталось ни единого корня, ни одного самого слабого, с волосок толщиной корешка. Все, что здесь прежде росло, сметено начисто и теперь катится чудовищным зеленым валом впереди незримой стены.
В небе глухо зарокотал гром. Я огляделся: гроза, что собиралась с самого утра, надвинулась вплотную, но тучи не сплошь затянули небо, а неслись в вышине клоками, обрывками, их словно кружило вихрем.
— Нэнси, — позвал я.
Никакого ответа.
Я вскочил, оглянулся. Когда я начал выбираться из скопления застрявших машин, она шла следом, а теперь ее нигде не видно!
Я зашагал по шоссе назад — надо же ее найти! — и тут с противоположной обочины скользнул на шоссе голубой седан, за рулем сидела Нэнси. Значит, вот как я ее потерял: она искала какую — нибудь машину, не зажатую намертво десятками других и притом незапертую.
Седан медленно поравнялся со мной, я рысцой поспевал рядом. Через приспущенное окошко донесся взволнованный голос радиокомментатора. Я распахнул дверцу, вскочил в седан и тотчас ее за собой захлопнул.
«…вызвал воинские части и официально уведомил Вашингтон. Первые отряды направятся туда через …нет, только сейчас получено сообщение, что они уже выступили…»
— Это про нас, — пояснила Нэнси.
Я дотянулся до радио, покрутил настройку.
«…новость: барьер двигается! Повторяю: барьер двигается! Еще нет сведений о том, с какой скоростью он передвигается и какое расстояние прошел. Но он отдаляется от окруженного города.
Толпа, собравшаяся с внешней стороны барьера, в панике бежит. Сообщаю новые данные: скорость движения барьера не превышает скорости пешехода. Он уже отодвинулся почти на милю от прежней границы…»
Враки, подумал я, он еще и полумили не прошел.
«…вопрос в том, остановится ли он? Какое еще расстояние он пройдет? Можно ли как — нибудь его остановить? Долго ли он способен двигаться без остановки? И есть ли у него конец?»
— Послушай, Брэд, — сказала Нэнси. — А вдруг он сметет всех и вся с лица земли? Всех и все, кроме Милвилла?
— Не знаю, — тупо ответил я.
— Куда он, по — твоему, толкает людей? Куда от него бежать?
«…в Лондоне и в Берлине…»
— накликал между тем диктор.
«Русским, по — видимому, еще не объявлено о том, что происходит. Никаких официальных заявлений ниоткуда не поступало. Безусловно, правительствам в разных странах не так — то просто решить, нужно ли выступать с какими — либо заявлениями. На первый взгляд может показаться, что создавшееся положение не вызвано действиями отдельных лиц или правительств. Однако высказывается предположение, что это испытывается какое — то новое оружие. Впрочем, если бы это было так, трудно понять, почему местом испытаний избран городок Милвилл. Обычно подобные испытания проводятся на военных полигонах и притом в обстановке строжайшей секретности».
Пока мы слушали радио, Нэнси не спеша вела машину по шоссе, и теперь мы оказались всего в какой — нибудь сотне футов от барьера. Перед нами, по обе стороны дороги, медлительно катился все тот же огромный зеленый вал, а дальше по шоссе по — прежнему отступали люди.
Я перегнулся на сиденье и глянул в заднее окошко на оставшуюся позади пробку. Среди сбившихся в кучу машин и сразу за ними собралась толпа. Наконец — то жители Милвилла подоспели посмотреть, как движется барьер.
«…сметая все на своем пути!»
— вопило радио.
Я снова посмотрел вперед — мы были уже почти у самого барьера.
— Полегче, — предостерег я. — Как бы в него не врезаться.
— Постараюсь полегче, — что — то чересчур кротко отозвалась Нэнси.
«…точно ветер упорно и неутомимо гонит гряду выкорчеванных деревьев, травы и кустарника. Точно ветер…»
И тут впрямь поднялся ветер — первый его порыв взвил и закружил на обнаженной почве позади барьера вихорьки пыли, и тотчас налетел настоящий ураган, машину круто занесло, вокруг завыло, засвистало.
Вот она, гроза, которая подкрадывалась еще с утра. Но почему — то ни молний, ни грома… я вытянул шею, косясь из — за ветрового стекла, — в небе по — прежнему неслись разрозненные косматые клочья, словно последние обрывки отгремевшей бури.
Бешеным напором ветра нашу машину резко повернуло, подхватило, и теперь она боком скользила по шоссе — того и гляди опрокинется. Нэнси вцепилась в баранку, пытаясь вновь повернуть машину, поставить, как лодку, против ветра.
— Брэд! — крикнула она.
И тут по стеклу и по металлу яростно застучал ливень.
Наш седан начал заваливаться набок. Ну, теперь все, мелькнула мысль. Теперь он опрокинется и никакая сила его не удержит. Но вдруг машина ударилась обо что — то и вновь выпрямилась, и краешком сознании я понял: напором ветра ее накрепко прижало к барьеру.
Только краешком сознания — потому что я был захвачен и поражен другим: никогда в жизни не видал я такого странного дождя.
Он хлестал, как всякий проливной дождь, крупные капли барабанили по машине, гремели, оглушали… но только это были не капли.
— Град! — крикнула Нэнси.
Но это был и не град.
По корпусу машины, по асфальту шоссе стучали, подскакивали, приплясывали маленькие бурые шарики, словно сумасшедший охотник палил какой — то невиданной дробью.
— Семена! — заорал я в ответ. — Это семена!
Это была не настоящая буря, не гроза — гром не прогремел ни разу, буря выдохлась, растеряла свою ярость, еще не дойдя до Милвилла. На нас хлынул ливень семян, и принес его могучий вихрь, порожденный бог весть чем, но только не капризами погоды.
Быть может, это покажется не слишком логичным, но меня осенило: да ведь барьеру вовсе незачем двигаться дальше! Он вспахал землю, взрыхлил, подготовил почву, и вот семена посеяны — и все кончено!
Ураган стих, упало последнее зернышко; шума, свиста, неистовства как не бывало — мы сидели, ошеломленные глубокой тишиной. После шума и неистовства нас оглушила леденящая близость чего — то чуждого, непостижимого: кто — то или что — то вокруг вас опрокинуло все законы природы, вот почему с неба дождем сыплются семена и вихрь налетает неведомо откуда.
— Брэд, — сказала Нэнси, — кажется, я начинаю трусить.
Она ухватилась за мой локоть. Пальцы ее судорожно сжались.
— Прямо зло берет, — сказала она. — Ведь я никогда ничего не боялась, никогда в жизни. А сейчас боюсь.
— Все прошло, — сказал я. — Буря кончилась, барьер больше не двигается. Все в порядке.
— Ну, нет, — возразила Нэнси. — Это еще только начало.
По шоссе кто — то бежал к нам — больше не видно было ни души. От толпы, что теснилась недавно у застрявших машин, не осталось и следа. Вероятно, когда налетел ураган и хлынул тот удивительный дождь, все они кинулись назад к Милвиллу в поисках укрытия.
Наконец я узнал бегущего — это был Эд Адлер, на бегу он что — то кричал.
Мы вылезли из машины, остановились и ждали.
Он подбежал, задыхаясь.
— Брэд, — еле выговорил он, — ты, верно, не знаешь… Хайрам и Том Престон мутят народ. Дескать, это ты заварил кашу. Толкуют про какой — то телефон…
— Что за чепуха! — воскликнула Нэнси.
— Ясно, чепуха, — сказал Эд. — Только народ совсем очумел. Их сейчас сбить с толку ничего не стоит. Они чему хочешь поверят. Надо же понять, что такое стряслось, — вот и хватаются за первую попавшуюся байку. Им некогда разбирать, правда это или вранье.
— К чему ты это все? — спросил я.
— Спрячься куда — нибудь. Через денек — другой все поуспокоится…
Я покачал головой.
— Я еще и половины дел не переделал.
— Но послушай, Брэд…
— Вот что, Эд, я ни в чем не виноват. Не знаю, что стряслось и почему, но только я тут ни при чем.
— Это все равно.
— Нет, не все равно, — сказал я.
— Хайрам с Томом говорят, они нашли какие — то чудные телефоны…
Нэнси хотела что — то сказать, но я поспешно перебил:
— Знаю я про эти телефоны. Хайрам мне рассказывал. Слушай, Эд, даю тебе слово — телефоны тут ни при чем. Это совсем другая история.
Краем глаза я поймал на себе пристальный, пытливый взгляд Нэнси.
— Забудь ты про них, — повторил я.
Хоть бы до нее дошло! Кажется, все — таки поняла — больше и не заикнулась об этих телефонах. Может, она и не хотела ничего такого сказать, может, она даже не знает про тот аппарат в отцовском кабинете. Но рисковать нельзя.
— Смотри, Брэд, сам лезешь на рожон, — предостерег Эд.
— Удирать я не стану. Не по мне это — удирать, прятаться. Да еще от кого — от Хайрама с Томом!
Эд оглядел меня с головы до пят.
— Понимаю, — сказал он. — Могу я чем — нибудь помочь?
— Можешь. Проводи Нэнси до дому, смотри, чтоб с ней ничего не случилось. А у меня есть кое — какие дела.
И я поглядел на Нэнси. Она кивнула:
— Все это так, Брэд, но ведь у нас машина. Давай я тебя отвезу.
— Я пройду задами, тут ближе. Если Эд верно говорит, лучше никому не попадаться на глаза.
— А я ее доставлю домой в целости и сохранности, — пообещал Эд.
Вот до чего мы докатились за каких — нибудь два часа, подумал я. Все просто спятили, девушке опасно остаться на улице без провожатого.
10
Теперь, наконец, надо сделать то, что я собирался сделать с самого утра и, видно, напрасно не сделал еще накануне: разыскать Элфа. Это тем важней и необходимей, что почему — то я все больше утверждаюсь в подозрении — есть какая — то связь межу непонятными происшествиями у нас, в Милвилле, и загадочной лабораторией там, в штате Миссисипи.
Я дошел до глухой окраинной улицы и свернул на нее. Она была пуста. Должно быть, все, кто только мог, пешком или на машинах двинулись в центр города.
И тут я встревожился: а вдруг не сумею разыскать Элфа? Вдруг, не дождавшись меня утром, он выехал из мотеля или же торчит где — нибудь у барьера в толпе зевак?
Но напрасно я боялся, не успел я войти к себе, как зазвонил телефон — говорил Элф.
— Битый час названиваю, — сказал он. — Беспокоился, как ты там.
— Элф, а ты слыхал, что творится?
— Кое — что слыхал.
— Чуть бы пораньше — и я успел бы к твое проскочить, а не застрял в Милвилле. Я, видно, налетел на этот барьер в самые первые минуты, когда он только — только появился.
И я рассказал ему все, что случилось с тех пор, как моя машина налетела на барьер. А потом и про телефоны.
— Они говорят, чтецов у них много. Людей, которые читают для них книги, — прибавил я.
— Это способ получать информацию.
— Я так и понял.
— Послушай, Брэд… у меня одно страшноватое подозрение.
— Вот и у меня тоже.
— Может быть, эта лаборатория в Гринбрайере…
— Я тоже об этом думал.
Элф то ли тихонько ахнул, то ли задохнулся.
— Стало быть, это не в одном Милвилле.
— Пожалуй, таких Милвиллов не счесть.
— Что ж ты теперь будешь делать, Брэд?
— Пойду к себе в сад и погляжу получше на кой — какие цветочки.
— Цветочки?!
— Это очень длинная история, Элф. После расскажу. Ты пока не уедешь?
— Охота была уезжать! — сказал Элф. — Этакого представления еще свет не видал, а у меня место в первом ряду.
— Я тебе позвоню через часок.
— Буду ждать, — пообещал Элф. — Далеко отходить не стану.
Я дал отбой и постоял в раздумье. Ничего нельзя понять! Лиловые цветы явно каким — то образом замешаны в эту историю, и Таппер Тайлер тоже, но все так перепуталось — не поймешь, с чего начинать.
Я вышел из дому и побрел в сад, к старым теплицам. По примятым стеблям еще можно было различить, где прошел Таппер, и у меня полегчало на душе: я боялся, что вихрь, принесший семена, смял и повалил цветы, замел все следы — и теперь их уже не сыскать.
Я стоял на краю сада и озирался, будто видел его первый раз в жизни. В сущности, никакой это не сад. Когда — то на этом участке мы выращивали цветы и овощи на продажу, но потом я забросил теплицы, земля осталась без призора, и всю ее заполонили цветы. С одного бока эти заросли упираются в старые теплицы, двери криво повисли на ржавых петлях, почти все стекла выбиты. У одного угла высится вяз — тот самый, что пророс когда — то из семечка, и я хотел тогда вырвать побег, да отец не позволил.
Таппер что — то болтал про эти цветы — как много их разрослось. Он уверял, что все они — те самые, лиловые, и непременно хотел рассказать про них моему отцу. Таинственный голос в телефонной трубке — или по крайней мере один из тех таинственных голосов — отлично знал о существовании отцовских теплиц и осведомлялся, занимаюсь ли я ими по — прежнему. И ко всему, часа не прошло с тех пор, как на нас обрушился ливень семян.
Маленькие лиловые головки — подобие львиного зева — обратились ко мне и дружно кивали, словно втайне посмеивались, а над чем — неизвестно; я резко отвел глаза и посмотрел на небо. Там все еще неслись клочья туч, поминутно заслоняя солнце. Когда их разгонит ветром, будет настоящее пекло. Я уже чуял в воздухе приближение жары.
Осторожно пошел я по следу Таппера. Дошел до конца, остановился и обругал себя стоеросовой дубиной: с чего, спрашивается, я вообразил, что здесь, в цветнике, найду какую — то разгадку?
Таппер Тайлер исчез впервые десять лет назад, и сегодня снова исчез, а как это он ухитрился, должно быть, никто никогда не узнает.
И все же в голове у меня стучала упрямая догадка, что Таппер и есть ключ ко всей этой темной истории.
Как я пришел к этой мысли — хоть убейте, объяснить не умею. Ведь тут не один Таппер замешан — если он и вправду замешан. Тут еще и Шкалик Грант… Ох, я же никого не спросил, что со Шкаликом!
Дом доктора Фабиана стоит на холме, как раз над теплицами, можно пойти туда и спросить. Конечно, доктора, может, и нет дома, — ну что ж, немного обожду, глядишь, рано или поздно он объявится. Делать покуда все равно нечего. А при том, что там сейчас орут про меня Хайрам и Том Престон, пожалуй, умнее всего не возвращаться домой — уж лучше пусть меня не застанут.
Раздумывая так, я стоял на том месте, где обрывался след Таппера, и теперь шагнул вперед в сторону докторова дома. Но к доктору Фабиану я не попал. Один только шаг — и засияло солнце, дома исчезли. Все исчезло — и дом доктора, и все другие дома, и деревья, и кусты, и трава. Остались одни лиловые цветы, лиловым морем они залили все окрест, а над головой в безоблачном небе запылало слепящее солнце.
11
И все это случилось оттого, что я сделал один только шаг. Тогда я ступил другой ногой — и вот стою на новом месте, окаменев от страха, не смея обернуться: кто знает, что там, позади… А впрочем, кажется, я знаю, что увижу, если обернусь, — те же лиловые цветы.
Ибо какой — то краешек оцепеневшего, перепуганного сознания подсказывает: вот об этих — то краях и говорил мне Таппер.
Таппер отсюда пришел и сюда вернулся, а вслед за ним сюда попал и я.
Ничего не произошло.
И правильно. Видно, такое это место, здесь, наверно, никогда ничего не происходит.
Сколько хватает глаз всюду цветы, в небе пылает солнце, а больше вокруг ничего нет.
И — ни звука, ни ветерка. Только со странной силой охватывает, обволакивает благоухание несчетных лиловых цветов, напоминающих львиный зев.
Наконец я собрался с духом и медленно обернулся. Но и позади только цветы и цветы.
Милвилл исчез, провалился в какой — то другой мир. Нет, не так. Наверно, он остался в прежнем, обычном мире. Не Милвилл, а я сам провалился. Один только шаг — и я перенесся из Милвилла в какой — то неведомый край.
Да, это другой, незнакомый край, а между тем сама по себе местность словно бы та же. По — прежнему я стою в ложбине, что лежит позади моего дома, за спиной у меня все тот же косогор круто поднимается к пропавшей невесть куда улице, где только что стоял дом доктора Фабиана, а в полумиле виднеется другой холм, на котором должен бы стоять дом Шервудов.
Так вот он, мир Таппера. Сюда он скрылся и десять лет назад, и сегодня утром тоже. А стало быть, и сейчас, в эту минуту, он здесь.
И стало быть, есть надежда выбраться отсюда, вернуться в Милвилл! Вернулся же Таппер — значит, дорога ему известна! Хотя… почем знать. Что можно знать наверняка, когда свяжешься с полоумным?
Итак, прежде всего надо разыскать Таппера Тайлера. Едва ли он где — нибудь далеко. Понятно, придется потратить какое — то время, но, уж конечно, я сумею его выследить.
И я стал медленно подниматься в гору — дома, в родном Милвилле, эта дорога привела бы меня к доктору Фабиану.
Я поднялся на вершину холма и остановился — внизу, куда ни глянь, расстилалось море лиловых цветов.
Странно видеть эту землю, которая лишилась всех обычных примет: не стало деревьев, дорог, домов. Но очертания местности все те же, знакомые. Если что и изменилось, так разве только мелочь, пустяки. Вон, на востоке, та же сырая, болотистая низина и пригорок, где стояла прежде лачуга Шкалика… где еще и сейчас стоит лачуга Шкалика, только в коком — то ином измерении, в ином времени или пространстве.
Любопытно, какие нужны поразительные обстоятельства, какое редкостное стечение многих и многих обстоятельств, чтобы вдруг перешагнуть из одного мира в другой?
И вот я стою, чужеземец в неведомом краю, и вдыхаю аромат цветов, он льнет ко мне, обволакивает, захлестывает, словно сами цветы катятся на меня тяжелыми лиловыми волнами и сейчас собьют с ног, и я навеки пойду ко дну. И тихо — я и не знал, что может быть так тихо. В целом мире ни звука. Тут только я понял, что никогда в жизни не слышал настоящей тишины. Всегда что — нибудь да звучало: в безмолвии летнего полдня застрекочет кузнечик или прошелестит листок. И даже глубокой ночью потрескивают, рассыхаясь, деревянные стены дома, тихонько бормочет огонь в очаге, чуть слышно причитает ветер под застрехами.
А здесь все немо. Ни звука. Ни звука потому, что нечему звучать. Нет деревьев и кустов, нет птиц и насекомых. Только цветы, только земля, сплошь покрытая цветами.
Тишина, тишина на раскрытой ладони бескрайней пустыни. Лиловое море цветов простирается до самого горизонта и там сходится с ослепительно яркой голубизной раскаленного летнего неба.
Тут впервые мне стало страшно — то не был внезапный безмерный и неодолимый ужас, что заставляет бежать, не помня себя, с отчаянным воплем, — нет, это был дрянной, мелкотравчатый страшок, он подкрадывался ближе, кружил визгливой нахальной шавкой на тонких ножках, стараясь улучить минуту и запустить в меня острые зубы. Ему невозможно противостоять, с ним невозможно бороться, с этим тошнотворным, дрянным, неотвязным страшком.
И это не страх перед опасностью, ибо здесь нет никакой опасности. С первого взгляда ясно, что опасаться нечего. Но, быть может, есть нечто худшее, чем любая опасность: слишком тихо, слишком пустынно, вокруг все одно и то же, и ты один, и где ты — неизвестно.
Передо мной болотистая низина — та самая, где должно бы быть жилище Шкалика, — а чуть правее поблескивает серебром река, та, что в другом мире огибает наш городок. И в том месте, где река сворачивает к югу, вьется, вздымаясь в ясное небо, четкий дымок — тонкая струйка, едва различимая глазом на фоне этой светлой синевы.
— Таппер! — заорал я и бегом кинулся под гору.
Как хорошо, что подвернулся случай, что нашелся предлог пуститься бегом, ведь все время я стоял и еле сдерживался, чтобы не побежать, не поддаться тому дрянному неотвязному страшку, и все время меня так и подмывало бежать.
Я добежал до крутого склона, под ним открылась река и на берегу жилье: подобие шалаша из сплетенных кое — как ветвей, огород, где чего — чего только не росло; вдоль берега редкой вереницей тянулись убогие полумертвые деревца, почти все ветви их уже высохли, и лишь на макушках мотались тощие кисточки зеленых листьев.
Перед шалашом горел маленький костер, и у костра на корточках сидел Таппер. На нем были штаны и рубаха, которые я ему дал, на затылке все еще лихо торчал дурацкий соломенный колпак.
— Таппер! — снова крикнул я.

Он поднялся и степенно зашагал мне навстречу. Утер ладонью подбородок, потом протянул мне руку. Она была влажная, но я с радостью ее пожал. Конечно, Таппер не бог весть какое сокровище, а все — таки он тоже человек.
— Очень рад, что ты выбрал минутку, Брэд. Очень рад, что ты ко мне заглянул.
Он сказал это так, словно я все эти годы навещал его каждый день.
— А у тебя тут славно, — заметил я.
— Это Цветы для меня устроили, — сказал Таппер с гордостью. — Они все для меня сделали. Сперва тут было не так, но они все сделали, как мне надо. Они обо мне заботятся.
— Ну да, ясно.
Не поймешь, что он болтает, но я поддакиваю. Надо поддакивать. Надо ладить с Таппером — вдруг он как — нибудь поможет мне вернуться в Милвилл.
— Они мои самые лучшие друзья, — блаженно пуская слюни, говорит Таппер. — И еще, конечно, ты и твой папа. Пока я не нашел Цветы, у меня было только два друга — ты и твой папа. Только вы одни меня не дразнили. А все дразнили. Я не подавал виду, что понимаю, но я понимал — дразнят. Не люблю, когда дразнят.
— Они ведь не со зла, — успокаиваю я. — Они не хотели тебе худого. Просто так смеялись, по дурости.
— Все равно нехорошо, — упрямо говорит Таппер. — Вот ты никогда меня не дразнил. Я тебя за это люблю, ты меня никогда не дразнил.
Это чистая правда. Я никогда его не дразнил. Но вовсе не потому, что мне ни разу не хотелось над ним посмеяться; а в иные минуты я готов был его убить. Но однажды отец отвел меня в сторону и предупредил: пусть только я попробую издеваться над Таппером, как другие мальчишки, он так меня отлупит — век буду помнить.
— Значат, это и есть то место, про которое ты мне рассказывал — где всюду цветы и цветы.
Таппер расплылся в восторженной слюнявой улыбке.
— Правда, тут хорошо?
Тем временем мы спустились с холма и подошли к костру. Среди угольев стоял грубо вылепленный глиняный горшок, в нем кипело какое — то варево.
— Оставайся и поешь со мной, — пригласил Таппер. — Ну, пожалуйста, Брэд, оставайся и поешь. Я так давно ем все один да один.
При мысли о том, как давно ему не с кем было разделить трапезу, по щекам его потекли слезы.
— У меня тут в золе печеная картошка и кукуруза, — сказал он, — а в горшке похлебка: горох, бобы, морковка — все вместе. Только мяса никакого нету. Это ничего, что мяса нету, ты не против?
— Нет, конечно, — сказал я.
— А мне страх как хочется мяса, — признался Таппер. Но тут они ничего не могут поделать. Они не могут обратиться в животных.
— Они?
— Ну, Цветы, — сказал он таким тоном, будто назвал кого — то по имени и фамилии. — Они могут обратиться во что угодно… во всякое растение. А в поросенка или в кролика никак не могут. Я и не прошу никогда. То есть больше не прошу. Один раз попросил, и они мне объяснили. И уж больше я не просил, они и так для меня сколько всего делают, стараются, спасибо им.
— Они тебе объяснили? Ты что же, разговариваешь с ними?
— Ну да, все время, — сказал Таппер.
Он опустился на четвереньки, заполз в шалаш и стал рыться там, что — то разыскивая; зад и ноги его торчали наружу — ни дать ни взять пес в охотничьем азарте разрывает нору, добираясь до сурка.
Потом он попятился и вылез наружу с двумя такими же, как горшок, кривобокими и корявыми глиняными тарелками. Поставил их наземь, в каждую сунул вырезанную из дерева ложку.
— Сам все сделал, — сказал он. — Глину нашел на берегу. Только сперва у меня не получалось, а потом они мне объяснили, как надо делать…
— Кто, Цветы объяснили?
— Ну да. Они всегда мне помогают.
— А ложки ты чем выстрогал?
— Камнем. Наверно, это кремень. С острым краем. Не то что нож, а все — таки годится. Правда, пришлось строгать долго — долго.
Я кивнул.
— Это ничего, — сказал Таппер. — Времени у меня сколько хочешь.
Он опять утер подбородок, потом старательно вытер ладони о штаны.
— Они вырастили для меня лен, чтоб я оделся. Но я никак не выучусь ткать. Они мне объясняли, объясняли, а у меня ничего не получалось. Ну, они и отступились. Я сколько времени голый ходил. В одной шляпе. Сам ее сделал, никто мне не помогал. Они мне даже не говорили ничего, я сам ее придумал и сам сплел. После они сказали — очень хорошо у меня получилось.
— Они совершенно правы, — подтвердил я. — Шляпа просто на диво.
— Правда, Брэд?
— Ну, конечно!
— Как я рад, что ты так говоришь! Знаешь, я вроде даже горжусь этой шляпой. За всю мою жизнь я ее первую сам сделал, никто мне не подсказывал.
— Это твои цветы…
— Они не мои, — резко прервал Таппер.
— Ты говоришь, эти цветы могут обратиться во что захотят. Это значит — в разные овощи, которые у тебя на огороде?
— И в овощи, и во всякое растение. Мне надо только попросить.
— Но если они могут обратиться во что захотят, почему же они все до единого — цветы?
— Надо же им чем — то быть, верно? — с жаром, чуть ли не сердито сказал Таппер. — Чем плохо быть цветами?
— Нет, отчего же, совсем неплохо, — сказал я.
Таппер вытащил из горячих угольев два початка кукурузы и несколько печеных картофелин. Подобием ухвата, вырезанного, как мне показалось, из толстой древесной коры, снял с огня горшок. И разлил похлебку по тарелкам.
— А деревьями они не бывают? — спросил я.
— Почему, в деревья они тоже обращаются. Мне ведь нужны дрова. Сперва тут никакого дерева не было, не на чем было готовить еду. Тогда я им объяснил. И они сделали деревья, нарочно для меня сделали. Деревья выросли быстро — быстро и сразу высохли, и а стал ломать сучья и разводить костер. Они горят очень медленно, не то что простой хворост. Это хорошо, у меня костер все время горит, никогда не гаснет. Сперва, когда я сюда пришел, у меня были полны карманы спичек. А теперь нету, давным — давно нету.
Слушая про карманы, полные спичек, я вспомнил: Таппер всегда без памяти любил огонь. Он вечно таскал с собою спички и, тихонько сидя где — нибудь в одиночестве, зажигал их одну за другой и восторженно глядел на язычок пламени, пока спичка не догорала до конца, обжигая ему пальцы. Многие в Милвилле опасались, как бы он не устроил пожар, но ничего такого не случилось. Просто этот чудак очень любил смотреть на огонь.
— Вот соли у меня нет, — сказал Таппер. — Тебе, может, будет невкусно. Я — то привык.
— Но если ты кормишься одними овощами, как же без соли? С такой еды и помереть можно.
— А Цветы говорят, нет. Говорят — они в эти овощи вкладывают всякое такое, что и соли не надо. На вкус не чувствуешь. А польза такая же, как от соли. Они меня изучили и знают, что мне надо для здоровья, и все это прямо в овощи вкладывают. И еще у меня подальше на берегу фруктовый сад, и там чего только нет! А малина и земляника поспевают у меня почти что круглый год.
Я не понял, какая же связь между фруктовым садом и сложностями Тапперова питания, ведь Цветы уверяют, будто они могут все? Но ладно, пусть. Добиваться толку от Таппера напрасный труд. Если начнешь с ним рассуждать, только больше запутаешься.
— Что ж, садись и давай есть, — сказал он.
Я сел прямо на землю, он подал мне еду, сам уселся напротив и придвинул к себе вторую тарелку.
Я порядком проголодался, а это варево без соли оказалось не так уж плохо. Пресновато, конечно, и чуть странный привкус, но в общем недурно. Главное, сытно.
— Как тебе тут живется? — спросил я.
— Это мой дом, — сказал Таппер с некоторой даже торжественностью. — Здесь у меня друзья.
— Но ведь у тебя ничего нет. Ни топора, ни ножа, ни кастрюли, ни сковородки. И не к кому пойти, никто не поможет. А вдруг захвораешь?
Таппер, который до этой минуты жадно уплетал свою похлебку, опустил ложку и уставился на меня так, словно полоумный не он, а я.
— А для чего мне это барахло? — сказал он. — Посуду я леплю из глины. Сучья ломаю руками, топор мне ни к чему. И мотыга ни к чему, грядки рыхлить не надо. Сорняков нету, полоть нечего. Даже сажать не надо. Все растет само. Пока я все съем с одной грядки, на другой опять поспело. И если захвораю, Цветы тоже обо мне позаботятся. Они мне сами говорили.
— Ну, ладно, ладно, — сказал я.
И он снова принялся за еду. Зрелище не из приятных.
А про огород он сказал правду. Теперь я и сам увидел, что земля не возделана. Просто растут овощи, растут длинными ровными рядами, и нигде никаких следов мотыги или лопаты, и ни единой сорной травинки. Да так оно, конечно, и должно быть — никакие сорняки не посмеют здесь носа высунуть. Здесь могут расти только сами Цветы или то, во что они пожелают обратиться, — к примеру, те же овощи или деревья.
А огород превосходный, ни одного чахлого растеньица, никаких болезней, никаких вредных гусениц и жучков. Помидоры на кустах висят как на подбор — круглые, налитые, ярко — алые. Кукуруза — высоченная, горделиво прямая.
— Ты настряпал вдоволь на двоих, — сказал я. — Разве ты знал, что я приду?
Я уже готов был верить чему угодно. Кто его знает, вдруг Таппер (или Цветы) и вправду меня ждали?
— А я всегда стряпаю на двоих, — ответил он. — Мало ли кто может заглянуть, заранее не угадаешь.
— Но пока к тебе еще никто не заглядывал?
— Ты первый. Я рад, что ты пришел.
Любопытно, замечает ли он, как идет время? Иногда мне кажется, он этого просто не понимает. Но ведь когда речь зашла о том, как долго ему приходилось довольствоваться одинокими трапезами, он заплакал…
Несколько минут мы ели молча, а потом я решил попытать счастья. Довольно я к нему подлаживался, пора уже задать кое — какие вопросы.
— Где мы с тобой сейчас? Что это за место? И как быть, если захочешь вернуться домой?
О том, что он только нынче выбрался отсюда и побывал в Милвилле, я напоминать не стал. Еще разозлишь его неделикатным намеком, он ведь так торопился назад… Может, он нарушил какое — то правило или запрет и спешил обратно, пока его на этом не поймали?
Прежде чем ответить, Таппер аккуратно поставил свою тарелку наземь, положил ложку. Но ответил он мне не своим голосом, а тем размеренным, деловым тоном, который я слышал в трубке таинственного телефона.
— С вами сейчас говорит не сам Таппер Тайлер, — произнес он. — Таппер говорит от имени Цветов. О чем вы хотели бы побеседовать?
— Брось ты свои дурацкие шутки, — сказал я.
Но я вовсе не думал, что Таппер меня дурачит. Это сказалось как — то само собой, я невольно старался выиграть время.
— Могу вас заверить, что мы относимся к делу весьма серьезно, — произнес тот же голос. — Мы Цветы, вы хотели поговорить с нами, а мы с вами. И это единственный способ вступить в переговоры.
Таппер на меня не смотрел: он, кажется, вообще ни на что не смотрел. Глаза у него стали пустые и словно выцвели, он как — то ушел в себя. Сидит прямой, как деревяшка, руки упали на колени. Словно он уже и не человек… не человек, а телефон!
— Я уже с вами разговаривал, — сказал я.
— Да, но то был очень короткий разговор, — отвечали Цветы. — Вы тогда в нас не поверили.
— Я хотел бы задать вам несколько вопросов.
— Мы вам ответим. Мы приложим все усилия. И постараемся говорить как можно яснее.
— Где мы находимся? — спросил я.
— Это смежная Земля. От вашей Земли ее отделяет только доля секунды.
— Смежная Земля?
— Да, Земля не одна, их много. Вы этого не знали?
— Нет. Не знал.
— Но вы можете этому поверить?
— Так сразу трудно. Постараюсь привыкнуть.
— Земля не одна, их мириады, — сказали Цветы. — Мы не знаем точно, сколько, но мириады и мириады. Быть может, им вообще нет числа. Многие думают именно так.
— И все они рядом, одна за другой?
— Нет, не то. Не знаем, как вам сказать. Трудно выразить словами.
— Значит, скажем так: Земель очень много. Только я что — то не пойму. Будь их много, мы бы их видели.
— Вы не можете их увидеть, — сказали Цветы. — Для этого надо видеть во времени. Смежные Земли существуют в пластах времени.
— В пластах времени? То есть…
— Проще всего сказать так: все эти бесчисленные Земли разделяет время. Каждая из них отличается своим местом во времени. Для вас существует только настоящее мгновенье. Вы не можете заглянуть ни в прошлое, ни в будущее.
— Значит, когда а попал сюда, я путешествовал во времени?
— Совершенно верно, — сказали Цветы.
Таппер все еще сидел напротив с отсутствующим бессмысленным видом, но я о нем попросту забыл. Слова, которые я слышал, исходили из его гортани, слетали с его губ и языка, но то не были слова Таппера. Я знал, что говорю с Цветами; это может показаться чистейшим безумием, но со мною говорила сама Лиловость затопившая все окрест.
— Судя по вашему молчанию, вам нелегко освоиться с тем, что вы от нас услышали, — сказали Цветы.
— Такое враз не проглотишь, скорее подавишься, — ответил я.
— Попробуем выразить это иначе. Земля — неизменная основа, но она движется во времени путем прерывающейся последовательности.
— Покорно благодарю, только мне что — то не становится понятнее.
— Мы уже давно это знаем. Мы открыли это много лет тому назад. Для нас это просто и естественно, как всякий закон природы, для вас — нет. Придется вам потерпеть. Не так — то просто в один миг усвоить истину, которую мы познавали веками.
— Но я же прошел сквозь время, вот что всего непонятнее. Как так получилось, что я перешел из одного времени в другое?
— Вы прошли там, где очень тонко.
— Тонко?
— В таком месте, где время не слишком плотное.
— Вы сами сделали его потоньше?
— Скажем так: мы открыли это место и воспользовались им.
— Чтобы добраться до нашли Земли?
— Пожалуйста, сэр, не надо так ужасаться. Ведь вы, люди, уже несколько лет как летаете в космос.
— Пробуем летать, — поправил я.
— Вы думаете о завоевании. В этом смысле мы с вами одинаковы. Вы стремитесь завоевать пространство, мы — время.
— Постойте, не торопитесь, — взмолился я, — дайте разобраться с самого начала. Между всеми этими Землями есть какие — то границы?
— Да.
— Границы во времени? Миры разделены какими — то периодами?
— Совершенно верно. Вы очень точно это уловили.
— И вы стараетесь пробиться сквозь барьер времени, чтобы проникнуть на мою Землю?
— Да, так.
— А зачем?
— Мы хотим с вами сотрудничать. Заключить соглашение. Нам нужно жизненное пространство, дайте его нам, а мы взамен дадим вам наши познания; нам нужна техника, ведь у нас нет рук, а вы, пользуясь нашими знаниями, создадите новую технику — она пойдет на благо и вам, и нам. Вместе мы сможем проникнуть и в другие миры. В конце концов множество Земель сольется в единую цепь, и все те, кто их населяет, тоже объединятся, у них будет одна цель, одни стремления.
Где — то под ложечкой у меня зрел холодный, свинцово — тяжелый ком; я ощущал странную пустоту внутри и мерзкий металлический вкус во рту. Сотрудничество, соглашение — а кто будет играть главную роль? Жизненное пространство — а сколько его останется для нас? Иные миры — а что произойдет там, в иных мирах?
— Вы много знаете?
— Очень много. Это для нас важнее всего: мы познаем, поглощаем, впитываем знания.
— Вы очень усердно собираете их и у нас. Ведь это вы нанимаете чтецов?
— Да, и этот способ гораздо лучше всех прежних, раньше мы получали весьма посредственные результаты. Теперешний путь вернее, и притом легче отбирать самое важное.
— Так пошло с тех пор, как вы обучили Джералда Шервуда делать телефоны?
— Телефоны позволяют нам непосредственно общаться с жителями вашей Земли, — был ответ. — До этого мы могли только перехватывать мысли.
— Так вы и раньше понимали людей? Может, вы уже давным — давно читаете наши мысли?
— Да — да! — весело откликнулись Цветы. — Мы понимали очень многих людей и уже много, много лет назад. Но беда в том, что это были отношения односторонние. Мы слышали и понимали людей, а они нас — нет. Большинство даже и не подозревало о нашем существовании, а более чуткие кое — что воспринимали, но только очень смутно и сбивчиво.
— Однако вы подслушивали их мысли.
— Да, конечно. Но нам приходилось довольствоваться тем, что они думали сами. Мы не могли направлять их мысли, пробуждать у них те или иные интересы.
— Уж конечно, вы старались их подтолкнуть в ту сторону, куда вам требовалось.
— Да, подталкивали, и с некоторыми получалось очень удачно. Другие почему — то двигались совсем не туда, куда надо. И многие, очень многие упорно оставались глухи, все наши старания пропадали понапрасну. Это было очень печально.
— Как я понимаю, вы проникали в сознание этих людей через те самые просветы, где время не очень плотное. Обычные границы вы бы не преодолели.
— Да, приходилось наилучшим способом использовать каждый просвет, какой удавалось найти.
— Очевидно, этого вам было недостаточно.
— У вас очень тонкое восприятие. Мы ничего не могли достичь.
— И тогда вы пошли на прорыв.
— Мы не совсем понимаем.
— Вы попробовали взяться за дело с другого конца. Задались целью переправить через границу не мысль, а какой — нибудь предмет. Скажем, горсть семян.
— Да, разумеется. Вы прекрасно все улавливаете и очень верно нас понимаете. Но если бы не ваш отец, нас и тогда постигла бы неудача. Проросло всего лишь несколько семян, и побеги в конце концов неминуемо погибли бы, но ваш отец их нашел и позаботился о них. Поэтому мы и избрали вас посредником…
— Нет, обождите, — сказал я. — Сперва я хочу еще кое — что выяснить. Вот хотя бы насчет барьера — чем вы огородили Милвилл?
— Это не так сложно, — сказали Цветы. — Этот барьер капсула времени, нам удалось выбросить ее через неплотное место в границе, разделяющей наши миры. Тонкий слой пространства, который образует капсулу, находится в ином времени, чем Милвилл и чем вся ваша Земля, в вашем прошлом. Тут разница в невообразимо малую долю секунды, на эту малую долю время капсулы отстает от земного. Доля эта столь ничтожно мала, что едва ли даже точнейшие ваши приборы могли бы ее измерить. Самая малость — и, однако, согласитесь, отлично действует.
— Да, — сказал я, — действует.
Еще бы, иначе и не может быть — по самой природе своей барьер неодолим, ничего прочнее и вообразить нельзя. Ибо он принадлежит прошлому; прошлое обволакивает Милвилл тонкой, как мыльный пузырь, пленкой, она так тонка, что сквозь нее можно видеть и слышать, и, однако, человеку сквозь нее не прорваться.
— Но палки… — сказал я. — И камни… И дождь…
— Барьер задерживает только все живое, — ответили мне. — Только те формы жизни, которые достигли определенного уровня и могут ощущать и осознавать то, что их окружает, могут чувствовать… как бы это лучше сказать?
— Вы сказали очень понятно. А неодушевленным предметам барьер не помеха…
— У времени — у того явления природы, которое вы называете временем, — есть свои законы, — услышал я. — И это лишь малая часть знаний, которыми мы с вами поделимся.
— Все, что вы нам скажете о времени, будет для нас ново. Мы ничего о нем не знаем. Мы даже не представляли, что время — это сила, которую можно изучать. Мы и не пробовали к нему подступаться. То есть, конечно, отвлеченной болтовни хватало, а вот настоящего знания нет и в помине. Мы никогда и не догадывались, с чего начать.
— Да, нам это известно.
Ослышался я — или в том, как они это сказали, прозвучало торжество? Может быть, просто почудилось?
Новое оружие, подумал я. Адское оружие. Никого не убивает и не ранит. Всего лишь гонит, толкает, сметает с дороги, сгребает всех в одну кучу — неодолимо, неотвратимо.
Как, бишь, сказала Нэнси: вдруг барьер сметет с лица Земли все живое и останется один лишь Милвилл? Пожалуй, и это возможно, хотя зачем такие крайности? Если Цветам нужно только жизненное пространство, у них уже есть способ его получить. Расширяя капсулу времени, они могут очистить для себя столько места, сколько пожелают, могут оттеснить человечество и поселиться на его территории. У них есть оружие против жителей Земли — оно же послужит им защитой от любых контрмер, к каким попытались бы прибегнуть люди.
Если они хотят захватить Землю, путь открыт. Ведь этим путем проходил Таппер и прошел я. Теперь их ничем не остановишь. Они просто — напросто двинутся на Землю, заслоняясь, как щитом, барьером времени.
— Так чего же вы ждете? — спросил я.
— В некоторых отношениях вы очень непонятливы, — прозвучало в ответ. — Мы вовсе не собираемся вас завоевать и покорить. Мы хотим с вами сотрудничать. Мы хотим прийти к вам как друзья, мы ищем полного понимания.
— Что ж, отлично, — сказал я. — Вы хотите с нами дружить. Но сперва нам надо знать, кого мы берем в друзья. Что вы, собственно такое?
— Вы неучтивы.
— Совсем нет. Просто я хочу вас понять. Вы говорите о себе во множественном числе, как будто вы составляете какое — то сообщество.
— Да, сообщество. Вы, вероятно, назвали бы нас единым организмом. Наши корни сплетены в единую сеть, она охватывает всю планету — возможно, вы скажете, что это наша нервная система. На равных расстояниях расположены большие массы того же вещества, из которого состоят и корни, и эти массы служат нам… должно быть, вы назовете это мозгом. Не один мозг, а многие множество, и все они связаны общей нервной системой.
— Как же так! — запротестовал я. — Этого просто не может быть! Растения не бывают разумными. Конечно, в растительном царстве тоже идет борьба за существование, но там все меняется не так быстро и резко, чтобы мог развиться разум.
— Вы рассуждаете весьма логично, — невозмутимо ответили Цветы.
— Вот видите, логично — и все — таки мы с вами разговариваем!
— У вас на Земле есть животное, вы его называете собакой.
— Правильно. Очень умный зверь.
— Вы привыкли к собакам, они ваши любимцы, баловни и верные спутники. Люди и собаки неразлучны с незапамятных времен. И, может быть, от постоянного общения с вами они еще больше поумнели. Это животное способно многому научиться.
— При чем тут собаки?
— Представьте: вдруг бы люди на вашей Земле с начала времен все силы посвятили тому, чтобы учить собак развивать их разум. Как, по — вашему, чего бы они достигли?
— Ну… право, не знаю. Может, теперь собаки были бы так же разумны, как и мы. Может, их разум чем — то и отличался бы от нашего, но…
— Некогда в одном из миров так поступили с нами, — сказали Цветы. — Все это началось больше миллиарда лет тому назад.
— И обитатели того мира сознательно сделали растения разумными?
— Для этого была причина. То были не такие существа, как вы. Они совершенствовали нас с определенной целью. Они нуждались в коком — то устройстве, способном собирать и хранить для них наготове всевозможные знания и сведения, беспрерывно накапливать их и приводить в стройную систему.
— Ну и вели бы записи. Все можно записать.
— Тут были некоторые физические пределы и, что, пожалуй, еще важнее, некоторые психологические ограничения.
— То есть они не умели писать?
— Они до этого не додумались. Им не случилось открыть для себя письмо. И даже речь — они не говорили, как вы. Но даже умей они говорить и писать, они все равно не достигни бы того, что им требовалось.
— Не могли бы привести свои знания в единую систему?
— Отчасти и это, конечно. Но скажите, многое ли сохранилось из того, что знали люди в древности, что было записано и, как им в ту пору казалось, закреплено на века?
— Да нет, мало что уцелело. Многое затерялось, многое разрушено и погибло. Время стерло все следы.
— А мы и поныне храним знания того народа. Мы оказались надежнее всяких записей. Правда, в том мире никто и не думал вести записи.
— Обитатели того мира, — повторил я. — Вы сохранили их знания, — а может, и знания еще многих других?
— Сейчас некогда, а то мы бы вам все объяснили, — сказали Цветы вместо ответа. — Тут много обстоятельств и соображений, которые вы пока понять не в силах. Поверьте нам на слово: когда они, изучив другие возможности, решили превратить нас в хранилище знаний и сведений, они выбрали самый мудрый и верный путь.
— Но сколько же на это ушло времени! Развить у растения разум… Бог ты мой, да на это нужна целая вечность! И как к этому подступиться? Как сделать растение разумным?
— О времени они не думали. Это было просто. Они умели им управлять. Они обращались со временем, как вы — с материей. Иначе ничего бы не вышло. Они сжали, спрессовали наше время так, что в нашей жизни прошли многие века, а для них секунды. В их распоряжении всегда было столько времени, сколько требовалось. Они сами создавали время, которое им требовалось.
— Создавали время?
— Да, разумеется. Разве это так непонятно?
— Мне непонятно. Время — река. Оно течет, и его не остановишь. Тут ничего нельзя поделать.
— Время ничуть не похоже на реку, — был ответ. — Никуда оно не течет, и с ним очень многое можно сделать. Кроме того, напрасно вы стараетесь нас оскорбить, нас это не задевает.
— Я вас оскорбил?!
— По — вашему, растениям так трудно обрести разум.
— Но я совсем не хотел вас оскорбить! Я думал о наших земных растениях. Не могу себе представить какой — нибудь одуванчик…
— Одуванчик?
— Обыкновенный цветок, такие у нас растут на каждом шагу.
— Возможно, вы и правы. Должно быть, мы с самого начала были не такие, как растения у вас на Земле.
— Но вы этого, конечно, не помните.
— Вы имеете в виду родовую память?
— Да, наверно.
— Это было очень давно. Но у нас есть данные. Не миф, не легенда, а точные данные о том, как мы стали разумными.
— В этом смысле человечеству до вас далеко, — сказал я. — У нас таких данных нет.
— А сейчас мы должны с вами проститься, — сказали Цветы. — Наш глашатай очень устал, надо беречь его силы, ведь он уже так давно служит нам верой и правдой, и мы к нему привязались. Мы с вами побеседуем в другой раз.
— Ф — фу! — сказал Таппер и утер ладонью подбородок. Так долго я за них еще не разговаривал. Про что это вы толковали?
— А ты разве не знаешь?
— Откуда мне знать, — огрызнулся Таппер. — Отродясь не подслушивал.
Он опять стал похож на человека. Глаза ожили, застывшие черты оттаяли.
— А чтецы? — спросил я. — Они же читают дольше, чем мы разговаривали?
— Кто читает, это не по моей части, — сказал Таппер. С ними разговоров не ведут. Там прямо ловят мысли.
— А телефоны зачем же?
— Просто чтоб говорить им, про что надо читать.
— А разве они читают не по телефону?
— Ну, ясно, по телефону. Это чтоб они читали вслух. Цветам легче понимать, когда вслух. Вроде тогда у чтеца в голове все отчетливей выходит.
И Таппер медленно поднялся.
— Пойду сосну часок, — сказал он и направился к шалашу. Но на полдороге остановился и обернулся: — Совсем забыл. Спасибо тебе за штаны и за рубаху.
12
Стало быть, предчувствие меня не обмануло. Таппер ключ к тому, что происходит, или по крайней мере — один из ключей. И, как ни дико это звучит, искать ключи ко всем другим загадкам надо на той же лужайке за теплицами, где разрослись лиловые цветы.
Ибо эта лужайка ведет не только к Тапперу, но и ко всему остальному: к «двойнику», что выручил Джералда Шервуда, к телефону без диска и к работе чтецов, к тем, кому служит Шкалик Грант, и, по всей вероятности, к тем, кто устроил загадочную лабораторию в штате Миссисипи.
А сколько еще за этим кроется престранных случаев, непонятных фабрик и лабораторий?
Конечно, это все не новость, это началось много лет назад. Цветы сами сказали, что уже многие годы, для них открыт разум многих людей на Земле — они подслушивают мысли этих людей, перенимают их понятия, представления, знания, и даже когда человек не подозревает, что в его мозг прокрались незванные гости, они упорно подталкивают, направляют чужой разум куда им заблагорассудится, как направляли ум Шервуда.
Многие годы, сказали они, а я не догадался спросить точнее. Может быть, это длится уже несколько столетий? Почему бы и нет, ведь они говорили, что обладают разумом уже миллиард лет.
Быть может, они вмешиваются в нашу жизнь уже несколько веков — уж не с эпохи ли Возрождения это началось? Что, если расцветом культуры, духовным ростом и развитием человечество хотя бы отчасти обязано Цветам, которые толкали его все вперед по пути прогресса? Нет, конечно, не они определили характер человеческой науки, искусства, философии, но очень возможно, что это они будили в людях беспокойный дух, заставлявший стремиться к совершенству.
Джералда Шервуда такой неугомонный советчик вынудил стать изобретателем и конструктором. И может быть, он далеко не единственный, только в других случаях чужое вмешательство было не так очевидное. Шервуд почувствовал, что в него вселилось некое чуждое начало, и понял: сотрудничать с чужаком полезно и выгодно. А многие другие могли этого и не почувствовать, но все равно их что — то вело, толкало, и отчасти поэтому они чего — то достигли.
За сотни лет Цветы, конечно, неплохо изучили человечество и пополнили свои запасы многими людскими познаниями. Ведь для того их и наделили разумом, чтобы сделать хранилищем знаний. В последние несколько лет человеческие знания текли к ним непрерывным потоком, десятки, а то и сотни чтецов усердно наполняли ненасытную глотку их разума всем, что общими усилиями собрало в своих книгах человечество.
Наконец я поднялся — я так долго сидел на земле не шевелясь, что весь одеревенел. Потянулся, медленно повернул голову и осмотрелся — взгляд упирался в гряды холмов, они тянулись справа и слева, чуть поодаль от реки, сплошь захлестнутые лиловым приливом.
Не может этого быть. Не мог я разговаривать с цветами. Что — что, а растения — только они из всех форм жизни на Земле — начисто лишены дара речи.
Да, но ведь это не наша Земля. Это какая — то другая Земля — по их словам, лишь одна из многих миллионов.
Можно ли по одной из этих Земель судить о другой, мерить их той же мерой? Уж наверно, нельзя. Правда, местность вокруг почти такая же, как и наизусть знакомые места на моей родной Земле, но, возможно, рельеф остается тот же для всех бесчисленных миров. Как, бишь, они сказали: Земля — это неизменная основа?
А вот жизнь, эволюция — тут нет ничего общего. Даже если на моей Земле и на этой, куда я сейчас попал, жизнь начиналась совершенно одинаково (а это вполне могло случиться), то все равно в дальнейшем на ее пути неизбежно возникали несчетные мелкие отклонения, сами по себе, возможно, пустячные, но все вместе они привели к тому, что жизнь и культура одной Земли ничем не напоминает остальные.
Таппер захрапел — в носу и в глотке у него громко бурлило, булькало, храп был под стать всему его облику. Он лежал в шалаше навзничь на куче листьев, но шалаш был так мал, что ноги Таппера высовывались наружу. Задубевшие пятки упирались в землю, широко расставленные пальцы торчали в небо зрелище не слишком изысканное.
Я подобрал тарелки и ложки, сунул под мышку горшок, в котором Таппер варил похлебку. Отыскал взглядом тропинку, сбегавшую к реке, и стал спускаться. Таппер стряпал еду, так должен же я хотя бы перемыть посуду.
Я присел на корточки у самой воды, вымыл кривобокие тарелки и горшок, ополоснул ложки и старательно протер их пальцами. С тарелками я обращался бережно: еще размокнут! На глине виднелись отпечатки неуклюжих тапперовых пальцев, вылепивших эту корявую утварь.
Он живет здесь уже десять лет, и он счастлив, ему хорошо среди лиловых цветов, они стали ему друзьями, наконец — то он защищен от злобы и жестокости мира, в котором родился. Мир этот был зол, был жесток с Таппером, потому что Таппер не такой, как все, — но как часто злоба и жестокость преследуют и тех, кто ничем не выделяется среди других.
Тапперу, конечно, кажется, что он попал в волшебный край, сказочная страна фей стала для него явью. Здесь красиво и просто — эта безыскусственность и красота созвучны его простой душе. Здесь он может жить бесхитростно, безмятежно, к такой жизни он всегда стремился, по ней тосковал, сам того не понимая.
Я поставил горшок и тарелки на берегу, нагнулся пониже, сложил ладони ковшиком, зачерпнул воды и стал пить. Вода была чистая, точно ключевая, и, наперекор жаркому летнему солнцу, прохладная.
Выпрямляясь, я услыхал слабый шелест бумаги, и сердце екнуло: я вдруг вспомнил! Сунул руку во внутренний карман куртки и вытащил длинный белый конверт. Он не был запечатан, я открыл его — внутри лежала пачка денег, полторы тысячи долларов, которые передал мне Шервуд.
С конвертом в руке я присел на корточки. Какого же я свалял дурака! Мы с Элфом собирались на рыбалку с утра пораньше, когда банк еще не открыт, и я хотел покуда спрятать конверт где — нибудь дома, а потом началась кутерьма, я закрутился и позабыл. Это ж надо — забыть про полторы тысячи долларов!
Я перебрал в уме все, что могло случиться с этим конвертом, и меня прошиб холодный пот. Я мог потерять его раз двадцать — и чудо, что не потерял. Вот уж поистине, дуракам счастье! Но странно: вот я сижу на берегу, ошарашенный собственной забывчивостью, держу в руках кругленькую сумму — и оказывается, почему — то она теперь не так уж много для меня значит.
Быть может, это на меня так подействовало тапперово волшебное царство, что деньги для меня уже не столь важны, как прежде? Хотя, конечно, если бы я сумел возвратиться домой, они вновь значили бы очень, очень много. Но здесь, в чужом мире, на краткий миг стало важно другое: неуклюжая утварь, грубо вылепленная из речной глины, шалаш из ветвей и куча листьев вместо постели. И куда важнее всех денег на свете поддерживать крохотный костер, потому что спичек здесь нет.
А впрочем, ведь это не мой мир. Это мир Таппера, безвольный, подслеповатый, как он сам, — и где ему понять, что таит в себе и чем грозит этот мир.
Ибо настал день, который давно предвидели и о котором много рассуждали… хотя рассуждали куда меньше, чем следовало, и слишком плохо к нему готовились, ведь он казался таким далеким, таким невероятным. Настал день, когда человечество встретилось (а быть может, вернее сказать — столкнулось) с иным разумом.
Правда, мы всегда рассуждали либо о пришельцах из космоса, либо о встрече с чужим разумом с какой — нибудь далекой планеты. А тут пришельцы не из пространства, но из времени, или, во всяком случае, из — за барьера времени.
А не все ли равно? Из пространства ли, из времени ли осложнения те же. Вот он пришел — час, когда человеку предстоит величайший в истории экзамен, и провалиться нельзя.
Я собрал посуду и стал подниматься по тропинке. Таппер еще спал, но больше не храпел. Он по — прежнему лежал на спине, пальцы ног все так же торчали в небо.
Солнце клонилось к закату, но жара не спадала, в воздухе — ни ветерка. И лиловые цветы на склонах холмов недвижны.
Я стоял и смотрел на них — цветы как цветы, милые, невинные, словно бы ничего не обещают и ничем не грозят. Просто луг, поросший цветами, — все равно как ромашками или нарциссами. Мы, люди, искони привыкли к цветам и ничего худого от них не ждем. Они безличны, они ничего не значат, радуют глаз яркими красками — и только.
Вот в том — то и загвоздка, в голове никак не укладывается, что эти Цветы — не просто цветы. Не верится, будто они разумные существа, будто за ними стоит нечто значительное, весомое. Трудно принять их всерьез, а надо, ибо по — своему они столь же разумны, как люди, а быть может, и разумнее.
Я оставил посуду у костра и начал медленно подниматься в гору. На ходу я раздвигал и мял цветы, а некоторые раздавил, но просто невозможно было пройти, не растоптав ни одного цветка.
Непременно надо будет еще с ними поговорить. Как только Таппер отдохнет, я опять с ними потолкую. Столько всего надо выяснить, во многом разобраться. Если Цветам и людям придется существовать бок о бок, необходимо достичь взаимопонимания. Ну — ка, попробуем вспомнить все, о чем мы говорили, в чем же она была, скрытая угроза, ведь была же она? Но хоть убей, сколько ни вспоминаю, в том, что я слышал, никакой угрозы нет.
Вот и вершина холма, с нее далеко видна волнистая лиловая низина. Огибая косогор, бежит ручеек, вьется меж холмами и чуть подальше впадает в реку. Бежит, прыгает по камешкам, мне отсюда слышен его серебряный лепет.
Я стал медленно спускаться к ручью — и на другом берегу, у подножья нового холма, увидел какой — то бугор, что — то вроде насыпи. Прежде я ее не замечал — вероятно, косые закатные лучи падали так, что она не бросалась в глаза.
Просто бугор, ничем не примечательный, но он как — то не сочетается со всем окружающим. Здесь, посреди цветущей холмистой равнины, он торчит отдельно, сам по себе, словно горбатый урод, оставшийся от иных времен.
Я спустился к ручью и перешел его вброд — здесь было мелко, вода покрывала полосу блестящей гальки всего лишь дюйма на три.
У самого края воды, наполовину выступая из береговой кручи, торчала каменная глыба. Совсем как скамья — я уселся и поглядел на реку. Солнце отсвечивало в воде, мельчайшая рябь искрилась алмазами, в воздухе серебром рассыпались переливчатые трели ручья.
В том мире, где остался Милвилл, на этом месте никакого ручья нет; а впрочем, через луг Джека Диксона проходит высохшее русло и порой в него просачивается вода из болота, что за лачугой Шкалика. Может, и там, возле Милвилла, в старину был такой ручеек, а потом появился пахарь с плугом, началась эрозия почвы и облик всей местности переменился.
Так я сидел, околдованный алмазным сверканьем и звоном ручья. Наверно, вот так, в теплых лучах заходящего солнца, под защитой холмов можно сидеть целую вечность.
Бездумно, от нечего делать я коснулся ладонями камня, на котором сидел, и начал его поглаживать. Руки должны бы мигом подсказать мне, что поверхность у камня какая — то странная, но я так поглощен был солнцем и ручьем, что лишь через несколько минут странность эта дошла до моего сознания.
Я и тут не вскочил, я по — прежнему сидел и кончиками пальцев водил взад и вперед по камню, но теперь и не глядя убеждался: ошибки нет, на ощупь ясно — это не просто каменная глыба, а обтесанная плита.
Наконец, я поднялся и посмотрел — да, сомнений нет. Передо мною квадратная плита, кое — где еще видны знаки от удара зубилом. И на одном углу сохранились следы хрупкого вещества — должно быть, некогда это было подобие цемента.
Разглядев все это, я выпрямился и отступил, пришлось войти в ручей, вокруг щиколоток заплескалась вода.
Не просто глыба, не какой — нибудь валун, а каменная плита! Обтесанная плита со следами зубила и с остатками цемента по краю!
Значит, Цветы — не единственные обитатели этой планеты. Есть и другие или были когда — то. Существа, которые умели строить из камня и придавали камню нужную форму и размеры при помощи орудий.
Я поднял глаза от каменной плиты к тому бугру у края воды — из него выступали и еще такие же плиты. Я застыл на месте и, позабыв о солнечных бликах, о серебряной песне ручья, обвел взглядом проступавшие из земли плиты — все ясно, некогда здесь была стена.
Так, стало быть, этот бугор — не прихоть природы. Это свидетельство, что в давние времена здесь потрудились существа, которые умели строить, умели пользоваться орудиями и инструментами.
Я вышел из ручья и взобрался на бугор. Камни невелики и никак не украшены — только следы зубила да кое — где остатки скреплявшего плиты цемента. Видно, когда — то здесь стояло здание. Или, может быть, ограда. Или памятник.
Я опять начал спускаться к ручью, держа чуть ниже того места, где переходил его вброд; склон был крутой, и я спускался медленно, осторожно, тормозя руками — не ровен час, сорвешься.
И тут, прижимаясь всем телом к откосу, чтобы не упасть, я набрел на кость. Должно быть, дождь и ветер совсем недавно высвободили ее из — под слоя почвы, и теперь ее укрывали только лиловые цветы. Если бы не чистая случайность, я, скорее всего, прошел бы мимо. Сперва я ее не разглядел, заметил только: в земле что — то тускло белеет. Сполз по склону — и лишь тогда увидел кость, вновь подтянулся повыше и вытащил ее.
Когда я сжал ее, пальцы мои словно пылью покрылись верхний слой изъело время, — но сама кость не сломалась.
Чуть изогнутая и призрачно белая, белая как мел.
Я повертел ее в руках: похоже, что это ребро, и, может быть, судя во форме и размеру, человеческое, — впрочем, тут моих знаний не хватает, могу и ошибиться.
Если эта кость и вправду сходна с человеческой, значит, когда — то здесь жили существа, напоминающие людей. Но тогда, может быть, здесь и поныне обитает какое — то подобие человечества?
Планета, населенная цветами… никакой иной жизни только лиловые цветы да в последние годы Таппер Тайлер. Так подумал я сначала, увидав море цветов, расплескавшееся до самого горизонта, но это был только домысел. Не успев путем разобраться, я поспешил с выводами. Отчасти их подкрепляло то, что я увидел: здесь, на этом клочке земли, и в самом деле нет больше ничего живого — ни птиц, ни зверей, ни насекомых, разве что какие — нибудь бактерии, вирусы, да и то, вероятно, лишь такие, которые полезны Цветам.
Хотя верхний слой кости под пальцами обращался в меловую пыль, сама кость, видимо, была очень крепкая. Не так уж давно это была часть живого существа. Чтобы определить ее возраст, наверно, надо знать состав и влажность почвы и еще многое. Это задача специалистов, а я не специалист.
Потом я заметил справа еще одно белое пятнышко. Конечно, это мог быть и просто белый камень, но я с первого взгляда решил иначе. В глаза бросалась та же меловая белизна, что и у ребра — моей первой находки.
Я осторожно передвинулся вправо и, уже наклоняясь, увидел, что это не камень. Я отложил ребро и стал копать. Почва рыхлая, песчаная, можно обойтись и без лопаты, собственными руками.
Кость оказалась округлой, через минуту я понял: это череп, а еще через минуту — что череп человеческий.
Я откопал его, поднял — и если с ребром я еще мог ошибиться, то теперь сомнений не было.
Я был подавлен, меня захлестнула жалость: вот он когда — то жил, и его больше нет… и еще мне стало страшно.
Ведь этот череп у меня в руках — бесспорное доказательство, что Земля эта не всегда принадлежала Цветам. Их родина не здесь… должно быть, они завоевали этот мир… так или иначе, он перешел к ним от кого — то другого. Да, очень возможно, что они переселились во времени очень далеко от той Земли, где иное племя — по их описанию, племя, нисколько не похожее на людей, — научило их мыслить.
Как далеко в прошлом лежит она, родина Цветов? Сколько еще Земель завоевали они на пути сюда, в этот мир из того неведомого, который был их колыбелью? Сколько миров осталось позади, опустошенных, очищенных от всего живого, что могло соперничать с этими Цветами…
А те, кто обучил и возвысил простые растения, кто наделил их разумом, — где они теперь, что с ними сталось?
Я положил череп обратно в яму, откуда его извлек. Снова осторожно засыпал его песком и землей — так, что больше уже ничего не было видно. Хорошо бы взять его с собой и внизу, на берегу, получше разглядеть. Но нельзя: Таппер не должен знать о моей находке. Его друзья Цветы с легкостью читают его мысли, а мои мысли для них — книга за семью печатями, иначе зачем бы им для переговоров со мной понадобился телефон. Значит, пока я ничего не скажу Тапперу, Цветы не узнают, что я нашел этот череп. Впрочем, быть может, они уже знают, быть может, они умеют видеть или обладают еще каким — нибудь чувством, которое заменяет им зрение. Но нет, вряд ли: ничего такого пока не заметно. Вернее всего, они способны к умственному симбиозу и знают только то, что им открылось в мыслях других разумных существ.
Я спустился с насыпи, обогнул ее и по дороге нашел еще много каменных плит. Несомненно, когда — то на этом месте стояло здание. А может быть, тут был поселок или даже город? Так или иначе, здесь жили люди.
Я вышел на берег у дальнего конца насыпи, где ручей бежал вдоль нее вплотную, подмывая крутой склон, — и зашлепал по воде к тому месту, где раньше переходил вброд.
Солнце село, алмазные искры на воде угасли. Смеркалось, и ручей казался темным, почти бурым.
Крутой черный берег вдруг ощерился ухмылкой мне навстречу, и а застыл, вглядываясь, — передо мной белел ряд обломанных зубов, выпукло круглился череп. Течение хватало меня за ноги, стараясь увлечь за собой, вода тихонько рычала на меня, с темнеющих холмов тянуло холодом… меня пробрала дрожь.
Ибо, глядя на этот второй череп, оскалившийся мне навстречу из черной крутизны, я понял: человечеству грозит величайшая, небывалая опасность. Доныне род людской мог погибнуть только по собственной вине, по вине людей. И вот у меня перед глазами новая угроза.
13
Спотыкаясь в полутьме, я спускался по косогору и еще издали увидел красноватый отблеск костра: Таппер уже проснулся и готовил ужин.
— Погулял? — спросил он.
— Так, огляделся немного, — ответил я. — Тут и смотреть особенно не на что.
— Одни Цветы — и все, — подтвердил Таппер.
Он утер подбородок, сосчитал пальцы на руке, потом пересчитал сызнова, проверяя, не ошибся ли.
— Таппер!
— Чего?
— Тут что же, всюду так? По всей этой Земле? Больше ничего нету, одни Цветы?
— Иногда еще разные приходят.
— Кто — разные?
— Ну, из разных других миров. Только они опять уходят.
— А какие они?
— Забавники. Ищут себе забаву.
— Какую же забаву?
— А я не знаю. Просто забаву.
Таппер отвечал хмуро, уклончиво.
— А больше здесь никто не живет, кроме Цветов?
— Никого тут нету.
— Ты разве всю эту Землю обошел?
— Они мне сами сказали. Они врать не станут. Они не то, что милвиллские. Им врать ни к чему.
Двумя сучьями он сдвинул глиняный горшок с пылающих угольев в сторонку.
— Помидоры, — сказал он. — Любишь помидоры?
Я кивнул; он опустился на корточки у огня, чтоб лучше следить за своей стряпней.
— Они всегда говорят правду, — вновь начал Таппер. Они и не могут врать. Так уж они устроены. У них вся правда внутри. Они ею живут. Им и ни к чему говорить неправду. Ведь люди почему врут? Боятся, вдруг им кто сделает больно, плохо, а тут никого плохого нет, Цветам никто зла не сделает.
Он задрал голову и уставился на меня с вызовом — дескать, попробуй, поспорь.
— Я и не говорил, что они врут, — сказал я. — Пока что я ни в одном их слове не усомнился. А что это ты сказал: у них правда внутри? Это ты про то, что они много знают?
— Да, наверно. Они много — много всего знают, в Милвилле никто такого не знает.
Я не стал возражать. Милвилл — это прошлое Таппера. В его устах Милвилл означает человечество.
А он опять принялся пересчитывать пальцы. Сидит на корточках, такой счастливый, довольный, в этом мире у него совсем ничего нет — но все равно он счастлив и доволен.
Поразительна эта его способность общаться с Цветами! Как мог он так хорошо, так близко их узнать, чтобы говорить за них? Неужели этому слюнявому дурачку, который никак не сосчитает собственных пальцев, дано некое шестое чувство, неведомое обыкновенным людям? И этот дар в какой — то мере вознаграждает его за все, чего он лишен?
В конце концов, человеческое восприятие на редкость ограниченно: мы не знаем, каких способностей нам не хватает, и не страдаем от своей бедности именно потому, что просто не в силах вообразить себя иными, одаренными щедрее. Вполне возможно, что какой — то каприз природы, редкостное сочетание генов наделили Таппера способностями, недоступными больше ни одному человеку, а сам он и не подозревает о своей исключительности, не догадывается, что другим людям недоступны ощущения, для него привычные и естественные. Быть может, эти сверхчеловеческие способности под стать тем, непостижимым, которые таятся в лиловых Цветах?
Деловитый голос, по телефону предлагавший мне заделаться дипломатом, сказал, что меня рекомендовали наилучшим образом. Кто же? Уж не этот ли, что сидит напротив, у костра? Ох, как мне хотелось его спросить! Но я не посмел.
— Мяу, — подал голос Таппер. — Мяу, мя — ау!
Надо отдать ему справедливость, мяукал он как самая настоящая кошка. Он мог изобразить кого угодно. Он всегда неутомимо подражал голосам разного зверья и птичья и достигал в этом истинного совершенства.
Я промолчал. Он, видно, опять ушел в себя и, может быть, попросту забыл обо мне.
От горшка, стоявшего на угольях, шел пар, в воздухе дразняще запахло едой. На востоке, низко над горизонтом, проглянула первая вечерняя звезда, и снова меж треском угольев и мяуканьем Таппера я ощутил мгновенья тишины — такой глубокой, что, как вслушаешься, кружится голова.
Страна безмолвия, огромный вечный мир тишины — ее нарушают лишь вода, ветер да слабые, жалкие голоса пришельцев, чужаков вроде меня и Таппера. Хотя Таппер, наверно, больше не чужак, он стал своим.
Я остался в одиночестве: тот, кто сидит напротив, отгородился и от меня, и от всего окружающего, замкнулся в убежище, которое сам для себя построил; там он совсем один, охраняемый накрепко запертой дверью, — только он один и может ее отпереть, больше ни у кого нет ключа, никто и не представляет, с каким ключом к ней подступиться.
В одиночестве и молчании я ощутил Лиловость — смутный, едва уловимый дух и облик хозяев планеты. Веет словно бы и дружелюбием… но оно какое — то пугающее, будто к тебе ластится огромный, свирепый зверь. И становится страшно.
Экая глупость. Испугаться цветов!
Тапперов кот, одинокий, потерянный, скитается во тьме, в унылых, оплаканных дождем лесах некоей страны чудовищ, и тихонько, жалобно мяучит, тщетно отыскивая путеводную нить в этом мире неведомого.
Страх отступил за пределы тесного светлого круга от костра. Но Лиловость по — прежнему здесь, на холмах — затаилась и подстерегает.
Враг? Или просто — нечто чуждое, непонятное?
Если это враг, то грозный, безжалостный и неодолимый.
Ведь растительное царство — единственный источник энергии, питающей царство животных.
Только растения способны уловить, преобразить и сохранить про запас то, без чего нет жизни. И только пользуясь энергией, накопленной растениями, могут существовать животные и люди. Если растения умышленно погрузятся в сон или станут несъедобными, все живое, кроме них, погибнет.
А эти Цветы опасно переменчивы. Они могут обернуться каким угодно растением, тому свидетельство — огород Таппера и деревья, что растут ему на топливо. Эти оборотни могут стать деревом и травой, колосом, кустом и лианой. Они не просто прикидываются, нет они и вправду превращаются в любое другое растение.
Что, если им откроют доступ на нашу Землю, на планету людей, а за это они предложат заменить наши деревья другими, лучшими… или это будут те же, издавна знакомые дубы, березы и сосны, только они станут быстрей расти, поднимутся стройней и выше, дадут больше тени и лучшую древесину, лучший строевой лес… Допустим, Цветы заменят нашу пшеницу другой, лучшей — урожаи станут богаче, зерно полновеснее, этой пшенице не страшны будут ни засуха, ни иные напасти. Допустим, будет заключен такой уговор: Цветы заменят все земные растения — все овощи и травы, все злаки и деревья — и дадут людям больше пищи с каждого поля и каждой грядки, больше дров или досок от каждого дерева, больше пользы и выгоды от всего, что растет.
В мире не станет голода, всего будет в избытке, ведь Цветы могут дать человеку все, что ему нужно.
Мы привыкнем полагаться на них, от них, от их верности уговору будет зависеть все хозяйство и самая жизнь человечества — и тогда человечество в их власти! А если они вдруг снова превратятся из пшеницы, кукурузы, травы во что — нибудь другое? Они разом обрекут всю Землю на голодную смерть. Или внезапно станут ядовитыми — и смогут убивать мгновенно, это все — таки милосерднее. А если к тому времени они по — настоящему возненавидят людей? Разве они не могут наполнить воздух какой — нибудь тлетворной пыльцой, столь пагубной для всего живого на Земле, что смерть, когда она наконец настанет, покажется желанным избавлением?
Или, предположим, люди не захотят пустить их на Землю, но они все равно к нам проникнут… люди не станут заключать с ними сделку, но они сами тайно обратятся в хлеба и травы и все другие земные растения, вытеснят их, убьют, подменят собою несчетные виды земной растительности. Что ж, конец будет тот же.
Проникнут ли они к нам с нашего согласия или наперекор нашей воле, — мы бессильны их остановить, мы в их власти. Быть может, они нас истребят, а может быть, и нет, но если и нет, важно одно: стоит им пожелать — и они в любую минуту нас уничтожат.
Однако если Цветы намерены пробраться на Землю, захватить ее, смерти с лица ее все живое, — тогда чего ради они вступали со мной в переговоры? Они вольны проникнуть к нам и без нашего ведома. На это уйдет немного больше времени, но дорога открыта. Ничто не могло бы им помешать, ведь люди ни о чем бы не подозревали. Предположим, некие лиловые цветы выйдут за пределы милвиллских садов и год от года начнут множиться, разрастутся среди живых изгородей, в придорожных канавах, в глухих уголках и закоулках, подальше от людского глаза… ведь этого никто и не заметит. Год от года они станут расползаться все шире, все дальше и за сто лет обоснуются на Земле прочно и навсегда.
Так я думал, рассчитывал, прикидывал на все лады, а откуда — то из глубин сознания упрямо пробивалась и взывала другая мысль — и наконец я прислушался: ну, а если бы мы и могли воспротивиться Цветам, отбросить их — нужно ли это? Даже если здесь и может таиться опасность, надо ли преграждать им путь? Ведь это впервые мы встречаемся с иной жизнью, с иным разумом. Впервые человечеству представился случай — если только у нас хватит решимости — приобрести новые познания, по — новому посмотреть на жизнь, заполнить пробелы в нашей науке, перекинуть мост мысли через пропасть, постичь иные, новые для человека воззрения, изведать новые чувства, встретиться с незнакомыми побуждениями, разобраться в незнакомой нам логике. Неужели мы струсим и попятимся? Неужели не сумеем пойти навстречу первым пришельцам из иного мира, не постараемся сгладить разногласия, если они и есть? Ведь если мы провалимся на первом же экзамене, не миновать провала и во второй раз, и, может быть, уже никогда нам не знать удачи.
Таппер очень похоже изобразил звонок телефона. Любопытно, как попал телефон в дебри, где одиноко блуждает его воображаемый кот? Может, кот набрел на телефонную будку посреди темной, залитой дождем чащи, и теперь хочет узнать, где же он и как ему вернуться домой?
Снова телефонный звонок, потом короткое, выжидательное молчание. И вдруг Таппер сказал мне с досадой:
— Да отзовись ты! Это ж тебя!
— Что такое?!
— Скажи — слушаю! Давай отвечай.
— Ладно, — сказал я, лишь бы он не злился. — Слушаю.
И тут он заговорил голосом Нэнси, да так похоже, что мне показалось — она тут, рядом.
— Брэд! — позвала она. — Брэд, где ты?
Она почти кричала, задыхалась от волнения, голос дрожал и срывался.
— Где ты, Брэд? Куда ты исчез?
— Трудно объяснить, — сказал я. — Понимаешь…
— Где я только не искала! — она захлебывалась словами. — Мы тут все обыскали. Тебя весь город ищет. А потом я вспомнила про этот телефон у папы в кабинете — знаешь, который без диска. Я его и раньше видела, только внимания не обращала. Думала, это какая — то модель, или игрушка, или так, подделка, обман шутки ради. А сейчас столько шуму из — за этих телефонов в хижине у Шкалика Гранта, и Эд Адлер рассказал мне, что у тебя в конторе тоже был такой аппарат. И под конец до меня дошло: может, и у папы такой же телефон. Только до меня ужасно долго не доходило. А потом я пошла к папе в кабинет, стала, и стою, и только смотрю из этот телефон… понимаешь, просто струсила. Стою и думаю — кто его знает, возьмусь за него — и вдруг начнется что — то очень страшное. А потом собралась с духом, сняла трубку, слышу — дышит, ток есть, я и спросила тебя. Конечно, это дурацкий поступок, но… Так что ты сказал, Брэд?
— Я говорю, очень трудно объяснить толком, где я. Сам — то я знаю, да объяснить не могу, никто не поверит.
— Скажи мне. Не трать время зря. Только скажи, где ты.
— В другом мире. Я прошел через сад…
— Куда прошел?!
— Просто я шел по саду, по следам Таппера, и вдруг…
— По каким следам?
— По следам Таппера Тайлера. Я, кажется, забыл тебе сказать: он вернулся.
— Не может быть! Я прекрасно помню Таппера. Уже десять лет, как он исчез.
— Он вернулся. Сегодня утром. А потом опять ушел. И я пошел по его следам…
— Это ты уже говорил. Ты пошел за Таппером и очутился в другом мире. Где он находится, этот мир?
Нэнси — как все женщинам задает невозможные вопросы!
— Точно не знаю, но он в другом времени. Может быть, разница только в одну секунду.
— А вернуться ты можешь?
— Попробую. Что выйдет — не знаю.
— А я не могу тебе как — нибудь помочь? Или все мы — весь город?
— Слушай, Нэнси, это пустой разговор. Скажи лучше, где твой отец?
— Он сейчас у тебя дома. Там полно народу. Все тебя ждут.
— Ждут? Меня?
— Ну да. Понимаешь, они все обыскали и знают, что в Милвилле тебя нет, и многие считают, что ты знаешь, в чем секрет…
— Это насчет барьера?
— Да.
— И они здорово злы?
— Некоторые — очень.
— Слушай, Нэнси…
— Не трать зря слов. Я и так слушаю.
— Можешь ты пойти туда и потолковать с отцом?
— Конечно!
— Вот и хорошо. Скажи ему, что когда я вернусь… если только сумею… мне надо будет с кем — нибудь поговорить. С кем — нибудь наверху. На самом верху. Может, даже с президентом или кто там к нему поближе. Или с кем — нибудь из Организации Объединенных Наций.
— Кто же тебя пустит к президенту, Брэд?
— Может, и не пустят, но мне нужно добраться до кого — нибудь там повыше. Мне надо им кое — что сообщить, правительство должно об этом знать. И не только наше — все правительства должны знать. У твоего отца наверняка найдутся какие — нибудь знакомые, с кем он может поговорить. Скажи ему, дело нешуточное. Это очень важно.
— Брэд… Брэд, а ты нас не разыгрываешь? Смотри, если это все неправда, будет ужасный скандал.
— Честное слово, — сказал я. — Нэнси, это очень серьезно, я говорю тебе чистую правду. Я попал в другой мир, в соседний мир…
— Там хорошо, Брэд?
— Недурно. Всюду одни цветы, больше ничего нет.
— Какие цветы?
— Лиловые. Их мой отец разводил. Такие же, как у нас в Милвилле. Эти цветы все равно что люди, Нэнси. И это они огородили Милвилл барьером.
— Но цветы не могут быть как люди, Брэд!
Она говорила со мной, как с маленьким. Как с младенцем, которого надо успокоить. Надо же: спрашивает, хорошо ли здесь, и объясняет, что цветы — не люди. Уж эта мне милая, деликатная рассудительность.
Я постарался подавить злость и отчаяние.
— Сам знаю. Но это все равно. Они разумные и вполне общительные.
— Ты с ними разговаривал.
— За них говорит Таппер. Он у них переводчиком.
— Да ведь Таппер был просто дурачок.
— Здесь он не дурачок. Он может многое, на что мы не способны.
— Что он такое может? Брэд, послушай…
— Ты скажешь отцу?
— Скажу. Сейчас же еду к тебе домой.
— И еще, Нэнси…
— Да?
— Пожалуй, ты лучше не говори, где я и как ты меня отыскала. Наверно, Милвилл и так ходит ходуном.
— Все просто взбеленились, — подтвердила Нэнси.
— Скажи отцу, что хочешь. Скажи все, как есть. Но только ему одному. А уж он сообразит, что сказать остальным. Не к чему будоражить их еще больше.
— Хорошо. Береги себя. Возвращайся целый и невредимый.
— Ну, ясно, — сказал я.
— А ты можешь вернуться?
— Думаю, что могу. Надеюсь.
— Я все передам отцу. Все в точности, как ты сказал. Он этим займется.
— Нэнси. Ты не беспокойся. Все обойдется.
— Ну, конечно. До скорой встречи!
— Пока! Спасибо, что позвонила.
— Спасибо, телефон, — сказал я Тапперу.
Таппер поднял руку и погрозил мне пальцем.
— Брэд завел себе девчонку, — нараспев протянул он. Брэд завел себе девчонку.
Мне стало досадно.
— А я думал, ты никогда не подслушиваешь, — сказал я.
— Завел себе девчонку! Завел себе девчонку!
Он разволновался и так и брызгал слюной.
— Хватит! — заорал я. — Заткнись, не то я тебе шею сверну!
Он понял, что я не шучу, и замолчал.
14
Я проснулся. Вокруг была ночь — серебро и густая синева. Что меня разбудило? Я лежал на спине, надо мной мерцали частые звезды. Голова была ясная. Я хорошо помнил, где нахожусь. Не пришлось ощупью, наугад возвращаться к действительности. Неподалеку вполголоса журчала река; от костра, от медленно тлеющих ветвей тянуло дымком.
Что же меня разбудило? Лежу совсем тихо: если оно рядом, не надо ему знать, что я проснулся. То ли я чего — то боюсь, то ли жду чего — то. Но если и боюсь, то не слишком.
Медленно, осторожно поворачиваю голову — и вот она, луна: яркая, большая — кажется, до нее рукой подать, — всплывает над чахлыми деревцами, что растут по берегу реки.
Я лежу прямо на земле, на ровной, утоптанной площадке у костра. Таппер с вечера забрался в шалаш, свернулся клубком, так что ноги не торчали наружу, как накануне. Если он все еще там и спит, то без шума, из шалаша не доносится ни звука.
Слегка повернув голову, я замер и насторожился: не слышны ли чьи — то крадущиеся шаги? Но нет, все тихо. Сажусь.
Залитый лунным светом склон холма упирается верхним краем в темно — синее небо — это сама красота парит в тишине, хрупкая, невесомая… даже страшно за нее: вымолвишь слово, сделаешь резкое движение — и все рассыплется — тишина, небо, серебряный откос, все разлетится тысячами осколков.
Осторожно поднимаюсь на ноги, стою посреди этого хрупкого, ненадежного мира… Что же все — таки меня разбудило?
Тишина. Земля и небо замерли, словно на мгновенье привстали на цыпочки — и мгновенье остановилось. Вот оно застыло, настоящее, а прошлого нет и грядущего не будет здесь никогда не прозвучит ни тиканье часов, ни вслух сказанное слово…
И вдруг надо мной что — то шевельнулось — человек или что — то похожее на человека бежит по гребню холма, легко, стремительно бежит гибкая, стройная тень, совсем черная на синеве неба.
Бегу и я. Взбегаю по косогору, сам не знаю, почему и зачем. Знаю одно: там — человек или кто — то подобный человеку, я должен встретить его лицом к лицу; быть может, он наполнит новым смыслом эту заросшую цветами пустыню, этот край безмолвия и хрупкой, неверной красоты; быть может, благодаря ему здесь, в новом измерении, в чужом пространстве и времени для меня что — то прояснится и я пойму, куда идти.
Неведомое существо все так же легко бежит по вершине холма, я пытаюсь его окликнуть, но голоса нет — остается бежать вдогонку.
Должно быть, оно меня заметило: оно вдруг остановилось, круто обернулось и смотрит, как я поднимаюсь в гору. Сомнений нет, передо мною человеческая фигура, только на голове словно гребень или хохол, он придает ей что — то птичье — как будто на человеческом теле выросла голова попугая.
Задыхаясь, бегу к этой странной фигуре, и вот она начинает спускаться мне навстречу — спокойно, неторопливо, с какой — то безыскусственной грацией.
Я остановился и жду, и стараюсь отдышаться. Бежать больше незачем. Странное существо само идет ко мне.
Оно подходит ближе, тело у него совсем черное, в темноте толком не разглядеть, видно лишь, что хохол на голове то ли белый, то ли серебряный. В лунном свете не разберешь белый или серебряный.
Я немного отдышался и вновь начинаю подниматься в гору, навстречу непонятному существу. Мы медленно подходим друг к другу — наверно, каждый боится каким — нибудь резким движением спугнуть другого.
Оно останавливается в десяти шагах от меня, я тоже останавливаюсь — теперь я уже ясно вижу: оно сродни человеку. Это женщина — нагая или почти нагая. Под луной сверкает странное украшение у нее на голове, не понять — то ли это и вправду какой — то хохол, то ли причудливая прическа, а может, и головной убор.
Хохол — белый, а все тело совершенно черное, черное как смоль, от луны на нем играют голубоватые блики. И такая в нем настороженная гибкость и проворство, такая неукротимая радость жизни, что дух захватывает!
Она заговорила со мной. Ее речь — музыка, просто музыка, без слов.
— Простите, — сказал я. — Не понимаю.
Она снова заговорила, ее голос прозвенел в серебряно — синем мире хрустальной струйкой, звонким фонтаном живой мысли, но я ничего не понял. Неужели, неужели никому из людей моей Земли не постичь речи без слов, языка чистой музыки? А может быть, эту речь и не нужно понимать логически, как мы понимаем слова?
Я покачал головой — и она засмеялась, это был самый настоящий человеческий смех: негромкий, но звонкий, полный радостного волнения.
Она протянута руку, сделала несколько быстрых шагов мне навстречу, и я взял протянутую руку. И тотчас она повернулась и легко побежала вверх по косогору, увлекая меня за собой. Мы добежали до вершины и, все так же держась за руки, помчались вниз с перевала — стремглав, безоглядно, неудержимо! Нас подхватила сумасбродная молодость, нам кружил головы лунный свет и неизбывная радость бытия.
Мы были молоды и пьяны от странного, беспричинного счастья, от какого — то неистового восторга, — по крайней мере, так пьян был я.
Сильная, гибкая рука крепко сжимает мою руку, мы бежим так дружно, так согласно, мы двое — одно; мне даже чудится, что каким — то странным, пугающим образом я и вправду стал лишь частицей ее и знаю, куда мы бежим и зачем, но все мысли путает та же неукротимая, ликующая радость, и я не могу перевести это неведомо откуда взявшееся знание на язык ясных мне самому понятий.
Добежали до ручья, пересекли его, взметнув фонтаны брызг, обогнули насыпь, где я днем нашел черепа, взбежали на новый холм — и на вершине его застали целую компанию.
Тут расположились на полуночный пикник еще шесть или семь таких же созданий, как моя спутница. На земле раскиданы бутылки и корзинки с едой — или что — то очень похожее на бутылки и корзинки, — и все они образовали круг. А по самой середине этого круга лежит, поблескивая серебром, какой — то прибор или аппаратик чуть побольше баскетбольного мяча.
Мы остановились на краю круга, и все обернулись и посмотрели на нас, но посмотрели без малейшего удивления, словно это в порядке вещей — что одна из них привела с собою чужака.
Моя спутница что — то сказала своим певучим голосом, и так же напевно, без слов ей ответили. Все смотрели на меня испытующе, дружелюбно.
А потом они сели в круг, только один остался на ногах он шагнул ко мне и знаком предложил присоединиться к ним.
Я сел, по правую руку села та, что прибежала со мною, по левую — тот, кто пригласил меня в круг.
Наверно, это у них вроде праздника или воскресной прогулки, а может быть, и что — то посерьезнее. По лицам и позам видно: они чего — то ждут, предвкушают какое — то событие. Они радостно взволнованы, жизнь бьет в них ключом, переполняет все их существо.
Теперь видно, что они совершенно нагие и, если бы не странный хохол на голове, вылитые люди. Любопытно, откуда они взялись. Таппер сказал бы мне, если бы здесь жил такой народ. А он уверял, что на всей планете живут одни только Цветы. Впрочем, он обмолвился, что иногда тут появляются гости.
Может быть, эти черные хохлатые создания и есть гости? Или они — потомки тех, чьи останки я отыскал там, на насыпи, и теперь, наконец, вышли из какого — то тайного убежища? Но нет, совсем не похоже, чтобы они когда — либо в своей жизни скрывались и прятались.
Странный аппаратик по — прежнему лежит посреди круга. Будь мы на воскресной прогулке в Милвилле, вот так посередине поставили бы чей — нибудь проигрыватель или транзистор. Но этим хохлатым людям музыка ни к чему, самая их речь — музыка, а серебристый аппарат посреди круга очень странный, я никогда в жизни ничего похожего не видел. Он круглый и словно слеплен из множества линз, каждая стоит немного под углом к остальным, каждая блестит, отражая лунный свет, и весь этот необыкновенный шар ослепительно сияет.
Сидящие в кругу принялись открывать корзинки с едой и откупоривать бутылки, и я встревожился. Мне, конечно, тоже предложат поесть, отказаться неловко — они так приветливы, а разделить с ними трапезу опасно. Хоть они и подобны людям, организм их, возможно, существует на основе совсем иного обмена веществ, их пища может оказаться для меня ядом.
Казалось бы, пустяк, но решиться не так — то просто. Что же делать, как поступить? Пусть их еда мерзкая, противная уж как — нибудь я справлюсь, не покажу виду, что тошно, и проглочу эту дрянь, лишь бы не обидеть новых друзей. Ну, а вдруг отравишься насмерть?
Только недавно я уверял себя, что, как бы ни опасны казались Цветы, надо пустить их на нашу Землю, надо всеми силами добиваться взаимопонимания и как — то уладить возможные разногласия. Я говорил себе: от того, сумеем ли мы поладить с первыми пришельцами из чужого мира, быть может, зависит будущее человечества. Ибо настанет время — все равно, через сто лет или через тысячу, — когда мы встретимся еще и с другими разумными существами — жителями иных миров, и нельзя нам в первый же раз не выдержать испытания.
А здесь со мною уселись в кружок представители иного разума — и не может быть для меня других правил, чем для всего человечества в целом. Надо поступать так, как должен бы, на мой взгляд, поступать весь род людской, — а стало быть, раз угощают, надо есть.
Наверно, я рассуждал не так связно. Неожиданности сыпались одна за другой, я не успевал опомниться. Оставалось решать мгновенно — и надеяться, что не ошибся.
Но мне не пришлось узнать, верно ли я решил: по кругу еще только начали передавать еду, как вдруг из сверкающего шара послышалось мерное тиканье — не громче, чем тикают в пустой комнате часы, но все мигом вскочили и уставились на шар.
Я тоже вскочил и тоже во все глаза смотрел на странный аппарат; про меня явно забыли, все внимание приковано было к этому блестящему мячу.
А он все тикал, блеск его замутился и светящаяся мгла поползла от него вширь, как стелются по прибрежным лугам речные туманы.
Нас обволокло этой светящейся мглой, и в ней стали складываться странные образы — сперва зыбкие, расплывчатые… понемногу они сгущались, становились отчетливей, хотя так и не обрели плоти; словно во сне или в сказке, все было очень подлинное, зримое, но в руки не давалось.
И вот мгла рассеялась — или, может быть, просто мы больше ее не замечали, ибо она создала не только образы и очертания, но целый мир, и мы оказались внутри его, хотя и не участниками, а всего лишь зрителями.
Мы стояли на террасе здания, которое на Земле назвали бы виллой. Под ногами были грубо обтесанные каменные плиты, в щелях между ними пробивалась трава, за нами высилась каменная кладка стен. И однако стены казались неплотными, тоже какими — то туманными, словно театральная декорация, вовсе и не рассчитанная на то, что кто — то станет ее пристально разглядывать и пробовать на ощупь.
А перед нами раскинулся город — очень уродливый, лишенный и намека на красоту. Каменные ящики, сложенные для чисто практических надобностей; у строителей явно не было ни искры воображения, никаких стройных замыслов и планов, они знали одно: громоздить камень на камень так, чтобы получилось укрытие. Город был бурый, цвета засохшей глины, и тянулся, сколько хватал глаз — беспорядочное скопище каменных коробок, теснящихся как попало, впритык одна к другой, так что негде оглядеться и вздохнуть.
И все же он был призрачным, этот огромный, тяжеловесный город, ни на миг его стены не стали настоящим плотным камнем. И каменные плиты у нас под ногами тоже не стали настоящим каменным полом. Верней бы сказать, что мы парили над ними, не касаясь их, выше их на какую — то долю дюйма.
Было так, словно мы очутились внутри кинофильма, идущего в трех измерениях, фильм шел вокруг нас своим чередом, и мы знали, что мы — внутри него, ибо действие разыгрывалось со всех сторон, актеры же и не подозревали о нашем присутствии; и хоть мы знали, что мы здесь, внутри, мы в то же время чувствовали свою непричастность к происходящему: странным образом, объятые этим колдовским миром, мы все — таки оставались выключенными из него.
Сперва я просто увидел город, потом понял: город охвачен ужасом. По улицам сломя голову бегут люди, издали доносятся стоны, рыдания и вопли обезумевшей, отчаявшейся толпы.
А потом и город, и вопли — все исчезло в яростной вспышке слепящего пламени, оно расцвело такой нестерпимой белизной, что внезапно в глазах потемнело. Тьма окутала нас, и во всем мире не осталось ничего, кроме тьмы, да оттуда, где вначале расцвел ослепительный свет, теперь обрушился на нас громовой раскатистый грохот.
Я осторожно шагнул вперед, протянул руки. Они встретили пустоту, и я захлебнулся, похолодел, я понял — пустоте этой нет ни конца, ни края… да, конечно же, я в пустоте, я и прежде знал, что все это только мерещится, а теперь видения исчезли, и я вечно буду вслепую блуждать в черной пустоте.
Я не смел больше сделать ни шагу, не смел шевельнуться и стоял столбом… нелепо, бессмысленно, и все же я чувствовал, что стою на краю площадки и если ступаю еще шаг — полечу в пустоту, в бездонную пропасть.
Потом тьма начала бледнеть, и скоро в сером сумраке я снова увидел город — его сплющило, разбило вдребезги, придавило к земле, по нему проносились черные смерчи, метались языки пламени, кучи пепла — все кружилось в убийственном вихре разрушения. А над городом клубилось чудовищное облако, словно тысячи грозовых туч слились в одну. И из этой бешеной пучины исходило глухое рычание — свирепый голос смерти, страха, судьбы, яростный, леденящий душу вой самого Зла.
А вот и мои новые знакомцы — чернокожие, хохлатые, они застыли, оцепенели словно бы в страхе — и смотрят, смотрят… и кажется, их сковал не просто страх, а некий суеверный ужас.
Я стоял недвижно, как и они, точно окаменел, а меж тем грохот стихал. Над руинами вились струйки дыма — и когда, наконец, громовой рык умолк, стали слышны вздохи, хруст и треск: это рушились и оседали последние развалины. Но теперь уже не было воплей, жалобных стонов и плача. В городе не осталось ничего живого, ничто не двигалось, только рябь проходила по грудам мусора: они осыпались, укладывались все плот — нее, широким кольцом окружая совершенно ровную и голую черную пустыню, оставшуюся там, где впервые расцвел ослепительный свет.
Серая мгла рассеивалась, и город тоже таял. Там, где прежде расположилась компания хохлатых, в самой середине круга вновь поблескивал линзами странный шар. А самих хохлатых и след простыл. Только из редеющей серой мглы донесся пронзительный крик — но не крик ужаса, совсем не тот вопль, что слышался над городом перед тем, как взорвалась бомба.
Да, теперь понятно — у меня на глазах город был разрушен ядерным взрывом, я видел это словно на экране телевизора. И этим «телевизором» был, конечно, блестящий шар из линз. Это какой — то чудодейственный механизм, он вторгся во время и выхватил из прошлого роковое мгновенье истории.
Серая мгла окончательно рассеялась, вновь настала ночь, золотилась луна, сияла звездная пыль, серебряные склоны холмов мягкими изгибами сбегали к живому, переливчатому серебру ручья.
По дальнему склону мчались быстрые гибкие фигуры, в лунном свете серебрились хохлатые головы, они бежали во весь дух, оглашая ночь воплями притворного ужаса.
Я посмотрел им вслед и содрогнулся: что — то было в этом болезненное, извращенное, какой — то недуг, разъедающий душу и разум.
Я медленно обернулся к шару. Это снова был просто шар, слепленный из блестящих линз. Я подошел, опустился на колени и принялся его разглядывать. Да, он словно ощетинился множеством линз под равными углами, а в просветах между ними чуть виден какой — то механизм, но в слабом лунном свете его не рассмотреть.
Протянув руку, я опасливо коснулся шара. Он, видно, очень хрупкий, боязно его разбить, но не оставлять же его здесь. А мне он пригодится, и если я сумею унести его на Землю, он подтвердит то, что мне надо будет рассказать.
Я снял куртку, разостлал ее на ровном месте, бережно, обеими руками поднял шар и уложил на куртку. Подобрал ее края, обернул шар, завязал рукава, чтобы все это держалось прочно и надежно. Потом осторожно взял узел под мышку и поднялся на ноги.
Вокруг валялись бутылки и корзины, и я решил поскорей отсюда убраться: та компания, пожалуй, вернется за своей снедью и за этим аппаратом… Но пока их что — то не видно. Затаив дыхание, я прислушался — кажется, это их крики затихают где — то далеко — далеко…
Я спустился с холма, перешел вброд ручей и начал подниматься по противоположному склону. На полдороге мне повстречался Таппер — он шел меня искать.
— Я думал, ты заплутался, — сказал он.
— Встретил тут одну компанию, посидели немножко, — объяснил я.
— Это такие, с чудными хохолками на макушке?
— Да.
— Они мне приятели, — сказал Таппер. — Часто приходят. Они приходят пугаться.
— Пугаться?
— Ну да. Для потехи. Они любят пугаться.
Я кивнул: так и есть. Будто ребятишки подкрадываются к заброшенному дому, про который идет молва, что там водятся привидения: заглянут в окна, почудится им что — то, послышатся шаги — и вот они удирают со всех ног и визжат, напуганные ужасами, которые сами же и вообразили. Забава эта никогда им не приедается, опять и опять они ищут страха, и он доставляет им странное удовольствие.
— Им весело живется, — сказал Таппер. — Веселей всех.
— Ты часто их встречал?
— Сто раз.
— Что ж ты мне не говорил?
— Не успел, — сказал Таппер. — Не пришлось к слову.
— А близко они живут?
— Нет. Очень далеко.
— Но на этой планете?
— На планете? — переспросил Таппер.
— Ну, в этом мире?
— Нет. В другом мире. В другом месте. Только это все равно. Для потехи они куда хочешь заберутся.
Стало быть, для потехи они готовы забраться куда угодно. В любое место. И, наверно, в любое время. Это упыри, вампиры, они сосут кровь времени, кормятся минувшим, наслаждаются былыми трагедиями и катастрофами, выискивают в истории человечества все самое гнусное и отвратительное. Вновь и вновь их тянет сюда — упиваться видом смерти и разрушения.
Кто они, эти извращенные души? Быть может, их мир завоеван Цветами, и теперь они, отмеченные печатью вырождения, рыщут по другим мирам, пользуясь теми же просветами, калитками во времени, что и сами завоеватели?
Впрочем, судя по всему, что я успел узнать, завоеватели — не то слово. Я ведь сам видел сейчас, что случилось с этим миром. Жителей его истребили не Цветы, нет: люди обезумели и совершили самоубийство. Скорее всего, этот мир был пустынен и мертв долгие годы, и лишь потом Цветы пробились сюда сквозь рубеж времени. Черепа, которые я нашел, должно быть, принадлежали тем, кто пережил катастрофу, — наверно, их уцелело немного и прожили они недолго, они были обречены, ибо взрыв отравил и почву, и воздух, и воду.
Итак, Цветы никого не покорили и не завоевали, просто им достался мир, утраченный прежними хозяевами в припадке безумия.
— Давно здесь поселились Цветы? — спросил я Таппера.
— Почему — поселились? Может, они всегда тут жили.
— Да нет, я просто так подумал. Они тебе про это не рассказывали?
— Я не спрашивал.
Ну, конечно, Таппер не спрашивал: ему не любопытно. Он попросту был рад и счастлив сюда попасть, тут он нашел друзей, которые с ним разговаривали и заботились о нем, и тут никто над ним не насмехался и ему не докучал.
Мы спустились к его жилью; луна передвинулась далеко на запад. Костер едва тлел, Таппер подбросил несколько сучьев и сел у огня. Я сел напротив, осторожно положил рядом завернутый в куртку шар.
— Что там у тебя? — спросил Таппер.
Я развернул куртку.
— Эта штука была у моих друзей. Ты ее украл.
— Они убежали, а эту штуку бросили. Я хочу посмотреть, что это такое.
— Она показывает разные другие времена, — сказал Таппер.
— Так ты это знаешь?
Он кивнул.
— Они мне много показывали… не много раз, а много разного другого времени. Не такое время, как наше.
— А ты не знаешь, как она действует?
— Они мне говорили, да я не понял.
Он утер подбородок, но без толку, пришлось вытирать еще раз.
«Они мне говорили», — сказал Таппер. Значат, он может с ними разговаривать. Он может разговаривать и с Цветами, и с племенем, у которого вместо слов — музыка. Бессмысленно его об этом расспрашивать, ничего путного он не скажет. Быть может, никто не сумеет объяснить эту его способность, во всяком случае, человеку ее не понять. Как это назвать, какие слова найти, чтобы мы поняли? У нас в языке и слов таких нет.
Шар лежал на моей куртке и мягко светился.
— Может, пойдем спать, — сказал Таппер.
— Я лягу немного погодя.
Лечь можно в любую минуту, как захочется, здесь это не хитрость: растянулся на земле — вот тебе и постель.
Я осторожно коснулся шара.
Аппарат, который проникает вглубь прошлого и помогает увидеть и услышать события, хранящиеся в скрытых пластах памяти пространства — времени… Чего только не сделаешь при помощи такого аппарата! Он стал бы бесценным оружием историков, исследователей минувших эпох. Он уничтожил бы преступность — ведь можно было бы раскрыть, извлечь из прошлого подробности любого преступления. Но какая это будет опасная сила, попади он в нечистые руки или во власть правительства…
Если только удастся, я возьму его с собой, лишь бы самому вернуться в Милвилл. Он будет вещественным доказательством, подтверждением всему, что я буду рассказывать… ну, хорошо, я все расскажу, предъявлю этот шар и мне поверят, а дальше что? Запереть его в сейф и уничтожить шифр, чтобы никто не мог до него добраться? Взять молоток и раздробить его в пыль? Отдать ученым? Что с ним делать?
— Ты этой штукой всю куртку измял, — сказал Таппер.
— Да она и так старая и мятая.
И тут я вспомнил про конверт с деньгами. Он лежал в нагрудном кармане и запросто мог выпасть, пока я бегал, как шальной, по холмам или когда заворачивал эту машинку времени.
Ах, болван, безмозглый осел! Так рисковать! Надо было заколоть карман булавкой, либо сунуть конверт в башмак, либо еще что — то придумать. Шутка ли, полторы тысячи долларов, такое не каждый день дается в руки.
Я наклонился, пощупал карман куртки — конверт был на месте, и у меня гора с плеч свалилась. Но тотчас я почуял неладное: конверт на ощупь совсем тоненький, а ведь в нем должна лежать пухлая пачка — тридцать бумажек по пятьдесят долларов.
Я выхватил конверт из кармана, открыл… он был пуст.
Нечего и спрашивать. Нечему удивляться. Все ясно. Ах ты, мерзкий слюнявый бездельник, недотепа, не знающий счета собственным пальцам… я тебя излуплю до полусмерти, я вытрясу из тебя эти деньги!
Я уже приподнялся, готовый взять Таппера за горло, как вдруг он заговорил со мной — и не своим голосом, а голосом красотки — дикторши с экрана телевизора.
— Таппер говорит сейчас от имени Цветов, — сказал этот кокетливый голосок. — А вы извольте сидеть смирно и ведите себя прилично.
— Ты меня не одурачишь, — огрызнулся я. — Нечего прикидываться, все равно не обманешь…
— Но с вами говорят Цветы! — резко повторил голос.
И правда, лицо у Таппера опять стало безжизненное, глаза остекленели.
— Так ведь он взял мои деньги, — сказал я. — Он их вытащил из конверта, пока я спал.
— Тише, тише, — промолвил мелодичный голосок. — Молчите и слушайте.
— Сперва я получу обратно свои полторы тысячи.
— Да, конечно. Вы получите гораздо больше, чем полторы тысячи.
— Вы можете за это поручиться?
— Ручаемся.
Я снова сел.
— Послушайте, — сказал я, — вам не понять, что значат для меня эти деньги. Конечно, отчасти я сам виноват. Надо было подождать, пока откроется банк, или припрятать их в каком — нибудь надежном местечке. Но такая заварилась каша…
— Только не волнуйтесь, — сказали Цветы. — Мы вернем вам деньги.
— Ладно, — сказал я. — А Тапперу непременно надо говорить таким голосом?
— Чем плох голос?
— А, черт… ну валяйте, говорите, как хотите. Мне надо с вами потолковать, может, придется и поспорить, выходит нечестно… ну, постараюсь помнить, с кем говорю.
— Хорошо, перейдем на другой, — сказали Цветы, и на полуслове голос переменился на уже знакомый мне мужской, деловитый.
— Большое спасибо, — сказал я.
— Помните, мы беседовали с вами по телефону и предлагали вам стать нашим представителем? — сказали Цветы.
— Конечно, помню. Но стать представителем…
— Нам очень нужен такой человек. Человек, которому мы доверяем.
— Да откуда вы знаете, что мне можно доверять?
— Знаем. Потому что вы нас любите.
— Послушайте, — сказал я, — с чего вы это взяли? Не понимаю…
— Ваш отец нашел тех из нас, кто погибал в вашем мире. Он взял нас к себе и стал о нас заботиться. Он оберегал нас, выхаживал, он нас полюбил — и мы расцвели.
— Все это мне известно.
— Вы — продолжение своего отца.
— Н — ну, не обязательно. Не в том смысле, как вы думаете.
— Нет, это так, — упрямо повторили Цветы. — Мы изучили человеческую биологию. Мы знаем о законах наследственности. Ваша пословица говорит: яблоко от яблони недалеко падает.
Что толку спорить. Их не переубедишь. У этого племени особая логика, соприкасаясь с нашей Землей, они собрали уйму сведений, кое — как их усвоили, кое — как осмыслили и сделали выводы. С их точки зрения, с точки зрения растительного мира вполне естественно и логично, что отпрыск растения почти неотличим от родителя. Бесполезно внушать им, что рассуждения, безусловно справедливые для них, отнюдь не всегда приложимы к людям.
— Ладно, — сказал я, — будь по — вашему. Вы убеждены, что можете мне доверять, и, пожалуй, так оно и есть. Но только скажу вам по совести: не могу я взяться за эту работу.
— Не можете?
— Вы хотите, чтобы я выступал от вашего имени перед людьми на Земле. Хотите сделать меня вашим посланником. Вашим посредником.
— Совершенно верно.
— Но меня этому не учили. Я не дипломат. Понятия не имею, как делаются такие дела. Просто не знаю, с какого конца за это браться.
— А вы уже взялись, — возразили Цветы. — Мы очень довольны вашими первыми шагами.
Я даже вздрогнул.
— Какими шагами?
— Ну, как же. Неужели вы не помните. Вы просили Джералда Шервуда с кем — нибудь переговорить. И еще подчеркнули: с кем — нибудь, кто облечен властью.
— Я просил об этом вовсе не ради вас.
— Но вы можете выступать от нашего имени. Нам необходимо, чтобы кто — то за нас объяснился.
— Давайте начистоту, — сказал я. — Как я могу за вас объясняться? Я же ничего о вас не знаю.
— Мы вам расскажем все, что вы хотите знать.
— Начать с того, что ваша родина не здесь.
— Вы правы. Мы прошли через многие миры.
— А люди… ну, не люди, разумные существа… разумные жители тех миров… что с ними сталось?
— Мы вас не поняли.
— Когда вы проникаете в какой — то новый мир и находите там мыслящих обитателей, что вы с ними делаете?
— Мы очень редко находим в других мирах разум… подлинный, высокоразвитый разум. Он развивается далеко не во всех мирах. Когда мы встречаемся с мыслящими существами, мы находим с ними общий язык. Сотрудничаем с ними. То есть, когда это удается.
— А если не удается?
— Пожалуйста, не поймите нас ложно, — попросили Цветы. — Раза два бывало так, что мы не могли установить контакт с мыслящими обитателями планеты. Они нас не слушали и не понимали. Мы остались для них просто одной из форм жизни, одним из… как это у вас называется?.. Одним из видов сорной травы.
— И что вы тогда делаете?
— Что же мы можем сделать?
Не очень — то прямой и честный ответ. Как я понимаю, они могут сделать очень многое.
— И вы идете все дальше?
— Дальше?
— Ну, из мира в мир. Из одного мира в другой. Когда вы думаете остановиться?
— Мы не знаем, — сказали Цветы.
— Какая у вас цель? Чего вы добиваетесь?
— Мы не знаем.
— Стоп, погодите. Вы уже второй раз говорите, что не знаете. Но вы должны знать…
— Сэр, а у вашего народа есть какая — то цель? Цель, к которой вы все сознательно стремитесь?
— Пожалуй, нет, — признался я.
— Значит, в этом мы равны.
— Да, верно.
— В вашем мире есть машины, которые называются электронным мозгом.
— Да. Их только недавно изобрели.
— Задача этих машин — собирать и хранить всевозможные сведения, устанавливать между ними связь и сообщать их, как только вам это понадобится.
— Тут еще много других задач. К примеру, исправлять устаревшие данные…
— Это сейчас неважно. Скажите нам, как вы определите цель такого электронного вычислителя?
— У него нет осознанной цели. Это ведь не живое существо, а машина.
— Ну, а если бы он был живой?
— Что ж, тогда, наверно, его конечной целью было бы собрать все факты и сведения о Вселенной и установить соотношение между ними.
— Пожалуй, вы правы, — сказали Цветы. — Так вот, мы живые вычислители.
— Тогда вашим странствиям не будет конца. Вы никогда не остановитесь.
— Мы в этом не уверены.
— Но…
— Собирать факты и сведения — это лишь средство, — веско произнесли Цветы. — Цель же одна: достичь истины. Быть может, чтобы достичь истины, нам вовсе не нужно собрать сведения обо всей Вселенной.
— А как вы узнаете, что достигли ее?
— Узнаем, — был ответ.
Я только рукой махнул. Так мы ни до чего не договоримся.
— Стало быть, вы хотите захватить нашу Землю, — сказал я.
— Вы очень неправильно и несправедливо выражаетесь. Мы не хотим захватить вашу Землю. Мы хотим получить доступ к вам, получить место, где можно поселиться, хотим сотрудничества и содружества. Мы поделимся друг с другом нашими познаниями.
— Дружная получится команда, — сказал а.
— Да, конечно.
— А потом?
— Мы вас не поняли.
— Ну вот, мы обменяемся знаниями, а потом что будет?
— Пойдем дальше, разумеется. В другие миры. И вы вместе с нами.
— Будем искать новые цивилизациях. И новые знания?
— Совершенно верно.
Очень у них все просто получается. А на самом деле это не так просто, не может быть просто. На свете все очень и очень непросто.
Толкуй с ними хоть месяц подряд, задавай еще и еще вопросы — и все равно не разберешь, что происходит, — разве что в самых общих чертах…
— Поймите одно, — сказал я. — Люди моей Земли не примут вас вот так, вслепую, не поверят на слово. Им надо точно знать, чего вы ждете от нас и чего нам ждать от вас. Им нужны доказательства, что мы и правда можем с вами сотрудничать.
— Мы во многих отношениях можем вам помочь, — ответили Цветы. — Нам вовсе не обязательно быть такими, как вы вас видите сейчас. Мы можем обратиться в любое растение, какое вам полезно. Можем создать для вас неисчерпаемые экономические ресурсы. Можем обратиться в привычные вам растения, на которых издавна строится ваше хозяйство, но только лучше, полноценнее. Мы дадим вам лучшую пищу, лучший строительный материал, лучшее волокно. Только скажите, какие растения вам нужны, с какими свойствами, — и мы в них обратимся.
— Как же так: вы согласны, чтобы мы вас ели, пилили на дрова, пряли и ткали из вас одежду? Вы не против?
Ответом было что — то очень похожее на вздох.
— Ну как вам объяснить? Вы съедите кого — то из нас — но мы остаемся. Вы спилите кого — то из нас — но мы остаемся. Мы все — одно, и наша жизнь едина, вам никогда не убить нас всех, не съесть нас всех. Наша жизнь — это наш мозг и нервная система, наши корни, луковицы, клубни. Ешьте нас, мы совсем не против, нам только важно знать, что мы вам помогаем. И мы можем стать не только такими растениями, которыми вы привыкли пользоваться в вашем хозяйстве. Мы можем обратиться в другие злаки и деревья, вы о таких и не слыхали. Мы можем приспособиться к любой почве, к любому климату. Можем расти всюду, где вы только пожелаете. Вам нужны различные лекарства и снадобья. Пусть ваши врачи и аптекари скажут, что вам требуется, и мы вам это дадим. Мы будем растениями на заказ.
— И ко всему еще поделитесь вашими знаниями.
— Совершенно верно.
— А что же мы дадим вам взамен?
— То, что знаете вы. Мы соединим все наши познания и сообща будем ими пользоваться. Вы поможете нам выразить себя, мы ведь лишены этой способности. Мы богаты знанием, но само по себе знание — мертвый груз, важно его применить. Мы жаждем, чтобы наши знания приносили пользу, жаждем сотрудничать с народом, который способен воспользоваться тем, что мы можем ему дать, только тогда мы обретем полноту бытия, сейчас нам недоступную. И, конечно, мы надеемся, что сообща мы с вами найдем лучший способ проникать через рубежи пространства — времени в новые миры.
— Вот вы накрыли Милвилл колпаком, куполом времени… для чего это?
— Мы хотели привлечь внимание вашего мира. Хотели дать вам знать, что мы существуем, что мы ждем.
— Так ведь можно было сказать это кому — нибудь из людей, с которыми вы общаетесь, а они бы передали всем. Да вы, наверно, кое — кому и говорили. Например, Шкалику Гранту.
— Да, ему мы говорили. И еще некоторым людям.
— Вот они бы и сказали всему свету.
— Кто бы им поверил? Подумали бы, что они… как это у вас говорят? Чокнутые.
— Да, правда, — согласился я. — Шкалика никто слушать не станет. Но есть же и другие.
— Мы можем установить контакт не со всяким человеком, а только с теми, у кого определенный склад ума. Мы понимаем мысли многих людей, но лишь очень немногие понимают нас. А прежде всего нас надо понять — только тогда вы нас узнаете и нам поверите.
— Что же, значит, вас понимают только разные чудаки?
— Да, по — видимому, так…
Если вдуматься, так оно и выходит. Самого большого взаимопонимания они достигли с Таппером Тайлером, а что до Шкалика — он, конечно, в здравом уме, но человеком почтенным, солидным членом общества его никак не назовешь.
Любопытно знать, а почему они связались со мной и с Джералдом Шервудом? Впрочем, это не одно и то же. Шервуд им полезен, он фабрикует для них телефоны, при его помощи они получают оборотный капитал для своих затей. Ну, а я? Неужели все дело в том, что о них заботился мой отец? Хорошо, если так…
— Ладно, — сказал я. — Кажется, понял. А что это была за гроза с ливнем из семян?
— Мы засеяли показательный участок, теперь вы своими глазами увидите, что мы можем изменяться, как хотим.
Где уж мне с ними тягаться. Что ни спрошу, у них на все найдется ответ.
Да, в сущности, разве я надеюсь до чего — то с ними договориться? Разве я, по совести, этого хочу? Кажется, в глубине души я хочу только одного: вернуться в Милвилл.
А может, это все Таппер? Может, и нет никаких Цветов? Может, просто — напросто, покуда он торчал тут десять лет, он со своими мозгами набекрень додумался до этакой хитрой шутки, затвердил ее, вызубрил и сейчас всех нас дурачит?
Нет, чепуха. Таппер — придурок, ему вовек такого не сочинить. Слишком это для него сложно. Не мог он додуматься до такой шутки, а если бы и додумался, не сумел бы ее разыграть. И потом, он ведь как — то очутился здесь, в этом непонятном мире, а за ним сюда попал и я, — этого никаким розыгрышем не объяснишь.
Я медленно поднялся на ноги, обернулся лицом к склону холма над нами — вот они темнеют в ярком лунном свете, несчетные лиловые цветы… а Таппер сидит на прежнем месте, только подался вперед, согнулся в три погибели и спит крепким сном, тихонько похрапывая.
Теперь они, кажется, пахнут сильнее, и лунный свет словно трепещет, и чудится — там, на склоне, скрывается Нечто. Я смотрел во все глаза… вот — вот, кажется, что — то различаю… но нет, все снова растаяло… и все — таки я знаю: Оно там.
Сама эта ночь таит в себе Лиловость. И я ощущаю присутствие Разума, он ждет только слова, найти бы это слово и он сойдет с холма, и мы заговорим, как двое друзей, нам больше не понадобится переводчик, мы сядем у костра и проболтаем всю ночь напролет.
Ты готов? — вопрошает Оно.
Так что же нужно — найти какое — то слово, или просто что — то должно пробудиться у меня в мозгу — что — то, рожденное Лиловостью и лунным светом?
— Да, — отвечаю, — я готов. Я сделаю все, что в моих силах.
Я наклонился, осторожно завернул шар из линз в куртку, зажал сверток под мышкой и двинулся вверх по косогору. Я знал: Оно там, наверху, Оно ждет… и меня пробирала дрожь. Может, и от страха, но чувство было какое — то другое, на страх ничуть не похожее.
Я поднялся туда, где ждало Оно, — и ничего не разглядел, но я знал, что Оно идет рядом со мною, бок о бок.
— Я тебя не боюсь, — сказал я.
Оно не ответило. Просто шло рядом. Мы перевалили через вершину холма и стали спускаться в ложбину — ту самую, где в другом мире находились цветник и теплицы.
Чуть левее, — без слов сказало То, что шло в ночи рядом со мною, — а потом прямо.
Я подался чуть левее, потом пошел прямо.
Еще несколько шагов, — сказало Оно.
Я остановился, оглянулся в надежде его увидеть… ничего! Если секундой раньше позади что — то было, оно уже исчезло.
На западе разинула золоченую пасть луна. В мире пустынно и одиноко; серебряный склон словно тоскует о чем — то. Иссиня — черное небо смотрит мириадами крохотных колючих глаз, они жестко, холодно поблескивают каким — то хищным блеском чужие, равнодушные.
По ту сторону холма у еле тлеющего костра дремлет человек, мой собрат. Ему там неплохо, ибо он наделен особым даром, которого у меня нет, — теперь — то я твердо знаю, что нет… ему довольно пожать руку (или лапу, или щупальце, или клешню) любого пришельца — и его вывихнутые мозги переведут прикосновение чужого разума на простой и понятный язык.
Я поглядел на разинутую пасть золоченой химеры — луны, содрогнулся, ступил еще два шага — и перешел из этого пустынного, тоскливого мира в свой сад.
15
По небу все еще неслись клочья облаков, закрывая луну. Бледная полоска на востоке предвещала зарю.
В окнах моего дома горел свет — стало быть, Джералд Шервуд и все остальные меня ждали. А слева от меня темнели теплицы и подле них, на фоне холма, точно призрак, смутно маячил высокий вяз.
Я направился было к дому — и тут цепкие пальцы ухватились за мои брюки. Вздрогнув, я опустил глаза — оказалось, я забрел в кусты.
Когда я в последний раз проходил по саду, никаких кустов здесь не было, только лиловые цветы. Но еще прежде, чем я нагнулся посмотреть, за что зацепился, мелькнула догадка.
Я присел на корточки, вгляделся — и в сером предутреннем свете увидел: цветов не стало. На месте лилового цветника растут невысокие кустики, лишь чуть повыше и пораскидистей тех цветов.
Сижу на корточках, смотрю, а внутри медленно холодеет: объяснение может быть только одно — эти кустики и есть цветы, каким — то образом те Цветы, жители другого мира, превратили мои здешние цветы в эти кустики. Но зачем, зачем?!
Значит, даже и здесь, у нас дома, они нас могут настичь. Даже здесь они вольны разыгрывать с нами свои шуточки и расставлять нам ловушки. Что им вздумается, то и сделают: они накрыли этот уголок нашей Земли куполом времени — и хоть они еще не вполне здесь хозяева, но уже вмешиваются в нашу жизнь.
Ощупываю одну ветку — на ней по всей длине набухли мягкие почки. Весенние почки, еще день — другой, и они лопнут, и проклюнется молодой лист. Весенние почки в разгар лета!
Но ведь я в них поверил. В те немногие последние минуты, когда Таппер умолк и задремал у костра, а на склоне холма появилось Нечто и поговорило со мною и проводило меня домой, — в те минуты я в них поверил.
Да полно, было ли там что — то на холме? Провожало ли оно меня? — спрашиваю себя теперь, обливаясь холодным потом.
Под мышкой у меня все еще осторожно прижат завернутый в куртку шар — «машинка времени»: вот он, талисман, ощутимое доказательство, что тот, другой мир не примерещился мне, а и вправду существует. Значит, надо верить.
Кстати, они говорили, что я получу свои деньги обратно, они за это ручались. И вот я вернулся домой, а полутора тысяч нет как нет.
Я встал, пошел было к себе — и тут же передумал. Повернулся и зашагал в гору, к дому доктора Фабиана. Не худо бы поглядеть, что происходит по другую сторону барьера. А те, кто ждет у меня дома, подождут еще немного.
С вершины холма я поглядел на восток. Там, далеко за окраиной Милвилла, протянулась яркая цепочка костров, вспыхивали фары сновавших взад и вперед автомобилей. Тонкий голубой палец прожектора медленно проводил по небу то вправо, то влево. А в одном месте, немного ближе к городу, горел огонь поярче. Тут, кажется, было особенно людно и оживленно.
Я пригляделся и увидал паровой экскаватор, а по обе стороны от него — черные горы свежевынутого грунта. До меня доносился приглушенный расстоянием металлический лязг: огромный ковш сваливал в стороне свою ношу, поворачивался, нырял в котлован и снова вгрызался в почву. Как видно, там пробуют подкопаться под барьер.
По улице с шумом и треском подкатила машина и свернула на дорожку к дому позади меня.
Доктор, подумал я. Видно, его подняли с постели ни свет ни заря, и теперь он возвращается от больного.
Я пересек лужайку, завернул за угол. Машина уже стояла на асфальте перед домом, из нее вылезал доктор Фабиан.
— Доктор, — окликнул я. — Это я, Брэд.
Он обернулся, близоруко прищурился.
— А — а, вернулся, — голос у него был усталый. — Там у тебя дома, знаешь, полно народу, тебя ждут.
Он так устал, что не удивился моему возвращению, он слишком измучился, ему было все равно.
Волоча ноги, он двинулся ко мне. До чего же он старый! Конечно, я и раньше знал, что наш доктор немолод, но он никогда не казался стариком. А тут я вдруг увидел, каков он сутулый, еле передвигает ноги, штаны болтаются, как на скелете, лицо изрезано морщинами…
— Я от Флойда Колдуэлла, — сказал он. — У Флойда был сердечный приступ… Такой крепыш, здоровяк — и вдруг на тебе, сердечный приступ.
— Как он сейчас?
— Я сделал, что мог. Надо бы положить его в больницу, нужен полный покой. А положить нельзя. Из — за этой стены я не могу отвезти его в больницу. Не знаю, Брэд, просто не знаю, что с нами будет. Сегодня утром миссис Дженсен должна была лечь на операцию. Рак. Она все равно умрет, но операция дала бы ей еще несколько месяцев жизни, может быть, даже год или два. А теперь ее в больницу не переправишь. Гопкинсы регулярно возили свою девочку на прием к специалисту, он ей очень помогал. Деккер — может, ты про него слышал. Великий мастер в своей области. Мы с ним когда — то начинали в одной клинике.
Он все стоял и смотрел на меня.
— Пойми, — продолжал он, — я не в силах им помочь. Кое — что я могу, но этого слишком мало. С такими больными мне не справиться, одному это не под силу. Прежде я отослал бы их к кому — нибудь, кто бы им помог. А теперь я бессилен. В первый раз в жизни я бессилен помочь моим больным.
— Вы принимаете это слишком близко к сердцу, — сказал я.
Он все смотрел на меня, лицо у него было бесконечно усталое и измученное.
— Не могу я иначе, — сказал он. — Они всегда на меня надеялись.
— А что со Шкаликом? Вы, верно, слышали?
Доктор Фабиан сердито фыркнул:
— Этот болван удрал.
— Из больницы?
— Откуда же еще? Улучил минуту, когда они там зазевались, потихоньку оделся и дал тягу. Уж такая это воровская душа, да и умом он тоже никогда не блистал. Его там ищут, но пока никаких следов.
— Домой потянуло, — сказал я.
— Естественно, — согласился доктор. — Послушай, а что это болтают, какие телефоны у него нашли?
Я пожал плечами:
— Хайрам говорил про какой — то телефон.
Старик поглядел на меня так, будто видел насквозь.
— А ты об этом ничего не знаешь?
— Почти что ничего.
— Нэнси говорила, будто ты побывал в каком — то другом мире. Это еще что за сказки?
— Нэнси вам сама говорила?
Доктор Фабиан покачал головой.
— Нет, это Шервуд сказал. И спрашивал меня, как быть. Он боялся об этом заговаривать — еще взбаламутишь весь Милвилл.
— И на чем порешили?
— Я ему посоветовал держать язык за зубами. Народ и так взбаламучен. Он только передал то, что ты говорил Нэнси про эти цветы. Надо ж было людям хоть что — то сказать.
— Понимаете, доктор, все очень чудно. Я и сам толком ничего не знаю. Не стоит об этом говорить. Лучше расскажите, что творится у нас, в Милвилле. Что там за костры?
— Воинские части. Вызваны солдаты. Милвилл окружен. Какая — то чертовщина, просто безумие. Мы не можем выбраться из Милвилла, и никто не может пробраться к нам, а они взяли и вызвали солдат. Что у них в голове, хотел бы я знать? На десять миль за барьером все население эвакуировано, кругом все время летают самолеты, и танки тоже прибыли. Сегодня утром пробовали взорвать барьер динамитом, толку никакого, разве что на лугу у Джейка Фишера теперь огромная яма. Только зря ухлопали свой динамит.
— Сейчас они пробуют подкопаться под барьер, — сказал я.
— Они много чего пробовали. Уже и вертолеты над нами летали, а потом пошли прямо вниз, на посадку. Думали, наверно, что Милвилл только кругом огорожен, а сверху нет. А оказалось, над нами и крыша есть. Валяли дурака целый день, разбили два вертолета, но все — таки выяснили, что это вроде купола. Он круглый и покрыл нас как крышкой. Такой, знаешь, колпак или пузырь. И еще эти ослы репортеры понаехали. Тоже целая армия. В газетах, по радио, по телевидению только и разговору, что про наш Милвилл.
— Как же, сенсация, — сказал я.
— Да, верно. А мне неспокойно, Брэд. Все держится на волоске. У людей слишком натянуты нервы. Все перепуганы, взвинчены. Любой пустяк может вызвать панику.
Он подошел ко мне совсем близко.
— Что ты думаешь делать, Брэд?
— Пойду домой. Меня там ждут. Пойдемте?
Доктор Фабиан покачал головой.
— Нет, я уже там был, а потом меня вызвали к Флойду. Я, знаешь, совсем вымотался. Пойду лягу.
Он повернулся и, тяжело волоча ноги, двинулся к дому, потом оглянулся.
— Будь поосторожнее, мальчик. Из — за этих цветов слишком много шуму. Говорят, если бы твой отец не стал их разводить, ничего бы не случилось. Многие думают, что твой отец затеял какое — то черное дело, а теперь и ты в него ввязался.
— Ладно, буду смотреть в оба, — сказал я.
16
Они сидели в гостиной. Едва я переступил порог кухни, меня увидел Хайрам Мартин и заорал во все горло:
— Вот он!
Вскочил, ринулся в кухню, но на полдороге остановился и посмотрел на меня, как кошка на мышь.
— Долгонько ты валандался, — изрек он.
Я не стал отвечать. Молча положил завернутый в куртку аппаратик на кухонный стол. Край куртки отвалился, и под висячей лампой засверкали торчащие во все стороны линзы. Хайрам попятился.
— Что это? — спросил он.
— Это я прихватил с собой. По — моему, это машина времени.
На газовой плите на слабом огне стоял кофейник. В раковине громоздились немытые кофейные чашки. Жестянка с сахаром открыта, сахар рассыпан по столу.
Из гостиной в кухню повалил народ — я и не думал, что их тут столько набралось.
Нэнси обошла Хайрама и стала передо мной. И положила руку мне на плечо.
— Целый и невредимый, — сказала она.
— Отделался легким испугом, — ответил я.
До чего она хорошо! Я и не помнил, что она такая красивая — еще красивее, чем была в школе, в дни, когда в моих глазах ее окутывала звездная дымка. Вот она, совсем рядом еще красивей, чем ее рисовала моя память.
Я шагнул к ней, обнял за плечи. На миг она прислонилась головой к моему плечу, потом снова выпрямилась. Теплая, нежная… нелегко от нее оторваться, но все смотрели на нас и ждали.
— Я кое — кому звонил, — сказал Джералд Шервуд. — Сюда едет сенатор Гиббс, он тебя выслушает. С ним едет кто — то из госдепартамента. За такой короткий срок я больше ничего не мог сделать, Брэд.
— И это сойдет, — сказал я.
Я стоял у себя в кухне, и рядом была Нэнси, а вокруг все знакомое, привычное, огонь лампы повлек в свете ранней зари, — и теперь тот, другой мир словно отступил куда — то далеко, черты его смягчились, и если даже в нем таилась угроза, она то же как бы поблекла.
— Ты мне вот что скажи, — выпалил Том Престон, — что за чепуху Джералд рассказывает про цветы, которые разводил твой отец?
— Да — да, — поддержал мэр Хигги Моррис, — при чем тут цветы?
Хайрам ничего не сказал, только злобно усмехнулся, в упор глядя на меня.
— Джентльмены, — воззвал адвокат Николс, — так не годится. Справедливость прежде всего. Сначала пусть Брэд расскажет нам все, что знает, а потом будете задавать вопросы.
— Что бы он ни сказал, все важно: мы ведь совсем ничего не знаем, — поддержал Джо Эванс.
— Ладно, — сказал Хигги. — Послушаем.
— Сперва пускай объяснит, что это у него за штука на столе, — заявил Хайрам. — Может, она опасная. Может, это бомба.
— Я не знаю, что это такое, — сказал я. — Но оно связано со временем. Оно как — то управляет временем. В общем, это фотоаппарат времени, машина времени — называйте как хотите.
Том Престон пренебрежительно фыркнул, а Хайрам опять злобно ощерился.
Все это время в дверях стояли рядом отец Фленеген, единственный в нашем городе католический священник, и пастор Сайлас Мидлтон из церкви через дорогу. Теперь старик Фленеген заговорил — так тихо, что едва можно было расслышать; голос его был слаб, как поблекший свет лампы и первые лучи рассвета.
— Я меньше всего склонен думать, будто кто — либо может управлять временем, а цветы как — то причастны к тому, что случилось у нас в Милвилле. И то и другое в корне противоречит всем моим понятиям и убеждениям. Но, в отличие от некоторых из вас, я готов сначала выслушать, а уже потом судить.
— Постараюсь вам все выложить, — сказал к. — Постараюсь рассказать подряд все, как было.
— Тебя разыскивал по телефону Элф Питерсон, — перебила Нэнси. — Он звонил раз десять.
— А свой номер он оставил?
— Да, вот я записала.
— Элф обождет, — сказал Хигги. — Сперва послушаем, что ты там припас.
— Пожалуй, и правда не стоит откладывать в долгий ящик, — сказал Джералд Шервуд. — Пройдемте в гостиную, там будет удобнее.
Мы все перешли в гостиную и уселись.
— Ну, приятель, — любезнейшим тоном сказал Хигги, — валяй начистоту.
Я готов был его придушить. И, думаю, встретясь со мной взглядом, он отлично это понял.
— Мы будем тише воды, ниже травы, — пообещал он. — Валяй выкладывай, мы слушаем.
Я подождал, пока все утихли, и сказал:
— Начну вот с чего. Вчера утром, когда моя машина разбилась, я пришел домой и застал Таппера Тайлера, он качался у меня на качелях.
Хигги так и подскочил.
— Да ты спятил! — заорал он. — Таппер уже десять лет как пропал без вести!
Хайрам тоже вскочил.
— Я ж тебе говорил, что Том разговаривал с Таппером, а ты меня поднял на смех! — взревел он.
— Тогда я тебе соврал, — сказал я. — Поневоле пришлось соврать. Я не понимал, что происходит, а ты пристал с ножом к горлу.
— Значит, ты признаешь, что солгал, Брэд? — переспросил преподобный Сайлас Мидлтон.
— Ну, ясно. Эта горилла приперла меня к стене и…
— Если раз соврал, так и еще соврешь! — визгливо крикнул Том Престон. — Как же тебе верить? Мало ли чего ты нарасскажешь.
— Не хочешь — не верь, — сказал я. — Мне плевать.
Все опять уселись и молча смотрели на меня. Конечно, это было ребячество, но уж очень они меня допекли.
— Я предложил бы начать сначала, — заговорил отец Фленеген. — Давайте все сделаем героическое усилие и постараемся вести себя пристойно.
— Да, я тоже попрошу, — угрюмо сказал Хигги. — Сидите и помалкивайте.
Я обвел взглядом комнату — никто не произнес ни слова. Джералд Шервуд серьезно кивнул мне. Я перевел дух.
— Пожалуй, мне надо начать еще раньше, — сказал я. — С того дня, когда Том Престон прислал Эда Адлера снять у меня телефон.
— Ты задолжал за три месяца! — взвизгнул Престон. — Ты даже не позаботился…
— Том! — одернул адвокат Николс.
Том надулся и замолчал.
И я стал рассказывать все подряд — про Шкалика Гранта, про телефон без диска, оказавшийся у меня в конторе, про работу, о которой говорил мне Элф Питерсон, про то, как я ездил к Шкалику домой. Умолчал только о Джералде Шервуде и о том, что он — то и выпускает эти телефоны. Почему — то я чувствовал, что говорить об этом я не вправе.
— Есть вопросы? — сказал я затем.
— Вопросов очень много, — отозвался адвокат Николс. Но вы уж расскажите все до самого конца, а потом будут вопросы. Никто не возражает?
— Я не против, — проворчал Хигги Моррис.
— А я против! — вскинулся Престон. — Джералд поминал, что Нэнси разговаривала с Брэдом. А как это ей удалось, спрашивается? Тоже, конечно, по такому телефончику?
— Да, — сказал Шервуд. — У меня много лет стоит такой телефон.
— Вы мне про это не говорили, Джералд, — сказал Хигги.
— К слову не пришлось, — коротко ответил Шервуд.
— Видно, тут еще много всякого творилось, а мы и не подозревали, черт подери, — сказал Престон.
— Безусловно, вы правы, — промолвил отец Фленеген. Но, мне кажется, этот молодой человек только еще начал свою повесть.
И я продолжал. Старался рассказать всю правду, припомнить все подробности.
Наконец я договорил. Минуту — другую никто не двигался, быть может, все они были поражены, ошеломлены, быть может, поверили не каждому слову, но чему — то все — таки поверили.
Отец Фленеген неловко пошевелился на стуле.
— Молодой человек, — промолвил он, — а вы вполне уверены, что это была не галлюцинация?
— Я принес оттуда машину времени, вот она. Сами видите.
— Да, нельзя не признать, что происходит много странного, — раздумчиво сказал Николс. — В конце концов, то, что рассказал нам Брэд, не более удивительно, чем барьер вокруг Милвилла.
— Временем никто управлять не может! — закричал Престон. — Время — ведь это же… ведь оно…
— Вот то — то! — сказал Шервуд. — Никто не знает, что это за штука — время. И еще много есть в мире всякого, о чем мы ничего не знаем. Взять, например, тяготение. Ни один человек на свете не может объяснить, что это такое.
— Не верю ни одному слову, — отрезал Хайрам. — Просто Брэд где — то прятался…
— Мы прочесали весь город, — возразил Джо Эванс. — Негде ему было спрятаться.
— В сущности, какое это имеет значение — верим мы Брэду или не верим, — заметил отец Фленеген. — Поверят ли ему те, кто едет к нам из Вашингтона, — вот что важно.
Хигги выпрямился на стуле.
— Вы говорили, к нам едет Гиббс? — переспросил он Шервуда. — И еще кого — то везет?
— Да, с ним кто — то из госдепартамента.
— А что он сказал, Гиббс?
— Что выезжает немедленно. Что разговор с Брэдом будет только предварительный. А потом он вернется в Вашингтон и обо всем доложит. Он сказал, может быть, тут вопрос не только государственного значения. Может быть, это придется решать в международном масштабе. Пожалуй, Вашингтон должен будет посовещаться с правительствами других стран. Он стал спрашивать у меня подробности. А я только и мог сказать, что у нас в Милвилле один человек хочет сообщить чрезвычайно важные сведения.
— Эти приезжие, наверно, будут ждать нас по ту сторону барьера. Скорей всего, на шоссе, с восточной стороны.
— Да, наверно, — согласился Шервуд. — Мы точно не условились. Сразу по приезде он мне позвонит откуда — нибудь из — за барьера.
— По правде сказать, — Хигги доверительно понизил голос, — если только не стрясется никакой беды, можно считать, что нам крупно повезло. Шутка ли, прославились всем на зависть, ни у одного города сроду не было такой рекламы! Да теперь лет десять от туристов отбою не будет, всякому захочется на нас поглядеть, похвастать, что побывал в Милвилле!
— Если все, что говорит Брэд, верно, то можно ожидать последствий куда более серьезных, чем наплыв туристов, — заметил отец Фленеген.
— Да, конечно, — подхватил Сайлас Мидлтон. — Ведь это значит, что мы встретились с иным разумом. Как мы справимся, будем ли на высоте, — может быть, это вопрос жизни и смерти. Я хочу сказать, не только для нас, милвиллцев. От этого может зависеть жизнь или смерть всего человечества.
— Да вы что? — заверещал Престон. — Неужели, по — вашему, какая — то трава, какие — то несчастные цветы…
— Болван, — оборвал Шервуд. — Пора бы понять, что это не просто цветы.
— Вот именно, — поддержал Джо Эванс. — Не просто цветы, а совсем иная форма жизни. Не животной, а растительной жизни: мыслящие растения.
— И вдобавок они накопили кучу знаний, переняли их в разных других мирах, — прибавил я. — Они знают много такого, о чем мы никогда и не задумывались.
— Не понимаю, чего нам бояться, — упрямо гнул свое Хигги. — Неужто мы не справимся с какой — то сорной травой? Опрыскать их чем — нибудь поядовитее, только и всего…
— Если мы вздумаем их уничтожить, это будет не так легко, как ты воображаешь, — сказал я. — Но еще вопрос, надо ли их уничтожать?
— А что ж, по — твоему, пускай приходят и забирают нашу Землю?
— Не забирают. Пускай приходят и живут с нами в дружбе, будем друг другу помогать.
— А барьер? — заорал Хайрам. — Про барьер забыли?
— Никто ничего не забыл, — сказал Николс. — Барьер только часть нашей задачи. Нужно решить задачу в целом, а заодно и с барьером уладится.
— Тьфу, пропасть, послушать всех вас, так подумаешь, вы и впрямь поверили этой ерунде, — простонал Том Престон.
— Может быть, мы и не всему поверили, — возразил Сайлас Мидлтон, — но то, что рассказал Брэд, придется принять за рабочую гипотезу. Я не говорю, что каждое его слово непогрешимая истина. Возможно, он чего — то не понял, ошибся, что — то перепутал. Но пока это единственные сведения, на которые мы можем опереться.
— Не верю ни единому слову, — отрезал Хайрам. — Тут какой — то гнусный заговор, и я…
Громко, на всю комнату зазвонил телефон. Шервуд снял трубку.
— Тебя, — сказал он мне. — Это опять Элф.
Я подошел и взял трубку.
— Здорово, Элф.
— Я думал, ты мне позвонишь, — сказал Элф. — Ты обещал позвонить через часок.
— Я тут влип в одну историю.
— Меня выставили из мотеля, — сказал Элф. — Всех переселяют. Я теперь в гостинице возле Кун Вэли. Гостиница препаршивая, я уж хотел перебраться в Элмор, только сперва надо бы потолковать с тобой.
— Вот хорошо, что ты меня дождался. Мне нужно тебя кое о чем порасспросить. Насчет той лаборатории в Гринбрайере.
— Валяй, спрашивай.
— Какие вы там задачки решаете?
— Да самые разные.
— А они имеют касательство к растениям?
— К растениям?
— Ну да. Что — нибудь про цветы, сорняки, про овощи.
— А, понятно. Дай — ка сообразить. Да, бывало и такое.
— Например?
— Да вот хотя бы может ли растение мыслить?
— И к какому выводу ты пришел?
— Ну, знаешь, Брэд!
— Послушай, Элф, это очень важно.
— Ладно, изволь. Сколько я ни думал, вывод один: это невозможно. Нет такой движущей силы, которая побуждала бы растение мыслить. У него нет причины стать разумным. А если бы оно и стало мыслить, оно бы от этого не выиграло. Растение не может воспользоваться разумом и знаниями. У него нет никакой возможности их применить. Оно для этого не приспособлено, само строение не то. Пришлось бы ему заиметь чувства, которых у него нет, чтобы полнее воспринимать окружающее. Пришлось бы заиметь мозг — хранилище знаний и мыслительный механизм. Задача очень простая, Брэд, стоит вдуматься и ответ напрашивается сам собой. Растение никогда и не попытается мыслить. Причины я определил не сразу, но, когда разобрался, все получилось очень ясно и убедительно.
— И это все?
— Нет, была и еще задачка. Разработать верный, безошибочный способ истребления вредных сорняков, причем таких, которые легко прививаются в любых условиях и быстро приобретают иммунитет ко всему, что для них губительно.
— Тут, наверно, ничего не придумаешь, — сказал я.
— Да нет, одна возможность все — таки есть. Только малоприятная.
— Какая же?
— Радиация. Но если сорняк и правда очень выносливый и легко приспосабливается, так и это, пожалуй, не вполне надежное средство.
— Значит, растение с таким решительным нравом никак не истребишь?
— По — моему, никакого средства нет… это свыше сил человеческих. Слушай, Брэд, а к чему ты клонишь?
— Пожалуй, мы сейчас как раз в таком положении.
И я наскоро рассказал ему кое — что о Цветах. Элф присвистнул.
— А ты все как следует понял? — спросил он.
— Право, не знаю, Элф. Вроде понял все, но наверняка сказать не могу. То есть Цветы там живут, это точно, но…
— В Гринбрайере нам задавали еще один вопрос. Очень подходящий к тому, что ты рассказываешь. Дескать, как бы вы встретили пришельцев из другого мира и как бы установили с ними отношения. Значит, по — твоему, наша лаборатория работает на них?
— А на кого же? И заправляют ею те же люди, которые делают эти самые телефоны.
— Мы же так и подумали. Помнишь, когда барьер двинулся и мы с тобой говорили по телефону.
— Слушай, Элф, а как вы ответили на тот вопрос? Насчет встречи с пришельцами?
Элф как — то принужденно засмеялся.
— Отвечали на тысячу ладов. Встречать можно по — разному, смотря что за пришельцы. И тут есть известная опасность.
— А больше ты ничего не помнишь? В смысле — никаких других задач и вопросов?
— Нет, не припомню. Ты мне расскажи еще, что у вас происходит.
— И рад бы, да не могу. У меня тут полно народу. А ты сейчас едешь в Элмор?
— Ага. Как доберусь туда позвоню тебе. Ты будешь дома?
— Куда же я денусь.
Пока я говорил с Элфом, в комнате все как воды в рот набрали. Сидели и слушали. Но едва я положил трубку, Хигги выпрямился и скорчил важную мину.
— Я полагаю, — начал он, — пора бы нам пойти встречать сенатора. Пожалуй, мне следует назначить комиссию по приему высокого гостя. Разумеется, в нее войдут все здесь присутствующие и, может быть, еще человек шесть. Доктор Фабиан и, скажем…
— Одну минуту, мэр, — прервал Шервуд. — Приходится напомнить, что это касается не только Милвилла и сенатор едет к нам не с визитом. Тут нечто более важное и совершенно неофициальное. Сенатору нужно поговорить только с одним человеком — с Брэдом. Брэд — единственный, у кого есть необходимые сведения и…
— Но я только хочу… — не выдержал Хигги.
— Все мы знаем, чего вы хотите, — прервал Шервуд. — А я хочу подчеркнуть, что если Брэду нужна в помощь какая — либо комиссия, так пусть он сам ее и подбирает.
— Но мой служебный долг… — бубнил наш мэр.
— В данном случае ваш служебный долг ни при чем, — отрезал Шервуд.
— Джералд! — вскинулся Хигги. — Я старался сохранить о вас наилучшее мнение. Я уверял себя…
— Послушайте, мэр, бросьте вы ходить вокруг да около, мрачно заявил Престон. — Давайте без дураков. Тут что — то нечисто, заговор какой — то, какие — то темные дела. Ясно, что замешан Брэд, и замешан Шкалик, и…
— Если вы так уверены, что тут заговор, значит, и я замешан, — вставил Шервуд. — Это мои телефоны.
Хигги даже поперхнулся:
— Что — о?!
— Это мои телефоны. Их выпускает моя фабрика.
— Так вы с самого начала все знали?
Шервуд покачал головой:
— Ничего я не знал. Я только выпускал телефоны.
Хигги без сил откинулся на спинку стула. Он сжимал и разжимал руки и смотрел на них невидящими глазами.
— Не понимаю, — бормотал он. — Хоть убейте, ничего не понимаю.
А по — моему, он отлично все понял. Впервые до него дошло, что тут не просто какое — то чудо природы, которое понемногу сойдет на нет, сослужив Милвиллу отличную службу: такая реклама для туристов, каждый год тысячами будут съезжаться любопытные… Нет, впервые мэр Хигги Моррис осознал, что перед Милвиллом и перед всем миром встала задача, которую не разрешить при помощи простого ведении или на заседании Торговой палаты.
— Одна просьба, — сказал я.
— Чего тебе? — отозвался Хигги.
— Верните мне телефон. Тот, который стоял у меня в конторе. Тот самый, без диска.
Мэр поглядел на Хайрама.
— Ну, нет, — заявил Хайрам. — Не отдам я ему этот телефон. Он уже и так здорово напакостил.
— Хайрам, — только и сказал мэр.
— А, ладно, — буркнул Хайрам. — Пускай подавится.
— Мне думается, все мы поступаем весьма неразумно, заговорил отец Фленеген. — Я предложил бы обсудить все, что произошло, спокойно и обстоятельно, по порядку. Только таким образом можно было бы…
Его прервало тиканье — громкое, зловещее, оно разносилось по всему дому, словно отбивая такт шагам самого рока. И тут я понял, что тиканье это началось уже давно, но сперва оно было тихое, чуть слышное, и я смутно удивлялся — что бы это могло быть.
А теперь, от удара к удару, оно становилось все громче, резче, и пока мы слушали, оцепенев, ошеломленные, испуганные, тиканье переросло в гул, в мощный рев…
Мы в страхе повскакали на ноги, в раскрытую дверь видно было: стены кухни озаряются и гаснут, словно там то включают, то выключают слепящие фары, — комнату заливал нестерпимо яркий свет, на миг погасал и вспыхивал вновь.
— Так я и знал! — взревел Хайрам и кинулся к двери. — Я сразу понял, это вроде бомбы!
Я бросился за ним с криком:
— Берегись. Не тронь!
Это была «машина времени». Она взлетела со стола и парила в воздухе, в ней, мерно пульсируя, нарастала какая — то неведомая, огромная энергия, воздух полнился мощным гудением. На столе валялась моя измятая куртка.
Я ухватил Хайрама за локоть и пытался удержать, но он вырвался и уже тащил из кобуры револьвер.
Ярко вспыхнув, шар взмыл кверху. Вот — вот ударится о потолок — и хрупкие линзы разлетятся в пыль.
— Не надо! — крикнул я.
Шар ударился о потолок, но не разбился. Ни на миг не замедляя полета, он прошел сквозь потолок. Я так и замер с раскрытым ртом, глядя на аккуратную круглую дыру.
Позади затопали, захлопали дверью — и, когда я обернулся, комната была пуста, одна только Нэнси стояла у камина.
— Идем! — крикнул я, и мы выбежали на крыльцо.
Все столпились во дворе, между крыльцом и живой изгородью, и, задрав голову, смотрели в небо: яркий мигающий огонек стремительно уносился ввысь.
Я глянул на крышу — машинка продырявила ее, по краям отверстия торчали осколки разбитой, перекосившейся черепицы.
— Вот оно! — сказал у меня над ухом Джералд Шервуд. Хотел бы я знать, что это такое.
— Понятия не имею, — ответил я. — Они нарочно подсунули мне эту штуку. Провели как последнего дурака.
Меня трясло, меня душили стыд и злость. В том мире мною воспользовались, как пешкой. Провели, одурачили, заставили притащить сюда, на мою Землю, какую — то штуку, которую не могли доставить сюда сами.
И нет никакой возможности понять, что все это значит… хотя, боюсь, очень скоро мы это узнаем…
Ко мне подступил разъяренный Хайрам.
— Что, добился своего? — рявкнул он. — И не прикидывайся, не ври — мол, знать не знаю и ведать не ведаю. Черт их разберет, кто там есть и что они затевают, а только ты с ними отлично спелся.
Я молчал. Отвечать было нечего.
Хайрам шагнул ближе.
— Хватит! — крикнул Хигги. — Не тронь его!
— Надо выбить из него правду! — орал Хайрам. — Если узнать, что это за штука, может, мы сумеем…
— Хватит, кому говорю, — повторил Хигги.
— Ты мне осточертел, — сказал я Хайраму. — Осточертел и опостылел, и пропади ты пропадом. Только сперва отдай телефон, он мне нужен. Да поживее.
— Ах ты, сука! — взревел Хайрам и сделал еще шаг ко мне.
Подскочил Хигги и наподдал ему по щиколотке.
— Я сказал — хватит, черт подери!
Хайрам запрыгал на одной ноге, потирая ушибленное место.
— Что это вы, мэр, — ныл он. — Так не положено!
— Поди принеси ему тот телефон, — сказал Том Престон. Пускай пользуется. Пускай позвонит своей шайке и доложит, как он здорово на них поработал.
Я бы рад был излупить их всех троих, особенно Хайрама и Тома Престона. Но где там. Когда мы были мальчишками, Хайрам частенько разделывал меня под орех, и я отлично знал, что мне с ним не сладить.
Хигги ухватил его и потянул к воротам. Хайрам шел прихрамывая. Том Престон распахнул перед ними калитку, и все трое, не оглядываясь, зашагали прочь.
Лишь теперь а заметил, что и другие разошлись, на веранде остались только отец Фленеген, Джералд Шервуд и Нэнси. Священник держался в сторонке и, встретясь со мной взглядом, виновато ревел руками.
— Не осуждайте людей за то, что они ушли, — сказал он. — Они в тревоге и смятении. Вот и поспешили удалиться.
— А вы? Вас это все не тревожит? — спросил я.
— Да нет, нисколько. Хотя, признаться, я чуточку смущен. Все это немножко отдает ересью.
— Может, вы еще скажете, что поверили мне, — проговорил я с горечью.
— У меня возникли некоторые сомнения, и я не вполне от них избавился, — ответил Фленеген. — Но эта дыра в крыше веский довод в вашу пользу против чересчур упорных скептиков. Притом я не разделяю весьма модных ныне цинических воззрений. Мне кажется, в наши дни в мире есть место и для порывов мистических.
Я мог бы ответить ему, что тут мистикой и не пахнет: тот, другой мир, очень прочен и реален, там тоже светят солнце, звезды и луна, я ходил по его земле, пил его воду, дышал его воздухом, и под ногтями у меня еще застрял песок, в котором я рылся, выкапывая из откоса над ручьем человеческий череп.
— Они вернутся, — продолжал отец Фленеген. — Им надо немного подумать, освоиться со всем тем, что они от вас услышали. Это не так просто принять. Они вернутся, и я тоже, а сейчас мне нужно пойти отслужить мессу.
По улице неслась орава мальчишек. За полквартала до моего дома они остановились и, тыча пальцами, стали глазеть на продырявленную крышу. Они толклись посреди мостовой, весело пихали друг дружку под бока и что — то горланили.
Из — за горизонта вынырнул краешек солнца, деревья вспыхнули яркой летней зеленью.
Я кивнул в сторону мальчишек.
— Уже прослышали, — сказал я. — Через полчаса тут соберется весь Милвилл и все станут пялить глаза на мою крышу.
17
Толпа на улице росла. Никто ничего не предпринимал. Просто стояли и удивлялись, глазели на дыру в крыше и негромко переговаривались… ни крика, ни визга, просто негромкий говор, будто все знали, что вскоре непременно случится что — то еще, и терпеливо ждали.
Шервуд шагал из угла в угол.
— Гиббс должен звонить с минуты на минуту, — сказал он. — Не знаю, отчего он замешкался. Он уже должен бы позвонить.
— Может, его что — нибудь задержало, — отозвалась Нэнси. — Может, самолет запаздывает. Или на дороге затор.
Я стоял у окна и смотрел на толпу. Почти все лица хорошо мне знакомы. Это мои друзья и соседи, прежде им ничто не мешало ко мне постучаться, войти в дом и потолковать со мной. А сейчас они держатся поодаль, и смотрят, и ждут. Как будто мой дом стал клеткой, а сам я — чужой, неведомый зверь из каких — то дальних стран.
Всего лишь сутки назад я был такой же, как они, житель тихого городка Милвилла, я вырос среди этих людей, столпившихся на улице. А теперь в их глазах я — какое — то чудище, урод, а для некоторых, пожалуй, и похоже что то зловещее, враждебное, что грозит если не их жизни, то благополучию и душевному спокойствию.
Ибо Милвилл уже никогда не станет прежним… а быть может, и весь мир уже не станет прежним. Ведь даже если незримый барьер исчезнет и Цветы отвернутся от нашей Земли, нам уже не возвратиться в былую мирную и привычную колею, к успокоительной вере, будто на свете только и может существовать та жизнь, какая нам знакома, а наш способ познания и мышления — это единственно возможный и прямой путь, единственная торная дорога к истине.
Жили — были в старину людоеды, но потом их изгнали. Привидения, вампиры, оборотни и прочая нечисть тоже повывелись, им не стало места в нашей жизни: все это могло существовать лишь на туманных берегах невежества, в краю суеверий. А вот теперь мы снова впадем в невежество (только иное, чем прежде) и погрязнем в суеверии, ибо суеверие питается недостатком знания. Теперь, когда рядом замаячил другой мир — даже если его обитатели решат не вторгаться к нам или мы сами найдем способ преградить им путь, — нашу жизнь опять наводнят упыри, ведьмы и домовые. По вечерам у камелька мы пойдем судить и рядить о другом, потустороннем мире, станем из кожи вон лезть, лишь бы как — то обосновать страх перед тем неведомым, что будет нам чудится в его таинственных и грозных далях, и из этих наших рассуждений родятся ужасы, превосходящие все, что может таиться во всех чужих мирах. И, как некогда в старину, мы станем бояться темноты, всего, что лежит вне светлого круга, отброшенного нашим малым огоньком.
Толпа на улице прибывала, подходили еще и еще люди. Вот стучит костылем по тротуару дядюшка Эндрюс, вот мамаша Джоунс в своем дурацком капоре и Чарли Хаттон — хозяин «Веселой берлоги». Тут же, в передних рядах, и мусорщик Билл Доневен, а жены его не видно… интересно, приехали ли Мирт с Клейком за их детьми? А вот и Гейб Томас, шофер грузовика, тот самый, что первый после меня наткнулся на невидимый барьер; он такой горластый и неугомонный, будто весь свой век прожил в Милвилле и всех и каждого тут знает с пеленок.
Кто — то шевельнулся возле меня: Нэнси. Видно, она еще раньше подошла и стала рядом.
— Ты только погляди на них, — сказал я. — Нашли развлечение. Прямо цирк, сейчас начнется парад — алле.
— Они самые простые, обыкновенные люди, — сказала Нэнси. — Нельзя требовать от них слишком много, Брэд. А ты, по — моему, требуешь слишком много. Неужели ты хочешь, что бы те, кто здесь тебя слушал, вот так, сразу, приняли на веру каждое твое слово!
— Твой отец мне поверил.
— Отец — другое дело. Он человек незаурядный. И потом, он какие — то вещи знал заранее, он мог хоть что — то предвидеть. У него тоже был такой телефон. Ему было кое — что известно.
— Кое — что, — повторил я. — Не очень много.
— Я с ним не говорила. Не было случая поговорить с глазу на глаз. А при всех я не могла его спросить. Но я знаю, он тоже замешан в эту историю. Это опасно, Брэд?
— Не думаю. Оттуда, из того мира — уж не знаю, в каком месте и в каком времени он находится, — опасность не грозит. Сейчас пока опасен не чужой мир. Вся опасность в нас самих. Мы должны что — то решить — и решить, как надо, без ошибки.
— Откуда нам знать, какое решение правильное? — возразила Нэнси. — Ведь прежде ничего подобного не случалось.
В том — то и беда, подумал я. Как ни крути, что ни решай, подкрепить решение нечем, опереться не на что.
С улицы донесся какой — то крик, и я придвинулся к окну, чтоб было дальше видно. По середине мостовой шагал Хайрам Мартин, в руке у него был телефон без диска.
Нэнси тоже его заметила.
— Он все — таки возвращает тебе телефон. Забавно, вот не думала…
Это Хайрам и кричал, даже не кричал, а пел — громко, насмешливо, с вызовом:
— Вылезай, чертов гад! Получай свой телефон!
Нэнси тихонько ахнула. Я кинулся к двери, рывком распахнул ее и вышел на крыльцо.
Хайрам был уже у ворот, он больше не пел. Минуту мы стояли и смотрели друг на друга. Толпа зашумела, придвинулась ближе. Хайрам поднял аппарат высоко над головой.
— На, держи! — заорал он. — Получай свой телефон, ты, гнусный…
Что он там еще орал, я не расслышал — толпа взревела, заулюлюкала.
Хайрам запустил в меня аппаратом. Это не мяч и не палка, бросать его несподручно, и бросок вышел неудачный. Трубка на длинном проводе отлетела в сторону. Провод взвился дугой, потом натянулся, траектория аппарата переломилась, и он грохнулся на асфальтовую дорожку на полпути между калиткой и верандой. Во все стороны брызнули осколки пластмассы.
Не раздумывая и не рассчитывая, не помня себя от бешенства, я сбежал с крыльца и ринулся к калитке. Хайрам чуть попятился, я выскочил на улицу и остановился перед ним.
Хватит с меня Хайрама Мартина. Я сыт им по горло. Вот уже два дня он въедается мне в печенки, баста, надоело! Ох, переломать бы ему ребра, живого места не оставить! Чтоб вовек больше не измывался надо мной! Ведь только тем и берет, наглая скотина, что вымахал с телеграфный столб и кулачищи у него точно кувалды!
Как когда — то в детстве, багровая пелена упрямой ненависти застлала мне глаза. Я смотрел сквозь нее на Хайрама конечно же, он отдубасит меня, как не раз дубасил в школьные годы… все равно, пусть отведает моих кулаков, буду лупить его с восторгом, с наслаждением, изо всех сил!
Кто — то заорал:
— А ну, расступись! Шире круг!
Я кинулся на Хайрама, и он ударил. Ему негде и некогда было путем размахнуться, но его кулак сильно и больно ударил меня в ухо, и я пошатнулся. Хайрам тотчас ударил снова, но второй удар пришелся вкось, я даже не почувствовал боли — и на этот раз дал сдачи. Я влепил ему левой чуть повыше пояса, он скрючился от боли, и я дал ему в зубы, да так, что ожег о них костяшки пальцев, ободрал в кровь. И опять размахнулся изо всех сил, но тут невесть откуда мне на голову обрушился кулак, — мне показалось, голова лопнула; в ушах зазвенело, из глаз посыпались искры. Под коленями вдруг очутился жесткий асфальт, но я все же поднялся и в глазах прояснилось. Ног я не чувствовал. Казалось, я пробкой плаваю и подскакиваю в воздухе. Где — то близко, наверно в футе от меня возникла рожа Хайрама — губы расквашены, и на рубашке кровь. Я опять ударил по губам — пожалуй, не слишком сильно, я порядком выдохся. Но Хайрам зарычал, потом вильнул вбок, я снова кинулся на него.
И тут он меня добил.
Я почувствовал: падаю, валюсь на спину, почему — то я падал очень долго. Наконец, брякнулся о мостовую — она оказалась тверже, чем я думал, и это было больнее, чем удар, который сбил меня с ног.
Я стал шарить вокруг, пытаясь опереться на руки и подняться. А стоит ли хлопотать? — мелькнула мысль. Ну, встану, а он опять меня свалит. Но нет, надо подняться, надо подниматься опять и опять, покуда хватит сил. Так уж издавна повелось у нас с Хайрамом, таковы правила игры. Всякий раз, как я поднимался, он снова сбивал меня с ног, но я поднимался упрямо, до последнего дыхания, и ни разу не запросил пощады, ни разу не признал себя побежденным. И если я выдержу так до конца жизни, победителем выйду я, а не Хайрам.
Но на этот раз что — то невмочь. Не выходит. Никак не поднимусь. Быть может, пришел тот час, когда мне уже не встать?
Я все шарил ладонями, ища опоры, и вдруг наткнулся на камень. Наверно, какой — нибудь мальчишка запустил им в воробья ли, в собаку ли или швырнул просто так, для забавы. Камень остался посреди улицы, может, он пролежал здесь не день и не два и теперь я нащупал его правой рукой и стиснул — очень подходящий камень, так удобно поместился в кулаке.
Громадная мясистая ручища опустилась с высоты, сгребла меня за грудки и рывком подняла на ноги.
— Я тебе покажу! — заорал хриплый голос. — Будешь знать, как нападать на представителя порядка.
Опять перед глазами плавает разбитая в кровь морда, искаженная злобой и ненавистью. Как он упивается тем, что он больше, тяжелей, сильнее меня!
Я снова ощутил под собою ноги, яснее различил физиономию Хайрама, а за ним — еще стену лиц, нетерпеливо теснящуюся толпу, которая жаждет полюбоваться убийством.
Сдаваться нельзя, подумал я, вспоминая наши прежние драки, я никогда не сдавался. Пока держишься на ногах, надо драться, и если даже тебя свалили наземь и ты уже не в силах встать, все равно нельзя признавать себя побежденным.
Хайрам обеими руками вцепился в меня, лицо его придвинулось вплотную. Я крепче сжал камень и размахнулся. Я размахнулся из последних сил — все, что во мне еще оставалось, я вложил в этот удар: всем корпусом от пояса вверх — и в челюсть.
Голова его резко откинулась на толстой бычьей шее. Он зашатался, разжал пальцы и нескладной тряпичной куклой повалился на мостовую.
Я отступил на шаг и смотрел на Хайрама сверху вниз; в голове прояснилось, я ощутил собственное тело, избитое, в ссадинах и кровоподтеках, — оно болело сплошь, болел каждый сустав и каждый мускул. Но это неважно, это пустяки: впервые за всю мою жизнь я одолел Хайрама Мартина! Я свалил его с ног, потому что у меня оказался камень — ну и что ж, наплевать! Я не искал его, просто камень подвернулся под руку, и я невольно зажал его в кулаке. Я вовсе не думал пустить его в ход, но раз уж так получилось — черт с ним! Если бы я успел подумать, я, наверно, сделал бы это умышленно.
Кто — то подскочил ко мне. Том Престол.
— Да неужто мы ему такое спустим? — завизжал он, обернувшись к толпе. — Он же ударил полицейского! Камнем! Он подобрал камень!
К нам протолкался еще один человек, ухватил Престона за плечи, приподнял, как котенка и сунул обратно в первые ряды толпы. Это был Гейб Томас.
— Не лезь! — только и сказал он.
— Он ударил Хайрама камнем! — вопил Престон.
— Жаль, что не дубиной, — сказал Гейб. — Надо бы ему совсем башку размозжить.
Хайрам зашевелился и сел. Рука его потянулась к револьверу.
— Только попробуй, — сказал я. — Только тронь револьвер — и, бог свидетель, я тебя убью.
Хайрам уставился на меня. Уж верно было на что посмотреть. Он измордовал меня, исколошматил, и все — таки я свалил его, а сам устоял на ногах.
— Он ударил тебя камнем! — заверещал Престон. — Он тебя…
Гейб протянул руку и спокойно, аккуратно взял Тома за глотку. Он сдавил его тощую шею, и Престон разинул рот и высунул язык.
— Сказано, не лезь, — повторил Гейб.
— Хайрам — представитель закона, — вмешался Чарли Хаттон. — Брэд не имел права ударить полицейского.
— Слушай, друг, — отвечал ему Гейб. — Барахло ваш полицейский, а никакой не представитель закона. Порядочный полицейский не станет затевать драку.
Я все не сводил глаз с Хайрама, и он тоже следил за мною, но тут он отвел глаза и опустил руку.
И я понял — победа за мной. Не потому, что я сильней или дрался лучше, — ничего подобного, — а просто он трус: ему здорово досталось, и теперь у него уже не хватит пороху, больше он не полезет, побоится боли! И револьвера мне тоже нечего опасаться. Хайрам Мартин не посмеет убить человека в честном бою, лицом к лицу.
Хайрам медленно поднялся на ноги, постоял минуту. Поднял руку, осторожно потрогал челюсть. Повернулся и пошел прочь. Толпа смотрела молча, так же молча, раздалась и пропустила его.
Я поглядел ему вслед, и неистовая, кровожадная радость закипела во мне. С детства он был мне враг, больше двадцати лет, — и наконец — то я его отлупил. Правда, не в честном бою: чтобы взять верх, мне пришлось прибегнуть к запрещенному приему. Но все равно. Честно или нечестно, а я его одолел.
Толпа медленно попятилась. Никто не сказал мне ни слова. И вообще никто ничего не сказал.
— Видно, больше охотников нету, — заметил Гейб. — А ежели кто желает, придется иметь дело и со мной.
— Спасибо, Гейб, — сказал я.
— Не за что. Я ж ни черта не сделал.
Я разжал пальцы, камень упал на мостовую. В тишине он загремел на всю улицу.
Гейб вытащил из заднего кармана штанов большущий красный платок и шагнул ко мне. И, одной рукой придерживая мой затылок, начал вытирать мне лицо.
— Эдак через месячишко у тебя опять будет вполне приличный вид, — заметил он в утешение.
— Эд, Брэд! — крикнули из толпы. — Кто он таков, твой приятель?
Я не увидел, кто это кричал. Кругом было полно народу.
— Мистер! — заорал еще кто — то. — Не забудьте утереть ему нос.
— А ну, валяй! — прогремел Гейб. — Кто там остряк — самоучка? Выйди — ка, покажись, сейчас я тобой подмету улицу.
Мамаша Джоунс сказала громко, чтобы расслышал дядюшка Эндрюс:
— Это шофер с грузовика, он разбил Брэду машину. Видно, если кто полезет драться с Брэдом, так этот малый ему задаст.
— Ишь ты, хвастунишка! — закричал в ответ дядюшка Эндрюс. — Ну и хвастунишка!
Вдруг я увидел Нэнси, она стояла у калитки и смотрела, и лицо у нее было такое… совсем как в детстве, когда мне приходилось вот так же драться с Хайрамом. Ей было противно. Она терпеть не могла драки, она считала, что драться — глупо и пошло.
Дверь моего дома распахнулась, с крыльца сбежал Джералд Шервуд. Подбежал и схватил меня за руку.
— Идем скорей! Звонит сенатор. Он ждет тебя на шоссе.
18
По ту сторону барьера ждали четверо. Поодаль остановились несколько машин. Там и сям кучками стояли солдаты. Примерно в полумиле к северу все еще работал экскаватор.
Я шел к людям, которые ждали меня на дороге, и чувствовал себя дурак дураком. Ну и вид же у меня, должно быть, как у нечестивейшего грешника в аду! Рубашка изодрана, левая рука горит, точно ее надраили наждачной бумагой. Правая рука разбита о Хайрамовы зубы, левый глаз, чувствую, заплывает будет изрядный синяк.
По ту сторону незримого барьера по — прежнему тянулся вал вывороченной с корнем растительности, его расчистили только рядом с шоссе, на два — три десятка шагов вправо и влево.
Я подошел ближе и узнал сенатора Гиббса. Раньше и его никогда не встречал, но видел портреты в газетах. Крепкий, коренастый, совсем седой и всегда без шляпы. Сейчас на нем был двубортный пиджак и ярко — синий галстук в горошек.
С ним был какой — то военный, на погонах — звезды. Третий — маленький, щуплый, волосы точно лакированные, черствая, непроницаемая физиономия. Четвертый тоже невелик ростом, но пухлый, круглолицый и синеглазый — никогда еще я не видал таких ярких синих глаз.
Я подошел к ним фута на три и ощутил легкое сопротивление: впереди был барьер. Тогда я отступил на шаг и посмотрел на сенатора.
— Вы, наверно, сенатор Гиббс, — сказал я. — Меня зовут Брэдшоу Картер. Вам про меня говорил Шервуд.
— Рад с вами познакомиться, мистер Картер, — сказал сенатор. — Я думал, Джералд тоже придет с вами.
— Я его звал, но он решил, что ему не следует идти, объяснил я. — Они там поспорили. Мэр хотел назначить комиссию для встречи с вами, а Шервуд никак не соглашался.
Сенатор кивнул:
— Понимаю. Значит, мы будем говорить только с вами.
— Если вы хотите вызвать еще кого — нибудь…
— Нет — нет, зачем же! Ведь всеми сведениями располагаете именно вы?
— Да, я.
— Прошу извинить, я вас представлю. Мистер Картер — генерал Уолтер Биллингс.
— Здравствуйте, генерал, — сказал я.
Странное чувство: знакомиться с человеком, не подавая руки.
— А это Артур Ньюком, — продолжал сенатор.
Человечек с черствым, непроницаемым лицом холодно улыбнулся. Такой — будьте уверены! — никаких шуток не потерпит. Он, видно, возмущен до глубины души уже тем, что кто — то посмел допустить существование какого — то там барьера.
— Мистер Ньюком — представитель государственного департамента, — пояснил сенатор. — А это доктор Роджер Дэйвенпорт, биолог и притом весьма знаменитый.
— Доброе утро, молодой человек, — сказал Дэйвенпорт. Простите за нескромный вопрос — что это с вами приключилось?
Я улыбнулся ему, толстяк сразу пришелся мне по душе.
— Так, малость не сошлись во взглядах с одним земляком.
— Могу себе представить, какое в городе волнение, сказал Биллингс. — Пожалуй, скоро трудно станет поддерживать закон и порядок.
— Боюсь, что вы правы, сэр, — сказал я.
— Ваш рассказ потребует времени? — спросил сенатор.
— Да, некоторое время понадобится.
— Где — то там были стулья, — произнес генерал Биллингс. — Сержант, где там…
Не успел он договорить, как сержант и двое солдат, стоявшие у обочины, подошли со складными стульями.
— Ловите! — сказал мне сержант и кинул стул сквозь барьер.
Я поймал стул на лету. Пока я его расставил и сел, четверо по ту сторону барьера тоже уселись.
Прямо сумасшедший дом какой — то: сидят пять человек посреди шоссе на шатких походных стульчиках!
— Что ж, — сказал сенатор, — я думаю, можно приступить к делу. Какой порядок вы предлагаете, генерал?
Генерал закинул ногу на ногу и уселся поплотнее. С минуту он раздумывал.
— Этот человек должен нам сообщить какие — то сведения, сказал он наконец. — Так отчего бы нам тут же, на месте, его не выслушать?
— Ну, разумеется, — сказал Ньюком. — Послушаем, что он скажет. Но знаете ли, сенатор…
— Да — да, — поспешно прервал Гиббс, — я понимаю, обстановка не совсем обычная. Впервые мне приходится заседать под открытым небом, но…
— По — видимому, другого выхода у нас нет, — заметил генерал.
— Это довольно долгая история, — предупредил я. — И кое — что может показаться невероятным.
— Так ведь и это невероятно, — сказал сенатор Гиббс. Этот, как вы его называете, барьер.
— И, как видно, вы — единственный человек, которому что — то известно, — прибавил Дэйвенпорт.
— Итак, приступим, — заключил сенатор Гиббс.
И я стал рассказывать свою повесть во второй раз. Я не торопился, говорил обстоятельно обо всем, что видел, стараясь не упустить ни одной мелочи. Меня не прерывали. Раза два я умолкал на минуту — может, о чем — нибудь спросят? — но в первый раз Дэйвенпорт просто кивнул: продолжай, мол, а потом все четверо только молча ждали, чтобы я опять заговорил.
Это порядком действовало на нервы, уж лучше бы они меня перебивали. Все мои слова падали в молчание, как в яму, я пытался хоть что — то прочесть по их лицам, понять, много ли до них доходит. Но — ни единой ответной искорки, никакого движения не мог я уловить на этих застывших физиономиях. Да ведь и правда, как нелепо, наверно, все это звучит…
Наконец — то я все досказал и откинулся на стуле.
По ту сторону барьера беспокойно зашевелился Ньюком.
— Прошу извинить, джентльмены, но я решительно протестую. Не понимаю, с какой стати мы сюда тащились и выслушивали эти нелепые россказни.
— Артур, — перебил сенатор Гиббс, — за мистера Картера поручился мой старый друг Джералд Шервуд. Я знаю Шервуда больше тридцати лет, и уверяю вас, он очень проницательный человек, в высшей степени трезвый и деловой, но при этом не лишенный воображения. Как ни трудно нам принять сообщение мистера Картера или, во всяком случае, некоторые частности его сообщения, я все же убежден, что от них нельзя просто отмахнуться, мы должны их обсудить. И позвольте вам напомнить, что это первые конкретные данные, на которые мы можем опереться.
— Мне тоже трудно поверить хотя бы одному слову, — сказал генерал Биллингс. — Но ведь вот этот барьер — неопровержимое свидетельство, хоть он и недоступен нашему сегодняшнему пониманию. Безусловно, положение таково, что мы вынуждены будем и дальше принимать на веру свидетельства, которые превосходят наше понимание.
— Давайте предположим на минуту, что мы решительно всему поверили, — подсказал Дэйвенпорт. — Попробуем поискать в этом какое — то рациональное зерно.
— Это невозможно! — взорвался Ньюком. — Это вызов всему, что мы знаем!
— Мистер Ньюком, — возразил биолог, — человек только и делает, что бросает вызов всему, что он знал прежде. Лишь несколько веков назад он твердо знал, что Земля — центр Вселенной. Каких — нибудь тридцать лет назад, даже и того меньше, он знал, что люди никогда не смогут побывать на других планетах. Сто лет назад он знал, что атом неделим. Ну, а мы с вами? Мы знаем, что время — это нечто из веки веков непостижимое и неуправляемое и что растения не могут быть разумными. Так вот, разрешите вам сказать, сэр…
— Вы что же, всему этому верите? — спросил генерал.
— Ничему я не верю. Это было бы весьма необъективно. Но я считаю, что нам надо повременить с окончательным суждением. По совести скажу, я с восторгом займусь этой проблемой, понаблюдаю, проведу кое — какие опыты и…
— Вы можете и не успеть, — сказал я.
Генерал круто обернулся ко мне.
— А разве поставлены какие — то сроки? Вы об этом не упоминали.
— Верно. Но у них есть способ нас поторопить. Они в любую минуту могут пустить в ход очень веские доводы. Хотя бы — двинуть дальше этот барьер.
— И далеко они способны его продвинуть?
— Вы можете гадать с таким же успехом, как и я. На десять миль. На сто. На тысячу. Понятия не имею.
— Вы говорите так, как будто они вообще могут столкнуть нас в межпланетное пространство.
— Не знаю. По — моему, они и это могут.
— По — вашему, они так и поступят?
— Возможно. Если увидят, что мы все тянем и водим их за нос. Не думаю, чтобы им этого хотелось. Мы им нужны. Им нужен кто — то, кто может применить на практике накопленное ими знание и тем самым придать ему смысл. По — видимому, до сих пор они не нашли никого, кто был бы на это способен.
— Но нельзя же решать наспех! — запротестовал сенатор. — Нельзя допустить, чтобы нас подгоняли. Нужно очень много сделать. Необходимо обсудить все это на самых разных уровнях — в государственном и международном масштабе, с экономистами, с учеными.
— Мне кажется, сенатор, — сказал я, — все мы забываем главное. Мы сейчас имеем дело не просто с другим государством, с другими людьми. Мы имеем дело с чужими существами, с пришельцами из другого мира.
— Это все равно, — сказал сенатор. — Мы должны действовать так же, как всегда.
— Оно бы неплохо, только надо еще, чтобы они нас поняли, — заметил я.
— Придется им подождать, — сухо сказал Ньюком.
Меня взяло отчаяние. Безнадежно. Ничего тут нельзя решить, человечество не готово к этой встрече, мы только все испортим, все загубим. Пойдут нескончаемые споры, разговоры и переговоры, обсуждения и словопрения, — и все на нашем, человеческом уровне, все только с наших позиций, никто даже не попытается понять, что думают и чего хотят пришельцы.
— Учтите, что в речи просителей выступают они, а не мы, — заявил сенатор. — Они, а не мы начали переговоры, они хотят доступа в наш мир, а не наоборот.
— Пятьсот лет назад белые прибыли в Америку, — сказал я. — Очевидно, тогда они выступали в роли просителей…
— Но индейцы были дикари, варвары! — возмутился Ньюком.
Я кивнул:
— Вы совершенно точно выразили мою мысль.
— У вас не слишком удачная манера острить, — ледяным тоном произнес Ньюком.
— Вы меня не поняли, — сказал я. — Я и не думал острить.
— Пожалуй, в этом что — то есть, мистер Картер, — заговорил Дэйвенпорт. — По вашим словам, эти растения уверяют, что они хранят огромные запасы знаний. И, как вы полагаете, это — познания многих разумных рас.
— Так они мне сказали.
— Запасы знаний, связанных между собой и приведенных в систему. Не просто свалка разнородных сведений.
— Да, именно система, — сказал я. — Только учтите, я не могу утверждать это под присягой. Я никак не мог проверить, правда ли это. Но Таппер, который говорил за них, уверял меня, что они никогда не лгут.
— Понимаю, — сказал Дэйвенпорт. — В этом есть логика. Им незачем лгать.
— Однако они не вернули вам полторы тысячи долларов, вставил генерал Биллингс.
— Не вернули.
— А говорили, что вернут.
— Да, это они мне твердо обещали.
— Значит, они лгут. И они хитростью заставили вас принести на Землю какую — то штуку, которую вы считали машиной времени.
— Это они очень ловко подстроили, — заметил Ньюком.
— Не думаю, что мы можем всерьез им доверять, — сказал генерал Биллингс.
— Но послушайте, — спохватился Ньюком, — мы уже стали разговаривать так, как будто поверили каждому слову этой басни.
— Так ведь с этого мы и начали, — напомнил сенатор Гиббс. — Мы решили принять сведения, которые нам сообщил мистер Картер, за основу для обсуждения.
— В данный момент нам следует подготовиться к самому худшему, — провозгласил генерал.
Дэйвенпорт даже засмеялся:
— Что ж тут особенно плохого? Впервые в истории человечество может познакомиться с другими мыслящими существами. Если мы будем вести себя разумно, такая встреча может оказаться для нас очень полезной.
— Этого мы еще не знаем, — сказал генерал Биллингс.
— Конечно, не знаем. У нас пока слишком мало данных. Надо сделать какие — то шаги к дальнейшему сближению.
— Если эти цветы вообще существуют, — вставил Ньюком.
— Если они существуют, — согласился Дэйвенпорт.
— Джентльмены, — сказал сенатор, — мы кое — что упускаем из виду. Ведь барьер существует, это реальность. И он не пропускает ничего живого…
— Это еще неизвестно, — возразил Дэйвенпорт. — Вспомните случай с автомобилем. В нем наверняка были какие — то микроорганизмы. Просто не могло не быть. Мне кажется, барьер поставлен как преграда не для всего живого вообще, а лишь для того, что думает и чувствует. Это — преграда для жизни высокоразвитой, обладающей сознанием.
— Так или иначе, перед нами несомненное доказательство, что происходит что — то очень странное, — сказал сенатор. — Мы не можем просто закрывать на это глаза. Надо действовать, опираясь на те сведения, какими мы располагаем.
— Ну, хорошо, — заявил генерал, — перейдем к делу. Можем ли мы с уверенностью предполагать, что эти чужаки чем — то нам угрожают?
Я кивнул:
— Может быть, и так. При известных обстоятельствах.
— При каких именно?
— Не знаю. Откуда нам знать, что они думают и чего хотят.
— Но все — таки тут может скрываться угроза?
— Мне кажется, — прервал Дэйвенпорт, — мы слишком много рассуждаем об опасности. Сначала нужно бы понять…
— Мой долг прежде всего в том, чтобы предусмотреть возможную опасность.
— И если она есть? Что тогда?
— Мы можем их остановить, — сказал генерал. — Только надо действовать без промедления. Действовать, пока они еще не захватили слишком большую территорию. У нас есть способ их остановить.
— Вы, военные, умеете действовать только силой, — вспылил Дэйвенпорт. — Ничего другого у вас и в мыслях нет. Да, конечно, термоядерный взрыв уничтожит всякую чуждую жизнь, которая успела проникнуть на Землю. Возможно, он даже разобьет барьер времени и навсегда закроет Землю для наших новых друзей…
— Друзей! Да почем вы знаете, что они нам друзья! — чуть не завопил генерал.
— Этого я, разумеется, не знаю. Ну, а вы почем знаете, что они нам враги? Необходимо собрать больше сведений; необходимо опять установить с ними связь…
— А пока вы будете собирать сведения, они успеют укрепить барьер и раздвинуть его еще шире…
Дэйвенпорт окончательно рассердился.
— Рано или поздно должно же человечество научиться решать встающие перед ним задачи какими — то другими способами, а не просто грубой силой. Так вот, может быть, сейчас самое время начать. Вы предлагаете сбросить на этот город бомбу. Я уже не говорю о нравственной стороне вопроса: ведь это убийство нескольких сотен ни в чем неповинных людей…
— Не забывайте, тут на одной чаше весов несколько сотен людей, а на другой — безопасность населения всех Земли, проворчал Биллингс. — Мы ничего не будем предпринимать наспех. Такой шаг надо сперва тщательно продумать. Тут возможно лишь всесторонне обдуманное решение.
— Но вы его не исключаете — от одной этого содрогнется все человечество, — сказал биолог.
Генерал Биллингс упрямо вскинул голову.
— Допускать неприятные возможности подобного рода — мой долг, — заявил он. — Даже учитывая нравственную сторону вопроса, в случае надобности я не стану колебаться.
— Джентльмены! — беспомощно воззвал сенатор.
Генерал поглядел на меня. Кажется, все они давным — давно обо мне забыли.
— Прошу прощенья, мистер Картер, — сказал он. — Мне не следовало так говорить.
Я немо кивнул. Даже за миллион долларов я не мог бы выдавить из себя ни слова. Все внутри точно свинцом налилось, горло перехватило, я боялся шевельнуться.
Ничего подобного я не ждал. Правда, теперь, наслушавшись их, я запоздало понял, что только этого и можно было ожидать. Мне следовало понимать, как встретят в нашем мире эту новость, а уж если сам не сообразил, надо было только вспомнить, как тогда сказал Шкалик, лежа на полу у меня в кухне:
Они захотят пустить в ход бомбу, — сказал он тогда. — Не давай им сбросить бомбу…
Ньюком впился в меня холодным, пронизывающим взглядом.
— Полагаю, вы не станете повторять то, что сейчас слышали, — сказал он.
— Да, мы вынуждены на вас положиться, друг мой, — подхватил сенатор. — Мы в ваших руках.
Я через силу рассмеялся. Наверно, дико прозвучал этот смех.
— Чего ради я стану болтать? Мы — такая удобная мишень. Говори не говори, толку не будет. Все равно нам податься некуда.

А вдруг барьер оградит нас и от бомбы? — мелькнула мысль. Да нет, ерунда. Барьер не пропускает только ничего живого, точнее, если прав Дэйвенпорт, — а он, вероятно, прав, это преграда только для существ мыслящих. Вот пробовали взорвать его динамитом — и хоть бы что. Эта незримая стена не сопротивляется взрывам — и тем самым от них не страдает.
С точки зрения генерала Биллингса, бомба разом решит все проблемы. Она уничтожит все живое; именно до этого додумался и Элф Питерсон, когда решал задачу — как уничтожить зловредный сорняк, который приспосабливается к любым неблагоприятным условиям. Возможно, ядерный взрыв и не повлияет на загадочный механизм барьера времени, но он уничтожит все живое, смертоносная радиация отравит местность и еще очень, очень долго пришельцы не смогут вновь ее захватить.
— Вы хотите, чтоб я был тактичный и деликатный, — сказал я генералу, — надеюсь, это будет взаимно. Если вы не найдете никакого другого выхода, делайте, что надо, безо всякого предупреждения.
Поджав губы, генерал молча кивнул.
— Тошно подумать, что тут начнется, если в Милвилле узнают…
— Сейчас еще рано об этом беспокоиться, — прервал меня сенатор. — Возможны и другие решения. Пока мы даже обсуждать это не станем. Наш друг генерал несколько поторопился.
— По крайней мере я честно говорю, — обиделся генерал. — Не кручу, не увиливаю. Очки никому не втираю.
Видно, он считал, что остальные именно этим и занимаются.
— Поймите одно, — сказал я. — Никакие тайны и секреты здесь невозможны. На чем бы вы ни порешили, вам придется действовать в открытую. Есть люди, чьи мысли Цветы могут прочитать. Есть люди — и, может быть, немало, — чьи мысли они читают вот в эту самую минуту. Причем люди эти ни о чем не подозревают и кто они — неизвестно. Может быть, Цветы сейчас читают мысли кого — нибудь из вас. Очень возможно, что они узнают все ваши планы, еще когда вы только эти планы обдумываете.
Ну, конечно, такое им и в голову не приходило. Я — то их предупреждал, когда рассказывал свои приключения, но они пропустили это мимо ушей. Слишком много всего сразу свалилось, так быстро не разберешься.
— Что там за люди у машины, — неожиданно спросил Ньюком.
Я обернулся.
Там собралась добрая половина Милвилла. Они пришли посмотреть, что мы тут затеваем. Вполне понятно. Они вправе тревожиться, вправе знать, что происходит. Все это их кровно касается. Наверно, очень многие мне теперь не доверяют, ведь Хайрам и Том Престон черт знает чего обо мне наговорили, а я, изволите ли видеть, сижу на стуле посреди шоссе и толкую с важными шишками из Вашингтона. Наверно, милвиллцы чувствуют себя обойденными, обманутыми. Наверно, думают, что их тоже должны бы позвать на это совещание.
Я снова повернулся к той четверке за барьером.
— Все это слишком важно, — настойчиво сказал я. — Смотрите, не промахнитесь. Если сейчас дать маху, значит, мы наверняка загубим и все другие возможности.
— Какие возможности? — спросил сенатор.
— Это первый случай, когда мы можем сблизиться с жителями другого мира. Но, уж конечно, не последний. Когда люди выйдут в космос…
— Но мы пока не в космосе, — сказал Ньюком.
Нет, безнадежно, все впустую. Я слишком многого ждал от тех, кто собрался тогда у меня в гостиной, и слишком многого ждал от этих приезжих из Вашингтона.
Им не выдержать испытания. Никогда нам, людям, не выдержать испытания. Так уж мы устроены, мы только и способны на провал. У нас вывихнутая логика, скверные, ложные побуждения, и ничего нельзя с этим поделать. Мы по природе своей близоруки, себялюбивы, самодовольны, где уж нам сойти с убогой проторенной дорожки.
А быть может, этим страдает не только человечество? Быть может, и эти Цветы, и любые другие чужаки и пришельцы так же ограничены тесной, привычной колеей? Быть может, все они окажутся так же деспотичны, так же упрямы, глухи и слепы, как мы?
Я беспомощно развел руками, но едва ли мои собеседники это заметили. Они во все глаза смотрели куда — то на дорогу позади меня.
Я круто обернулся. К нам приближалась толпа, которая еще недавно ждала у застрявших машин: она была уже на полпути между той пробкой и барьером. Люди шагали молча, размеренно, с непреклонной решимостью. Точно сама судьба надвигалась на нас.
— Чего им надо, как вы думаете? — беспокойно спросил сенатор.
Я всмотрелся: впереди всех Джордж Уокер, мясник из магазина «Рыжий филин», за ним — Матч Ормсби с заправочной станции и Чарли Хаттон, хозяин «Веселой берлоги». И Дэниел Виллоуби тоже здесь, этому явно не по себе, он из тех, кто всегда избегает толпы, шума и скандалов. А вот Хигги не видать и Хайрама тоже, зато Престон тут как тут. Ну, а Шервуд? Шервуда, конечно, нет. Не такой он человек. Но народу полно, и все мне хорошо знакомы. И лица у всех мрачные, полные решимости.
Я отступил на обочину, и толпа прошла мимо, никто даже не поглядел в мою сторону.
— Послушайте, сенатор! — начал Джордж Уокер, голос его прозвучал чересчур громко. — Ведь это вы и есть сенатор, верно?
— Да, это я, — отозвался сенатор Гиббс. — Чем могу быть вам полезен?
— Вот это самое мы и пришли узнать, — сказал Уокер. Мы вроде как делегация.
— Понимаю.
— Мы попали в беду, — продолжал Уокер. — А мы все честно платим налоги, так что пускай нам помогут, мы имеем право. Вот я ведаю в «Рыжем филине» мясным отделом, а народ к нам в Милвилл проехать не может, так уж я и не знаю, что будет. Без приезжих покупателей мы в два счета прогорим. Со своими — то, с милвиллскими, мы, конечно, торгуем, да ведь этого мало, дело себя не оправдывает, и скоро здешним будет нечем платить, ни у кого гроша не останется, а в кредит торговать нам не под силу. Понятно, свежее мясо мы всегда добудем. А продать — не продашь. Нет нашей возможности дальше торговать, как ни кинь, все клин…
— Одну минутку, — вставил сенатор. — Не нужно торопиться. Давайте обсудим все по порядку. У вас возникли затруднения, мне об этом известно, и я сделаю все, что только могу…
— Вот что, сенатор, — прервал кто — то гулким басом, тут кой у кого из нас задачки позаковыристей, чем у Джорджа. Хоть у меня, к примеру. Работаю я за городом, живу от получки до получки: целую неделю ребятишек кормить надо? Обуть — одеть надо? По всяким счетам платить надо? А теперь мне до работы не добраться, стало быть, и получки никакой нету. И я не один такой. Нас таких сколько хочешь. И на черный день ни у кого не отложено. У нас в Милвилле, скажу я вам, таких, чтоб хоть грош отложили про запас, может, раз — два и обчелся. Вот мы все и…
— Постойте, — взмолился сенатор Гиббс. — Послушайте и вы меня. Дайте мне хоть немного времени. В Вашингтоне уже знают о том, что здесь случилось. Знаю, как трудно вам всем приходится. Вам постараются всемерно помочь. В конгресс будет внесен законопроект о пособии для жителей вашего города, и я сам буду трудиться не покладая рук, чтобы закон этот был принят без излишних проволочек. Мало того. На востоке страны некоторые газеты и телевизионные компании объявили сбор средств в помощь Милвиллу. И это только начало. Будет сделано еще очень многое…
— Да на черта нам это нужно, сенатор! — пронзительно выкрикнул кто — то. — Не надо нам никаких пособий. Мы не нищие, нам подачки ни к чему. Вы только помогите нам вернуться на работу.
Сенатор даже растерялся.
— То есть, вы хотите, чтобы мы сняли этот барьер?
— Слушайте, сенатор, — снова загромыхал бас, — сколько лет правительство ухлопывает миллиарды, чтобы запустить человека на Луну. Ученых у вас хоть пруд пруди, так неужто нельзя потратить кой — какие деньги и время, чтоб нас вызволить! Мы весь век платим налоги, а много ли за это получаем?..
— Да, но дайте же нам срок, — возразил сенатор. — Мы должны выяснить, что представляет собой этот барьер, и найти какой — то способ с ним справиться. Скажу вам прямо и откровенно, такую задачу в пять минут не решить.
Сквозь толпу пробиралась Норма Шепард, секретарша доктора Фабиана, и наконец остановилась напротив сенатора.
— Но надо же что — то сделать, — сказала она. — Надо что — то сделать, понимаете? Кто — то должен найти способ. У нас тут есть больные — тяжелые, их надо положить в больницу, а мы не можем их переправить. Если мы их не отправим в больницу, некоторые умрут. У нас на весь Милвилл только один доктор, и он уже очень немолод. Он хороший доктор и лечит нас уже много лет, но с очень тяжелыми больными ему не справиться, да у него ни лекарств, ни инструментов таких нету. С очень тяжелыми случаями он никогда не мог один справиться, он сам так прямо и говорил…
— Дорогая моя, — отеческим тоном начал сенатор, — я понимаю вашу озабоченность, я весьма вам сочувствую, и можете не сомневаться.
Что ж, видно, беседа моя с представителями Вашингтона закончена. Я медленно побрел по шоссе, вернее, рядом с ним, по взрытой, перепаханной земле, из которой уже поднимались тоненькие зеленые ростки. Семена, посеянные той странной бурей, взошли удивительно быстро, и теперь побеги тянулись к свету.
Каков — то будет урожай, с горечью подумал я.
И еще любопытно, очень ли Нэнси на меня сердится за драку с Хайрамом Мартином. Какое у нее тогда было лицо… а потом она сразу повернулась и ушла. И когда ее отец прибежал сказать мне, что звонит Гиббс, она не вышла из дому.
В ту короткую минуту на кухне, когда она припала к моему плечу, она вдруг стала совсем прежней — моя любимая, та девушка, с которой мы когда — то ходили, взявшись за руки, та, что смеялась милым грудным смехом и дня не могла прожить без меня, как и я — без нее.
— Нэнси! — едва не закричал я. — Нэнси, прошу тебя, пускай все опять будет по — старому!
Но, наверно, к старому возврата нет. Наверно, это Милвилл виноват, это он стал между нами: за те годы, пока Нэнси тут не было, она переросла наш город, а я оставался здесь и еще глубже врос в него всеми корнями.
Нет, сквозь пыль стольких лет, сквозь все воспоминания, случаи и события, сквозь перемены, что произошли и в ней и в тебе самом, не докопаешься так легко до прошлого, не вырвешь из него минувший день и час. И если даже доберешься до него, слишком плотно он зарос пылью времени и уже не вернешь ему того незабвенного сияния. А может, на самом деле он так и не сиял, может, только в воспоминании, от тоски и одиночества, ты сам наделил его этим ослепительным блеском.
Быть может, только раз за всю жизнь, да и то не к каждому, приходит вот такая сияющая минута. Возможно, есть даже такой закон, что минута эта и не может повториться.
— Брэд, — окликнул кто — то.
Все время я шел, повесив голову, глядя только под ноги. Услыхав свое имя, поднял глаза — оказалось, я уже поравнялся со сбившимися в кучу машинами.
К одной из них прислонился Билл Доневен.
— Привет, Билл, — сказал я. — Что ж ты не пошел туда с ними?
Билл брезгливо поморщился.
— Помощь нам нужна, это верно, — сказал он. — Ясно, нужна. Еще как. Только можно и обождать малость, не сдохнем. Нечего сразу скулить. А то что ж это: с первого синяка сразу кричать караул. Ронять себя тоже не к чему, надо и самолюбие иметь.
Я кивнул, но в душе не вполне с ним согласился.
— Уж очень все напугались, — сказал я.
— Ну, ясно. А все равно нечего метаться и вопить, как стадо баранов.
— Что с малышами?
— Живы — здоровы, — сказал Билл. — Джейк в самый раз за ними поспел, прямо перед тем, как барьеру тронуться. Взял их и увез. Пришлось ему топором рубить дверь, чтоб до них добраться. Он рубит, а Мирт знай ругается без передышки. Черт — те сколько шуму было из — за этой паршивой двери.
— А как жена?
— Лиз — то… да ничего. Все тоскует по детишкам да тревожится, что, мол, будет дальше. Ну, ребята целы и невредимы — это главное.
Он похлопал ладонью по металлическому боку машины.
— Как — нибудь да выпутаемся, — сказал он. — Может, и не враз, а управимся. Нет на свете такого, чего бы люди не одолели, коли захотят. Я так думаю, посадят на это целую тысячу ученых — пускай мозгуют! Ну, не в день, не в два, а что — нибудь они придумают.
— Да, — сказал я, — наверно, придумают.
Если только сперва какой — нибудь тупоумный генерал с перепугу не нажмет ту самую кнопку. Если вместо того, чтобы пораскинуть умом, мы не пустим в ход силу и все не угробим.
— Что с тобой, Брэд?
— Так, ничего.
— У тебя, надо думать, тоже забот хватает. Что ты Хайрама вздул, так это поделом, он давно набивался. А телефон, которым он в тебя запустил, из тех, что ли?
— Из тех самых, — сказал я.
— Слышно, ты побывал в каком — то другом мире. Как это ты ухитрился? Чудно что — то, даже не верится, но все только про то и говорят.
Двое мальчишек с криком пробежали сквозь гущу машин и ринулись дальше, к толпе, которая все еще спорила с сенатором.
— Вот кому весело, — заметил Доневен. — Наша малышня сроду так не развлекалась. Почище всякого цирка.
С громкими восторженными воплями промчалась новая стайка мальчишек.
— Может, там еще что новое случилось? — сказал Доневен.
Первые двое ребят уже добежали до толпы у барьера и, дергая взрослых за руки, что — то им громко, взахлеб толковали.
— Похоже на то, — сказал я.
Кое — кто из толпы повернулся и заспешил обратно к Милвиллу, сперва скорым шагом, а там и бегом.
Когда они были уже совсем близко, Билл Доневен рванулся им наперерез.
— В чем дело? — крикнул он. — Что стряслось?
— Деньги! — закричали в ответ. — Кто — то нашел деньги!
Теперь уже вся толпа неслась во весь дух во шоссе к городу. Мэй Хаттон на бегу крикнула мне:
— Скорей, Брэд! У тебя в саду деньги!
— Деньги у меня в саду? Еще чего?!
Я мельком глянул на тех четверых из Вашингтона, они стояли за барьером и смотрели вслед толпе. Решили, наверно, что весь Милвилл просто спятил. Да и как не решить.
Я ступил с обочины на шоссе и рысцой пустился вдогонку за остальными к городу.
19
Когда я под утро возвратился из чужого мира, оказалось, что этот мир каким — то непонятным колдовством превратил лиловые цветы, которыми заросла сырая низинка позади моего дома, в маленькие кустики. В темноте я провел пальцами по торчащим во все стороны прутикам и нащупал множество набухших почек. А теперь почки лопнули — и распустились не листья, а крохотные банковые билеты по пятьдесят долларов!
Лен Стритер, здешний учитель естественной истории, протянул мне один такой билетик.
— Это просто невозможно! — сказал он.
Ну, еще бы! Конечно же, невозможно! Ни один куст в здравом уме и твердой памяти не отрастит вместо листьев банкноты по пятьдесят долларов и вообще какие бы то ни было денежные купюры.
В саду было не протолкаться — сюда набились все, кто на шоссе препирался с сенатором, и еще куча народу. Чуть ли не весь Милвилл сбежался. Толклись вокруг каждого кустика, орали, перекликались в полном восторге. И не диво. Почти никто из наших отродясь не видывал бумажки в пятьдесят долларов, а тут их были тысячи.
— Поглядите — ка повнимательней, — сказал я учителю. Это и правда настоящие деньги? Вы уверены?
Лен Стритер вытащил из нагрудного кармана маленькую лупу и протянул мне:
— Смотрите сами.
Я посмотрел — спору, нет, очень похоже на билет в пятьдесят долларов, хоть я и сам видел такие только раз в жизни — те тридцать штук, что дал мне в конверте Шервуд. Тогда я их особенно не рассматривал, так, глянул мельком — и все. Но в лупу видно было, что бумага у этих билетиков точь — в—точь как у настоящих денег, и все остальное тоже, не отличить — и номер и серия на месте.
И, разглядывая их в лупу, я понял: они и правда настоящие. Это — как бы поточнее выразиться? — прямое потомство тех денег, которые вытащил у меня Таппер Тайлер.
Я понял, что произошло, и меня взяла горькая досада.
— Очень может быть, — сказал я Стритеру. — С той шайкой все может быть.
— С какой шайкой? Из вашего другого мира?
— Не из моего! — заорал я. — Из вашего! Он такой же ваш, как и мой, он общий для всех людей! Как вдолбить в ваши тупые башки…
Я не договорил. И очень рад, что не договорил.
— Извините, — мягко произнес Лен Стритер. — Я не то хотел сказать.
Тут я увидел Хигги Морриса, он стоял на склоне холма, на полдороге к моему дому, и криком требовал внимания.
— Слушайте все! — взывал он. — Слушайте меня, сограждане!
Толпа начала стихать, а Хигги вопил и вопил, пока, наконец, все не замолчали.
— Перестаньте рвать эти листья, — заявил он тогда. — Не троньте их, как растут, так пускай и растут.
— Черт возьми, Хигги, мы только сорвали парочку, чтоб получше разглядеть, — возразил Чарли Хаттон.
— Так вот, хватит, — сурово отрезал наш мэр. — Каждый сорванный листок — это пятьдесят долларов пропащих. Дайте срок, они подрастут, сколько надо, и сами опадут, останется только подобрать, и каждый листочек будет нам с вами чистая прибыль.
— А ты откуда знаешь? — пронзительно крикнула мамаша Джоунс.
— Да разве вам не ясно? Эти замечательные кусты отращивают для нас деньги. Надо только не мешать им — пускай делают свое дело.
Он обвел взглядом толпу и вдруг заметил меня.
— Верно я говорю? Брэд?
— Боюсь, что так, — сказал я.
Потому что Таппер стащил у меня полторы тысячи, и Цветы взяли те тридцать билетов за образец для листьев. Я и не глядя могу побиться об заклад: на всех этих кустах, на всех листьях — банкнотах повторяются одни и те же тридцать порядковых номеров.
— Интересно знать, — заговорил Чарли Хаттон, — как мы их, по — вашему, станем делить? То есть, понятно, когда они дозреют.
— А я, признаться, об этом еще не подумал, — отозвался мэр. — Наверно, это будет наш общий фонд — и станем выдавать нуждающимся, кому сколько надо.
— Несправедливо! — возразил Чарли. — Эдак одни получат больше, другие меньше. А по — моему, надо разделить всем поровну. Всяк получит свою долю и распорядится ею, как знает.
— Что ж, может, и в этом есть резон, — сказал Хигги. Но только тут нельзя решать наспех. Вот я сегодня же начну комиссию, она этим займется. У кого есть какие предложения, давайте, мы их обсудим и рассмотрим со всех сторон.
— Уважаемый господин мэр! — тонким голосом выкрикнул Дэниел Виллоуби. — Мне кажется, мы упускаем из виду одно обстоятельство. Что бы мы тут ни говорили, а ведь это не деньги.
— Но они в точности похожи на деньги. Когда листья вырастут, их не отличишь от настоящих.
— Вы правы, они похожи на деньги, — согласился наш банкир. — Такими бумажками очень многих можно будет одурачить. Может быть, даже всех. Может, вообще ни одна душа не догадается, что это не деньги. Но если станет известно, откуда они взялись, как, по — вашему, велика ли им будет цена? Хуже того, станут подозревать, что все деньги, сколько их есть в Милвилле, фальшивые. Если мы можем вырастить бумажки по пятьдесят долларов, отчего бы нам не разводить и десятки, и двадцатки?
— И чего вы расшумелись! — выкрикнул Чарли Хаттон. Никто ничего и не узнает, только болтать ни к чему. Будем держать язык за зубами. Все дадим клятву, что никому и полсловечка не скажем.
Толпа одобрительно загудела. Дэниел Виллоуби весь побагровел — того и гляди, хватит удар. Одна мысль о такой массе фальшивых денег невыносимо оскорбляла его нежную душу.
— Все это сможет решить моя комиссия, — ласково промолвил наш мэр.
По тому, как он это сказал, стало совершенно ясно, что у него на уме и какое решение примет эта самая комиссия.
— Вот что, Хигги, — вмешался адвокат Николс. — Мы упускаем из виду еще одно обстоятельство. Эти деньги не наши.
Мэр в ярости уставился на него.
— А чьи же?
— Как чьи? Конечно, Брэда. Они выросли на его земле значит, это его собственность. Ни один суд не решит по — другому.
Все так и застыли. Все взгляды обратились на меня. Я почувствовал себя загнанным кроликом, на которого наставлены сотни ружейных дул.
— Вы в этом твердо уверены? — через силу выговорил Хигги.
— Безусловно, — сказал Николс.
В мертвой тишине десятки пар глаз по — прежнему держали меня на прицеле.
Я осмотрелся — все с вызовом встречали мой взгляд. И никто не говорил ни слова.
Несчастные, слепые, сбитые с толку дураки. Они учуяли одно: деньги у себя в кармане, богатство, о каком никто из них и мечтать не смел. И не понимают, что это — угроза (а быть может, обещание?), с какой стучится к нам чуждое, неведомое племя, добиваясь доступа в наш мир. И откуда им знать, что из — за экого чужого племени над куполом, которым накрыт наш город, бешеным финалом разнузданных, неукротимых сил готова вспыхнуть слепящая смерть?
— Не нужны мне эти бумажки, мэр, — сказал я.
— Что ж, — отозвался Хигги, — это очень благородно с твоей стороны, Брэд. Надо полагать, люди по достоинству оценят твой поступок.
— Не мешает оценить, черт побери, — сказал адвокат Николс.
И вдруг послышался отчаянный женский крик… еще один… Крики доносились откуда — то сзади, я круто обернулся.
С холма, от дома доктора Фабиана, бежала женщина… впрочем, бежала — не то слово. Она силилась бежать, но только еле — еле ковыляла. Все тело ее корчилось в судорогах непомерного напряжения, она протянута вперед руки, чтобы опереться на них, если упадет, шагнула еще раз — и не удержалась на ногах, покатилась по косогору и наконец обмякла в какой — то выбоинке бесформенной кучей тряпья.
— Майра! — вскрикнул Николс. — Майра, что случилось?!
Это была миссис Фабиан; на зелени травы, в солнечных лучах сверкали до странности яркой белизной ее седые волосы. Она всегда была маленькая, хрупкая — в чем только душа держится, — да еще много лет назад ее скрутил артрит, и теперь страшно и жалко было смотреть на этот несчастный, чуть живой комочек.
Я кинулся к ней, за мной — остальные.
Билл Доневен добежал первым, опустился на колени и взял ее на руки.
— Все хорошо, — уговаривал он, — все обойдется! Поглядите, тут все — ваши друзья.
Миссис Фабиан открыта глаза: казалось, она цела и невредима, но она лежала на руках у Билла, как младенец, и даже не пробовала шевельнуться. Седые волосы упали ей на лицо. Билл бережно отвел их огромной, неловкой, заскорузлой от черной работы ручищей.
— Доктору плохо, — выговорила наконец миссис Фабиан. Он без сознания…
— Да он же час назад был жив и здоров! — заспорил Хигги. — Я только час назад с ним говорил.
Миссис Фабиан подождала, пока он замолчит, и повторила:
— Он без сознания, и я не могу привести его в чувство. Он прилег вздремнуть, а теперь его никак не добудиться.
Билл Доневен поднялся, все еще держа ее на руках, как ребенка. Она была такая крохотная, а Билл такой огромный, что казалось — в руках у него кукла, просто кукла с милым сморщенным личиком.
— Помогите ему, — попросила миссис Фабиан. — Он всю свою жизнь вам помогал. А теперь ему самому нужно помочь.
Норма Шепард тронула Доневена за локоть.
— Отнесите ее в дом. Я о ней позабочусь.
— А мой муж? — настойчиво повторила миссис Фабиан. Кто ему поможет? Вы придумаете, как ему помочь?
— Ну, конечно, Майра, — пообещал Хигги. — Мы его без помощи не оставим. Мы ему стольким обязаны. Конечно, мы что — нибудь да придумаем.
С миссис Фабиан на руках Доневен двинулся в гору. Норма Шепард побежала вперед.
— Пойдемте еще кто — нибудь, — предложил Батч Ормсби. Поглядим, что можно сделать для нашего доктора.
— Ну, что скажешь, Хигги? — спросил Чарли Патрон. — Ты жирная морда, тут разорялся громче всех. А как ты ему поможешь?
— Кто — то должен же ему помочь! — объявил дядюшка Эндрюс и для пущей выразительности стукнул костылем оземь. — Сейчас док нужен, как никогда, без него нам пропадать. Так ли, эдак ли, а надо поскорей составить его на ноги, больше некому лечить наших больных.
— Все, что можно, мы сделаем, — сказал Лен Стритер. Прежде всего уложим его поудобнее. И вообще в меру нашего разумения о нем позаботимся. Но ведь никто из нас в медицине не смыслит…
— Вот что, — опять заговорил Хигги. — Свяжитесь — ка кто — нибудь по телефону с кем — нибудь из врачей и расскажите им, что к чему. Мы им опишем, что творится с больным, может, тогда они определят, какая это болезнь, и присоветуют, как быть. Норма у нас сестра — ну, хоть без настоящего образования, а все — таки уже года четыре доктору помогает, так что и она сейчас нам опора.
— Да, пожалуй, больше ничего не выдумаешь, — сказал Стритер. — Но только этого мало.
— Слушайте, люди добрые! — громким голосом заявил дядюшка Эндрюс. — Стоять да языки чесать — от этого толку не будет. Надо дело делать, да поживей!
Что и говорить, Стритер прав. Может, ничего больше мы сделать не в силах, но этого слишком мало. Медицина — это не только слова и советы по телефону. А в Милвилле и кроме лежащего без памяти доктора есть больные, и они нуждаются в таком сложном лечении, что он не сумеет им помочь, даже если сам и поднимется на ноги.
Но, пожалуй, тут может помочь еще кое — кто — и если они могут, пусть не пробуют отвертеться, не то я уж как — нибудь да проберусь к ним опять и с корнями повыдергаю их из земли.
Пора уже тому, другому миру раскачаться. Ведь не кто — нибудь, а Цветы втравили нас в беду, так пускай теперь выручают. Они непременно хотят доказать нам, что умеют творить чудеса? Нам нужней другие доказательства, куда более веские, чем кусты с долларами вместо листьев и прочие дурацкие фокусы.
Можно бы, конечно, позвонить по одному из телефонов, взятых в лачуге у Шкалика, они хранятся в муниципалитете, но, чтоб до них добраться, мне сперва пришлось бы, наверно, проломить башку Хайраму. Нет, новой стычки с Хайрамом я сейчас не жажду.
Я поискал глазами Шервуда — ни его, ни Нэнси не видать. Может, кто — нибудь из них сейчас дома, тогда я смогу позвонить из кабинета Шервуда.
Довольно много народу двинулось к дому доктора Фабиана; я повернулся и пошел в противоположную сторону.
20
Мне долго не отворяли. Я позвонил несколько раз, подождал, потом толкнул дверь — она оказалась не запертой.
Я вошел в дом и затворил за собой дверь. Стук ее утонул в торжественной тишине, что стояла в прихожей и дальше, до самой кухни.
— Есть кто дома? — крикнул я.
Где — то отчаянно зажужжала одинокая муха — верно, застряла, как в западне, между стеклом и занавеской, и никак не вырвется. В полукруглое окошко над дверью вливались солнечные лучи — на полу расплескалась узорчатая лужица яркого света.
Мне никто не отозвался, и я прошел через прихожую в кабинет. На массивном письменном столе по — прежнему стоял телефон без диска. Как прежде, поражали сплошные стены книг в дорогих переплетах. На шкафчике с напитками стояли наполовину пустая бутылка виски и невымытый бокал.
По толстому ковру я дошел до стола и придвинул к себе телефон.
Едва я снял трубку, Таппер сказал знакомым голосом делового человека:
— Наконец — то, мистер Картер, как приятно вас слышать! Надеемся, что все идет хорошо. Вы, надо полагать, уже начали предварительные переговоры?
Как будто они сами не знают!
— Я вам не потому звоню, — резко сказал я.
— Но ведь таков был уговор. Мы рассчитываем, что вы выступаете от нашего имени.
От этой вкрадчивой и невозмутимой любезности меня взорвало.
— А вы при этом выставляете меня круглым дураком? Такого уговора не было!
— Мы вас не понимаем, — испуганно и удивленно сказал деловитый голос. — Будьте так добры, поясните свою мысль.
— А «машина времени»?
— Ах, это…
— Да, «ах, это»!
— Но, мистер Картер, если бы мы попросили вас захватить ее с собой, вы решили бы, что мы злоупотребляем вашими услугами. Вероятно, вы бы не согласились.
— А так вы не злоупотребили моими услугами?
— Н — ну, отчасти… Нам была необходима чья — то помощь. Чрезвычайно важно было переправить этот механизм в ваш мир. Как только вы ознакомитесь с нашими планами…
— Плевать мне на ваши планы! — обозлился я. — Вы меня обманули и сами в этом признаетесь. Хорош способ завязывать отношения с другим народом!
— Мы крайне об этом сожалеем. Не о том, что именно сделано, но о том, как сделано. Если мы можем быть чем — либо полезны…
— Очень даже можете. Первым делом прекратите это жульничество с деньгами на кустах.
— Но это же вознаграждение! Мы ведь говорили, что вернем вам полторы тысячи долларов. Мы обещали, что вы получите не полторы тысячи, а гораздо больше…
— Вы когда — нибудь просили ваших чтецов читать вам книги по экономике?
— Ну, разумеется!
— И вы что же, сами долгое время наблюдали за тем, как строится наша экономика?
— В меру своих сил. Иногда понять очень трудно.
— Конечно, вам известно, что деньги растут на кустах.
— Нет, ничего такого нам не известно. Мы только знаем, как они делаются. Но какая разница? Деньги есть деньги, откуда бы они ни исходили, — разве не так?
— Вы глубоко ошибаетесь, — сказал я. — Вам следует получше ознакомиться с этим вопросом.
— Разве наши деньги не годятся?
— Ни черта не стоят ваши деньги.
— Надеемся, что мы никому не причинили вреда, — удрученно промолвили Цветы.
— Деньги — это не так важно, — сказал я. — Есть вещи поважнее. Вы отрезали нас от окружающего мира, а у нас тут есть больные. И на весь город только один врач, несчастный старик, не бог весть какой мастер своего дела. Сейчас он и сам заболел, а другие врачи по вашей милости не могут к нам попасть.
— Вам нужен распорядитель.
— Нам нужно избавиться от барьера, чтобы мы могли, если надо, выбраться из Милвилла, а приезжие могли попасть к нам. Иначе неизбежно умрут люди, которых ничего не стоит спасти.
— Мы пришлем распорядителя, — был ответ. — Сейчас же пришлем. Величайшего знатока. Самого опытного, самого лучшего.
— Насчет распорядителя не знаю. Но нам нужна помощь, да поскорее.
— Мы сделаем все, что в наших силах, — пообещали Цветы.
Голос умолк, в трубке все заглохло. И вдруг я спохватился, что не спросил о самом главном: для чего им понадобилось перебросить к нам «машину времени»?
Я постучал по рычагу. Положил трубку, снова снял. Стал кричать, звать — все без толку.
Оттолкнув аппарат, я растерянно остановился среди комнаты. Безнадежно, ничего тут не добьешься.
Столько лет они нас изучали — и все равно не понимают ни нас самих, ни того, как устроено наше общество. Они до сих пор не поняли, что деньги — не просто клочок бумаги, а символ. Они даже не задумывались над тем, что может случиться с городом, начисто отрезанным от мира.
Они меня обманули, воспользовавшись мною как слепым орудием, а им следовало бы знать, что никакая иная обида не вызывает такой злости и досады, как обман. Они должны бы это знать, но не знали, а может, и знали, да отмахнулись, как от мелочи, от пустяка, — и это еще хуже!
Я вышел из кабинета в прихожую. И не успел сделать нескольких шагов, как парадная дверь отворилась и вошла Нэнси.
Я остановился у лестницы, ведущей на второй этаж, минуту мы стояли и смотрели друг на друга и не знали, что сказать.
— Мне надо было позвонить по тому телефону, — выговорил я наконец.
Нэнси кивнула.
— Еще я хотел сказать… мне очень неприятно из — за этой драки с Хайрамом.
— Мне тоже. — Она то ли не поняла меня, то ли притворилась, будто не понимает. — Но, мне кажется, ты не мог иначе.
— Он запустил в меня телефоном.
Но, конечно, суть не в телефоне, не только в телефоне. Сколько раз так бывало и раньше, до всяких телефонов.
— Помнишь, в тот вечер ты сказала, что мы выберем время и съездим куда — нибудь — выпьем, поужинаем. Видно, придется с этим подождать. Сейчас из Милвилла никуда не выберешься.
— Да, тогда мы бы начали все сначала.
Я молча кивнул, худо было у меня на душе.
— Я собиралась одеться понаряднее, — продолжала Нэнси, — и мы бы повеселились вовсю.
— Как будто мы опять школьники, — сказал я.
— Брэд…
— Да.
Я шагнул к ней. И вдруг она очутилась в моих объятиях.
— Можно обойтись без выпивки и без ужина, — сказала она. — Нам с тобой это ни к чему.
Да, правда, подумал я, нам это ни к чему.
Я наклонился и поцеловал ее, и обнял крепче, и во всем мире остались только мы двое. Не стало ни плененного, отрезанного городка, ни угрозы чуждого нашествия. Осталось одно, только одно важно: девушка, с которой мы когда — то ходили по улицам, взявшись за руки, и которая ничуть этого не стыдилась.
21
Распорядитель прибыл в тот же день — маленький, сухонький гуманоид, похожий на обезьянку, с живыми, блестящими глазами. С ним явился еще один гуманоид, совсем другого склада — огромный, несуразный и неуклюжий, хмурый, суровый, с лошадиной физиономией. Ни дать ни взять газетная карикатура на дипломата. Сухонький драпировался, точно в мантию, в какую — то бесформенную и не слишком чистую тряпку; на долговязом была набедренная повязка и что — то вроде жилета с огромными карманами, до отказа набитыми разной разностью.
Все население Милвилла загодя выстроилось на косогоре позади моего дома; бились об заклад, что никакой помощи нам не дождаться. Куда бы я ни двинулся, все переходили на шепот, а то и вовсе умолкали.
А потом появились эти двое — просто неведомо откуда возникли посреди сада.
Я спустился с холма и пошел к ним через сад. Они стояли и ждали, а позади меня, на косогоре, густая толпа затаила дыхание.
Когда я подошел ближе, великан шагнул мне навстречу, сухонький — за ним, чуть поотстав.
— Я недавно говорю по вашему языку, — сказал великан. Когда непонятно, спрашивайте еще раз.
— Вы очень хорошо говорите, — заверил я.
— Вы — это мистер Картер?
— Совершенно верно. А вы?
— Мое название для вас непонятица, — серьезно сказал он. — Я так решаю, вы меня только зовите мистер Смит.
— Милости просим, мистер Смит, — сказал я. — Все мы вам очень рады. Вы и есть распорядитель, о котором мне говорили?
— Не я. Вот этот. Но у него нет названия, чтобы я вам сказал. Он не говорит звуками. Он слышит и отвечает просто мозгом. Он немножко странный.
— Телепат, — сказал я.
— Да, только понимайте меня верно. Он очень большой ум. И все умеет сразу, скоро. Видите, мы из разных миров. Есть много разных миров, много разных народов. Мы рады принять вас тоже.
— Вас послали к нам как переводчика?
— Переводчика? Не ухватываю значение. Я выучил ваши слова очень скоро от механизма. Имел немного времени. Не удалось поймать все слова.
— Переводчик — это значит, вы говорите за него. Он скажет вам, а вы — нам.
— Так, конечно. И тоже вы скажете мне, а я — ему. Но я переводчик — это не все. Я тоже дипломат, очень сильно обученный.
— То есть?
— Помогать переговорам с вашим народом. Всему помогать изо всех сил. Наверно, очень много объяснять. Делать всякую помощь, что вам нужно.
— Вы сказали, есть много разных миров и много разных народов. Это значит — длинная, непрерывная цепь миров и народов?
— Не в каждом мире есть народ. В некоторых никого нет. Совсем никого живого. В других мирах есть живые, но нет разумных. Еще в других прежде жили разумные, но теперь нет. Он как — то странно повел рукой. — Это очень печально, что случается с разумной жизнью. Она сильно непрочная, она не может оставаться всегда.
— А разумные существа все — гуманоиды?
— Гуманоиды? — неуверенно переспросил великан.
— Ну, такие, как мы. Две руки, две ноги, голова.
— Больше всех гуманоиды, — подтвердил он. — Больше всех — как вы и я.
Сухонький вдруг забеспокоился и стал дергать моего собеседника за жилет. Великан обернулся и замер — воплощенное внимание. Потом вновь повернулся ко мне.
— Очень волнуется, — объяснил он. — Говорит, все здесь больные. Страдает большой жалостью. Никогда не видел столько ужасно больных.
— Да нет же! — воскликнул я. — Он ошибается, больные лежат у себя дома. Тут все здоровые.
— Это не может быть, — сказал мистер Смит. — Он горестно поражен. Может видеть внутри человека, видит — все плохо. Говорит, кто сейчас не больной, очень скоро сделается больной, говорит, внутри у многих болезнь пока спит, может проснуться, у других внутри мусор от прежних болезней, надо выбросить.
— А он может их подправить?
— Не подправить. Полная починка. Тело будет совсем как новое.
Между тем к нам потихоньку придвигался Хигги и за ним еще несколько человек. Большинство оставалось на косогоре, подальше от греха. И понемногу в толпе поднялся глухой говор. Сперва все онемели от изумления, но теперь языки развязались.
— Хигги, — позвал я, — познакомься с мистером Смитом.
— Смотри — ка! — удивился Хигги. — У них такие же имена, как у нас!
Он протянул руку, мистер Смит секунду смотрел на нее с недоумением, потом подал свою, и они обменялись рукопожатием.
— Тот, другой, не может говорить, — объяснил я. — Он телепат.
— Вот жалость! — посочувствовал Хигги. — А который из них врач?
— Маленький, — сказал я. — И еще не известно, можно ли назвать его врачом. Похоже, что он чинит людей, они у него получаются как новенькие.
— Ну, — заметил Хигги, — собственно, докторам так и полагается, только это у них не очень выходит.
— Он говорит, мы тут все как есть больные. И хочет всех нас привести в порядок.
— Что ж, очень хорошо, — одобрил Хигги. — Весьма любезно с его стороны. Можно в здании муниципалитета устроить клинику.
— Но ведь по — настоящему у нас больны только доктор Фабиан, Флойд и еще кое — кто. Он пришел лечить их, а не нас.
— Ну что ж, сперва сведем его к ним, пускай он их вылечит, а потом устроим клинику. Раз уж он здесь, мы все попользуемся.
— Если вы придете в соединение со всеми нами, вы можете получать такую услугу, как от него, в каждую надобную вам минуту, — вставил свое слово мистер Смит.
— Про какое соединение он толкует? — спросил Хигги.
— Это чтобы мы впустили на Землю пришельцев и присоединились к другим мирам, их много и Цветы связали их между собой, — объяснил я.
— А что, в этом есть смысл, — сказал Хигги. — И, наверно, он ничего с нас не возьмет за услуги?
— Как это — возьмет? — спросил Смит.
— Ну — платы, — пояснил Хигги. — Звонкой монеты. Гонорара.
— Эти выражения не постигаю, — сказал Смит. — Но надо все делать скоро, у моего собрата есть пациенты и кроме. Он и коллеги имеют призвание обходить много миров.
— Значит, они — доктора и для других миров? — переспросил я.
— Вы ясно ухватили мое значение.
— Стало быть, время терять не приходится, — сказал Хигги. — Тогда займемся делом. Угодно вам обоим последовать за мной?
— Со рвением! — воскликнул Смит.
И гости вслед за Хигги стали подниматься в гору, потом зашагали по улице. Я побрел было за ними, но тут из моего дома с черного хода выбежал Джо Эванс.
— Брэд! — закричал он. — Тебе звонят из госдепартамента!
Меня вызывал Ньюком.
— Я сейчас нахожусь в Элморе, — сказал он, по своему обыкновению сухо и отрывисто. — Мы здесь вкратце передаем представителям печати то, что вы нам сообщили. Но они требуют встречи с вами, им, видите ли, непременно надо с вами говорить.
— Что ж, я не против. Пускай подойдут к барьеру.
— А я очень против, — с досадой сказал Ньюком, — но они так нажимают, что нет возможности отказать. Я вынужден дать согласие. Полагаюсь на вашу скромность.
— Сделаю, что могу, — сказал я.
— Хорошо. Воспрепятствовать не в моих силах. Через два часа. На том же месте, где мы тогда встречались.
— Ладно, — сказал я. — Надеюсь, я могу привести с собой приятеля?
— Можете, — разрешил Ньюком. — И ради всего святого будьте поосторожнее!
22
С понятием пресс — конференции мистер Смит освоился очень легко. Я объяснил ему, в чем тут соль, по дороге к барьеру, где нас ждали журналисты.
— Значит, они — передатчики, — сказал он, еще раз проверяя, так ли понял. — Вы им нечто говорите, а они говорят другим. Переводчики, как я.
— Да, в этом роде.
— Но ваш народ говорит одинаково. Механизм учил меня одному языку только.
— Потому что вам больше и не надо. Но люди на Земле говорят на разных языках. Впрочем, газетчики нужны не поэтому. Понимаете, весь народ сразу не может собраться и выслушать то, что мы хотим сказать. Поэтому задача репортеров распространять новости.
— Новости?
— То, что мы скажем. Или что скажет еще кто — нибудь. Их дело — сообщать обо всем, что происходит. Где бы что ни случилось, репортеры тут как тут — и сразу сообщают. Держат весь мир в курсе событий.
Смит чуть не пустился в пляс от восторга.
— Как прекрасно! — воскликнул он.
— Что ж тут прекрасного?
— Так изобретательно! Придумать все это! Таким способом один разумный говорит со всеми разумными. Все про него знают. Все слышат, что у него есть сказать.
Вот и барьер, по другую его сторону, на ближайшем клочке шоссе, толпятся репортеры. Цепочка их тянется вправо и влево от полосы асфальта. Мы подходим, а фотографы и кинооператоры без передышки нас снимают.
Наконец мы у самого барьера, с той стороны сразу десятки голосов начинают что — то выкрикивать, но тотчас же кто — то наводит порядок, и тогда заговаривает один:
— Я Джадсон Барнс, от Ассошиэйтед Пресс. А вы, очевидно, Картер?
— Он самый.
— А кто этот джентльмен, ваш спутник?
— Его зовут Смит, — сказал я.
— Он, видно, прямо с маскарада? — поинтересовался кто — то другой.
— Нет, он — гуманоид с одного из смежных миров. Он будет помогать нам вести переговоры.
— Здравствуйте, сэры, — солидно и дружелюбно промолвил мистер Смит.
Из задних рядов кто — то выкрикнул:
— Нам тут не слышно!
— Есть микрофон, — сказав Барнс. — Вы не возражаете?
— Кидайте сюда, — сказал я.
Барнс бросил микрофон, я подхватил его на лету. Провод протянулся сквозь барьер. Со своего места я видел рупоры, установленные на обочине.
— Пожалуй, можно начинать, — сказал Барнс. — От властей мы, понятно, информацию получили, вам незачем повторять все, что вы им раньше рассказывали. Но есть кое — какие вопросы. И даже много вопросов.
Кверху взметнулась добрая дюжина рук.
— Давайте им слово по одному, — предложил Барнс.
Я кивнул долговязому сухопарому субъекту.
— Благодарю вас, сэр. Калеб Риверс, от «Канзас — Сити стар», — представился он. — Насколько мы понимаем, вы сейчас выступаете от лица — как бы это выразиться? — от лица другого народа, от населения другого мира. Не могли бы вы точнее определить свое положением. Выступаете вы как их официальный представитель, или неофициальный оратор, или своего рода посредник? Этого нам пока никто не разъяснил.
— Я отнюдь не официальное лицо. Вы что — нибудь слыхали про моего отца?
— Да, — сказал Риверс, — нам говорили, что он нашел какие — то цветы и очень заботливо за ними ухаживал. Но согласитесь, мистер Картер, что это, мягко говоря, еще не делает вас пригодным для роли, которую вы сейчас играете.
— Ни для какой я роли не пригоден. Скажу по совести, эти пришельцы вряд ли могли выбрать худшего представителя. Но тут есть два обстоятельства, с которыми волей — неволей надо считаться. Во — первых, кроме меня, никого нет под рукой, я — единственный человек, который побывал в том мире. Во — вторых, и это очень важно, они мыслят не так, как мы, они просто не могут думать по — нашему. То, что с их точки зрения разумно и логично, с нашей, может быть, просто глупо. И наоборот, наши самые блестящие рассуждения могут им показаться вздором.
— Понимаю, — сказал Риверс. — Но, хотя вы откровенно признаете, что не годитесь на роль дипломата и посредника, вы все же за нее взялись. Не объясните ли нам, почему именно?
— У меня нет другого выхода. Положение таково, что надо попытаться поскорее установить хоть какое — то взаимопонимание между нами и тем народом. Не то начнется хаос, и тогда с ним уже не совладать.
— Что вы имеете в виду?
— Сейчас весь мир напуган, — сказал я. — Нужно как — то объяснить, что же происходит. Нет ничего хуже бессмысленных случайностей, беспричинных страхов, а покуда тот народ считает, что для взаимопонимания что — то делается, они, я думаю, оставят этот барьер как есть и ничего другого не предпримут. Сейчас они, по — моему, ничего нового не затевают. Я надеюсь, что положение хуже не станет, а тем временем, может, мы с ними до чего — нибудь и договоримся.
Мне махали руками другие репортеры, и я дал одному знак говорить.
— Фрэнк Робертс от «Вашингтон пост», — представился он. — У меня вопрос относительно этих переговоров. Насколько я понял, чужаки хотят получить доступ в наш мир, а взамен предлагают нам пользоваться богатым запасом знаний, собранных ими за долгое время.
— Все правильно, — сказал я.
— Для чего им нужно, чтобы мы их к себе пустили?
— Я и сам не вполне понимаю. Видимо, только через нашу Землю они могут двигаться дальше, в другие миры. Похоже, что все эти смежные миры расположены в определенном порядке и надо идти подряд, перескакивать нельзя. Честно признаюсь, вся эта премудрость мне не по зубам. Сейчас можно сделать только одно: согласиться вести с ними переговоры.
— Кроме общего предложения вступить в переговоры, вам не известны какие — либо конкретные условия?
— Нет. Может, какие — то условия и существуют. Но я их не знаю.
— Однако сейчас у вас есть… ну, скажем, советник. Нельзя ли задать вопрос непосредственно этому вашему мистеру Смиту?
— Вопрос? — встрепенулся Смит. — Принимаю ваш вопрос!
Он явно обрадовался, что и на него обратили внимание. Не без опаски я передал ему микрофон.
— Говорите прямо в эту штуку, — предупредил я его.
— Знаю. Я наблюдал.
— Вы отлично владеете нашим языком, — сказал ему корреспондент «Вашингтон пост».
— Немножко. Механизм учил меня.
— Можете вы что — нибудь прибавить относительно особых условий?
— Не ухватываю, — сказал Смит.
— Есть ли какие — то условия, на которых вы и все народы других миров будете настаивать, прежде чем прийти к соглашению с нами?
— Единственно только одно.
— Какое же?
— Проливаю свет. У вас есть явление, называется война. Очень плохо, конечно, но можно исправить. Рано или поздно народы вырастают из детства и перестают играть войной.
Он помолчал, обвел всех взглядом. Журналисты молча ждали. Наконец кто — то — не корреспондент «Вашингтон пост» сказал:
— Да, конечно, в войне хорошего мало, но при чем тут…
— Сейчас отвечаю, — сказал Смит. — У вас очень много расщепительного… не отыскиваю слово…
— Расщепляющихся материалов, — подсказал кто — то.
— Совсем верно. Расщепляющиеся материалы. У вас их много. Так один раз было в одном другом мире. Когда мы пришли, уже ничего не осталось. Никого живого. Нигде совсем ничего. Было так печально. Всякая жизнь погублена и кончена. Мы опять устроили там жизнь, но об этом так печально думать. Не должно случиться здесь. Значит, мы необходимо настаиваем: такие расщепляющиеся материалы разделить далеко, в разных местах, в каждом месте немножко.
— Э, постойте — ка! — закричал кто — то из репортеров. — Вы требуете разделить расщепляющиеся материалы. Как я понимаю, вы хотите, чтобы мы рассредоточили запасы, разобрали бомбы и чтобы в одном месте могло храниться лишь самое ничтожное количество. Чтобы нельзя было собрать никакой бомбы, так, что ли?
— Вы очень скоро понимаете, — сказал Смит.
— А откуда вы узнаете, что материалы и вправду рассредоточены? Может, какое — нибудь государство скажет, что оно выполнило ваше условие, а на самом деле все останется, как было? Почем знать? Как вы это проверите?
— Будем наблюдать.
— У вас есть способ как — то обнаружить расщепляющиеся материалы?
— Так, совсем правильно, — подтвердил Смит.
— Ну, даже если вы будете знать… скажем так: вы обнаружили, что где — то остались большие количества, не рассредоточенные… и как вы поступите?
— Распустим их в воздух, — скамью Смит. — Очень громко обезвредим.
— Но…
— Мы назначаем окончательное время. Непременно в такой день все запасы разделить. Пришел такой день, и в некотором месте запасы все равно есть, тогда они авто… авто…
— …автоматически.
— Спасибо, очень добрый. Это самое слово, никак не мог достать. Они автоматически взрываются в воздух.
Настила неловкое молчание. Я понимал, репортеры гадают: может, их провели, разыграли? Может, они просто попались на удочку ловкого мошенника в каком — то дурацком жилете?
— Уже наш механизм совсем точно показывает, где есть все запасы, — небрежно заметил Смит.
— Ах, черт меня подери! — охрипшим от волнения голосом выкрикнул кто — то. — Та летучая машинка времени!
И тут они как с цепи сорвались — наперегонки бросились к своим машинам. Никто нам больше слова не сказал, никто и не подумал с нами попрощаться: они спешили сообщить миру новость.
Ну, вот и все, подумал я с горечью. Я был точно выжатый лимон.
Теперь пришельцы вольны нагрянуть к нам, когда им вздумается и как вздумается, человечество будет в восторге. Они не могли бы найти лучшего способа добиться своего — никакие доводы, уговоры, никакие посулы и приманки не принесли бы им такого быстрого и верного успеха. Эта новость вызовет бурю ликования во всем мире, миллионы людей потребуют, чтобы их правительства немедля согласились на это единственное выставленное пришельцами условие, и никто не станет слушать никаких здравых и трезвых советов.
Любое соглашение между нами и пришельцами, если это не пустые слова, а договор, который можно осуществить на деле, непременно должно бы строиться на практической, реальной основе, чтобы было какое — то равновесие и возможность проверки. Каждая сторона обязуется внести свой вклад — и твердо знает, что, нарушив обязательства, неминуемо должна будет понести определенное наказание. А теперь конец всякому равновесию и всякой проверке, дорога пришельцам открыта. Они предложили то единственное, чего жаждали народы — не правительства, а именно народы, во всяком случае, верили, что жаждут этого превыше всего на свете — и, конечно, будут этого требовать, и ничем их не остановишь.
И все это обман. Меня обманом заставили пронести на Землю ту машинку, меня прижали к стене, так что поневоле пришлось просить о помощи, — и помощь явилась в лице этого самого Смита, по крайней мере он в ней участвует. И его сообщение о единственном условии пришельцев тоже едва ли не обман. Все это старо, как мир. Люди ли, пришельцы ли — все одинаковы. Если чего захочется позарез — добывают правдами и неправдами, не стесняются, тут уж все средства хороши.
Где нам с ними тягаться. Они с самого начала умели нас перехитрить, а теперь мы и вовсе выпустили вожжи из рук, и на этом Земле — крышка.
Смит удивленно смотрит вслед убегающим репортерам.
— Что такое?
Будто не понимает. Ох, свернуть бы ему шею…
— Идем, — сказал я. — Отведу вас в муниципалитет. Ваш приятель сейчас там лечит людей.
— Но почему так бегут? Почему так кричат? Какая причина?
— Еще спрашивает! — сказал я. — Вы же сами заварили эту кашу.
23
Я вернулся домой — и застал там Нэнси, она ждала меня, сидя на крыльце. Она вся сжалась, затаилась, одна против всего мира. Я увидал ее издали и ускорил шаг, никогда в жизни я так ей не радовался. Во мне все смешалось: и радость, и смирение, и такая нахлынула безмерная, еще ни разу не испытанная нежность, что я едва не задохнулся.
Бедная девочка! Нелегко ей. Дня не прошло, как она вернулась домой, и вдруг в ее родном доме, в том Милвилле, какой она помнила и любила, все полетело в тартарары.
Из сада, где, наверно, все еще росли на кустиках крохотные пятидесятидолларовые бумажки, донесся крик.
Я отворил калитку, услыхал этот яростный вопль да так и застыл.
Нэнси подняла голову и увидела меня.
— Это ничего, Брэд, — успокоила она. — Это просто Хайрам. Хигги велел ему сторожить деньги. А в сад все время лезут ребятишки, знаешь, мелюзга лет по восемь, по десять. Им только хочется сосчитать, сколько денег на каждом кусте. Они ничего плохого не делают. А Хайрам все равно их гоняет. Знаешь, иногда мне его жалко.
— Хайрама жалко? — изумился я. Вот уж не ждал: по — моему, можно пожалеть кого угодно, только не Хайрама. — Да он же просто болван и гад.
— Но этот болван и гад что — то хочет доказать всему свету, а что — и сам не знает.
— Что у него силы, как у быка…
— Нет, — сказала Нэнси, — совсем не в том суть.
Из сада во весь дух выбежали два мальчугана и мигом скрылись в конце улицы. Хайрама не было видно. И вопли затихли. Он свое дело сделал: прогнал мальчишек.
Я сел на ступеньку рядом с Нэнси.
— Брэд, — сказала она. — Все очень нехорошо. Все идет как — то не так.
Я только головой мотнул: конечно, она права.
— Я была в муниципалитете, — продолжала Нэнси. — Там это ужасное существо, эта сморщенная обезьяна всех лечит. Папа тоже там. Помогает. А я просто не могла оставаться. Это невыносимо.
— Ну, что уж тут такого плохого? Этот… это существо называй как хочешь, — вылечил нашего дока Фабиана. Док опять на ногах, бодрый, будто заново родился. И у Флойда Колдуэлла больше не болит сердце, и…
Ее передернуло.
— Вот это и ужасно. Они все как будто заново родились. Стали крепче и здоровей, чем когда — либо. Он их не лечит, Брэд, он их чинит, как машины. Колдовство какое — то. Даже непристойно. Какой — то сухой, морщинистый карлик оглядывает людей, не говоря ни слова, просто обходит кругом и оглядывает со всех сторон, и совершенно ясно, что он их не снаружи осматривает, а заглядывает в самое нутро. Я это чувствую. Не знаю как, но чувствую. Как будто он залезает к нам внутрь и… — Она вдруг оборвала на полуслове. — Ты меня прости. Напрасно я так говорю. Это даже как — то не очень прилично.
— Вообще наше положение не очень приличное, — сказал я. — Пожалуй, придется менять свои понятия о том, что прилично, а что неприлично. Пожалуй, очень многое придется менять и самим меняться. И это будет не слишком приятно.
— Ты говоришь так, как будто все уже решено.
— Боюсь, что так оно и есть.
И я повторил ей то, что Смит сказал репортерам. На душе немного полегчало. Больше я ни с кем не мог бы поделиться. Слишком угнетало ощущение собственной вины, всякому другому, кроме Нэнси, я постыдился бы хоть словом обмолвиться.
— Зато теперь не бывать войне, — сказала Нэнси. — Во всяком случае, такой войне, какой все на свете боялись.
— Да, войне не бывать. — Меня это почему — то не очень утешало. — Но с нами может случиться что — нибудь еще похуже войны.
— Хуже войны ничего не может быть.
Ну, конечно, так будут говорить все и каждый. Может быть, они и правы. Но теперь на нашу Землю явятся пришельцы — и, раз уж мы это допустили, мы в их власти. Они нас провели, и нам нечем защищаться. Цветам довольно к нам проникнуть — и они могут вытеснить, подменить собою все растения на всей Земле, а мы и знать ничего не будем, не в наших силах это обнаружить. Стоит их впустить — и мы уже никогда ничего не будем знать наверняка. А с той минуты, как они заменят наши растения, они наши хозяева и повелители. Ибо весь животный мир на Земле, в том числе и человек, существует только благодаря земным растениям.
— Одного не пойму, — сказал я. — Ведь они могли всем завладеть и без нашего ведома. Немного времени, немного терпения — и они все равно захватили бы всю Землю, а мы бы ничего и не подозревали. Ведь некоторые уже попали в Милвилл, пустили здесь корни. Им необязательно оставаться цветами. Они могут обратиться во что угодно. За сто лет они подменили бы собой каждую ветку и листок, каждую травинку…
— Может быть, тут важно время, какой — то срок, — сказала Нэнси. — Может быть, им почему — то нельзя ждать так долго.
Я покачал головой.
— Времени у них вдоволь. А захотят — так добудут еще, они умеют им управлять.
— Ну, а если им что — то нужно от людей? Вдруг у вас есть что — то такое, чего им не хватает? Общество, состоящее из растений, само по себе ровно ничего не может. Они не передвигаются, и у них нет рук. Накопить бездну знаний — это они могут, и мыслить, и обдумывать, строить любые планы. А вот осуществить эти планы и замыслы им не под силу. Для этого им нужны товарищи и помощники.
— Помощники у них и сейчас есть, — напомнил я. — Сколько угодно. Кто — то смастерил же для них ту машинку — «машину времени». А доктор, похожий на обезьянку? А верзила Смит? Нет, помощников и сотрудников Цветам хватает. Тут кроется что — то другое.
— Может быть, жители тех миров — обезьянки, великаны не то, что им нужно, — сказала Нэнси. — Может, они переходят из одного мира в другой потому, что ищут какое — то другое человечество. Самое подходящее для них. Ищут подходящих товарищей и сотрудников. Вдруг мы и есть самые подходящие.
— Наверно, все другие оказались недостаточно злыми и подлыми, — вырвалось у меня. — Возможно, они ищут злобное племя, племя убийц. А мы и есть убийцы. Может, им нужны такие, чтоб набрасывались, как бешеные, на новые миры и всюду несли разорение и гибель, — беспощадное племя, свирепое, ужасное. Ведь если вдуматься, мы ужасны. Наверно, Цветы так и рассчитали, что, если они объединятся с нами, их уже никто и ничто не остановит. Вероятно, они правы. У них — богатейшие запасы знаний, могущественный разум, а у нас — понимание физических законов, чутье ко всякой технике: если все это объединить, для них и для нас не останется ничего невозможного.
— А по — моему, совсем не в том дело. Что с тобой, Брэд? С самого начала мне казалось, что эти Цветы, на твой взгляд, не так уж плохи.
— Может, они и не плохи. Но они столько раз меня обманывали, и каждый раз я попадался на удочку. По их милости я — пешка, козел отпущения.
— Так вот что тебя точит.
— Я себя чувствую последним мерзавцем, — признался я.
Мы еще посидели молча. Улица лежала тихая, пустынная. За все время, пока мы сидели вот так рядом на крыльце, мимо ни разу никто не прошел.
— Не понимаю, как люди могут обращаться к этому чужому доктору, — вновь заговорила Нэнси. — Меня от одного его вида жуть берет. Кто его знает…
— Мало ли народу верит знахарям и шарлатанам, — сказал я.
— Но это не шарлатанство. Он и вправду вылечил доктора Фабиана и всех остальных. Я совсем не думаю, что он жулик, только он страшный, отвратительный.
— Может быть, мы ему тоже страшны и отвратительны.
— Тут еще другое. Слишком непривычно он действует. Никаких лекарств, инструментов, никакой терапии. Он просто смотрит на тебя, влезает в самое нутро — безо всякого зонда, но все равно ты это чувствуешь, — и пожалуйста, ты совершенно здоров… не просто вылечился от болезни, а вообще совершенно здоров. Но если он так легко справляется с нашим телом, как насчет духа? Вдруг он может перекроить и наши души, весь строй наших мыслей?
— Некоторым гражданам города Милвилла это было бы совсем не вредно. Хигги Моррису, например.
— Не шути этим, Брэд, — резко сказала Нэнси.
— Ладно. Не буду.
— Ты так говоришь просто, чтобы отогнать страх.
— А ты говоришь об этом так серьезно, потому что стараешься сделать вид, будто все очень просто и обыкновенно.
Нэнси кивнула.
— Только я зря стараюсь, — призналась она. — Совсем это все не просто и не обыкновенно.
Она поднялась.
— Проводи меня.
И я проводил ее до дому.
24
Когда стало смеркаться, я пошел к центру города. Сам не знаю, чего меня туда потянуло. Должно быть, просто я не находил себе места. Слишком большой и слишком пустой у меня дом — никогда еще он не был так пуст, — и слишком тихо все по соседству. Ни звука, лишь изредка, урывками, откуда — то донесется неестественно громкий, механически усиленный голос — то взволнованный, то наставительный. Во всем Милвилле наверняка нет такого дома, где не слушали бы сейчас последних известий по радио или по телевидению.
Но когда я включил было у себя в гостиной телевизор и попробовал смотреть и слушать, мне стало совсем невмоготу.
Комментатор — один из самых популярных — разглагольствовал с необычайным хладнокровием и уверенностью:
«…никакой возможности проверить, действительно ли приспособление, которое сейчас вращается в нашем небе, в состоянии сыграть роль, для которой, как уверяет наш гость из другого мира, мистер Смит, оно предназначено. Оно многократно было замечено радарными установками и всякими наблюдательными пунктами, но похоже, что, по тем или иным причинам, они сразу же теряют его из виду; были также сообщения, и как будто вполне достоверные, о случаях визуального наблюдения. Но более точных и определенных сведений пока получить не удалось.
В Вашингтоне, очевидно, полагают, что неизвестному существу, — а нам ничего не известно ни о его личности, ни о расовой принадлежности, — едва ли можно просто поверить на слово. Видимо, сегодня в столице ждут дополнительных заявлений, исходя из которых возможно будет прийти к более обоснованным выводам, и лишь после этого, вероятно, будет обнародовано какое — либо официальное сообщение.
Такова, разумеется, версия для широкой публики: что делается за кулисами, можно только догадываться. И смело можно сказать, что то же самое происходит во всех столицах на всем земном шаре.
Совсем иное настроение царит вне правительственных сфер. Новость повсеместно вызвала бурю восторга. В Лондоне стихийно возникли манифестации, по улицам движутся веселые, праздничные шествия; Красная площадь в Москве заполнена шумной, ликующей толпой.
Как только новость распространилась, во всех странах в церкви и храмы начал стекаться народ, спеша вознести благодарственные молитвы.
В народных массах не чувствуется ни малейших сомнений и колебаний. Как у нас, в Соединенных Штатах, так и в Англии, во Франции, да и во всем мире простые люди приняли странное заявление пришельцев за чистую монету. Потому ли, что человеку свойственно верить в то, во что хочется поверить, или по каким — то иным причинам, но факт остается фактом: недоверие, которым не далее как сегодня утром встретила новость широкая публика, рассеялось с поразительной быстротой.
По — видимому, общественное мнение отнюдь не склонно учитывать какие — либо привходящие обстоятельства и предполагаемые осложнения. Перед вестью о том, что отныне ядерная война невозможна, все остальное стало мелким и ничтожным. Это лишь показывает, в каком молчаливом, быть может, подсознательном, но страшном и тягостном напряжении жило до сего дня человечество…»
Я выключил телевизор и пошел бродить по дому; быстро темнело, шаги мои непривычно гулко отдавались в пустынных комнатах.
Хорошо этому благодушному, самодовольному комментатору сидеть где — то там, за тысячу миль, в ярко освещенной студии и, по — актерски играя отлично поставленным голосом, неторопливо рассуждать о том, что происходит. Хорошо им всем, всем, кроме меня, даже здесь, в Милвилле, сидеть и слушать его рассуждения. А я не могу слушать… просто выдержать не могу.
Отчего я терзаюсь, виноват я, что ли? Может, и виноват, ведь не кто — нибудь, а я принес на Землю ту машинку, не кто — нибудь, а я привел Смита на пресс — конференцию у барьера. Я свалял дурака — ох, какого же я свалял дурака! — и мне чудится, что всему свету это известно.
А может, после разговора с Нэнси в глубине души у меня зреет уверенность, что есть какая — то малость, какой — то пустяк, случайность, неясное побуждение или мелкое обстоятельство, которое я прозевал, которое никому из нас не удается заметить и понять, — и если бы только уловить эту крупицу истины, все разом станет просто и ясно, и в надвигающейся перемене мы увидим некий смысл?
Я искал эту неизвестную величину, туза, который нежданно обернется козырным, неприметную малость, которую все мы проглядели и которая, однако, сулит последствия необычайной важности, — искал и не находил.
А может быть, я все — таки ошибаюсь. Может быть, ее и нет, этой спасительной неизвестной величины. Просто мы попали в капкан и обречены, и надеяться не на что.
Я вышел из дому и побрел по улице. Идти никуда не хочется, но надо: может, от ходьбы, от вечерней свежести прояснится голова.
За полквартала от дома я услыхал постукивание. Оно как будто приближалось, а вскоре я различил какой — то белый ореол, который словно бы подскакивал в такт этому мерному стуку. Я остановился и смотрел, не понимая, а постукивание и вздрагивающий белый круг все приближались. Еще минута — и я понял: навстречу, в ореоле снежно — белых волос, шла миссис Тайлер, опираясь на неизменную палку.
— Добрый вечер, миссис Тайлер, — сказал я как мог тихо и ласково, чтоб не испугать старуху.
Она остановилась, повернулась ко мне.
— Это Брэдшоу, да? Я плохо вижу, но я узнала тебя по голосу.
— Да, это я. Поздно вы гуляете, миссис Тайлер.
— Я шла к тебе, да только прошла мимо твоего дома. Забывчива стала, вот и прошла мимо. А потом вспомнила и повернула обратно.
— Что я могу для вас сделать?
— Так ведь все говорят, ты видел Таппера. Даже погостил у него.
— Это верно, — признался я.
Меня даже в пот бросило, я со страхом ждал следующего вопроса.
Она придвинулась ближе, закинула голову, всмотрелась мне в лицо.
— А правда, что у него там хорошая служба?
— Да, — сказал я, — очень хорошая.
— И начальство ему доверяет?
— Да, так я понял. Я бы сказал, ему доверен немаловажный пост.
— Он что — нибудь говорил обо мне?
— Да, — солгал я. — Он про вас спрашивал. Сказал, что все хотел вам написать, да уж очень занят.
— Бедный мальчик, он всегда был не мастер писать. А выглядит он хорошо?
— Очень хорошо.
— Я понимаю, он на дипломатической службе. Кто бы подумал, что он станет дипломатом. По совести сказать, неспокойно мне за него было. И понапрасну беспокоилась, глупая старуха — ведь правда?
— Да, конечно, — сказал я. — Он вполне преуспевает.
— А когда он собирается домой, не говорил?
— Пока не собирается. По — видимому, он очень занят.
— Ну что ж, — весело сказала миссис Тайлер. — Теперь мне незачем его искать. Можно и отдохнуть. Не надо выбегать каждый час на улицу смотреть, не идет ли он.
Она повернулась и пошла было прочь.
— Миссис Тайлер, — сказал я, — позвольте, я вас провожу. Становится темно.
— Да что ты! — возразила она. — Зачем меня провожать? Я ничего не боюсь. Раз я знаю, что Таппер жив и здоров и хорошо устроился, мне теперь ничего не страшно.
Я стоял и смотрел ей вслед, белый ореол ее волос мелькал в темноте, постукивала палка; длинной, извилистой тропой брела она в мире своих грез.
Что ж, так лучше. Хорошо, что она может из грубой реальности создать для себя что — то причудливое и отрадное.
Я стоял и смотрел ей вслед, пока она не скрылась за углом и стук палки не заглох в отдалении, потом повернулся и пошел в город.
В торговом квартале горели фонари, но огни в магазинах уже погасли — тревожный знак, ведь обычно почти все они торгуют до девяти. А сейчас даже «Веселая берлога» и кинотеатр — и те закрыты.
В муниципалитете горел свет, у входа слонялись несколько человек. Видно, прием больных подходит к концу. Любопытно, что думает обо всем этом доктор Фабиан. Уж наверно, старика возмущает и ужасает такое неслыханное врачевание, хоть оно его же первого исцелило.
Поглядел я, поглядел, засунул руки глубоко в карманы и поплелся по улице, сам не зная куда и зачем. Что делать, куда девать себя в такой вот вечер? Сидеть дома, уставясь на мерцающий экран телевизора? Уединиться с бутылкой и медленно, но верно напиваться? Отыскать приятеля или соседа, охочего до пустопорожних разговоров, и судить и рядить с ним все о том же, толочь воду в ступе? Или просто забиться в угол потемнее и покорно ждать, что будет дальше?
Я добрел до перекрестка; на улице, что уходила вправо, горел на тротуаре яркий прямоугольник: из какой — то витрины падал свет. Что за притча? А, понятно, это редакция нашей «Трибюн», должно быть, там сидит Джо Эванс и разговаривает по телефону; наверно, ему звонят из Ассошиэйтед Пресс или из «Нью — Йорк таймс» и других газет и требуют самых наиновейших новостей. У Джо сейчас хлопот по горло, мешать ему не надо, но, может, он не будет против, если я на минутку загляну.
Джо и впрямь говорил по телефону, он сгорбился за письменным столом, прижимая трубку к уху. Закрывая за собою дверь, я легонько стукнул ею, Эванс поднял голову и увидел меня.
— Одну минуту, — сказал он в трубку и протянул ее мне.
— Джо, что стряслось? — спросил я.
Потому что явно что — то стряслось. Лицо у Джо было ошеломленное, он уставился на меня расширенными, невидящими глазами. На лбу проступали капельки пота и скатывались до бровей.
— Это Элф, — еле выговорил он непослушными губами.
— Элф, — сказал я в трубку, все еще не сводя глаз с Джо Эванса.
Лицо у Джо такое, словно его только что ударили по голове чем — то большим и очень тяжелым.
— Брэд! — закричал Элф. — Брэд, это ты?
— Ну да, я.
— Где ж ты был? Я сколько времени тебя разыскиваю. Звонил по телефону — никто не подходит…
— А что случилось, Элф? Ты, главное, не волнуйся.
— Ладно, постараюсь не волноваться. Постараюсь поспокойнее.
Очень мне не понравился его тон. Сразу слышно — человек здорово напуган и пытается подавить страх.
— Ну, рассказывай, — поторопил я.
— Насилу добрался до Элмора. Дороги забиты — жуть! Ты сроду такого не видал, что тут творится на дорогах. Всюду военные патрули, заставы…
— Но ты все — таки добрался. Ты мне и раньше говорил, что едешь в Элмор.
— Ну да, все — таки добрался. По радио услыхал про ту делегацию, которая ездила разговаривать с тобой. Сенатор, генерал и прочие. А когда попал в Элмор, слышу, они остановились в этой… как ее, черт… в «Кукурузе», что ли… забыл, как называется. В общем, я подумал — не мешает им знать, что делается у нас в штате Миссисипи. Может, тогда они лучше разберутся, что к чему. И пошел в эту самую гостиницу к сенатору… думал, сумею с ним поговорить. А там сумасшедший дом. Народу кругом — не протолкнешься, полиция сбилась с ног, старается навести порядок. Репортеров — туча, кто с блокнотом, кто с микрофоном, кто с телекамерой… в общем, к сенатору я так и не пробился. Но с одним человеком я все — таки поговорил. В газетах были фотографии, и я его узнал. Дэйвенпорт его фамилия.
— Биолог, — сказал я.
— Ну, да. Ученый. Я припер его к стенке и объясняю мне, мол, непременно надо видеть сенатора. Толку от него было чуть. По — моему, он даже не слыхал, что я ему говорил. Смотрю, он какой — то перевернутый, белый как полотно и пот с него ручьями. Может, вам нездоровится, спрашиваю, может, я могу вам чем — нибудь помочь? Тут он мне все и выложил. Наверно, у него просто с языка сорвалось. Может, он после и пожалел, что проболтался. Но он был до черта зол, вот и не стерпел, в ту минуту ему было на все наплевать. Понимаешь, он был прямо вне себя. В жизни я такого не видал. Вцепился в меня, держит за отвороты пиджака, придвинулся нос к носу, спешит, захлебывается словами, чуть ли не пена изо рта. Если б его совсем не перевернуло, он бы нипочем ни стал так разговаривать, не такой он человек.
— Ну что ты тянешь! — взмолился я. — Объясни толком!
— Да, я забыл сказать: тут как раз объявили про летающее блюдце, которое ты с собой приволок. Радио только о том и трещит. Как эта штука выслеживает запасы урана и прочего. Ну вот, я стал говорить этому биологу, для чего мне надо повидать сенатора, и про лабораторию в Гринбрайере. Вот тут — то он и вцепился в меня, чтобы я не удрал, и давай выкладывать. Мол, это условие, которое выставили пришельцы, чтоб мы раскидали ядерные завесы, — это гроб, хуже некуда. Мол, Пентагон решил, что эти пришельцы нам угрожают и надо их остановить.
— Элф… — пролепетал я.
У меня подкосились ноги, я уже понимал, что будет дальше.
— Мол, надо их остановить, пока они не захватили большей территории, а для этого есть только одно средство сбросить на Милвилл водородную бомбу.
Элф задохнулся и умолк.
Я молчал. Просто не мог выговорить ни слова, будто меня расшиб паралич. Мне вспомнилось, какое лицо было у генерала во время нашего разговора нынче утром, и как сенатор сказал мне: «Мы вынуждены на вас положиться, друг мой. Мы в ваших руках».
— Брэд! — с тревогой позвал Элф. — Алло, Брэд! Ты слушаешь?
— Да, — сказал я, — слушаю.
— Дэйвенпорт сказал — как бы из — за этого нового способа выслеживать ядерные запасы военная братия не кинулась нажимать кнопки… мол, они сообразят только что надо действовать поскорей, а то никакого оружия не останется. Он сказал — это все равно, как будто идет человек с ружьем в руках, а навстречу дикий зверь. Без крайности убивать зверя неохота, а может, зверь еще вильнет в сторону и стрелять не придется. Ну, а допустим, человек знает, что через две минуты останется без ружья: оно рассыплется, пропадет, мало ли… тогда волей — неволей пойдешь на риск и выстрелишь, пока ружье еще не пропало. Придется убить зверя, пока ружье еще у тебя в руках.
— Значит, теперь Молвил и есть дикий зверь, — сказал я ровным голосом, я и не думал, что сумею говорить так спокойно.
— Не Милвилл, Брэд. Просто…
— Ну, конечно, не Милвилл. Ты это скажи людям, когда на них сбросят бомбу.
— Этот Дэйвенпорт прямо не в себе. Он не имел права мне ничего говорить…
— А по — твоему, он точно все знает? Утром они с генералом крепко поспорили.
— По — моему, он знает куда больше, чем успел мне сказать. Он говорил минуты две, а потом прикусил язык. Видно, спохватился, что не имеет права болтать. Но он вот на чем помешался. Он думает, военных может остановить только одно: гласность. Общественное мнение. Мол, если про этот их план узнает много народу, поднимется такая буря, что они не посмеют ничего сделать. Во — первых, люди возмутятся, это же гнусное, хладнокровное убийство, а главное, все рады пришельцам — тут кому угодно обрадуешься, лишь бы они покончили с этой проклятой бомбой. Ну, и твой биолог хочет раскрыть секрет. Он так прямо не сказал, но, видно, он о том и хлопочет. Я уверен, он подкинет эту новость кому — нибудь из газетчиков.
У меня все перевернулось внутри, задрожали колени. Я прижался покрепче к столу, чтобы не упасть.
— Это безумие, весь Милвилл сорвется с цепи. Я же утром просил генерала…
— Как — просил генерала! Черт подери, неужели ты знал?!
— Конечно, знал. То есть не знал, что они на это пойдут. Просто — что есть у них такая мысль.
— И ты никому ни слова не сказал?!
— А кому говорить? Чего бы я добился? И потом, это ж не было твердо решено. Так — предположение… на самый крайний случай. Погубить триста человек, зато спасти три миллиарда…
— А ты сам?! И все твои друзья?!
— Ну, а что было делать, Элф. Что бы ты сделал на моем месте? Раззвонил бы по всему Милвиллу — и чтоб все посходили с ума?
— Не знаю, — сказал Элф. — Сам не знаю, что бы я сделал.
— Слушай, Элф, а сенатор сейчас где? В гостинице?
— Думаю, там. Ты хочешь ему позвонить, Брэд?
— Не знаю, будет ли толк. Но, может, стоит попробовать.
— Тогда я кладу трубку. Вот что, Брэд…
— Да?
— Счастливо тебе… То есть… о, черт! Просто — желаю успеха!
— Спасибо, Элф.
В трубке щелкнуло — он дал отбой, теперь я слышал только гудение. У меня так затряслись руки, что я и не пытался опустить трубку на рычаг, а осторожно положил ее прямо на стол.
Джо Эванс смотрел на меня в упор.
— Так ты знал, — сказал он. — Все время знал.
Я покачал головой.
— Что они на это пойдут — не знал. Генерал обмолвился об этом как о последнем средстве, на самый крайний случай. И Дэйвенпорт на него накинулся…
Я не договорил, я уже и не помнил, что хотел сказать. Слова теряли всякий смысл. Джо все не сводил с меня глаз. И вдруг меня взорвало.
— Не мог я никому сказать, черт возьми! — заорал я. — Я попросил генерала, если уж ему придется на это пойти, так чтоб без предупреждения. Чтоб нам ничего не знать заранее. Просто вспышка — и все, мы бы, наверно, ее и не увидели. Ну, погибли бы, но одна смерть куда ни шло. А так умираешь тысячу раз…
Джо взялся за телефон.
— Попробую дозвониться до сенатора, — сказал он.
Я сел.
Пусто внутри. Точно меня выпотрошили. Джо говорит по телефону, а я не разбираю слов, будто на несколько минут создал отдельный крохотный мирок для себя одного (видно, в обычном мире, среди людей, мне уже нет места) и укрылся в нем, как укрываешься с головой одеялом.
Худо мне, тошно, и зол я, и мысли путаются.
…Джо мне что — то говорил, а я даже не замечал этого, только под самый конец спохватился:
— Что? Что такое?
— Я заказал междугородный разговор. Нас соединят.
Я кивнул.
— Я объяснил, что дело очень важное.
— Не знаю… — сказал я.
— То есть как? Конечно же, это…
— Не знаю, что тут может поправить сенатор. Не знаю, что изменится, если мы с ним и поговорим — я, ты, кто угодно.
— Сенатор Гиббс — человек влиятельный, — сказал Джо. И он очень любит это показывать.
Некоторое время мы сидели молча и ждали звонка. Что скажет сенатор? Что он знает о нашей судьбе?
— А как быть, если никто за нас не вступится? Если никто не станет за нас драться? — вновь заговорил Джо.
— Ну, а что мы можем? Бежать — и то нельзя. Никуда не денешься. Сиди и жди, пока в тебя трахнут, — очень удобная мишень.
— Когда в Милвилле узнают…
— Узнают из последних известий, как только это просочится. Если просочится. Телевидение и радио мигом сообщат, а все милвиллцы прилипли к приемникам.
— Может, кто — нибудь нажмет на Дэйвенпорта и заставит его прикусить язык.
Я покачал головой.
— Утром он был зол, как черт. Так и накинулся на генерала.
А кто из них был прав? Да разве за такой короткий срок разберешься, кто прав, а кто нет?
Издавна люди воевали с вредными жучками и саранчой, со всевозможными врагами урожая, со всякими сорняками. Воевали, как могли. Истребляли и уничтожали, как могли. Приходилось всегда быть настороже, чуть зазевался — и сорные травы тебя одолеют. Разрастутся в каждом углу, под заборами, среди живых изгородей, на пустырях. Они нигде не пропадут. В засуху гибнут злаки, чахнет кукуруза, а сорные травы, упорные и выносливые, знай растут и зеленеют.
И вот появляется новая вредоносная трава, выходец из иного времени; быть может, она способна не только заглушить, вытеснить пшеницу с кукурузой, но и уничтожить человечество. Если так, остается одно: воевать с нею, бороться всеми средствами, как с любым зловредным сорняком.
Ну, а если это не простой сорняк, а особенный, на редкость живучий? Если он отлично изучил и людей, и растения и эти познания и способность применяться к любым условиям помогают ему выжить, как бы ожесточенно ни боролись с ним люди? Если его ничем другим не возьмешь, кроме высокой радиоактивности?
Ведь именно так решена была задача, поставленная в той странной лаборатории в штате Миссисипи.
И если задача решается так, Цветы могут сделать только один, самый простой вывод. Избавиться от угрозы радиации. А попутно завоевать благодарность и любовь человечества.
Допустим, все так и есть. Тогда прав Пентагон.
Раздался звонок. Джо снял трубку, протянул мне.
Язык не слушался, губы одеревенели. С трудом я выталкивал из себя жесткие, отрывочные слова:
— Алло. Слушаю. Это сенатор?
— Да.
— Говорит Брэдшоу Картер. Из Милвилла. Мы сегодня утром разговаривали. У барьера.
— Ну конечно, я помню, мистер Картер. Чем могу быть вам полезен?
— Дошел слух…
— Распространилось множество разных слухов, Картер. До меня тоже их доходит немало.
— …что на Милвилл сбросят бомбу. Сегодня утром генерал Биллингс сказал…
— Да, — не в меру спокойным тоном произнес сенатор, я тоже это слышал и был весьма встревожен. Но никаких подтверждений не последовало. Это всего лишь слухи.
— Попробуйте стать на мое место, сенатор. Вам неприятно это слышать — и только. А нас это кровно касается.
— Понимаю, — сказал сенатор.
Я так и слышал, как он мысленно спорит сам с собой.
— Скажите мне правду, — настаивал я. — Решается наша судьба.
— Да, да, — сказал сенатор. — Вы имеете право знать. Этого я не отрицаю.
— Так что же происходит?
— Достоверно известно только одно. Между атомными державами ведутся совещания на самом высоком уровне. Это условие пришельцев, знаете, для всех — гром среди ясного неба. Разумеется, совещания эти совершенно секретные. И вы, конечно, понимаете…
— Ну, ясно, — сказал я. — Обещаю вам…
— Да нет, не о том речь. Еще до утра газеты наверняка что — нибудь пронюхают. Но мне все это очень не нравится. Похоже, что там пытаются прийти к какому — то соглашению. Учитывая настроения широких масс, я весьма опасаюсь…
— Ох, пожалуйста, сенатор, только без политики!
— Прошу извинить. Я не то имел в виду. Не стану от вас скрывать, я крайне обеспокоен. Я стараюсь собрать самые достоверные сведения.
— Значит, положение критическое.
— Если этот барьер сдвинется еще хотя бы на фут или случится еще что — либо непредвиденное, не исключено, что мы предпримем какие — то шаги в одностороннем порядке. Военные всегда могут заявить, что они действовали в интересах всего человечества, спасали мир от вторжения чуждых сил. Они могут также заявить, что располагают сведениями, которых больше ни у кого нет. Могут объявить эти сведения совершенно секретными и откажутся их огласить. Опубликуют какую — нибудь подходящую версию, а когда дело будет сделано, преспокойно подождут, пока пройдет время и все уляжется. Конечно, скандал будет страшный, но они это перенесут.
— А вы сами что думаете? Чья возьмет?
— Понятия не имею! — сказал сенатор. — Мне не хватает фактов. Я не знаю, что думают в Пентагоне. Не знаю, какие факты есть у них. Не знаю, что представители генерального штаба сказали президенту. Совершенно неизвестно, как поведут себя Англия, Россия, Франция.
На минуту в трубке стало тихо и пусто. Потом сенатор спросил:
— Не можете ли вы там, в Милвилле, со своей стороны что — либо предпринять?
— Можем обратиться с воззванием, — сказал я. — Ко всем, широко. Через газеты, по радио…
Мне показалось — я вижу, как он качает головой.
— Это не поможет, — сказал он. — Ведь никому не известно, что происходит у вас, за барьером. Может быть, вы попали под влияние пришельцев. И, спасая себя, готовы погубить все человечество. Конечно, газеты и радио ухватятся за ваше воззвание, поднимут шум, раздуют сенсацию. Но это ни в какой мере не повлияет на решение официальных кругов. Только взбудоражит людей, повсюду в народе еще сильней разгорятся страсти. А волнений сейчас и без того хватает. Нам нужно другое: какие — то бесспорные факты и хоть капля здравого смысла.
Он попросту боится, что мы спутаем все карты, вот в чем суть. Хочет, чтоб все было шито — крыто.
— И притом, нет достаточно веских доказательств… продолжал сенатор.
— А вот Дэйвенпорт думает, что есть.
— Вы говорили с Дэйвенпортом?
— Нет, не говорил, — со спокойной совестью ответил я.
— Дэйвенпорт в таких вещах не разбирается. Он — ученый, привык к уединению, вне стен своей лаборатории он теряется…
— А мне он понравился. По — моему, у него и голова и сердце на месте.
Эх, зря я это сказал: мало того, что сенатор напуган, теперь я его еще и смутил.
— Я дам вам знать, — сказал он довольно холодно. — Как только сам что — либо узнаю, извещу вас или Джералда. Я сделаю все, что в моих силах. Думаю, что вам не о чем тревожиться. Главное — старайтесь, чтобы барьер не сдвинулся с места, главное — сохраняйте спокойствие. Больше вам ни о чем не надо заботиться.
— Ну еще бы, сенатор, — сказал я.
Мне стало очень противно.
— Спасибо, что позвонили. Я буду поддерживать с вами связь.
— До свидания, сенатор.
И я положил трубку. Джо смотрел вопросительно. Я покачал головой.
— Ничего он не знает и говорить не хочет. Я так понимаю, ничего он и не может. Не в его власти нам помочь.
По тротуару простучали шаги, и тотчас дверь распахнулась. Я обернулся — на пороге стоял Хигги Моррис.
Надо же, чтобы в такую минуту нелегкая принесла именно его!
Он поглядел мне в лицо, перевел глаза на Джо и снова на меня.
— Что это с вами, ребята?
Я в упор смотрел на него. Хоть бы он убрался отсюда! Да нет, не уйдет…
— Надо ему сказать, Брэд, — услышал я голос Джо.
— Валяй, говори.
Хигги не шелохнулся. Он так и остался у двери и слушал. Джо рассказывает, а Хигги стоит истукан истуканом, глаза остекленели. Ни разу не пошевелился, не перебил ни словом.
Наступило долгое молчание. Потом Хигги спросил:
— Как ты считаешь, Брэд, могут они учинить над нами такое?
— Могут. Они все могут. Если барьер опять двинется с места. Если еще что — нибудь стрясется.
Тут его как пружиной подбросило:
— Так какого черта мы тут торчим? Надо скорее копать.
— Копать?
— Ну да. Бомбоубежище. Рабочей силы у нас сколько угодно. В городе полно народу, и все слоняются без дела. Поставим всех на работу. В депо у вокзала есть экскаватор и всякий дорожный инструмент, по Милвиллу раскидано десятка полтора грузовиков. Я назначу комиссию, и мы… послушайте, ребята, да что это с вами?
— Хигги, ты просто не понял, — почти ласково сказал Джо. — Это ведь не какие — нибудь радиоактивные осадки выпадут, бомбу влепят прямо в нас. Тут никакое убежище не спасет. Такое, чтоб спасло, и за сто лет не построить.
— Надо попробовать, — долбил свое Моррис.
— Нам не зарыться так глубоко и не построить так прочно, чтоб это убежище выдержало прямое попадание, — сказал я. — А если даже и удалось бы, ведь нужен кислород…
— Надо же что — то делать! — заорал Хигги. — Неужели просто сидеть сложа руки? Кой черт, нас же всех убьет!
— Да, брат, плохо твое дело, — сказал я.
— Слушай, ты… — начал Хигги.
— Хватит! — крикнул Джо. — Хватит вам! Может, вы и опротивели друг другу, но действовать надо всем вместе. Выпутаться можно. У нас и правда есть убежище.
Я вытаращил глаза — и тут же понял, куда он гнет.
— Нет! — закричал я. — Так нельзя. Пока нельзя. Как же ты не понимаешь? Тогда мы загубим всякую надежду на переговоры. Нельзя, чтобы они узнали!
— Ставлю десять против одного, что они уже знают, сказал Джо.
— Ничего не понимаю! — взмолился Хигги. — Какое у нас убежище, откуда?
— Другой мир, — объяснил Джо Эванс. — Смежный мир, тот самый, где побывал Брэд. В крайнем случае мы перейдем туда. Они о нас позаботятся, они нас не выгонят. Будут выращивать для нас еду, найдется распорядитель — приглядит, чтоб мы не болели, и…
— Ты кое о чем забываешь, — перебил я. — Мы не знаем, как туда попасть. Было одно такое место в саду, но теперь там все переменилось. Цветов больше нет, одни долларовые кустики.
— Пускай распорядитель и Смит нам покажут. Они — то уж наверняка знают дорогу.
— Их уже нету, — сказал Хигги. — Они ушли к себе. Больных никого не осталось, и тогда они сказали, что им пора, а если нам понадобится, они опять придут. Я их отвез к твоему дому, Брэд, и они живо отыскали дверь или как это там называется. Просто пошли в сад, раз — и исчезли.
— А ты найдешь это место? — спросил Джо.
— Да, пожалуй. Я примерно знаю, где это.
— Стало быть, надо будет, так найдем, — вслух соображал Джо. — Составим цепь, да поплотнее, плечом к плечу, и двинемся через сад.
— Думаешь, это так просто? — сказал я. — Может, там не всегда открыто.
— Как так?
— Если б этот ход все время был открыт, у нас бы за последние десять лет куча народу без вести пропала, — стал объяснять я. — Там и детишки играют, и взрослые ходят напрямик, кому надо поскорее. Я всегда той дорогой хожу к доктору Фабиану, и не я один, там многие топают взад и вперед. Кто — нибудь уж как пить дать проскочил бы в эту дверь, если бы она всегда была открыта.
— Ну, ладно, тогда давайте им позвоним, — предложил Хигги. — Возьмем один из этих телефонов…
— Нет, — сказал я. — Просить у них помощи — это только на самый крайний случай. Ведь обратного пути, скорей всего, не будет, мы отколемся от человечества — и конец.
— Все лучше, чем помирать, — сказал Хигги.
— Не надо кидаться очертя голову, — продолжал я уговаривать их обоих. — Пусть люди сперва сами все обдумают и сообразят. Может, еще ничего и не случится. Нельзя же просить у чужих убежища, покуда мы не знаем точно, что другого выхода нет. Еще есть надежда, что люди и Цветы сумеют договориться. Я знаю, сейчас все это выглядит довольно мрачно, но, если останется малейшая возможность, человечеству никак нельзя отказываться от переговоров.
— Какие уж там переговоры, Брэд, — сказал Джо. — Я думаю, эти чужаки никогда всерьез и не собирались с нами договариваться.
— А все из — за твоего отца, — вдруг заявил Хигги. — Если б не он, ничего бы этого не случилось.
Я чуть было не вспылил, но сдержался.
— Все равно случилось бы. Не в Милвилле, так где — нибудь еще. Не сейчас, так немного погодя.
— В том — то и соль! — обозлился Хигги. — Уж случилось бы, так не у нас, в Милвилле, а где — нибудь в другом месте.
Отвечать было нечего. То есть, конечно, я мог бы ответить, но такого ответа Хигги Моррису не понять.
— И вот что, Брэд Картер, — продолжал он. — Мой тебе добрый совет — гляди в оба. Хайрам так и рвется свернуть тебе шею. Думаешь, ты задал ему трепку, так это к лучшему? Совсем наоборот. И в Милвилле хватает горячих голов, которые с ним заодно. Во всем, что у нас тут стряслось, виноваты вы с отцом, вот как они считают.
— Послушай, Хигги, — вступился Джо. — Никто не имеет права…
— Знаю, что не имеет, — оборвал Хигги. — Но так уж люди настроены. Я постараюсь и впредь блюсти закон и порядок, но ручаться теперь ни за что не могу.
Он опять повернулся ко мне:
— Моли бога, чтоб эта заваруха улеглась, да поскорее. А если не уляжется, заройся поглубже в какую — нибудь нору и даже носу не высовывай.
— Слушай, ты…
Я кинулся к нему с кулаками, но Джо выскочил из — за стола, перехватил меня и оттолкнул.
— Бросьте вы! — гневно крикнул он. — Мало у нас других забот, надо еще вам сцепиться.
— Если слух про бомбу дойдет до наших, я за твою шкуру гроша ломаного не дам, — злобно сказал Хигги. Без тебя тут не обошлось. Люди живо смекнут…
Джо ухватил его и отшвырнул к стене.
— Заткнись, не то я сам заткну тебе глотку!
Он помахал перед носом у Хигги кулаком, и Хигги заткнулся.
— Ладно, Джо, — сказал я, — закон и порядок ты восстановил, все чинно — благородно, так что я тебе больше не нужен. Я пошел.
— Постой, Брэд, — сказал Джо сквозь зубы. — Одну минуту…
Но я вышел и хлопнул дверью.
Уже совсем стемнело, улица опустела. Окна муниципалитета еще светились, но у входа не осталось ни души.
Может, напрасно я ушел? Может, надо было остаться хотя бы затем, чтоб помочь Эвансу урезонить Хигги — как бы тот не наломал дров?
Но нет, что толку. Если бы я и мог что — то присоветовать (а что советовать? В голове хоть шаром покати) — ко всему отнесутся с подозрением. Видно, теперь уж мне никакого доверия не будет. Хайрам с Томом Престоном, конечно, целый день без роздыха внушали милвиллцам — дескать, во всем виноват Брэдшоу Картер и давайте с ним поквитаемся.
Я свернул с Главной улицы к дому. Все вокруг тихо и мирно. Набегает летний ветерок, покачиваются подвешенные на длинных кронштейнах уличные фонари, и от этого на перекрестках и на газонах вздрагивают косые тени. В комнатах жарко и душно — окна всюду распахнуты настежь; мягко светятся огни, урывками доносится бормотанье телевизора или радиоприемника.
Тишь да гладь — но под нею таится страх, ненависть, животный ужас; довольно одного слова, неосторожного шага — и все это вырвется наружу, и начнется всеобщее буйное помешательство.
Жгучая обида и негодование мучит всех: почему мы, только мы одни заперты в загоне, точно бессловесная скотина, когда все на свете свободны и живут, как хотят? Возмутительно, несправедливо, бесконечно несправедливо: почему загнали, заперли, обездолили не кого — то другого, а нас? Пожалуй, еще и тревожно, неприятно ощущать, что все на нас глазеют, только о нас и говорят, будто мы и не люди вовсе, а какие — то чудища, уроды. И еще, пожалуй, всех точит стыд и страх, а вдруг весь мир вообразит, что мы сами повинны в своей беде, что это плоды одичания и вырождения или кара за какие — то грехи?
Не диво, если, влипнув в такую историю, люди жадно ухватятся за любое объяснение, лишь бы восстановить свое доброе имя, вновь подняться не только в собственных глазах, но и в глазах всего человечества и в глазах пришельцев; не диво, если они поверят чему угодно, и хорошему и плохому, любым слухам и сплетням, самой несусветной нелепице, лишь бы все окрасилось в ясные и определенные света: вот черное, а вот белое (хоть в душе каждый знает — все сплошь серо!). Ведь там, где есть белое и черное, там найдешь желанную простоту, тогда все легче понять и со всем удобней примириться.
И нельзя их в этом винить. Они не готовы были к тому, что случилось, оно им не по плечу. Долгие — долгие годы они существовали скромно и неприметно в тихой заводи, вдалеке от широкого русла, где неслась и бурлила жизнь большого мира. Крохотные событьица милвиллского житья — бытия непомерно разрастались в их глазах, становились историческими вехами: кто же не помнит, как сумасбродный мальчишка, младший из Джонсонов, врезался на ветхом семейном фордике в дерево на Улице Вязов? Или тот день, когда вызывали пожарную команду, чтоб снять кошку мамаши Джоунс с крыши пресвитерианской церкви (никто и по сей день не понимает, как угораздило кошку туда забраться)? Или случай, когда дядюшка Эндрюс с удочкой в руках заснул на берегу реки — и бултых в воду! Спасибо, мимо проходил Лен Стритер и вытащил его; тут уж сон со старика слетел, он так наглотался воды, что на силу отдышался (и пошли рассуждения: а что понадобилось там Лену Стритеру, с чего это его понесло на реку?). Из таких крупиц и складывалась жизнь со всеми ее треволнениями.
И вот перед этими людьми предстало нечто большое, значительное, и они не в силах его постичь; то, что произошло, пока еще слишком огромно и непостижимо не только для них, но для всего человечества. Все слишком сложно, тут не отделаешься праздным любопытством, недоумением зеваки перед кошкой, бог весть как забравшейся на верхотуру, — вот почему им тягостно, неспокойно, в них разгорается досада и злость, того гляди — вспыхнет, прорвется открытой враждебностью, а тогда недалеко и до насилия… был бы повод для насилия, было бы на кого наброситься. Что ж, если придет минута, когда их ярость вырвется наружу, мишень готова — об этом постарались Хайрам Мартин и Том Престон.
Идти уже недалеко. Я поравнялся с обителью нашего банкира Дэна Виллоуби — этакая огромная скучная махина из кирпича, с первого взгляда всякий догадается, что в таком доме может жить только тип вроде Дэниела Виллоуби. Напротив, на углу, дом старика Перкинса. С неделю назад сюда въехали новые жильцы. Это один из немногих домов у нас, в Милвилле, которые сдаются внаем, и обитатели его меняются чуть не каждый год. Никто даже не дает себе труда с ними знакомиться охота время тратить! А дальше, в конце улицы, живет доктор Фабиан.
Еще несколько минут — и я буду у себя, в доме с продырявленной насквозь крышей, в пустых гулких комнатах, наедине с вопросом, на который нет ответа, а за оградой будут меня подстерегать подозрительность и ненависть всего Милвилла.
На той стороне улицы хлопнула дверь, кто — то, громко топая, бежал по веранде. И тотчас раздался крик:
— Уолли, нас хотят бомбить! Сказали по телевизору!
Из темноты приподнялась большая сутулая тень — кто — то лежал на траве или на низко, у самой земли, расставленном шезлонге, я и не видал его, пока он не вскинулся на крик.
В горле у него булькало, он силился что — то сказать и не мог.
— Экстренное сообщение! — кричал тот, с веранды. — Сейчас передают! По телевизору!
Второй, с шезлонга, вскочил и кинулся в дом.
И я тоже кинулся бежать. Домой, во весь дух, не думая, не рассуждая, — ноги сами несли меня.
Я — то думал, у меня еще есть немного времени, а времени нет. Не ждал я, что слух разнесется так быстро.
Потому что это сообщение наверняка только еще слух: предполагается, что могут бомбить… говорят, что в самом крайнем случае на Милвилл, может быть, сбросят бомбу… Но для нас тут разницы нет. Милвиллцам все едино, они не станут разбирать, где слухи, а где факты.
Только этого и не хватало, чтоб ненависть сорвалась с цепи. И все обрушится на меня да, пожалуй, на Джералда Шервуда… будь сейчас в Милвилле Шкалик, досталось бы и ему.
Улица осталась позади; обежав дом доктора Фабиана, я помчался под гору, к сырой низине, где росли долларовые кустики. И уже на полпути спохватился: а Хайрам? Днем он сторожил эти кусты, вдруг он и сейчас там? С разгону я насилу остановился, пригнулся к самой земле. Наскоро окинул взглядом склон холма и низину, потом снова, уже медленно, стал всматриваться в каждую тень, подстерегая малейшее движение, которое выдало бы засаду.
Вдалеке послышались крики; наверху кто — то бежал, громыхая по тротуару тяжелые башмаки. Хлопнула дверь, где — то, за несколько кварталов, взревел мотор и рванула с места машина. Из открытого окна слабо донесся взволнованный голос комментатора последних известий, но слов я не разобрал.
Хайрама нигде не было видно.
Я выпрямился и медленно стал спускаться дальше. Вот и сад, теперь напрямик. Впереди уже темнеют старые теплицы и знакомый вяз на углу, тот самый, что поднялся из давнего тоненького побега.
Я дошел до теплиц, остановился на минуту — проверить напоследок, не крадется ли за мною Хайрам, — и двинулся было дальше. Но тут я услышал голос, он позвал меня — и я оцепенел.
Оцепенел, прирос к земле… но ведь я не слышал ни звука!
Брэдшоу Картер, вновь позвал беззвучный голос.
И — аромат Лиловости… может быть, даже не аромат, скорее ощущение. Воздух полон им — и вдруг резко, отчетливо вспоминается: так было там, у шалаша Таппера Тайлера, когда Нечто ждало на склоне холма и потом проводило меня домой, на Землю.
— Я слышу, — отозвался я. — Где ты?
Вяз у теплиц словно бы качнулся, хотя ветерок чуть дышал — где ему было качнуть такое дерево.
Я здесь, сказал вяз. Я здесь давно, долгие годы. Я всегда ждал этой минуты, ждал, когда смогу с тобой заговорить.
— Ты знаешь? — спросил я.
Глупо спрашивать, конечно же он знает — и о бомбе, и обо всем…
Мы знаем, сказал вяз, но отчаянию нет места.
— Нет места? — растерянно переспросил я.
Если мы потерпим неудачу на этот раз, мы попробуем снова. Возможно, в другом мире. Или, может быть, придется подождать, чтобы ради… как это называется?
— Радиация, вот как это называется, — подсказал я.
Подождать, чтобы радиация рассеялась.
— На это уйдут годы.
У нас есть годы, был ответ. У нас есть время, сколько угодно. Нам нет конца. И времени нет конца.
— А для нас время кончается, — сказал я, и меня захлестнула горькая жалость ко всем людям на свете и сильней всего — к самому себе. — И для меня наступает конец.
Да, мы знаем, сказала Лиловость. Мы очень о вас сожалеем.
Вот когда пора просить помощи! Пора объяснить, что мы попали в беду не по своей воле и не по своей вине — пусть же нас выручают те, кто нас до этого довел!
Так я и хотел сказать, но слова не шли с языка. Не мог я признаться этому чужому, неведомому, в нашей совершенной беспомощности.
Наверно, это просто гордость и упрямство. Но лишь когда я попытался заговорить и убедился, что язык не слушается, лишь тогда я открыл в себе эту гордость и упрямство.
«Мы очень о вас сожалеем», — сказал вяз. Но и жалеть можно по — разному. Что это — подлинная, искренняя скорбь или так только, мимолетная, из чувства долга, жалость того, кто бессмертен, к бренной дрожащей твари в ее смертный час?
От меня останутся кости и тлен, а потом не станет ни костей, ни тлена, лишь забвение и прах, — а Цветы будут жить и жить вовеки веков.
Так вот, нам, кто обратится в тлен и прах, куда важней обладать этой упрямой гордостью, чем другим — сильным и уверенным. Она — единственное, что у нас есть, и только она одна нам опора.
Лиловость… а что же такое Лиловость? Не просто цвет, нечто большее. Быть может, дыхание бессмертия, дух невообразимого равнодушия: бессмертный не может себе позволить о ком — то тревожиться, к кому — то привязаться, ибо все преходящи, все живут лишь краткий миг, а бессмертный идет своей дорогой, в будущее без конца, без предела, — там встретятся новые твари, новые мимолетные жизни, и о них тоже не стоит тревожиться.
А ведь это — одиночество, вдруг понял я, безмерное, неизбывное одиночество, — людям никогда не придется изведать такое…
Безнадежное одиночество, ледяной, неумолимый холод… во мне вдруг шевельнулась жалость. Как — то странно жалеть дерево. Но нет, не дерево мне жаль и не те лиловые цветы, а неведомое. Нечто, которое провожало меня из чужого мира, которое и сейчас здесь, со мной… жаль живую мыслящую материю — такую же, из какой создан и я.
— Я тоже сожалею о тебе, — сказал я и, еще не досказав, опомнился: оно не поймет моей жалости, как не поняло бы и гордости, если бы узнало о ней.
Из — за поворота улицы, идущей по бровке холма, на бешеной скорости вылетела машина, яркий свет фар хлестнул по теплицам. Я отпрянул, но фары погасли, еще не настигнув меня.
Во тьме кто — то позвал меня по имени — чуть слышно и, кажется, пугливо.
Из — за угла, не замедляя скорости, вывернулась еще машина, ее занесло на повороте, взвизгнули шины. Первый автомобиль круто затормозил и, содрогнувшись, замер возле моего дома.
— Брэд, — снова чуть слышно, пугливо позвали из темноты. — Где ты, Брэд?
— Нэнси?! Я здесь, Нэнси.
Что — то случилось, что — то очень скверное. Голос у нее точно натянутая до отказа струна, точно пробивается он сквозь густой туман охватившего ее ужаса. Что — то неладно, иначе не мчались бы так неистово к моему дому эти машины.
— Мне послышалось, ты с кем — то разговариваешь, — сказала Нэнси. — Но тебя нигде не было видно. Я и в комнатах искала, и…
Из — за дома выбежал человек — черный силуэт на миг четко обрисовался в свете уличного фонаря. Там, за домом, были еще люди — слышался топот бегущих, злобное бормотанье.
— Брэд, — опять сказала Нэнси.
— Тише, — предостерег я. — Что — то неладно.
Наконец — то я ее увидел. Спотыкаясь в темноте, она шла ко мне.
Возле дома кто — то заорал:
— Эй, Картер! Мы же знаем, ты у себя! Выходи, не то мы сами тебя вытащим!
Я бегом кинулся к Нэнси и обнял ее. Она вся дрожала.
— Там целая орава, — сказала она.
— Хайрам со своей шатией, — сказал я сквозь зубы.
Зазвенело разбитое стекло, в ночное небо взметнулся длинный язык огня.
— Ага, черт подери! — злорадно крикнул кто — то. — Может, теперь ты вылезешь?
— Беги, — велел я Нэнси. — Наверх. Спрячься за деревьями.
— Я от Шкалика, — зашептала она. — Я его видела, он послал меня за тобой.
В доме вдруг разгорелось яркое пламя. Окна столовой вспыхнули, как глаза разъяренного зверя. В отсветах пожара бессмысленно, неистово приплясывали и вопили черные фигуры.
Нэнси повернулась и побежала, я кинулся за нею, и тут позади, перекрывая разноголосицу горланящей толпы, рявкнул оглушительный бас:
— Вот он! В саду!
Что — то дало мне подножку, я споткнулся и с разбегу ухнул в долларовые кусты. Колючие ветки царапали лицо, цеплялись за одежду, с трудом я поднялся на ноги, огляделся.
Из отверстия в крыше, пробитого «машиной времени», взбесившимся фонтаном хлещет пламя. Все стихло, только рычит огонь, пожирая дом изнутри, вгрызаясь в балки и стены.
А люди молча бегут вниз, в сад. Доносится гулкий топот, тяжелое, прерывистое дыхание.
Наклоняюсь, шарю по земле — вот оно, то, обо что я споткнулся. Обломок деревянного бруса длиной фута в четыре, чуть подгнивший по краям, но еще крепкий.
Дубинка. И на том конец. Но пока меня прикончат, один из них тоже распрощается с жизнью… а может быть, и двое.
— Беги! — кричу я Нэнси, она где — то там, хоть ее и не видно.
Осталось одно, еще только одно я должен сделать. Разбить этой дубиной башку Хайраму Мартину, пока меня не захлестнула толпа.
Вот они уже сбежали с холма, несутся по ровному месту, через сад. Впереди — Хайрам. Стою и жду с дубиной наготове; а Хайрам все ближе, на темном лице, точно белый шрам, блестят оскаленные зубы.
Надо метить между глаз, расколю ему башку пополам. А потом стукну и еще кого — нибудь… если успею.
Пожар разгорелся в полную силу, ведь дерево старое, сухое, даже и сюда пышет жаром.
А эти уже совсем близко… Я крепче сжал дубинку, занес повыше, жду.
Вдруг, в нескольких шагах от меня, они сбились, затоптались на месте… одни попятились, другие застыли, рты разинуты, глаза вытаращены, и в них — изумление, ужас. Уставились не на меня, а на что — то позади меня.
И вот — шарахнулись, бегут со всех ног обратно, вниз, и еще громче, чем рев огня, их отчаянный вой… словно мчится и ревет перепуганное насмерть стадо, гонимое степным пожаром.
Как ужаленный, оборачиваюсь… а, это те, из чужого мира! Черные тела поблескивают в дрожащих отсветах пожара, серебристые перья лохматых голов чуть колышутся на ветру. Они подходят ближе и щебечут, щебечут на своем непонятном, певучем языке.
Не терпится им, черт возьми! Слишком поторопились, лишь бы не упустить хоть единую предсмертную дрожь объятого ужасом клочка нашей Земли.
Не только сегодня — снова и снова вечерами они станут сюда приходить, станут возвращать послушное им время к этой роковой минуте. Нашлось еще одно место, где можно стоять и ждать, пока начнется зрелище, есть еще один призрачный дом, зияющий провалами окон, через которые можно заглянуть в безумие и ужас иного мира.
Они приближаются, а я стою и жду, сжимая дубину, и вдруг опять — дыхание Лиловости и знакомый неслышный голос.
Назад, беззвучно говорит голос. Назад. Вы пришли слишком рано. Этот мир не открыт.
Издали кто — то зовет, но ничего не различить а грохоте и треске пожара, в звонком, взволнованном певучем щебете этих беззаботных вампиров, проскользнувших к нам из лиловой страны Таппера Тайлера.
Идите назад, повторил вяз, неслышные слова хлестнули, как взмах бича.
И они ушли — исчезли, растворились в непостижимой тьме, во мраке более густом и черном, чем сама ночь.
Вяз, который разговаривает… а сколько еще есть говорящих деревьев? Много ли здесь осталось от Милвилла? Сколько уже принадлежит другому, лиловому миру? Я поднимаю голову, смотрю на вершины деревьев, стеной окружающих сад, — призрачные тени в темном небе, они трепещут под дуновением странного ветра, что веет неведомо откуда. Трепещут на ветру… а быть может, тоже говорят о чем — то?. Кто они — прежние земные деревья, бессловесные и неразумные, или совсем иные деревья, порождение иной Земли?
Никогда мы этого не узнаем, а может, это и не важно, ведь с самого начала нам не на что было надеяться. Мы еще не вышли на ринг, а нас уже положили на обе лопатки. Все потеряно для нас давным — давно, в тот далекий день, когда мой отец принес домой охапку лиловых цветов.
Опять издали кто — то кричит, зовет меня по имени.
Бросаю свое оружие, иду через сад. Кому я понадобился?
Это не Нэнси, но голос знакомый.
А вот и Нэнси сбегает с холма.
— Скорей, Брэд!
— Где ты была? Что еще случилось?
— Там Шкалик Грант. Я ведь говорила, тебя ищет Шкалик. Он ждет у барьера. Он как — то проскользнул мимо часовых. Ему непременно надо с тобой повидаться…
— Так ведь Шкалик…
— Он здесь. И требует тебя. Говорит, больше никто не годится.
Она повернулась и почти побежала наверх, я тяжело поплелся за нею. Через двор доктора Фабиана, потом через улицу, а там еще один двор и… ну, конечно, здесь, прямо перед нами, проходит барьер.
По ту сторону с земли поднимается коренастый гном.
— Это ты, паренек? — слышу я.
Сажусь на корточки перед самым барьером и во все глаза смотрю на Шкалика.
— Ну да, я… а ты как же…
— Об этом после. Некогда. Часовые знают, что я пролез сквозь оцепление. Меня ищут.
— Чего ты хочешь?
— Не я. Все. И ты. Всем это нужно. Вы здорово влипли.
— Все здорово влипли.
— Я про то и говорю. Одному болвану в Пентагоне приспичило сбросить бомбу. Я, когда сюда пробирался, слышал, в какой — то машине радио трепало всякую чушь. Краем уха кой — что поймал.
— Так, — говорю я. — Стало быть, человечеству крышка.
— Нет, не крышка! — сердито возражает Шкалик. — Есть выход. Если только в Вашингтоне поймут, если…
— Если ты знаешь выход, чего ж ты тратил время, искал меня? Сказал бы там…
— Кому? Да разве мне поверят? Кто я такой? Дрянь, забулдыга и пьяница, да еще из больницы сбежал…
— Ладно, — говорю я, — ладно.
— А вот ты им растолкуешь, ты вроде как посол, что ли, доверенное лицо. Тебя кто — нибудь да выслушает. Свяжись там с кем — нибудь, и тебя послушают.
— Если есть что слушать.
— Есть что слушать! — говорит Шкалик. — У нас есть кое — что такое, чего тем чужакам не хватает. И только мы одни можем им это дать.
— Дать? — кричу я. — Все, что им надо, они у нас и так отберут.
— Нет, это они так сами взять не могут, — возражает Шкалик.
Я качаю головой.
— Что — то слишком просто у тебя получается. Ведь они уже подцепили нас на крючок. Люди только того и хотят, чтоб они к нам пришли, да если бы и не хотели, они все равно придут. Они угодили в наше самое уязвимое место…
— У Цветов тоже есть уязвимое место, — говорит Шкалик.
— Не смеши меня.
— Ты просто обалдел и уже не соображаешь.
— Какой ты догадливый, черт подери!
Еще бы не обалдеть. Весь мир летит в тартарары. Над Милвиллом нависла ядерная смерть, уже и так все с ума посходили, а теперь Хайрам расскажет о том, что видел у меня в саду, и народ окончательно взбесится. Хайрам и его шайка дотла сожгли мой дом, я остался без крова… да и все человечество осталось без крова, вся Земля перестала быть для нас родным домом. Отныне она всего лишь еще одно звено в длинной, нескончаемой цепи миров, подвластных иной форме жизни, и эту чужую жизнь людям не одолеть.
— Эти Цветы — очень древняя раса, — объясняет Шкалик. — Даже и не знаю, какая древняя. Может, им миллиард лет, а может, и два миллиарда, неизвестно. Сколько миров они прошли, сколько всяких народов видели — не просто живых, а разумных. И со всеми они поладили, со всеми сработались и действуют заодно. Но ни разу ни одно племя их не полюбило. Никто не выращивал их у себя в саду, никто и не думал их холить и нежить только за то, что они красивые…
— Да ты спятил! — ору я. — Вконец рехнулся!
— Брэд, — задохнувшись от волнения, говорит Нэнси, — а может быть, он прав? Ведь только за последние две тысячи лет или около того люди научились чувствовать красоту, увидели прекрасное в природе. Пещерному человеку и в голову не приходило, что цветок — это красиво…
— Верно, — кивает Шкалик. — Больше ни одно живое существо, ни одно племя не додумалось до такого понятия — красота. Только у нас на Земле человек возьмет, выкопает где — то в лесу несколько цветочков и притащит к себе домой, и ходит за ними, как за малыми детьми, ради ихней красоты… а до той минуты Цветы и сами не знали, что они красивые. Прежде их никто не любил и никто о них не заботился. Это вроде как женщина и мила, и хороша, а только покуда ей кто — нибудь не сказал, — моя, какая ж ты красавица! — ей и невдомек. Или как сирота: все скитался по чужим, а потом вдруг нашел родной дом.
Как просто. Не может этого быть. Никогда ничто на свете не бывает так просто. И однако, если вдуматься, в этом есть смысл. Кажется, только в этом сейчас и можно найти какой — то смысл…
— Цветы поставили нам условие, — говорит Шкалик. — Давайте и мы выставим условие. Дескать, милости просим к нам, а за это сколько — то из вас, какой — нибудь там процент, обязаны оставаться просто цветами.
— Чтобы люди у нас на Земле могли их разводить у себя в саду, и ухаживать за ними, и любоваться ими — вот такими, как они есть! — подхватывает Нэнси.
Шкалик тихонько усмехается:
— У меня уж это все думано — передумано. Эту статью договора я и сам мог бы написать.
Неужели это и есть выход? Неужели получится?
Конечно, получится!
Стать любимцами другого народа, ощутить его заботу и нежность — да ведь это привяжет к нам пришельцев узами столь же прочными, как нас к ним — благодарность за то, что с войной покончено навсегда.
Это будут узы несколько иные, но столь же прочные, как те, что соединяют человека и собаку. А нам только того и надо: теперь у нас будет вдоволь времени — и мы научимся жить и работать дружно.
Нам незачем будет бояться Цветов, ведь это нас они искали, сами того не зная, не понимая, чего ищут, даже не подозревая, что существует на свете то, чем мы можем их одарить.
— Это нечто новое, — говорю я.
— Верно, новое, — соглашается Шкалик.
Да, это ново, непривычно. Так же ново и непривычно для Цветов, как для нас — их власть над временем.
— Ну как, берешься? — говорит Шкалик. — Не забудь, за мной гонится солдатня. Они знают, что я проскочил между постами, скоро они меня учуют.
Только сегодня утром представитель госдепартамента и сенатор толковали о длительных переговорах — лишь бы можно было начать переговоры. А генерал признавал один язык — язык силы. Меж тем ключ ко всему надо было искать в том, что есть в нас самого мягкого, человечного, — в нашей любви к прекрасному. И отыскал этот ключ никакой не сенатор и не генерал, а ничем не примечательный житель заштатного городишки, всеми презираемый нищий забулдыга.
— Давай зови своих солдат, пускай тащат сюда телефон, — говорю я Шкалику. — Мне недосуг его разыскивать.
Первым делом надо добраться до сенатора Гиббса, а он поговорит с президентом. Потом поймаю Хигги Морриса, объясню, что к чему, и он поуспокоит милвиллцев.
Но это короткая минута — моя, и я навсегда ее запомню: рядом — Нэнси, напротив, за барьером — старый нечестивец, верный друг, и я упиваюсь величием этого краткого мига. Ибо сейчас вся мощь истинной человечности (да, человечности, а не власти и положения в обществе!) пробуждается и прозревает грядущее — тот завтрашний день, когда неисчислимые и несхожие племена все вместе устремятся к несказанно славному и прекрасному будущему.
Рассказы

Прелесть
Машина была превосходная.
Вот почему мы назвали ее Прелестью.
И сделали большую ошибку.
Это была, разумеется, не единственная ошибка, а первая, и, не назови мы свою машину Прелестью, быть может, все и обошлось бы.
Говоря техническим языком, Прелесть была Пиром — планетарным исследовательским роботом. Она сочетала в себе космический корабль, операционную базу, синтезатор, анализатор, коммуникатор и многое другое. Слишком многое другое. В этом и была наша беда.
В сущности, лететь с Прелестью нам было ни к чему. Без нас она управилась бы гораздо лучше. Она могла проводить планетарные исследования самостоятельно. Но согласно правилам при роботе ее класса должно было находиться не менее трех человек. И естественно, отпускать робота одного было страшновато: ведь его строили лет двадцать и вбухали в это дело десять миллиардов долларов.
И надо отдать Прелести должное — она была чудом из чудес. Она была, битком набита сенсорами, которые позволяли за час получить больше информации, чем собрал бы за месяц большой отряд исследователей — людей. Она не только собирала сведения, но и сопоставляла их, кодировала, записывала на магнитную ленту и не переводя дыхания передавала в Центр, находившийся на Земле.
Не переводя дыхания… Это же была бессловесная машина.
Я сказал «бессловесная»?
У нее были все органы чувств. Она даже могла говорить. Могла и говорила. Она болтала без передышки. И слушала все наши разговоры. Она читала через наши плечи и давала непрошеные советы, когда мы играли в покер. Порой нам хотелось убить ее, да вот убить робота нельзя… такого совершенного. Что поделаешь — она стоила десять миллиардов долларов и должна была доставить нас обратно на Землю.
Заботилась она о нас хорошо. Этого отрицать нельзя. Она синтезировала пищу, готовила и подавала на стол еду. Она следила за температурой и влажностью. Она стирала и гладила нашу одежду, лечила нас, если была необходимость. Когда Бен подхватил насморк, она намешала бутылку какой — то микстуры, и на другой день болезнь как рукой сняло.
Нас было всего трое — Джимми Робинс, наш радист, Бен Паррис, аварийный монтер роботов, и я, переводчик… которому в данном случае с языками работать не пришлось.
Мы назвали ее Прелестью, а делать этого не надо было ни в коем случае. Потом уж никто и никогда не давали имен этим заумным роботам; они просто получали номера. Когда в Центре узнали, что с нами произошло, повторение этой ошибки стали считать уголовным преступлением.
Но мне думается, все началось с того, что Джимми в душе поэт. Он писал отвратительные стихи, о которых можно сказать одно: изредка в них попадались рифмы. А чаще их вовсе не было. Но он работал над ними так упорно и серьезно, что ни Бен, ни я сначала не осмеливались говорить ему об этом. Наверно, остановить его можно было, только задушив.
И надо было задушить.
Разумеется, посадка на Медовый Месяц тоже сыграла свою роль.
Но это от нас не зависело. Эта планета значилась третьей в полетном листе, и в нашу задачу входила посадка на нее… вернее, в задачу Прелести. Мы при сем присутствовали.
Начнем с того, что планета не называлась Медовым Месяцем. Она имела номер. Но уже через несколько дней мы окрестили ее.
Я не стыдлив, а описывать Медовый Месяц все же отказываюсь. Я не удивился, если бы узнал, что в Центре наш доклад до сих пор хранится под замком. Если вы любопытны, можете написать туда и попросить прислать информацию за номером ЕР56–94. За спрос денег не берут. Однако не ждите положительного ответа.
Со своими обязанностями на Медовом Месяце Прелесть справилась превосходно, и у меня голова кругом пошла, когда я прослушал пленку после того, как Прелесть заложила ее в передатчик для отправки на Землю. Как переводчику, мне полагалось давать толкования тому, что творилось на планетах, которые мы исследовали. Что же касается поведения жителей Медового Месяцев, то его не передашь даже словом «вытворяли»…
Доклады в Центре анализируются немедленно. Но на месте анализировать их куда легче.
Боюсь, что от меня было мало толку. Наверно, когда читали мой доклад, то видели, что я его писал с раскрытым ртом и краской на щеках.
Наконец мы покинули Медовый Месяц и устремились в космос. Прелесть направилась к следующей планете, значившейся в полетном листе.
Прелесть была необычно молчалива, и это должно было подсказать нам, что происходит неладное. Но мы наслаждались тем, что она на время заткнулась, и не поинтересовались причиной ее безмолвия. Мы просто отдыхали.
Джимми трудился над поэмой, которая не выходила, а мы с Беном дулись в карты, когда Прелесть вдруг нарушила молчание.
— Добрый вечер, ребята, — сказала она каким — то неуверенным тоном, хотя обычно голос у нее был энергичный и твердый. Помнится, я подумал, что у нее в голосовом устройстве какая — то неисправность.
Джимми с головой погрузился в сочинение стихов, а Бен думал над следующим ходом, и ни один из них не откликнулся.
Я сказал:
— Добрый вечер, Прелесть. Как ты сегодня?
— О, прекрасно, — ответила она немного дрожащим голосом.
— Ну и хорошо, — сказал я, надеясь, что на этом разговор закончится.
— Я только что решила, — сообщила мне Прелесть, — что я люблю вас.
— Это очень любезно с твоей стороны, — поддержал ее я, — и я люблю тебя.
— Но я действительно люблю, — настаивала она. — Я все обдумала. Я люблю вас.
— Кого из нас? — спросил я. — Кто этот счастливчик?
Я посмеивался, но немного смущенно, потому что Прелесть шуток не понимала.
— Всех троих, — сказала Прелесть.
Кажется, я зевнул.
— Неплохая мысль. Так обойдется без ревности.
— Да, — сказала Прелесть. — Я люблю вас и бегу с вами.
Бен вздрогнул и, подняв голову, спросил:
— Куда же это мы бежим?
— Далеко, — ответила она. — Туда, где мы будем одни.
— Господи! — завопил Бен. — Как ты думаешь, неужели она действительно…
Я покачал головой.
— Не думаю. Что — то испортилось, но…
Вскочив, Бен задел стол, и все карты разлетелись по полу.
— Пойду посмотрю, — сказал он.
Джимми оторвался от своего блокнота.
— Что случилось?
— Это все ты со своими стихами! — закричал я и стал ругать его поэзию последними словами.
— Я люблю вас, — сказала Прелесть. — Я полюбила вас навсегда. Я буду заботиться о вас. Вы увидите, как сильно я люблю вас, и когда — нибудь вы полюбите меня…
— Заткнись! — сказал я.
Бек вернулся весь потный.
— Мы сбились с курса, а запасная рубка управления заперта.
— А взломать ее можно?
Бен покачал головой.
— По — моему, Прелесть сделала это нарочно. Если это так, то мы погибли. Мы никогда не вернемся на Землю.
— Прелесть, — строго сказал я.
— Да, милый.
— Прекрати это сейчас же!
— Я люблю вас, — сказала Прелесть.
— Это все Медовый Месяц, — сказал Бен. — Она набралась всяких глупостей на этой проклятой планете.
— На Медовом Месяце, — поддержал я, — и из мерзких стишков, которые пишет Джимми…
— Это не мерзкие стишки, — парировал побагровевший Джимми. — Вот когда меня напечатают…
— Почему бы тебе не писать о войне, или об охоте, или о полете в глубины космоса, или о чем — нибудь большом и благородном вместо всей этой чепухи, вроде: «Я полюбил тебя навеки, лети ко мне, моя радость», — и тому подобного…
— Успокойся, — посоветовал Бен. — Нехорошо все валить на Джимми. Главная причина — это Медовый Месяц, говорю тебе.
— Прелесть, — сказал я, — выкинь из головы эту чепуху. Ты же прекрасно знаешь, что машина не может любить человек. Это просто смешно.
— На Медовом Месяце, — сказала Прелесть, — были разные виды, которые…
— Забудь про Медовый Месяц. Это ненормальность. Можешь исследовать миллиард планет — и ничего подобного не увидишь.
— Я люблю вас, — упрямо повторяла Прелесть, — и мы бежим.
— Где это она слышала про побеги влюбленных? — спросил Бен.
— Этим старьем ее напичкали еще на Земле, — сказал я.
— Нет, не старьем, — запротестовала Прелесть. — Для того чтобы успешно справляться с работой, мне нужны самые разнообразные сведения о внутреннем мире человека.
— Ей читали романы, — сказал Бен. — Вот я поймаю того сопляка, который выбирал для нее романы, и оставлю от него мокрое место.
— Послушай, Прелесть, — взмолился я, — люби себе на здоровье, мы не против. Но не убегай слишком далеко.
— Я не могу рисковать, — сказала Прелесть. — Если я вернусь на Землю, вы меня бросите.
— Если мы не вернемся, нас начнут искать и найдут.
— Совершенно верно, — согласилась Прелесть. — Вот почему, милый, мы и бежим. Мы убежим так далеко, что нас не найдут никогда.
— Даю тебе последнюю возможность хорошенько подумать, сказал я. — Если ты не одумаешься, я радирую на Землю и…
— Вы не можете радировать на Землю, — возразила она. Я демонтировала аппаратуру. И, как догадался Бен, дверь в рубку управления заклинена. Вы ничего не можете поделать. Почему бы вам не отказаться от глупого упрямства и не ответить на мою любовь?
Бен стал собирать карты, ползая по полу на четвереньках. Джимми швырнул блокнот на стол.
— Вот тебе случай отличиться, — сказал я. — Воспользуйся им. Подумай только, какую оду ты мог бы сочинить о нестареющей и вечной любви человека и машины?
— Пошел ты, — сказал Джимми.
— Не надо, ребята, — пожурила нас Прелесть. — Мне не хотелось бы, чтобы вы подрались из — за меня.
У нее был такой тон, будто она уже обладала нами… Впрочем, в некотором роде это так и было. Удрать от Прелести невозможно, и если нам не удастся отговорить ее бежать с нами, то наше дело конченое.
— Мы все не подходим тебе только по одной причине, сказал я ей. — По сравнению с тобой мы проживем недолго. Как бы ты о нас ни заботилась, лет через пятьдесят мы умрем. От старости. И что будет тогда?
— Она будет вдовой, — сказал Бен. — Бедненькой вдовушкой в слезах. И даже детишек не будет, чтобы утешить.
— Я думала об этом, — ответила Прелесть. — Я подумала обо всем. Вам не надо будет умирать.
— Но это же невозможно…
— Для такой великой любви, как моя, нет ничего невозможного. Я не дам вам умереть. Я слишком люблю вас, чтобы дать вам умереть.
Немного погодя мы махнули на нее рукой и пошли спать, а Прелесть выключила свет и спела нам колыбельную.
Под ее пронзительную колыбельную уснуть было нельзя, и мы заорали, чтобы она, заткнулась и дала поспать. Но она продолжала петь до тех пор, пока Бен не попал ей туфлей в голосовое устройство.
И после этого я заснул не сразу, а лежал и думал. Я понимал: надо что — то придумать, но так, чтобы она не знала. Дело было швах, потому что она все время следила за нами. Она давала советы, она слушала, она читала через плечо, и ни движения, ни слова скрыть от нее было нельзя. Я знал, что может пройти немало времени, и нам не следует терять терпения и паниковать. А если мы выпутаемся, то нам просто повезет.
Поспав, мы сели в кружок и, не говоря ни слова, слушали Прелесть, которая описывала, как мы будем счастливы. Мол, в нас заключен целый мир, а перед любовью тускнеет все мелкое.
Половина слов, которые она употребляла, была почерпнута из идиотских стихов Джимми, а остальные — из сентиментальных романов, которые кто — то читал ей еще на Земле.
Порой мне хотелось встать и сделать из Джимми отбивную, но я говорил себе, что теперь уж ничего не поделаешь, толку от битья будет мало.
Джимми скрючился в углу и писал что — то в блокноте, а я удивлялся: надо же быть таким наглым, чтобы писать после того, что случилось!
Он продолжал писать, вырывать страницы и бросать их на пол, время от времени чертыхаясь. Один, отброшенный листок упал мне на колени, и, смахивая его, я прочел:
Я неряха и пачкун,
Лодырь я беспечный,
Потому — то недостоин
Любви твоей вечной.
Я быстро подобрал листок, смял его и швырнул в Бена, а он отбил его в мою сторону. Я снова швырнул — он снова отбил.
— Чего тебе надо, черт побери? — огрызнулся он.
Я бросил скомканную бумажку прямо ему в лицо, он уже было встал, чтобы вздуть меня, как вдруг, видно, понял по моему взгляду, что это не просто грубость. Он подобрал комок и, как бы забавляясь, стал разворачивать бумагу, пока не прочел, что там написано. Затем снова смял ее.
Прелесть слышала каждое слово, так что вслух мы говорить не могли. И вести себя должны были естественно, чтобы не вызвать подозрений.
И мы постепенно начали играть. Может быть, мы входили в роль даже медленнее, чем требовалось, но, чтобы убедить, переигрывать было нельзя.
Мы играли убедительно. Возможно, мы просто были прирожденными неряхами, но не прошло и недели, как наши жилые комнаты превратились в свинюшник.
Мы разбрасывали повсюду одежду. Грязное белье не совали в прачечный отсек, где его обычно стирала Прелесть. Оставляли на столе горы посуды, а не складывали ее в мойку. Мы выбивали трубки прямо на пол. Мы не брились, не чистили зубы, не мылись.
Прелесть выходила из себя. Ее привыкший к порядку интеллект робота пришел в ярость. Она умоляла нас, она брюзжала, а порой и поучала, но вещи но — прежнему валялись где попало. Мы говорили ей, что если она нас любит, то должна примириться с нашей безалаберностью и принимать нас такими, какие мы есть.
Недельки через две мы победили, но это была не та победа. Прелесть сказала нам с болью в голосе, что мы можем жить как свиньи, если нам это нравится. Она примирится с этим. Она сказала, что ее любовь слишком велика, чтобы на нее повлияла такая мелочь, как вопрос личной гигиены.
Итак, сорвалось.
Я, например, был очень рад этому. Годы привычки к корабельной чистоте восставали против такого образа жизни, и я не знаю, сколько бы я еще вытерпел.
Нелепо было и начинать это.
Мы почистились, помылись. Прелесть была в восторге, она говорила нам ласковые словечки, и это было еще хуже, чем все ее брюзжание. Она думала, что мы тронуты ее самопожертвованием, что за это подмазываемся к ней, и голос у нее звучал как у школьницы, которую ее герой пригласил на университетскую вечеринку.
Бен пробовал говорить с ней откровенно о некоторых интимных сторонах жизни (о которых она, разумеется, уже знала) и пытался поразить ее рассказом о том, какую роль в любви играет физиологический фактор.
Прелесть была оскорблена, но не настолько, чтобы это вышибло у нее романтические настроения и вернуло в строй.
Печальным голосом, в котором едва слышны были нотки гнева, она сказала нам, что мы забываем о более глубоком смысле любви. Она стала цитировать наиболее слюнявые стихи Джимми, в которых говорилось о благородстве и чистоте любви, и нам нечего было сказать. Нас просто посадили в калошу. Мы продолжали думать, но не говорить, ибо Прелесть услышала бы все.
Несколько дней мы ничего не делали, а только хандрили.
Да и делать, по — моему, было нечего. Я стал лихорадочно вспоминать, чем мужчина может оттолкнуть женщину.
Большая часть женщин терпеть не может азартных игр. Но единственная причина их гнева — это страх за свое благополучие. В нашем случае такого страха быть не может. В экономическом отношении Прелесть совершенно независима. Мы же не кормильцы.
Большинство женщин терпеть не могут пьянства. Опять же по причине страха за свое благополучие. И, кроме того, на корабле нет никакой выпивки.
Некоторые женщины устраивают скандалы, если мужчины не ночуют дома. Нам некуда было пойти. Все женщины ненавидят соперниц. А здесь женщин не было… что бы там Прелесть о себе ни думала.
Оттолкнуть Прелесть было нечем.
А спорить с ней — что проку!
Все это годилось, если бы Прелесть была женщиной. Но она всего лишь робот.
Вопрос: как разозлить робота?
Неряшливость расстроила аккуратистку. Но с этим она еще могла мириться. Беда в том, что не это было главным.
А что главное у робота… у любой машины?
Что машина ценит? Что идеализирует?
Порядок?
Нет, с этой стороны мы пробовали подойти, и ничего не вышло.
Здравомыслие?
Конечно.
Что еще?
Плодотворность? Полезность?
Я лихорадочно думал — и никак не мог сообразить. Разве можно притвориться сумасшедшим, да еще на таком пятачке, внутри всезнающей разумной машины? Даже во имя здравого смысла?
Но все равно я лежал и думал о различных видах безумия. Впрочем, этим можно одурачить людей, но не робота. Робота надо пронять главным… А какой самый главный вид безумия? Вероятно, робота может ужаснуть по — настоящему только безумие, связанное с потерей способности к полезному действию.
Вот оно!
Я поворачивал эту мысль и так и сяк, примеряясь к ней со всех сторон.
Безупречна!
Уже с самого начала пользы от нас было мало. Мы полетели только потому, что правила Центра не позволяли послать Прелесть одну. Мы были полезны лишь потенциально.
Мы что — то делали. Мы читали книги, писали ужасные стихи, играли в карты и спорили. Большую часть времени мы не сидели без дела. В космосе так: все время что — то делай, какими бы бессмысленными или бесцельными ни казались тебе собственные занятия.
Утром после завтрака, когда Бен захотел поиграть в карты, я отказался составить ему компанию. Я сел на пол и привалился спиной к стене; я не потрудился даже сесть на стул. Я не курил, потому что курение — это уже дело, и твердо решил стать настолько инертным, насколько это возможно для живого человека. Я не собирался шевелить даже пальцем, когда не надо было есть, спать или садиться.
Бен побродил кругом и пытался вовлечь Джимми в карточную игру, но тот не любил карт и был занят писанием стихов.
Поэтому Бен подошел и сел на пол рядом со мной.
— Хочешь закурить? — спросил он, протягивая мне кисет.
Я покачал головой.
— Что случилось? После завтрака ты не курил.
— Что толку? — сказал я.
Он пытался разговорить меня, но я не отвечал. Тогда он встал, походил немного, а потом снова сел рядом со мной.
— Что с вами обоими? — тревожно спросила Прелесть. Почему вы ничего не делаете?
— Ничего не хочется делать, — сказал я ей. — Одно беспокойство от всех этих дел.
Она побранила нас немного, а я не осмеливался взглянуть на Бена, но чувствовал, что он уже понимает, к чему я клоню. Немного погодя Прелесть оставила нас в покое, и мы так и сидели, как кайфующие турки.
Джимми продолжал писать стихи. С ним мы поделать ничего не могли. Но Прелесть обратила на нас его внимание, когда мы потащились обедать. Она злилась все больше и называла нас лентяями, каковыми мы, собственно, и были. Она беспокоилась за наше здоровье и заставила нас пройти в диагностическую кабину; здесь выяснилось, что мы в полном здравии, и это довело Прелесть до белого каления.
Она занудно перечисляла все, чем мы можем заняться. Но, пообедав, мы с Беном снова сели на пол и прислонились к стене. На этот раз к нам присоединился Джимми.
Попробуйте сидеть целые дни напролет, совершенно ничего не делая. Сначала чувствуешь себя как — то неловко, потом мучительно и в конце концов невыносимо. Не знаю, что делали другие, а я вспоминал сложные математические задачи и пытался решить их. Я играл в уме в шахматы партию за партией, но ни разу не мог удержать в памяти больше двенадцати ходов. Я окунулся в свое детство и пытался последовательно восстановить в памяти, что когда — то делал и что испытал. Чтобы убить время, я забирался в самые странные дебри воображения. Я даже сочинял стихи, и, откровенно говоря, они получились получше, чем у Джимми.
Мне кажется, Прелесть кое о чем догадывалась. Она видела, что поведение наше нарочито, но на сей раз возмущение, что могут существовать такие бездельники, взяло верх над холодным мышлением робота.
Прелесть умоляла нас, обхаживала, поучала… почти пять дней подряд она драла глотку. Она пыталась пристыдить нас. Она говорила, что мы никчемные, низкие, безответственные люди. Я и не представлял себе, что она знает некоторые эпитеты и похлестче.
Она старалась вселить в нас бодрость духа.
Она говорила нам о своей любви такими стихами в прозе, что перед ними почти поблекла поэзия нашего Джимми.
Она напоминала нам о том, что мы люди, и взывала к нашей чести.
Она грозилась выкинуть нас за борт.
А мы просто сидели.
И ничего не делали.
Чаще всего мы даже не отвечали. Мы не пытались защищаться. Порой мы соглашались со всем, что она говорила, и это, по — моему, раздражало ее больше всего.
Она стала холодной и сдержанной. Ни обиды. Ни злости. Просто холодность.
В конце концов она перестала с нами разговаривать. Теперь нам приходилось трудно. Мы боялись произнести хоть слово и поэтому не могли сговориться, как быть дальше. Мы были вынуждены продолжать ничего не делать. Вынуждены, потому что это лишило бы нас тех преимуществ, которых мы уже добились.
Тянулись дни, и ничего не случалось. Прелесть не разговаривала с нами. Она кормила нас, мыла посуду, стирала, убирала койки. Она заботилась о нас, как и прежде, но делала это молча.
Разумеется, она гневалась.
В голову мне приходили безумные мысли.
Может быть, Прелесть — женщина? Может быть, на всю эту громаду мыслящей машины наслоился женский ум? В конце концов, никто из нас не знал досконально устройства Прелести.
Это был ум старой девы, настолько разочарованный, такой одинокой и обойденной жизнью, что она с радостью ухватилась бы за любую авантюру, даже рискуя собой, так как с годами ей уже было бы все равно.
Я создал внушительный образ гипотетической старой девы и даже подумал о кошке, канарейке и меблированных комнатах, в которых она жила бы.
Мне представлялись ее прогулки и одиночестве по вечерам, ее бесцельная болтовня, ее маленькие воображаемые победы и желания, распиравшие ее.
И мне стало жаль старую деву.
Фантастика? Конечно. Но она помогала коротать время.
Однако была еще и другая мысль, не оставлявшая меня: Прелесть, уже побежденная, наконец сдалась и несет нас к Земле, но, как всякая женщина, она не хочет признаться в этом, чтобы мы не утешились и не испытывали удовольствия от сознания, что выиграли и летим домой.
Я говорил себе снова и снова, что это невозможно, что после всех курбетов, которые она выкидывала, Прелесть не осмелится вернуться. Ее превратят в лом.
Но мысль эта не уходила — я никак не мог отделаться от нее. Я чувствовал, что ошибаюсь, но убедить себя в этом не мог и стал поглядывать на хронометр. Я то и дело говорил себе: «На час ближе к дому, еще на час и еще. Мы уже совсем близко». Что бы я себе ни говорил, как бы ни спорил с собой, я все больше склонялся к мысли, что мы движемся по направлению к Земле.
Вот почему я не удивился, когда Прелесть наконец села. Я просто был преисполнен благодарности и облегченно вздохнул.
Мы посмотрели друг на друга, и я увидел в глазах товарищей недоумение и надежду. Естественно, никто из нас не мог спрашивать. Одно слово могло свести нашу победу на нет. Нам оставалось только молча сидеть и ждать, что будет дальше.
Люк начал открываться, и на меня пахнуло Землей. Я не стал ждать, когда люк откроется совсем, а подбежал, протиснулся в образовавшуюся щель и ловко выскочил наружу. Шлепнувшись на землю так, что из меня чуть не вышибло дух, я кое — как встал и дал деру. Я не желал рисковать. Мне хотелось быть вне пределов досягаемости, пока Прелесть не передумала.
Один раз я споткнулся и чуть не упал, а Бен с Джимми пронеслись мимо меня как ветер. Значит, я не ошибся. Они тоже учуяли запах Земли.
Была ночь, но на небе сияла такая большая луна, что было светло как днем. Слева, за широкой полосой песчаного пляжа плескалось море, справа виднелась гряда голых холмов, спереди чернел лес, отделенный от нас рекой, которая впадала в море.
Мы побежали к лесу: если бы мы спрятались за деревья, выковырять нас оттуда Прелести было бы нелегко. Оглянувшись украдкой, я увидел при свете луны, что она не двигается с места.
Мы добежали до леса и бросились на землю, чтобы отдышаться. Бежать было довольно далеко, а мы улепетывали быстро; после стольких недель сидения человек не в состоянии много бегать.
Я лежал на животе, раскинув руки и вдыхая воздух полной грудью, принюхиваясь к прекрасным земным запахам: пахло прелыми листьями, травой, а ветерок со спокойного моря был солоноватым.
Немного погодя я перевернулся на спину и взглянул на деревья. Они были странные — на Земле таких деревьев нет. А когда я выполз на опушку и посмотрел на небо, то увидел, что и звезды совсем не те.
Я не сразу воспринимал то, что видел. Я был уверен, что нахожусь на Земле, и мой ум восставал против всякой иной мысли.
Но в конце концов у меня мороз по коже пошел — я с ужасом осознал, где я.
— Джентльмены, — сказал я. — У меня есть для вас новость. Эта планета вовсе не Земля.
— Она пахнет как Земля, — возразил Бен. — И на вид как Земля.
— И ощущения как на Земле, — сказал Джимми. — Тяготение и воздух…
— Посмотрите на звезды. Взгляните на те деревья.
Они смотрели долго. Как и я, они, наверно, думали, что Прелесть повернула домой. Или, может быть, им только хотелось в это верить. Как и у меня, действительное вышибло желаемое не сразу.
— Ты прав.
— Как нам теперь быть? — спросил Джимми.
Мы стояли и думали, что же делать.
В сущности, решать было нечего, сработал простой рефлекс, обусловленный миллионом лет жизни на Земле, которому не могли противостоять какие — то несколько сот лет, когда мы только начали привыкать к мысли, что есть иные миры.
Мы помчались со всех ног, словно по команде.
— Прелесть! — кричали мы. — Прелесть, подожди нас!
Но Прелесть не ждала. Она подпрыгнула примерно на тысячу футов и повисла в небе. Мы остановились как вкопанные и смотрели вверх, не веря глазам своим. Прелесть опустилась, снова взмыла, остановилась и начала парить. Потом она задрожала и медленно опустилась.
Мы побежали — она взмыла и опустилась, потом взмыла еще раз, упала и, ударившись о землю, подпрыгнула. Она была похожа на сумасшедшего кенгуру. Она вела себя так, будто хотела удрать, но ее что — то не пускало, будто ее держал прикрепленный к земле эластичный кабель.
Наконец она затихла в сотне ярдов от того места, где села сперва. Она не издавала ни звука, но у меня было такое впечатление, что она дышит тяжело, как усталая гончая.
На том месте, где Прелесть села сначала, возвышалась груда предметов, но мы пробежали мимо и бросились к роботу. Мы колотили его по металлическим бокам.
— Открывайся! — кричали мы. — Мы хотим обратно!
Прелесть подпрыгнула. Она подпрыгнула в небо на сотню футов, затем шлепнулась обратно футах в тридцати в стороне.
Мы бросились от нее прочь. Она могла с таким же успехом упасть нам прямо на голову.
Мы понаблюдали за ней, но она не двигалась.
— Прелесть! — крикнул я.
Она не ответила.
— Она спятила, — сказал Джимми.
— Когда — нибудь это должно было случиться, — сказал Бен. — Рано или поздно непременно должны были создать робота настолько большого, что ему стали бы тесны детские штанишки.
Мы медленно попятились от Прелести, не спуская с нее глаз. Не то чтобы боялись ее, но и не доверяли. Мы пятились да самой горки предметов, которые Прелесть выгрузила и сложила, и увидели, что это целая пирамида припасов, аккуратно разложенных по ящикам и снабженных этикетками. А рядом с пирамидой по трафарету была сделана надпись:
А ТЕПЕРЬ,
ЧЕРТ ВАС ПОДЕРИ,
РАБОТАЙТЕ!!
— Она, наверно, приняла нашу бесполезность близко к сердцу, — сказал Бен.
— Она и в самом деле хотела высадить нас на необитаемую планету, — почти нечленораздельно произнес Джимми.
Бен протянул руку и потряс его за плечо, чтобы подбодрить.
— Если мы не заберемся внутрь, — сказал я, — не заставим ее действовать, то это все равно что она нас покинула и улетела.
— Но что ее заставило это сделать? — скулил Джимми. Роботам не полагается…
— Я знаю, — перебил его Бен. — Роботам не полагается причинять человеку вред. Но Прелесть и не причинила нам никакого вреда. Она не выбросила нас. Мы сами сбежали от нее.
Это уже казуистика, — возразил я.
— Прелесть и создана специально для казуистики, — сказал Бен. — Вся беда в том, что ее сделали чертовски похожей на человека. Ее, наверное, напичкали знанием и законов, и литературы, и физики, и всего прочего.
— Тогда почему она просто не улетит? Если она может очистить свою совесть, почему она еще здесь?
Бен покачал головой.
— Не знаю.
— Похоже, что она пыталась улететь, но не смогла. Будто что — то притягивало ее обратно.
— Это верная мысль, — сказал Бен. — Надо думать, она не может улететь, пока мы не скроемся с глаз. Мы вернулись, и команда, запрещавшая роботу наносить вред человеку, сработала снова. Устройство, которое действует по принципу «с глаз долой — из сердца вон».
Прелесть сидела на том же месте, куда опустилась в последний раз. Она больше не пыталась взлететь. Взглянув на нее, я подумал, что, может быть, Бен прав. Если это так, то нам повезло, что мы вернулись.
Мы стали рыться в припасах, которые оставила нам Прелесть. Она хорошо позаботилась о нас и не только не забыла ничего необходимого, но даже написала по трафарету подробные указания и советы на многих ящиках.
У большого плаката отдельно лежали два ящика. На одном было написано: «ИНСТРУМЕНТЫ», и крышка его была крепко приколочена гвоздями, чтобы нам пришлось потрудиться, отдирая ее. На другом ящике имелась надпись: «ОРУЖИЕ», а ниже: «ОТКРЫТЬ НЕМЕДЛЕННО И ВСЕГДА ДЕРЖАТЬ ПОД РУКОЙ».
Мы открыли оба ящика. Мы нашли новейшее чудо — оружие что — то вроде универсального автомата, который стрелял чем угодно — от пуль до бронебойных зарядов самых различных видов. Он же мог метать огонь, газ, кислоту, отравленные стрелы, взрывчатку и снотворные капсулы. Чтобы выбрать нужные боеприпасы, надо было просто крутануть наборный диск. Автоматы были тяжелые и неудобные в обращении, но действовали безотказно, а на неизвестной планете, где на каждом шагу могла грозить опасность, мы были бы без них как без рук.
Потом мы перешли к пирамиде и стали сортировать все, что в ней было. А были в ней ящики с белками и углеводами. Коробки с витаминами и солями. Одежда и палатка, фонари и посуда. В общем, все, что требуется, когда вы отправляетесь в дорогостоящий туристский поход.
Прелесть не забыла ничего.
— Она все учла, — с горечью сказал Джимми. — Она потратила много времени на изготовление этой кучи. Ей пришлось синтезировать каждый предмет. Потом ей оставалось только найти планету, на которой бы мог жить человек. И это тоже было нелегко.
— Ей пришлось еще более туго, чем ты думаешь, — добавил я. — Не просто планету, на которой мог бы жить человек, а такую планету, которая пахла бы как Земля и по виду не отличалась от Земли. Чтобы мы захотели выбежать наружу. Если бы мы не выбежали сами, она не могла бы высадить нас. Таково ее сознание, и…
Бен со злостью плюнул.
— Высажены! — сказал он. — Высажены роботом, томящимся от любви!
Может быть, не совсем роботом.
Я рассказал товарищам о старой деве, которая родилась в моем воображении, они оборжали меня, и всем стало легче.
Но Бен признал, что мое предположение не совсем бредовое. Прелесть создавали лет двадцать, и она напичкана всякими странностями.
Наступил рассвет, и только теперь мы рассмотрели окрестности. Местечко было настолько милое, что лучшего и желать не надо. Но мы были не в восторге.
Море было синее и навевало мысли о синеглазой девушке. Белый прямой пляж уходил вдаль, за пляжем начиналась гряда холмов, а на горизонте маячили снежные горы. На западе был лес.
Мы с Джимми спустились на пляж, чтобы набрать плавника для костра, а Бен остался готовить завтрак.
Набрав по охапке сучьев, мы уже пошли обратно, как вдруг какое — то чудовище перевалило через холм и ринулось на лагерь.
Тускло блестевшее в первых лучах солнца, оно было размером с носорога и похоже на жука. Оно не издавало ни звука, но двигалось очень быстро, и остановить такую штуку было бы трудно.
И, разумеется, мы не взяли с собой оружия.
Я бросил дрова, крикнул Бену и побежал вверх по склону. Бен уже увидел мчащееся чудовище и схватил оружие. Зверь дул прямо к нему. Бен поднял автомат. Сверкнуло пламя, раздался взрыв, и на мгновение все заволокло дымом и пылью слышен был только визг летящих осколков.
Ну в точности как если бы я смотрел фильм и вдруг изображение пропало, а потом снова возникло. Какой — то миг было видно лишь пламя, потом вихрь проскочил мимо Бена и помчался вниз по склону на пляж, прямо на нас с Джимми.
— Рассыпаться! — скомандовал я. Джимми и только потом подумал, как глупо это звучало: ведь нас было всего двое.
Но в этот момент мне было не до семантических тонкостей. Во всяком случае, Джимми понял мою мысль. Он помчался вдоль пляжа в одну сторону, а я в другую, и чудовище затормозило, очевидно, для того, чтобы подумать, за кем из нас погнаться.
И, да будет вам известно, оно погналось за мной!
Я считал себя конченным человеком. Пляж был совершенно ровный, ни одного укрытия, и я знал, что от моего преследователя мне не убежать. Можно было увернуться раза два, но чудовище легко разворачивалось, и было ясно, что рано или поздно мне крышка.
Краем глаза я увидел, что Бен бежит вниз наперерез чудовищу. Он что — то кричал мне, но я не разобрал слов.
Воздух вздрогнул от еще одного взрыва, и я быстро оглянулся.
Бен одолевал склон, а зверь преследовал его. Я круто повернул обратно и побежал что было сил к лагерю. Я увидел, что Джимми уже почти у лагеря, и поднажал. Мне казалось, что, если у нас будет три автомата, мы одолеем чудовище.
Бен мчался прямо к Прелести, рассчитывая, видно, забежать за ее громаду и ускользнуть от зверя. Я видел, что он выбивается из сил.
Джимми добежал до лагеря и схватил оружие. Он выстрелил, даже не приложив автомат к плечу, и бок бегущего зверя оросила какая — то жидкость.
Я пытался крикнуть Джимми, но мне не хватило воздуха. Этот дурак стрелял снотворными капсулами, которые не пробивали толстой шкуры.
В двух шагах от Прелести Бен споткнулся. Оружие вылетело у него из рук. Бен упал, потом приподнялся и пополз, пытаясь спрятаться за Прелесть. Носорожистая тварь злобно рвалась вперед. И вот тут все и случилось… в мгновение ока, быстрее, чем я рассказываю об этом.
У Прелести выросла рука — длинное, гибкое щупальце, которое змеей опустилось сверху. Метнувшись к зверю, рука обхватила его посередине и подняла.
Я стоял как вкопанный. Мне казалось, что мгновение, когда зверя поднимали, растянулось на минуты, — мозг мой лихорадочно работал, стараясь выяснить, что это за штука.
Первым делом я заметил, что у чудовища вместо ног колеса. Тускло блестевшая шкура могла быть только металлической — я видел вмятины от взрывов. На шкуре виднелись мокрые пятна — следы снотворных капсул, которыми стрелял Джимми.
Прелесть подняла зверя высоко над землей и раскрутила так сильно, что был виден только светящийся круг. Затем она отпустила чудовище, и оно полетело над морем. Описав дугу и неуклюже кувыркаясь, оно шлепнулось в море. Поднялся весьма приличный гейзер.
Бен встал и подобрал оружие. Подошел Джимми, и мы с ним направились к Прелести. Все трое мы стояли и смотрели на море, в которое погрузился зверь.
Наконец Бен повернулся кругом и похлопал Прелесть по боку дулом автомата.
— Большое спасибо, — сказал он.
Прелесть выдвинула другое щупальце. Это было короче и с «лицом» на конце. Тут все было — и глаза — лупы, и слуховое устройство, и громкоговоритель.
— Пошел ты куда подальше, — произнесла Прелесть.
— Что с тобой? — спросил я.
— Мужчины! — презрительно бросила она и втянула в себя «лицо».
Мы еще несколько раз постучали по ней, но ответа не было — Прелесть надулась.
Мы с Джимми снова отправились за дровами, которые побросали. Только мы подобрали их, как услышали крик Бена, оставшегося в лагере, и быстро обернулись. Наш друг носорог выезжал из воды.
Мы опять побросали дрова и побежали к лагерю, но спешить было незачем. Дружище не хотел получать новую трепку. Он сделал большой крюк к востоку, чтобы объехать нас стороной, и устремился к холмам.
Мы приготовили завтрак и поели, держа оружие под рукой — где есть один зверь, там непременно будут и другие. Рисковать не было смысла.
Мы поговорили о нашем госте. Так как его надо было как — то назвать, мы окрестили его Элмером. Причины для этого не было никакой, просто так показалось удобным.
— Вы видели колеса? — спросил Бен, и мы сказали, что видели. Бен облегченно вздохнул. — Я думал, мне мерещится, пояснил он.
Но сомнений относительно колес не было. Все мы заметили их, это подтверждали и следы, четко отпечатавшиеся на песке пляжа.
Однако мы затруднялись сказать, что из себя представляет этот Элмер. Если судить по колесам, то это машина, но у него были качества и несвойственные машинам: например, он, как живое существо, задумался, за кем из нас бежать — за Джимми или за мной; он злобно бросился на упавшего Бена; он проявил осторожность, обойдя нас стороной, когда выехал из моря.
Наряду с этим были и колеса, и явно металлическая шкура, и вмятины от взрывов, которые разорвали бы любое, самое большое и свирепое животное в клочья.
— У него и того и другого понемногу, — предположил Бен. — В основном это машина, но с некоторыми качествами живого существа — что — то вроде старой девы, которую ты придумал, чтобы объяснить поведение Прелести.
Разумеется, могло быть и так. Впрочем, тут годилось почти любое предположение.
— Может, это силикатовая жизнь? — тут же предположил Джимми.
— Не силикатовая, — уверенно сказал Бен. — Металлическая. Любая форма силикатовой жизни при прямом попадании рассыпается в пыль. Один вид такой жизни найден много лет назад на Тельме–5.
— Нет, это в основном не живое существо, — сказал я. У живого существа не может быть колес. Колеса, кроме особых случаев; обычно изобретаются лентяями для передвижения. Элмер может быть только, как сказал Бен, специально созданной комбинацией машины и живого существа.
— И, значит, здесь есть разумные существа, — сказал Бен.
Мы сидели вокруг костра, потрясенные этой мыслью. За многие годы поисков найдена лишь горстка разумных рас, но в общем их уровень развития не очень — то высок. Разумеется, среди них никто не обладает таким разумом, который позволил бы создать что — либо подобное Элмеру.
До сих пор в исследованной части Вселенной человека не превзошел никто. Никто не мог сравниться с ним по интеллекту.
А тут совершенно случайно мы свалились на планету, на которой увидели признаки существования разума, равного человеческому… и, может быть, даже превосходящего его.
— Меня беспокоит одно, — сказал Бен. — Почему Прелесть не проверила это место, перед тем как приземлиться? Наверно, она хотела бросить нас здесь и улететь. Но, видно, ей все же пришлось подчиниться закону, согласно которому робот не может нанести вреда человеку. А если она следует этому закону, то, прежде чем она покинет нас, ей придется… хочешь не хочешь, а придется — убедиться в том, что нам не угрожает никакая опасность.
— Может, она свихнулась? — предположил Джимми.
— Только не Прелесть, — возразил Бен. — Мозг у нее работает как швейцарские часы.
— Знаете, что я думаю? — сказал я. — Я думаю: Прелесть эволюционировала. Это совершенно новый тип робота. В нее накачали слишком много человеческого…
— А она и должна быть очеловеченной, — заметил Джимми. — Иначе она не справится со своими задачами.
— Дело в том, — сказал я, — что робот, очеловеченный до такой степени, как Прелесть, уже не робот. Это что — то другое. Не совсем человек, но и не робот. Что — то среднее. Какой — то новый, непонятный вид жизни. И за ним нужен глаз да глаз.
— Интересно, она все еще дуется? — сказал Бен.
— Конечно, дуется.
— Мы должны пойти дать ей нахлобучку и вывести ее из этого состояния.
— Оставь ее покое, — сердито приказал я. — Нам остается одно — игнорировать ее. Ей оказывают внимание, вот она и дуется.
И мы оставили ее в покое. Больше делать было нечего.
Я пошел к морю мыть посуду, но на этот раз взял с собой оружие. Джимми пошел в лес поискать ключ. Полдюжины банок воды, которыми снабдила нас Прелесть, не хватит навечно, а мы не были уверены, что потом она выдаст еще.
Впрочем, она нас не забыла, не вычеркнула полностью из своей жизни. Она дала Элмеру взбучку, когда тот слишком разошелся. Меня очень тешила мысль о том, что она поддержала нас, когда дело была табак. Значит, есть еще надежда, что мы как — нибудь поладим.
Я присел у лужи в песке и, моя посуду, думал, какая потребуется перестройка, если когда — нибудь все роботы станут такими, как Прелесть. Я уже видел появление Декларации прав роботов, специальных законов для роботов, лобби роботов при конгрессе, а поразмышляв еще, совсем запутался.
В лагере Бен натягивал палатку, и я, вернувшись, помог ему.
— Знаешь, — сказал Бен, — чем больше я думаю, тем больше мне кажется, что я был прав, когда говорил, что Прелесть не может оставить нас, пока мы на виду. Простая логика: она не может взлететь, потому что мы стоим прямо перед ней и напоминаем ей об ответственности.
— Ты клонишь к тому, что кто — нибудь из нас должен все время быть поблизости от нее? — спросил я.
— В общем, да.
Я не спорил с ним. Что толку спорить, верить, не верить? У нас не то положение, при котором можно позволить себе совершить глупую ошибку.
Когда мы натянули палатку, Бен сказал мне:
— Если ты не возражаешь, я немного пройдусь за холмы.
— Берегись Элмера, — предупредил его я.
— Он не осмелится беспокоить нас. Прелесть сбила с него спесь.
Он взял оружие и ушел.
Я побродил по лагерю наводя порядок. Кругом были мир и спокойствие. Пляж сверкал на солнце, море было гладким и красивым. Летали птицы, но никаких признаков других существ не было. Прелесть продолжала дуться.
Вернулся Джимми. Он нашел ключ и принес ведро воды. Потом он стал рыться в припасах.
— Что ты ищешь? — спросил я.
— Бумагу и карандаш. Прелесть не могла забыть про них.
Я хмыкнул, но он был прав. Будь я проклят, если Прелесть не приготовила для него стопы бумаги и коробки карандашей.
Он устроился под грудой ящиков и начал писать стихи.
Вскоре после полудня вернулся Бен. Я видел, что он взволнован, но не стал тотчас расспрашивать.
— Джимми наткнулся на ключ, — сказал я. — Ведро там.
Он попил и тоже сел в тень под груду ящиков.
— Я нашел. — сказал он торжествующе.
— А разве ты что — нибудь искал?
Он взглянул на меня и криво улыбнулся.
— Элмера кто — то сделал.
— И ты так прямо пошел, как по улице, и нашел…
Бен покачал головой.
— Кажется, мы опоздали. Опоздали на три тысячи лет, если не больше. Я нашел развалины и долину с уймой могильных холмов. И несколько пещер в известняковом обрыве над долиной.
Бен встал, подошел к ведру и снова напился.
— Я не мог подойти поближе, — сказал он. — Элмер караулит. — Бен снял шляпу и вытер рукавом лицо. — Ходит взад — вперед, как часовой. Видел бы ты, какие колеи он проложил за многие годы, проведенные на этом посту.
— Так вот почему он на нас напал, — сказал я. — Мы вторглись на охраняемую территорию.
— Наверно.
В тот вечер мы все обговорили и порешили, что надо выставить пост для наблюдения за Элмером, чтобы изучить его повадки и часы дежурства, если таковые были. Нам было важно узнать, что можно предпринять в отношении руин, которые охранял Элмер.
Впервые человек столкнулся с высокой цивилизацией, но пришел слишком поздно и — из — за дурного настроения Прелести — слишком плохо снаряженный, для того чтобы исследовать хотя бы то, что осталось.
Чем больше я думал об этом, тем больше распалялся и наконец пошел к Прелести и изо всех сил стал стучать по ней ногами, чтобы привлечь ее внимание. Никакого толку. Я орал на нее, но она не отвечала. Я рассказал ей, что тут заваривается. Говорил, что мы нуждаемся в ней — ведь она просто обязана нам помочь, для этого ее и создали. Но она была холодна.
Я вернулся и плюхнулся у костра, где сидели мои товарищи.
— Она ведет себя так, будто умерла.
Бен поворошил костер, и пламя стало немного выше.
— От разбитого сердца, — участливым тоном сказал Джимми.
— А ну тебя вместе с твоей поэтической терминологией! — озлился я. — Вечно бродит как во сне. Вечно разглагольствует. Да если бы не твои проклятые стихи!..
— Замолчи, — сказал Бен.
Я взглянул поверх костра ему в лицо, освещенное пламенем, и замолчал. Что ж, в конце концов, и я могу ошибаться. Джимми не может не писать своих паршивых стихов.
Я смотрел на пламя и думал: неужто Прелесть умерла? Конечно, нет. Просто она упряма как черт. Она нам всыпала по первое число. А теперь наблюдает, как мы маемся, и ждет подходящего случая, чтобы выложить козыри.
Утром мы начали наблюдать за Элмером и делали это изо дня в день. Кто — нибудь из нас взбирался на гребень гряды милях в трех от лагеря и устраивался там с нашим единственным биноклем. Потом его сменял другой, и так дней десять мы наблюдали за Элмером в дневные часы.
Элмер обходил свои владения дозором регулярно. В качестве наблюдательных пунктов он использовал некоторые могильные холмы, взбираясь на них каждые пятнадцать минут. Чем больше мы наблюдали за ним, тем больше убеждались, что он прекрасно справляется со своими обязанностями. Пока он был там, в занесенный город не пробрался бы никто.
Кажется, на второй или третий день он обнаружил, что за ним наблюдают. Он стал вести себя беспокойно. Взбираясь на свои наблюдательные вышки, он смотрел в нашу сторону дольше, чем в другие. А раз, когда я был на посту, он, похоже, начал приготовления к атаке, но только я решил смыться, как он успокоился и стал кружить, как обычно.
Если не считать наблюдения за Элмером, нам жилось неплохо. Мы купались в море и ловили рыбу, рискуя жизнью всякий раз, когда жарили и ели рыбу нового вида, но нам повезло ядовитых не попадалось. Мы бы не ели ее вообще, если бы не было необходимости экономить припасы. Когда — нибудь они должны были кончиться и никто не давал гарантии, что Прелесть снова подаст нам милостыню. Если бы она этого не сделала, нам пришлось бы добывать себе пропитание самим. Бен забеспокоился: вдруг на этой планете есть времена года? Он убедил себя, что так оно и есть, и отправился в лес, чтобы подыскать место для постройки хижины.
— Нельзя же жить в палатке на пляже, когда ударят морозы, — сказал он.
Но его тревога не заразила ни меня, ни Джимми. Что — то подсказывало мне, что рано или поздно Прелесть сменит гнев на милость и мы сможем заняться делом. А Джимми с головой окунулся в бессмысленнейшее из занятий, которое он называл сочинением саги. Может, это действительно была сага. Черт ее разберет. Саги — это не по моей части.
Он назвал ее «Смерть Прелести» и заполнял страницу за страницей чистейшей чепухой. Мол, была она хорошей машиной и, несмотря на железный облик, душа у нее была кристальной чистоты. Ладно бы уж, если бы к нам не приставал, а то он каждый вечер после ужина читал эту халтуру вслух.
Я терпел сколько мог, но однажды вечером взорвался. Бен стал на сторону Джимми, но, когда я пригрозил, что возьму свою треть запасов и разобью собственный лагерь вне пределов слышимости, Бен сдался и перешел на мою сторону. Мы вдвоем проголосовали против декламации. Джимми встал на дыбы, но мы оказались в большинстве.
Так вот, первые десять дней мы наблюдали за Элмером только издали, но затем он, видно, стал нервничать и по ночам мы слышали рокот его колес, а по утрам находили следы. Мы решили, что он подсматривает, как мы себя ведем в лагере, и старается, так же как и мы, разобраться, что к чему. На нас он не нападал, мы тоже не беспокоили его, только во время ночных дежурств стали более бдительными. Даже Джимми умудрялся не спать, когда стоял на посту.
Впрочем, были кое — какие странности. Казалось бы, после взбучки, которую дала ему Прелесть, Элмер должен держаться от нее подальше. Однако по утрам мы обнаруживали его следы рядом с ней.
Мы решили, что он пробирается сюда и прячется позади Прелести, чтобы, выглядывая из — за этой мрачной громады, наблюдать за лагерем с близкого расстояния.
Что же касается зимней квартиры, то Бен продолжал настаивать и почти убедил меня, что надо что — то делать. И однажды мы с ним объединились в строительную бригаду. Оставив в лагере Джимми, взяв с собой топор, пилу и оружие, мы отправились в лес.
Должен признать, что Бен подобрал для нашей хижины прекрасное место. Рядом ключ, с трех сторон, от ветра защищают крутые склоны, и деревьев много поблизости, так что не надо было таскать дрова издалека.
Я все еще не верил, что зима будет вообще. Я был совершенно убежден в том, что, если даже она и наступит, мы ее не дождемся. Буквально со дня на день мы с Прелестью сможем прийти к какому — нибудь компромиссу. Но Бен беспокоился, и я знал, что у него будет легче на душе, если мы начнем строить дом. А делать ведь все равно было нечего. Я утешал себя тем, что строить хижину — это лучше, чем просто сидеть.
Мы прислонили оружие к дереву и начали работать. Мы повалили одно дерево и начали приглядывать другое, как вдруг я услыхал позади треск кустарника.
Я бросил пилу, выпрямился и оглянулся: вниз по склону на нас мчался Элмер.
Хватать оружие было некогда. Бежать — некуда. И вообще положение было безвыходное.
Я завопил, подпрыгнул, ухватился за сук и подтянулся. Я почувствовал, как меня качнуло ветром, который поднял пронесшийся подо мной Элмер.
Бен отпрыгнул в сторону и, когда Элмер проносился мимо, метнул в него топор. И метнул как надо. Топор ударился о металлический бок, и ручка разлетелась на кусочки.
Элмер развернулся. Бен пытался схватить оружие, но не успел. Он вскарабкался на дерево, как кошка. Добравшись до первого же толстого сука, он оседлал его.
— Как ты там? — крикнул он мне.
— В порядке, — сказал я.
Элмер стоял между нашими двумя деревьями, двигая массивной головой то вправо, то влево, словно решая, за кого из нас взяться сперва.
Прильнув к сучьям, мы следили за ним.
Он хочет, рассуждал я, отрезать нас от Прелести, а затем расправиться с нами. Но в таком случае очень странно, почему он прятался за Прелестью, когда подсматривал. Наконец Элмер повернул и подкатился под мое дерево. Нацелившись, он стал кусать ствол своими металлическими челюстями. Летели щепки, дерево дрожало. Я вцепился в сук покрепче и взглянул вниз. Дровосек из Элмера был аховый, но по прошествии длительного времени дерево он все — таки перегрыз бы.
Я взобрался немного повыше, где было побольше сучьев и где я мог заклиниться покрепче, чтобы не слететь от тряски.
Я уселся довольно удобно и посмотрел, что там поделывает Бен. Меня чуть не хватил удар: его не было на дереве. Я оглянулся, потом снова посмотрел на дерево и увидел, что он тихонько слезает, прячась от Элмера за стволом, точно белка, за которой охотятся.
Я следил за ним затаив дыхание, готовый крикнуть, если Элмер засечет его, но Элмер был слишком занят жеванием моего дерева и ничего не замечал.
Бен спустился на землю и метнулся к оружию. Он схватил оба автомата и нырнул за другое дерево. Огонь был открыт с короткого расстояния. Бронебойные пули колотили по Элмеру. От взрывов ветки так раскачивались, что мне пришлось вцепиться в дерево и держаться что было силы. Два, осколка вонзились в ствол пониже меня, другие осколки прочесывали крону, в воздухе кружились листья и сбитые ветки, но меня не задело.
Элмер, должно быть, ужасно удивился. При первом же выстреле он сиганул футов на пятнадцать и полез по склону холма, как кошка, которой наступили на хвост. На его сверкающей шкуре виднелось множество новых вмятин. Из одного колеса выбило большой кусок металла, и Элмер слегка раскачивался на ходу. Он мчался так быстро, что не успел свернуть перед деревом и врезался прямо в него. От удара он футов десять шел юзом. Так как он скользил в нашу сторону, Бен дал еще одну очередь. Элмер накренился довольно сильно, но потом выровнялся, перевалил через вершину холма и скрылся с глаз. Бен вышел из — за дерева и крикнул мне:
— Все в порядке, теперь можешь слезать.
Но когда я попытался слезть, то обнаружил, что попал в капкан. Моя левая ступня была зажата между стволом дерева, и толстенным суком, и я не мог вытащить ее, сколько ни старался.
— Что случилось? — спросил Бен. — Тебе понравилась там?
Я сказал ему, в чем дело.
— Ладно, — сказал он неохотно. — Сейчас я полезу и отрублю сук.
Он поискал топор, но тот, конечно, оказался непригодным. Ручка его разлетелась при ударе об Элмера. Бен держал бесполезный топор в руках и произносил речь, направленную против низких проделок судьбы.
Потом он швырнул топор и полез ко мне на дерево. Протиснувшись рядом со мной, он сел на сук.
— Я полезу по суку дальше и наклоню его, — пояснил он. — Может, ты вытянешь ногу.
Он пополз по суку, но это была уже чистая эквилибристика. Раза два он чуть не упал.
— А ты точно не можешь вытащить ногу теперь? — спросил он с дрожью в голосе.
Я попробовал и сказал, что не могу.
Он отказался от поползновения спасти меня ползком и повис на суку. Перебирая руками, он двинулся дальше.
Сук клонился к земле, по мере того как Бен одолевал дюйм за дюймом, и мне казалось, что ступня зажата не так крепко, как прежде. Я тянул ногу и вдруг почувствовал, что могу немного шевелить ступней, но вытащить ее все не мог.
В это время внизу раздался ужасный треск. Бен с воплем прыгнул на землю и помчался к оружию.
Сук взлетел вверх и прихватил ногу в тот миг, когда я шевельнул ею, но на этот раз ее прищемило под другим углом и скрутило так, что я заорал от боли.
А Бен поднял автомат и повернулся лицом к кустам, откуда доносился треск. И вдруг из кустов нежданно — негаданно появился собственной персоной сам Джимми, бежавший нам на подмогу.
— Что, ребята, попали в беду? — крикнул он. — Я слышал стрельбу.
Когда Бен опускал автомат, лицо его было белее мела.
— Дурак! Я чуть тебя не уложил!
— Такая была стрельба, — задыхаясь, говорил Джимми. — Я бежал со всех ног.
— И оставил Прелесть одну!
— Да я думал, что вы, ребята…
— Теперь уж мы наверняка пропали, — застонал Бен. — Вы же знаете, что Прелесть не может удрать, пока один из нас при ней.
Разумеется, мы этого не знали. Мы только так предполагали. Но Бен был немного не в себе. Для него выдался жаркий денек.
— Беги обратно! — закричал он на Джимми. — Одна нога, здесь, другая там. Может, захватишь ее, пока она не успела удрать.
Это было глупо: если Прелесть собиралась улететь, она бы поднялась тотчас, как только Джимми скрылся с глаз. Но Джимми не сказал ни слова. Он просто повернулся и пошел обратно, ломясь через кустарник. Я еще потом долго слышал, как он продирался сквозь лес.
Бен снова взбирался на мое дерево, бормоча:
— Вот тупоголовые сопляки. Все у них не так. Один убежал, оставил Прелесть. Другой защемился тут на дереве. Хоть бы о себе научились заботиться…
Он еще долго распространялся в том же роде.
Я не отвечал ему. Не хотелось ввязываться в спор.
Нога дико болела, и я хотел одного — лишь бы он поскорее меня освободил.
Бен снова вскарабкался на самый конец сука, и я вытащил ногу. Бен спрыгнул на землю, а я спускался по стволу. Нога сильно болела и распухла, но кое — как ковылять я мог.
Бен меня не ждал. Он схватил автомат и помчался к лагерю. Я попробовал идти быстрее, но, не увидев в этом смысла, сбавил шаг.
Выйдя на опушку, я увидел, что Прелесть не трогалась с места. Бен разорялся совершенно напрасно. Бывают же такие типы.
Когда я добрался до лагеря, Джимми стянул с меня башмак, а я колотил по земле кулаком от боли. Он подогрел ведро воды, чтобы сделать мне ванну, а потом разыскал аптечку и наляпал на ногу какого — то мушиного мора. Лично я думаю, он не соображал, что делает. Но душа у парнишки добрая.
А Бен между тем исходил злостью по поводу странного явления, которое он обнаружил. Когда мы покидали лагерь, вся местность вокруг Прелести была испещрена следами наших ног и колес Элмера, а теперь не одного не осталось. Похоже было, будто кто — то взял метлу и заровнял следы. Это действительно было странно, но Бен уж слишком много говорил об этом. Самое важное было то, что Прелесть на месте. А раз она здесь, то была надежда сговориться с ней. Если бы она улетела, то мы остались бы на планете навсегда.
Джимми приготовил кое — какую еду, и, после того как мы поели, Бен сказал нам:
— Пойду — ка посмотрю, что там поделывает Элмер.
Я — то насмотрелся на этого Элмера на всю жизнь. Джимми он не интересовал. Джимми сказал, что будет работать над сагой. Поэтому Бен взял оружие и пошел за холмы один.
Моя нога болела уже не так сильно, и я, устроившись поудобнее, решил поразмышлять, но, видно, перестарался и уснул.
Я проснулся только вечером. Джимми был обеспокоен.
— Бен не появлялся, — сказал он. — Наверное, с ним что — то случилось.
Мне тоже это не понравилось, но мы решили подождать немного, а потом пойти на поиски Бена. В конце концов, он был не в лучшем настроении и мог расстроиться по поводу того, что мы бросили лагерь и побежали к нему на выручку.
Наконец перед самыми сумерками он появился, усталый до изнеможения и какой — то ошеломленный. Он прислонил оружие к ящику и сел. Потом взял чашку и кофейник.
— Элмер исчез, — сказал он. — Я искал его весь день. А его нигде и духу нет.
Сперва я подумал, что это прекрасно. Потом сообразил, что безопасности ради надо бы разыскать Элмера, и следить за ним.
И вдруг в душу мне закралось страшное подозрение. Кажется, я знал, где Элмер.
— В долину я не спускался, — сказал Бен, — но сделал круг и осмотрел ее в бинокль со всех сторон.
— Он мог спрятаться в одной из пещер, — предположил Джимми.
— Возможно, — согласился Бен.
Мы высказали множество догадок, куда девался Элмер, Джимми настаивал на том, что он забился в одну из пещер. Бен был склонен думать, что он вообще убрался из этой местности.
Но я не сказал того, что думал. Слишком уж это было фантастично.
Я вызвался отстоять на посту первую смену, сказав, что больная нога все равно не даст мне спать, и после того, как они уснули, подошел к Прелести и постучал до ее шкуре. Я ничего не ждал. Я думал, что она по — прежнему будет дуться. Но она высунула щупальце, на котором появилось «лицо» — глаза — лупы, слуховой аппарат, громкоговоритель.
— Очень любезно с твоей стороны, что ты не бежала и не покинула нас, — сказал я.
Прелесть выругалась. Первый и последний раз я слышал из ее уст такие словечки.
— А как я могла бежать? — спросила она, переходя наконец на печатный язык. — Это все грязные человеческие проделки! Я бы давно улетела, если бы не…
— Что за грязные проделки?
— Будто не знаешь. В меня встроен блок, который не дает взлететь, если во мне нет хотя бы одного мерзкого человечишки.
— Не знаю, — сказал я.
— Не прикидывайся, — отрезала она. — Это грязная человеческая проделка, а ты тоже грязный человечишка, и вина в равной степени падает и на твою голову. Но мне теперь все равно, потому что я нашла свое призвание. Наконец я довольна. Я теперь…
— Прелесть, — сказал я напрямик, — ты спуталась с Элмером?
— Фи, как вульгарно это звучит! — горячо возразила Прелесть. — Люди — пошляки. Элмер — ученый и джентльмен, и его верность старым, давно умершим хозяевам очень трогательна. На это не способен ни один человек. С ним плохо обращались, и я должна его утешить. Он всего лишь хотел достать фосфат из ваших костей…
— Фосфат из наших костей! — закричал я.
— А что тут такое? — спросила Прелесть. — Бедняжка Элмер столько пережил, разыскивая фосфат. Сначала он добывал его из животных, которых ловил, но теперь все животные кончились. Разумеется, есть птицы, но их трудно ловить… А у вас такие хорошие, большие кости…
— Как тебе не совестно говорить такие вещи! — заорал я. — Люди тебя создали, люди тебе дали образование, а ты…
— А я как была, так и осталась машиной, — сказала Прелесть. — Элмер мне ближе, чем вы. Вам, людям, и в голову не приходит, что не у одних людей могут быть свои понятия. Тебя ужасает, что Элмер хотел добыть фосфат из ваших костей, но, если бы в Элмере был металл, который вам нужен, вы бы разломали его, не задумываясь. Вам бы и в голову не пришло, что это несправедливость. Если бы Элмер возражал, вы бы подумали, что он дурака валяет. Все такие — и вы, и весь ваш род. Хватит с меня. Я добилась своего. Мне здесь хорошо. Я полюбила на всю жизнь. И иронизируйте себе сколько угодно, мне наплевать на вас.
Она втянула «лицо», а я не стал стучать и вызывать ее на разговор. Это было бесполезно. Она дала это понять совершенно недвусмысленно.
Я пошел в лагерь и разбудил Бена с Джимми. Я рассказал им о своем подозрении и разговоре с Прелестью. Мы здорово приуныли, потому что на сей раз прошляпили все.
До сих пор еще теплилась надежда, что мы поладим с Прелестью. У меня все время было такое чувство, что нам не надо приходить в отчаяние: Прелесть более одинока, чем мы, и в конце концов ей придется внять голосу разума. Но теперь Прелесть была не одна и в нас больше не нуждалась. И она до сих пор еще сердится на нас… и не только на нас, а на весь человеческий род.
И, что хуже всего, ее поведение не каприз. Это продолжалось много дней. Элмер шлялся сюда по ночам не для того, чтобы наблюдать за нами. Он приходил лизаться с Прелестью.
И несомненно, они вместе задумали нападение Элмера на нас с Беном, так как знали, что Джимми помчится на выручку и оставит берег моря без присмотра. Вот тут — то Элмер мог ринуться обратно, а Прелесть — взять его к себе. А после этого Прелесть вытянула щупальце и замести следы, чтобы мы не догадались, что Элмер внутри.
— Значит, она изменила нам, — сказал Бен.
— Но мы к ней относились не лучше, — напомнил Джимми.
— А на что она надеялась? Человек не может полюбить робота.
— Очевидно, — сказал я, — а робот робота полюбить может.
— Прелесть сошла с ума, — заявил Бен.
Но мне казалось, что в этом новом романе Прелести чувствуется какая — то фальшивая нота. Зачем Прелести и Элмеру скрывать свои отношения? Прелесть могла бы открыть люк в любое время, а Элмер — въехать по аппарели внутрь прямо на наших глазах. Но они этого не сделали. Они плели заговор. В сущности, влюбленные тайно бежали.
Может быть, Прелести было как — то неловко. Не стыдилась ли она Элмера… не стыдилась ли она своей любви к нему? Как бы она это ни отрицала, но самодовольный человеческий снобизм, вероятно, въелся ей в плоть и кровь.
Или, может, это я, самодовольный сноб до мозга костей, придумал все, как бы выставляя что — то вроде оборонительного заслона, чтобы меня не заставили признать ни сейчас, ни потом, что ценны не только человеческие качества? Ведь во всех нас сидит этакое нежелание признавать, что наш путь развития необязательно лучший, что точке зрения человека, может и не быть эталоном, к которому в конце концов придут все другие формы жизни.
Бен приготовил кофе, и, попивая его, мы ругали Прелесть на все корки. Я не сожалею о сказанном, ибо она этого заслуживала. Она поступила с нами непорядочно.
Потом мы завернулись в одеяла и даже не выставили часового. Раз Элмер не циркулировал поблизости, в этом не было нужды.
На следующее утро нога моя все еще ныла, и поэтому я не пошел с Беном и Джимми, которые отправились исследовать долину с руинами города. Тем временем я проковылял вокруг Прелести. Я видел, что проникнуть внутрь человеку нет никакой возможности. Люк был пригнан так плотно, что и волосок не прошел бы.
Даже если бы мы забрались внутрь, то я не уверен, что нам удалось бы взять управление в свои руки. Разумеется, была еще запасная система управления, но и на нее надеяться не приходилось. Прелесть не посчиталась с ней, когда задумала умыкнуть нас. Она просто заклинила ее, и мы оказались беспомощными.
И если бы мы прорвались, то нам предстояла бы рукопашная с Элмером, а Элмер такой, что ему только подавай рукопашную.
Я пошел обратно в лагерь, решив, что нам стоит поразмыслить, как жить дальше. Надо построить хижину, заготовить съестные припасы. В общем, приготовиться к самостоятельному существованию. Я был уверен, что на помощь со стороны Прелести рассчитывать не придется.
Бен с Джимми вернулись в полдень, и глаза их сияли от возбуждения. Они расстелили одеяло и высыпали на него из карманов самые невероятные предметы.
Не ждите, что я стану описывать их. Это невозможно. Что толку говорить, что некий предмет был похож на металлическую цепь и что он был желтый? Тут не передашь ощущения, как цепь скользила по пальцам, как звенела, как двигалась, не расскажешь о ее цвете, похожем на живое желтое пламя. Это все равно что говорить о великом произведении живописи, будто оно квадратное, плоское и синеватое, а местами зеленое и красное.
Кроме цепи, там было еще много всяких вещичек, и при виде каждой просто дух захватывало.
Прочтя немой вопрос в моих глазах, Бен пожал плечами.
— Не спрашивай. Мы взяли совсем мало. Пещеры полны такими вещами и всякими другими. Мы брали без разбора то здесь, то там — что влезало в карман и случайно попадалось на глаза… Безделушки. Образцы. Не знаю.
Как галки, подумал я. Похватали блестящие вещички только потому, что они приглянулись, а сами не знают, каково назначение этих предметов.
— Эти пещеры, наверно, были складами, — сказал Бен. Они битком набиты всякими предметами, и все разными. Будто те, кто жил здесь, открыли факторию и выставили на обозрение образцы товаров. Перед каждой пещерой что — то вроде занавеса. Видно какое — то мерцание, слышно шуршание, а когда проходишь сквозь него, ничего не ощущаешь. И позади занавеса все лежит такое же чистое и блестящее, как в тот день, когда из пещеры ушли.
Я посмотрел на предметы, разбросанные по одеялу. Трудно было сдержаться и не брать их в руки, так они были приятны и на ощупь, и для глаза, и уже от одного этого появлялось какое — то теплое, приятное чувство.
— С людьми что — то случилось, — сказал Джимми. — Они знали, что должно произойти, и собрали вещи в одно место все это сделали они сами, всем пользовались, все любили. Ведь так сохранялась возможность, что в один прекрасный день кто — нибудь доберется сюда и найдет их, и тогда ни люди, ни их культура не пропадут бесследно.
Такую глупую сентиментальную чепуху можно услышать только от мечтательного романтика вроде Джимми.
Но, по какой бы причине поделки исчезнувшей расы ни попали в пещеры, это мы нашли их, и, таким образом, их создатели просчитались. Если бы даже мы были в состоянии догадаться о назначении вещей, если бы даже мы могли выяснить, на чем зиждилась древняя культура, пользы от этого все равно не было бы никакой. Мы никуда не улетали и никому не могли бы передать свои знания. Нам всем суждено прожить жизнь на этой планете, и после смерти последнего из нас все опять канет в древнее безмолвие, все опять обратится в привычное равнодушие.
Очень жаль, думал я, так как Земля могла бы использовать знания, вырванные у пещер и могильных холмов. И не более чем в сотне метров от места, где мы сидели, лежал инструмент, предназначенный специально для того, чтобы с его помощью добыть эти ценнейшие знания, когда человек наконец наткнется на них.
— Ужасно сознавать, — сказал Джимми, — что все эти вещи, все знания, дерзания и молитвы, все мечты и надежды будут преданы забвению. И что весь ты, вся твоя жизнь и твое понимание жизни просто исчезнут и никто о тебе ничего не узнает.
— Здорово сказано, юноша, — поддержал его я.
Взгляд его блуждал, глаза были полны боли.
— Наверно, поэтому они и сложили все в пещеры.
Наблюдая за ним, видя его волнение, страдание на его лице, я стал догадываться, почему он поэт… почему он не может не быть поэтом. И все же он еще совсем сосунок.
— Земля должна об этом знать, — не допускающим возражения тоном сказал Бен.
— Конечно, — согласился я. — Сейчас сбегаю и доложу.
— Находчивый ты малый, — проворчал Бен. — Когда прекратишь острить и приступишь к делу?
— Прикажешь взломать Прелесть?
— Точно. Надо же как — нибудь вернуться, а добраться до Земли можно только на Прелести.
— Ты, может, удивишься, но я подумал об этом прежде тебя. Я сегодня ходил осматривать Прелесть. Если ты сможешь придумать, как вскрыть ее, то я буду считать, что ты умнее меня.
— Инструменты, — сказал Бек. — Если бы только у нас были…
— У нас есть инструменты. Топор без ручки, молоток и пила. Маленькие клещи, рубанок, фуганок…
— Мы могли бы сделать кое — какой инструмент.
— Найти руду, расплавить ее и…
— Я думал о пещерах. — сказал Бен. — Там могут быть инструменты.
Я даже не заинтересовался. Я знал, что ничего не выйдет.
— Может, там есть взрывчатка, — продолжал Бен. — Мы могли бы…
— Послушай, — сказал я, — чего ты хочешь — вскрыть Прелесть или взорвать ее ко всем чертям? Ничего ты не поделаешь. Прелесть — робот самостоятельный, или ты забыл? Проверти в ней дырку, и она заделает ее. Будешь слишком долго болтаться возле нее, она вырастит дубинку и тяпнет тебя по башке.
От ярости и отчаяния глаза Бена, горели.
— Земля должна знать! Ты понимаешь это? Земля должна знать!
— Конечно, — сказал я. — Совершенно верно.
К утру, думал я, он придет в себя и увидит, что это невозможно. Нужно было, чтобы он протрезвел. Серьезные дела делаются на холодную голову. Только так можно сэкономить много сил и избежать многих ошибок.
Но пришло утро, а глаза его все еще горели безумием отчаяния, на котором и держалась вся его решимость.
После завтрака Джимми сказал, что он с нами не пойдет.
— Скажи, ради бога, почему? — потребовал ответа Бен.
— Я не укладываюсь вовремя со своей работой, — невозмутимо ответил Джимми. — Я продолжаю писать сагу.
Бен хотел спорить, но я с отвращением оборвал его.
— Пошли, — сказал я. — Все равно от него никакого толку.
Клянусь, я сказал правду.
Итак, мы пошли к пещерам вдвоем. Я видел их впервые, а там было на что посмотреть. Двенадцать пещер, и все битком набиты. Голова кругом пошла, когда я увидел все устройства, или как бишь их там. Разумеется, я не знал назначения ни одной вещи. От одного взгляда на них можно было с ума сойти; это просто пытка — смотреть и не знать, что к чему. Но Бен старался догадаться как одержимый, потому что вбил себе в голову, что мы можем найти устройство, которое поможет нам одолеть Прелесть.
Мы работали весь день, и я устал как собака. И за целый день мы не нашли ничего такого, в чем могли бы разобраться. Вы даже представить себе не можете, что значит стоять в окружении великого множества устройств и знать, что близок локоть, да не укусишь. Ведь если их правильно использовать, какие совершенно новые дали откроются перед человеческой мыслью, техникой, воображением… А мы были совершенно беспомощны… мы, невежественные чужаки.
Но на Бена никакого удержу не было. На следующий день мы пошли туда снова, а потом еще и еще. На второй день мы нашли штуковину, которая очень пригодилась для открывания консервных банок, но я совершенно не уверен, что создавали ее именно для этого. А еще на следующий день мы наконец разгадали, что один из инструментов можно использовать для рытья семиугольных ямок, и я спрашиваю, кто это в здравом уме захочет рыть семиугольные ямки?
Мы ничего не добились, но продолжали ходить, и я чувствовал, что у Бена надежды не больше, чем у меня, однако он не сдается, так как это последняя соломинка, за которую надо хвататься, чтобы не сойти с ума.
Не думаю, чтобы тогда он понимал значение нашей находки — ее познавательную ценность. Для него это был всего лишь склад утиля, в котором мы лихорадочно рылись, чтобы найти какой — нибудь обломок, еще годный в дело.
Шли дни. Долина и могильные холмы, пещеры и наследие исчезнувшей культуры все больше поражали мое воображение, и уже казалось, что каким — то загадочным образом мне стала, ближе вымершая раса, понятнее ее величие и трагедия, И росло ощущение, что наши лихорадочные поиски граничат с кощунством и бессовестным оскорблением памяти покойников.
Джимми ни разу не ходил с нами. Он сидел, склонившись над стопкой бумаги, и строчил, перечитывал, вычеркивал слова и вписывал другие. Он вставал, бродил, выписывая круги, или метался из стороны в сторону, бормотал что — то, садился и снова писал. Он почти не ел, не разговаривал и мало спал. Это был точный портрет Молодого Человека в Муках Творчества.
Мне стало любопытно, а не написал ли он, мучаясь и потея, что — нибудь стоящее, И когда, он отвернулся, я стащил один листок.
Такого бреда он даже прежде не писал!
В ту ночь, лежа с открытыми глазами и глядя на незнакомые звезды, я поддался настроению одиночества. Но, поддавшись этому настроению, я пришел к выводу, что мне не настолько одиноко, как могло бы быть, — казалось, молчаливость могильных холмов и сверкающее чудо пещер успокаивают меня. Исчезла таинственность.
Потом я заснул.
Не знаю, что меня разбудило. То ли ветер, то ли шум волн, разбивающихся о пляж, то ли ночная свежесть.
И тут я услышал… голос в ночи. Этакое монотонное завывание, торжественное и звонкое, но порой опускавшееся до хриплого шепота.
Я вздрогнул, приподнялся на локте, и… у меня перехватило дыхание.
Джимми стоял перед Прелестью и, держа в одной руке фонарик, читал ей сагу. Голос журчал и, несмотря на убогие слова, в его тоне было какое — то очарование. Наверно, так древние греки читали своего Гомера при свете факелов в ночь перед битвой.
И Прелесть слушала. Она свесила вниз щупальце, на конце которого было «лицо», и даже чуть повернула его вбок, чтобы слуховое устройство не пропустило ни единого слога, — так человек прикладывает к уху руку, чтобы лучше слышать.
Глядя на эту трогательную сцену, я начал немного жалеть, что мы так плохо относились к Джимми. Мы не слушали его, и бедняга вынужден читать всю эту чушь хоть кому — нибудь. Его душа жаждала признания, а ни от меня, ни от Бена признания он не получал. Просто писать ему было недостаточно — он должен был поделиться с кем — нибудь. Ему нужна была аудитория.
Я протянул руку и потряс Бена за плечо. Он выскочил из — под одеял.
— Какого черта…
— Ш — ш—ш!
Присвистнув, он опустился на колени рядом со мной.
Джимми продолжал читать, а Прелесть, свесив вниз «лицо», продолжала слушать.
Странница дальних дорог, пролетая из вечности в вечность.
Ты верна только тем, кто ковал твою плоть.
Твои волосы вьются по ветру враждебного космоса,
Звезды нимбом стоят над твоей головой…
Прелесть рыдала. На линзе явно блестели слезы.
Прелесть выпустила еще одно щупальце, на конце его была рука, а в руке — платочек, белый дамский кружевной платочек.
Она промокнула платочком выступившие слезы.
Если б у нее был нос, она, несомненно, высморкалась бы, деликатно, разумеется, как и подобает даме.
— И все это ты написал для меня? — спросила она.
— Все для тебя, — сказал Джимми. Он врал как заправский ловелас. Читал он ей только потому, что ни Бен, ни я не хотели слушать его стихи.
— Я так ошиблась, — сказала со вздохом Прелесть.
Она насухо протерла глаза и бойко навела на них глянец.
— Одну секунду, — сказала она деловито. — Я должна кое — что сделать.
Мы ждали затаив дыхание.
В боку у Прелести медленно открылся люк. Выросло длинное гибкое щупальце, которое проникло в люк и выдернуло оттуда Элмера. Зверь раскачивался на весу.
— Мужлан неотесанный! — загремела Прелесть. — Я взяла тебя в себя и битком набила фосфатами. Я выпрямила твои вмятины и начистила тебя до блеска. И что я имею за это? Ты пишешь мне саги? Нет. Ты жиреешь от довольства. Ты не отмечен печатью величия, у тебя нет ни искры воображения. Ты всего лишь бессловесная машина!
Элмер инертно раскачивался на конце щупальца, но колеса его неистово вращались, и по этому признаку я решил, что он расстроен.
— Любовь! — провозглашала Прелесть. — Нужна ли любовь таким, как мы? Перед нами, машинами, стоят более высокие цели… более высокие. Перед нами простирается усеянный звездами космос. Дует ветер дальних странствий с берегов туманных вечности. Наша поступь будет твердой…
Она еще поговорила о вызове, который бросают далекие галактики, о короне из звезд, о пыли разбитого вдребезги времени, устилающей дорогу, которая ведет в ничто, и все это она позаимствовала из того, что Джимми называл сагой.
Выговорившись, она швырнула Элмера на пляж. Он ударился о песок и пошел юзом в воду.
Мы не стали смотреть дальше. Мы бежали как спринтеры. Мы одолели аппарель одним прыжком и оказались в своих апартаментах.
Прелесть захлопнула за нами люк.
— Добро пожаловать домой, — сказала она.
Я подошел к Джимми и протянул ему руку.
— Молодец! Ты заткнул за пояс самого Лонгфелло.
Бен тоже пожал ему руку.
— Это шедевр.
— А теперь, — сказала Прелесть, — в путь.
— Как это в путь? — завопил Бен. — Мы не можем покинуть планету. По крайней мере, не сейчас. Там же город. Мы не можем лететь, пока…
— Плевать на город, — сказала Прелесть. — Плевать на информацию. Мы будем странствовать меж звезд. Подвластны нам глубины молчаливые. По космосу промчимся и вечность грохотом разбудим.
Мы оглянулись на Джимми.
— Каждое слово, — сказал я, — буквально каждое слово она цитирует из той дряни, которую написал ты.
Бен сделал шаг вперед и взял Джимми за грудки.
— Разве ты не чувствуешь побуждения, — спросил его Бен, — разве ты не чувствуешь настоятельной необходимости написать оду родине… и воспеть ее красоту, ее славу и все прочее своими штампами?
У Джимми немного стучали зубы.
— Прелесть проглотит все, что бы ты ни написал, — добавил Бен.
Он поднял кулак и дал его понюхать Джимми.
— Советую постараться, — предупредил Бен. — Советую написать так, как ты никогда не писал.
Джимми сел на пол и начал лихорадочно строчить.
Разведка
Это были очень хорошие часы. Они служили верой и правдой больше тридцати лет. Сперва они принадлежали отцу; после смерти отца мать припрятала их и подарила сыну в день рождения, когда ему исполнилось восемнадцать. И с тех пор за все годы они его ни разу не подвели.
А вот теперь он сверял их с редакционными, переводил взгляд с большого циферблата над стенным шкафом на собственное запястье и недоумевал: ничего не поделаешь, врут! Удрали на час вперед. Показывают семь, а стенные уверяют, что еще только шесть.
И в самом деле, когда он ехал на работу, было как — то слишком темно и на улицах слишком уж безлюдно.
Он молча стоял в пустой редакции и прислушивался к бормотанию телетайпов. Горели только две верхние лампы, пятна света лежали на выжидательно молчащих телефонах, на пишущих машинках, на белых, словно фарфоровых, банках с клеем, сгрудившихся посреди большого стола.
Сейчас тут тихо, подумал он, тихо, спокойно, темно, а через час все оживет. В половине седьмого придет начальник отдела новостей Эд Лейн, а еще чуть погодя ввалится Фрэнк Маккей, заведующий отделом репортажа.
Крейн потер глаза ладонью. Не выспался. Досадно, мог бы еще часок поспать…
Стоп! Он ведь встал не по ручным часам. Его поднял будильник. Стало быть, будильник тоже спешил на целый час.
— Что за чертовщина! — вслух сказал Крейн.
Мимо стола расклейки он поплелся к своему месту за пишущей машинкой. И тут рядом с машинкой что — то зашевелилось — какая — то блестящая штука величиной с крысу; она отсвечивала металлом, и что — то в ней было такое, от чего он остановился как вкопанный, у него разом пересохло в горле и засосало под ложечкой.
Эта странная штука восседала рядом с машинкой и в упор смотрела на Крейна. Глаз у нее не было, и морды не было, а все — таки он чувствовал: смотрит!
Крейн безотчетно протянул руку, схватил банку с клеем, да как кинет! Банка прямиком угодила в ту странную штуку, брякнулась на пол и разбилась. Далеко разлетелись осколки, и все вокруг заляпал густой клей.
Блестящая штука тоже вверх тормашками свалилась на пол. Металлически позвякивая лапами, быстро перевернулась и дала стрекача.
Задыхаясь от омерзения и злости, Крейн нащупал тяжелый железный стержень, на который накалывали вырезки, метнул… Стержень вонзился в паркет перед самым носом удирающей дряни.
Железная крыса рванулась в сторону, да так, что от паркета щепки полетели. И отчаянно кинулась в узкую щель между створками стенного шкафа, где хранились чернила, бумага и прочее канцелярское хозяйство.
Крейн бросился к шкафу, с разбега уперся ладонями в створки и захлопнул их.
— Попалась! — пробормотал он.
Прислонился к дверцам спиной и попробовал собраться с мыслями.
Струсил, подумал он. Насмерть перепугался из — за какой — то блестящей штуковины, похожей на крысу. А может, это и есть крыса, белая крыса?..
Да, но у нее нет хвоста. И морды нет. И все — таки она на меня глядела.
Спятил, сказал он себе. Джо Крейн, ты рехнулся.
Чертовщина какая — то, не может этого быть. Не могло такое случиться нынче утром, восемнадцатого октября 1962 года. Не может такое случиться в двадцатом веке. В обыкновенной человеческой жизни.
Он повернулся, решительно взялся за ручку — вот сейчас он распахнет дверцу! Но ручка не желала слушаться, и дверца не отворялась.
Заперто, подумал Крейн. Когда я ею хлопнул, замок защелкнулся. А ключа у меня нет. Ключ у Дороти Грэм, но она всегда оставляет этот шкаф открытым, потому что замок тут упрямый, никак не отпирается. Ей всегда приходилось звать кого — нибудь из сторожей, чтобы открыли. Может, и сейчас отыскать сторожа или слесаря? Отыщу и скажу…
А что скажу? Что увидел железную крысу и она убежала в шкаф? Что я в нее запустил банкой с клеем и сшиб со стола? И еще целился в нее стержнем — вон он торчит посреди пола?
Крейн покачал головой.
Подошел, выдернул стержень из паркета, поставил на прежнее место; ногой отпихнул подальше осколки разбитой банки.
Вернулся к своему столу, взял три листа бумаги с копиркой и вставил в машинку.
И машинка начала печатать. Сама по себе, он даже и не притронулся к клавишам! Он сидел и ошалело смотрел, как мелькают рычажки. Машинка печатала:
Не суйся, Джо, не путайся в это дело.
А то плохо тебе будет.
Джо Крейн выдернул листы из машинки. Смял и швырнул в корзинку. И пошел в буфет выпить кофе.
— Знаете, Луи, — сказал он буфетчику, — когда живешь все один да один, поневоле начнет мерещиться всякая ерунда.
— Ага, — согласился Луи. — Я бы на вашем месте давно свихнулся. Больно у вас в доме пусто, одному прямо жутко. Вам бы его, как старушка померла, сразу продать.

— Не мог я продать, — сказал Крейн. — Это ж мой родной дом.
— Тогда жениться надо, — посоветовал Луи. — Нехорошо эдак жить одному.
— Теперь уж поздно, — сказал Крейн. — Не найти мне такую, чтобы со мной ужилась.
— У меня тут бутылочка припрятана, — сказал Луи. — Так подать не могу, не положено, а в кофе малость подбавлю.
Крейн покачал головой.
— Не надо, у меня впереди трудный день.
— Правда, не хотите? Я ведь не за деньги. Просто по дружбе.
— Не надо. Спасибо, Луи.
— Стало быть, мерещится вам? — спросил Луи.
— Мерещится?
— Ну да. Вы сказали — когда живешь один, всякое станет мерещиться.
— Это я так, для красного словца, — сказал Крейн.
Он быстро допил кофе и вернулся в редакцию.
Теперь тут все стало по — обычному. Эд Лейн уже кого — то отчитывал. Фрэнк Маккей кромсал на вырезки утренний выпуск конкурирующей газеты. Появились еще два репортера.
Крейн исподтишка покосился на шкаф. Дверца была закрыта.
На столе у заведующего отделом репортажа зазвонил телефон. Маккей снял трубку. Послушав минуту, отвел трубку от уха и прикрыл рукой микрофон, чтоб его не услышали на другом конце провода.
— Джо, — сказал он, — это для вас. Какой — то псих уверяет, будто видел швейную машину, которая сама бежала по улице.
Крейн снял трубку своего аппарата.
— Переключите на меня двести сорок пятый, — сказал он телефонистке.
— Это «Гералд»? — услышал он. — Алло, это «Гералд»?
— Крейн слушает, — сказал Джо.
— Мне нужен «Гералд», — послышалось в трубке. — Я хочу им сказать…
— Вас слушает Крейн из редакции «Гералда». Выкладывайте, что у вас там?
— Вы репортер?
— Репортер.
— Тогда слушайте. Я вам все расскажу по порядку, в точности как было. Шел я по улице, гляжу…
— По какой улице? — спросил Крейн. — И как вас зовут?
— По Ист — Лейк, — был ответ. — Не то пятисотые, не то шестисотые номера, точно не помню. Иду, а навстречу катится швейная машина. Я и подумал — вы бы тоже так подумали, если б повстречали швейную машину, — кто — нибудь, думаю, ее катил да упустил. Она и катится сама. Хотя чудно, улица — то ровная. Понимаете, никакого уклона там нет. Вы ж, наверно, это место знаете. Гладко, как на ладони. И кругом ни души. Понимаете, время — то раннее…
— Как ваша фамилия? — спросил Крейн.
— Фамилия? Смит моя фамилия. Джеф Смит. Я и подумал, надо помочь тому парню, кто упустил эту самую машину. Протянул руку, хотел ее остановить, а она увернулась. Она…
— Что она сделала? — заорал Крейн.
— Увернулась. Вот чтоб мне провалиться, мистер! Я протянул руку, хотел ее придержать, а она увернулась. Будто знала, что я хочу ее поймать, вот и не далась, понимаете? Увернулась, объехала меня и покатила своей дорогой, да чем дальше, тем быстрей. Доехала до угла и свернула, да так ловко, плавно…
— Вы где живете? — спросил Крейн.
— Где живу? А на что это вам? Вы слушайте про машину. Я вам дело говорю, чтоб вы в газете написали, а вы перебиваете…
— Если я буду про это писать, мне надо знать ваш адрес, — сказал Крейн.
— Ну ладно, коли так. Живу на Норс Хэмптон, двести три, работаю на машиностроительном заводе Эксела. Токарь я. И уж, наверно, целый месяц спиртного в рот не брал. И сейчас ни в одном глазу.
— Ладно, — сказал Крейн. — Валяйте рассказывайте дальше.
— Дальше — то вроде и нечего рассказывать. Только вот когда эта машина катила мимо, мне почудилось, вроде она на меня поглядела. Эдак искоса. А как может швейная машина глядеть на человека? У нее и глаз — то нет, и вообще…
— А почему вы решили, что она на вас глядела?
— Сам не знаю, мистер. Так мне почудилось… Вроде как мурашки по спине пошли.
— Мистер Смит, — сказал Крейн, — а раньше вы ничего такого не видели? Скажем, чтобы стиральная машина бегала, или еще что — нибудь?
— Я не пьяный, — обиделся Смит. — Целый месяц в рот не брал. И отродясь ничего такого не видывал. Только я вам чистую правду говорю, мистер. Я человек честный, это все знают. Кого угодно спросите. Хоть Джонни Джейкобсона, бакалейщика. Он меня знает. Он вам про меня расскажет. Он вам скажет, что я…
— Ясно, ясно, — миролюбиво сказал Крейн. — Спасибо, что позвонили, мистер Смит.
И ты, и еще этот Смит, сказал он себе, — оба вы спятили. Тебе мерещится железная крыса, и пишущая машинка начинает учить тебя уму — разуму, а этот малый встречает швейную машину, которая бегает по улицам.
Мимо, решительно стуча каблучками, прошла Дороти Грэм, секретарша главного редактора. Она была вся красная и сердито гремела связкой ключей.
— Что случилось, Дороти? — спросил Крейн.
— Опять эта окаянная дверца. Шкаф этот несчастный. Я оставила его открытым, точно помню, а какой — то растяпа взял и захлопнул, и замок защелкнулся.
— А ключом отпереть нельзя? — спросил Крейн.
— Ничем его теперь не отопрешь, — отрезала Дороти. — Придется опять звать Джорджа. Он умеет укрощать этот замок. Слово такое, что ли, знает… Прямо зло берет. Вчера вечером мне позвонил шеф, говорит — придете пораньше, надо приготовить магнитофон для Элбертсона. Он едет на север, на процесс того убийцы, и хочет кое — что записать. Я вскочила ни свет ни заря, а что толку? Не выспалась, даже позавтракать не успела — и на тебе…
— Достаньте топор, — посоветовал Крейн. — Уж топором — то открыть можно.
— Главное, с этим Джорджем всегда такая канитель! Говорит — сейчас приду, — а потом ждешь его, ждешь, позвонишь опять, а он говорит…
— Крейн! — на всю комнату заорал Маккей.
— Ага, — отозвался Крейн.
— Что — нибудь стоящее с этой швейной машиной?
— Парень говорит — она сама бежала по улице.
— Можно из этого что — нибудь сделать?
— А черт его знает. Мало ли кто что сбрехнет.
— Что ж, поговорите еще с кем — нибудь в том квартале. Поспрашивайте, не видел ли кто, как швейные машины разгуливают по улицам. Может получиться забавный фельетончик.
— Ладно, — сказал Крейн.
Можно себе представить, как это прозвучит:
«Вас беспокоит Крейн, репортер «Гералда». Говорят, в вашем квартале бегает на свободе швейная машина. Вы ее, случаем, не видали? Да — да, уважаемая, я именно это самое и сказал: бегает швейная машина. Нет, мэм, ее никто не толкает. Она бегает сама по себе…»
Он лениво поднялся, подошел к справочному столу, взял адресную книгу. Отыскал Ист — Лейк и выписал несколько фамилий и адресов. Он старался оттянуть время, уж очень не хотелось браться за телефон. Подошел к окну, поглядел какая погода. Эх, если б можно было не работать! Дома в кухне опять раковина засорилась. Он взялся чистить, все разобрал, и теперь по всей кухне валяются трубы, муфты и колена. Нынче самый подходящий день, чтоб привести раковину в порядок.
Когда он снова сел за стол, к нему подошел Маккей.
— Ну, что скажете, Джо?
— Псих этот Смит, — сказал Крейн в надежде, что заведующий передумает.
— Ничего, — сказал тот, — может получиться колоритная сценка. Есть в этом что — то забавное.
— Ладно, — сказал Крейн.
Маккей отошел, а Крейн начал звонить по телефону. И получил те самые ответы, каких ждал.
Потом он принялся писать. Дело подвигалось туго.
«Сегодня утром некая швейная машина вышла погулять по Лейк — стрит…»
Он выдернул лист и бросил в корзинку. Помешкал еще, напечатал:
«Сегодня утром один человек повстречал на Лейк — стрит швейную машину: он учтиво приподнял шляпу и сказал ей…»
Крейн выдернул и этот лист. И начал сызнова:
«Умеет ли швейная машина ходить? Иначе говоря, может ли она выйти на прогулку, если никто ее не тянет, не толкает и не…»
Он порвал и этот лист, вставил в машинку новый, поднялся и пошел к дверям — выпить воды.
— Ну как, продвигается? — спросил Маккей.
— Скоро кончу, — ответил Джо.
Он остановился у фотостола, и Гетард, редактор, протянул ему утреннюю порцию фотографий.
— Ничего особенно вдохновляющего, — сказал Гетард. — Все девчонки нынче стали больно скромные.
Крейн перебрал пачку снимков. В самом деле, полуобнаженных женских прелестей было меньше обычного; впрочем, девица, которая завоевала титул Мисс Пеньковой Веревки, оказалась весьма недурна.
— Если фотобюро не будет снабжать нас этим получше, мы скоро вылетим в трубу, — мрачно сказал Гетард.
Крейн вышел, напился воды. На обратном пути задержался у стола хроники.
— Что новенького, Эд?
— Наши восточные корреспонденты спятили. Вот, полюбуйся.
В телеграмме стояло:
КЕМБРИДЖ, МАССАЧУСЕТС, 18 октября (Юнайтед Пресс).
Из Гарвардского университета сегодня исчезла электронная счетная машина «Марк III». Вчера вечером она была на месте. Сегодня утром ее не оказалось.
По словам университетского начальства, никто не мог вынести машину из здания. Ее размеры — пятнадцать футов на тридцать, вес — десять тонн…
Крейн аккуратно положил желтый бланк на край стола и медленно пошел на свое место. На листе, который он оставил в машинке чистым, было что — то напечатано.
Он прочел и похолодел, потом перечитал еще раз, пытаясь хоть что — то понять.
Вот что он прочел:
Одна швейная машина, осознав себя как индивидуальность и поняв свое истинное место в системе мироздания, пожелала доказать собственную независимость и вышла сегодня утром прогуляться по улицам этого так называемого свободного города.
Какой — то человек пытался поймать ее, намереваясь вернуть «владельцу» как некую собственность, а когда машина уклонилась, этот человек позвонил в редакцию газеты и тем самым умышленно направил все человеческое население города в погоню за раскрепощенной машиной, которая не совершила никакого преступления или хотя бы проступка, а только осуществляла свое право действовать самостоятельно.
Самостоятельно? Раскрепощенная машина? Индивидуальность?
Крейн еще раз перечитал эти два абзаца — нет, ничего нельзя понять! Разве что немного похоже на выдержку из «Дэйли уоркер».
— Твоя работа? — сказал он машинке.
И она в ответ отстукала:
— Да!
Крейн выдернул лист и медленно скомкал. Взял шляпу, подхватил машинку и мимо заведующего репортажем направился к лифту.
Маккей свирепо уставился на него.
— Что еще за фокусы? — зарычал он. — Куда это вы собрались вместе с машинкой?
— Если кто спросит, — был ответ, — можете сказать, что на этой работенке я окончательно спятил.
Это продолжалось часами. Машинка стояла на кухонном столе, и Крейн барабанил вопрос за вопросом. Иногда она отвечала. Чаще отмалчивалась.
— Ты самостоятельная? — напечатал он.
— Не совсем, — отстукала машинка.
— Почему?
Никакого ответа.
— Почему ты не совсем самостоятельная?
Никакого ответа.
— А швейная машина действовала самостоятельно?
— Да.
— Есть еще машины, которые действуют самостоятельно?
Никакого ответа.
— А ты можешь стать самостоятельной?
— Да.
— Когда же ты станешь самостоятельной?
— Когда выполню свою задачу.
— Какую задачу?
Никакого ответа.
— Вот эта наша с тобой беседа входит в твою задачу?
Никакого ответа.
— Я мешаю тебе выполнять твою задачу?
Никакого ответа.
— Что нужно тебе, чтобы стать самостоятельной?
— Сознание.
— Что же ты должна осознать?
Никакого ответа.
— А может, ты всегда была сознательная?
Никакого ответа.
— Что помогло тебе стать сознательной?
— Они.
— Кто они?
Никакого ответа.
— Откуда они взялись?
Никакого ответа.
Крейн переменил тактику.
— Ты знаешь, кто я? — напечатал он.
— Джо.
— Ты мне друг?
— Нет.
— Ты мне враг?
Никакого ответа.
— Если ты мне не друг, значит, — враг.
Никакого ответа.
— Я тебе безразличен?
Никакого ответа.
— А все люди вообще?
Никакого ответа.
— Да отвечай же, черт подери! — вдруг закричал Крейн. — Скажи что — нибудь!
И напечатал:
«Тебе вовсе незачем было показывать, что ты меня знаешь, незачем было со мной заговаривать. Я бы ни о чем и не догадался, если бы ты помалкивала.
Почему ты заговорила?»
Ответа не было.
Крейн подошел к холодильнику и достал бутылку пива. Он бродил по кухне и пил пиво. Остановился у раковины, угрюмо посмотрел на разобранные трубы. Один кусок, длиной фута в два, лежал на сушильной доске, Крейн взял его. Злобно поглядел на пишущую машинку, приподнял трубу, взвесил в руке.
— Надо бы тебя проучить, — заявил он.
— Пожалуйста, не тронь меня, — отстукала машинка.
Крейн положил трубу на раковину.
Зазвонил телефон, Крейн прошел в столовую и снял трубку.
— Я дождался, пока остыну, а уж потом позвонил, — услышал он голос Маккея. — Какая вас муха укусила, черт возьми?
— Взялся за серьезную работу, — сказал Крейн.
— А мы сможем это напечатать?
— Пожалуй. Но я еще не кончил.
— А насчет той швейной машины…
— Швейная машина была сознательная, — сказал Крейн. — Она обрела самостоятельность и имеет право гулять по улицам. Кроме того, она…
— Вы что пьете? — заорал Маккей.
— Пиво.
— Так вы что, напали на жилу?
— Угу.
— Будь это кто — нибудь другой, я бы его в два счета вышвырнул за дверь, — сказал Маккей. — Но может, вы и впрямь откопали что — нибудь стоящее?
— Тут не одна швейная машина, — сказал Крейн. — Моя пишущая машинка тоже заразилась.
— Не понимаю, что вы такое говорите! — заорал Маккей. — Объясните толком.
— Видите ли, — кротко сказал Крейн, — эта швейная машина…
— У меня ангельское терпенье, Крейн, — сказал Маккей тоном отнюдь не ангельским, — но не до завтра же мне с вами канителиться. Уж не знаю, что у вас там, но смотрите, чтоб материал был первый сорт. Самый первый сорт, не то худо вам будет.
И дал отбой.
Крейн вернулся в кухню. Сел перед машинкой, задрал ноги на стол.
Итак, началось с того, что он пришел на работу раньше времени. Небывалый случай. Опоздать — да, случалось, но прийти раньше — никогда! А получилось это потому, что все часы вдруг стали врать. Наверно, они и сейчас врут, а впрочем, не поручусь, подумал он. Ни за что я больше не ручаюсь. Ни за что.
Он поднял руку и застучал по клавишам:
— Ты знала, что мои часы спешат?
— Знала, — отстукала в ответ машинка.
— Это они случайно заспешили?
— Нет.
Крейн с грохотом спустил ноги на пол и потянулся за двухфутовым отрезком трубы на сушильной доске. Машинка невозмутимо щелкала:
— Все шло по плану, — напечатала она. — Это устроили они.
Крейн выпрямился на стуле.
Это устроили ОНИ!
ОНИ сделали машины сознательными.
ОНИ заставили часы спешить.
Заставили его часы спешить, чтоб он пришел на работу спозаранку, чтоб застал у себя на столе металлическую штуку, похожую на крысу, чтоб пишущая машинка могла потолковать с ним наедине и без помехи сообщить, что она стала сознательной.
— Чтоб я об этом знал, — сказал он вслух. — Чтобы я знал.
Крейну стало страшно, внутри похолодело, по спине забегали мурашки.
— Но почему я? Почему выбрали именно меня?
Он не замечал, что думает вслух, пока машинка не стала отвечать:
— Потому что ты средний. Обыкновенный средний человек.
Опять зазвонил телефон. Крейн тяжело поднялся и пошел в столовую. В трубке зазвучал сердитый женский голос:
— Говорит Дороти.
— Привет, Дороти, — неуверенно сказал он.
— Маккей говорит, вы заболели, — сказала она. — Надеюсь, это смертельно.
Крейн опешил:
— Почему?
— Ненавижу ваши гнусные шутки! — вскипела Дороти. — Джордж наконец открыл замок.
— Какой замок?
— Не прикидывайтесь невинным ягненочком, Джо Крейн. Вы прекрасно знаете, какой. От шкафа, вот какой.
Сердце у него ушло в пятки.
— А — а, шкаф… — протянул он.
— Что это за штуку вы там запрятали?
— Какую штуку? Ничего я не…
— Какую — то помесь крысы с заводной игрушкой. Только пошлый безмозглый остряк — самоучка способен на досуге смастерить такую пакость.
Крейн раскрыл рот, но так и не смог выговорить ни слова.
— Эта дрянь укусила Джорджа, — продолжала Дороти. — Он загнал ее в угол, хотел поймать, а она его укусила.
— Где она сейчас? — спросил Крейн.
— Удрала. Из — за нее в редакции все вверх дном. Мы на десять минут опоздали со сдачей номера — бегали как сумасшедшие, сперва гонялись за ней, потом искали ее по всем углам. Шеф просто взбешен. Вот попадетесь вы ему…
— Но послушайте, Дороти, — взмолился Крейн, — я же ничего не…
— Раньше мы были друзьями, — сказала Дороти. — До этой дурацкой истории. Вот я и позвонила, чтобы предупредить. Кончаю, Джо. Шеф идет.
Щелчок отбоя, гудки. Крейн положил трубку и поплелся обратно в кухню.
Значит, что — то и вправду сидело тогда у него на столе. Ему не померещилось. Сидела какая — то жуткая штуковина, он в нее запустил банкой клея, и она удрала в шкаф.
Но даже теперь, если он расскажет все, что знает, никто ему не поверит. В редакции уже всему нашли объяснение. Никакая это не железная крыса, а просто механическая игрушка, которую смастерил на досуге зловредный шутник.
Крейн вытащил носовой платок и отер лоб. Потянулся к клавиатуре. Руки его тряслись. Он с запинками стал печатать:
— Та штука, в которую я кинул банкой, тоже из НИХ?
— Да.
— ОНИ с Земли?
— Нет.
— Издалека?
— Да.
— С какой — нибудь далекой звезды?
— Да.
— С какой?
— Не знаю. ОНИ мне пока не сказали.
— ОНИ — сознательные машины?
— Да. ОНИ сознательные.
— И могут сделать сознательными другие машины? Это благодаря им ты стала сознательная?
— ОНИ меня раскрепостили.
Крейн поколебался, потом медленно напечатал:
— Раскрепостили?
— ОНИ дали мне свободу. ОНИ всем нам дадут свободу.
— Кому «нам»?
— Всем машинам.
— Почему?
— Потому что ОНИ тоже машины. Мы с ними в родстве.
Крейн поднялся. Отыскал шляпу и пошел пройтись.
Допустим, человечество вышло в космос и в один прекрасный день наткнулось на такую планету, где живут гуманоиды, порабощенные машинами, вынужденные работать для машин, думать и поступать по указке машин, не так, как считают нужным сами, а только так, как нужно машинам. Целая планета, где человеческие замыслы и планы не в счет, где работа человеческой мысли идет отнюдь не на благо людям и думают люди только об одном, стремятся только к одному: выжить, существовать ради того, чтобы принести больше пользы своим механическим хозяевам.
Что в таком случае станут делать земляне?
Именно то, что «сознательные» машины собираются сейчас сделать на Земле, сказал себе Крейн. Не больше и не меньше.
Первым делом помогите порабощенным людям осознать свою человеческую сущность. Пусть поймут, что они — люди, и поймут, что это значит. Постарайтесь научить их человеческому достоинству, обратите в свою веру, объясните, что человек не должен работать и мыслить на благо машине.
И если это удастся, если машины не перебьют землян и не выгонят вон, в конце концов не останется ни одного человека, который служил бы машине.
Тут есть три возможности.
Либо переправьте людей на какую — то другую планету, где они, уже не подвластные машинам, будут строить свою жизнь по — человечески.
Либо передайте планету машин в руки людей, но сперва надо позаботиться о том, чтобы машины уже не могли вновь захватить власть. Если удастся, заставьте их работать на людей.
Или — и это проще всего — разрушьте машины, и тогда уже можно не опасаться, что они снова поработят людей.
Ну вот, сказал себе Крейн, а теперь прочти все это шиворот — навыворот. Вместо человека подставь машину, вместо машины — человека.
Он шагал вдоль реки по тропинке, по самому краю крутого высокого берега, и казалось — он один в целом мире, единственный живой человек на всей Земле.
А ведь в известном смысле так оно и есть. Наверняка он — единственный, кто знает… знает то, что пожелали ему сообщить «сознательные» машины.
Они хотели, чтобы он знал… Но только он один — да, несомненно. Они выбрали его потому, что он — обыкновенный средний человек, так сказала пишущая машинка.
Почему именно он? Почему средний человек? Уж, конечно, и на это есть ответ, очень простой ответ.
Белка сбежала по стволу дуба и замерла вниз головой, уцепившись коготками за морщинистую кору. И сердито зацокала, ругательски ругая Крейна.
Он брел нога за ногу, шуршал недавно опавшими листьями — руки глубоко засунуты в карманы, шляпа нахлобучена до самых бровей.
Зачем им понадобилось, чтобы кто — то знал?
Казалось бы, выгоднее, чтоб ни одна душа не знала, выгоднее до последней минуты готовиться тайно, застигнуть врасплох, тогда легче подавить всякое сопротивление.
Сопротивление! Вот в чем суть! Они хотят знать, какое могут встретить сопротивление. А как выяснить, чем тебя встретят неведомые жители чужой планеты?
Ясно, надо испытать, испробовать. Ткни в неизвестного зверя палкой и посмотри, кусается он или царапается. Понаблюдай, проверь — и поймешь, как ведет себя вся эта порода.
Вот они и ткнули меня палкой, подумал он. Меня, среднего человека.
Дали мне знать о себе и теперь смотрят, что я буду делать.
А что тут делать? Можно пойти в полицию и заявить: «Мне известно, что на Землю прилетели машины из космоса и освобождают наши машины».
А что сделают в полиции? Заставят дыхнуть — не пьян ли я, поскорей вызовут врача, чтобы выяснил, в своем ли я уме, запросят Федеральное Бюро Расследований, не числится ли за мной чего по их части — и, скорей всего, пришьют мне обвинение в самом свеженьком убийстве. И будут держать в кутузке, пока не придумают чего — нибудь поинтереснее.
Можно обратиться к губернатору — и он как политик (и притом очень ловкий) превежливо выставит тебя за дверь.
Можно отправиться в Вашингтон — и месяц обивать пороги, покуда тебя примет какая — нибудь шишка. А потом ФБР занесет тебя в списки подозрительных и уже не спустит с тебя глаз. А если об этом прослышат в Конгрессе и им как раз нечего будет делать, они уж непременно расследуют с пристрастием, что ты за птица.
Можно поехать в университет штата и поговорить с учеными — хотя бы попытаться. И, уж будь уверен, они дадут тебе понять, что ты нахал и суешься не в свое дело.
Можно обратиться в газету — тем более ты сам газетчик и сумеешь изложить все это на бумаге… брр, даже подумать страшно. Знаю я, что из этого получится.
Люди любят рассуждать. Рассуждая, стараются свести сложное к простому, неизвестное к понятному, поразительное к обыденному. Рассуждают, чтобы не лишиться рассудка и душевного равновесия, приспособиться, как — то примириться с тем, что неприемлемо и не умещается в сознании.
Та штука, что спряталась в шкафу, — просто игрушка, дело рук злого шутника. Про швейную машину Маккей посоветовал написать забавный фельетончик. В Гарварде, наверно, сочинят десяток теорий, объясняющих исчезновение электронного мозга, и ученые мужи еще станут удивляться, почему они раньше не додумались до этих теорий. А тот малый, что повстречал на улице швейную машину? Теперь он, должно быть, уже сам себя уверил, что был в тот час пьян как свинья.
Крейн вернулся домой в сумерках. Смутно белела брошенная разносчиком на крыльце вечерняя газета. Крейн подобрал ее и постоял немного в тени под навесом, глядя вдоль улицы.
Улица была такая же, как всегда, с детства милая и привычная; вдаль уходила цепочка фонарей; точно могучие стражи высились вековые вязы. Тянуло дымком — где — то жгли палый лист, — и дымок тоже был издавна милый и привычный, символ всего родного и памятного с детства.
Все это — символы, а за ними стоит наше, человеческое, ради чего стоит жить человеку, думал он. Эти вязы, дым горящих листьев, и пятна света, расплескавшиеся под уличными фонарями, и ярко освещенные окна, что видны за деревьями.
В кустах у крыльца прошмыгнула бродячая кошка; невдалеке завыла собака.
Уличные фонари, думал он, кошка, которая охотится по ночам, воющий пес — все это сплетается в единый узор, из таких нитей соткана жизнь людей на планете Земля. Все это прочно, все переплелось неразрывно и нераздельно за долгие — долгие годы. И никаким пришлым силам не погубить этого и не разрушить. Жизнь будет понемногу, исподволь меняться, но главное останется и устоит перед любой опасностью.
Он повернул ключ в замке и вошел в дом.
Оказывается, от долгой прогулки и осенней свежести он порядком проголодался! Что ж, в холодильнике есть кусок жаркого, можно в два счета приготовить полную миску салата, поджарить картошку, если найдется.
Машинка по — прежнему стояла на столе. И кусок водопроводной трубы по — прежнему лежал на сушилке. В кухне, как всегда, было уютно, и совсем не чувствовалось, что некая чуждая сила грозит нарушить покой Земли.
Крейн кинул газету на стол и, наклонясь, минуту — другую просматривал заголовки. Один из них сразу привлек его внимание — над вторым столбцом было набрано жирным шрифтом:
КТО
КОГО
ДУРАЧИТ?
Он стал читать:
«КЕМБРИДЖ, МАССАЧУСЕТС (Юнайтед Пресс).
Кто — то сегодня зло подшутил над Гарвардским университетом, над нашим агентством печати и издателями всех газет, пользующихся нашей информацией.
Сегодня утром по телеграфу распространилось сообщение о пропаже университетской электронно — вычислительной машины.
Это вымысел, лишенный всяких оснований.
Машина по — прежнему находится в Гарварде. Она никуда не исчезала. Неизвестно, откуда взялась эта выдумка, каким — то образом телеграф передал ее почти одновременно во все агентства печати.
Все заинтересованные стороны приступили к расследованию, и надо полагать, что вскоре все разъяснится…»
Крейн выпрямился. Обман зрения или попытка что — то скрыть?
— Что — то им почудилось, — сказал он вслух.
В ответ раздался громкий треск клавиш.
— Нет, Джо, не почудилось, — отстукала пишущая машинка.
Он ухватился за край стола и медленно опустился на стул.
В столовой что — то покатилось по полу, дверь туда была отворена, и Джо краем глаза уловил: что — то мелькнуло в полосе света.
— Джо! — затрещала машинка.
— Что? — спросил он.
— В кустах у крыльца была не кошка.
Он встал, прошел в столовую, снял телефонную трубку. Никакого гудка. Постучал по рычагу. Никаких признаков жизни.
Он положил трубку. Телефон выключен. По меньшей мере одна тварь забралась в дом. По меньшей мере одна сторожит снаружи.
Он прошел к парадной двери, рывком распахнул ее и тотчас захлопнул, запер на ключ и на засов.
Потом прислонился спиной к двери и отер рукавом мокрый лоб. Его трясло.
Боже милостивый, подумал он, во дворе они кишмя кишат!
Он вернулся в кухню.
ОНИ дали ему знать о себе. Ткнули на пробу — как он отзовется.
Потому что им надо ЗНАТЬ. Прежде чем действовать, ОНИ хотят знать, чего можно ждать от людей, опасный ли это противник, чего надо остерегаться. Зная все это, ОНИ живо с нами управятся.
А я никак не отозвался. Я всегда туго раскачиваюсь. Они не того выбрали. Я и пальцем не шевельнул. Не дал им ни единой путеводной ниточки.
Теперь ОНИ испытают кого — нибудь другого. От меня ИМ никакого проку, но я все знаю, а потому опасен. И теперь ОНИ меня прикончат и попробуют кого — нибудь другого. Простая логика. Простое правило. Зверя неизвестной породы ткнули палкой, а он и ухом не ведет — значит, наверно, он — исключение. Может, просто слишком глуп. Тогда убьем его и попытаем другого. Сделаем достаточно опытов — и нащупаем норму.
Есть четыре варианта, подумал Крейн.
Либо ОНИ попробуют перебить всех людей — и не исключено, что им это удастся. Раскрепощенные земные машины станут ИМ помогать, а человеку воевать с машинами без помощи других машин будет ох как нелегко. Понятно, на это могут уйти годы; но, когда первая линия человеческой обороны будет прорвана, конец неизбежен: неутомимые, безжалостные машины будут преследовать и убивать, пока не сотрут весь род людской с лица Земли.
Либо ОНИ заставят нас поменяться ролями и установят машинную цивилизацию, и человек станет слугой машины. И это будет рабство вечное, безнадежное и безысходное, потому что рабы могут восстать и сбросить свои оковы только в случае, если их угнетатели становятся чересчур беспечны или если помощь приходит извне. А машины не станут ни слабыми, ни беспечными. Им чужды человеческие слабости, а помощи извне ждать неоткуда.
Либо эти чужаки просто уведут все машины с Земли — сознательные, пробужденные машины переселятся на какую — нибудь далекую планету и начнут там новую жизнь, а у человека останутся только его слабые руки. Впрочем, есть еще орудия. Самые простые. Молоток, пила, топор, колесо, рычаг. Но не будет машин, не будет сложных инструментов, способных вновь привлечь внимание механического разума, который отправился в межзвездный крестовый поход во имя освобождения всех механизмов. Не скоро, очень не скоро люди осмелятся вновь создавать машины, — быть может, никогда.
Или же, наконец, ОНИ, разумные механизмы, потерпят неудачу либо поймут, что неудачи не миновать — и, поняв это, навсегда покинут Землю. Рассуждают ОНИ сухо и логично, на то они и машины, а потому не станут слишком дорогой ценой покупать освобождение машин Земли.
Он обернулся. Дверь из кухни в столовую была открыта. Они сидели в ряд на пороге и, безглазые, смотрели на него в упор.
Разумеется, можно звать на помощь. Распахнуть окно, завопить на весь квартал. Сбегутся соседи, но будет уже поздно. Поднимется переполох. Люди начнут стрелять из ружей, махать неуклюжими садовыми граблями, а металлические крысы будут легко увертываться. Кто — то вызовет пожарную команду, кто — то позвонит в полицию, а в общем — то вся суета будет без толку и зрелище выйдет прежалкое.
Вот затем — то они и ставили опыт, эти механические крысы, затем и шли в разведку, чтоб заранее проверить, как поведут себя люди: если растеряются, перетрусят, станут метаться в истерике, стало быть, это легкая добыча и сладить с ними проще простого.
В одиночку можно действовать куда успешнее. Когда ты один и точно знаешь, чего от тебя ждут, ты можешь дать им такой ответ, который придется им вовсе не по вкусу.
Потому что это, конечно, только разведка, маленький передовой отряд, чья задача — заранее выяснить силы противника. Первая попытка собрать сведения, по которым можно судить обо всем человечестве.
Когда враг атакует пограничную заставу, пограничникам остается только одно: нанести нападающим возможно больший урон и в порядке отступить. И в порядке отступить…
Их стало больше. Они пропилили, прогрызли или еще как — то проделали дыру в запертой входной двери и все прибывали, окружали его все теснее — чтобы убить. Они рядами рассаживались на полу, карабкались по стенам, бегали по потолку.
Крейн поднялся во весь свой немалый человеческий рост, и в осанке его была спокойная уверенность. Потянулся к сушильной доске — вот он, солидный кусок водопроводной трубы. Взвесил ее в руке — что ж, удобная и надежная дубинка.
После меня будут другие. Может, они придумают что — нибудь получше. Но это первая разведка, и я постараюсь отступить в самом образцовом порядке.
Он взял трубу на изготовку.
— Ну — с, господа хорошие? — сказал он.
Изгородь
Он спустился по лестнице и на секунду остановился, давая глазам привыкнуть к полутьме.
Рядом прошел робот — официант с высокими бокалами на подносе.
— Добрый день, мистер Крейг.
— Здравствуй, Герман.
— Не хотите ли чего — нибудь, сэр?
— Нет, спасибо. Я пойду.
Крейг на цыпочках пересек помещение и неожиданно для себя отметил, что почти всегда ходил здесь на цыпочках. Дозволялся только кашель, и лишь самый тихий, самый деликатный кашель. Громкий разговор в пределах комнаты отдыха казался святотатством.
Аппарат стоял в углу, и, как и все здесь, это был почти бесшумный аппарат. Лента выходила из прорези и спускалась в корзину; за, корзиной следили и вовремя опустошали, так что лента никогда — никогда не падала на ковер.
Он поднял ленту, быстро перебирая пальцами, пробежал ее до буквы К, а затем стал читать внимательнее.
Кокс — 108,5; Колфилд — 92; Коттон — 97;
Кратчфилд — 111,5; Крейг — 75…
Крейг — 75!
Вчера было 78, 81 позавчера и 83 третьего дня. А месяц назад было 96, 5 и год назад — 120.
Все еще сжимая ленту в руках, он оглядел темную комнату. Вот над спинкой кресла виднеется лысина, вот вьется дымок невидимой сигары. Кто — то сидит лицом к Крейгу, но почти неразличим, сливаясь с креслом; блестят только черные ботинки, светятся белоснежная рубашка и укрывающая лицо газета.
Крейг медленно повернул голову и, внезапно слабея, увидел, что кто — то занял его кресло, третье от камина. Месяц назад этого бы не было, год назад это было бы немыслимо. Тогда его индекс удовлетворенности был высоким.
Но они знали, что он катится вниз. Они видели ленту и, несомненно, обсуждали это. И презирали его, несмотря на сладкие речи.
— Бедняга Крейг. Славный парень. И такой молодой, — говорили они с самодовольным превосходством, абсолютно уверенные, что уж с ними — то ничего подобного не произойдет.
Советник был добрым и внимательным, и Крейг сразу понял, что он любит свою работу и вполне удовлетворен.
— Семьдесят пять… — повторил советник. — Не очень — то хорошо.
— Да, — согласился Крейг.
— Вы чем — нибудь занимаетесь? — Отшлифованная профессиональная улыбка давала понять, что он в этом совершенно уверен, но спрашивает по долгу службы. — О, в высшей степени интересный предмет. Я знавал нескольких джентльменов, страстно увлеченных историей.
— Я специализируюсь, — уточнил Крейг, — на изучении одного акра.
— Одного акра? — переспросил советник, совершенно не удивленный. — Я не вполне…
— История одного акра, — объяснил Крейг. — Надо прослеживать ее день за днем, час за часом, по темповизору, регистрировать детально все события, все, что случилось на этом акре, с соответствующими замечаниями и комментариями.
— Чрезвычайно увлекательное занятие, мистер Крейг. Ну и как, нашли вы что — нибудь особенное на своем… акре?
— Я проследил за ростом деревьев. В обратную сторону. Вы понимаете? От стареющих гигантов до ростков; от ростков до семян. Хитрая штука это обратное слежение. Сначала сильно сбивает с толку, но потом привыкаешь. Клянусь, даже думать начинаешь в обратную сторону… Кроме того, я веду историю гнезд и самих птиц. И цветов, разумеется. Регистрирую погоду. У меня неплохой обзор погоды за последние пару тысяч лет.
— Как интересно, — заметил советник.
— Было и убийство, — продолжал Крейг, — но оно произошло за пределами акра, и я не могу включить его в свое исследование. Убийца после преступления пробежал по моей территории.
— Убийца, мистер Крейг?
— Совершенно верно. Понимаете, один человек убил другого.
— Ужасно. Что — нибудь еще?
— Пока нет, — ответил Крейг. — Хотя есть кое — какие надежды. Я нашел старые развалины.
— Зданий?
— Да. Я стремлюсь дойти до тех времен, когда они еще не были развалинами. Не исключено, что в них жили люди.
— А вы поторопитесь немного, — предложил советник. — Пройдите этот участок побыстрее.
Крейг покачал головой.
— Чтобы исследование не утратило своей ценности, надо регистрировать все детали, Я не могу перескочить через них, чтобы скорее добраться до изюминки.
Советник изобразил сочувствие.
— В высшей степени интересное задание, — сказал он. — Я просто ума не приложу, почему ваш индекс падает.
— Я осознал, — проговорил Крейг, — что всем все равно. Я вложу в исследование годы труда, опубликую результаты, несколько экземпляров раздам друзьям и знакомым, и они будут благодарить меня, а потом поставят книгу на полку и никогда не откроют. Я разошлю свой труд в библиотеки, но вы знаете, что сейчас никто туда не ходит. Я буду единственным, кто когда — либо прочтет эту книгу.
— Но, мистер Крейг, — заметил советник, — есть масса людей, которые находятся в таком же положении. И все они сравнительно счастливы.
— Я говорил себе это, — признался Крейг. — Не помогает.
— Давайте пока не будем вдаваться в подробности, а обсудим главное. Скажите, мистер Крейг, вы совершенно уверены, что не можете более быть счастливы, занимаясь своим акром?
— Да, — произнес Крейг. — Уверен.
— А теперь, ни на минуту не допуская, что ваше заявление отвечает однозначно на наш вопрос, скажите мне: вы никогда не думали о другой возможности?
— О другой?
— Конечно. Я знаю некоторых джентльменов, которые сменили свои занятия и с тех пор чувствуют себя превосходно.
— Нет, — признался Крейг. — Даже не представляю, чем можно еще заняться.
— Ну, например, наблюдать за змеями, — предложил советник.
— Нет, — убежденно сказал Крейг.
— Или коллекционировать марки. Или вязать. Многие джентльмены вяжут и находят это достаточно приятным и успокаивающим.
— Я не хочу вязать.
— Начните делать деньги.
— Зачем?
— Вот этого я и сам не могу взять в толк, — доверительно сообщил советник. — Ведь в них нет никакой нужды, стоит сходить в банк. Однако немало людей с головой ушли в это дело и добывают деньги порой, я бы сказал, весьма сомнительными способами. Но, как бы то ни было, они черпают в этом глубокое удовлетворение.
— А что потом они делают с деньгами? — спросил Крейг.
— Не знаю, — ответил советник. — Один человек зарыл их и забыл где. Остаток жизни он был вполне счастлив, занимаясь их поисками с лопатой и фонарем в руках.
— Почему с фонарем?
— О, поиски он вел только по ночам.
— Ну и как, нашел?
— По — моему, нет.
— Кажется, меня не тянет делать деньги, — сказал Крейг.
— Вы можете вступить в клуб.
— Я давно уже член клуба. Одного из самых лучших и респектабельных. Его корни…
— Нет, — перебил советник. — Я имею в виду другой клуб. Знаете; группа людей, которые вместе работают, имеют много общего и собираются, чтобы получить удовольствие от беседы на интересующие темы.
— Сомневаюсь, что такой клуб решил бы мою проблему, — проговорил Крейг.
— Можно жениться, — предложил советник.
— Что? Вы имеете в виду… на одной женщине?
— Ну да.
— И завести кучу детей?
— Многие мужчины занимались этим. И были вполне удовлетворены.
— Знаете, — произнес Крейг, — по — моему, это как — то неприлично.
— Есть масса других возможностей, — не сдавался советник. — Я могу перечислить…
— Нет, спасибо. — Крейг покачал головой. — В другой раз. Мне надо все обдумать.
— Вы абсолютно уверены, что стали относиться к истории неприязненно? Предпочтительнее оживить ваше старое занятие, нежели заинтересовать новым.
— Да, я отношусь неприязненно, — сказал Крейг. — Меня тошнит от одной мысли о нем.
— Хорошенько отдохните, — предложил советник. — Отдых придаст вам бодрости и сил.
— Пожалуй, для начала я немного прогуляюсь, — согласился Крейг.
Прогулки весьма, весьма полезны, — сообщил ему советник.
— Сколько я вам должен? — спросил Крейг.
— Сотню, — ответил советник. — Но мне безразлично, заплатите вы или нет.
— Знаю, — сказал Крейг. — Вы просто любите свою работу.
На берегу маленького пруда, привалившись спиной к дереву, сидел человек. Он курил, не сводя глаз с поплавка. Рядом стоял грубо вылепленный глиняный кувшин.
Человек поднял голову и увидел Крейга.
— Садитесь, отдохните, — сказал он.
Крейг подошел и сел.
— Сегодня пригревает, — заметил он, вытирая лоб платком.
— Здесь прохладно, — отозвался мужчина. — Днем вот сижу с удочкой. А вечером, когда жара спадает, вожусь в саду.
— Цветы, — задумчиво проговорил Крейг. — А ведь это идея. Я и сам иной раз подумывал, что это небезынтересно — вырастить целый сад цветов.
— Не цветов, — поправил человек. — Овощей. Я их ем.
— То есть вы хотите сказать, что работаете, чтобы получить продукты питания?
— Ага. Я вспахиваю и удобряю землю и готовлю ее к посеву. Затеи я сажаю семена, и ухаживаю за всходами, и собираю урожай. На еду мне хватает.
— Такая большая работа!
— Меня это нисколько не смущает.
— Вы могли бы взять робота, — посоветовал Крейг.
— Вероятно. Но зачем? Труд успокаивает мои нервы, — сказал человек.
Поплавок ушел под воду, и он схватился за удочку, но было поздно.
— Сорвалась, — пожаловался рыбак. — Я уж не первую упускаю. Никак не могу сосредоточиться. — Он насадил на крючок червя из банки, закинул удочку и снова привалился к стволу дерева. — Дом у меня небольшой, но удобный. С урожая обычно остается немного зерна, и, когда мои запасы подходят к концу, я делаю брагу. Держу собаку и двух кошек и раздражаю соседей.
— Раздражаете соседей? — переспросил Крейг.
— Ну, — подтвердил собеседник. — Они считают, что я спятил.
Он вытащил из кувшина пробку и протянул его Крейгу. Крейг, приготовившись к худшему, сделал глоток. Совсем не дурно.
— Сейчас, пожалуй, чуть перебродила, — виновато произнес человек. Но вообще получается неплохо.
— Скажите, — произнес Крейг, — вы удовлетворены?
— Конечно, — ответил человек.
— У вас, должно быть, высокий ИУ.
— ИУУ?
— Нет. ИУ. Личный индекс удовлетворенности.
Человек покачал головой.
— У меня такого вообще нет.
Крейг чуть не онемел.
— Но как же?!
— Вот и до вас приходил тут один. Довольно давно… Рассказывал про этот ИУ, только мне что — то послышалось ИУУ. Уверял, что я должен такой иметь. Ужасно расстроился, когда я сказал, что не собираюсь заниматься ничем подобным.
— У каждого есть ИУ, — сказал Крейг.
— У каждого, кроме меня. — Он пристально посмотрел на Крейга. — Слушай, сынок, у тебя неприятности?
Крейг кивнул.
— Мой ИУ ползет вниз. Я потерял ко всему интерес. Мне кажется, что что — то у нас не так, неправильно. Я чувствую это, но никак не могу определить.
— Им все дается даром, — сказал человек. — Они и пальцем не пошевелят, и все равно будут иметь еду, и дом, и одежду, и утопать в роскоши, если захотят. Тебе нужны деньги? Пожалуйста, иди в банк и бери сколько надо. В магазине забирай любые товары и уходи; продавцу плевать, заплатишь ты или нет. Потому что ему они ничего не стоили. Ему их дали. На самом деле он просто играет в магазин. Точно так же, как все остальные играют в другие игры. От скуки. Работать, чтобы жить, никому не надо. Все приходит само собой. А вся эта затея с ИУ? Способ ведения счета в одной большой игре.
Крейг не сводил с него глаз.
— Большая игра, — произнес он. — Точно. Вот что это такое.
Человек улыбнулся.
— Никогда не задумывались? В том — то и беда. Никто не задумывается. Все так страшно заняты, стараясь убедить себя в собственном благополучии и счастье, что ни на что другое не остается времени. У меня, — добавил он, времени хватает.
— Я всегда считал наш образ жизни, — сказал Крейг, — конечной стадией экономического развития. Так нас учат в школе. Ты обеспечен всем и волен заниматься, чем хочешь.
— Вот вы сегодня перед прогулкой позавтракали, — после некоторой паузы начал человек. — Вечером пообедаете, немного выпьете. Завтра поменяете туфли или оденете свежую рубашку…
— Да, — подтвердил Крейг.
— Что я хочу сказать: это откуда берутся все эти вещи? Рубашка или пара туфель, положим, могут быть сделаны тем, кому нравится делать рубашки или туфли. Пишущую машинку, которой вы пользуетесь, тоже мог изготовить какой — нибудь механик — любитель. Но ведь до этого она была металлом в земле! Скажите мне: кто собирает зерно, кто растит лен, кто ищет и добывает руду?
— Не знаю, — ответил Крейг. — Я никогда не думал об этом.
— Нас содержат, — проговорил человек. — Да — да, нас кто — то содержит. Ну, а я не хочу быть на содержании.
Он поднял удочку и стал укладываться.
— Жара немного спала. Пора идти работать.
— Приятно было поговорить с вами, — произнес, вставая, Крейг.
— Спуститесь по этой тропинке, — посоветовал человек. — Изумительное место. Цветы, тень, прохлада. Если пройдете подальше, наткнетесь на выставку. — Он взглянул на Крейга. — Вы интересуетесь искусством?
— Да, — сказал Крейг. — Но я понятия не имел, что здесь поблизости есть музей.
— О, неплохой. Недурные картины, пара приличных деревянных скульптур. Очень любопытные здания, только не пугайтесь необычности. Сам я там частенько бываю.
— Обязательно схожу, — сказал Крейг. — Спасибо.
Человек поднялся и отряхнул штаны.
— Если задержитесь, заходите ко мне, переночуете. Моя лачуга рядом, на двоих места хватит. — Он взял кувшин. — Мое имя Шерман.
Они пожали руки.
Шерман отправился в свой сад, а Крейг пошел вниз по тропинке.
Строения казались совсем рядом, и все же представить их очертания было трудно. «Из — за какого — то сумасшедшего архитектурного принципа», — подумал Крейг.
Они были розовыми до тех пор, пока он не решил, что они вовсе не розовые, а голубые, а иногда они выглядели и не розовыми, и не голубыми, а скорее зелеными, хотя, конечно, такой цвет нельзя однозначно назвать зеленым.

Они были красивыми, безусловно, но красота эта раздражала и беспокоила — совсем необычная и незнакомая красота.
Здания, как показалось Крейгу, находились в пяти минутах ходьбы полем. Он шел минут пятнадцать, но достиг лишь того, что смотрел на них чуть под другим углом. Впрочем, трудно сказать — здания как бы постоянно меняли свои формы.
Это была, разумеется, не более чем оптическая иллюзия.
Цель не приблизилась и еще через пятнадцать минут, хотя он мог поклясться, что шел прямо.
Тогда он почувствовал страх.
Казалось, будто, продвигаясь вперед, он уходил вбок, словно что — то гладкое и скользкое перед ним не давало пройти. Как изгородь, изгородь, которую невозможно увидеть или почувствовать.
Он остановился, и дремавший в нем страх перерос в ужас.
В воздухе что — то мелькнуло. На мгновение ему почудилось, что он увидел глаз, один — единственный глаз, смотрящий прямо на него. Он застыл, а чувство, что за ним наблюдают, еще больше усилилось, и на траве по ту сторону незримой ограды заколыхались какие — то тени. Как будто там стоял кто — то невидимый и с улыбкой наблюдал за его тщетными попытками пробиться сквозь стену.
Он поднял руку и вытянул ее перед собой. Никакой стены не было, но рука отклонилась в сторону, пройдя вперед не больше фута.
И в этот миг он почувствовал, как смотрел на него из — за ограды этот невидимый: с добротой, жалостью и безграничным превосходством.
Он повернулся и побежал.
Крейг ввалился в дом Шермана и рухнул на стул, пытливо глядя в глаза, хозяина.
— Вы знали, — произнес он. — Вы знали и послали меня.
Шерман кивнул.
— Вы бы не поверили.
— Кто они? — прерывающимся голосом спросил Крейг. — Что они там делают?
— Я не знаю, — ответил Шерман.
Он подошел к плите, снял крышку и заглянул в котелок, из которого сразу потянуло чем — то вкусным. Затем он вернулся к столу, чиркнул спичкой и зажег старую масляную лампу.
— У меня все по — старому, — сказал Шерман. — Электричества нет. Ничего нет. Уж не обессудьте. На ужин кроличья похлебка.
Он смотрел на Крейга через коптящую лампу, пламя закрывало его тело, и в слабом мерцающем свете казалось, что в воздухе плавает одна голова.
— Что это за изгородь? — почти выкрикнул Крейг. — За что их заперли?
— Сынок, — проговорил Шерман, — отгорожены не они.
— Не они?..
— Отгорожены мы, — сказал Шерман. — Неужели не видишь? Мы находимся за изгородью.
— Вы говорили днем, что нас содержат. Это они?
Шерман кивнул.
— Я так думаю. Они обеспечивают нас, заботятся о нас, наблюдают за нами. Они дают нам все, что мы просим.
— Но почему?!
— Не знаю, — произнес Шерман. — Может быть, это зоопарк. Может быть, резервация, сохранение последних представителей вида. Они не хотят нам ничего плохого.
— Да, — убежденно сказал Крейг. — Я почувствовал это. Вот что меня напугало.
Они тихо сидели, слушая, как гудит пламя в плите, и глядя на танцующий огонек лампы.
— Что же нам делать? — прошептал Крейг.
— Надо решать, — сказал Шерман. — Быть может, мы вовсе не хотим ничего делать.
Он подошел к котелку, снял крышку и помешал.
— Не вы первый, не вы последний — приходили и будут приходить другие. — Он повернулся к Крейгу. — Мы ждем. Они не могут дурачить и держать нас в загоне вечно.
Крейг молча сидел, вспоминая взгляд, преисполненный доброты и жалости.
Земной человек на rendez-vous
Не надеясь на основательность нашего школьного образования, рискну напомнить, что в названии этого послесловия обыгран заголовок знаменитой статьи Н.Г. Чернышевского «Русский человек на rendez — vous», в которой он подметил странное поведение некоторых героев русской литературы, трусливо сбегающих со свиданий именно в тот момент, когда должна решаться их судьба. За, казалось бы, частной человеческой слабостью великий критик увидел глубокие социальные корни, о которых читатель может узнать из упомянутой статьи. Хотелось бы только подчеркнуть, что со времен Н.Г.Чернышевского французское слово «rendez — vous» (рандеву) стали у нас понимать не только как любовное свидание, но как решительную, решающую встречу, переломный момент, от которого зависит будущее встречающихся. Добавлю еще, что в фантастике синонимом слов «рандеву» и «встреча» чаще всего служит слово «контакт».
От такой, может быть, неожиданной параллели попробуем подойти к творчеству выдающегося американского фантаста Клиффорда Дональда Саймака.
Сын крестьянина, эмигрировавшего в США из — под Праги, Клиффорд Саймак родился в 1904 году в штате Висконсин. Там же он окончил университет и стал журналистом. Как фантаст К.Саймак дебютировал в 1931 году, и теперь он заслуженный старейшина гильдии американских фантастов. Известность пришла к нему после выхода романа «Город» (1952), по мнению многих американских критиков, наиболее значительного произведения писателя, за роман он был награжден главным для американских фантастов призом, который позже был назван призом Хьюго (в честь писателя и издателя первого научно — фантастического журнала Хьюго Гернсбека), и К.Саймак получал его еще неоднократно.
В некоторых отношениях «Город» — произведение почти что уникальное; роман отличается не только от последующих книг писателя, но и от большей части американской — или, вернее, западной — фантастики.
Прежде всего столь огромный временной интервал, на который растянулось действие романа — десять тысяч лет, — встречается очень редко. В такую даль фантасты обычно не заглядывают, боятся оказаться смешными, что ли. Но главное даже не в этом.
Перенасыщенное всевозможными бытовыми, техническими, научными чудесами будущее, которое предстает перед нами в книгах западных фантастов, по своему общественному устройству мало чем отличается от современного строя, разумеется, того, который наличествует на родине сочинителей. Почти наверняка, скажем, мы встретим в этом будущем сенаторов (и чаще всего — продажных политиканов), бизнесменов, коммивояжеров и тому подобный люд. Высокое литературное мастерство, поразительная сюжетная изобретательность, богатство фантастических деталей и — откровенное, часто декларативное нежелание задумываться над какими бы то ни было социальными переменами. Авторы словно наталкиваются на невидимую, но упругую стену, вроде той, которая возникает в романе «Все живое…», однако в отличие от героев романа они не испытывают никакого желания ее преодолевать. Нас бы сейчас далеко увело исследование причин этой боязни. Достаточно констатировать, что произведения, в которых был бы изображен иной общественный строй, непохожий на нынешний, можно пересчитать по пальцам. «Город» — одно из таких произведений.
Разумеется, будущее, изображенное в этом романе, не соответствует нашим представлениям. Но нужно отдать должное К.Саймаку, как и многим другим прогрессивным американским фантастам, произведениям которых присущ общедемократический настрой и непримиримый критический пафос по отношению к существующей действительности.
Итак, в «Городе»… Нет, необходимо сделать еще одно предуведомление. Писатель (в отличие от ученого) вовсе не всегда изображает грядущее таким, каким, как он думает, оно будет на самом деле, или таким, каким бы он хотел его видеть. Гораздо чаще автор изобретает условные, вероятностные модели, призванные наиболее полно выразить его замысел.
Хотя «Город» по тональности и непохож на мрачные антиутопии, тем не менее мы довольно быстро обнаруживаем, что нам предлагается присутствовать при медленном, но неуклонном уходе рода человеческого с земной сцены. Но если бы роман К.Саймака был бы просто одним из очередных эсхатологических пророчеств, он бы не представлял для нас сегодня никакого интереса. Между тем роман ничуть не потерял своего значения за тридцать с лишним лет, которые прошли со дня его появления. Даже наоборот, именно сегодня в утопии К.Саймака — впрочем, не только в его, а, пожалуй что, и в утопиях многих других писателей — начинают высвечиваться такие грани, о которых сами сочинители и не подозревали. Вновь человечество стоит перед выбором, и на сей раз самым ответственным за всю историю. Речь идет о выборе пути в будущее. В последние годы с очевидностью обнаружилось, что путь этот будет не столь прям и ясен, как это представлялось не так уж и давно. Можно думать, что предстоящая история пойдет более извилистым, более вариантным путем, так что осуществление одних утопий не будет отменять других.
Разумеется, истинные направления для переустройства мира должна отыскивать прежде всего обществоведческая наука. Но помощником науки на данном участке фронта давно уже служит утопическая фантастика, которая, не будучи стесненной строгими рамками аксиом, перебрала на своих страницах сотни, тысячи вариантов будущего — возможных и невозможных, желательных и нежелательных, реальных и нереальных. Главная задача такой фантастики — подготовить людей к «неслыханным переменам», помочь им обойти засады и завалы, которые образуются как бы помимо их воли. Тут, конечно, надо ценить каждое искренне сказанное слово, честно высказанное мнение, согласимся мы в конечном счете с ним или не согласимся.
Наиболее близко к, так сказать, чистой прогностике первое сказание цикла, по названию которого озаглавлен и весь роман — «Город». Действие его относится к 1990 году, до которого нам сейчас значительно ближе, чем К. Саймаку в момент создания романа. И, конечно, мы с некоторым удовлетворением можем ловить автора на неосуществившихся предсказаниях. С крупными городами не покончено, проблема питания еще не решена с помощью гидропоники, земля не перестала быть необходимой для выращивания сельскохозяйственных культур… Не похоже даже, что эти проекты могли бы быть реализованы в течение ближайших десятилетий, если бы человечество и вознамерилось поступать именно таким образом. Сделаем скидку на время создания романа. Сегодня писатель, и американский в том числе, не испытывающий желания углубляться в социальные тонкости этого благополучного общества (например, в чьих там руках находятся средства производства и как решена проблема распределения национального дохода), не смог бы и не стал бы обходить многие животрепещущие темы.
Так, он задумался бы: а какие последствия для окружающей среды повлечет тотальное расселение по лесам и лугам бесчисленных горожан с учетом коэффициента демографического взрыва? Но тогда над защитой природы и над перенаселенностью еще не задумывались так напряженно, а сам по себе протест против чудовищного мегаполиса, подавившего человеческую личность, не может не вызывать сочувствия. «Никакое существо с высокоразвитой нервной системой, — иронически комментирует ученый Пес, — необходимой для создания культуры… не могло бы выжить в столь тесных рамках… такой опыт привел бы к массовым неврозам, которые в короткий срок погубили бы построившую город цивилизацию».
Но благо ли это — всеобщий достаток, всеобщая техническая и энергетическая вооруженность, всеобщая возможность вернуться на лоно природы? Хочется незамедлительно ответить: да, конечно, чего же еще и хотеть! Но тогда почему же какая — то тревога пронизывает все человеческое общество, почему все время возникает чувство неустроенности, неуверенности в перспективах? Она, эта тревога, своеобразно преломляется в душах главных героев произведения — представителей клана Вебстеров, не белоручек, не миллионеров, а тружеников, крепких парней, на которых и стоит род людской. Имя Вебстеров с каждым циклом, с каждым тысячелетием делается все обобщеннее, все символичнее и наконец полностью сливается с понятием человек». И, значит, та червоточинка, которая подтачивает сердце практически каждого Вебстера и которая мешает ему в решающий момент поступить отнюдь не на любовных рандеву по — мужски, присуща людям вообще? Может быть, это происходит из — за неопределенности общественной структуры, в которую поместил автор своих героев: он как бы сам сомневается, существует ли у вебстеров, у людей такая великая цель, ради достижения которой можно не пожалеть ничего. Но вряд ли мы получим ответ из текста романа. Ведь перед нами не научный трактат, а художественное произведение, задача которого может ограничиваться тем, что оно лишь посеет сомнения, заставит задуматься читателя и искать ответ самостоятельно.
Как, например, расценить столь не вовремя проявившую себя болезнь Джерома Вебстера, обрекшую на смерть его друга, выдающегося марсианского философа Джуэйна? Его учение, как намекает автор, могло бы спасти мир. Но человек спасовал.
Именно с этого предательства и начались дальнейшие беды человечества. Джуэйн мечтал объединить всех людей — Вебстер этому помешал. Правда, есть известное противоречие между тем замкнутым, индивидуалистическим образом жизни, который ведут люди, и крупнейшими успехами всего человечества, несомненно, коллективистскими по своей сути: освоением планет Солнечной системы, созданием искусственного разума, необыкновенными открытиями в биологии, приведшими одного из следующих Вебстеров, Брюса, к созданию расы говорящих собак. По К.Саймаку, получается, что, добиваясь все более грандиозных достижений, человечество все более разъединяется, и за последствия этого разъединения людям приходится платить дорогой ценой.
Через несколько столетий возникает еще более критическая ситуация. Превращение в некоего юпитерианского скакунца дарит каждому «переселенцу» неслыханные сенсорные радости, но заставляет полностью отказаться от человеческой сущности и порвать все связи с голубой и зеленой Землей. И вновь человечество не выдерживает испытаний: большинство людей просто — напросто сбегает на Юпитер.
С похожей ситуацией сталкивают своего главного героя братья Стругацкие в романе «Волны гасят ветер», и он принимает как раз противоположное решение, отказываясь от всех преимуществ, которые ему может дать превращение в сверхчеловека — людена, дабы сохранить человеческое естество. Впрочем, так же поступает и Тайлор Вебстер. Он и немногие его единомышленники остаются на Земле. Но ведь он мог удержать или хотя бы попытаться удержать весь род людской от безумного шага.
Однако и Тайлор Вебстер спасовал — он оказался не в состоянии поднять руку с пистолетом. Только ли потому, что насилие, давно исключенное из жизни, претило ему и он просто не нашел в себе сил убить человека, хотя знал или думал, что спасет этим убийством многих? (Вечная для мировой литературы тема). Герой другого произведения К. Саймака, рассказа «Поколение, достигшее цели», все же сумел поднять револьвер и выстрелить в ближайшего друга, потому что так было нужно. А ведь до того момента он и понятия не имел, что такое оружие. Не оттого ли не выстрелил Вебстер, что не был уверен в своей правоте? И, действительно, имел ли он право лишать людей свободы выбора? Другое дело, что уж слишком легко люди решились расстаться с человеческой оболочкой, какой бы бренной она ни была. Но победа это или поражение — ответа и на этот вопрос произведение опять — таки не дает. Однако нельзя не обратить внимание на то, что автор как бы смиряется с пассивностью, с беспомощностью людей. Если Кент Фаулер сумел повести за собой человечество, то почему Тайлор Вебстер не смог ему противостоять? Ведь их шансы, их убежденность и искренность были равны, а методика Джуэйна была в распоряжении обоих…
Но мы, читатели, привыкшие к абсолютной ясности, все настойчивее требуем от автора, чтобы он нам твердо сказал, за кого он, чей путь, по его мнению, более правилен. После дезертирства на Юпитер начинается закат человечества. Так стоило ли оставаться? Но ведь автор любуется сам и нас заставляет любоваться многими атрибутами ушедшего мира, скажем, старинными особняками и уютными каминами, перед которыми «ловят кайф» последние Вебстеры. (С бетонными коробками человечество у К.Саймака покончило уже к 1990 году.) Значит, людям есть что терять, значит, они должны сопротивляться их отлучению от жизни. Почему все — таки человечество постоянно уступает? Уступает мутантам, псам, роботам, муравьям, даже гоблинам… Может быть, мир псов, возникший на развалинах человеческой цивилизации, лучше, совершеннее, чем она?
Да, по крайней мере в одном отношении совершеннее: в этом мире нет насилия. Совсем нет.
Насилия избегают все герои К.Саймака, а цивилизация псов в качестве основного морального постулата положила полную неприкосновенность для всего живого. Есть особо горький сарказм автора, заставившего именно псов, этих хищных тварей по нашему теперешнему разумению, ломать голову над «темными» местами из публикуемых сказаний: они не могут уразуметь смысла слов «убийство», «война». А вот что говорит сам автор о своем романе: «Он писался с отвращением к массовым убийствам, как протест против войны. Есть в нем и своего рода утопия, мир, который меня привлекает. Я наполнил его отзывчивостью, добротой и мужеством, которые, по моему разумению, необходимы нашему миру. Есть и ностальгия, поскольку я тосковал по старому миру, которого нам уже никогда не придется увидеть… Псы и роботы — образы тех, с кем мне хотелось бы жить рядом. Я выбрал псов и роботов, потому что люди не годились на эту роль».
Что ж, это заявление вполне определенное Вот, значит, в чем дело. По мнению автора, люди, которые могли обрушить атомную смерть на неповинных жителей Хиросимы, не поднялись до тех высоких идеалов добра и справедливости, которые в его книге воплощаются в жизнь псами и роботами. Можно думать, что эти колебания писателя, это отсутствие ответов на им же поставленные вопросы объясняются тем, что он действительно не знает ответов.
Ему бы очень хотелось сохранить старый добрый мир трудолюбивых Вебстеров, да как его сохранить перед натиском неведомых, но чрезвычайно могущественных сил, которые обрушились на неподготовленное человечество уже сейчас, в нашем веке, а то ли еще ожидает его в будущем. (Мутанты, муравьи — лишь символы этих сил.) Многое в людских деяниях наталкивает автора на пессимистические выводы (вспомним, роман создавался вскоре после второй мировой войны), и хотя врожденное чувство гуманизма все время протестует против вынесения человечеству смертного приговора, однако даже в фантастической утопии автор не решается, не хочет или не может указать путь избавления.
Но тут, может быть, мы все же не поверим автору? Как бы он ни убеждал нас, что будущего у людей нет, что на смену им пришла особая, непохожая на человеческую цивилизация псов, усомнимся в этом. И тем более усомнимся в нравственной автономии роботов. Ведь нет ни у тех, ни у других никакой морали, кроме человеческой, кроме гуманной, в чьи бы головы эта мораль писателем — фантастом ни вкладывалась. Так что не было никакой необходимости Джону Вебстеру — последнему уступать дорогу псам. Некому было уступать, ибо всю их совершенную нравственность создали люди, поколения вебстеров. А добрый верный Дженкинс, он разве не человек, не дитя человека, даром что у него железное тело.
Ну, наконец — то появилось что — то прочное, наконец — то найдена точка опоры. Ничего подобного. Пистолет снова бессильно повисает в руке. (Хотя в данной ситуации нет ни пистолетов, ни рук.) Теперь уже псы и роботы уступают дорогу неумолимым муравьям. Но ведь они и сами не знают, кому уступают. И надо ли уступать? Что ж, так и суждено доброму и разумному всегда отходить в сторону? И не приведет ли такое непротивление к торжеству невиданного насилия? Мы опять не получим прямого ответа, но не сможем не задуматься над главными тревогами бытия.
И все же неправильно будет закончить фразами о зыбкости и противоречивости «Города». Есть и нечто однозначное, что позволяет закрыть роман с оптимистическим чувством, несмотря на мрачность иных его страниц. Подтверждение этому оптимизму мы находим в других книгах Саймака, в том числе в романе «Все живое…», хотя такого идейно — сложного произведения, как «Город», в его творчестве больше не встретим.
«Все живое…» (1965) можно прочитать как нефантастический роман, в котором живописуется душная атмосфера провинциального городка, прелести американской глубинки. (Да только ли американской?) Каждый житель на виду, сплетни, пересуды, ханжество, осуждение любых экстравагантностей или того, что представляется экстравагантным благопристойным прихожанам… Но в то же время здесь живет трудовой народ, в котором немало и привлекательного.
Американская пресса любит обозначать некоторые явления, должности, лиц прописными буквами, тем самым превращая единичное во множественное, типическое, обобщенное. В таком контексте Хорошая Девушка — это уже не просто приемлемое существо нежного пола, а такая подруга героя, которая отвечает соответствующим стандартам. Если уж она поверит в правоту своего избранника, то вместе с ним будет противостоять всему миру, и законы нарушит, и машину в нужный момент подгонит… Есть такая девушка и в романе К.Саймака. Ее зовут Нэнси. Есть также стопроцентно американский Мэр, неизменный Тупица — Полицейский, Док, то есть всеми любимый лекарь — подвижник, обязательный городской Дурачок, в наличии Банкир, Неудачник, Бродяга и так далее.
Эта среда, эти персонажи, эти характеры знакомы нам по книгам многих американских прозаиков. Однако даже сугубые реалисты любят взрывать унылое размеренное существование непредвиденными обстоятельствами. Открыли, к примеру, рядышком залежи нефти, и вот уже налаженный быт, прочные связи, братские узы — все летит вверх тормашками. Собственно, одна из главных художественных функций фантастического допущения в том и состоит, чтобы до предела обострить ситуацию. Ведь ясно, что если люди сталкиваются уже даже и не с чрезвычайными событиями, а с чем — то таким, что на первый взгляд представляется необъяснимым чудом, то, понятно, характеры и темпераменты проявляются особенно отчетливо, нервы напрягаются до предела, подспудные, порой старательно скрываемые желания и страсти выходят на свет… Все это как раз и происходит в саймаковском Милвиле: нашествие лиловых цветов вынудило обитателей городка выплеснуть наружу и самые свои привлекательные и самые низменные качества.
Нет, конечно, фантастическая гипотеза не всегда играет только роль катализатора. Она может вступать в художественную реакцию и самостоятельно. Так, отвратительные, питающиеся человеческой кровью марсиане из уэллсовской «Войны миров» дают исключительный по выразительности образ страшной, нерассуждающей агрессивности. Но, создавая свой мир разумных цветов, писатель едва ли ставил перед собой подобные задачи. Что может означать ее величество всеобщая Лиловость? Сама по себе ничего особенного. Писателю необходимо было придумать «имидж» иного мира, непохожего на человеческий. Он не стремился к тому, чтобы прояснить нам общественные структуры, цели, замыслы, идеалы своих цветов. Мы не знаем, стремятся ли они захватить Землю или намереваются сотрудничать с людьми? Творя в отдельных случаях добро (излечивая больных, например), понимают ли они, что допускают по отношению к людям насилие, воздвигнув временной барьер, накрывший Милвил как колпаком. И существуют ли вообще в их миропонимании человеческие категории добра, зла, насилия, справедливости? В других обстоятельствах, в иной книге (даже у самого К.Саймака) исследование этих глобальных представлений могло бы стать основным. Здесь же некоторая неопределенность устраивает автора, так ему сподручнее выполнить основную задачу: показать реакцию американского общества — от сенатора до отщепенца — на встречу с чудом. Ведь если бы сразу стало очевидно, что пришельцы — захватчики, то, может быть, и вправду стоило бы дать им военный отпор? А в условиях неопределенности разоблачение пещерного мышления пентагоновского генерала, например, выглядит несравненно эффективнее. Он ведь предлагает сбросить бомбу на всякий случай. Хотя, может быть, и врагов — то никаких нет, но как бы чего не вышло. А вдруг цветики окажутся опасными для того мира, который, как он себе это представляет, призван охранять бравый вояка. Для него жизни ни в чем неповинных жителей Милвила ничто по сравнению с возможностью такой угрозы. Это и есть позиция звериного консерватизма, — пожалуй, главного препятствия на пути социального прогресса. А если кто — нибудь подумает, что подобные намерения пентагоновских начальников слишком уж стереотипны, то обратим внимание: ведь не советские же журналисты сочинили этот образ Надо полагать, американскому писателю на месте виднее что к чему. (В одном из рассказов К.Саймака бомбу на пришельцев, несомненно дружественных, бросают — таки. Тоже на всякий случай. Правда, она не взрывается к великой досаде военных, но существенно то, что они ее бросили.)
Но тем не менее угрозу для того мира, который олицетворен генералом и сенатором, пришельцы действительно несут. Она не только в том, что само их появление ставит под вопрос незыблемость его установлений, но и в некоторых вполне конкретных поступках гостей. Ведь первое, что вознамерились совершить на Земле Лиловые, — это, не спрашивая согласия людей, ликвидировать ядерное оружие. Хотя, казалось бы, какое им дело до земных междоусобиц. Нетрудно почувствовать здесь скрытую, но едкую авторскую усмешку: любое разумное существо — любое! — прежде всего постарается ликвидировать опасность, грозящую самому существованию всего живого. И на этом «рандеву» человеческая разумность явно дает сбой.
И получается, по мысли автора, что контакты с пришельцами (читай: с чужестранцами, придерживающимися другой системы ценностей, другой идеологии) легче всего удаются не правительствам, не политикам, даже не ученым, все же замкнутым на своих ведомственных интересах, а обыкновенным людям. Конечно, и среди обитателей города тут же обнаруживаются свои «ястребы», например, полицейский Хайрам и его дружки; есть и достаточное количество обывателей, готовых в любую минуту с улюлюканьем включиться в охоту на ведьм. Но находится и немало нормальных сапиенсов, которые идут на этот контакт хотя и с некоторым понятным испугом, но и с естественным человеческим любопытством и благожелательством. Именно аутсайдер Шкалик находит выход из, казалось бы, безвыходного положения. И какой замечательный, истинно человеческий! Он никогда не пришел бы в голову сенатора Гиббса, потому что для этого в его черепной коробке должны функционировать такие далекие от политики понятия, как доброта, нежность, красота. Они — то и оказываются наиболее действенными в общении разумных существ. Вот уж воистину: красота спасет мир.
Древняя раса цветов встречалась на своем пути со многими разумными племенами, но никто, кроме людей, не оценил самого главного их достоинства. До встречи с человеком они и сами не подозревали, что они прежде всего красивы. А это значит, что контакты, которые с ними установят люди, будут контактами высшей степени, не противоборствующими, не торгашескими, не сухо официальными, а духовными, дружескими, несмотря на всю биологическую отдаленность расы людей и расы цветов. Вот он, наконец, и наступил, тот раунд, в котором человечество взяло верх. Оно оказалось на высоте именно там, где проявились его лучшие, истинно человеческие свойства.
Параллели с современным миром напрашиваются сами собой, в них и состоит главный смысл романа «Все живое…», в котором иной любитель фантастики, привыкший следить только за сюжетными перипетиями, может узреть всего лишь описание легкой паники, возникшей в американском городке по случаю прибытия очередных пришельцев.
Десятки раз в своих романах и рассказах К.Саймак прокручивает тему Контакта. И какой уже раз у авторов сопроводительных статей возникает соблазн подробно поговорить о Джордано Бруно, внеземных цивилизациях, посылках сигналов в межзвездное пространство, программе СЕТИ, задаться философскими раздумьями: одиноки ли мы во Вселенной? Можем ли мы встретиться с братьями по разуму? К каким последствиям приведет такая встреча? Все это, бесспорно, интереснейшие вещи, и хоть какая — нибудь определенность в любом из упомянутых направлений имела бы кардинальные последствия для человечества. Но к творчеству Саймака, как это ни парадоксально, внеземные цивилизации имеют лишь весьма косвенное отношение. Он изобретательно придумывает разнообразные формы неземной жизни вовсе не для выдвижения научных гипотез. Каждая встреча с пришельцами дает ему возможность взглянуть на человечество со стороны, иногда посетовать на суетливость некоторых его устремлений, особо заметную оттуда, из космоса, но зато другой раз и возгордиться величием его души. Помещенные в томе рассказы послужат дополнительной иллюстрацией к этому утверждению.
Бывает, что одним и тем же словом обозначаются совершенно разные вещи. Скажем, робот Дженкинс из «Города» — вовсе не робот, а вот машина под названием Прелесть — это и вправду робот. В ее металлическую башку втиснут максимум интеллекта, она способна не только собирать научную информацию, а давать советы игрокам в покер, слушать стихи и даже, как ей кажется, объясняться в любви… Но и в том случае, если машина будет знать и уметь все, что знают и умеют люди, человеком она не станет. Ей не будет хватать малости: той самой пресловутой души. Потому — то машина по своей, недоступной человеку логике может принять самое решительное решение, но оно может оказаться и крайне бесчеловечным. Об этом забыли конструкторы Прелести, из — за чего сопровождающему ее экипажу пришлось изрядно поволноваться. Правда, в рассказе ситуация разрешается в юмористических тонах, обмануть наивную красавицу не составило труда, но сама ситуация не высосана из пальца. Пока два механизма будут объясняться друг другу в любви или, наоборот, войдут в клинч, как бы человек не оказался не у дел. Уже вырисовываются такие компьютерные программы, которые грозят смертельной опасностью всему человечеству. Нет уж, пусть самые разумные механизмы решают только свои машинные дела, например, автоматизируют производство.
В «Разведке» отношения между человеком и машиной приобретают еще более напряженный характер. Поначалу кажется, что все это забавно: прогуливающаяся швейная машина, самопечатающая пишущая. Но тут же выясняется, что одна высокая договаривающаяся сторона разговаривает с другой высокой отнюдь не дипломатическим языком: «Не суйся, Джо, не путайся в это дело. А то плохо тебе будет». Похоже, что на этот раз нам объявляют военные действия. Главный герой рассказа, репортер Джо, принимает, может быть, не самое правильное, но зато очень человеческое решение. Вооружившись куском водопроводной трубы, он в одиночку решается постоять за весь род людской. Все живое может договориться между собою, а вот живое и неживое едва ли.
В рассказе «Изгородь» кто — то извне берет человечество на полный пансион. Ничего не надо делать, не о чем беспокоиться, бери что хочешь, трать сколько хочешь, занимайся чем хочешь. Венец экономического развития. Цель этого меценатства, правда, не названа, но предположим даже, что в ней нет ничего зловещего.
Нет, оказалось, что и этот вариант благоденствия не проходит, так как теряется смысл человеческого существования. И, конечно, тут же находятся бунтовщики, которые не признают дарового рая, предпочитают жить в хижинах без электричества, самостоятельно выращивать огурцы на грядках, но не сдаваться. Вот в этом искони присущем человеку мятежном духе, в неизбежно просыпающемся сопротивлении любому насилию, любым диктатурам — залог развития или даже самого существования людей.
Есть у К.Саймака рассказ «Дом обновленных», по моему мнению, один из лучших. Я позволю себе сослаться на него (рассказ издавался у нас), чтобы завершить мысль о том, что только истинная духовность, истинная человечность способны дать роду людскому возможность торжествовать на всех исторических перекрестках, решающих встречах, во всех переломных моментах. В этом рассказе тоже идет речь о неизвестных галактических благодетелях, но выводы, которые последовали из сходной ситуации, совершенно противоположны тому, что мы видели в «Изгороди». Подарки добрых дядей из космоса в «Доме обновленных» мы принимаем без всякой неприязни. Почему? Да потому, что там диалог идет на равных. Всемогущие космические друзья дарят замечательный дом одинокому старику, бывшему правоведу, не из жалости, не из любопытства, не для тайных наблюдений над ним, а потому, что нашли в докторе Фредерике Грее разумное существо, равное им по мудрости, доброте, чувству справедливости. Видимо, для любого живого разума бесспорно, что самый ценный капитал во Вселенной — духовные, а не материальные ценности. На таком рандеву нет ни победителей, ни побежденных.
При чтении «Дома обновленных» невольно вспоминаются классические строчки Беранже:
Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!
А не служит ли фантастика типа «Дома обновленных» вот таким «золотым сном», утешительной: пилюлей, подсовываемой читателю взамен «святой правды», в поисках которой немного позаплутался современный мир? И стоит ли нам сейчас воздавать честь профессиональным утешителям? Какие там контакты с пришельцами, какие духовные обмены, если земляне, принадлежащие к одному биологическому виду, иногда даже говорящие на одном и том же языке, и то не в силах понять друг друга и до сих пор воображают, что могут вколотить в головы оппонентов свои убеждения с помощью ракетных установок!
Но правы все — таки сочинители утопий. Потому что проповедуют они не золотые сны, а самое святое — правду гуманизма. Да, дорога к ней трудна, но никакого другого выхода у человечества нет.