
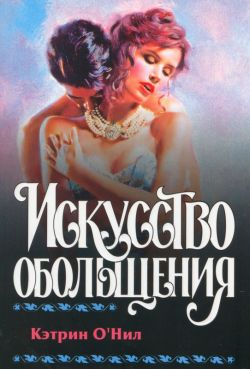
Кэтрин О'Нил
Искусство обольщения
Пролог
Париж, 30 января 1889 года
«Что делать?»
Мэйсон Колдуэлл, не разбирая дороги, брела по серым мокрым парижским улицам. «Что делать?» – стучало у нее в голове. Вопрос этот жег Мэйсон изнутри, а снаружи ее хлестал ледяной дождь. Волосы растрепались от ветра, плащ вымок и лип к телу, но Мэйсон давно уже не замечала ни холода, ни сырости. Казалось, это природа рыдает за нее, исторгает из себя море слез, которым Мэйсон не желала давать воли. В ночь крушения ее надежд само небо излило на нее свою скорбь.
Сегодня днем ей принесли письмо из комитета выставки в вычурном, с затейливыми вензелями конверте. Трясущимися от волнения руками Мэйсон вскрыла его. Из конверта выпал один-единственный листок, оказавшийся ее же собственным заявлением. Вот оно – ее письмо, сплошь в красных казенных штампах. ОТКАЗАТЬ – по всем восемнадцати пунктам! Восемнадцать кровавых печатей, ставящих крест на всех ее помыслах. Комиссия не взяла на себя труд отправить ей официальное письмо с указанием причин отказа. Не сочла ее, Мэйсон Колдуэлл, достойной простой вежливости. Не дали ей даже той толики утешения, что получили другие художники из числа ее парижских знакомых, работы которых комиссия не сочла возможным принять.
Это испещренное красными штампами заявление все еще стояло у Мэйсон перед глазами. Непереносимое унижение! При воспоминании о том, с какой надеждой она взяла в руки тот конверт, Мэйсон покраснела от стыда.
Полный провал.
Врет пословица, гласящая, что у каждой тучи есть серебряная подбивка. Тучи, что закрыли ее горизонт, были беспросветно черны.
Никакого света в конце туннеля.
Так что же ей делать дальше?
Дождь не прекращался целые сутки. Такого страшного ливня и ветра Мэйсон не помнила за все пять лет ее жизни в Париже. Дождь барабанил по крыше, гулко отдаваясь эхом в ее маленькой квартирке, состоящей из одной комнаты. Дождь отбивал чечетку на каменной мостовой под окнами, словно тысячи всадников неустанно проносились мимо. И с той же маниакальной настойчивостью в голове ее стучало: «Что делать?» Мэйсон отчаянно пыталась найти решение. Какое-нибудь. Любое. Лишь бы вырваться из кольца безнадежности.
И вот она оказалась на улице. Одна, под проливным дождем. В четвертом часу утра. На пути ей встречались обычные для этого времени суток прохожие. Полуночные гуляки, изрядно подвыпившие, брели в обнимку, поддерживая друг друга, и горланили песни. Им было весело, и дождь не портил им настроения. В подъездах, позевывая, стояли проститутки, с досадой поглядывая по сторонам. Из-за ливня работы у них было меньше, чем обычно, прибыль утекала сквозь пальцы. Мэйсон теперь смотрела на них по-новому. Отчего эти женщины оказались на улице? Какие обстоятельства вынудили их заняться своим ремеслом? Наверняка кое-кто из них тоже приехал в Париж с надеждой завоевать мир.
Мэйсон шла, не останавливаясь. Газовые фонари отбрасывали желтый тревожный свет. Тени от столбов покачивались. Или, может, качалась она? Трудно сказать. Мэйсон ничего не ела с полудня. А вечером, желая подбодрить ее, подруга Мэйсон Лизетта отвела ее в кафе «Тамбурин» и уговорила выпить абсента. Сильно опьяняющий едкий ликер нисколько не помог справиться с чувством полной опустошенности и безнадежности, от него лишь голова стала тяжелой и ноги не слушались. В том, что Мэйсон теперь ощущала себя листком, трепещущим под порывами ураганного ветра, отчасти виноват хмельной абсент. Но лишь отчасти.
Мэйсон так глубоко погрузилась в свои невеселые мысли, что очнулась лишь тогда, когда подошла к мосту Альма через Сену. Не было ничего удивительного в том, что ноги сами принесли ее сюда. Мэйсон часто здесь бывала. С этого моста открывался прекрасный вид на стройку на левом берегу Сены. Это сооружение получило название Эйфелева башня. Мэйсон за пеленой дождя в ночных сумерках с трудом угадывала ее стройный силуэт. Сейчас башня была почти достроена, не хватало только верхушки. Изящный колосс из железа и стали! Кружевное индустриальное чудо эпохи вызывало множество противоречивых толков. Консервативные французы считали это сооружение уродливым и не могли дождаться, когда его поскорее снесут, но для Мэйсон эта башня стала символом надежды, поскольку строилась она к открытию Всемирной выставки, до которой оставалось два месяца. Именно на этой самой Всемирной выставке надеялась Мэйсон представить свои картины.
Весь мир ожидался в гости в Париж, на грандиозный форум промышленности и искусства, самый грандиозный за всю историю Франции. Эта выставка давала Мэйсон последний шанс. После всех полученных ею отказов она все еще смела надеяться на то, что комитет выставки окажется достаточного прогрессивным, чтобы признать ее талант. Какое убийственное заблуждение!
Мэйсон подошла к парапету и, ухватившись за перила, закрыла глаза и откинула голову, подставляя ветру и дождю разгоряченное лицо. А ведь она так верила, что находится на верном пути. Какая глупая самонадеянность! Жалкое посмешище судьбы. Всего лишь еще одна американка, прибывшая в Париж с намерением превратиться в настоящую художницу. Убежденная, подобно многим, в том, что если верить в свою судьбу всем сердцем и вкладывать душу в свои творения, то признание непременно тебя найдет.
Пять лет назад Мэйсон приехала сюда, в Париж, с надеждой и верой. Желая поскорее покинуть юдоль скорбей – отчий дом, где недавно умерла ее мать, и начать жизнь с чистого листа. Получив скромное материнское наследство, Мэйсон отправилась в Париж, приют и надежду изгнанников, эмигрантов и беженцев. В этом городе не принято справляться о том, что было у тебя в прошлом. Этот город привечал художников, дарил им свободу и поддержку. Здесь Мэйсон впервые увидела гениев импрессионизма, чьи работы словно сотканы из противоречий. Здесь она познакомилась с шедеврами Моне, Ренуара, Дега. Впервые увидев их творения, она испытала нечто похожее на удар молнии. Еще ребенком мать учила Мэйсон рисовать, водила на выставки. Но те работы, что нравились ее матери, здесь казались засушенными, словно покрытыми нафталином. В этом новом стиле ключом била жизнь. Творения импрессионистов были созвучны современному ритму, полны цвета и света. И эти произведения нашли отклик в сердце Мэйсон, они взывали к ней, как ничто и никогда раньше, и она чувствовала, что должна ответить на этот призыв.
Пять лет она вела эту священную войну за свое призвание, играла с новыми цветовыми контрастами, дерзко экспериментировала с композицией и темами, вырабатывала свой собственный почерк, свой стиль письма. Она льстила себе, уверившись в том, что это ее видение было уникальным, неповторимым, свежим, дерзким и новым, что, возможно, она сама даст импрессионизму новое, революционное направление развития. Эти искания увенчались восемнадцатью новыми работами, выполненными ею за последний год. Она трудилась без устали, днем и ночью, она старалась закончить свои революционные холсты к тому времени, как начнется рассмотрение работ, допущенных к участию в выставке.
Но когда она принесла эскизы на суд экспертов, отбирающих выставочные экспонаты для парижских картинных галерей, все эксперты, как один, дали крайне неодобрительные отзывы. Большинство даже не потрудились смягчить формулировки.
– Но, мадемуазель, эти картины просто отвратительны!
– Я поставлю крест на своей репутации, если выступлю в поддержку этого кошмара!
– Скажите на милость, кто пожелал бы повесить такое у себя в салоне?
Тяжелее всего было выслушивать месье Фальконе, ибо он не пожалел времени на то, чтобы с грубой прямотой высказать все, что думает о представленных на его суд работах:
– Стиль отвратителен. Импрессионизм и тот достаточно плохо продается, а это… это идет даже дальше, чем импрессионизм. Я даже затрудняюсь сказать, куда вас занесло. Центральные фигуры на всех ваших полотнах выглядят вполне привлекательно. Я должен признать, что в них есть некий шарм от Ренессанса. Но вы окружаете их хаосом и насилием, вы помещаете их в мир, сознательно искаженный до безобразия. Вы никогда не получите поддержку таким работам. Над ними будут смеяться, нет… потешаться. Прошу вас, уберите их немедленно с моих глаз!
И, несмотря на все эти грубые отказы, Мэйсон не переставала надеяться на Всемирную выставку. Цеплялась за последнюю надежду как утопающий за соломинку. Было известно, что жюри принимает работы не одних лишь салонных художников или импрессионистов, которые постепенно добились общего признания, но и работы авангардистов. Настоящих художников авангарда. И поэтому Мэйсон тоже подала заявку, поверив, что имеет право на собственное видение. Она неустанно молилась о том, чтобы ее работы оказались понятыми, оцененными по достоинству… Она говорила себе, что все ее труды не пропадут зря, даже если один-единственный человек, взглянув на них, скажет: да, я вижу.
Но этого не произошло.
И теперь ей некуда было идти, не к кому обратиться. Она исчерпала все возможности.
Сказать, что она чувствовала себя униженной, значит, ничего не сказать. Те, кто судил ее, вершили суд, глядя на ее труды сквозь пелену собственных предубеждений. Как всегда, им не хотелось принимать новое видение, новый стиль. Особенно если этот новый взгляд был взглядом женщины.
Как могла она быть настолько слепа? Как посмела она мечтать о том, что кто-то удостоит ее работы вниманием? Она вновь и вновь вспоминала отца. «Твоя мазня – пустая трата времени. От нее одна головная боль».
Слова его продолжали больно жечь. Сколько лет прошло, а рана так и не затянулась.
И, как часто бывало в минуты уныния, Мэйсон подумала о матери. Печальная тихая женщина, для которой живопись была средством ухода от действительности, ставшей непереносимой.
– Будь осторожна со своими желаниями, – говорила она Мэйсон, – потому что они иногда сбываются. Но сбываются они не так, как ты себе это представляешь, ты должна быть готова заплатить сполна за исполненные желания.
Мэйсон была готова добиться успеха любой ценой. Но мама, оказывается, ошибалась. Желание… тяжкий труд… упорство… И ничего не помогло.
Неужели отец был прав от начала и до конца?
Мэйсон поежилась в насквозь промокшем плаще. Облокотившись о каменный парапет, она смотрела в чернильные воды Сены. Она слышала, как с шумом несется под ней вода. Течение было наверняка очень сильным. Мэйсон закрыла глаза. Она была на грани обморока. Ей представлялось, что она сливается с рекой, становится ее частью. Она знала, что подобное ощущение могло родиться под влиянием абсента, но не только его одного.
– Мне нужна помощь, – прошептала она бушевавшей внизу реке. – Я не справляюсь одна. Мне нужна… помощь.
Мэйсон не знала, сколько времени вот так простояла на мосту, повторяя как заклинание мольбу о помощи. Но через какое-то время до сознания ее дошло, что дождь поутих. Все как-то странно переменилось. Она подняла глаза и вдруг увидела, как красиво вокруг. Красота окружающего пейзажа ошеломляла. Она повернулась, взглянула на восток, туда, где переливался огнями в дымке дождя город. Он казался далеким и почти мистическим, а Сена, величественная и прекрасная, катила свои воды через самое сердце Парижа. Сена, похожая на змеящуюся ленту живого серебра.
И вдруг, словно из пелены тумана, возникла фигура. Женщина в плаще неопределенного цвета шла навстречу по мосту с другого берега реки. Она придерживала капюшон возле шеи, а полы плаща, раздуваемые ветром, били ее по ногам. Мэйсон смотрела на приближающуюся незнакомку, гадая, не абсент ли играет с ней шутки. Может, это галлюцинация?
Но фантомная дама заговорила с ней на французском.
– У вас неприятности? – спросила она.
Мэйсон огляделась. Интересно, откуда могла прийти эта женщина?
– Нет, мадам. У меня все хорошо, – на французском ответила Мэйсон. – Но все равно спасибо за заботу.
– Ну что же, воля ваша.
Мэйсон отвернулась, полагая, что женщина пойдет мимо. Но она остановилась. Снова зазвучал ее голос, перекрывая шум ветра и дождя:
– Вы чувствуете, что все бесполезно? Что вы уже на дне и помощи искать негде? Никто не понимает вашей боли? И Сена, с ее сладостными объятиями, ваш единственный друг. Единственное утешение. Ваше единственное решение?..
Мэйсон ошеломленно взглянула вниз, на реку, потом перевела взгляд на женщину. «Она думает, что я готова прыгнуть с моста!»
– Нет, мадемуазель, вы неправильно меня поняли.
Однако женщина продолжала, словно и не слышала.
– Искушение велико, не так ли? – сказала она навстречу ветру. – Оставить в прошлом тот мир, что вы успели познать. Примкнуть к сонму безликих, тех, кто отдал свое последнее дыхание матери Сене.
Эти слова отчасти вернули Мэйсон к действительности. Ей никогда не приходило в голову решать проблемы таким путем. Но она вынуждена была признать, что слишком долго пребывала в несвойственном для себя состоянии уныния.
– Нет, – расправив плечи, сказала Мэйсон. – Вы угадали – у меня действительно есть проблемы, но они меня не сломили. Во всяком случае, пока не сломили.
– Тогда я вам завидую, – сказала женщина, опуская руки. Ветер подхватил капюшон, откинул его, открыв лицо незнакомки. В глазах женщины застыла вселенская печаль. Такие глаза были у матери Мэйсон. – Хотела бы я обладать вашей решимостью. Но к несчастью, у меня кончились силы.
С этими словами женщина ласково улыбнулась Мэйсон на прощание и, с поразившим Мэйсон проворством забравшись на балюстраду, бросилась в воду.
Мэйсон от шока не сразу поняла, что произошло. А когда поняла, то увидела, как фигурку в плаще уносит, подобно спичке, бурлящий поток.
Мэйсон заметалась в панике. «Надо что-то предпринимать. Но что?»
Надо попытаться ее спасти.
Сбросив туфли и плащ, Мэйсон забралась на парапет, глубоко вдохнула и прыгнула солдатиком с моста.
Но едва Мэйсон соприкоснулась с водой, она поняла, что попала в беду. Ледяной поток, куда более мощный, чем можно было представить, потащил ее вперед. У нее едва хватало сил на то, чтобы держать голову над водой. Она откашливалась, сплевывала воду. От голода и хмеля она ослабела. В тот момент, когда она, попытавшись забыть о себе, поплыла к маячившей впереди фигуре, поток резко свернул и потащил ее в другом направлении.
Мэйсон плыла изо всех сил. «Я должна попытаться! Я не могу дать ей просто так умереть».
Стремление спасти женщину, нежелание покориться року подпитывали ее тающие силы. Борьба за жизнь той, другой, и борьба за жизнь собственную слились в одно.
Однако река была сильнее. Все, что могла сделать Мэйсон, – это держаться на плаву. В панике она ухватилась за ветку растущего на берегу дерева, но ветка утонула под ее весом.
Мэйсон была на грани изнеможения. Женщина теперь окончательно скрылась из виду. Мэйсон уже не могла шевелить ни руками, ни ногами, они занемели и стали словно чужие.
Внезапно перед ней открылась правда – она идет ко дну.
Паника охватила Мэйсон. Сделав над собой усилие, она собрала остатки сил для неравной борьбы с роком. Но борьба не дала результатов. Течение тянуло ее ко дну, и одежда на ней, казалось, весила целую тонну.
И, когда Мэйсон поняла всю тщетность своих усилий, тревога уступила место отрешенности, которая пьянила сильнее, чем абсент.
«Мне двадцать пять, и я сейчас умру».
Но что-то мешало ей погрузиться во мрак, где нет ни холода, ни боли.
«Я умру, так и не познав, что такое любовь».
Она никогда не любила. Она еще не успела встретить мужчину, который любил бы ее просто так, а не за что-то, что она могла дать ему взамен; который бы верил в нее просто так – просто потому, что любит всей душой и сердцем, даже если вокруг в нее не верит никто.
Она умрет, не познав любви. Так стоило ли жить тогда?
Мэйсон не могла принять такую участь. Она должна была вырвать у судьбы еще один шанс. Легкие ее готовы были разорваться. «Помоги мне!» – взмолилась она вновь.
В отчаянном рывке она вынырнула и сделала большой глоток обжигающего воздуха. Но в этот момент что-то тяжелое ударило ее по голове. Она потянулась за этим чем-то, схватилась за него в надежде, что оно поможет ей удержаться на плаву. Но руки ее потеряли чувствительность. Все закружилось перед глазами как в калейдоскопе, и сознание начало гаснуть.
Последнее, о чем успела подумать Мэйсон, прежде чем провалилась в черноту, – это о горькой иронии судьбы.
«Я просила помощи, и вот что я получила!»
Глава 1
«Должно быть, я попала в рай».
Мэйсон вышла из экипажа и попала в мир, где царило совершенство. Дождь закончился, яркое солнце радостным светом заливало Париж. По лазурному небу плыли золотистые облака. С деревьев, растущих вдоль модной улицы Лаффит, струился непередаваемый, тонкий аромат раскрывшихся почек. И вплоть до самого бульвара Осман перед галереей Фальконе стояла густая толпа в ожидании открытия галереи. У входа был вывешен плакат со словами словно из чудесного сна:
Выставка полотен знаменитой американской импрессионистки Мэйсон Колдуэлл.
Мэйсон мельком взглянула на свое отражение в стеклянной витрине галереи и едва узнала себя. На ней было платье из легчайшей ткани бледно-розового цвета, талию туго стянул корсет, голову венчала шляпа с гордыми страусовыми перьями, лицо обрамляла кружевная вуаль. Волосы, накануне выкрашенные в черный цвет, придавали ее облику нечто неуловимо экзотичное. Здоровый деревенский румянец сменила легкая аристократическая бледность. Мэйсон нравилась произошедшая в ней перемена. Она чувствовала себя настоящей авантюристкой, озорной и дерзкой. Так и хотелось показать всему этому высокому собранию язык.
Лизетта подошла к Мэйсон и встала у нее за спиной перед стеклянной витриной.
– Ну что, готова?
Мэйсон повернулась к подруге лицом. Лизетта была настоящей красавицей, безыскусной, наделенной природной грацией. Ей шел двадцать третий год. Дитя Монмартра, она впитала в себя жизненную мудрость обитателей парижского холма и отнюдь не была наивной, несмотря на обманчиво наивную полудетскую внешность. Ее золотистые кудряшки, губки бантиком и соблазнительная гибкая фигурка привлекали в цирк Фернандо массу зрителей, спешивших на представление, чтобы полюбоваться Лизеттой – гимнасткой на трапеции.
– Ты еще спрашиваешь? – Мэйсон взволнованно перевела дыхание. – Я ждала этого всю свою жизнь.
И, когда подруги вошли в галерею, ощущение сна наяву не пропало. Август Фальконе, тот самый, что разгромил работы Мэйсон по всем статьям, теперь бросился ей навстречу, чтобы под руку ввести в зал.
– Мадемуазель Колдуэлл, наконец-то! Гости уже ждут внутри, и, как вы успели заметить, те, кому не посчастливилось получить приглашения, осаждают дом снаружи. Те, что внутри, исполнены такого желания приобрести картины, что готовы затоптать друг друга, лишь бы поскорее отдать нам свои денежки! Ждут не дождутся, когда закончится вступительная часть и начнутся торги!
Фальконе жестом указал на открытые двери салона. Там, внутри, все было именно так, как рисовалось Мэйсон в мечтах: богатые меценаты прогуливались с бокалами шампанского в руках, восхищаясь ее полотнами, столь удачно развешанными в просторном, с высокими потолками помещении бывшего особняка времен Второй империи.
– Позвольте мне, мадемуазель… Могу я называть вас Эми? Лизетта незаметно толкнула Мэйсон локтем, когда та вздрогнула при звуке еще непривычного ей имени.
– Да, конечно, – быстро спохватившись, сказала Мэйсон. – Разумеется, зовите меня Эми.
– Тогда, мадемуазель Эми, позвольте заверить вас в нашем искреннем почтении к вашей безвременно ушедшей сестре.
Фальконе проводил дам к стеклянному стенду с коллекцией изрядно потрепанных личных вещей, состоящей из этюдника, палитры, покрытой щедрыми мазками засохшей краски, жестяной банки с кистями, рабочей блузы в пятнах краски, широкополой соломенной шляпы, и – на почетном центральном месте – плаща, и поношенных коричневых туфель.
– Это те туфли, что ваша сестра оставила на мосту перед тем, как прыгнула… – Фальконе поспешил исправиться. – Перед тем, как она шагнула в вечность. Мне эта мысль пришла в голову в последний момент. Мне эти вещи показались на удивление трогательными. Каким-то мистическим образом они дают нам представление о ней – о ее фанатичной преданности искусству, о ее бедности и в конечном итоге о ее отчаянии и трагической смерти.
Мэйсон уныло созерцала свои грязные туфли. Кожа износилась и местами порвалась, мыски стерлись – сказались многочисленные походы на этюды в долину реки Уазы. Она едва сдерживала смех. Так бы и прыснула в кулак. Все это было невероятно забавно. У нее была еще одна пара обуви поприличнее и поновее, но она не стала надевать те туфли для прогулки под дождем.
«Хотела бы я посмотреть на эту лживую рожу, когда бы он узнал, что я вовсе не сестра Эми, только что прибывшая из Америки, а сама бедняжка усопшая».
Фальконе сделал выразительную паузу перед тем, как заговорил вновь:
– Не могу выразить, как я ценю честь представлять почтенной публике художницу, столь передовую и столь гениальную, как Мэйсон Колдуэлл.
Лизетта, лицемерно закатив глаза, подбоченилась, выставив вперед крутое бедро, и заговорила впервые с тех пор, как Фальконе взял их под свое крыло.
– Вы называете ее гениальной? Неужели это та самая гениальная художница, стиль которой вы сочли не имеющим право на существование? Тогда, когда вы велели ей убрать свои эскизы с глаз долой.
Владелец галереи немедленно изобразил возмущение:
– Ничего подобного я не говорил! Если кто-то из моих сотрудников позволил себе подобную клевету, я немедленно его уволю! – Фальконе обернулся к Мэйсон и прижал обе руки к сердцу: – Могу вам сказать, мадемуазель Эми, что при всей своей ограниченности я сразу распознал в вашей сестре монументальный талант.
Лизетта, которая в этой жизни никого и ничего не боялась, лишь звонко присвистнула и протянула:
– О-ля-ля!
– Но давайте же поспешим, каждый здесь жаждет выразить вам свое почтение.
Фальконе зашагал вперед, напыщенный и самодовольный. Лизетта задержала Мэйсон, положив ей руку на рукав, дожидаясь, пока Фальконе не скроется из виду, и тихо прошептала ей на ухо:
– Помни, ты в первый раз во Франции. И не знаешь ни слова по-французски.
Когда девушки поравнялись с Фальконе, он сказал:
– Я понимаю, мадемуазель Эми, что вы еще не вполне оправились от горя, но несколько господ, представляющих местную прессу, хотели бы поговорить с вами о нашей незабвенной Мэйсон. Куй железо, пока горячо, как говорится. Вы ведь понимаете, к чему я клоню? Так что, если вы не возражаете, я вас провожу к ним.
Фальконе не потрудился даже оглянуться, чтобы проверить, идет ли за ним Мэйсон. Не помышляя о возражениях с ее стороны, он направился прямиком в центральный салон, где уже ждали с ручками и блокнотами господа из журналистской братии. Они были готовы записать каждое ее слово. Однако в стремительном течении событий у Мэйсон не нашлось времени, чтобы сочинить хоть сколько-нибудь убедительную историю.
«Не поскользнись. Не дай им догадаться, кто ты на самом деле».
Мэйсон приложила к глазам кружевной платок, якобы смахивая набежавшую слезу.
– Да, для меня все это стало настоящим испытанием, – с искренними нотками скорби произнесла она. – Но если эта речь поможет внести лепту в наследие бедняжки Мэйсон, конечно, я скажу прессе все, что могу.
Мэйсон говорила по-английски, а Лизетта переводила на французский для тех журналистов, кто не понимал английского языка.
Фальконе деликатно покашлял, прочищая горло.
– Господа журналисты, позвольте представить мадемуазель Эми Колдуэлл, сестру нашей безвременно ушедшей художницы. И заодно хочу представить вам мадемуазель Лизетту Ладо, артистку цирка Фернандо и кабаре «Фоли-Бержер». Она была, как вам известно, близкой подругой художницы и ее главной моделью.
Худой мужчина с козлиной бородкой открыл пресс-конференцию:
– Мадемуазель Колдуэлл, меня зовут Этьен Дебро, и я представляю «Ля голуаз». Могу я спросить вас, почему, по вашему мнению, работы вашей сестры оказались столь недооцененными при ее краткой жизни?
Мэйсон обдумала вопрос, затем медленно заговорила:
– Я мало знаю об искусстве, но я думаю, что ее творения могли представлять угрозу для людей, которые всегда хотят, чтобы все оставалось по-старому.
– Почему, по вашему мнению, к ее работам возник столь большой интерес именно сейчас?
– Простите, но я не могу ответить на этот вопрос. Может, просто пришло ее время.
Пока Лизетта переводила, у Мэйсон появилась возможность оглядеться. На некотором отдалении от репортеров у стены стоял мужчина и пристально на нее смотрел. Вначале он привлек ее взгляд своими размерами. Он возвышался над толпой на целую голову, и широкий разворот плеч, и крупные руки составляли впечатляющий контраст со свободной грацией, с которой сидел на нем дорогой, явно сшитый на заказ у хорошего портного костюм. Очевидно, он презирал вошедшие в моду бородки – лицо у него было чисто выбрито, что лишь подчеркивало правильность черт. Он был самым интересным мужчиной из всех виденных ею в жизни, но не одни лишь внешние черты – темные волосы, крупный лоб, густые брови над пронзительными темными глазами, вертикальные складки по обеим сторонам рта – делали его таким выразительным. Он был красив. Безусловно, красив. Он излучал силу и энергию. И эти токи, бегущие от него к Мэйсон, вызывали в ней возбуждение, жажду приключений, азарт. Она ощущала этот ток на физическом уровне. Как удар, что едва не сбил ее с ног. Мощный выброс энергии. Энергии весьма определенной природы. Неукротимой, необузданной. Бесстыдно сексуальной.
На какой-то момент Мэйсон выпала из реальности, упустив нить того, о чем говорила Лизетта. Почему мужчина так на нее смотрит? Она никогда не видела его прежде, а он рассматривает ее с обескураживающей откровенностью. Под его взглядом она чувствовала себя совершенно голой и едва удерживалась от желания закрыть тело руками. Возможно ли, что он узнал ее? Нет, она приложила немало усилий к тому, чтобы изменить внешность: перекрасила волосы, подкрасила брови, даже постригла свои длинные ресницы – первое, что бросалось в глаза каждому, кто видел ее в той, прежней жизни.
Мэйсон с трудом отвела взгляд от незнакомца и попыталась сконцентрироваться на интервью.
– Но, мадемуазель, – говорил между тем еще один репортер, – то, что происходит сейчас, беспрецедентно! Вы не можете отрицать, что интерес к творениям вашей сестры во многом подогревается ужасными обстоятельствами ее кончины. Такая жуткая смерть столь юной, столь красивой, столь талантливой художницы.
– Но зато смерть обеспечила стремительный, я бы сказал, чудесный взлет ее карьеры, – бросил кто-то с места.
По рядам зрителей прошелся шепоток. Фальконе поднял руки.
– Прошу вас, господа, проявляйте уважение!
Тот, кто задал свой вопрос, продолжил:
– Я вовсе не желал кого-то обидеть. Я всего лишь хотел подчеркнуть, что в ее жизни и в ее смерти было нечто такое, что нашло горячий отклик в душах людей. У нее никогда не было покровителя. Она не продала ни одной своей работы. Она ни разу не услышала от нас ни единого слова поощрения. И все же продолжала работать, отдавая искусству все, что у нее было, и в конечном итоге отдала ему и свою жизнь. Она стала настоящей мученицей от искусства. Так сказать, Жанна д'Арк.
– Жанна д'Арк, – переиначил какой-то репортер. – Потрясающе!
Репортеры лихорадочно скребли карандашами в блокнотах. Как только они закончили писать, один из них спросил:
– Какие у вас планы насчет холстов?
Мэйсон подождала, пока Лизетта закончит переводить, прежде чем ответить:
– Господин Фальконе попытается продать восемнадцать работ сегодня…
Тот самый черноволосый гигант, что беззастенчиво разглядывал Мэйсон все это время, решительно замотал головой, и Мэйсон осеклась. После непродолжительной заминки она продолжила:
– Но с одной оговоркой: в случае если комитет выставки сочтет эти работы приемлемыми, они должны быть представлены на Всемирной выставке, которая состоится в этом году. Насколько мне известно, Мэйсон было отказано в участии, но, кажется, месье Фальконе изменил свои взгляды в свете недавних событий…
– Есть ли еще картины?
Мэйсон не ожидала такого вопроса и ответила импульсивно, не подумав:
– Да, и много.
Лизетта перевела и в недоумении посмотрела на подругу. Это они не планировали.
Фальконе выглядел приятно удивленным.
– В самом деле? Но это же чудесно! Где они?
Мэйсон, глядя себе под ноги, сказала:
– Моя сестра переправила их в Америку, ко мне в Массачусетс. Если кто-то захочет на них посмотреть, я могу выписать их оттуда.
Фальконе прямо сиял от радости. Потирая холеные руки, жадно блестя глазами, он спросил:
– Если кто-то захочет их увидеть? Да весь мир будет требовать от вас показать ему эти шедевры! А галерея Фальконе будет счастлива выступить в качестве торгового агента для этих шедевров.
Лизетта не могла не улыбнуться. Жадность Фальконе была вопиющей.
– Как это мило с вашей стороны, месье, – язвительно заметила она.
Один из репортеров, задумчиво покусывая карандаш, спросил:
– Вы предполагаете, как будут развиваться события дальше? Интерес к картинам вашей сестры пойдет на спад или будет продолжать расти?
– Я могу ответить на этот вопрос.
Мэйсон повернула голову в сторону автора реплики. То был Люсьен Моррель, самый известный критик в Париже. Она читала его обзоры и уважала его мнение. Моррель во многом способствовал признанию Ренуара и Дега в те дни, когда во влиятельных художественных кругах импрессионистов попросту не замечали, словно и не бушевала вокруг художественная революция. А теперь он собирался вынести суждение о ее, Мэйсон, работах. Неосознанно она задержала дыхание.
– Через две недели, – заявил критик, – эта Мэйсон Колдуэлл будет окончательно забыта. Ее минутная слава не имеет никакого отношения к художественной ценности ее работ. Техника у нее неряшливая, темы маргинальны, цвета нереальные. Если коротко – ее работа не является искусством. Это нечто противоположное искусству. А нездоровый интерес к ней вызван единственно тем, что она, ясно осознав, что талантом обделена, решила покончить с жизнью, бросившись в Сену. Романтичная смерть, подвигнувшая буржуазию на все эти охи и ахи и вызвавшая в ней желание увидеть работы самоубийцы. Вот и все, что стоит за этой шумихой. Парижане известны тем, что обожают красивые самоубийства. Нет-нет, друзья мои, то, чему мы все сейчас являемся свидетелями, это не открытие нового мастера, – это интермедия на карнавале.
Лизетта в ужасе взглянула на Мэйсон. Мэйсон махнула рукой, давая понять, что можно не переводить. Одного раза ей вполне хватило.
Мэйсон отвернулась, чувствуя, как краска унижения и стыда заливает ее лицо. Ей вдруг стало очень жарко. Она с радостью бы выбежала из этого зала. Но в этот момент она вновь встретилась глазами с красивым незнакомцем, стоявшим у стены. Он продолжал за ней наблюдать. Он медленно покачал головой и выразительно закатил глаза. Она поняла, что он имел в виду. Достопочтенный месье Моррель нес чепуху. Тот высокий брюнет у стены действительно так думал. Мэйсон ему поверила, и эта вера придала ей сил и мужества. И вызвала в ответ горячую благодарность.
Фальконе выглядел сбитым с толку. Отповедь критика заставила его побледнеть. Но ему так и не пришлось озвучить свою реакцию: в толпе произошло внезапное шевеление, и низкий мужской голос грубо спросил:
– Где тут Фальконе?
Все взгляды немедленно устремились на мужчину среднего роста, худощавого, но хорошо сложенного, с гладко зачесанными назад черными волосами и нагловатыми манерами. То был знаменитый гангстер Джуно Даргело. Джуно в сопровождении двух своих могучих телохранителей шел через зал, и толпа торопливо расступалась, давая ему дорогу, хотя по рядам и проносился возмущенный шепот.
Заметив владельца галереи, Даргело выкрикнул:
– Я покупаю их все, Фальконе. Все картины с Лизеттой.
Увидев Джуно, Лизетта подняла голову и, глядя в потолок, простонала:
– О нет! Только не это!
Вновь прибывший смотрел на Лизетту, словно влюбленный спаниель.
– Ты думала, что я позволю кому другому заполучить портреты моей голубки, моей возлюбленной?
Лизетта возмущенно притопнула ножкой:
– Сколько раз можно тебе повторять, Джуно? Я не твоя возлюбленная и никогда ею не стану!
Явление главаря банды придало развитию сюжета новый пикантный оборот. Репортеры повскакивали с мест, забрасывая Джуно вопросами:
– Эй, Джуно? Как это ты забрался так далеко от Бельвиля?
– Ты ведь еще не успел прикупить полицию в этой части города или уже успел?
– Ты разве не слышал, инспектор Дюваль поклялся, что не успокоится до той поры, пока не спровадит тебя на остров Дьявола?[1]
Даргело простер к Лизетте руки – жест, достойный героя Пуччини.
– Ради обожаемой мной женщины я бы сам сплавал на остров Дьявола и обратно.
Лизетта застонала, а Мэйсон, воспользовавшись случаем, поспешила покинуть собрание. Поискав глазами своего молчаливого советчика, она обнаружила его в дальнем углу салона. Он стоял к ней спиной.
Фальконе, нервничая, пытался внушить влюбленному гангстеру, что не может продать ему все картины, ибо мадемуазель Ладо изображена на каждой из представленных работ.
– У меня есть постоянные покупатели, месье, которых я должен чтить!
Мэйсон между тем направилась к таинственному незнакомцу. Подойдя поближе, она увидела, что он смотрит на одну из ее картин. Как и другие ее полотна, это полотно запечатлело идеализированную молодую женщину в окружении образов, точно вышедших из ночных кошмаров. Мир, в который была помещена эта женщина, был миром хаоса, перспектива нарочито искажена. Фон создавал ощущение угрозы и злобы. Однако в отличие от других работ Мэйсон это был автопортрет. Единственный ее автопортрет.
На портрете была изображена женщина – сама Мэйсон, – стоящая на коленях обнаженной спиной к зрителю. Приспущенное синее платье мягкими складками накрывало пол колоколом вокруг бедер. Длинные светло-каштановые волосы женщины, чуть тронутые золотом, каскадом спускались на спину. Там, где они заканчивались – на верхней части правой ягодицы, взгляд падал на родинку в форме сердца. Женщина смотрела через плечо, словно только что заметила зрителя, приветствуя его загадочной полуулыбкой. Источника света на картине не было, женская фигура словно сама излучала свет. По левую сторону от женщины несколько искореженных, лишенных листьев деревьев вздымали к небу свои костлявые ветви, словно в предсмертных муках. По правую сторону перевернутая пушка валялась у тропинки, которая уходила вдаль, к гребню холмов на горизонте, один из которых был усеян могильными плитами. Картина в редакции Фальконе называлась «Портрет художницы».
Мужчина смотрел на портрет с пристальным вниманием. Мэйсон наблюдала за ним со стороны. Она думала, что, изучив работу, он перейдет к следующей. Но этого не случилось. Незнакомец, словно завороженный, смотрел на ее автопортрет.
В конечном итоге она решила к нему подойти. На этом расстоянии она чувствовала исходящее от него тепло. Было так, словно он сам генерировал какую-то особую жизненную энергию. Отчего-то Мэйсон вдруг остро почувствовала, как ласкает кожу ее новое платье.
Он, вполне вероятно, ощущал ее присутствие столь же остро, сколь и она его, но он этого не показывал.
– Что вы думаете об этой работе? – спросила она наконец.
Не отрывая взгляда от картины, он сказал:
– Я думаю, что это откровение.
Голос у него был чудный – глубокий, насыщенный. Он говорил как урожденный британец, но с едва заметным раскатистым звучанием, характерным для шотландцев. Он произнес слово «откровение» с особой, характерной модуляцией голоса, растягивая гласные так, словно наслаждался их вкусом, прокатывая их языком. Чувственный голос, от которого по спине бежали мурашки.
– Вы слышали, что сказал Моррель? – осторожно напомнила ему Мэйсон.
– Моррель – идиот.
Мэйсон была слегка шокирована таким заявлением.
– Говорят, его авторитет непререкаем. Когда решается, что считать искусством, а что нет, за ним остается последнее слово.
Незнакомец по-прежнему неотрывно смотрел на портрет. В ответ на ее замечание он лишь небрежно пожал плечами:
– Когда-то Моррель был корифеем. Но мир не стоит на месте. Теперь Моррель не заметит новаторской работы, даже если она укусит его за ж… – Только теперь он обернулся и одарил Мэйсон дерзкой мальчишеской улыбкой. – Но волноваться не стоит. Мы его уговорим.
Последнюю фразу он произнес, доверительно понизив голос. Он возбуждал ее все сильнее. Теперь Мэйсон смотрела на него с особой пристальностью. В его темных глазах плясали веселые огоньки, словно приглашая поиграть. Она не могла решить для себя, следует ли понимать тот озорной огонек как непристойное предложение, или это у него такое природное обаяние. Как бы там ни было, сексуальный магнетизм в нем был развит настолько, что у Мэйсон участилось дыхание. Лицо его при пристальном рассмотрении было словно соткано из причудливых контрастов. С одной стороны, он был элегантен, с другой – в нем было нечто грубо чувственное. Особенно это касалось его рта. Для женщины такая комбинация была убийственной. Глядя на эти губы, такие полные, такие откровенно плотские, Мэйсон поймала себя на том, что облизывается.
– Художница была моей сестрой, – сказала она, лишь бы за что-то зацепиться.
– Я знаю. Мне про вас говорили.
Он на какое-то время задержал взгляд на Мэйсон, по достоинству оценил увиденное и снова уставился на картину. После неловкой паузы Мэйсон решилась спросить:
– Вы назвали эту работу откровением. Что вы имели в виду?
– Я хочу сказать, что это один из самых необычных примеров авторского взгляда, что мне довелось видеть.
Мэйсон старалась ничем не выдать своего возбуждения.
– Почему вы так думаете? – спросила она как можно небрежнее.
– Во-первых, еще ни один художник не передавал тревожность современной жизни так образно и живо. Задний план каждой из представленных тут работ скрывает угрозу – образы уродливы, гротескны, ужасны. И в то же время ее страстная техника, выразительность цвета – все это превращает уродство в красоту.
У Мэйсон подпрыгнуло сердце. Он понял именно то, что она старалась передать!
– Более того, угроза заднего плана в дальнейшем нейтрализуется центральной фигурой. Это всякий раз молодая женщина. Все эти женщины лучатся красотой, чистотой, силой духа и сознанием собственной чувственности, которая преобразует нищету и ужас мира, что их окружает. Вначале картины кажутся пессимистичными, но чем больше смотришь на них, тем очевиднее становится, что они полны надежды, что они по-настоящему жизнеутверждающие. Посмотрите на эту. Явно здесь изображены катакомбы. Женщину окружают ряды человеческих черепов. Слишком настойчивое напоминание о бренности жизни. И в то же время, смотрите, какая в этой работе мощь. И в свете этой художественной мощи даже неизбежность нашего конца кажется красивой.
У Мэйсон сердце колотилось как бешеное. Ее собеседник вновь обратился к автопортрету:
– Но меня больше других пленяет эта работа. Она изобразила себя в месте, которое мне кажется местом сражения. Ужас войны заставил ее опуститься на колени, сорвал с нее одежды. И все же она поднимается с колен, восстает из пепла и дарит нам эту самую загадочную из улыбок. Что она хочет нам сказать?
Мэйсон отвела взгляд от портрета и посмотрела прямо ему в глаза.
– Скажите мне.
– Она говорит нам, что красота искусства может помочь выйти за пределы нашего мира, полного ужаса, и даже сделать сам мир чище и лучше. Едва ли такое послание могла оставить женщина, решившая убить себя. Но в этом и состоит ее трагедия. Она преуспела в своей миссии, но так и не узнала об этом. – Он печально покачал головой. – Жаль, что я не знал ее при жизни. Тогда бы я смог сказать ей, каких замечательных высот она достигла.
Мэйсон не верила своим ушам. Впервые в жизни ее поняли, приняли, оценили.
– Кто вы? – едва слышно спросила она.
– Я? Никто.
– Вы критик? Или вы сам художник? Он хохотнул раскатисто, густо.
– Я не критик, не художник и даже не собиратель. Я просто, так сказать, близок миру искусства. Можете назвать меня ценителем. Но я узнаю шедевр, если его увижу.
– Но у вас должно быть имя.
Он улыбнулся. Мелькнул ослепительный ряд ровных зубов.
– Гаррет. Ричард Гаррет.
протянул Мэйсон руку, и ее рука потерялась в его широкой ладони. Прикосновение его твердой и теплой ладони заставило ее вздрогнуть от возбуждения.
– А вас зовут?.. – Гаррет пришел Мэйсон на помощь, ибо последняя, словно онемев, молча продолжала держать его руку.
– Мэй… – Она вовремя спохватилась. Она была настолько ошеломлена, настолько сбита с толку, что едва не назвала ему свое собственное имя. – Меня зовут Эми Колдуэлл. Я из… Бостона, штат Массачусетс.
– Ну что же, Эми Колдуэлл из Бостона, штат Массачусетс. Я бы сказал, что вы стоите перед дилеммой.
– Дилеммой?
– Полагаю, вы видели ту толпу снаружи, жаждущую приобрести картины вашей сестры. Завтра они смогут продать их впятеро дороже, чем заплатят сегодня. А послезавтра их уже можно будет продать за цену в десять раз выше первоначальной стоимости. Это развивающееся явление, и вам бы надо взять тайм-аут, чтобы посидеть, подумать, оценить ситуацию и найти верную стратегию. Будь я на вашем месте, я бы остановил распродажу прямо сейчас, пока она не началась.
Мэйсон окинула взглядом помещение и увидела, что Фальконе уже собирался открыть двери и впустить публику. Гангстер Джуно Даргело уже снял со стены три холста и махал пачкой банкнот за спиной Фальконе, а Лизетта продолжала отчитывать его за то, что он ставит ее в дурацкое положение этим своим поведением.
Не зная, что делать, Мэйсон подняла глаза на Гаррета и спросила:
– Остановить торг? Вам не кажется, что это все равно, что оставить невесту у алтаря в одиночестве?
– Но это все же лучше, чем всю жизнь жалеть о неверном решении. Просто подойдите к Фальконе и скажите: «Я передумала. Торг отменяется».
Мэйсон бросила взгляд на владельца галереи, поворачивающего ключ в замке входной двери, потом снова на Гаррета. Он пронизывал ее взглядом.
– Вам следует торопиться, – напомнил он ей, – не то будет слишком поздно.
Глава 2
Остановить торг? До того, как он начался? По совету совершенно незнакомого человека?
После всего, через что ей пришлось пройти, не лучше ли смиренно поблагодарить судьбу за то, что удалось хоть что-то продать?
Но с другой стороны, он не был случайным незнакомцем. Вдруг само провидение послало его сюда в качестве путеводного маяка, указующего путь в будущее? Так, может, это будущее сулит ей нечто большее, чем выручку от продажи нескольких картин по бросовым ценам?
Об этом ей знать не дано. Жизнь ее, начиная с той достопамятной ночи на мосту Альма, закрутилась как в калейдоскопе. Странные события сменяли друг друга, складываясь в причудливые орнаменты. Но кое-какие выводы Мэйсон для себя сделала: то, что казалось ей величайшей катастрофой в жизни, могло запросто обернуться благословением, лучшим, что могло с ней случиться.
Два месяца назад, в самую ненастную парижскую ночь на ее памяти, Мэйсон барахталась в ледяной Сене, когда внезапно что-то ударило ее по голове. Она потеряла сознание, успев понять, что наступили ее последние мгновения на этой земле. Но когда позже она очнулась, то с удивлением обнаружила, что каким-то чудом смогла перекинуть руку через нечто плавучее, то, что ударило ее по голове. То ли она смогла забраться на это бревно из последних сил, то ли та самая судьба, которую она проклинала, пришла ей на выручку – кто теперь узнает. У Мэйсон хватило духу на то, чтобы забраться на бревно, и силы покинули ее. Она потеряла сознание. Потом она, как ей смутно помнилось, приходила в себя и снова проваливалась в беспамятство, а быстрый поток все нес и нес ее вниз по Сене.
Когда Мэйсон проснулась – бог знает сколько часов спустя, она увидела, что лежит в теплой постели под пуховым одеялом. Перед глазами всплыло круглое женское лицо, и добрый голос спросил:
– Вы проснулись?
Мэйсон попыталась ответить, но не смогла. У нее не было сил шевелить губами. Спустя мгновение она вновь провалилась в черноту.
Она смутно помнила о том, что металась в бреду, сбрасывая с себя одеяло. Ей было жарко – кожа горела. В комнате было то светло (на улице стоял день), то темно (когда наступала ночь). Мэйсон помнила, что ей в рот вливали какую-то микстуру, после чего она снова засыпала.
Однажды утром Мэйсон проснулась и увидела, что комнату заливает яркий солнечный свет, а на стуле возле кровати сидит женщина и штопает чулок. Мэйсон попыталась приподняться, но оказалась слишком слаба и снова упала в изнеможении на подушки. Наконец она нашла в себе силы спросить:
– Что произошло? Где я?
– Она проснулась! Она выздоровела! – воскликнул кто-то. Затем послышался топот множества ног – вся семья собралась вокруг ее постели: родители, два мальчика, маленькая девочка и беззубая старушка. Они все говорили разом, суетились, бурно радовались ее возвращению к жизни.
Женщина, что штопала чулок, сказала:
– Доктор Дюбуа говорил, что в воде вас что-то ударило по голове. Он утверждал, что вы только чудом не утонули.
– Где я?
– В Рюэй-ла-Гадельер.
Мэйсон с усилием пыталась вспомнить, с чем у нее связывается это название. Здесь творил Ренуар. Но этого просто не могло быть! Рюэй-ла-Гадельер был в пятидесяти километрах от Парижа вниз по течению Сены.
– Сколько времени я уже здесь?
– С тех пор, как Бог привел вас к нам, прошло четыре недели.
– Четыре недели!
Мэйсон попыталась сесть, но голова у нее закружилась, и она опустилась на подушки. Добрая мать семейства пришла к ней на выручку, подложила подушки ей под спину и поправила покрывало, познакомила Мэйсон с членами семьи.
Семейство Каррье занималось фермерством. Жили они на самом берегу. Наутро после бури они заметили Мэйсон, плывущую на бревне вниз по течению. Увидели и спасли. Люди эти были простыми и бедными, и Мэйсон казалось, что они словно сошли с холста Милле.[2] Пьер Каррье уверил ее, что они были счастливы позаботиться о ней и ничего не просят взамен.
– А та, другая женщина…
Крестьяне озадаченно переглянулись, и отец сказал от имени всех:
– С вами другой женщины не было.
Мэйсон охватила глубокая грусть. Она так хотела помочь той несчастной безымянной женщине на мосту. Мадам Каррье увидела слезы в глазах Мэйсон и осторожно промокнула их платком.
– Ладно, будет вам убиваться. Вы очень болели. Вам нельзя волноваться. Оставайтесь с нами, и мы позаботимся о вас до той поры, пока вы снова не станете собой.
Давясь слезами, Мэйсон лишь смогла кивнуть в ответ. Говорить она не могла. Мадам Каррье дала ей еще лекарство, и вскоре Мэйсон снова уснула.
Через три дня Мэйсон проснулась с чувством, что силы возвращаются к ней. Она уже могла вставать с постели и несколько минут стоять. С каждым днем она покидала постель на все более длительное время, и, наконец, настал тот день, когда Мэйсон смогла выйти на прогулку по окрестностям.
Каррье оказались удивительными людьми. Они относились к Мэйсон как к члену семьи и ничем не давали ей понять, что хотят, чтобы она поскорее их покинула. По мере того как силы к ней возвращались, Мэйсон все острее чувствовала, что привязалась к этим людям, что жизнь под их покровительством нравится ей больше, чем та жизнь, что она вела в Париже.
Мэйсон жила в идиллии. Благодарность судьбе и этому скромному семейству за избавление от смерти заслоняла собой всякие мелочи, такие, как мысли о провале ее художественных амбиций. Никогда еще воздух не казался ей таким ароматным и вкусным, никогда небо не казалось ей таким синим. Мэйсон наслаждалась каждым мгновением жизни, отложив мысли о том, как быть дальше, на будущее. Никаких обязательств в Париже она ни перед кем не имела, а Лизетта знала, что Мэйсон могла уехать в деревушку на реке Уазе, куда она часто выбиралась на этюды. Итак, пока Мэйсон было довольно того что она жива и здорова.
Но однажды Мэйсон решила, что пора ей прогуляться в деревню. К тому времени прошло семь недель с той памятной дождливой парижской ночи. Мэйсон сильно похудела. Она едва походила на себя прежнюю, но при этом она чувствовала себя вполне свежей, полной энергии и здоровой.
На столике в местном уличном кафе она заметила газету, и первое, что ей бросилось в глаза – ее собственное имя, вынесенное в заголовок одной из статей. Мэйсон схватила газету и жадно принялась читать ее.
В статье говорилось о том, что покойная американская художница Мэйсон Колдуэлл, чье тело прибито к берету в ближайшем пригороде Парижа восьмого февраля, посмертно стала знаменитой. Парижские газеты наперебой расписывали ее самоубийство. Если верить репортерам, она бросилась с моста в романтическом отчаянии в духе мадам Бовари. Мало того: теперь торговцы картинами буквально распихивали друг друга локтями, пытаясь добиться права продать ее картины!
Потрясенная прочитанным, Мэйсон побрела назад, на ферму Каррье. Там, не объясняя своих мотивов, она объявила своим благодетелям, что должна немедленно возвращаться в Париж. Не задавая лишних вопросов, они дали ей пять франков на дорогу, и Мэйсон отправилась в Париж исправлять ужасную ошибку.
Возвращаясь на речном пароходе в столицу, Мэйсон раз за разом проигрывала в уме возможное развитие событий. Женщина, что встретилась ей на мосту той ночью, та самая, которую Мэйсон безуспешно пыталась спасти, утонула, и ее тело, найденное спустя неделю после трагедии, было принято за ее, Мэйсон, тело. Мэйсон пыталась вспомнить лицо той женщины, она видела ее лишь мельком в тот момент, когда ветер откинул капюшон незнакомки. Кем она была? Должно быть, у той женщины есть семья, с которой Мэйсон предстоит связаться, чтобы сообщить печальную весть. Вот уже два месяца, как они, верно, не могут найти себе места от беспокойства. Конечно, та весть, что принесет им Мэйсон, станет для них ударом, но знание, каким бы печальным оно ни было, все же лучше неопределенности.
К тому времени, как вдали показалась почти достроенная Эйфелева башня, было уже довольно поздно. Пароход проплывал мимо ярмарочных площадей, и в сгущающихся сумерках Мэйсон заметила силуэты павильонов, построенных за время ее отсутствия, и подивилась размаху строительства. Глядя на город, который успела полюбить настолько, что считала его родным, Мэйсон с трудом узнавала Париж. Это был совсем не тот город, что она покинула. Это был Париж, в котором больше не было места для Мэйсон Колдуэлл.
Она и понятия не имела, как приступить к выполнению задачи, которая вдруг показалась ей непреодолимо сложной. Мэйсон чувствовала себя неприкаянной и растерянной. В ней не было и доли той решимости, которая нужна для начала трудного дела. Внезапно на нее навалилась усталость. Идти в полицию сейчас она не хотела и не могла. Но и бродить одной по улицам города ей тоже совсем не хотелось. Она должна была пойти, пойти немедленно к кому-то, кто был бы рад ее приходу. Ей нужно было, чтобы кто-то радостно принял ее возвращение из мертвых и сказал «добро пожаловать».
Ей нужна была Лизетта.
В детстве Мэйсон была одинокой и замкнутой, и до Лизетты у нее не было близких подруг. С Лизеттой они повстречались вскоре после того, как Мэйсон прибыла в Париж. Как это часто бывает с судьбоносными встречами, произошла она случайно.
В то воскресное утро Мэйсон, захватив купленные накануне инструменты для творчества: этюдник, палитру, краски, холст и кисти, отправилась на Ла-Гран-Жатт, остров на Сене, излюбленное место отдыха парижских буржуа. Мэйсон поставила этюдник, нахлобучила соломенную шляпу и взяла в руки кисть. После чего огляделась в поисках подходящей натуры. Женщины в воскресных нарядах неспешно прогуливались или сидели на траве под деревьями с корзинками для пикника. Мужчины в котелках или шляпах-дерби отдыхали в тени, наблюдая за проплывающими по реке яхтами. Дети резвились на траве или бегали по колено в воде, радостно визжа. Типичные мотивы для импрессионистов. Мэйсон хотелось чего-то иного, но она еще не знала, чего именно.
И тут она увидела Лизетту. Женщина-ребенок с буйными золотыми кудряшками, которые, казалось, спорили своим радостным сиянием с летним солнцем. Ее окружали собаки, штук пять, не меньше, разных пород и размеров. Все эти псы возбужденно дышали в ожидании, пока хозяйка бросит им маленький мяч, который та держала в руке. Лизетта была босиком. Она звонко рассмеялась, когда два пуделя прыгнули в озеро. Задрав юбки, Лизетта побежала следом за ними к воде, подхватила их под мышки – сразу обоих – и звонко чмокнула каждого в нос, совершенно не замечая того, что собаки намочили ее симпатичное желтое платье. Мэйсон любовалась безыскусной, очевидно, врожденной грацией девушки. Блондинку отличала удивительная непосредственность, двигалась она на редкость легко и красиво, отлично владела гибким телом и при этом явно не думала о том, как выглядит со стороны.
В тот момент Мэйсон еще не успела выработать то свое, только ей присущее художественное видение, которое приобрела позднее. Но заметив эту беззаботную юную женщину, Мэйсон сразу поняла, что нашла нечто особенное. Античная богиня, воплощение женской красоты в облике современницы, новый типаж женщины, полный света, и цвета, и чувственной грации.
Мэйсон, преодолев смущение, подошла к девушке, представилась на ломаном французском и попросила рассказать о себе. Лизетта рассказала, что работает в цирке: исполняет акробатические номера на трапеции. Когда Мэйсон спросила у гимнастки, не хочет ли она поработать натурщицей, француженка брезгливо наморщила нос, но потом вдруг передумала и, пожав плечами, ответила:
– Почему нет?
Такова история первого портрета Лизетты кисти Мэйсон Колдуэлл.
Мэйсон была так довольна полученным результатом, что несколько недель спустя после многократных попыток достичь чего-то путного, рисуя гипсовых кошек и вазы с апельсинами, решила отыскать свою не слишком охотно позирующую модель в «Фоли-Бержер», цирке, в котором в то время Лизетта давала регулярные представления. На этот раз Лизетта ответила Мэйсон отказом. Но несколько дней спустя Лизетта появилась на пороге квартирки Мэйсон, которую та снимала на Монмартре, и сказала довольно надменно:
– Сегодня мне нечего делать, так что вы можете меня рисовать.
Мэйсон заработала вдохновенно, споро, легко. Теперь она ясно видела, что нашла свою тему, ту тему, которую искала. Нашла и ту модель, которая точно вписывается в образ, который она пыталась создать, в ту идею, что она пыталась сформулировать. Мэйсон все еще не могла объяснить себе, какое место в этом грандиозном замысле займет Лизетта, но она еще никогда не испытывала такого прилива творческих сил, как тогда, когда живописала Лизетту.
Лизетта со своей стороны держалась с молодой американкой настороженно, близко к себе не подпускала. Впрочем, французы обычно так и ведут себя с иностранцами. Она иногда соглашалась позировать для Мэйсон, но всегда требовала оплаты за свой труд и никогда с художницей не откровенничала, ограничивая свое участие в творческом процессе лишь физическим присутствием. И вот однажды, когда Мэйсон отправилась за покупками на овощной рынок в Шатле-Ле-Аль и уже собиралась расплачиваться с продавцом, за спиной у нее раздался знакомый голос:
– Что вы делаете? Вы знаете, что этот мужчина берет с вас втрое дороже, чем взял бы с француза за эту жалкую головку латука?
Мэйсон и слова не успела сказать, как Лизетта набросилась на продавца, оглушив его возмущенной тирадой, выхватила из руки Мэйсон несколько монет и, сунув деньги продавцу, забрала латук.
– За вами нужен глаз да глаз, – презрительно констатировала Лизетта.
С этого момента их отношения перешли в следующую стадию. То была еще не дружба, но и не то безразличие, с которым Лизетта относилась к американке раньше. Несколько раз она забегала к Мэйсон без предупреждения и выводила ее за покупками – будь то продукты или одежда, а однажды Лизетта взяла Мэйсон под руку и, приведя к консьержке дома, где Мэйсон снимала квартиру, безапелляционно заявила, что Мэйсон больше не намерена платить такую громадную ренту за «эту жалкую лачугу». В другой раз Лизетта принесла Мэйсон билет в цирк Фернандо, где выступала в тот вечер. Мэйсон была потрясена легкостью, проворством и головокружительной храбростью Лизетты, творившей чудеса на своем опасном снаряде. Мэйсон искренне восхищалась своей парижской знакомой и не скупилась на добрые слова, но настоящей дружбы Лизетта так ей и не предложила. Мэйсон решила, что ей не суждено дождаться глобального потепления в их отношениях. Лизетта, похоже, людей предпочитала держать на расстоянии, а всю нерастраченную нежность дарила собакам.
Однако спустя несколько месяцев после посещения цирка Мэйсон решила зайти к Лизетте на бульвар Клиши, чтобы одолжить у нее вазу, которую она в свое время отдала Лизетте в оплату за позирование. Ваза нужна была Мэйсон для натюрморта. Оказалось, что Лизетта уехала из города с цирком на длительные гастроли по всей Франции и Италии. Мэйсон решила спросить у консьержки, не может ли та пропустить ее в квартиру Лизетты, но оказалось, что пожилая консьержка, с которой Лизетта была дружна, умерла неделю назад. Здание унаследовал ее сын, бездельник и негодяй, чьи ухаживания Лизетта под разными предлогами раз за разом отклоняла. Решив отомстить несговорчивой жиличке, тот как раз собирался отправить собак, которых Лизетта на время своего отсутствия доверила заботам пожилой консьержки, на живодерню.
– Вы не можете так поступить! – в ужасе воскликнула Мэйсон.
– Еще как могу. Она не оплатила жилье вперед.
– Я заплачу, – сказала Мэйсон.
– Слишком поздно. Я уже сдал ее комнаты кое-кому поприличнее, так что эти собаки скоро окажутся в мясорубке.
Мэйсон успела вызволить собак в самый последний момент.
Месяц спустя, в конце летнего турне, Лизетта появилась у двери Мэйсон в совершенно подавленном состоянии, со слезами на глазах. Она только что вернулась со своей прежней квартиры, где хозяин злорадно сообщил о том, что ее любимые псы давным-давно сдохли. Едва не выцарапав негодяю глаза, Лизетта отправилась к Мэйсон.
– Это чудовище отправило моих деток на казнь.
Мэйсон уже собиралась успокоить ее, как из-за двери послышался радостный лай. Лизетта разом ожила. Она проскользнула мимо Мэйсон в комнату, упала на колени, и все семь собак бросились к ней, стали прыгать возле нее, лизать ее в лицо, и Лизетта визжала от восторга. Она целовала собачьи морды, рыдала, не сдерживая слез, но даже в своем смятении она успела заметить, что все псы чистенькие и у каждого на шее красуется красная ленточка.
Лизетта медленно поднялась с колен и растерянно сказала:
– Вы… Вы спасли их!
– Едва успела. Этот сукин сын действительно отправил их на живодерню.
– Но вы ведь даже не любите собак.
Мэйсон улыбнулась:
– Я не знала, что люблю их. У меня никогда не было собак. Но этих ребят я очень полюбила.
– Но… Вы держали их у себя целый месяц. Выгуливали их, купали… Все это время и все хлопоты… Что заставило вас так поступить?
– Я просто не могла дать им умереть, – сказала Мэйсон. – Они – это часть вас.
Лизетта смотрела на нее несколько долгих мгновений. Затем наклонилась, взяла с пола щенка пекинеса и протянула его Мэйсон.
– Вот, это тебе, – сказала она, впервые обратившись к Мэйсон на ты.
Это «ты» тронуло Мэйсон, но еще более трогательным был сам подарок. Лизетта готова была отдать ей самое дорогое. Но Мэйсон покачала головой:
– Я не могу принять месье Фу. Он твой малыш. Позволь мне лишь навещать его время от времени.
Лизетта прижала щенка к груди. Она ни разу более и словом не обмолвилась о том, что произошло. Но с этого момента она стала Мэйсон самым преданным, самым верным другом. Мэйсон знала: что бы с ней ни произошло, Лизетта всегда придет ей на помощь как любящая сестра.
Так что вполне естественно, что в той неординарной ситуации, в которой оказалась Мэйсон, она поспешила к Лизетте, зная, что та, должно быть, страдает, получив весть о ее, Мэйсон, «кончине».
Последние из одолженных ей пяти франков Мэйсон потратила на то, чтобы на омнибусе приехать в цирк Фернандо, расположенный у подножия Монмартра. Лизетта должна была скоро закончить работу и повести домой собак.
Не желая устраивать сцен в помещении цирка, Мэйсон решила подождать подругу на улице. Очень скоро она увидела Лизетту, ведущую на поводках своих собак. Мэйсон знала, куда пойдет Лизетта, и потому просто стояла и ждала, пока та не поравняется с ней. Но собаки узнали Мэйсон раньше Лизетты, радостно залаяли и потащили Лизетту к ней. Лизетта готова была отругать своих любимцев, когда увидела, что вызвало в них столь бурную реакцию. Карие глаза француженки сначала изумленно округлились, в них даже мелькнул испуг, но испуг почти мгновенно сменился радостью.
Стараясь не проявлять своей радости слишком бурно, Лизетта прошептала:
– Я ведь не сплю?
– Если ты спишь, то и я тоже, – с улыбкой ответила Мэйсон.
– Но я видела тебя! Они заставили меня смотреть на твое бедное распухшее тело!
– То была не я. То была женщина, которую я пыталась спасти.
Лизетта схватила Мэйсон в объятия и принялась покрывать поцелуями ее лицо. Мэйсон была счастлива. Ее возвращению в этот мир были рады.
– Я могла бы догадаться, что ты никогда бы не стала бросаться с моста. Но я подумала, что там, в морге, лежала ты. Она была так на тебя похожа – тот же цвет волос, тот же рост… Я пришла в отчаяние. Как… Почему?..
Мэйсон отстранилась.
– Я все тебе расскажу, обещаю. Но вначале ты расскажешь мне, что происходит. Я прочла в газете, что…
– А! Эти газеты! Все из-за меня. Я чувствовала себя такой несчастной… Мне было очень горько оттого, что ты умерла в нищете, несчастной, непризнанной. Я всего лишь хотела, чтобы общество загладило свою вину перед тобой. Поэтому я обошла редакции газет, те, где меня знали по моей работе в цирке, и рассказала твою печальную историю. Мне хотелось, чтобы ты хотя бы после смерти получила то признание, которое заслужила.
– Признание… – Она, Мэйсон, и признание. Все это было странно, как во сне.
– Да, – страстно повторила Лизетта, – теперь они полюбили твои работы! И ты можешь в это поверить? Я уже продала целых три холста!
– Ты продала мои работы?
– Ты даже представить не можешь, какой на них спрос! Я продала каждую по пять сотен франков!
Мэйсон захотелось себя ущипнуть. Пятьсот франков!
– Галереи соперничают друг с другом за право выставить твои работы. Я передала оставшиеся работы Фальконе, потому что он предложил лучшие условия. Он выкупил три работы – те, что я продала, и надеется показать их послезавтра.
– У меня будет персональная выставка? – Сама мысль об этом казалась фантастической. – Но все это внимание… Это потому, что они считают меня мертвой, верно?
Лизетта пожала плечами.
– Полагаю, да. История твоей жизни и смерти завладела умами. Ты же знаешь, как мы, французы, любим романтические трагедии.
– Но сохранится ли интерес в том случае, если они узнают, что я жива?
– Мы ведь скоро сами все увидим, верно? Но Мэйсон уже кое-что придумала.
– Что, если мы не станем испытывать судьбу? Что, если я, так сказать, еще на какое-то время останусь мертвой? Пока выставка не закончится. Может, люди увидят мои работы и решат, что они имеют ценность сами по себе, а не в связи с «романтической трагедией». И тогда я смогу восстать из мертвых. Я надолго застряла в деревне и понятия не имела о том, что происходит в Париже. Я вполне могла бы обнаружить ошибку после показа, а не до него.
– Но ты не дала мне закончить. Фальконе не может показать работы.
– Как это понимать? Ты же сказала, что передала работы ему.
– Теперь в дело вмешалась полиция. И полиция запретила показ. Ты не оставила завещания, и поэтому теперь непонятно, кому эти работы принадлежат. Пока суд не решит этот вопрос, Фальконе не может открыть выставку. Он из-за этого с ума сходит.
Мэйсон потребовалась всего минута, чтобы обдумать новую информацию, и шаловливая улыбка заиграла на ее губах.
– Что, если бы у меня была сестра? Она, единственная из моих родственников, смогла бы унаследовать работы. Что, если бы ты внезапно получила письмо от этой сестры, о существовании которой ты не знала, в котором бы говорилось о том, что она прочла о смерти своей бедняжки сестры в газетах и сейчас плывет во Францию на корабле и вот-вот прибудет в страну, чтобы вступить в наследство? Что, если бы ты отправила телеграмму на корабль и получила от нее разрешение на показ?
– Но у тебя нет сестры.
– Сейчас есть.
Лизетта сразу оценила красоту придумки и улыбнулась.
– Чудовищный обман, верно?
– Грандиозный.
– Но нам с тобой все нипочем?
– Я не думаю, что на земле найдется сила, способная нас остановить, а ты?
Лизетта захлопала в ладоши.
– Вот повеселимся!
Рано утром следующего дня Лизетта отправилась к Фальконе и рассказала ему то, о чем они с Мэйсон условились. Вне себя от радости, владелец галереи достал из ящика стола пачку приглашений, которые еще не попали в огонь, и спешно стал раздавать сотрудникам указания по подготовке мероприятия. Все разом забегали как угорелые.
– Мы открываемся через два дня, – заявил он.
– Видела бы ты его, – рассказывала Лизетта своей подруге, когда они, забравшись с ногами на кровать в кокетливой спаленке Лизетты, изобилующей мягкими игрушками и живыми собаками, обдумывали дальнейший план действий. – Он был так рад известию, что готов был плясать от счастья. Он сам настоял на том, чтобы поселить сестру Колдуэлл в принадлежащий ему лично номер люкс Жокейского клуба на улице Писцов. Это один из лучших гостиничных номеров в городе, знаешь ли. И я тоже не растерялась. Воспользовалась случаем и вынудила его подписать гарантийное письмо, в котором он обязуется покрыть все расходы, связанные с пребыванием в Париже твоей сестры. Ну-ка взгляни! Аккредитив! Вот откуда мы возьмем деньги на то, чтобы тебя приодеть! Я уже договорилась с мадам Тенсаль, так что она сегодня же принесет отобранные наряды.
– Как здорово! – возбужденно воскликнула Мэйсон. – Мы оденем сестрицу с головы до пят, купим ей вещи, которые я в жизни не носила. Создадим для нее совершенно новый образ.
– Шелка, перья и все такое, – вторила ей Лизетта. – Красивые модные наряды, совсем не похожие на те простые платья, что носила ты. Поиграем в переодевания.
Теперь надо было решить, каким образом провернуть перевоплощение.
– Я могу сделать челку, – предложила Мэйсон, глядя на себя в зеркало. – Но это только начало. Мы можем перекрасить мне волосы. Как это делается?
Лизетта обиженно надула губки.
– Ты у меня спрашиваешь? Мне откуда знать? У меня свой природный цвет.
Мэйсон с шутливым недоумением приподняла брови, и Лизетта рассмеялась.
– Ладно, – созналась она – Я знаю место, где можно купить кое-что для этого. Мы сделаем твои волосы темными, идет? Как у цыганки.
– Пора начинать, – сказала Мэйсон и, взяв со стола маникюрные ножницы, отрезала себе ресницы на одном глазу до половины. Чик – и готово.
– Твои чудные ресницы! – воскликнула Лизетта. – Ты их убила!
– Отрастут, – заверила подругу Мэйсон, повторяя ту же операцию с другим глазом. – Я как-то подрезала их, когда была маленькой, и они снова отросли. Они даже стали длиннее, чем были. Но теперь я могу быть уверена, что меня не узнают.
– Это верно, – насмешливо протянула Лизетта. – Никому и в голову не придет, что ты могла бы совершить такую глупость.
Они с энтузиазмом принялись воплощать в жизнь свой план. Как Сара Бернар, когда готовилась к выступлению в «Комеди Франсез». То, что Мэйсон здорово похудела, тоже оказалось кстати. Инициалы они позаимствовали из первого и среднего имени Мэйсон – Мэйсон Эмили превратилась в Эми. Как только новые наряды были закуплены, они упаковали их в сундуки и отправили в Жокейский клуб. Затем, когда Мэйсон была уже при полном параде, они заказали экипаж и отправились в квартал Оперы, будто бы мисс Эми Колдуэлл из Бостона, Массачусетс, только что сошла с поезда, прибывшего из Гавра.
По дороге они большей частью хихикали. То, что они сделали, можно было назвать возмутительным, но, в конце концов, эта шалость долго не продлится. Как только показ закончится успехом, Мэйсон Колдуэлл воскреснет и ее сестра Эми незаметно исчезнет – исчезнет навсегда.
Глава 3
Поскольку показ должен был вот-вот начаться, Мэйсон предстояло принять весьма важное решение. Фальконе уже отворил двери, и народ потек в здание. Прекратить продажу картин в этот момент означало не только поставить в неудобное положение всех, кто имел к этому отношение: этот шаг мог бы рассматриваться как вызов общественному мнению, особенно в свете того, что Фальконе уже один раз вынужденно отменил показ после публичного заявления о том, что показ непременно состоится. И все же… Что, если Гаррет в итоге окажется прав? Мэйсон оставалось лишь действовать наугад. Остановить продажу, как он предлагал, означало совершить нечто отчаянно смелое, и ей это импонировало. С другой стороны, отложив торги, она делала ставку на популярность своих работ, которую никто не мог гарантировать. Как быть?
– Вы действительно уверены в том, что эти работы будут пользоваться таким высоким спросом? – пристально глядя на Гаррета, спросила Мэйсон.
– Уверен, – без колебаний ответил он.
Мэйсон бросила взгляд на человека, который пропускал публику в зал.
– Фальконе хватит удар.
Гаррет приподнял бровь. Лукавый огонек в его глазах можно было счесть за вызов. Он уже улыбался в предвкушении шоу.
– Вы хотите, чтобы я это сделал за вас?
Что-то в его глазах пленяло ее, взывало к ней, говорило ей, что она могла бы… Что? Довериться ему? В этот момент она приняла решение.
– Спасибо. Я сама это сделаю.
Она повернулась на каблуках, подошла к Фальконе и объявила:
– Я отменяю торги.
– Отменяете торги? – От ужаса Фальконе выкатил глаза.
– Только до того момента, пока мы не сможем определить истинную ценность работ. Сейчас к ним проявляется такой интерес, что я просто не знаю, как мне быть.
– Но это невозможно, мадемуазель! Как вы видите…
– Я знаю. Однако дайте себе труд подумать: если мы подождем, а интерес к работам будет продолжать расти, ваша комиссия может оказаться втрое, если не вчетверо больше, чем вы получили бы сегодня.
Фальконе задумался.
– Это беспрецедентный поступок… Но эти работы принадлежат вам, так что… – Он небрежно пожал плечами. – Так что, полагаю, я должен действовать в соответствии с вашими пожеланиями. – Фальконе понизил голос до шепота и одобрительно покачал головой: – Узнаю в вас американку. Вы ведь все отличные бизнесмены, не так ли?
Фальконе щелчком сдвинул каблуки и потер руки.
– Дамы и господа, – сказал он, обращаясь к публике. – Добро пожаловать на показ картин. Однако на настоящий момент они не продаются.
Заявление владельца галереи было встречено ревом протеста.
– Не продаются! Я простоял в очереди три часа!
– Но это возмутительно!
– Как это так? Картины не продаются?!
В этот момент вперед выступил гангстер Даргело:
– Можете делать, что хотите со всеми остальными картинами, но три штуки я приобрел. Вот ваши деньги.
Телохранители молча обступили Даргело, давая понять, что торг в данном случае неуместен.
Лизетта бросилась к Даргело и схватилась за картины, пытаясь вытащить их у него из рук.
– Ты, тупица! Они не для тебя!
– Но, конфетка моя, кто еще имеет право владеть ими, как не тот, кто любит тебя всем сердцем?
В толпе послышались возгласы:
– Выходит, вы потакаете разбойникам, а порядочным горожанам даете от ворот поворот?!
– Вы закрываете дверь перед общественностью, чтобы позволить спекулянтам сколачивать деньги на мертвой женщине?
Эти слова подействовали на толпу, словно искра на бикфордов шнур. Началась цепная реакция. Люди, расталкивая друг друга, продирались к стенам, чтобы сорвать ближайшую работу, и выстраивались в очередь за гангстером с бумажниками в руках.
Несколько мгновений Фальконе глотал ртом воздух, набираясь храбрости, и наконец, перекрикивая толпу, обратился к Даргело:
– Месье Даргело, спешу напомнить вам, что вы находитесь на улице Лаффит, а не у себя в Бельвиле. Если вы немедленно не положите сюда эти картины, я вызову полицию.
– Полиция?
Это слово подхватили другие, и оно эхом прокатилось по толпе.
– Мои слова относятся ко всем здесь присутствующим, – заявил Фальконе.
Но вместо того чтобы утихомирить разбушевавшуюся толпу, его угрозы имели эффект прямо противоположный. Те, кто уже попал внутрь, громко выражали свое возмущение, а среди тех, кто еще находился снаружи, началась настоящая паника. В страхе, что двери сейчас закроют на засов, все разом бросились к входу, расталкивая друг друга. Через пару мгновений в помещение набилось столько публики, что стало трудно дышать. Те, кому не повезло попасть внутрь, отчаянно напирали, давя друг друга.
Фальконе безуспешно взывал к порядку. Мэйсон обвела взглядом творившееся вокруг сумасшествие. Но ни страха, ни даже волнения она не испытывала. На лице ее играла довольная улыбка: «Они дерутся из-за моих картин!»
Раздался резкий полицейский свисток. Очевидно, кто-то из служащих Фальконе успел сбегать за подмогой. Но появление полиции только усилило хаос.
«С каждой минутой все лучше и лучше!»
Мэйсон крутила головой по сторонам, наслаждаясь зрелищем. Она с трудом удерживалась от того, чтобы громко не расхохотаться. Даже в самых смелых мечтах она и представить не могла, что ее картины вызовут такой ажиотаж.
Но тут она заметила некоторое движение. Толпа расступалась, образуя живой коридор, ведущий от стены, на которой висел ее автопортрет. Мэйсон ничего не понимала. И тогда она увидела Ричарда Гаррета. Он шел по направлению к ней. Глаза его сверкали решимостью.
«Что он делает?»
Когда он приблизился, Мэйсон увидела, что именно он делает. Каждого, кто оказывался у него на пути, он бесцеремонно брал за предплечье и отодвигал в сторону, освобождая для себя проход. Его действия были мало сказать решительными, они были агрессивными, но при этом он умудрялся оставаться в рамках хорошего тона, сопровождая каждый свой толчок локтем подобием вежливой улыбки и словами: «Извините. Спасибо. Чудная шляпка, мадам. Мы немного передвинем вас туда, хорошо?»
И вот, наконец, он раздвинул по сторонам всех тех, кто стоял между ним и Мэйсон, подхватил Мэйсон под руку и сквозь строй провел ее к парадной двери. Там, за дверью, маячила желанная свобода и вожделенная безопасность. В больших выразительных глазах Гаррета читалась легкая ирония и приятное изумление:
– Обычно я не так бесцеремонен при первом знакомстве, но вы, надеюсь, меня простите.
Еще до того, как Мэйсон нашлась с ответом, полиция рванула в здание, расталкивая собравшихся и отчаянно свистя. Толпа людей заколыхалась, образуя волну, грозно заревела, как штормовое море, едва не сбив Гаррета с ног. Тот успел прижать к себе Мэйсон до того, как людской поток разделил бы их с Гарретом, увлекая за собой.
Мэйсон ничего не оставалось, как обнять его за шею обеими руками. И тут он поднял ее, закружил, расталкивая стоящих рядом людей, и, воспользовавшись освободившимся для маневра пространством, поспешил скрыться, унося Мэйсон в своих объятиях.
Она ухватилась за него изо всех сил. Ее толкали чужие плечи, но, прижимаясь к мускулистой груди Гаррета, Мэйсон мысленно сравнивала Ричарда со средневековой крепостью, способной выдержать и не такую осаду.
И надежды Мэйсон оправдались. Вскоре они уже были далеко от толпы, от галереи, от всей этой суеты.
Когда Гаррет опустил ее на землю, Мэйсон покачнулась. После всего случившегося она чувствовала легкое головокружение и сильное возбуждение. Ничего подобного с ней до сих пор не приключалось. Достаточно необычно было уже то, что она выдавала себя за другую. Потом вся эта шумиха вокруг ее картин. И наконец, ее, Мэйсон, оценил и понял этот необыкновенный мужчина! И, словно рыцарь из сказки, спас, вынес на руках с поля битвы. Неужели все это происходило с ней? Мэйсон Колдуэлл с трудом верила, что не спит.
Гаррет и Мэйсон дошли до перекрестка улицы Лаффит с бульваром Осман, и все то время, пока они шагали рядом, Мэйсон смотрела на своего спасителя с нескрываемым восхищением. Но тут ей пришло в голову, что она слишком откровенна в проявлении своих чувств к нему. Один его взгляд, и он сразу прочтет все по ее глазам. Поэтому она опустила подрезанные ресницы и стала думать о том, что бы такое сказать ему, чтобы он не узнал, как у нее все поет внутри.
Гаррет сам пришел ей на помощь.
Ухмыльнувшись, он сказал:
– Кажется, мы устроили маленький переполох.
Мэйсон улыбнулась. Эта чисто английская манера никогда не делать из мухи слона, а скорее превращать слонов в мух ей очень импонировала.
– Надеюсь, я поступила правильно, – с улыбкой сказала Мэйсон.
Гаррет одобрительно скользнул по ней взглядом.
– Что я могу сделать, чтобы убедить вас в вашей правоте?
В глазах его вспыхнул интерес совершенно явного толка. От этого огонька у нее по спине побежали мурашки. Мэйсон проглотила вязкую слюну и сказала:
– Вы ведь понимаете, мистер Гаррет, я не слишком разбираюсь в деловых вопросах, особенно по части искусства. – Не совсем честное заявление, но, по сути, правдивое.
– Меня зовут Ричард. И по стечению обстоятельств я кое-что в этих делах смыслю. Я сочту за счастье стать вашим учителем. Если, конечно, вы мне разрешите.
И вновь он окинул ее таким взглядом, который обещал много-много приятного. Очевидно, он разыгрывал прелюдию. Прелюдию к чему? Хотелось бы знать. Любопытно, с какой именно стороны она ему интересна: как деловой партнер, как женщина или как то и другое?
– Моим учителем? – повторила Мэйсон с явным удовольствием. – Как это мило с вашей стороны. Я уверена, что вы меня многому могли бы научить. – При взгляде на могучий разворот плеч по телу ее пробежал холодок приятного предвкушения. – По части искусства, – добавила она, мысленно одернув себя.
– Замечательно. Тогда мы прямо отсюда и начнем. Идет? – Гаррет остановился перед витриной, в которой была выставлена картина в помпезной раме. – Это галерея Онфрей, одна из самых преуспевающих в Париже. – Скажите мне, что вы здесь видите?
Мэйсон заставила себя переключить внимание со своего собеседника на картины в витрине. Что могла бы сказать Эми Колдуэлл, ничего не понимающая в искусстве, об этих картинах?
– Ну, они не очень живописны, не правда ли? Все больше серого и грязно-коричневого. И все эти полотна, похоже, запечатлели некие исторические события… мифологические сцены… и самодовольных коммерсантов, отчаянно стремящихся к тому, чтобы производить впечатление солидных, успешных людей…
– Именно. Вот что они называют академическим искусством. Вот это и показывается каждый год в Салоне – на выставке картин, спонсируемой правительством. Вот это превозносится критиками и покупается богатыми меценатами. Давайте пойдем дальше, хорошо?
Они прошли примерно полквартала вниз по бульвару Осман, пока не оказались перед хорошо известной Мэйсон галереей Дюран-Рюэля.[3] В витрине были выставлены полные жизни, лучащиеся картины Моне, Дега, Писсарро.
– Но двадцать лет назад, – сообщил ей Гаррет, – произошла революция в живописи.
– Импрессионизм.
– Да, и эта галерея одна из немногих, которая выставляет работы импрессионистов. Что вы о них думаете?
– Они – как глоток свежего воздуха! Гаррет одарил Мэйсон довольной улыбкой:
– Как только появились новые яркие пигменты в тюбиках и поезда, в которых стало возможным вывозить эти краски на природу, художники более не чувствовали себя привязанными к студии. На пленэре они обнаружили, что способны поймать ускользающий свет и цвет натуры, добиваясь реалистичности и красоты изображения, которые раньше им были недоступны.
Мэйсон еще ни разу не слышала, чтобы не художник говорил о живописи с таким энтузиазмом.
– Вам нравятся импрессионисты?
– Я люблю все в их картинах. Цвет, красоту, поэтизацию простой каждодневной жизни. Импрессионизм покорил меня, и я верю, что его предназначение в том, чтобы покорить весь мир. Для наших потомков импрессионисты станут тем, чем стали для нас мастера итальянского Возрождения. Но с сожалением должен констатировать, что я выражаю мнение меньшинства. И хотя с тех пор как импрессионизм встряхнул весь художественный мир Парижа, прошло более двадцати лет, это направление так и не стало классикой жанра.
– Как мне кажется, работы Мэйсон не много имеют общего с теми, что выставлены в этой витрине.
– Вы правы. Новое поколение авангардных художников впитало в себя импрессионизм с его чувственным восприятием и пошло дальше. Начались эксперименты с психологическими аспектами цвета. Они исследовали символизм, присущий самой природе. Критики называют этих художников неоимпрессионистами. Их работы еще более недооценены, чем труд импрессионистов. Вы можете увидеть эти работы лишь в каморках при некоторых кафе Монмартра.
– Значит, Мэйсон была неоимпрессионисткой?
– Технически – да. Однако это понятие едва ли способно вместить в себя все многообразие того, чем поражают ее работы и к чему она могла бы прийти. Ее влияние на искусство могло бы быть совершенно ошеломляющим.
– Влияние на искусство?
– Она могла бы стать тем, в чем эпоха импрессионизма всегда нуждалась, но чего никогда не имела.
– О чем это вы?
– О личности вселенского масштаба. Видите ли, возможно, импрессионизм так и не завладел массами, как того заслуживал, именно потому, что в недрах этого направления так и не возник художник, который обладал бы энергетикой Микеланджело или Леонардо. Но что-то в жизни Мэйсон вызвало неожиданно бурный отклик в душах людей. И этот отклик возник на уровне очень глубоком, очень личностном. Возможно, ваша сестра станет именно той фигурой, которую так ждали импрессионисты.
Мэйсон едва устояла на ногах от такого откровения:
– Вы это серьезно?
– Абсолютно серьезно.
Это был уже перебор. Его слова, его вера в ее талант, в ее призвание проникли в кровь, дурманили, словно любовное зелье. Внезапно все это – то, что случилось в галерее, похвала Гаррета и понимание, его видение потенциала Мэйсон – все это разом свалилось на нее и выкристаллизовалось в одно переполняющее ее чувство, в желание такой силы, что Мэйсон даже испугалась за себя. Ничего даже отдаленно близкого к тому, что ощущала она сейчас, Мэйсон еще никогда не испытывала.
«Я хочу этого мужчину… Я хочу его сейчас!»
Мэйсон подняла глаза и увидела, как губы Гаррета изогнулись в понимающей усмешке. Словно он читал ее мысли и точно знал, о чем она сейчас думала.
Мэйсон почувствовала, что краснеет, и отвела глаза. Она не могла противостоять тому воздействию, что он на нее оказывал. Она не могла сопротивляться той силе, что влекла ее к этому бесстыдно красивому мужчине, умному, остроумному, с голосом, звуки которого ассоциировались у нее с тающим во рту шоколадом. Его животный магнетизм действовал на Мэйсон просто убийственно. Желание к нему стало таким сильным, что Мэйсон с трудом могла дышать.
– Но скажите мне, – спросил Гаррет, – каковы ваши планы?
– Планы? – Мэйсон не вполне поняла, о чем он ее спрашивает.
– Планы на будущее, – пояснил Гаррет. – Фальконе задержит торг на какое-то время, поднимет цены раза в три и, вне всяких сомнений, мгновенно распродаст все холсты. А вам достанется полный саквояж франков. Что потом?
– Я не знаю. Наверное, вернусь в Америку.
«И Мэйсон чудесным образом вернется к жизни».
– Жаль. Я надеялся, что вы тут задержитесь на некоторое время.
В голосе его появились хрипловатые нотки весьма интимного свойства. Что это: ей чудится, или Гаррет в самом деле смотрит на нее так, как охотник смотрит на дичь в прицел своего ружья?
– С чего бы вдруг? – Мэйсон не собиралась его дразнить, но из-за недостатка воздуха в легких вопрос прозвучал двусмысленно.
– Сдается мне, у нас много общего. Мне бы хотелось… продолжить наше знакомство.
Тон его был вполне непринужденный и все же… непререкаемый. Как ему это удается? Никаких просящих интонаций – вежливое изъявление воли, которой нельзя не подчиниться.
– Продолжить?
«О Господи, неужели я это сказала? Звучит, словно из уст прелестницы с площади Пигаль».
– Надеюсь, у вас нет возражений? Потому что, по правде сказать, я обнаружил себя во власти весьма необычной потребности.
– Какой потребности? – сдавленно переспросила Мэйсон.
Темные глаза буквально пробуравили ее до самого нутра.
– Потребности во что бы то ни стало удержать вас в Париже.
– Во что бы то ни стало? – «Господи, что я делаю?» Она знала, куда это все ведет, но не могла остановиться.
Гаррет наклонился к ней так, что их губы почти соприкоснулись, и твердым голосом повторил:
– Во что бы то ни стало.
Глава 4
Гаррет вскинул руку, и в тот же момент золоченая карета, запряженная пятеркой белых коней, остановилась прямо перед ними. На двери кареты красовались надпись «Лё-Гранд-Отель». Очевидно, экипаж ждал его у галереи и потом следовал их с Мэйсон маршрутом. Гаррет раскрыл кошелек и протянул вознице хрустящую банкноту достоинством в сто франков.
– Поезжай вперед и не останавливайся даже под угрозой смерти, пока я тебе не велю. Понял? – приказал он.
– Конечно, месье.
Гаррет открыл дверь и протянул руку Мэйсон. Она на мгновение заколебалась, но лишь на мгновение. Не в ее силах было остановить океанский прилив. Она заглянула в глаза Гаррету и увидела в них огонь страсти. Он не столько приглашал ее войти в экипаж, сколько приказывал. Глаза его буравили ее, а рот, с этими полными губами, изогнутыми в грубовато-чувственной, грешной и даже какой-то хищной усмешке, притягивал ее взгляд. Мэйсон чувствовала, как в нее проникает излучаемая им энергия. Энергия мужественности, перенасыщенная сексуальностью, которая не знает извинений и не просит дозволений. В пристальном взгляде Гаррета, в его исключительной нацеленности на нее было нечто гипнотизирующее. Мэйсон была во власти стихии… или колдуна, который умел приворожить женщину, сделать ее послушным орудием своих желаний. Но Мэйсон было все равно. Потому что она входила в эту пещеру колдуна по доброй воле, потому что все, чего ей хотелось сейчас, – это испытать на себе его чары, отведать того зелья, которое Гаррет для нее приготовил.
Мэйсон оперлась на протянутую ей руку. Прикосновение Гаррета растопило последний лед нерешительности. Он помог ей подняться в карету, необыкновенно просторную, обитую изнутри изумрудно-зеленым бархатом, с мягкими удобными сиденьями. Дерево было покрашено в белый цвет с позолотой в стиле Людовика XV, а дверные ручки выглядели так, словно были изготовлены из чистого золота.
Ричард опустил шторы на всех окнах, скрыв их от любопытных глаз.
В этом роскошном экипаже с комфортом могла бы разместиться семья из восьми человек, но не о роскоши, окружавшей ее, думала Мэйсон, она неотрывно следила за Ричардом, любуясь четкостью и гибкостью его движений. Он напоминал ей пантеру… и еще умудренного битвами гладиатора. В тот момент, когда экипаж тронулся, он обернулся к ней, и его слегка качнуло.
Увидев, как Мэйсон раскинулась на подушках, Гаррет замер, изучая ее взглядом, словно раздевая.
Голова у Мэйсон шла кругом от этого взгляда! Если Гаррет сейчас же не прикоснется к ней, она превратится в пламя.
В два шага он преодолел разделявшее их расстояние и взял ее за плечи. Мэйсон, едва дыша, упала ему на грудь. И тут же оказалась в его объятиях. Прижав Мэйсон к себе, Гаррет наклонил голову и завладел ее ртом. Он прижимал ее к себе так тесно, что она чувствовала его всего. Карета набирала скорость, и их сильно качало. Голова у Мэйсон кружилась так, что она едва сознавала, что происходит. Ладони Ричарда блуждали по ее телу, по всем ее чувствительным впадинкам и округлостям, по груди, по спине, вниз и, наконец, сжали ягодицы. Желание жаркими волнами прокатывалось по телу, Мэйсон уже не принадлежала себе, а Гаррет, колдун, продолжал поить ее сладким ядом, жадно целуя ее.
«О да! – едва не выдохнула она вслух. – Именно этого я и хотела».
Без предупреждения Ричард увлек ее за собой. Мэйсон оказалась у него на коленях, лицом к нему, раскинув ноги. Продолжая ее целовать, он приподнял ее, усадив так, чтобы она в полной мере смогла ощутить всю мощь его эрекции. Рот ее по-прежнему оставался в плену его рта.
Слишком скоро Ричард прервал поцелуй. Одной рукой прижимая Мэйсон к себе, другой он стал торопливо расстегивать лиф ее платья. Он действовал уверенно, как мужчина, привыкший быстро справляться с такого рода препятствиями. Он отодвинул в сторону ткань, обнажив ее грудь. Затем сгреб в кулак ее волосы и, откинув голову Мэйсон назад, взял в рот сосок.
Объятая наслаждением такой силы, что оно было на грани боли, Мэйсон уже сама, без побуждения со стороны с силой откинула голову, ударившись, и застонала в забытьи. Она чувствовала, что Гаррет качает ее все сильнее, все быстрее, от трения наслаждение взмывало вверх, набирая обороты, и кровь в груди бешено пульсировала под горячей влагой его рта. В том, как он удерживал ее, было нечто от насилия: он требовал, она беспрекословно подчинялась его воле. Но эта полная зависимость была особенно возбуждающей. Желание раскручивалось, словно до упора сжатая пружина. Все рассудочное куда-то пропало. Мэйсон пребывала в экстазе, на который и близко не рассчитывала. В том, кто был здесь главным, не возникало и тени сомнения. Мэйсон была словно перышко во власти ветра.
То была сладкая мука. Мэйсон больше не могла выносить этой пытки – пытки лаской. А между тем Ричард, раздвигая ее колени, побуждал Мэйсон еще сильнее открыться ему навстречу. Дыхание ее превратилось в серию мелких судорожных всхлипов, тело было целиком послушно его рукам, умным рукам кукловода. Или колдуна? Ничего в жизни не хотелось ей так, как сейчас же, сию секунду ощутить его в себе, сжаться вокруг него. Она была на волоске от того, чтобы взорваться от малейшего прикосновения.
Мэйсон подтянулась и сжала голову Ричарда в ладонях.
– Не заставляй меня ждать. Я не могу.
Он усмехнулся понимающе, но не смилостивился ни на йоту. Он знал о производимом им эффекте. И он наслаждался им. Он наслаждался тем, что сотворил с ней, любовался ею. Волосы ее растрепались под кокетливой шляпкой, шпильки выскочили, глаза затуманила отчаянная страсть; грудь ее, влажная и набухшая, была открыта его беспощадному взгляду.
Прищурившись, Ричард снял шляпку с ее головы и отбросил в сторону. Затем он просунул руки ей под мышки, лаская грудь, и, приподняв, резко оттолкнул так, что Мэйсон отлетела на кушетку напротив. Мэйсон вскрикнула от неожиданности и упала на подушки, словно тряпичная кукла.
Ричард поднялся, заполонив собой все свободное пространство кареты, ему даже пришлось немного наклонить голову, чтобы не удариться о потолок. Он приблизился к ней с неторопливой осторожностью хищника. Наклонившись, скользнул ладонями под ее юбки и медленно заскользил вверх, по икрам, коленям, по нежной коже внутренней стороны бедер, приподнимая пышные розовые шелка. Мэйсон мелко и часто дышала. Затем Ричард взялся за пояс ее панталон и одним резким движением спустил их. Быстро избавив Мэйсон от нижнего белья, он небрежно швырнул панталоны туда же, куда и шляпку.
Мэйсон инстинктивно попыталась сдвинуть ноги, но Ричард встал между ее бедер и неторопливо принялся расстегивать брюки.
Мэйсон смотрела на него как завороженная.
– Раздвинь ноги, – произнес Ричард своим особенным голосом, прокатывая гласные, словно пробуя на вкус каждый слог.
Мэйсон сделала то, что он велел, но не слишком поспешно, заставляя его ждать. Он пожирал ее глазами, и она поймала себя на том, что вот так бесстыдно, словно шлюха из Пале-Рояль, открывая ему свое лоно, испытывает особое удовольствие. Мэйсон заметила одобрительный блеск в глазах Ричарда, и ей захотелось большего. Она подтянула ноги, не сдвигая их, так что каблучки ее сапог вдавились в мягкие подушки сиденья, и положила руку туда, куда был устремлен его жадный взгляд.
Она удивилась, насколько там было влажно и скользко. Она игриво расправила складки, открывая взгляду Ричарда то, что было скрыто под ними. Глаза его жадно блестели, туманились от желания, и Мэйсон чувствовала себя испорченной и очень красивой.
Он набросился на нее, надавив на бедра так, что они раскрылись еще сильнее, теперь вместо ее руки там была бархатистая головка его эрегированного члена, которая терлась о ее клитор. Мэйсон была готова взорваться. Обвив Ричарда ногами, она закричала, моля о пощаде.
Так давно у нее этого не было.
Но нет, такого с ней не было никогда.
Ричард продолжал надавливать ладонями на ее бедра, удерживая их широко раскрытыми. Однако он вошел в нее медленно, очень медленно, проходя за один толчок не больше дюйма, чтобы Мэйсон могла прочувствовать его всего, каждое отдельное движение. Он входил в нее, в ее тугое тепло, мучительно медленно, но он не дразнил ее, нет. Он без слов говорил: я там, где должен быть. И он хотел, чтобы и она это знала.
Еще никто не брал Мэйсон так, словно заявлял права на все ее существо, не только на тело. Ей казалось, что весь мир замер в предвкушении экстаза. Весь мир – не одна она.
Испытывая потребность за что-то держаться, Мэйсон закинула руки за голову и схватила руками спинку сиденья. Она вытянулась перед Ричардом, приподняла бедра ему навстречу, пытаясь овладеть ситуацией. Ускорить его проникновение.
Но он разгадал ее уловку. И, словно желая наглядно доказать ей, кто здесь командует, вышел из нее почти целиком, так, что лишь головка члена ласкала ее вход. Затем одним резким толчком он вошел в нее целиком. Мэйсон закричала от восторга, и в тот же миг он накрыл ладонью ее рот. И потом он раз за разом входил в нее мощными толчками, наполняя собой так, что от непереносимого наслаждения Мэйсон едва не сходила с ума.
Ричард наклонился к ней, жарко дыша в ухо:
– Давай кричи. Ты же хочешь кричать, верно? Когда в последний раз мужчина заставлял тебя кричать?
Мэйсон сдалась и закричала в его ладонь. Там, снаружи, Париж жил своей обычной дневной жизнью. По улицам прогуливались дамы с зонтиками, дети и щенки резвились в парках, но здесь, в этом уютном мирке, в этом подобии рая, Мэйсон кричала, кричала потому, что этот мужчина, этот невероятный мужчина сводил ее с ума.
Она вошла в пике, сжавшись вокруг него, втягивая его в себя глубже, еще глубже, и дрожь наслаждения прокатилась по ней. Волна восторга окатила ее, качнула, подобно океанскому прибою разбилась мириадами брызг. Она не помнила, чтобы ей когда-то было так хорошо: так светло, радостно и так хотелось жить.
Мэйсон поняла, что лежит на кушетке и Ричард все еще находится в ней, мощный и крепкий, как и прежде. Он ни на миг не останавливался, входя в нее раз за разом, и Мэйсон словно тонула в водовороте, увлекавшем ее на дно, все ниже и ниже, пока… пока оргазм не настиг ее с новой силой. На этот раз Ричард ловил ее крики губами, упивался ими – наглядным свидетельством той эйфории, того восторга и экстаза, что она познала в его объятиях.
– Что ты делаешь со мной? – шепотом произнес он.
– Что ты делаешь со мной? – эхом отозвалась она.
«Я хотела бы его нарисовать, – вдруг мелькнуло у нее в голове. – Я бы хотела доверить холсту то, что он заставил меня испытать».
Словно разгадав ее мысли, Ричард взял в свои широкие ладони лицо Мэйсон и крепко ее поцеловал.
Больше они не говорили, обмениваясь лишь стонами и вздохами. Мэйсон открыла глаза и увидела, что Ричард смотрит на нее с изумлением, словно и сам не ожидал того, что произошло. Пережитое потрясение пробрало его до самого основания. Глаза их встретились, и искра чего-то настоящего, честного проскочила между ними. И от того сокровенного, что увидела она в его глазах, дух ее воспарил, ликуя.
И в этот момент истины все показное, все тщеславное вмиг исчезло. Мэйсон, настоящая, без прикрас, лежала под ним и смотрела в его глаза. Ей казалось, что они не в глаза друг другу смотрят, но в души, и души их, потянувшись друг к другу, вот-вот сольются в одну, такие же обнаженные, как их тела.
Они лежали в обнимку, купаясь в теплых откатных волнах пережитого восторга, и никому из них не хотелось, чтобы это волшебство закончилось. Сердце Мэйсон билось так, как никогда не билось раньше. Она была охвачена чувством, природу которого понимала не вполне.
Однако рано или поздно это должно было закончиться. Медленно и болезненно реальность проникала в их рай. Постепенно стало ощущаться покачивание кареты, потом вернулось зрение, и Мэйсон увидела, как блестят на теле Ричарда бисеринки пота.
Тишина вдруг показалась такой плотной, что воспринималась как новый, ранее неслышимый звук. Все кончилось раньше, чем ей того хотелось. Ричард встал, подобрал с пола одежду и, взглянув на Мэйсон с участием, спросил:
– Где вы остановились?
Ей показалось, что он спросил об этом потому, что не нашел что сказать. Мэйсон не сразу поняла, о чем он. Ей пришлось взять себя в руки, чтобы окончательно вернуться в реальность. И снова ей пришлось вспомнить ту роль, что она играла.
– В Жокейском клубе на улице Писцов, – с трудом выговорила она, словно не говорила целый год и забыла, как это делается.
Ричард вскинул бровь.
– Жокейский клуб? А разве это не частный отель? Мэйсон села, расправила измятую юбку.
– Один из номеров принадлежит Фальконе. Он предложил мне пожить там, пока я в Париже.
– Тогда мы соседи. Мой отель как раз через улицу. Взгляды их встретились, и Мэйсон тихо вздохнула.
– Да, я знаю, – сказала она и добавила: – Я видела название вашего отеля на дверце экипажа.
– Ричард постучал в потолок, поднял штору и крикнул кучеру, куда ехать.
Затем с трогательной заботливостью он занялся приведением в порядок ее наряда, глуповато и ласково улыбаясь при этом. Он даже попытался водрузить на место ее шляпку, наблюдая за тем, как Мэйсон неуклюже натягивает панталоны – карету здорово качало.
Когда экипаж остановился, Ричард сказал:
– Мы ведь встретимся завтра? Чтобы продолжить… ваше образование.
Мэйсон радостно улыбнулась. Перспектива казалась более чем заманчивой.
Ричард насмешливо нахмурился:
– Я имею в виду искусство. Я мог бы показать вам Монмартр. Мы могли бы отправиться в тот мир, где жила Мэйсон.
– Я бы предпочла совершать эту прогулку не пешком, а в этом замечательном экипаже.
Ричард засмеялся густым, раскатистым смехом, который неизменно оказывал на нее все тот же потрясающий эффект.
– У меня утром есть кое-какие дела, но я отдам распоряжение, чтобы вас забрали из вашей гостиницы и привезли туда, где я буду вас ждать. Как насчет часа дня?
Мэйсон кивнула все с той же глуповатой улыбкой. Ричард наклонился, поцеловал ее в лоб, затем открыл дверцу кареты и, выйдя, помог ей сойти на землю.
– Значит, завтра в час?
Мэйсон смотрела вслед удалявшемуся экипажу, словно он явился сюда из другой эпохи. Карета, что доставила Золушку на бал, должно быть, выглядела так же. Мэйсон обхватила себя руками, не желая расставаться со все еще жившими в ней ощущениями. Все произошло в горячке страсти. Они оба заразились этой болезнью.
Мэйсон приехала в Париж, чтобы жить жизнью здешней богемы, чтобы впитать в себя этот мир, а потом выплеснуть его на холст в красках. Но жизнь ее во многих смыслах оказалась грубой подделкой. Потому что Мэйсон так ни разу и не испытала той страсти, которую искала и надеялась найти. Ни одно из ее предыдущих увлечений не оставляло ощущения подлинности.
Но это – это было настоящим. Мэйсон совсем не знала Ричарда Гаррета, не знала ничего о нем. Но то, что она чувствовала в его присутствии, оказалось более значительным, более исполненным смысла и более глубоким, чем все то, что она знала до него.
Ей уже страшно хотелось увидеть его вновь. Однако эта прогулка по миру Мэйсон… все очень усложняла.
Потому что она не была той, за которую Ричард ее принимал.
И она уже начала жалеть о том, что он не знает правды.
Глава 5
Гаррет рывком сел в кровати. Сердце его бешено билось, по лбу стекал пот. В комнате было очень темно и так тихо, что он слышал звуки своего сбивчивого дыхания. Что происходит?
Ночной кошмар.
Он быстро зажег настольную лампу и потянулся за книгой с цветными репродукциями, которую постоянно держал на тумбочке. Он открыл ее на странице с репродукцией натюрморта Шардена: серебряный кубок, чаша и ложка, на столе фрукты. Гаррет заставил себя погрузиться в созерцание умиротворяющей картины, и действительно немного успокоился.
Эти ночные кошмары были его проклятием. С детства они приходили к нему раз в неделю, иногда реже. Детали могли меняться, но, по сути, кошмар был один и тот же. Гаррет чувствовал себя заключенным в темноте, душной черноте, тесной и жуткой. Скрыться было некуда, и из этой непроглядной тьмы веяло ужасом. Этот невидимый ужас утягивал его за собой в темноту. И вдруг в отдалении загорался голубой свет – такой яркий, такой чистый. Он знал – там выход из мрачной темницы. Но, как ни старался дотянуться до него, свет становился все слабее, и, когда он уже выбивался из сил в потугах выбраться из мрака, свет исчезал совсем. Черный ужас накрывал его. И тогда Гаррет просыпался.
Но страх не уходил. Пока Гаррет не включал свет и не находил что-то красивое – репродукцию картины или скульптуры, на которой мог бы отдохнуть взгляд. Чтобы успокоиться и вернуться к реальности.
Ричард откинул простыню, спустил ноги на пол и нагой встал с постели. Подойдя к умывальнику, он взял кувшин с водой и, высоко подняв его, полил себе на голову. Прохладная вода прогнала остатки кошмара, слегка охладила пылающий лоб. Гаррет намочил плечи и грудь, пригладил ладонью намокшие волосы. Затем он вернулся к кровати, лег, раскинув руки, и попытался расслабиться.
Постепенно он начал приходить в себя. Итак, он в Париже. В «Лё-Гранд-Отеле». В номере люкс. И позади у него весьма необычный день. И это случилось с ним как раз тогда, когда он решил, что ничего выдающегося жизнь для него не готовит.
Его попросили прийти взглянуть на картины Колдуэлл и понаблюдать за тем, что будет происходить на показе. Честно говоря, он не надеялся увидеть ничего особенного, но его ждал сюрприз.
Гаррет все еще не составил определенного впечатления обо всем этом. Но сейчас, лежа в постели и вспоминая события прошедшего дня, он все больше утверждался в мысли о том, что вчерашнее событие открывает перед ним громадные возможности.
Потом он подумал о женщине и ощутил некоторое шевеление в области причинного места. Мэйсон тоже стала для него сюрпризом. Боже Всемогущий! Он всего лишь хотел немного пофлиртовать с ней. Но ситуация вышла из-под контроля и вылилась в нечто такое, чего еще не было в его жизни. Самый запоминающийся, так сказать, плотский, опыт. Она разбудила в нем зверя, затронула в нем такие чувства, которым он не мог подобрать определения. Она бросала ему нешуточный вызов. С ней надо быть поосторожнее.
Может, он поступил неразумно? Пожалуй, да. Так почему же он так поступил? Очевидно, потому что она сказала, что уезжает, и он не захотел упускать ее. Как бы там ни было, в его руках оказалось сокровище, доставшееся ему даром. Но так не бывает. Гаррет еще раз напомнил себе о том, что с Мэйсон следует быть осторожнее.
«Ну вот, я сделал то, что сделал. И что же дальше? Надо принять решение по нескольким вопросам сразу».
Гаррет лежал, закинув руки за голову, неспешно обдумывая то, чему свидетелем стал днем. Но о серьезных вещах как-то не думалось, мешали эротические воспоминания о безумной прогулке в карете, и Гаррет сдался.
И вдруг у него возникла идея. Идея весьма амбициозная. Дерзкая до скандальности. Такая дерзкая, такая возмутительная, что он поначалу не воспринял ее всерьез. Но она не отпускала. Воплощение замысла потребует от него терпения, расчетливого планирования каждой мелочи, потребует напряжения всех сил – профессиональных и душевных. Но если только у него получится… Если только…
Гаррет встал и накинул халат. Он испытывал удовлетворение сродни удовлетворению художника, озаренного вдохновением.
Гаррет прошел к двери, ведущей из спальни в гостиную, настежь распахнул ее. Сквозь щель, оставшуюся между задернутыми гардинами, в комнату струился серебристый свет. Этот неяркий свет разгонял мрак, позволял видеть контуры обстановки гостиной, отличающейся изысканным вкусом. Гаррет раздвинул портьеры, и комнату залило золотистое сияние. Напротив отеля располагался освещенный фасад «Оперы». Его люкс был на одном уровне с золочеными ангелами, украшавшими купол «Опера-Гарнье», и широкое окно от пола до потолка создавало ощущение, словно ангелы витают прямо у него перед глазами.
Гаррет постоял у окна, любуясь ангелами, которые словно специально слетелись к нему этой ночью. Затем он подошел к буфету, налил себе бренди и, пододвинув стул к окну, сел и стал смотреть на ангелов.
Всю оставшуюся ночь он провел возле этого окна, медленно потягивая бренди. В уме у него понемногу начал складываться восхитительный план.
Мэйсон проснулась на следующее утро с ощущением счастья и в гармонии с миром. Чувство было настолько необычным, что она в первый момент даже не поняла, откуда оно взялось. Это шоу с картинами… Этот переполох… Суета вокруг картин… и он, Ричард Гаррет.
Она потянулась, мечтательно улыбаясь, вся в приятной неге. Закутавшись в пуховое одеяло, Мэйсон позволила себе еще немного поваляться и порадоваться тому подарку, что неожиданно преподнесла ей судьба.
Эта нега, эта роскошь, что окружала ее в номере, способствовала приятной расслабленности. Люкс Фальконе располагался на двух уровнях: удобная гостиная и спальня в мезонине, как раз над гостиной. Полосатая, цвета клюквы и спелой сливы, обивка стен создавала прекрасный фон для мебели глубокого каштанового и серо-зеленого цветов. Стены украшали портреты прославленных скакунов – призеров скачек.
Но для Мэйсон самым необычным аспектом стремительной перемены участи явилось то, что судьба поместила ее как раз напротив «Лё-Гранд-Отеля» и живущего в нем Ричарда Гаррета. Словно по заказу.
Она услышала, как внизу повернулся ключ в замке, и села в кровати. Затем раздался голос Лизетты:
– Спасибо, мой дружок. Молодой мужской голос ответил:
– Что вы, мадемуазель Лизетта, для меня счастье оказать вам услугу. Я столько раз наслаждался вашими выступлениями в цирке.
– Вы просто душка, – сказала Лизетта. – Это вам за беспокойство.
– О нет, мадемуазель! Я не могу ничего от вас принять. Встреча с вами – это уже подарок.
– Я здесь, наверху! – крикнула Мэйсон, услышав, что закрылась дверь.
– Все еще в постели? – Через мгновение Лизетта была уже на середине крутой винтовой лестницы.
Она посмотрела на Мэйсон, лежавшую в кровати с закинутыми за голову руками и с довольной улыбкой на лице.
– Я лентяйка, – со вздохом заявила Мэйсон.
– Куда ты исчезла вчера? Я повсюду тебя искала, но так и не нашла. А потом мне пришлось пойти на работу.
Мэйсон снова с наслаждением потянулась:
– Меня похитил Аполлон.
– Какой именно?
– Ты меня разве с ним не видела? С высоким англичанином? Не представляю, как ты могла его не заметить. На его фоне любой другой мужчина похож на Тулуз-Лотрека.
Лизетта сдула прядь, упавшую на глаза.
– Я только Даргело и видела. Снова этот позор на мою голову. В общем, все, как всегда. – Лизетта села на кровать рядом с Мэйсон. – А теперь расскажи мне, что он собой представляет.
– Я уже говорила. Настоящее божество.
– Но как зовут твоего бога?
– Его зовут Ричард Гаррет.
– И кто такой этот Ричард Гаррет?
– Не знаю. Он имеет какое-то отношение к миру искусства. Но, Лизетта, ему нравятся мои картины. Он их понимает.
Лизетта перевернулась на живот и пристально посмотрела на подругу.
– Но я не думаю, что его любовь к твоим картинам – причина той улыбки, что не сходит с твоей физиономии, мой дружок.
– Нет! Он меня соблазнил! Мне было так хорошо!
– Соблазнил? – Лизетта подперла ладонями подбородок. – Расскажи мне!
Мэйсон села в кровати. Она была слишком возбуждена, чтобы продолжать валяться в постели.
– Ты помнишь, как это было тогда, когда я только приехала в Париж и хотела отведать жизни богемы? Ты помнишь этих самодовольных художников, с которыми ты меня знакомила? Так вот: с Ричардом ничего подобного не было. Ричард Гаррет ворвался в мою жизнь как рыцарь на белом коне и унес меня туда, куда я и не мечтала попасть. Короче, он наглядно продемонстрировал мне то, чего я так долго была лишена. И вот это действительно странно. В ту ночь в реке, когда я думала, что вот-вот утону… я вдруг представила себе мужчину, которого никогда не знала. Было так, словно я его звала, словно заклинала его появиться. И вот он явился ко мне как по заказу. Материализовался из воздуха. Словно судьба услышала меня и решила исполнить все мои желания разом. Слушай, ущипни меня, а то я подумаю, что мне все это снится. Лизетта рассмеялась.
– Он был так хорош, да?
– Не только в этом дело. Ну, он действительно был хорош. Не просто хорош, он – он потрясающий! Но тут есть еще кое-что. Он верит в меня! Слышала бы ты его отзывы о моих работах. Когда он говорит обо мне, я вижу себя его глазами. Я вижу себя такой, словно все, что было во мне плохого, исчезло. Он заставляет меня чувствовать, что все, что со мной произошло, случилось не просто так, что все со мной произошедшее сделало меня той, кем я сейчас являюсь. Может, мне в жизни встретился кто-то, достойный того, чтобы я его полюбила. Это такое великолепное чувство, Лизетта, что я сама не знаю, что с ним делать.
– Так ты влюбилась?!
– Влюбилась? – Мэйсон подумала и поняла, что Лизетта попала в точку. – Наверное, я и правда влюбилась.
– Дружок, я рада за тебя. Однако у тебя есть небольшая, но досадная проблема, знаешь ли.
– Какая проблема?
– Он принимает тебя за твою сестру. Мэйсон усмехнулась:
– Да уж, проблема есть.
– И как ты намерена с этим быть?
– Я собираюсь рассказать ему правду.
– И… Тебе не кажется, что это может создать другую проблему? В конце концов, ты его обманула.
– Он в таком восторге от моих картин… Он будет счастлив узнать о том, что я жива.
– Тебе виднее. Но будь осторожна, когда надумаешь сообщить ему эту восхитительную новость. Ты ведь не хочешь, чтобы он почувствовал себя дураком.
– Спасибо за совет. Сегодня днем мы собираемся на прогулку. Он хочет показать мне Монмартр, провести экскурсию по «миру Мэйсон». Если я не сообщу ему правду до этой прогулки, он и в самом деле окажется в дурацком положении, когда я обрушу на него правду. Поэтому я должна сказать ему правду прямо сейчас. – Мэйсон теребила простыню, лихорадочно размышляя: – Я знаю, как быть! Но ты должна мне помочь.
Лизетта села.
– О нет.
– Ты же знаешь мужчин. Вот что мы с тобой сделаем: мы пойдем завтракать. Мы отправимся в «Кафе де ла Пэ»…
– «Кафе де ла Пэ»! Да это самый дорогой ресторан в Париже!
– Я знаю. Но мы спишем все на Фальконе. Уж эту малость он может для нас сделать. У меня сегодня праздничное настроение. И, пока мы с тобой будем пировать, ты могла бы помочь мне найти нужные слова, чтобы сказать ему правду.
Но, когда подруги спустились в фойе, их праздничное настроение несколько поблекло. Лизетта схватила Мэйсон за руку при виде представительного седовласого мужчины, который только что вошел в вестибюль и оглядывался с таким видом, словно оказался здесь впервые.
– В чем дело? – шепотом спросила Мэйсон.
– Вон тот мужчина – инспектор Дюваль из Департамента безопасности. Этого хлыщ наводит страх на всю округу.
– Полицейский?
– Да, причем тот, кого лучше не пускать по своему следу.
И как раз в этот момент инспектор заметил девушек. Любезно улыбаясь, он подошел к ним.
Лизетта крепче вцепилась в руку Мэйсон.
– Чего он от нас хочет? – пробормотала она.
Однако ничего угрожающего в манерах сыщика не наблюдалось. С виду он был похож на доброго дедушку. Дюваль снял шляпу и слегка поклонился:
– Полагаю, имею честь обратиться к мадемуазель Эми Колдуэлл из Америки? – Инспектор говорил на английском. С акцентом, но бегло.
– Да – настороженно ответила Мэйсон.
– Я решил, что это вы, поскольку увидел вас в обществе подруги вашей покойной сестры. Позвольте представиться: Оноре Дюваль, сотрудник Префектуры полиции. Я пришел, чтобы от имени всех французов выразить вам соболезнование в связи с кончиной вашей сестры. Если вам понадобится моя помощь, я надеюсь, вы обратитесь ко мне.
Мэйсон кожей чувствовала исходящее от Лизетты напряжение, хотя та стояла у нее за спиной. Мэйсон улыбнулась и сказала:
– Благодарю вас, инспектор, но я не думаю, что в моем визите к вам возникнет необходимость. Друзья моей сестры оказались необыкновенно щедры и всячески помогают мне пережить этот трудный период.
Дюваль пристально посмотрел на Мэйсон, словно изучая. И только тогда Мэйсон заметила, какой острый у него взгляд – взгляд профессионала. Похоже, привык подозревать каждого, не упуская ни одной мельчайшей детали.
Несколько неловких мгновений Дюваль молчал. Лизетта еще сильнее надавила на руку Мэйсон, давая понять, что пора сматываться.
Но вдруг полицейский спросил:
– Вы не позволите мне задать вам один не слишком деликатный вопрос?
– Разумеется, – с застывшей улыбкой ответила Мэйсон. – Спрашивайте все, что хотите.
Взглядом он скользнул по кокетливому платью Мэйсон.
– В вашей стране не принято носить траур по усопшему члену семьи?
Об этом Мэйсон как-то не успела подумать заранее. Надо было срочно найти адекватный ответ.
– Вообще-то у нас в стране не так строго придерживаются традиций как здесь, в Европе. К тому же моя сестра терпеть не могла черное. Она считала черный цвет оскорблением всем прочим цветам радуги. Если вы внимательно посмотрите на ее картины, то увидите, что она не пользовалась черной краской. И ей бы не понравилось, если бы я носила платье того цвета, который она презирала.
Дюваль ничего не отвечал. Неловкость нарастала.
Наконец он спросил:
– Можно мне поделиться с вами личными ощущениями?
– Пожалуйста.
– Мадемуазель, за прошлый год мой отдел расследовал двести четырнадцать самоубийств, совершенных в Париже. И во всех случаях, за исключением четырех, самоубийцы оставляли предсмертные записки или произносили что-то напоследок для тех, кто мог их услышать. Мне кажется весьма странным то, что ваша сестра, которая всю свою жизнь посвятила самовыражению, покинула этот мир молча… Не оставила никаких распоряжений относительно картин, которые так любила. Все это мне кажется весьма противоестественным.
У Мэйсон на затылке зашевелились волосы. Собравшись с духом и призвав себя сохранять спокойствие, она сказала:
– Инспектор, я могу лишь согласиться с вами и сказать, что моя сестра была необычной во всем.
– Верно-верно. Художники живут в собственном мире. Надеюсь, я не слишком вас растревожил своими неуместными наблюдениями?
– Вовсе нет, инспектор. Я благодарна вам за интерес. Дюваль галантно поцеловал руку Мэйсон:
– Позвольте заверить вас, мадемуазель, что, если смерть вашей сестры окажется не тем, чем ее считают, я это выясню. И, если самоубийства не было, я заставлю того, кто пустил этот слух, ответить перед законом в полной мере. Обещаю, мадемуазель.
Глава 6
Мэйсон ехала в карете по бульвару Клиши. В любое другое время она бы наслаждалась роскошью обстановки, предаваясь приятным воспоминаниям о том, что происходило здесь вчера, но сейчас ей было не до этого. Она нервничала, не зная, как сообщить Гаррету правду. И встреча с полицейским еще более усиливала ее нервозность.
За завтраком Лизетта заявила:
– Дюваль что-то знает.
– Ничего он не знает, – запальчиво возразила Мэйсон. – Откуда ему знать?
– Он что-то подозревает, иначе не пришел бы.
– Эта записка. Почему я о ней не подумала? Что мне стоило что-нибудь нацарапать?
– Сыщик – специалист по таким делам. Мелкие детали – вот его конек. Мелочи, о которых обычным людям даже не приходит в голову подумать. Говорят, если он что-то откопает, то держит подозреваемого мертвой хваткой, как бульдог, и ни за что не отпустит.
Мэйсон потеряла аппетит.
– Я уже все поняла, Лизетта, – раздраженно сказала она.
Но Лизетта не унималась. Перегнувшись через стол, она заговорила трагическим шепотом:
– У нас во Франции самое суровое наказание за мошенничество во всей Европе. Джуно знает одного человека, которого Дюваль упрятал в тюрьму на целых десять лет всего лишь за то, что тот обналичил чек на вдовью пенсию матери после того, как она умерла. Всего один чек – и десять лет в тюрьме, представляешь?
Между тем карета остановилась на площади Клиши, возле ипподрома. Гаррет стоял на пороге дома напротив вместе с каким-то господином. Вывеска над входом сообщала, что в здании находилась риелторская контора. Заметив карету, Гаррет извинился перед своим собеседником и поспешил к Мэйсон.
Мэйсон глубоко вздохнула, еще раз прокрутила в голове заготовленную речь, и, когда Гаррет раскрыл перед ней дверь кареты и помог ей выйти, она с места в карьер заявила:
– Мне надо кое-что вам сообщить.
– Какое интересное совпадение. Я тоже имею вам кое-что сообщить. Павильон Мэйсон Колдуэлл. Как вам это нравится?
Гаррет застал ее врасплох.
– Что?
Он прямо дрожал от возбуждения.
– Павильон Мэйсон Колдуэлл на Всемирной выставке.
– Но ее работы были отклонены комитетом.
– Комитет передумает. И, даже если они не передумают, мы можем устроить такой павильон и без одобрения комитета. Представляете: павильон, в котором будут одни лишь картины Мэйсон Колдуэлл.
– Но… Это невозможно.
– Еще как возможно. Курбе сделал это на ярмарке 1855 года, а Мане повторил его опыт в 1867-м. Но наш павильон будет больше и солиднее. Я знаю многих людей в мире искусства, которые могут спонсировать эту акцию. Более того, они будут только счастливы содействовать такому благородному делу. Сегодня утром я уже закинул пару пробных шаров.
– Вы за этим отправились к риелтору? – недоверчиво поинтересовалась Мэйсон.
– Нет, сюда я приехал, чтобы приобрести то здание на Монмартре, где у Мэйсон была студия.
– Вы… купили этот дом? Но зачем?
– Потому что это священная территория. Там должен быть музей. Место, куда могли бы приходить люди, чтобы отдать должное гению художницы.
– Вы шутите!
– Нисколько. Все именно так и будет, если мы с вами предпримем необходимые шаги и станем работать вместе. Я всю ночь об этом думал. Эта мысль пришла ко мне внезапно, меня словно громом поразило, и ничто и никогда меня так не заводило.
– Но… павильон, музей в ее доме… вам не кажется, что это слишком?
– Я уже говорил вам, что ваша сестра – особенная, уникальная.
– Но в Париже много талантливых художников.
– Вы все еще не понимаете, Эми. Дело не только в ее искусстве. Дело в ее жизни. Пойдемте, я попытаюсь вам все объяснить.
Ричард взял ее под руку и повел по широкому бульвару в сторону ипподрома и улицы Коленкур.
– Ричард, я должна вам что-то сказать…
– Подождите. Дайте мне объяснить, пока все еще свежо в моей памяти. Мэйсон работала годами, не продав ни одной картины. Она жила в ужасающей нищете, она голодала, не получая ни одного слова одобрения, одни отказы. И все же она продолжала верить в себя, в свое видение. Ничто не могло заставить ее свернуть с единожды выбранного пути. Ей было наплевать на коммерческий успех, на то, что скажут критики. Она всегда находила в себе силы и средства, чтобы выражать себя в красках на холсте, вопреки всему, невзирая ни на что, день за днем, не прислушиваясь ни к чьему мнению. Она была воплощением честности, чистоты и увлеченности делом. Она действительно была Жанной д'Арк от искусства. Настоящая Жанна д'Арк.
Мэйсон внутренне съежилась. То, что он говорил, было далеко от правды. Она никогда не была настолько бедна. На нее временами нападала лень. Бог видит, насколько она была не уверена в себе. И ей отчаянно хотелось достичь коммерческого успеха и получить похвалу у критиков.
– Но то, что действительно сделало ее жизнь эпически цельной, – продолжал Гаррет, – это ее смерть. Самоубийство. Сердце разрывается при мысли о том, что столь талантливая, столь мужественная личность доходит до этого. И в то же время по законам героического эпоса эта смерть придает истории ее жизни мифическую власть и тот резонанс, который вызовет отклик в душах людей и через сто лет и более. Словно бессознательное «я», жившее в этой гениальной художнице, осознало, что миссия ее на земле исполнена, что сама ее жизнь стала произведением искусства, и самоубийство было необходимо, чтобы придать этому произведению горьковато-нежное, трогательное и грустное звучание.
У Мэйсон упало сердце. По его словам выходило, что самоубийство является неотъемлемой частью всей легенды, причем легенда сама по себе в существенной мере подогревала его интерес к картинам, его восхищение и любовь.
Гаррет вел ее по улице Коленкур.
– Я пытаюсь вам объяснить, Эми, что Мэйсон – новая личность в искусстве. Художник – это всегда изгой, идеалист, герой и мученик. Я верю, что, если мы донесем эту мысль до сознания масс, мы сумеем потрясти мир. Но это случится, только если мы – вы и я – это сделаем. Если мы будем подпитывать легенду. Если мы представим ее работы нужным критикам в нужном свете и с нужными комментариями. Более того, если мы сможем собрать ее работы и показать перед мировой общественностью, перед теми, кто со всего света съедется этим летом в Париж, тогда… мы дадим свершиться чуду. Чудо свершится!
«Господи, как я теперь ему все скажу?» Мэйсон подняла глаза и увидела перед собой ворота, ведущие на кладбище Монмартра. Что им с Ричардом тут делать? Он повел ее по неровной булыжной мостовой. По обеим сторонам возвышались мрачные памятники и склепы. Многие памятники почернели от сажи, кое-какие потрескались от старости и забвения. Дорога привела их к лестнице, и в это время солнце спряталось за тучу и подул ветер, обдав их холодом. Мэйсон поежилась от холода и страха – инфернальная энергетика этого места действовала на нее весьма заметно.
На нижней террасе Гаррет остановился наконец у простого квадратного камня, нового и чистого. Мэйсон в ужасе смотрела на эпитафию.
Покойся с миром,
Мэйсон Колдуэлл
1864–1889
– Это все, что могла позволить себе ее подруга-акробатка, – сказал Гаррет. – Но мне нравится то, что она сделала. Простота, на мой взгляд, гораздо больше подходит Мэйсон, чем все эти вычурные громадины.
Мэйсон словно в трансе уставилась на могильную плиту. Этого она никак не ожидала. Но, разумеется, они должны были где-то похоронить ту бедняжку с моста Альма.
Любой на месте Мэйсон испытал бы потрясение. Отчего-то при виде этой плиты то, что вначале казалось ей быстротечной шалостью, игрой, стало восприниматься как приговор, смертный приговор, окончательный и не подлежащий ни обжалованию, ни пересмотру. Ричард протянул ей руку.
– Вы со мной в этом деле, Эми? Станете моей партнершей? Вы поможете мне подарить Мэйсон бессмертие, которое она заслужила?
Мэйсон покидала кладбище в трансе. Она не приняла руку Ричарда и ничего не стала ему обещать. Онемев от шока, она лишь пробормотала что-то невразумительное, из чего следовало, что ей надо подумать над этим. Расставшись с Ричардом, Мэйсон пустилась бегом прочь с кладбища.
«Наверное, – думала она, – сейчас было самое время сорвать маску. И зря я этого не сделала. Струсила!»
Но как могла она рассказать Гаррету правду после такого откровения с его стороны? Он все равно ее бы не понял. Он упивался трагизмом смерти молодой художницы настолько, что, скажи она ему правду, он был бы возмущен, потрясен, убит совершенным ею подлогом. Правда лишила бы его того, что он считал самым главным в Мэйсон. Ее смерть представлялась ему благородной, эпической, мифической. Похоже, именно смерть художницы привлекала его в ней больше всего.
Теперь Мэйсон стало окончательно ясно, что, как только она расскажет ему правду, он уйдет от нее и никогда не простит.
И она потеряет то, о чем всегда так мечтала.
Но какова альтернатива? Протянуть Ричарду руку навстречу? Стать его партнершей? Остаться Эми Колдуэлл?
Это невозможно… просто невозможно.
Время шло. Мэйсон бродила по городу, пытаясь сделать выбор. Она знала, куда ее тянет, но сопротивлялась желанию. Но постепенно искушение пересилило волю, и она сдалась.
Мэйсон прошла по левобережью до Марсова поля. На территории будущей Всемирной выставки, огороженной канатами, трудились бригады рабочих. Скоро там вырастет целый город с дворцами, фонтанами, ресторанами и прочим. Уже заканчивалось строительство стеклянного купола, венчавшего Дворец машин и художеств, полным ходом шли работы по реконструкции камбоджийской деревни и египетского базара. Все страны мира привезут сюда все лучшее, все, чем они гордятся. Здесь будет все, чтобы удовлетворить самые взыскательные кулинарные, научные и художественные вкусы 32 миллионов гостей выставки… И именно здесь Ричард Гаррет собирался возвести храм, посвященный исключительно искусству Мэйсон Колдуэлл.
Только подумать, как бы прославились Колдуэллы! Какой щелчок по носу всем тем «добрым самаритянам», что заставляли их, Колдуэллов, ходить, уткнувшись взглядом в землю. Как могла она отказаться от такой перспективы? Она обязана была сказать Гаррету «да», хотя бы ради памяти покойной матери. Но хватит ли у нее мужества отказаться от собственного «я»? По своей воле похоронить себя, стать этой несуществующей сестрой и писать тайно, выдавая новые свои работы за откуда-то взявшиеся произведения покойной Мэйсон?
Но сколько это будет продолжаться? Наверняка не пару недель и даже не пару месяцев – она обрекает себя на целую жизнь во лжи!
И еще оставался вопрос с инспектором полиции, с Дювалем. Кто знает, о чем он догадывается? В чем ее подозревает? Если остановиться сейчас, если сделать так, что Эми исчезнет, а Мэйсон воскреснет, то у нее еще есть шанс выйти сухой из воды. Но если мистификация продолжится и если ее в итоге выведут на чистую воду, то… Что по этому поводу говорила Лизетта? Во Франции самые суровые законы против мошенничества в Европе. Десять лет тюрьмы как минимум. Позор. Унижение. Еще больше позора на голову Колдуэллам в Массачусетсе.
Нет, только не это.
Об этом не может быть и речи. Уже одно то, что она не против продолжить опасную игру, – симптом душевной болезни. Безумия! Для того чтобы вести такие игры, надо иметь стальные нервы. И актерский талант Сары Бернар. Но если она этого не сделает… Она потеряет эту чудесную возможность, она упустит шанс, подаренный судьбой, вымоленный у судьбы в ту ночь на мосту. Еще она упустит шанс удержать возле себя того единственного мужчину, который способен заполнить пустоту ее души.
Мэйсон… или Эми?
Немыслимый выбор.
Но… Что, если все же попробовать? Воспользоваться шансом, рискнуть и получить все и сразу. «Судьба бросает тебе вызов?» Ты же всегда хотела приключений. Уже сейчас она чувствовала радостное волнение.
Мэйсон обогнула здание, напоминавшее постройку раннего Средневековья, и вышла к башне. Она никогда не приближалась к этой башне так близко. Издали невозможно оценить весь грандиозный масштаб сооружения. Мэйсон задрала голову – башня словно парила над ней. Самое высокое сооружение в Европе. Пессимисты утверждали, что башня не выдержит напора ветра и свалится еще до того, как завершится ее строительство. Но вот она стоит. Стоит как символ того, что человек способен воплотить в жизнь самую смелую фантазию.
Завтра принц Уэльский торжественно откроет этот новый грандиозный монумент. Ему будет предоставлена честь первому подняться на лифте на вершину. Рядом с башней уже построили трибуну, откуда будут произноситься речи, и откуда королевская свита будет заходить в лифт.
Но это завтра, а сегодня башня принадлежала только ей и никому больше.
Сгущались сумерки. Мэйсон огляделась, дивясь хитроумному переплетению железных балок, изяществом и красотой металлических поперечин, и тут взгляд ее упал на лестницу, идущую зигзагом с северного основания башни как раз за трибуной, занимавшей весь первый уровень. Повинуясь первому побуждению, она подошла к основанию и обнаружила, что доступ к лестничной клетке свободен. С минуту она просто стояла и думала – решится ли?
Мэйсон ступила на лестницу и взглянула наверх. В темноте трудно было что-то разглядеть, но тем загадочнее и интереснее казалось приключение. Почему бы не подняться и не посмотреть?
Мэйсон начала подниматься по железной лестнице. Шаги ее отдавались гулким металлическим эхом. Подъем был довольно крут, но Мэйсон привыкла каждый день подниматься на холм Монмартра, и за пять лет ноги ее достаточно окрепли, чтобы не чувствовать усталости.
Без особых усилий она поднималась выше, еще выше, повторяя зигзаги лестницы. Наконец она оказалась на нижней смотровой площадке. Мэйсон поразилась тому, как высоко забралась. Неужели никому нет до нее дела? Неужели никто не спохватится и не поспешит за ней, преступившей запретную черту?
Она подошла к перилам. Под ней слева был купол Дома инвалидов, еще ниже расстилалось Марсово поле. Уже совсем стемнело, на небе начали зажигаться звезды. Мэйсон чувствовала себя напроказившей девчонкой, и нельзя сказать, чтобы это чувство было так уж ей неприятно. И тут она подумала: «А выше смогу?»
Мэйсон обвела взглядом площадку и увидела вход на лестницу, ведущую на следующий уровень. Эта лестница была винтовой и очень-очень крутой. Ощущая себя еще большей грешницей, Мэйсон начала подъем. Выше, еще выше. Теперь она уже тяжело, сбивчиво дышала, но при этом чувствовала странное удовлетворение. Она потеряла счет времени, когда, наконец, добралась до второго уровня. Мэйсон подошла к перилам и посмотрела вниз, но с этой, еще большей, высоты вид был более впечатляющим. Она никогда не видела ничего такого, от чего бы так захватывало дух. Фонарщики зажгли фонари, и ночной Париж предстал перед ней во всем своем великолепии.
И вдруг Мэйсон поняла, как любит этот город. Двадцать лет назад он еще лежал в руинах после Франко-прусской войны и всех тех потрясений, что за ней последовали. Но этот город восстал из пепла, чтобы вновь назваться столицей мира. И эта выставка должна была стать тому подтверждением, и эта башня являлась зрелищным символом возрождения Парижа. Глаза у Мэйсон защипало от накатившего чувства к этому городу, от гордости за него. Он словно зарядил ее своей энергией, и она чувствовала себя сильной, уверенной в себе и готовой ко всему.
«Почему бы не пройти до конца? Плевать на принца Уэльского. Кому, если не мне, суждено стать первой жительницей планеты, которая поднимется на эту башню?»
И вновь Мэйсон начала подъем. Лестница становилась круче и уже. Мэйсон шла на одной силе воли, подчиняясь ритму собственных шагов, звук которых гулко отдавался в ушах. Вверх, вверх, в самое небо. Икры болели, но Мэйсон было все равно. Холодный ветер продувал насквозь, но Мэйсон казалось, что он лишь поддерживает ее стремления. Ощущения были острыми и волнующими, почти сексуальными. Теперь, даже если бы она захотела остановиться, она бы не смогла себя заставить. Выше, выше, выше…
И вот лестница закончилась. Она была на вершине! 919 футов, 1665 ступеней покорились ей!
Мэйсон облокотилась о перила, пытаясь отдышаться. Воздух жег легкие. Вокруг было черным-черно, но городские огни ковром расстилались у ее ног. От восторга захватывало дух.
И верно, возможно все!
– Мадемуазель! – Мужской голос у нее за спиной здорово напугал Мэйсон. Она оглянулась и увидела бородатого мужчину с фонарем. Он появился из маленькой ниши бельведера. – Что, скажите на милость, вы тут делаете?
Преисполненная чувством собственного достоинства после совершенного восхождения, Мэйсон сказала:
– То же я могу спросить у вас.
– Меня зовут Гюстав Эйфель, и я построил ту башню, на которую вы незаконно забрались. Теперь я повторю вопрос. Кто вы такая?
Итак, кто же она? Время принять решение. Протянув ему руку, она сказала:
– Меня зовут Эми.
Глава 7
Прошла неделя с того памятного вечера, как Мэйсон совершила свой головокружительный подъем на верхнюю площадку Эйфелевой башни. Мэйсон и Ричард в просторном банкетном зале «Лё-Гранд-Отеля» принимали лысеющего полноватого мужчину лет пятидесяти в пенсне на мясистом красном носу.
Ужин состоял из пяти перемен блюд, прекрасных образчиков французской кухни. Их обслуживала целая армия официантов. И сейчас, сытые и довольные, они потягивали кофе с бренди.
В гостях они принимали Стюарта Катбера, парижского корреспондента «Лондон тайме», давнего знакомого Ричарда. Единственной темой разговора была Мэйсон Колдуэлл. Мэйсон, сделав свой выбор тогда, на верхней смотровой площадке только что построенной башни, бросилась в обман, как в омут – с головой. Стараясь не мучиться нравственными проблемами, Мэйсон сосредоточилась на приятных моментах жизни под чужим именем. Ей нравилась окружающая ее роскошь, вечерние дорогие наряды и то, с какой полнотой отдавался Ричард созданию культа трагически погибшей художницы.
За прошедшую неделю Мэйсон и Ричард встречались нечасто и лишь для того, чтобы обсудить планы дальнейших действий. Ричард был занят тем, что убеждал упрямых членов комитета выставки и прочих чиновников из муниципалитета разрешить персональную выставку доселе неизвестной американской художницы (да, она была не просто неизвестной, но при этом иностранкой и, что самое ужасное, женщиной) на территории выставки. За всей этой суетой ни на что личное просто не оставалось времени. И вот, наконец, Мэйсон представилась возможность побыть с ним рядом, когда он никуда не торопился и находился в состоянии приятной расслабленности.
За ужином говорил в основном Ричард, подбрасывая журналисту ровно столько пикантных подробностей, сколько необходимо, чтобы статья хорошо продавалась. Но теперь чутье опытного переговорщика подсказывало Гаррету, что пора отдохнуть и дать высказаться своему визави.
Катбер глотнул кофе.
– Вы не упомянули один существенный момент – свалку в галерее.
Ричард поднял бокал с бренди, любуясь золотистым содержимым на просвет.
– Ах, вы про это, – с небрежной медлительностью произнес он. – Я подумал, что вы довольно начитались о том случае в местной прессе. Люди, кажется, потеряли головы. Приятного в том происшествии мало, но, судя по тому, что творилось с публикой, у картин Мэйсон нашлось немало фанатичных почитателей. Хотя я на вашем месте не стал бы заострять в своей статье внимание на том эпизоде.
Катбер посмотрел на Ричарда с той неприязнью, с которой профессионал смотрит на постороннего, смеющего давать ему советы относительно профессиональной деятельности.
– А на чем мне следует заострить внимание в своей статье? – язвительно поинтересовался он.
– На том, о чем я вам рассказывал. На ее творчестве и подвижничестве. Вы знаете, как ее стали называть? Жанной д'Арк.
Журналист сделал запись в своем блокноте, но при этом с сомнением покачал головой:
– Не знаю, Ричард. Каждый год случается что-то подобное: всплывает новое имя, вокруг него начинается ажиотаж, но проходит месяцев шесть, и никто больше и не вспоминает о «восходящей звезде». Откуда нам знать, удержится ли эта звезда на небосклоне?
– Ты знаешь меня не первый год, старина. Ты слышал, чтобы я так хоть о ком-нибудь говорил? Я абсолютно уверен в том, что Мэйсон – гениальная художница. Я бы поставил на ее картины собственную репутацию, и сделал бы это не раздумывая. Но здесь мы имеем дело не только с картинами экстра-класса, тут еще и целая жизнь, похожая на прекрасную и печальную сагу. Два в одном, так сказать.
Катбер обратился к Мэйсон:
– Как вы думаете, почему ваша сестра покончила с собой?
Ричард ответил за Мэйсон:
– Я думаю, она достигла предельной полноты выражения себя в искусстве. Дошла до конца. И дальше идти было некуда. Самоубийство было осознанным актом самопожертвования. Утверждением, что в этом жестоком мире нет места чувствительным и ранимым. Единственное возможное завершение жизни для той, что жила исключительно ради художественного самовыражения.
Катбер кое-что записал и снова обратился к Мэйсон:
– Мисс Колдуэлл, что вы могли бы рассказать о вашей семье?
Мэйсон была готова к этому вопросу. Но тема не перестала от этого быть особенно неприятной. Семейная рана все еще болела и кровоточила, и распространяться на эту тему она не хотела и не могла. Мэйсон решила ограничиться полуправдой:
– Собственно, рассказывать почти не о чем. Мой отец пал жертвой Гражданской войны. Мама оставила после себя небольшое наследство, на которое мы и жили. Пять лет назад, когда мама умерла, мы с Мэйсон разделили материнское наследство. Она уехала в Париж, взяв себе половину, а я осталась жить в Америке.
– Вы были близки с сестрой?
– Да, были в юности. Но интересы у нас всегда были разными. После того как Мэйсон уехала в Париж, мы фактически потеряли связь друг с другом. Однако примерно год назад она написала мне, попросив сохранить у себя несколько ее картин.
– Как вы думаете, что подвигло вашу сестру на то, чтобы посвятить себя искусству? Что явилось побудительной причиной к такому фанатичному стремлению к самовыражению?
Вопрос оказался глубже, чем она ожидала. Мэйсон взглянула на Ричарда и увидела, что он тоже с интересом ждет ответа.
– Наша мама была художницей-любительницей. Она рисовала главным образом пейзажи. Ей хотелось привнести в этот мир больше красоты. Но ее желание так и осталось неисполненным. Никто не понимал маму. Наш отец не одобрял ее увлечения и считал, что она попусту тратит время. Ее считали странной. Соседи смотрели на нее искоса, чурались ее, и в конечном итоге это надорвало ее сердце. – В голосе Мэйсон слышался надлом. Она успела пожалеть о своей откровенности и потому, переведя дух, быстро закончила: – Полагаю, Мэйсон хотела сделать то, что не удалось ее матери, воплотить в жизнь ее устремления.
Мэйсон замолчала, надеясь, что следующий вопрос уведет их от опасной темы, но Катбер сказал:
– Тогда центральной фигурой в работах Мэйсон является ее мать, а фон символизирует те косные силы, что делали вашу мать изгоем.
– Наверное, – сказала Мэйсон. Она чувствовала себя не в своей тарелке.
Катбер подумал немного и покачал головой:
– Ваши доводы убедительны, но вопрос не меняется: останется ли Мэйсон Колдуэлл в анналах истории или лишь промелькнет и исчезнет, как солнечный зайчик?
– Но вы и сами видите, – хриплым от избытка чувств голосом заговорил Ричард. – История Мэйсон Колдуэлл не может не затрагивать самые тонкие струны человеческой души. В попытке продолжить дело матери, в попытке доказать справедливость ее притязаний она сама навлекла на себя остракизм и унижение. Она стала мученицей сродни первым апологетам Христа. И в конечном итоге на ее долю выпало больше страданий, чем на долю ее матери. Мы все чувствуем силу ее жертвенности. Кто из нас в свое время не впадал в отчаяние, страдая от непонимания тех, кто нас окружает? Кто из нас не знает, что такое оказаться один на один с враждебным миром, когда идти не к кому, когда никому нет дела до твоих горестей? Когда тебя никто не любит, когда рядом нет никого, чей голос мог бы тебя поддержать? Когда никто не произнесет таких нужных и таких простых слов, как «я тебя понимаю»? Любой, кто посмотрит на ее картины, увидит в них одиночество и боль сродни его собственным. О, в этих картинах есть нечто большее: это та сила, что способна трансформировать одиночество и боль отдельного человека в великую силу искусства. Ни один художник нашего века не имеет достаточного потенциала, чтобы оказывать такое воздействие на человеческую душу.
За столом воцарилась тишина.
Заерзав на стуле, журналист деликатно откашлялся и спросил:
– Так каковы конкретно ваши планы по представлению картин?
Ричард закинул руку за спинку своего стула. Вновь в его манерах появилась обычная непринужденность.
– Если остановиться на главном, то мы надеемся взять те восемнадцать картин, что сейчас находятся в галерее Фальконе, и добавить к ним примерно дюжину тех, что Эми хранит у себя в Штатах. Есть еще несколько картин, которые Мэйсон раздала или выменяла на еду за те годы, что жила в Париже. Эти картины мы тоже попытаемся раздобыть. Таким образом, мы хотим собрать все картины Мэйсон Колдуэлл вместе, в одной коллекции, и представить их на выставке в одном павильоне. Естественно, это займет некоторое время. Чиновники от комитета чинят препятствия. Но я уверен, что мы добьемся своего. И, зная силу убеждения ваших слов, я уверен в том, что ваша статья поможет их переубедить.
Катбер засмеялся:
– Но выставка открывается через месяц. Как вы сможете за столь короткий срок раздобыть картины и построить павильон?
– К открытию мы, конечно, не успеем. Но выставка продлится несколько месяцев, и настоящее, сакральное открытие выставки состоится не раньше 14 июля. Тогда, в столетнюю годовщину Республики, когда весь Париж будет праздновать, когда состоится театрализованное представление со взятием Бастилии, гулянья и фейерверки, вот тогда все и начнется всерьез. А мы постараемся успеть все закончить незадолго до главного юбилея Франции, скажем 21 июня.
– Допустим. А потом? Потом куда уйдут картины?
– Это решать Эми. Картины принадлежат ей. Я надеюсь, что картины не разойдутся по частным коллекциям, не попадут в руки спекулянтов, но станут достоянием той организации, которая сможет достойно ими распорядиться, показать их миру.
– Как насчет правительства Франции? Вы, полагаю, знаете, что французские законы обязывают музеи действовать так, чтобы лучшие произведения французских мастеров оставались в стране, перекупая их у иностранных коллекционеров.
– Я знаю. Но даже если эти картины были созданы во Франции, они принадлежат кисти художницы-американки.
– Это так, но французы довольно странный народ. У них на этот счет может быть иное мнение.
Мэйсон никогда о таком не слышала.
– Вы хотите сказать, что даже если кто-то купит картину, французское правительство может выдвинуть встречное предложение и оставить картину у себя?
– Только если картина написана французом, – заверил ее Ричард. – Я не знаю случаев, когда Франция присваивала бы картины американских художников, даже если они долгое время жили во Франции.
Официант принес счет, и Ричард подписал чек. Катбер между тем сделал еще несколько записей в блокноте и улыбнулся:
– Должен признаться, Ричард, это будет статья что надо.
– Я так и подумал. Естественно, я хотел, чтобы вы услышали ее первым. Как ты думаешь, старина, когда она выйдет в свет?
– Не могу сказать. Надо посмотреть, что скажут мои лондонские редакторы. – Катбер обернулся к Мэйсон. – Приятно было познакомиться с вами, мисс Колдуэлл. Я должен сказать, что вы представляете свою сестру весьма элегантно.
– Еще бы! – сияя от гордости, подтвердил Ричард.
Мэйсон стояла в фойе, наблюдая за тем, как Ричард провожает Катбера. Ее всю трясло. Она жалела о том, что рассказала о матери. Теперь она чувствовала себя еще более уязвимой. Могла ли она обойти острые углы? Наверное, да. Но вопрос Катбера словно приоткрыл шлюзы в ее душе, и она не смогла не поделиться своими переживаниями, своей болью. Мэйсон обхватила себя руками, чтобы унять дрожь. Надо успокоиться как можно быстрее. Чтобы Ричард, вернувшись, ничего не заметил. Если он увидит ее такой, он станет задавать вопросы, на которые она не хотела и не могла отвечать.
Но Ричард уже шел к ней с победной улыбкой на устах. Взяв ее руками за плечи, он сказал:
– Ты была великолепна.
– В самом деле?
– Ты дала ему и мне именно то, что нам было нужно.
Мэйсон избегала встречаться с Гарретом глазами, не могла видеть сиявшую в них гордость.
– Ты говорил о Мэйсон так, словно она святая.
– А разве это не так?
Мэйсон с трудом проглотила комок в горле.
– Я не думаю, что ей понравилось бы, чтобы ее считали святой.
– Вот именно поэтому она святая. Вот что делает настоящих подвижников мучениками. Их скромность. В любом случае вечер удался на славу. Из нас получилась отличная команда, из тебя и меня.
Мэйсон подняла глаза, увидела во взгляде Ричарда искру желания и поняла, что сам процесс манипулирования Катбером его возбудил.
– Ты дрожишь.
Она не осознавала, что ее все еще трясет.
– Я замерзла, – солгала Мэйсон. Ричард сжал ее плечи.
– Давай поднимемся ко мне в номер, – предложил он, многообещающе понизив голос. – Я тебя согрею.
И внезапно Мэйсон захотелось, чтобы ее обняли, успокоили, полюбили. Чтобы зияющая пустота в ее душе заполнилась теплом его признательности, его понимания.
Мэйсон кивнула и отправилась вместе с Гарретом к лифту. В лифте он взял в руки ее ладонь и нежно провел по ней пальцем.
Тело Мэйсон мгновенно ожило. И внезапно она почувствовала, что более не в силах ждать. Воспоминание о страстном соитии в экипаже нахлынуло, взбудоражило, и чувство ноющей пустоты в душе вдруг трансформировалось в нестерпимое желание плоти. Ричард увидел вспышку страсти в ее глазах и наклонился к Мэйсон, губы его остановились в дюйме от ее губ. Он не стал ее целовать, и это заставляло ее желать его еще сильнее. Его близость, чистый мужской аромат возбуждали ее, предвкушение разлилось по телу живым теплом.
Ричард взял руку Мэйсон и прошептал:
– Не могу дождаться… Хочу обнять тебя.
И шепот его был как музыка для ее души. Теперь и Мэйсон не могла дождаться… Гудение лифта действовало ей на нервы. Слишком медленно… слишком медленно.
Наконец лифт остановился. Держась за руки, они побежали по пустому коридору. Глаз не фокусировался на предметах, мелькали цвета: красный, черный, золотой и зеленый толстого ковра у них под ногами, изумруд стен. Отсветы полировки красного дерева дверей в тот момент, когда Гаррет поворачивал ключ в замке. Приглушенный золотистый громадной сумрачной гостиной, освещенной единственной лампой. Эта комната была больше, чем весь ее номер, и роскошная обстановка эпохи Второй империи была достойна того, чтобы здесь жили короли или принцы.
И вот, наконец, Ричард подхватил ее на руки. Нетерпение ощущалось физически. Он пронес Мэйсон через еще одни двойные двери в спальню и ногой прихлопнул за ними дверь. Погруженная в темноту, эта комната была отмечена лишь легким запахом – его запахом.
Ричард опустил Мэйсон на кровать и почти мгновенно оказался на ней. Он целовал ее со страстью безумца, впивался губами в ее губы, ласкал языком недра ее рта, и ладони его шарили по ее телу, ощупывали ее сквозь одежду.
Мэйсон застонала от беспомощности. Желание подвело ее к грани безумия. Она прижималась к Ричарду, пропуская сквозь пальцы его жесткие волосы, прижимая к себе его голову, постанывая от наслаждения.
От поцелуев у нее кружилась голова. Она была в огне.
Мэйсон опустила руку, дотронувшись до неистовой эрекции Ричарда, и он застонал у ее губ, словно необузданный зверь. Ей нравилось ощущать член Ричарда в своей руке, такой большой, такой твердый, пульсирующий энергией жизни.
Мэйсон не терпелось почувствовать его в себе. Она хотела этого так сильно, что не могла больше ждать ни минуты. Мэйсон с лихорадочной спешкой принялась расстегивать его брюки. Скорее, скорее… Чтобы он заполнил собой ее изнемогающее нутро.
Но Гаррет оттолкнул ее руку. Каким-то неведомым образом, продолжая жадно ее целовать и задирая ее платье. Преодолев досадные барьеры в виде нижних юбок и прочего, он с варварской бесцеремонностью сорвал с Мэйсон панталоны, и ладони его, ласкавшие ее плоть, еще сильнее разожгли похоть Мэйсон. Ричард раздвинул ее колени и вошел в нее.
Он заполнил собой Мэйсон столь внезапно, столь полно, что она закричала. С избытком увлажненная соками, она приняла его в себя легко, несмотря на всю его величину, и сердце ее пустилось в карьер. Ричард входил в нее мощно и умело, ловя ее крики губами, и держал ее так крепко, что она едва могла дышать.
Он входил в нее без устали, с неослабной, безжалостной мощью, унося ее в небеса. Мэйсон достигла вершины, сжимая член Ричарда в себе, спазм сменялся новым спазмом, прокатываясь по ней, накрывая ее, захлестывая эмоциями, от которых слезы выступили у нее на глазах. Она отчаянно жалась к нему, она любила его так глубоко, так сильно… Она ощущала себя частицей всего сущего на земле. Душа ее взорвалась, рассыпалась мириадами звезд, излилась на нее звездопадом.
От всего сердца ей хотелось, чтобы этот миг никогда не кончался.
И словно почуяв это ее желание или потому, что испытывал нечто похожее сам, Ричард не останавливался. Он усилил мощь толчков, поднимаясь над Мэйсон и вонзаясь в нее подобно могучему атланту, он снова довел ее до оргазма, потом еще раз и еще… пока для нее в мире не осталось ничего, кроме него.
И только тогда он позволил себе разрядку. Ричард выждал, когда наступит тот момент, когда сердце Мэйсон снова ускорит темп и она вновь потеряет контроль над тем, что происходит с ней. Он ждал, пока она не почувствует, что снова улетает куда-то… И только тогда он присоединился к ней, крепко обнял, прижал к себе и подарил им обоим разрядку, слаще и полнее которой не было в ее жизни.
Когда все закончилось и Мэйсон, на удивление довольная жизнью и собой, в приятной расслабленности, переполненная ощущением радости, лежала под Ричардом, он все еще оставался в ней, обнимал ее, прижимая к себе как нечто-то безмерно дорогое, нечто, за что следует держаться в жизни.
Шли минуты. Мэйсон вдруг услышала стук часов, отмеряющих время. И затем горячее дыхание Ричарда у ее уха.
– Святой Боже!
Он пошевельнулся, скатился с Мэйсон, лишив ее своего тепла и приятной тяжести своего тела, и встал. Оставаясь спиной к Мэйсон, он стер пот со лба. Ричарда освещал тонкий лунный луч. Мэйсон любовалась им, как каким-то сакральным сокровищем.
– Я не могу, – сказал он тихо.
Мэйсон, сделав над собой усилие, приподнялась на локте – тело ее было настолько расслаблено, что не хотелось шевелиться.
– Что ты не можешь? – спросила она.
Ричард обернулся к ней. Его лицо было едва различимо, но она не могла не увидеть на нем муку. Что-то его терзало.
– Это. – Он кивнул в ее сторону. – Это чересчур… Я не думал, не мог знать…
Ричард резко замолчал, как будто и так сказал больше, чем хотел. Он смотрел на Мэйсон так, словно перед ним была средневековая ведьма, что опоила его приворотным зельем.
И вдруг она поняла.
Он влюбился в нее. Или почти влюбился.
Не желая того.
Мэйсон встала с постели, подошла к Ричарду, погладила его по руке. Рука его была твердой, словно ее отлили из стали.
– Ничего страшного, – сказала Мэйсон ласково. Ричард пронзил ее взглядом.
– Этого больше не случится.
– Конечно, нет, – сказала она.
Он прищурился, глаза его стали, как щели прицела.
– У нас миссия. Мы должны сосредоточиться на ней. Мы не можем позволить себе… отвлекаться.
Никогда раньше Мэйсон не доводилось так «отвлекать» мужчину от дела, чтобы он испугался. Она не смогла сдержать довольной улыбки.
– Я серьезно, – сурово подтвердил Ричард.
– Конечно, серьезно.
– Этого больше не случится.
– Конечно, не случится.
Он схватил ее за плечи и тряхнул.
– Этого больше не случится, – с расстановкой произнес он.
– Никогда.
Мэйсон приподнялась на цыпочки, чтобы поцеловать его в щеку, и мимоходом притронулась к его члену. Он был уже мягким, но под ее пальцами тут же отвердел.
Ричард отшатнулся от Мэйсон, вновь повернулся к ней спиной.
– Пожалуйста, – простонал он, – уходи.
– Конечно, я уйду.
– И прекрати говорить «конечно».
Мэйсон собрала вещи, затем подошла и встала перед Ричардом. Поцеловав кончики своих пальцев, она приподнялась и прикоснулась ими к его губам.
– Конечно, – с улыбкой сказала она.
Глава 8
Ричард на следующий день выехал в Лондон, чтобы пообщаться с лондонскими редакторами Катбера и подготовить почву для статьи. Мэйсон была только рада этому обстоятельству, поскольку ей требовалось время, чтобы написать работы, которые должны «доставить кораблем из Америки». И еще ей хотелось, чтобы Ричард успел по ней соскучиться. Однако как-то так вышло, что ни на следующий день после отъезда Ричарда, ни за последующие несколько дней вдохновение ее так и не посетило. Неизвестно, скучал ли по ней Ричард, но вот Мэйсон ужасно его недоставало. Все чаще она ловила себя на том, что подходила к окну и рассеянно смотрела на здание «Лё-Гранд-Отеля». Она мысленно уносилась в его номер, туда, где она познала блаженство, но лишь затем, чтобы быть отвергнутой. Да, она очень остро ощущала отсутствие Ричарда в своей жизни.
Наконец она сама себе стала противна из-за этой тоски. Ей срочно надо было отвлечься.
Все совпало как нельзя лучше. Цирк Фернандо как раз закончил сезон, и до начала нового оставалось несколько недель, так что Лизетта вполне могла составить ей компанию. Они могли бы выехать за город на пленэр.
Мэйсон отправила записку Лизетте, собрала все купленные в день отъезда Ричарда в Лондон принадлежности для занятий живописью, отправилась в риелторскую компанию на бульваре Монмартр и сообщила, что желает снять на лето домик в Овер-сюр-Уаз, который ее сестра Мэйсон снимала прошлым летом. Воспользовавшись аккредитивом, выданным Фальконе, она оплатила ренту за три месяца вперед. Таким образом, у нее будет тайное убежище, где она сможет рисовать вдали от посторонних глаз.
На следующее утро Лизетта встретила ее на вокзале Сен-Лазар со всеми своими семью псами. Лизетта была в восторге оттого, что сможет уехать из Парижа.
– Наконец-то мне удастся скрыться от этого несносного Джуно. С тех самых пор, как он увидел те мои портреты, он мне проходу не дает. Совсем обезумел. Каждый день дарит цветы. Если я увижу еще один букет алых роз, то точно сойду с ума. Каждый день розы, коробки конфет, стихи.
Мэйсон рассмеялась.
– Джуно, предводитель банды апачей, пишет стихи?
– Чушь! Он и имени своего написать не сможет. Наверное, нанял какого-то нищего поэта, чтобы писал за него.
Мэйсон пристально посмотрела на подругу.
– Он, похоже, очень тебе предан. Ты же заводишь любовников с легкостью, но упорно отказываешь мужчине, по которому сохнут сотни девчонок, считающих его парижским Робин Гудом наших дней. Чем он так провинился перед тобой?
– Он сделал нечто такое, чего я не могу ему простить.
– Наверное, что-то по-настоящему ужасное?
– Более чем! Отвратительное. Я даже не хочу об этом говорить.
Поезд проезжал по северным окраинам Парижа, пересек Сену у городка Аньер-сюр-Сен, который импрессионисты обессмертили в своих картинах. Успешно справившись с нелегкой задачей размещения целой стаи собак в маленьком купе, подруги уселись сами. Лизетта вытащила из сумочки пакет с виноградом и, протянув кисть Мэйсон, сообщила:
– Я навела справки о твоем воздыхателе.
– Ты справлялась о Ричарде?
– Конечно. Я еще ни разу не видела, чтобы ты в кого-то так влюблялась, и потому я забеспокоилась. К тому же, как мне показалось, ты не слишком хорошо его знаешь.
– И что ты выяснила?
– Не слишком много. Он ездит по Европе, вращается в обществе. Живет в отелях. Приезжает в Париж несколько раз в году. У него есть деньги, но никто, похоже, не знает, откуда они у него берутся. – Лизетта бросила виноградину одному из терьеров. – Он просто загадка какая-то.
– Как насчет женщин?
– О, много женщин. Но ни одна надолго не задержалась.
– И что за женщины?
– Главным образом дамы из высшего общества. Итальянская баронесса, которая так и не смогла его завоевать. Несколько англичанок с наследством. В этом роде.
– Надеюсь, он не женат?
– Упаси Бог! Если бы я обнаружила, что он женат, то сама бы его пристрелила – за тебя. – Все собаки повскакивали с мест, выпрашивая виноград, и Лизетта принялась угощать их всех, одаривая псов улыбками обожания.
Мэйсон переваривала информацию.
– Ты думаешь, что все это слегка смахивает на помешательство, верно?
– Что же тут безумного? Прожить жизнь, притворяясь собственной сестрой, которой у тебя никогда не было, с человеком, который хочет положить жизнь на продвижение твоих картин, которые тебе приходится писать тайно, потому что он нe должен знать, что ты жива? Что тут безумного?
Мэйсон не выдержала и расхохоталась. Лизетта уже не улыбалась.
– Единственное, что не дает мне покоя во всей этой комедии, что ты ломаешь, – это прохвост Дюваль. С ним лучше шуток не шутить.
– Мне просто следует быть осторожной, чтобы не будить в нем подозрений. Я буду заниматься живописью только в Овере и все свои краски, этюдники и прочее оставлю там, чтобы не наводить его на след.
Через пятьдесят минут они прибыли в Овер-сюр-Уаз. То был прелестный городок со старинными каменными постройками с черепичными крышами, растянувшийся на несколько миль вдоль живописной реки Уазы. Городок поднимался уступами от берега реки до плато с пшеничными полями, уходящими в бесконечность. Свои ранние работы многие импрессионисты, такие как Сезанн, Писсарро и Берта Моризо, писали здесь, увековечивая поля, деревенские улицы и заросшие ивами берега Уазы. Жить здесь было гораздо дешевле, чем в Париже, и Мэйсон жила тут летом в течение нескольких лет, как из экономических соображений, так и ради художественного вдохновения.
Дом, что снимала Лизетта, был расположен в миле от Овера в небольшой рощице. Девушки наняли лодочника на станции, он и доставил их прямо к дому. Перед домом раскинулась травянистая лужайка, а сам дом с закрытыми черными ставнями стоял возле громадного дуба, на ветках которого висели качели. Комнаты в доме были крохотными, как это принято у французов, но помещений хватало, чтобы и Лизетта, и Мэйсон, и даже собаки могли разместиться вполне комфортно. Как только девушки прибыли на место, небо затянуло тучами и пошел дождь.
Дождь не прекращался три дня и три ночи. Лизетта словно впала в спячку, Мэйсон никак не могла заставить себя взять в руки кисть. Она не работала уже несколько месяцев и истосковалась по творчеству, но отвратительная погода портила настроение, а отсутствие вдохновения делало Мэйсон раздражительной и нервной. Она заставила себя закончить три холста, но не чувствовала вовлеченности в процесс. Работа не давала Мэйсон и тени того удовлетворения и восхитительного ощущения прорыва в неведомое, как то было раньше. И в довершение всех неприятностей она постоянно думала о Ричарде. Думал ли и он о ней или дела целиком поглотили его? Или, может, он старался не думать о ней? Едва ли он мог полностью выбросить из головы мысли о ней. Едва ли такое возможно после взрыва страсти, что пережили они оба. Но Мэйсон вспомнила о том, что у него были другие женщины. Например, итальянка, которая не смогла его удержать. Может, и она была убеждена в том, что Ричард в нее влюблен? Может, и ей он говорил с той же мукой на лице и в голосе, что он «не может так»? Терзаясь подобными мыслями, Мэйсон плохо спала ночами, сваливая вину за свою бессонницу на дождь, неустанно барабанивший по крыше.
Наутро четвертого дня Мэйсон разбудило солнышко, пробившееся сквозь кружевные занавески. Мрачные тучи рассеялись. Стоял превосходный апрельский денек. Щебетали птицы, фокусы разом зацвели, и мир, залитый золотистым светом, тем самым, что привлекал во Францию художников со всего мира последние 400 лет, казался рожденным заново. Распахнув окно, Мэйсон выглянула наружу и, полной грудью вдохнув кристально свежего воздуха, почувствовала в себе знакомое беспокойство, сообщившее ей, что она, наконец, готова творить. У нее руки чесались взять кисть.
Босиком она прибежала к кровати Лизетты и начала ее трясти. Подруга села, недовольно бормоча, светлые волосы ее спутались, рассыпались по плечам. Лизетта приложила ладонь козырьком к глазам, защищаясь от потока солнечного света.
– Который час?
– Какая разница? Настал новый день! Новый мир. Вставай, лежебока! Я хочу успеть поймать это утро, пока оно не убежало.
Подруги торопливо собрали корзинку с едой, чтобы позавтракать на природе, и отправились к реке. У Мэйсон рука не поднималась писать очередную «типично колдуэлловскую» вещь. Ей просто захотелось нарисовать Лизетту на природе, поймать радостное настроение, отблески света на ее лице, колеблющиеся, как ивы, что покачивали ветвями на ветерке, отбрасывая тень на лицо подруги. В общем, радость творчества вернулась к Мэйсон.
Они чудно провели день, словно дети босиком бегали по поляне под живительным солнышком. Они смеялись и говорили ни о чем и обо всем, как в старые добрые времена, как это было до исчезновения Мэйсон. Потом они расстелили одеяло и позавтракали на траве, наслаждаясь сыром и хлебом, потягивая вино, швыряя кусочки собакам, забавлявшим их своими играми.
Лизетта оттягивала полную нижнюю губку и трясла белокурой головой. Она походила на шаловливого ребенка, но при ее гибком теле эффект получался неожиданным. В своих прежних работах Мэйсон отчасти удавалось передать этот спонтанно возникавший эффект, но только сейчас невинная, капризная сексуальность подруги увиделась ей во всей своей потрясающей ясности.
– Остановись! – крикнула Лизетте Мэйсон. – Просто замри! Не смей шевелиться!
Мэйсон принесла холст, над которым работала до этого, и принялась вносить исправления.
Через некоторое время, когда картина начала приобретать цельный вид, Мэйсон сказала:
– Лизетта…
– Что там еще?
– Ты знаешь мужчин.
– Немного. – Лизетта пожала плечами. – Так тут уютно, я сейчас усну.
Мэйсон отошла от мольберта и посмотрела на свою работу.
– После многих лет постоянной практики я теперь чувствую, что начинаю кое-что понимать в искусстве. Конечный результат не всегда вполне соответствует тому образу, что был изначально мной задуман, но сближение все же происходит.
– Угу, – сонно пробормотала Лизетта.
– Про живопись я кое-что знаю, но я абсолютно несведуща в искусстве обольщения.
– О чем тут знать? Покажи ему лодыжку, и он от тебя вовек не отстанет.
– Что-то не верится, что все так просто.
– Я не знаю. Я никогда не обольщаю мужчин. Они сами за мной бегают.
Мэйсон попробовала новую тактику:
– Ты же знаешь, что я чувствую к Ричарду, верно?
– Я знаю, что ты потеряла голову.
Продолжая рисовать, Мэйсон рассказала Лизетте о том, что произошло с ним в ту ночь.
– Он хочет меня, но он не хочет меня хотеть. Как мне с этим справиться? Мне нужно что-то абсолютно надежное. Что-то, перед чем он не мог бы устоять.
– Ага! Любовное зелье, не иначе!
– Ну, что-то в этом роде.
– Я знаю, что тебе нужно. Духи.
– Ой, да перестань.
– Ба! Ты считаешь, я шучу? Как ты думаешь, что придает нам, француженкам, шарм? Разве мы красивее, чем другие?
– Ты самая красивая женщина из всех, кого я знаю.
– Ты видела портрет мадам Помпадур? Или мадам Дюбарри? Абсолютно невзрачные особы! Но они пахли как богини. Запах – сильнейший афродизиак. Каждая француженка об этом знает.
– Не думаю, что лично тебе потребовалась бы помощь парфюмера, чтобы свести мужчину с ума.
– Не думаешь? Когда мне нужно быть неотразимой, я всегда иду к мадам Тулон. Она не просто отличный парфюмер, она волшебница. Она создает для меня запах, перед которым не устоит ни один мужчина.
– Она могла бы и мне это устроить?
– Разумеется.
Мэйсон не чувствовала убежденности.
– И все же мне трудно поверить, что такой сильный, такой волевой мужчина, как Ричард Гаррет, при всем его опыте общения с женщинами и при всей его уверенности в себе, может пасть под влиянием каких-то духов…
Внезапно Лизетта подняла руку, распрямилась и уставилась вдаль.
– Этот твой мужчина, он какой? Очень высокий и похож на Люцифера? Такой же брюнет?
– Да, пожалуй. А почему ты спрашиваешь?
– Я думаю, он здесь.
Мэйсон стремительно обернулась и увидела идущего по направлению к дому мужчину. Несмотря на то, что он находился еще далеко от них, она его узнала. Лизетта была права – к ним шел Ричард Гаррет собственной персоной.
Мэйсон в панике огляделась – сплошные улики: холст, краски, этюдник, блуза в пятнах краски.
– Что будем делать?
– Быстро все прячь, а я его задержу.
Лизетта, не теряя ни минуты, указала на идущего к ним мужчину и крикнула своей песьей стае что-то на французском. Вся свора, до этого дремавшая в тени, с громким лаем бросилась через лужайку к Гаррету. Окружив незваного гостя, псы начали скакать вокруг него, а Мэйсон тем временем лихорадочно собрала холст, этюдник, палитру, коробку с красками и накрыла все это одеялом. Скинув блузу, Мэйсон заметила пятна краски и на платье тоже и решила сбросить и его, запихнув блузу и платье под одеяло вместе с прочими уликами. Торопливо разложив поверх одеяла еду, она обернулась, чтобы посмотреть, чем занят Ричард.
Ричард присел на корточки, протягивая собакам руку, чтобы они могли обнюхать его. Он старался показать псам, что у него нет никаких злых намерений ни по отношению к ним лично, ни к тем, кого они так отважно охраняли. Псы отреагировали на это проявление миролюбия слишком быстро. Еще мгновение, и Ричард поднялся и в сопровождении вновь обретенных четвероногих друзей направился к женщинам.
Мэйсон взглянула на руки и увидела на них пятна зеленой и желтой краски. Мэйсон лихорадочно огляделась в попытке зацепиться взглядом за что-то, что могло бы ей помочь. У самой кромки воды было все еще грязно после долгого дождя.
Ричард стремительно приближался.
– Быстрее! – крикнула Мэйсон Лизетте. – Скидывай платье – и ко мне.
Лизетта повиновалась без вопросов, и обе девушки бегом помчались вниз, к реке. Мэйсон запустила обе руки по локоть в речной ил, а затем швырнула комком грязи в Лизетту.
– Ты что? – рассерженно воскликнула Лизетта.
– Притворись, что мы играем. Так я смогу спрятать руки.
– Идет, – сказала Лизетта и швырнула в Мэйсон здоровенный комок грязи. Вскоре они уже катались по берегу и хохотали как сумасшедшие.
– Какое прелестное зрелище, – прозвучал приятный баритон откуда-то сверху.
Девушки как по команде подняли головы. В одних рубашках, с головы до ног вымазанные грязью. Ричард был одет с легкой небрежностью, но выглядел как стопроцентный джентльмен на загородной прогулке. Он снял шляпу, и лихая прядь черных как смоль волос упала ему на лоб. Мэйсон с трудом удержалась, чтобы не броситься к нему на шею. Но, помня о том, что должна соблюдать дистанцию, Мэйсон наклонилась, зачерпнула пригоршню грязи и, распрямившись с озорной улыбкой, сказала:
– Присоединяйтесь, – и бросила в Ричарда ком. Гаррет успел изящно увернуться, так что костюм его остался чист.
– Не сейчас. Но все равно спасибо за приглашение.
Мэйсон капризно наморщила носик.
– Ну вот, пришел и все испортил.
– Деревенский воздух странно влияет на городских жителей.
– Да, но вы дышите тем же воздухом, однако он, похоже, не оказал на вас особо тлетворного влияния. Вы уверены, что не передумали? – Мэйсон приблизилась к Ричарду, делая вид, что в любой момент готова швырнуть в него грязью или наскочить на него, сама вся в грязи с головы до пят. Гаррет попятился, чего, собственно, Мэйсон и добивалась. Чем дальше от нее он будет держаться, тем меньше вероятности, что он заметит пятна краски у нее на руках.
– Кстати, как вы меня тут разыскали? – спросила Мэйсон.
Гаррет пожал плечами:
– Немного детективной работы, вот и все. Ничего особенно трудного.
От его слов по спине у Мэйсон пробежал холодок. Она с тревогой взглянула на Лизетту.
– Мэйсон раньше любила сюда приезжать и рисовать тут на природе. Она мне об этом писала.
– Приятно видеть, что вы так славно поладили. Думаю, Мэйсон была бы довольна.
– О, Лизетта просто душка, – затараторила Мэйсон, – Я спросила у нее, как сюда добраться, и она, бросив все дела, сама меня привезла. Мы решили устроить себе маленькие каникулы. Только я, Лизетта и ее собаки.
Несколько собак бросились за Лизеттой и сбили ее с ног. Та уселась в самую грязь, а псы принялись радостно лизать ее.
– Прошу прощения за то, что нарушил ваше уединение, но мне надо с вами поговорить, – сказал Ричард.
– Давайте вернемся в дом, я хочу вымыться, – сказала Мэйсон и направилась к дому, уводя Ричарда с места преступления, с сожалением думая об испорченном холсте под одеялом.
– Как насчет ваших вещей?
– Лизетта все заберет. О чем вы хотели поговорить? Ричард с интересом взглянул на причудливо приподнятое одеяло, но вопрос Мэйсон отвлек его, и он поспешил следом.
– Как насчет доставки картин из Америки? Вы успели что-либо предпринять?
– Я работаю над этим, но скоро такие дела не делаются. – Грязь начала засыхать, и Мэйсон нервничала. Она убрала руки за спину и сказала: – Однако мне удалось найти три работы, которые сестра выменяла на еду.
Искренне обрадованный, Ричард воскликнул:
– Отлично! Не могу дождаться, когда их увижу!
– Вы проделали весь этот путь, чтобы спросить меня про доставку картин?
– Не совсем. Есть еще одно дело. Важное. Очень важное. На следующей неделе в Париж приедет человек, с которым вы обязательно должны встретиться.
Мэйсон не могла сосредоточиться, она все еще чувствовала себя очень неуютно. Подумать только, она была на волосок от разоблачения!
– Хорошо, – рассеянно ответила она.
– Я могу привезти его сюда?
– Нет-нет! – испуганно воскликнула Мэйсон и тут же попробовала исправить оплошность: – Я хочу сказать, что от Парижа сюда очень неудобно добираться. И долго. Лучше мне самой вернуться в Париж.
Они подошли к дому. Мэйсон отступила, жестом приглашая Ричарда войти.
– Проходите в гостиную. А я умоюсь и принесу картины.
Наверху она торопливо собрала все, чем пользовалась при работе над картинами, в пустую комнату. Она смыла грязь водой и стерла скипидаром остатки краски с рук. После этого снова вымыла руки. Потом, все еще в одной рубашке, Мэйсон посмотрелась в зеркало. Волосы рассыпались по плечам, и вообще вид у нее был в самый раз для постели. А в области лона началось характерное покалывание.
«Если повезет, я оставлю его на ночь!»
Изначально она собиралась переодеться в чистое платье, но, вспомнив, какими глазами он смотрел на нее в этом наряде, решила остаться в нижнем белье. Она сняла испачканную рубашку и надела новую – всю в кружевах, плотно пригнанную по фигуре. Намеренно она оставила незастегнутыми две верхние пуговицы лифа, словно слишком торопилась и позабыла завершить туалет. Вырез декольте был не слишком вызывающим, но как раз таким, чтобы он, заглянув в него, мог увидеть спрятанные там сокровища. Затем Мэйсон взбила волосы и потащила три законченные накануне работы вниз.
Когда она вошла в гостиную, Гаррет отвернулся от окна, посмотрел на нее и замер. Взгляд его упал как раз туда, куда она хотела – на грудь. Ей показалось, что он немного побледнел. У него дернулся кадык, словно от спазма в горле.
– Извините, что заставила вас ждать, – сказала она. – Я очень торопилась, честно.
Гаррет переступил с ноги на ногу.
– Может, вы слишком поторопились. Вам не кажется, что вы кое-что забыли?
Мэйсон опустила глаза на пышное кружево и розовый бантик.
– А, вы про это? Вам это досаждает? Хочу сказать, что вы только что видели меня в рубашке на улице, поэтому я… Но я могу пойти переодеться, если мой вид заставляет вас нервничать. Я просто подумала, что вы хотите как можно скорее увидеть картины.
– Хочу. И я нисколько не нервничаю.
– Конечно, нет.
Мэйсон расположила картины у противоположной стены, при этом наклоняясь так, чтобы он мог вволю полюбоваться ее тылом. Когда она развернулась к нему лицом, Ричард хмурился, и губы его были поджаты. Он небрежно махнул рукой, давая понять Мэйсон, чтобы она отошла в сторону и не заслоняла собой картины.
– О, простите. Я не хотела вас отвлекать.
– Черта с два вы не хотели.
Мэйсон отошла в сторону, с трудом сдерживая улыбку. Гаррет обошел ее, подошел к картинам и уставился на них, задумчиво подперев подбородок кулаком. Он неожиданно долго смотрел на них, никак не комментируя увиденное. Одну из них, еще одну версию Лизетты в катакомбах, он взял и поднес к свету. Затем поставил холст на место все так же молча.
Мэйсон подошла и встала у него за спиной, заглядывая ему через плечо. При этом грудь ее касалась его спины, она наслаждалась упоительным ощущением близости. Мэйсон с удовлетворением отметила, что его пробила дрожь как раз за мгновение до того, как он отступил.
– Ну? – спросила она.
– Неплохо, – осторожно сказал Ричард. – Но они хуже, чем те, что я видел раньше. Должно быть, эти работы были написаны ранее. До того как она вошла в полную силу.
Мэйсон испытывала досаду. «Сколько времени я на них убила!»
Но ей самой эти картины не нравились. Ричард был прав. Эти холсты были далеко не самыми лучшими ее творениями.
Мэйсон завела руки за спину и сцепила ладони. Затем она встала перед Ричардом, заметив, как его взгляд словно случайно соскользнул в вырез рубашки.
– Уже довольно поздно. Полагаю, вам придется остаться на ночь. У нас полно свободных комнат. Вам даже не придется делить вашу комнату с собаками.
– Нет, – слишком решительно и слишком быстро ответил Гаррет. Затем, собравшись, добавил более уравновешенным голосом: – Как ни заманчиво звучит ваше предложение, с собаками или без, я вынужден вас покинуть. У меня еще остались дела в городе. Мне надо поторопиться, чтобы успеть на последний поезд. Я нанял извозчика – он ждет меня неподалеку.
– До последнего поезда еще больше часа. Вы уверены, что не хотите вначале немного… перекусить?
Ричард скосил глаза на ее бюст, но быстро отвел взгляд.
– Нет, благодарю.
С этими словами он выскочил за дверь и помчался прочь от дома так, словно за ним гнались разъяренные гарпии. Со вздохом Мэйсон прислонилась к двери. «Похоже, мне все-таки придется раздобыть волшебные духи».
И затем с некоторым запозданием она подумала: «Как ему все-таки удалось меня выследить?»
Глава 9
Они уехали из Овера на день раньше, чем было задумано. Мэйсон попыталась с головой погрузиться в работу, но ничего не вышло. Она просто не испытывала желания писать. И она не могла заставить себя не думать о Ричарде, которого столь явно к ней тянуло и который, борясь с искушением сдаться на ее милость, буквально убежал от нее. Мэйсон воодушевляли те очевидные трудности, что он испытывал при общении с ней, и она готовилась к наступлению. Но для начала она решила воспользоваться советом Лизетты и посмотреть, что может сделать для нее волшебница мадам Тулон. В тот же день Лизетта привела ее к «своей волшебнице». Ее магазин располагался на острове Сен-Луи, меньшем из двух островов на Сене в географическом центре Парижа. Крохотную парфюмерную лавку в самом конце улицы украшала пестрая реклама представления со звучным названием шоу Буффало Билла «Дикий Запад»,[4] которое планировалось к показу на Марсовом поле во время выставки. Итак, выставочная лихорадка добралась и в этот тихий анклав.
В лавке царила почти стерильная чистота. Все стены от пола до потолка были уставлены полками с бесчисленными разноцветными стеклянными колбочками, а в самом центре стояли обитая розовым бархатом оттоманка и столик в стиле рококо.
Мадам Тулон, маленькая женщина неопределенного возраста с огромными зелеными глазами, весело блеснувшими при виде Лизетты, любимой клиентки, радостно расцеловала ее в обе щеки.
– Сегодня день прошел не зря, раз ты здесь, дружок, – сказала старушка.
– У меня для вас совершенно особенное предложение. Это моя подруга Мэй… – Лизетта поспешила исправить оплошность: – Эми Колдуэлл. Она приехала из Америки и отчаянно нуждается в вашей магии.
– Но она очень даже привлекательная, – заметила мадам, окинув Мэйсон натренированным взглядом.
– И все же есть мужчина, который намеренно ее избегает.
– Нет, это никуда не годится. – Мадам засучила рукава. – Пойдемте, дитя мое.
Все трое уселись на оттоманку, и мадам еще раз внимательно оглядела Мэйсон.
Лизетта придвинула стул поближе и приготовилась получать удовольствие.
– Скажите мне, малышка, какой сейчас на вас запах?
– Никакого.
– Никакого?! – Мадам повернулась к Лизетте. – Никакого?
Лизетта, словно сама не верила в то, что такое возможно, покачала головой.
– Но это же просто кошмар! Неудивительно, что у вас проблемы. Ну что же, тогда начнем сначала. – Мадам взяла Мэйсон за руку, развернула запястьем к себе и деликатно нюхнула. – Расскажите мне о мужчине, который настолько наивен, что надеется избежать ваших чар.
– Ну, он англичанин…
– Кошмар! Дело принимает все более неприятный оборот. Ну да ладно. Что ему нравится? Чем он занимается?
– Он ценитель искусства.
– Ну что же, хотя бы это говорит в его пользу. И какое искусство он ценит?
– Я думаю, любое. Но больше всего ему нравятся импрессионисты.
– Ах! Мне начинает нравиться этот мужчина. Мы наймем как раз то, что может довести до безумия ценителя искусства.
Мадам захлопала в ладоши. В лавке появилась молоденькая помощница хозяйки. Старушка рыскала по полкам, ее юная помощница стояла у хозяйки за спиной.
– Ничего традиционного нам не подойдет. Запах должен быть нежным, едва различимым. Самое ужасное – если запах будет его подавлять. Запах должен дразнить, завлекать, обольщать. И запах должен быть именно ваш. Так что мы станем пробовать, пока не найдем тот, который, смешиваясь с вашим естественным ароматом, создаст аромат такой тонкий, такой чувственно-нежный, что сама Афродита зарыдала бы от зависти.
На следующий день, вооружившись своим секретным оружием, Мэйсон вошла в вестибюль «Лё-Гранд-Отеля» и увидела Ричарда, который уже ждал ее там. Выглядел он просто замечательно. Мэйсон заметила, что при виде ее он заморгал и глаза его зажглись явным одобрением. Выходит, труды ее были не напрасны. Он выглядел так, как мог выглядеть мужчина, который всю неделю пытался убедить себя в том, что переоценивает то воздействие, что она на него оказывает, но который, увидев ее вновь, осознал, насколько сильно ошибался. Мэйсон почувствовала радостный трепет предвкушения.
Ричард удивил Мэйсон тем, что взял обе ее руки в свои.
– У меня есть новости, – возбужденно сообщил он. – Давайте пройдем сюда. – Он подвел ее к креслам и усадил на одно из них. – Комитет согласился с тем, что один из павильонов выставки будет целиком посвящен Мэйсон Колдуэлл. Я уже нанял архитектора, и он представил проект, который, как мне кажется, понравится и вам тоже. И еще мы собрали достаточно денег, чтобы начать строительство хоть завтра. Я даже успел договориться о месте, где будет стоять наш павильон. Как раз под башней возле павильона Монако.
Он сделал это. У Мэйсон перед глазами всплыло ее заявление в выставочный комитет со штампами «ОТКАЗАТЬ» по всему полю письма. И вот свершилось! И картины ее будут не просто представлены на выставке заодно с произведениями сотни других художников – для нее будет выстроен отдельный павильон!
Мэйсон даже представить не могла, какие слова нашел Ричард для убеждения мэтров. Он был просто волшебник.
– Как вы их убедили?
– Я обнаружил, что небольшие дипломатические трюки бывают весьма полезны. И дипломатия не кусается. – Ричард полез в карман и вытащил оттуда сложенную в несколько раз газету «Лондон тайме». – Взгляните.
Мэйсон развернула газету и была поражена тем, что статья Катбера красовалась на первой странице, как раз под заметкой, извещавшей о смерти королевы Виктории.
– Читайте, не торопитесь. У нас есть время.
Мэйсон читала статью, и чем больше она читала, тем яснее понимала, что эта статья сделала для наследия Мэйсон Колдуэлл даже больше того, на что они смели надеяться. Несмотря на высказанные за ужином сомнения, Катбер фактически повторил в своей статье то, что говорил Ричард, но иным, более ярким, выразительным и убедительным языком. В этой статье Мэйсон представала как легендарная Жанна д'Арк от искусства. Многое было, разумеется, преувеличено, и версия Катбера лишь отдаленно напоминала жизненную историю настоящей Мэйсон Колдуэлл, но даже сама Мэйсон не могла не согласиться с тем, что в этой статье пафос и драма классических греческих мифов послужили благой цели, и послужили ей честно.
– Поверить не могу! Это же «Лондон таймс»! Не какая-то дешевая газетенка, падкая на сенсации. Как вы смогли убедить их такое напечатать? И Катбер… За ужином он мне не показался большим энтузиастом идеи, но в итоге он сказал все то, что вы от него хотели. Буквально слово в слово. Как вам это удалось?
Гаррет усмехнулся:
– Скажем так, я знаю, где искать те шкафы, в которых спрятаны скелеты.
Неожиданно его умение манипулировать сильными мира сего подействовало на Мэйсон весьма возбуждающе.
– Вы добыли огонь из воздуха, фигурально выражаясь. Честное слово, вы превзошли мои самые смелые ожидания. Как я могу вас отблагодарить?
– Поднимитесь ко мне в номер.
– К вам в номер? – Сердце Мэйсон радостно подпрыгнуло. Все оказалось много проще, чем ей представлялось.
– Там нас уже ждет Хэнк.
– Хэнк? – Мэйсон словно упала с небес на землю.
– Тот самый человек, о встрече с которым я вас просил. Он, как и вы, американец. Возможно, вы даже слышали о нем. Генри Томпсон. Он финансист и предприниматель. На Уолл-стрит он почти культовая фигура.
– Ах да. Встреча с нужным человеком, о которой вы меня просили.
На самом деле Мэйсон не слишком хотелось встречаться с Хэнком Томпсоном, кем бы он ни был. Ей хотелось побыть наедине с Ричардом. Но деваться было некуда.
– Давайте пойдем к нему, вы готовы? Мэйсон протянула руку и коснулась его ноги.
– Да, – с улыбкой сказала она. – Не будем заставлять его ждать.
Она словно обожгла его своей ладонью. Ричард вскочил как ужаленный, и она увидела мрачное предупреждение в его взгляде.
– Давайте не будем, – процедил он. Мэйсон ответила ему невинной улыбкой.
Они не спеша прошли к лифту. Ричард открыл перед ней дверь. Но, оглянувшись, Мэйсон увидела, что семья из пяти человек вошла в холл и направляется к лифту.
Мэйсон сделала вид, что споткнулась, и вскрикнула, словно от боли.
– О Боже!
– Что случилось? – спросил Ричард.
– Должно быть, у меня застрял каблук. Надеюсь, я не растянула лодыжку.
– Вы хотите, чтобы я взглянул?
Мэйсон нагнулась и потерла лодыжку. Быстрый взгляд назад – и она убедилась, что семейство уже рядом.
– Нет, спасибо. Все в порядке.
Ричард и Мэйсон вошли в лифт, и все пять человек набились следом за ними. Мэйсон и Ричард оказались прижатыми друг к другу. Лица их почти соприкасались.
В этом положении Ричард невольно должен был вдохнуть ее аромат. И он вдохнул. И запах на него подействовал. Он вжался спиной в заднюю стенку лифта. Но Мэйсон продолжала напирать. Теперь она уже ощущала набухание в области его причинного места. Она подняла взгляд и увидела, что Ричард закрыл глаза и лицо его свела гримаса боли.
Никогда еще Мэйсон так не ощущала силу своей женственности. Она чувствовала себя почти колдуньей.
«Огромное спасибо вам, мадам Тулон!»
Лифт остановился на втором этаже, выпустив всех пятерых. Мэйсон и Ричард остались наедине. Мэйсон чуть отступила и увидела наглядное свидетельство его возбуждения. Когда лифт вновь начал подъем, Ричард открыл глаза и увидел, что она наблюдает за ним с довольной улыбкой. Он бросил на нее злобный взгляд, который был встречен взрывом смеха.
– С вами все будет в порядке? – насмешливо спросила она.
– Я постараюсь, – процедил он язвительно.
Лифт остановился на четвертом этаже, и Ричард, выйдя из кабины, немного постоял, пытаясь справиться с неуместной реакцией организма.
– Мне говорили, что в таких случаях холодные ванны бывают весьма полезны, – заметила Мэйсон.
Ричард не оценил ее юмора.
– Ну, меня тут не в чем винить, верно?
Мэйсон едва сдерживала смех.
– Почти не в чем, – проворчал он.
Собравшись, наконец, с духом, Ричард повел ее по коридору к своему люксу. Мэйсон готова была скакать за ним вприпрыжку.
У двери Ричард остановился и, прежде чем повернуть ключ в замке, сказал:
– Я должен предупредить вас, что Хэнк – человек с характером. Но он тот, кому я безоговорочно доверяю.
В номере их ждал мужчина лет шестидесяти, довольно грузный, но при этом не лишенный грубоватой привлекательности. На нем был серый костюм с кантом вдоль линии плеч – такой костюм впору носить какому-нибудь техасскому скотному барону, да и шейный платок на нем был цвета спелого персика. Этот колоритный типаж в молодости был явно очень интересным мужчиной, и его ярко-голубые глаза на загорелом лице сохранили молодой задор, а седина на висках его только украшала. В этом человеке чувствовалась властность, и, несмотря на громадные размеры помещения, он в нем не терялся, а скорее наоборот – доминировал.
Мужчина стоял у бара и потягивал виски из хрустального стакана с толстым дном. Увидев их, он осушил стакан, поставил его на место и, оценивающе взглянув на Мэйсон, улыбнулся ей одобрительно. В глазах его мелькнул огонек. Мэйсон пришло в голову, что она еще никогда не бывала наедине с двумя такими интересными мужчинами, хотя и очень разными.
– Вы, должно быть, Эми, – сказал Хэнк и, взяв руку Мэйсон в свою, довольно энергично пожал. – Хорошенькие девушки растут у нас в Бостоне, верно? Меня зовут Томпсон. Генри Томпсон, если официально, но вы можете звать меня Хэнк. Все так меня зовут. Я против формальностей. Много лет я мотаюсь между Нью-Йорком и Чикаго, и в каждом из этих городов имею по дому, но вырос-то я в Техасе, а мы, техасцы, предпочитаем в жизни простоту. Что вам налить, Эми, девочка моя?
Мэйсон была так обескуражена, что не сразу нашлась с ответом.
– Я не откажусь от стакана воды.
– Воды? Вода для лошадей, дорогуша. Почему бы не плеснуть в воду немного виски? Для завода.
Мэйсон не знала, как ей следует реагировать.
– Мне кажется, еще рановато меня заводить. Но все равно спасибо.
У Хэнка оказался лающий смех.
– Симпатичная, да и на язык не промах. В тех местах, откуда я родом, такая комбинация считается опасной. Но я ничего не имею против острого язычка. И Бустер тоже. Верно, парнишка?
Ричард скривился.
– Здесь меня так никто не зовет. Ты нормально себя чувствуешь, Хэнк? Многовато тебе не будет? Путешествие не слишком тебя утомило?
– Ты же знаешь, сынок, я живчик. И я только разминаюсь. – Он плеснул себе еще немного виски в стакан и предложил: – Не лучше ли нам всем сесть?
Мэйсон взглянула на Ричарда и переспросила:
– Бустер?
Под скулой его заиграл желвак.
– Это Хэнк когда-то дал мне прозвище. Присаживайся.
Мэйсон села, дивясь тому, как фамильярно ведет себя Томпсон с Ричардом. Явно этих двоих связывало что-то большее.
Хэнк уселся на длинную кушетку и положил ногу на ногу. Глотнув виски, он заговорил, продолжая вертеть в руке стакан:
– Бустер – ладно, ладно, сынок. Ричард, вероятно, хотел бы, чтобы я вел себя чуть поизысканнее. Но я американец и вы американка, и я не люблю долго ходить вокруг да около.
Его невозможно синие глаза буквально впивались в Мэйсон, буравили ее.
– Это обнадеживает, – сказала Мэйсон просто для того, чтобы что-то сказать.
– У меня к вам, малышка, есть предложение. И я надеюсь, вы выслушаете меня до конца.
Мэйсон заерзала на стуле. Она сомневалась, что этот мужчина может сказать ей что-то, что она хотела бы услышать.
– Понятно.
Хэнк наблюдал за тем, как качается виски в стакане.
– Я думаю, что смело могу заявить, что мы все трое здесь присутствующих верим в то, что у импрессионистов, таких как Моне, Мане, Дега и других ребят, есть будущее. В смысле не у них, а у их картин. Не найти более надежного вложения капитала, чём в эти работы. Рано или поздно музеи и толстосумы будут их друг у друга из глотки рвать. Но, к сожалению, некоторые ребята не верят в них так, как верим мы. Здешним торговцам картинами до сих пор не удалось сбыть с рук Сислея или Писсарро. А теперь скажите вы, что вы обо всем этом думаете?
Мэйсон поняла, что вопрос адресован ей.
– Я лучше вас послушаю.
– Ладно, я скажу. Потому что, какими бы одаренными ни были эти художники, они все еще, слава Богу, живы и еще как брыкаются, и ни у одного из них нет такой биографии, какую стоило бы пересказывать друг другу, после того, как его и вправду не станет. Дело в том, что у нынешних людей не хватает воображения. Его надо подстегивать. Нужен толчок, чтобы помочь продажам. Что-то такое, что делало бы искусство большим, чем искусство, что могло бы заставить взглянуть на него с другой, более интересной и возбуждающей стороны. Нужна история. Нужна личность. Нужен герой. Или, как в нашем случае, героиня.
– И такой героиней могла бы стать Мэйсон.
– Точно. – Хэнк ткнул в нее пальцем. – Ваша сестра. Чья жизнь – настоящая драма и чьи картины так не похожи на другие и в то же время такие приятные для глаза, что публика перед ними не устоит, как не устояла перед Марком Твеном или Лилли Лэнгтри. Ваша сестра всех импрессионистов вынесла бы на своих плечах. Я, честно говоря, не разбираюсь в картинах так, как мой мальчик Бустер, но я кое-что смыслю в торговле, а продаю я идеи. И что у нас, ребята, с вами есть – это идея, которая созрела.
Мэйсон никак не могла составить мнения об этом мужчине. Он производил впечатление грубоватого и простодушного фермера, но простота была напускной – под фальшивым фасадом скрывался проницательный, умный и опасный хищник. Ясно, что он занимал в жизни Ричарда какое-то очень важное место. Бустер? Мэйсон не могла вообразить менее подходящего прозвища для Ричарда Гаррета. И эта тайна ее заинтриговала.
– Вы говорили что-то о предложении?
– Отлично. Вот это мне нравится! Прямо в точку. Теперь я вижу, что говорю с американкой. Ладно, вот суть предложения: я так уверен в будущем импрессионизма, что хочу вложить средства в музей. Имейте в виду, что французы об этом даже не помышляют, потому что со всеми своими охами и ахами они продолжают смотреть на картины импрессионистов как на детскую мазню. Этот музей был бы первым в мире музеем такого рода, и мы собираемся его построить как раз посреди Новой Англии. Скажем, в Бостоне. Вы ведь оттуда родом, верно?
После краткого колебания Мэйсон сказала «да».
– Тогда этот музей будет в вашем родном городе. И это нас вполне устраивает, потому, что в том музее будут и работы Мэйсон. На почетном месте. Мы считаем, что на нее и будут идти посетители. Во-вторых, нам выпала редкая возможность собрать все работы одного художника в одном месте. Если у нас все на самом деле получится, мы станем обладателями уникальной коллекции. Вся Мэйсон Колдуэлл под одной крышей. Ни один музей не может похвастать такой полнотой собрания. Где можно найти всего Леонардо да Винчи, всего Караваджо, Рембрандта? Их творения рассеяны по всему миру. В-третьих, мы считаем, что ее картины принадлежат ее родной стране. Старым добрым Соединенным Штатам.
«Музей… В Бостоне… Как бы это понравилось маме…» И все эти заносчивые Брахмансы, что воротили от нее свои носы. Вот бы они утерлись! И отец… Если бы только он мог дожить до этого дня…
Восприняв ее молчание как отказ, Ричард решил вмешаться:
– Хэнк говорит о том, что, хотя Мэйсон писала во Франции и на ее творчество, безусловно, оказали влияние французские художники, ее работы представляют Францию, эту ее вторую родину, как бы со стороны, как ее видит американка. Это, если можно так выразиться, американский импрессионизм. Мэри Кассатт[5] делала это, и другие тоже, но не так талантливо, не так сильно, как Мэйсон. И поэтому мы считаем, что ее картины должны принадлежать ее стране, где их будут чтить, как они того заслуживают, а не распродадут поштучно богатым коллекционерам, чтобы они расползтись по всему миру так, что их потом никто и не увидит.
Хэнк со стуком опустил стакан на стол.
– Ни к чему тебе ей все это говорить, мальчик. У нее у самой есть мозги.
Ричард медленно кивнул и откинулся на спинку стула. Мэйсон озадачило то, что он во всем был послушен этому Томпсону.
Хэнк снова обратился к Мэйсон:
– А теперь я хочу вам прямо сказать, что у нас нет тех средств, коими располагают некоторые богатые европейцы, которые готовы выложить за картины Мэйсон целые вагоны денег. И, разумеется, мы готовы предложить вам приличную сумму. Но в чем действительно состоит преимущество нашего предложения, так это в том, что мы хотим сохранить коллекцию, сохранить ее целиком и в Америке, и в то же время она будет открыта всем для обозрения.
У Мэйсон все внутри перевернулось, но она постаралась ничем не выдать своих чувств. После довольно продолжительной паузы она сказала:
– Спасибо вам, мистер Томпсон. Я над этим подумаю.
Хэнк ожидал получить иной ответ, но, тем не менее, он сказал:
– Хорошо. Подумайте, юная леди.
– Ваше предложение действительно оказалось для меня неожиданным, – продолжала между тем Мэйсон, – и с ходу такие вещи решать нельзя. Как говорится, решать надо на свежую голову, а чтобы голова стала свежей, ей надо дать отдохнуть. Да, мне просто необходимо как-то отвлечься.
Хэнк посмотрел на Ричарда. Оба молчали.
– Я знаю! – подсказала Мэйсон. – Опера! Как вы думаете, вашего влияния хватило бы, чтобы раздобыть для меня ложу?
Хэнк просветлел лицом.
– Черт возьми, моя хорошая, я готов выкупить весь театр, если вы того хотите!
– Это ни к чему. Но мне действительно понадобится эскорт. У вас нет никого на примете?
– Бустер может вас отвести! Ричард подозрительно прищурился:
– Я не слишком люблю оперу.
– Да брось, парень. Сколько раз ты пытался меня туда затащить? Ты знаешь, я не любитель этого дела, но тебе в театре нравится, я-то знаю. Я раздобуду вам лучшие места в ложе, даже если для этого придется выкинуть оттуда какого-то герцога и пару графинь. Так что, молодежь, у вас сегодня будет вечер, который запомнится на всю жизнь!
Мэйсон посмотрела на Ричарда с довольной ухмылкой.
Глава 10
Опера составляла славу Парижа, часто ее называли лучшей оперной сценой мира. Чарлз Гарнье, архитектор здания, хотел создать «памятник искусству, роскоши и удовольствия» и сумел претворить задумку в жизнь. С момента открытия в 1875 году Опера исправно служила высокой цели, отменно выполняя поставленные перед ней задачи. Мэйсон никогда там не была – для бедного художника поход в оперу был непозволительной роскошью. Почему бы не воспользоваться случаем и не совместить приятное с полезным? А заодно проверить, сработает ли в подходящей обстановке тайное оружие мадам Тулон?
«Опера-Гарнье» располагалась как раз между «Лё-Гранд-Отелем» и Жокейским клубом, под боком у Ричард и Мэйсон. Одетый щеголем, в цилиндре и фраке, Ричард поел за Мэйсон в Жокейский клуб, и до Оперы они дошли пешком. Он шел в Оперу не по своей воле, но, будучи джентльменом, вел себя вежливо. Он подвел Мэйсон к парадному подъезду, и они влились в поток нарядно одетых буржуа: дамы в вечерних платьях из шелка и атласа пастельных тонов, сверкающих драгоценностями; мужчины в котелках с тросточками. Изысканно декорированное фойе представляло собой интересную эклектику барокко и неоклассического стиля. Картины в дорогих рамах, роскошные статуи, привратники в золоченых ливреях – все это заставляло Мэйсон чувствовать себя Золушкой на балу. Они поднялись по величественной лестнице на второй уровень, и Мэйсон заметила расположенные по дуге открытые деревянные двери, ведущие в ложи, нависающие над партером и сценой.
– Наша ложа здесь, – сказал Ричард, указав прямо перед собой.
Они вошли в небольшой вестибюль со стенами и потолком, обитыми красным жаккардовым шелком. Вдоль боковых стен стояли подбитые конским волосом и обтянутые красным бархатом скамейки, на стене висели золоченые крючки для пальто. За малиновой бархатной портьерой начиналась собственно ложа. Мэйсон огляделась и осталась весьма довольной увиденным. Их ложа была центральной, как раз напротив сцены. В отличие от остальных лож, разделенных всего лишь перегородками, эта ложа располагалась между двумя орнаментированными колоннами, которые полностью скрывали Мэйсон и Ричарда от посторонних глаз.
Публика заняла свои места, и оркестр начал настраивать инструменты. Тем временем Ричард немного рассказал Мэйсон о том, что им предстояло лицезреть.
– «Аиду» написал итальянец Джузеппе Верди, и это произведение мне нравится больше других его сочинений. Действие происходит в Египте во времена фараонов. Аида – красивая эфиопская рабыня, попавшая в рабство как военный трофей, любима Радамесом, великим египетским генералом. Аида любит Радамеса, но беда в том, что его любит еще и дочь фараона Амнерис. Отсюда и конфликт. Опера показывает, как сильно усложняется жизнь, когда люди отдаются страстям.
Мэйсон улыбнулась про себя. Не слишком тонкий намек. Но пусть себе потешается. Пусть отказывает себе в том, чего ему так хочется. Сегодня она растопит лед, и будь что будет.
– Я даже не смела мечтать, что мы будем… будем совсем одни в этой огромной ложе, – как бы невзначай заметила Мэйсон. – Здесь так уютно, так укромно, я бы сказала. Здесь можно делать что угодно, и никто не узнает. Неудивительно, что люди из высшего общества так любят этот театр. Какое прекрасное место для… невинных шалостей.
Ричард взглянул на Мэйсон с сардонической усмешкой. Он очень хорошо понимал, что она пыталась сделать, и демонстративно сменил тему:
– Надеюсь, манеры Хэнка вас не шокировали. Он ведет себя как безграмотный фермер, но на самом деле более умного человека я не встречал, да и более благородного в определенном смысле. Я очень рассчитываю на то, что вы примете его предложение. Большего вы не смогли бы сделать для Мэйсон.
– Я не знаю, – с коварной улыбкой протянула она. – Возможно, мне нужна некоторая стимуляция.
В этот момент дирижер поднял палочку, и оркестр заиграл увертюру, свет медленно гас. Темнота вкупе с его близостью действовала возбуждающе. Нежные и сочные звуки музыки ласкали слух. Мэйсон наклонилась к Ричарду и шепнула:
– Вы не находите, что здесь слишком жарко?
Он с опаской взглянул на нее, и глаза его заблестели. В них отражался свет сцены.
Мэйсон достала из сумочки маленький флакон духов, растерла две капельки за ушами, на запястьях и капнула в вырез декольте, как учила ее мадам Тулон. Затем Мэйсон вытащила веер, раскрыла его и начала махать им в направлении Ричарда.
Искоса она наблюдала за ним. Занавес поднялся над египетской пустыней. Радамес вышел на середину сцены, чтобы пропеть арию о своей любви к Аиде. Как раз в этот момент Ричард учуял запах духов и вытянулся в струнку, сидя в своем кресле. Но когда дразнящий аромат окружил его, он встал и передвинул кресло в сторону на несколько дюймов от кресла Мэйсон, пробормотав при этом:
– Тут действительно довольно душно.
Мэйсон никак не отреагировала на эту демонстрацию. Она лишь продолжала лениво обмахиваться веером, нагнетая аромат в его сторону. Тем временем на сцене появилась Амнерис и стала петь, обращаясь к Радамесу. Через некоторое время к ней присоединилась Аида. И вот, пока все трое пели о своих чувствах друг к другу, Мэйсон пододвинула кресло поближе к Ричарду. Теперь отступать ему было некуда – он был зажат между Мэйсон и колонной.
Мэйсон дала Ричарду время привыкнуть к своему положению – пока Радамес вел свои армии на войну с Эфиопией, а Аида, разрываясь между любовью к своему врагу и к своей стране, обращалась к богам, умоляя их помочь то одной стороне, то другой.
Не в силах сдержать эмоции, Мэйсон положила ладонь на ногу Ричарда и наклонилась к нему, прошептав на ухо:
– Это великолепно. Я так вам благодарна за то, что вы меня сюда привели.
Ладонь ее так и осталась на ноге Ричарда. Мэйсон рассеянно и нежно принялась массировать ее, двигаясь заодно с музыкой, ощущая бегущие по спине мурашки.
Ричард сердито схватил руку Мэйсон и с силой сжал в своей. Затем резко убрал ее руку, опустив ее на колени Мэйсон, но та расслабила пальцы, словно и не придала значения его отпору. Однако прикосновение его руки, такое эмоциональное, довольно сильно ее возбудило. Дыхание ее ускорилось, и Мэйсон почувствовала, что ей становится жарко… везде.
Она снова наклонилась к Ричарду и положила голову ему на плечо.
– Извините, – тихо прошептала она в ложном раскаянии. – Вы меня прощаете?
Мэйсон почувствовала, что Ричард весь ушел в себя в попытке создать дистанцию между ними, не устраивая сцен. Она чувствовала, что внутри он весь кипит от ярости. Борется с собой, пытаясь взять себя в руки, пытаясь справиться с растущей злостью на нее, ведущую наступательные маневры в условиях, когда он не мог ответить ей адекватно. Но главный бой он вел с бесконтрольно разраставшейся похотью.
– Что я могу с собой поделать, если вы заставляете меня слабеть от желания? – жарко дыша ему в ухо, спросила Мэйсон, а затем лизнула его в мочку уха.
И тогда воздух в ложе сгустился, заряженный энергией самого грубого, самого первичного свойства. Мэйсон испытала шок, словно в нее ударила молния. Она чувствовала, как этот заряд прошел сквозь него и вошел в нее. Желание, что излучал его взгляд, завораживало.
– Вы играете с огнем, – предупредил Ричард.
– В самом деле?
Мэйсон провела ладонью по его груди, вниз, к застежке рубашки, и почувствовала, как Ричард напрягся еще сильнее. Глаза его вспыхнули, он приказывал ей остановиться. Но Мэйсон уже зашла слишком далеко. Она вся истекала соками, она чувствовала себя дерзкой и беспечной. И опасность лишь придавала пикантности ситуации.
– Не делайте этого, – сказал Ричард.
Она отважно улыбнулась в ответ. И эта улыбка была стара, как мир. То была улыбка всех искусительниц, сознающих свою власть. Тех, что знают, что самый стойкий мужчина не устоит перед ними.
Мэйсон бросила взгляд на Ричарда и увидела, что глаза его закрыты, а зубы сжаты. Нежные звуки музыки, дразнящий аромат ее духов, ее близость – все это рушило с таким трудом выстроенную оборону. Мэйсон медленно продвигалась вниз, дюйм за дюймом, затем пробежалась пальцами по животу Ричарда и почувствовала его дрожь. Пьянящий аромат ее духов дурманил их обоих.
И тогда она прикоснулась к его члену под одеждой.
Он был таким твердым, таким жестким, что казался сделанным из стали. Вот оно – доказательство его проигрыша. Он был крепок как бетон.
Рука Ричарда сжала руку Мэйсон. Она подумала, что он отведет ее в сторону, но он удерживал ее на месте, прижимал к себе, и глаза его были закрыты, и на лице была гримаса, похожая на гримасу боли.
Член набухал под ее пальцами, он жаждал освобождения. Мэйсон чувствовала трудное и хриплое дыхание Ричарда и поняла, что дышит так же.
И вдруг Ричард открыл глаза и бросил на Мэйсон тяжелый злобный взгляд. Рука его сжалась поверх ее руки. Он поднял ее руку, продолжая сжимать ее в своей, пока Мэйсон не вскрикнула от боли. Не отпуская ее руки, Ричард приблизил губы к ее уху и прорычал:
– Ладно! С меня хватит!
– Что? – спросила Мэйсон, вздрогнув.
– Ты победила. Я дам тебе то, что ты хочешь.
Ричард резко встал, потянув ее за собой, буквально сорвав с кресла. Кресло упало на пол, но громкие аккорды заглушили шум падения. Ричард затащил Мэйсон в проход ложи и прижал спиной к обитой шелком стене. Затем рывком задвинул портьеру, и они погрузились в почти полный мрак, если не считать узкой полоски света, прорывавшейся в просвет между портьерами.
Ричард набросился на Мэйсон, больно схватил за обнаженные плечи и рывком привлек к себе.
– Ты этого хочешь? – спросил он и стал целовать жадно и грубо, вжимая Мэйсон в стену, наваливаясь на нее едва не всем своим весом. Язык его обшаривал недра ее рта, и сердце Мэйсон бешено стучало, она чувствовала, что течет. Всю свою ярость, всю неудовлетворенность Ричард вложил в этот натиск.
Затем он поднял голову. У Мэйсон кружилась голова. Не зная, смогут ли ноги удержать ее, она жалась к стене. Ричард рывком опустил лиф ее платья, обнажив грудь. Взяв один сосок в рот, другой он начал массировать ладонью. Мэйсон откинула голову и застонала, полностью отдавшись захватывающим ощущениям. Она праздновала победу, но женский триумф растворялся в нарастающей страсти.
Ричард обхватил голову Мэйсон ладонями и поцеловал ее в губы так крепко и так мастерски, что у Мэйсон подкосились ноги.
– Ты этого хотела? Узнать, что ты со мной делаешь? Узнать, что ты сводишь меня с ума?
– Да, – выдохнула она, вне себя от счастья.
– Тебя это развлекает? Тебе нравится мучить меня? Смотреть, как я корчусь? Мучить меня этим… запахом, который разъедает мой мозг. Знать, что мне стоит лишь взглянуть на тебя, как я возбуждаюсь? Знать, что я не сплю ночами, желая тебя, что ты как лихорадка у меня в крови? Ты это хотела услышать?
– О да! – выдохнула Мэйсон.
– Тогда получай что хочешь, и пошло все к дьяволу.
Он рывком опустил ее на колени. Потом рывком расстегнул брюки, взял член в руку и толкнул к губам Мэйсон, требуя впустить его, затем проник внутрь. Плоть Ричарда была такой большой, что Мэйсон едва не подавилась. Но Ричард не останавливался. Сжимая в ладонях ее голову, он стоял над ней, словно бог.
Вкус его плоти был божественным. Скользя внутрь и наружу, Ричард направлял голову Мэйсон так, как хотел. Власть его над ней была абсолютной. Становясь еще тверже и больше, член заполнял ее рот целиком, доставая до горла. Стоя перед Ричардом на коленях, Мэйсон ощущала себя одновременно и беспомощной, и всесильной, она словно молилась на него, но в молитве возносилась сама. Она упивалась его вкусом, текстурой, которую ощущала языком. Она слышала нарастающий шквал музыкальных аккордов, воспринимая их как нечто органично вплетающееся в то, что происходило с ней.
Освободившись, Ричард взял Мэйсон за плечи и поднял с колен. Она покачнулась, и Ричарду пришлось придержать ее, чтобы не дать упасть.
– Ты этого хотела? – повторил он.
Мэйсон открыла глаза и увидела его муку в полусумраке ложи.
– Я хотела только одного – чтобы ты меня любил, – честно и неожиданно для себя призналась она.
Ричард выглядел совершенно потрясенным. Он долго смотрел на Мэйсон в упор, и в глазах его отражались противоречивые чувства, терзавшие его. Затем неожиданно он привлек ее к себе и обнял.
– Прости меня, – взмолился он. Мэйсон немного отстранилась.
– О, Ричард, тебе не за что просить прощения.
Взгляд его потеплел. Он поцеловал ее, на этот раз нежно, так нежно, что Мэйсон почувствовала, как сердце ее переполняет любовь. И когда хор в 400 голосов запел гимн древним богам, Ричард сказал:
– Посмотрим, смогу ли я искупить вину.
Он осторожно уложил Мэйсон на бархатную кушетку, заботливо целуя, лаская, чтобы сделать ей приятное. Она таяла под его поцелуями. С умелой и расчетливой неторопливостью, призывая на помощь все свое мастерство в искусстве любви, Ричард довел ее до блаженства. Откинув юбки, он ласкал ее там, где она стала влажной и липкой. Его умелые пальцы находили именно те точки, от прикосновения к которым Мэйсон выгибалась навстречу его руке. И затем, когда он знал, что она готова и не может более ждать ни секунды, он вошел в нее так медленно, так любовно-нежно, что Мэйсон захотелось плакать. Хор пел, и эта песня втекала в нее, проходила сквозь нее, и она впустила Ричарда в себя, и они слились телами и губами. Двигаясь вместе с ним под музыку, поднимаясь и падая вместе с аккордами, Мэйсон воспринимала их соитие как нечто непереносимо красивое. Теперь она забыла о своей победе, теперь все игры были заброшены перед лицом того чуда, что дарило ей его тело.
Они вместе дошли до высшей точки наслаждения как раз в тот миг, когда голоса певцов достигли оглушительного крещендо. Они парили над землей. Они купались в наслаждении, в котором так долго себе отказывали…
Они все еще продолжали лежать в объятиях друг друга, когда голоса стихли. Затем стихла и музыка. И тогда раздались оглушительные аплодисменты. В свете случившегося у обоих было такое ощущение, словно публика аплодировала лично им.
Ричард приподнялся, вспомнив, как и Мэйсон, о том, где они находятся. Она заметила озорной огонек в его глазах, и оба одновременно рассмеялись.
Но он быстро перестал смеяться.
– С тобой все в порядке? – серьезно спросил Ричард.
– В порядке – слишком слабо сказано.
– Я не обидел тебя?
– Обидел? – Мэйсон погладила его по щеке. – Ты меня потряс.
Она заметила в его глазах нечто похожее на благодарность, после чего Ричард наклонился и нежно поцеловал ее в губы.
Они слышали, как встают зрители, как выходят на первый антракт. Глуповато улыбаясь, они поднялись, стали поправлять одежду и, заметив смущение друг друга, снова засмеялись.
– Не могу понять почему, – игриво сообщила Мэйсон, – но мне ужасно хочется пить.
Он усмехнулся и приложил палец к ее губам:
– И я представить не могу, с чего бы это. Пойдем, я возьму тебе что-нибудь выпить.
Они вышли из ложи, и толпа вынесла их в коридор, а оттуда в большой зал. Большой зал представлял собой четырехугольное помещение примерно двадцать футов длиной со стеклянными окнами, выходящими на авеню Опера, тянущуюся до самого Лувра. Большой зал был оформлен на манер Зеркального зала в Версале, но моделью для росписи потолка послужила Сикстинская капелла в Риме.
– Оставлю тебя здесь, а сам принесу чего-нибудь выпить, – сказал Ричард.
Оставшись в одиночестве, Мэйсон почувствовала себя несколько неуютно. Вокруг нее были сплошь сливки парижского общества. Все здесь друг друга знали, непринужденно болтали, приветствовали друг друга – только она была всем чужая. Но Мэйсон находила утешение в своей маленькой тайне. Еще не остыв от того, что только что произошло в ложе, Мэйсон, улыбалась про себя и думала: «Если бы они только знали, чем мы сейчас занимались!»
Постепенно гул голосов стал приглушеннее. Женщина, стоявшая поблизости, сказала своему спутнику:
– Дорогой, это, случаем, не герцогиня Уимсли? Очень скоро это имя прошелестело по толпе, повторяемое на разные лады.
– Говорят, она самая красивая женщина в Англии.
– И муж ее богат, как Крез.
– Я слышал, что принц Уэльский от нее без ума.
– Боже, какой изумительный цвет лица!
Побуждаемая любопытством, Мэйсон протиснулась сквозь толпу, чтобы увидеть ту, которая вызвала такой фурор.
В центре зала стояла небольшая группа людей. Возле них образовалось пустое пространство. Мэйсон не составило труда догадаться, кто в этой компании та самая герцогиня. Герцогиня действительно была потрясающе красива. Изящные черты лица, роскошные каштановые волосы, сливочный цвет лица, наряд из белого атласа, расшитый настоящим жемчугом – все в ней говорило о богатстве и ухоженности. Герцогиня двигалась с непринужденной грацией истинной аристократки, но снобизма в ней не было: она улыбалась своим спутникам с той теплотой и непринужденностью, которая всем помогала чувствовать себя с ней раскованно.
Мэйсон подошла поближе к герцогине, чтобы лучше ее рассмотреть, но вспомнила про Ричарда и поспешила вернуться туда, где он ее оставил, отправившись за напитками. Она успеет как раз вовремя: Ричард шел к ней с двумя бокалами шампанского в руках. Свет зажегся и погас, сигнализируя о начале следующего акта. Мэйсон одарила Ричарда лукавой улыбкой.
– Ужасно хочется узнать, что для нас приготовил второй акт.
Он согрел ее взглядом.
Но как раз в тот момент, когда они с Ричардом выходили из фойе, судьба свела их с той группой, за которой успела понаблюдать Мэйсон. Головокружительная красавица герцогиня взглянула на них и вдруг тихо воскликнула:
– Ричард!
Мэйсон почувствовала, как напрягся Ричард. Подняв на него глаза, Мэйсон увидела, что от умиротворенности его не осталось и следа. Она не могла понять, какая именно из эмоций нашла отражение у него на лице, но в том, что на приветствие герцогини Ричард отреагировал весьма эмоционально, сомнений не было.
– Эмма, – веско произнес он.
Они знают друг друга? Ричард и та английская Грация? Мэйсон сразу стало как-то не по себе.
– Как приятно увидеться вновь, дорогой, – сказала женщина, которую Ричард назвал Эммой. К ней вернулось прежнее самообладание. – Что привело тебя в Париж?
– Я думаю, вам это известно, – с нажимом в голосе сказал он. Мэйсон знала, что означает этот тон. Он пытался справиться со своими эмоциями. Он выглядел так, словно готов был ударить эту женщину.
«Что же было между ними? И что за кошка между ними пробежала?»
– Только не говори мне, что это сестра, – сказала Эмма.
Они перегородили выход, но никто не пытался их оттеснить.
Мэйсон ждала, пока Ричард представит их друг другу. Не дождавшись от него такой любезности, Эмма представилась сама:
– Меня зовут Эмма. Фамилия у меня Фортескью-Уинтроп-Смит. Я знаю, что выговорить это невозможно. Поэтому предпочитаю, чтобы вы звали меня просто Эмма.
Мэйсон пожала протянутую руку. Кисть была узкой и невероятно гладкой.
– Эми Колдуэлл.
– Вы меня поражаете, – язвительно заметил Ричард. – Мне казалось, что вы предпочитаете, чтобы все звали вас исключительно «ваша светлость».
Эмма улыбнулась:
– Это не относится к старым друзьям.
– Кажется, мы мешаем движению. Нам лучше посторониться.
Но еще до того, как Ричард успел отойти в сторону, Эмма положила руку на его кисть.
– Ты хорошо выглядишь, Ричард.
– И вы, – сказал он холодно, – выглядите так, словно имеете все, что заслуживаете.
Эмма отвела глаза в сторону, но Мэйсон заметила во взгляде герцогини боль. Однако улыбка герцогини была все такой же лучезарной и любезной.
– Я остановилась в доме моей близкой подруги, на ее вилле Галлери, пока та отдыхает на Капри. Вы могли бы как-нибудь навестить меня. Вспомнили бы старые добрые времена.
– Я думаю, вы знаете, что этого не будет. Герцогиня гордо вскинула голову.
– Ну что же, если вы передумаете, приглашение остается в силе. Желаю приятно провести время. И, Эми, я уверена, что мы еще увидимся. Возможно, очень скоро.
На пути к ложе Мэйсон спросила:
– Как это все понимать?
– Статья в «Лондон таймс», должно быть, заставила ее выйти из тени.
– Что ты имеешь в виду?
Ричард взглядом предупредил Мэйсон, чтобы та говорила тихо.
– Она приехала за картинами вашей сестры. И сделает все, чтобы их раздобыть. Сделай мне одолжение, ладно? Старайся любой ценой ее избегать.
– Почему?
– Потому что ее муж – коллекционер. Если картины окажутся у него, их никто больше не увидит. Завтра или послезавтра она явится к тебе, будет осыпать тебя любезностями и сделает заманчивое предложение. Но ей ни в чем нельзя доверять. Поэтому не встречайся с ней. Не говори с ней. Старайся держаться от нее как можно дальше.
Ричард свернул в сторону лестницы, идущей вниз.
– Куда ты идешь? Наша ложа в другой стороне.
Он посмотрел на нее виновато, но Мэйсон видела в глазах его злость.
– Я провел замечательный вечер, Эми, но я думаю, с нас достаточно оперы на одну ночь.
Мэйсон пошла следом за Ричардом. Она не понимала, что произошло в фойе. Но она точно знала две вещи: Ричард и эта Эмма Фортескью-Уинтроп-Смит имели общее и очень бурное прошлое, и эта головокружительной красоты герцогиня до сих пор была в него влюблена.
Глава 11
На следующий день после посещения Оперы Ричард провожал Мэйсон в Овер. Поезд ждал отправления с минуты на минуту. Ричард явно нервничал. Когда, как ему казалось, Мэйсон не смотрела в его сторону, он тревожно оглядывался. Но Мэйсон наблюдала за ним с пристальностью ястреба, высматривающего добычу. Вчерашняя встреча в театре подействовала на нее как ушат ледяной воды.
Фактически именно Ричард предложил Мэйсон вернуться в Овер. Конечно, он очень старался, чтобы его предложение прозвучало так, словно он не особенно настаивает на ее отъезде. Но Мэйсон не поддалась на уловку. Она гадала, что же такое он скрывает и почему так не хочет, чтобы она встречалась с очаровательной герцогиней?
– Тебе что-то очень уж не терпится отправить меня подальше из Парижа. Но тебе не стоило так волноваться, и провожать мой поезд совсем не обязательно.
– Ты же сама говорила, что любишь бывать за городом. Если ты помнишь, я, можно сказать, насильно утащил тебя из Овера на встречу с Хэнком. Ты пошла мне навстречу, и за это тебе спасибо, но теперь можно и вернуться туда, где тебе так хорошо дышится.
– Ты такой внимательный.
– К тому же в городе у меня много дел, которые отнимают все свободное время. Сегодня начнется строительство павильона, и я должен постоянно отслеживать ситуацию, чтобы все прошло гладко. Через несколько дней я встречаюсь с журналистом, который приедет сюда из Берлина, и надеюсь убедить его сделать то, что Катбер сделал для нас в Лондоне.
– Эта лондонская статья привлекла к нам весьма интересных персонажей.
Ричард вопросительно приподнял бровь, спрашивая себя, не сарказм ли услышал он в ее замечании? Но он решил не развивать тему.
– Еще одно: как только ты получишь известие о том, что картины отправлены из Америки, дай мне знать, чтобы я мог их получить.
Может, ей показалось, что в голосе его прозвучал вызов?
– У тебя и так много забот. Получение оставшихся картин я возьму на себя.
– Мне всего лишь хотелось помочь.
– Столько любезностей за одно утро. Не пересластить бы.
Ричард окинул Мэйсон быстрым взглядом, но в ответ лишь пожал плечами:
– Как тебе будет угодно. Но картины нужны нам не позднее середины июня. Необходимо внести их в каталог, заказать рамы, правильно развесить. И это требует времени.
– Не переживай. Картины будут в срок.
– Поезд отправляется! – прокричал проводник.
– Ну что же, тебе пора в путь. Приятного путешествия.
И снова Мэйсон заметила это странное выражение в его глазах. Ричард наклонился и быстро чмокнул ее в щеку, затем помог ей подняться на приступку и передал носильщику ее саквояж.
Поезд медленно тронулся. Удовлетворенный, Ричард пошел к выходу. Мэйсон высунула голову из окна, проследив за Ричардом, пока он не скрылся из виду, затем, выхватив саквояж из рук обескураженного носильщика, соскочила с движущегося поезда.
Поезд в облаке пара проследовал дальше, а Мэйсон, порывшись в сумочке, достала визитку, которую ей доставили сегодня рано утром. Мэйсон еще раз взглянула на буквы с золотым тиснением: ГЕРЦОГИНЯ УИМСЛИ.
Мэйсон испытывала легкое чувство вины из-за того, что обманула Ричарда. Но она была в него влюблена и имела право знать, какую именно роль та, другая женщина играла в его жизни.
Взглянув на вокзальные часы, Мэйсон обнаружила, что у нее есть всего двадцать минут, чтобы вернуться в отель. Покинув вокзал через боковой выход, Мэйсон наняла кеб и велела отвезти ее на улицу Писцов.
На все про все у нее оставалось всего несколько минут, но Лизетта была почти готова. Лизетта надела рыжий парик, строгое платье и очки. Увидев подругу в таком виде, Мэйсон расхохоталась:
– Мне нравится твой парик. Где ты его раздобыла?
– В цирке, конечно. Его носит Мими, пожиратель огня. В нескольких местах он попорчен огнем, но, надеюсь, это не слишком заметно.
– Ты знаешь, что будешь говорить?
– Думаю, да.
– Впрочем, все это не так уж важно. Главное, чтобы ты присутствовала при нашем разговоре. Мне очень важно, какое ты составишь мнение об этой женщине.
В дверь постучали. Мэйсон торопливо расправила юбки, сделала глубокий вдох и пошла открывать. Но вместо ожидаемых гостей она увидела человека в ливрее. Он стоял в коридоре, теребя шляпу.
– Я вас слушаю, – сказала Мэйсон.
– Меня зовут Персиваль, мисс Колдуэлл. Я имею честь представлять ее светлость герцогиню Уимсли. Как я понимаю, вы ее ждете?
– Да, жду.
Персиваль развернулся и пошел к лифту.
– Ваша светлость, вас ожидают, – сообщил он. Мэйсон взглянула на Лизетту, та закатила глаза.
Из лифта вышла герцогиня, вся в мехах и страусовых перьях. Она неторопливо прошла к двери, и шла она так, словно не ступала по твердому полу, а парила в воздухе. Выглядела она еще более ошеломляюще, чем накануне в Опере.
– Боже мой! – не удержавшись, прошептала Лизетта.
Герцогиня протянула Мэйсон изящную, затянутую в перчатку руку и сказала:
– Мисс Колдуэлл, как это любезно с вашей стороны позволить мне злоупотребить вашим обществом после столь краткого знакомства. Надеюсь, что вы простите мое вторжение после того, как узнаете о цели моего визита?
Мэйсон пожала руку. Тонкая кожа перчатки была такой соблазнительно нежной, что ей захотелось ее погладить.
– Прошу вас, заходите, миссис… герцогиня…
– Перестаньте, вы же обещали называть меня Эмма. И я буду звать вас Эми, если позволите. Я надеюсь, мы станем близкими подругами. – Герцогиня вошла в комнату и тут заметила Лизетту в нелепом парике и в платье тюремной надсмотрщицы. – О, но, может, я пришла не вовремя? Кажется, я вам помешала.
– Позвольте представить мадемуазель Лафарж, – сказала Мэйсон. – Она личный секретарь месье Берта, который, как вам, вне сомнений, известно, является одним из самых богатых плантаторов французской колонии на острове Реюньон в Индийском океане. Похоже, месье Берт намерен купить картины моей сестры для украшения своего нового дома.
Эмма смотрела на Лизетту с веселым любопытством.
– Месье Берт… Тот самый Эмиль Берт? Лизетта ответила с непринужденной улыбкой:
– Я никогда не слышала об Эмиле Берте. Моего работодателя зовут Генри.
– Ах, Генри Берт. Боюсь, я не знаю этого господина.
– Он не слишком часто выезжает в Европу.
– Неудивительно. Слышала, что климат на Реюньоне просто замечательный. Но должно быть, вы пользуетесь его безраздельным доверием, раз он отправил вас со столь ответственной миссией в такое дальнее путешествие.
– Месье Берт действительно мне доверяет.
– Конечно. – Эмма подошла к Лизетте и окинула ее доброжелательным взглядом. – И возможно, он считает, что вы, как никто другой, подходите для этой миссии, ибо без очков вы как две капли воды похожи на модель, столь блистательно отображенную на картинах Мэйсон Колдуэлл. Как же ее звали? Месье Фальконе был настолько любезен, что сообщил мне… О да! Вспомнила. Ее зовут Лизетта Ладо.
Назвался груздем – полезай в кузов.
Мэйсон попробовала сменить тему, но гостья подошла к Лизетте поближе и двумя пальчиками приподняла с плеча девушки длинную белокурую прядь.
– Ну конечно! Знаменитая гимнастка цирка Фернандо – блондинка, а не рыженькая.
Понимая, что игра закончена, Лизетта сняла парик и швырнула его на трюмо.
– Герцогиня слишком проницательная, – с досадой бросила она в сторону Мэйсон.
– Не расстраивайтесь, моя дорогая, – успокоила ее Эмма. – Я только что смотрела картины. Нужно быть слепой, чтобы не заметить такое хорошенькое личико под очками и париком.
Мэйсон чувствовала себя крайне глупо.
– Простите, – сказала она. – Мы просто пошутили. Эмма махнула рукой:
– Я все прекрасно понимаю. Вы хотели получить за картины вашей сестры самую высокую цену, вот и придумали покупателя, чтобы можно было поторговаться, верно? Это очень умный ход. Умный, но совершенно излишний, уверяю вас. Я всегда плачу хорошие деньги за то, чем хочу обладать, и сегодня пришла к вам с лучшим предложением из всех тех, что вы можете получить.
– Вы не присядете? – сказала Мэйсон. – Мы могли бы заказать сюда чаю или чего-нибудь еще.
Эмма села. Спину она держала на удивление прямо.
– Не стоит затруднять себя. Я полагаю, вам не терпится выслушать мое предложение. Как вы, возможно, знаете, мой муж герцог Уимсли один из самых богатых коллекционеров в Англии. Я прочла о картинах вашей сестры в «Таймс» и решила, что должна немедленно приехать в Париж, чтобы посмотреть на них своими глазами. Под руководством мужа я выработала чутье на подобные вещи, и я должна признаться, что, увидев сегодня утром картины Мэйсон Колдуэлл, убедилась – чутье меня не подвело. Работы просто великолепны, и мы обязательно должны иметь их в коллекции Уимсли.
– Должны? – переспросила Мэйсон. Эмма сделала вид, что ничего не услышала.
– Я готова перекупить любое предложение. – Она посмотрела на Лизетту и поправила себя: – Любое легитимное предложение – и заплатить на двадцать пять процентов больше.
– Вы очень щедры. Однако, будучи попечительницей наследия моей сестры, я должна принимать во внимание не только финансовую сторону.
– О, но я предлагаю нечто гораздо большее, чем просто деньги. Картины Мэйсон увидят много, много людей – весь тот бомонд, что бывает у нас в доме. О вашей коллекции много говорят в Европе. Спросите – вам любой скажет. Лучшие люди будут приходить к нам лишь для того, чтобы посмотреть работы Мэйсон. То, что мы с мужем в мире искусства люди влиятельные, широко известно и подтверждено документально, уверяю вас. Мы позаботимся о том, чтобы о вашей покойной сестре говорили как о величайшей художнице современности.
– Я в этом не сомневаюсь.
– Но вы не спешите принять мое предложение, даже если оно лучшее из того, что вы можете получить?
– Я внимательно рассмотрю его, но я уверена, что вы понимаете, какая на мне лежит ответственность.
Эмма пристально посмотрела на Мэйсон.
– Возможно, ваши колебания имеют какое-то отношение к нашему общему другу мистеру Гаррету?
– Ричард очень помог мне.
– О, в этом я не сомневаюсь.
– Не знаю, что бы я без него делала. Он давал мне весьма ценные советы и был моим штурманом в опасных водах общения с журналистами, критиками, торговцами и… меценатами, – с нажимом на последнем слове сообщила Мэйсон.
В глазах герцогини промелькнуло презрение.
– Естественно, моя дорогая. У него есть скрытые мотивы.
– Какие именно?
– Как он посоветовал вам поступить с картинами?
– Он предложил несколько вариантов.
– Перестаньте, Эми. Он не захотел бы, чтобы картины оказались в руках спекулянтов или коллекционеров. Ему претит сама мысль о том, что произведения искусства не станут достоянием широких масс. Так что он, должно быть, предложил вам не продавать картины коллекционерам.
Эта дама начала действовать Мэйсон на нервы, кроме того, она испытывала ревность к особе, которая, как оказалось, весьма неплохо знала Ричарда.
– На самом деле он имеет в виду иного покупателя.
– Да? И кто бы это мог быть?
– Не знаю, могу ли я говорить вам об этом. Скажу лишь, что этому человеку он безраздельно доверяет.
Эмма постучала пальцами одной руки по пальцам другой. Но буквально через мгновение опустила руки и замерла.
– Нет, не может быть… Хэнк? – Мэйсон вздрогнула, и Эмма поняла, что попала в точку. – Хэнк Томпсон?
Эмма запрокинула голову и рассмеялась. Этот залихватский жест настолько выбивался из ее манеры держаться, что Мэйсон и Лизетта в недоумении переглянулись.
– Зачем, черт побери, старому бандиту сдались картины импрессионистов?
Мэйсон вспыхнула:
– Если хотите знать, он мечтает создать музей, целиком посвященный импрессионизму.
– Хэнк? – Эмма снова рассмеялась. – Моя дорогая Эми, я понятия не имею, что они вам наобещали, но вы должны знать, что все то, что говорят эти двое, не следует принимать как истину в последней инстанции. Много лет они работают вместе и провернули немало головокружительных комбинаций. Во что бы сейчас они ни пытались вас втянуть, знайте, что от них вы не получите и десятой доли тех денег, что могу предложить вам я. Не говоря уже о репутации вашей сестры.
У Мэйсон заболела голова.
– Ваши слова ласкают ухо, но Ричард меня предупреждал относительно вас.
– Предупреждал? Относительно меня? – Эмма вдруг резко побледнела.
Мэйсон испытала столь глубокое удовлетворение, что решила пойти еще дальше:
– На самом деле он велел мне избегать вас любой ценой. Он даже сообщил, что вам нельзя доверять.
В глазах герцогини вспыхнуло что-то хищное.
– Он сказал это? Он сказал, что мне нельзя доверять? И это говорит тот, кто в жизни не сказал ни слова правды?
Мэйсон была шокирована.
– О чем вы говорите?
– Ложь – его профессия. Вся его жизнь – сплошное наслоение одного обмана на другой, и все затем, чтобы скрыть правду о том, что он детектив. Профессиональный сыщик.
– Сыщик?
– Ну конечно. А вы не знали? И все эти разъезды по миру под видом ценителя искусства, вся эта жизнь преуспевающего сердцееда – все это его легенда, прикрытие. В мире искусства у него есть определенная репутация, но и ее он использует для того, чтобы выслеживать воров, мошенников, фальсификаторов…
– Мошенников? – эхом откликнулась Лизетта. Мэйсон стало трудно дышать.
Эмма устало откинулась на спинку кресла. Вид у нее был такой, словно она запоздало осознала, что в своем праведном гневе зашла слишком далеко.
– О, я знаю, что ему нравится держать руку на пульсе событий. И я не хочу раскрывать тайны его прошлого. Но наш случай – особый. Вы должны знать правду, чтобы понимать, с чем и с кем вы в действительности имеете дело.
Мэйсон лишилась дара речи и лишь во все глаза смотрела на гостью.
Эмма выдавала Мэйсон информацию маленькими порциями и говорила медленно и раздельно, словно общалась с ребенком:
– Ричард работает на сыскное агентство Пинкертона. Хэнк, вероятно, нанял его для того, чтобы тот помог ему в приобретении картин. Я думаю, что это блестящий ход. И вы, если дадите себе труд над этим поразмыслить, тоже со мной согласитесь. Кто лучше подойдет для этой цели, чем светский лев, способный без усилий вскружить голову женщине, впервые приехавшей в Европу из Америки, и благополучно передать ее прямо в руки Хэнку?
Герцогиня вновь перевела разговор на свое предложение, которое она излагала сейчас более детально, называя головокружительные суммы со многими нулями, делая упор на то, что никто не сможет предложить большие деньги. Пока герцогиня говорила, Лизетта перебралась к Мэйсон, села с ней рядом и взяла ее за руку.
Но усилия Эммы были напрасными. Мэйсон не слышала ни слова из убедительной речи гостьи. Ей было довольно того, что она узнала о Ричарде. О том, что Ричард Гаррет – профессиональный сыщик, специализирующийся на выслеживании мошенников от искусства.
Глава 12
Ричард Гаррет из окна кеба, медленно продвигавшегося по бульвару Капуцинов, высматривал ее в толпе пешеходов, заполонивших тротуар.
Примерно часом раньше агент, которому он поручил следить за тем, что происходит в Жокейском клубе, сообщил ему, что со своего поста напротив входа в частный отель увидел, как та женщина вернулась. Гаррет примчался в Жокейский клуб, стрелой поднялся наверх, на этаж к Мэйсон, и принялся стучать в дверь. Не дождавшись ответа, он вызвал коридорного и велел ему впустить его в ее номер, сделав коридорному предложение, от которого тот не смог отказаться. Но ее там не было. Он поспешил вниз, но от привратника узнал, что Мэйсон уехала из отеля минут десять—пятнадцать назад. И также сообщил, что мадемуазель не стала нанимать кеб. Он видел, как она пошла пешком по улице Писцов и затем свернула за угол на бульвар.
Что, черт возьми, произошло? Очевидно, она обвела его вокруг пальца и вернулась в отель, чтобы встретиться с Эммой. Он не знал, чем вызван этот поступок: ревностью, подозрительностью или жадностью, как не знал он, имела ли место встреча с герцогиней Эммой или нет. Но он подозревал, что встреча состоялась. Иначе зачем ей было идти на все эти уловки?
Итак, чем ему грозила эта встреча? Возможно, никакой катастрофы не произошло. Эмма, разумеется, постарается выставить его в не слишком выгодном свете и раскроет кое-что из его биографии, но всю правду открывать она не станет. Она его не сдаст. Слишком уж небезупречно ее собственное прошлое, чтобы бросать ему такой вызов. Между ним и Эммой давно был молчаливый уговор: «Ты хранишь тайну моего прошлого, а я – твоего».
Скользя взглядом по лицам прохожих, праздно гуляющих по бульвару, по лицам посетителей кафе, по тем, кто рассматривал витрины или покупал блинчики у уличных торговцев, Гаррет мысленно перебирал в памяти многозначительные «нестыковки», число которых множилось с каждым днем.
Как она, не задумываясь, ответила официанту на беглом французском во время ужина с Катбером.
Подозрительно близкая дружба с моделью и лучшей подругой Мэйсон Лизеттой после столь непродолжительного знакомства.
Краска, что заметил он на ее руках под слоем грязи в Овере, как и ее стремление во что бы то ни стало скрыть от него тот факт, что руки ее запачканы краской.
Еще не вполне просохшая краска на «спасенной» картине, изображавшей Лизетту в катакомбах.
И отсутствие в актах записей гражданского состояния каких-либо сведений об Эми Колдуэлл, рожденной в Бостоне, штат Массачусетс. На самом деле в Бостоне вообще не нашлось никаких записей о семействе Колдуэлл.
Ни одна из этих «нестыковок» не была решающей уликой сама по себе, и каждому отдельному случаю можно было найти объяснение, и все же он чувствовал, что чутье его не обманывает. Эми была той самой Мэйсон Колдуэлл. Умозаключение, казавшееся поначалу невероятным, переросло в уверенность. Уверенность окрепла в нем, овладела им, завладела его чувствами, и эта уверенность возбуждала, возбуждала и мозг, и плоть.
Но как доказать это? Гаррет перебирал сотни вариантов. И вот сегодня утром, когда он показал архитектору автопортрет, обсуждая с ним место, куда его можно повесить, решение пришло само. Родинка! Родинка на портрете. Была ли эта родинка выдумкой художницы? Или она существовала на самом деле? Конечно, она была настоящей, и, следовательно, так называемая сестра должна иметь такую же…
И вдруг он увидел ее. Она сидела одна за столиком уличного кафе с бокалом коньяка в руке и рассеянно смотрела в пустоту. Гаррет остановил кеб, велел вознице подождать, а сам поспешил к ней.
– Эми? Я сошел с ума? Разве я не посадил тебя в поезд в Сен-Лазаре?
Мэйсон вздрогнула, услышав голос Ричарда. Когда она подняла глаза, взгляд ее был как у зайца, которого загнали собаки.
– Я… я почувствовала себя нехорошо, – заикаясь, сказала она.
– Нехорошо?
– Ну да. Как-то вдруг. – Она избегала встречаться с ним взглядом. – Я сошла с поезда на первой остановке и вернулась в Париж.
Она и в самом деле неважно выглядела. Лицо ее было бледным, глаза запали и казались безжизненными.
Ричард присел рядом с Мэйсон за маленький столик.
– Бедняжка. Тебе надо прилечь. Она продолжала смотреть в сторону.
– Мне захотелось подышать воздухом, – словно оправдываясь, сказала она. Затем, резко сменив тактику, запальчиво спросила: – А что тут делаешь ты?
– Какое замечательное совпадение. Я тоже захотел подышать воздухом. Проходил мимо и вдруг увидел тебя.
Она бросила на него быстрый взгляд, потом уставилась в бокал и сделала глоток коньяка, словно чтобы успокоиться.
– Я боялся, что с тобой это произойдет, – сказал ей Гаррет. – Принимая во внимание все то, через что тебе пришлось пройти, удивительно, как этого не случилось раньше. Но не переживай. Я прямо сейчас отвезу тебя к врачу.
– Нет, – быстро ответила Мэйсон и добавила уже более уверенным тоном: – Мне не нужен врач. Мне просто надо немного отдохнуть.
– Ну, тогда вернемся к тебе в отель. Тебе действительно надо лучше о себе заботиться.
– Пожалуйста, не стоит беспокоиться. Со мной все будет хорошо.
Ричард наклонился к ней и провел ладонью по ее щеке.
– Я знаю, что тебе нужно на самом деле, – тихо сказал он. – Но, полагаю, с этим можно подождать, пока тебе не полегчает. Пойдем, я отвезу тебя в отель.
Он оставил деньги на столе за коньяк и проводил Мэйсон к кебу.
Между тем он искоса наблюдал за ней. От него не укрылась ни ее землистая бледность, ни то, как она выставила плечо, словно возводя преграду между ним и собой. Одно было ясно: что-то изменилось. Она ускользала от него.
Но он не допустит, чтобы она от него ускользнула.
И вновь Мэйсон подошла к балкону и посмотрела вниз. Она никого подозрительного не заметила, но чутье подсказывало ей, что за ней пристально следят. Следит кто-то из агентов Ричарда. А может, не один агент, а несколько. Впервые она почувствовала себя в западне.
Когда герцогиня с такой изящной небрежностью взорвала бомбу, Мэйсон изо всех сил пыталась не показать, насколько разрушительным для нее оказалось действие той бомбы. Она даже сумела изобразить интерес к предложению Эммы и постаралась как можно быстрее закруглить разговор. Выпроводив гостью за дверь, она в ужасе обернулась к Лизетте.
– Детектив! Тайный агент!
Лизетта была растеряна и испугана не меньше Мэйсон.
– Надо узнать, что это за сыскное агентство…
– Я не могу сейчас разговаривать, – оборвала ее Мэйсон. – Мне надо подумать.
Мэйсон буквально выбежала из отеля и, пройдя быстрым шагом несколько кварталов по бульвару Капуцинов, обессилено опустилась на стул одного из многочисленных уличных кафе. Затем…
«Просто, проходя мимо… Удивительное совпадение…» Как это мерзко. Как унизительно. Очевидно, он выставил ищеек, следящих за каждым ее шагом. Вот как он узнал о том, что она уехала в Овер! Подлый ублюдок!
С того самого момента, как прозвучали фатальные слова «агентство Пинкертона», Мэйсон не переставала мысленно проигрывать события последних недель, оценивая все происходящее с совершенно иного угла зрения. Теперь все виделось ей в новом, зловещем свете.
Кто же нанял Гаррета? Скорее всего, Дюваль. Кто лучше его сможет выследить и загнать в угол американскую мошенницу?
Но дойти до такой степени эмоциональной вовлеченности… Столько романтики… Ради чего? Неужели только, как сказала Эмма, ради того, чтобы вскружить ей голову, заставить забыть об осторожности и выудить у нее признание?
Что же, если все так и обстояло, он почти преуспел. Мэйсон передернуло при мысли о том, насколько близка она была к тому, чтобы тогда, на кладбище Монмартр, выложить Ричарду всю правду.
Но если все затевалось лишь с одной этой целью, то зачем ему было отталкивать ее от себя, зачем он заставил ее поверить в то, что влечение к ней его пугает настолько, что он вынужден защищаться?
Чтобы она начала преследовать его, вот для чего! Все так очевидно.
Этот негодяй просто дьявольски хитер.
Однако могла ли быть поддельной та страсть, которой она была свидетельницей? В человеческих ли это силах?
И снова в голове Мэйсон зазвучали слова Эммы: «И все эти разъезды по миру под видом ценителя искусства, вся эта жизнь преуспевающего сердцееда – все это его легенда, прикрытие».
Потом она подумала о картинах, о том, как глубоко Ричард понял их, как высоко оценил, о том, как сильно они тронули его, обо всех тех усилиях, что он приложил к тому, чтобы эти произведения остались в веках. Неужели это тоже все подделка? Все может быть.
И это ранило сильнее всего.
Она действительно влюбилась в него. Она подумала, что встретила мужчину, который смог заглянуть в ее душу, смог понять ее и исцелить ее израненное сердце.
Какой же она была дурой! Исключительно по собственной глупости она навлекла на себя беду. И теперь ей грозит опасность. Смертельная опасность.
Господи, неужели ей предстоит провести ближайшие десять лет в тюрьме? Вот она – ирония судьбы. Она приехала во Францию, чтобы вернуть Колдуэллам доброе имя, а выходит так, что она очернила его еще больше.
Она могла бы пуститься в бега. Попробовать выбраться из страны. Но как это сделать, если за ней следят? Следят непрерывно, днем и ночью?
И, если ей все же каким-то чудом удастся сбежать, что делать дальше? Скрываться и убегать всю оставшуюся жизнь?
Безнадежность и отчаяние накрыли Мэйсон.
Она отвернулась от окна.
«Я не должна паниковать. Надо сохранять ясность мысли».
Мэйсон опустилась на стул и приказала себе успокоиться. В этой мозаике было слишком много пробелов, чтобы понять картину в целом.
Кем именно в действительности были Хэнк и Эмма? Каково их место во всей этой истории?
И что это за тайна прошлого Гаррета, на которую намекала Эмма? Может, вооружившись знанием о его прошлом, ей, Мэйсон, будет легче выйти сухой из воды?
Мэйсон нужна была информация. Из исключительно надежных источников. И немедленно. И внезапно ей пришло в голову, кто может дать ей необходимые сведения.
Лизетта.
Вернее, отвергнутый воздыхатель Лизетты.
Джуно Даргело.
Бандитский король Бельвиля.
Глава 13
Во времена средневековья деревня Бельвиль располагалась на увитых виноградом склонах холма к востоку от Парижа. В восемнадцатом веке Бельвиль прославили кафе на открытом воздухе, куда парижане по воскресным дням отправлялись, чтобы отведать гингет, особое вино местного производства. После 1840 года местечко быстро разрослось и превратилось в один из самых крупных городов в Иль-де-Франс, а в 1860 году Париж поглотил этот город. Но в 1870-х годах сюда стала стекаться городская беднота, согнанная с насиженных мест начавшейся перестройкой города по плану Наполеона Третьего. С тех самых пор Бельвиль стал скоплением трущоб, рассадником мятежей и бандитизма. На улицах Бельвиля правили бал бандиты, которые сами себя прозвали «апачами», в честь самого воинственного племени американских индейцев.
Когда Мэйсон и Лизетта пересекли невидимую границу, проходящую по бульвару Менилмонтан, у них создалось ощущение, что они попали в другую страну. Возница кеба немедленно высадил их – как и большинство парижан, он опасался вторгаться на запретную территорию. Но здесь девушек уже ждал эскорт – группа крепких «апачей» готова была обеспечить им безопасность пребывания на вверенной им территории. То было элитное подразделение – группа охраны самого главаря Джуно Даргело, того самого, кто сумел объединить разрозненные банды под единым управлением и навести порядок в округе.
В сопровождении дюжих молодцов Мэйсон и Лизетта прошли несколько кварталов до улицы Бельвиль. Весть об их прибытии уже каким-то чудом разнеслась по окрестностям, и народ высыпал из магазинчиков и квартир, чтобы посмотреть на парижских красоток. Вернее, чтобы поглазеть на Лизетту, о страстной любви к которой самого Джуно Даргело здесь уже слышали немало. Для этих людей то был роман века, любовная история сродни истории Тристана и Изольды.
– Лизетта! Лизетта! – кричали в толпе.
Лизетта, прирожденная артистка, посылала своим почитателям и почитательницам воздушные поцелуи и чарующие улыбки.
Теплая встреча воодушевила Мэйсон. Несмотря на грозную репутацию Бельвиля, она испытала огромное облегчение, оказавшись здесь. Всю последнюю неделю в ожидании этого дня ей приходилось притворяться больной и раз за разом отклонять настойчивые предложения помощи со стороны Гаррета, как и попытки приударить за ней.
Здесь она чувствовала себя в безопасности. Телохранители Даргело наверняка позаботились о том, чтобы оставить «хвост», если таковой и был, далеко за пределами контролируемой ими территории.
Они подошли к кафе, где группа зрителей, насчитывающая человек сто, почтительно стояла у входа, дожидаясь возможности увидеть Лизетту. Несколько «апачей» оттеснили толпу, чтобы освободить проход гостьям. В кафе воздух был густым от дыма дешевых сигарет. Несколько человек пили абсент у стойки бара. Откуда-то сверху, где, вероятно, располагался танцевальный зал, доносилась музыка.
Даргело сидел за дальним столиком. Мэйсон заметила, что тут, в своем королевстве, он смотрелся совсем по-другому. Властитель, почитаемый и любимый своими подданными. Пусть обстановка была убогой, но сам Даргело был отмыт, чисто выбрит, одет с иголочки, даже с цветком ириса в петлице. Чувствовалось, что он весьма серьезно отнесся к этому рандеву.
Увидев девушек, Даргело вскочил, обошел стол и вышел навстречу подругам с распростертыми объятиями. Мэйсон протянула ему руку, и он галантно ее поцеловал. Лизетта не обращала на Даргело ровно никакого внимания.
Он обвел взглядом помещение, незаметно махнул рукой, и зал тут же опустел, как по мановению волшебной палочки. Остались только они трое и мощный гасконец с обритой наголо головой.
Не обращая внимания на надменность Лизетты, Даргело обнял ее за плечи и повел к столу. Маленький человечек в фартуке и с сигаретой во рту принес бутылку вина и три стакана. Все трое уселись за стол, а телохранитель Даргело встал за его стулом, скрестив руки на груди.
Даргело смотрел на Лизетту с нескрываемой любовью.
– Боже мой! – воскликнул он. – Возможно ли это! С каждой нашей новой встречей ты хорошеешь все больше!
Лизетта даже не соблаговолила на него посмотреть.
– Мы пришли поговорить по делу, только и всего. Даргело молча проглотил обиду.
– Хорошо, – сказал он наконец. – Только я ставлю одно условие.
– Какое условие? – спросила Мэйсон.
– Хьюго. – Он пальцем ткнул себе за спину в сторону Голиафа, что стоял неподвижно все в той же величественной позе.
– И что насчет Хьюго?
– До меня дошли слухи, что слава вашей сестры привлекает особое внимание к моей милой Лизетте. Даже больше того, что заслужила она своими представлениями в цирке. Я не сплю по ночам из страха, что какой-нибудь воздыхатель может причинить ей вред. Хьюго не даст случиться беде. Как и все гасконцы, он туп, словно бревно. Но он предан мне до смерти, бесстрашен и может осилить десятерых.
Лизетта в первый раз подняла глаза на Даргело.
– Что? Ты хочешь приставить ко мне телохранителя?
– Даже богиня нуждается в охране.
Лизетта стремительно обернулась, посмотрела на Хьюго, затем снова на Даргело.
– Не делай из меня дуру, Джуно. Ты не хочешь меня защитить. Ты просто хочешь держать меня на привязи и не допускать ко мне других мужчин!
Даргело прижал ладонь к сердцу и воскликнул:
– Боже мой! Ты ранишь меня в самое сердце! Я всего лишь забочусь о твоей безопасности!
Лизетта пригрозила ему кулаком и затараторила по-французски:
– Ладно, я сделаю тебе больно! Ты слышишь меня, и слышишь меня хорошо, Джуно. Мне наплевать, что ты делаешь. Мне наплевать, сколько телохранителей ты ко мне приставишь. Мне наплевать, что ты мне говоришь. Я никогда к тебе не вернусь. Слышишь меня? Никогда!
– И, тем не менее, это мое условие. Если ты хочешь узнать, что я выяснил по тому делу, тебе придется его принять.
Даргело посмотрел на Мэйсон, и та, нежно взяв в ладони кулак Лизетты, осторожно опустила его на стол.
– Мы согласны.
Лизетта презрительно сдула с глаз прядь волос, но возражать не стала, лишь красиво надула губки.
– Отлично. – Даргело опустил руку вниз, достал с пола тапку с бумагами и разложил их на столе. – Задание оказалось нелегким. Я добыл эту информацию в обмен на обещание многих услуг.
– Мы очень вам благодарны, – сказала Мэйсон. – Что вам удалось узнать?
– Та женщина была права. Ричард Гаррет на самом деле служит в сыскном агентстве Пинкертона со штаб-квартирой в Чикаго. На самом деле он считается одним из лучших агентов.
– Но агентство Пинкертона – американская компания, а он англичанин. Почему…
– Кто знает. По мне так все равно, что американцы, что англичане. Я говорю лишь то, что знаю. Он работает в агентстве последние пять лет. Он маскируется под любителя живописи, но, как я сказал, это всего лишь легенда. На его счету целая серия успешных расследований.
– Например? – спросила Мэйсон. Даргело поискал нужный документ.
– Вскоре после поступления на работу в агентство месье Гаррет выследил в Амстердаме группу мошенников, которые подделывали Рембрандта так умело, что сам автор едва ли заметил бы разницу.
Мэйсон почувствовала, как по спине у нее пробежал холодок.
– Затем, три года назад, его нанял Ватикан для того, чтобы он выследил банду воров, укравших бесценный запрестольный образ из самого собора Святого Петра. Воры проникли в храм под видом доминиканцев, совершавших паломничество в Святой город. Каждый из лжемонахов получил необычно суровое наказание – пожизненное тюремное заключение без права помилования.
Лизетта пожала Мэйсон руку в знак поддержки.
– Затем, дайте-ка найти, ах вот: в прошлом году в Берлине один парень продавал поддельные египетские древности кайзеровскому музею. Подделки были настолько хороши, что даже эксперты не учуяли подвоха. Но Гаррет так здорово сумел втереться в доверие к этому копировальщику, что тот сам сознался в подделке. Гаррет так ему понравился, что копировальщик даже упомянул его в своем завещании!
Даргело одобрительно хохотнул, но для Мэйсон эти новости оказались убийственно деморализующими. То же самое Гаррет проделывал с ней. Но при всей своей подавленности Мэйсон хватило присутствия духа, чтобы спросить:
– Вы сказали, он работает на агентство пять лет. А чем он занимался до этого?
– Никаких сведений. Пусто.
– Вы пытались что-нибудь разыскать?
– Конечно. Но его имя нигде не упоминается до тех пор, пока он не поступил на работу к Пинкертону. Так, словно он явился из ниоткуда. Каким бы ни было его прошлое, он сумел стереть все следы.
– Вы считаете, что ему есть что скрывать?
– А разве у каждого из нас нет чего-то, что мы хотели бы скрыть?
Мэйсон вздохнула.
– А как насчет Хэнка Томпсона? Кто он такой?
– Он не тот, кем кажется. И не тот, за кого себя выдает. Он начал свою карьеру в качестве карточного игрока на Диком Западе. В карты он выиграл медную копь, в которой обнаружилась богатая жила вскоре после того, как Хэнк ее приобрел. Ходили слухи, что он мухлевал, но доказательств не нашлось. Доходы от медной копи он пустил на инвестиции в железные дороги. И утроил состояние. Говорят, что он не слишком разборчив в средствах, но, в конце концов, кто этим не грешит? Недавно он потерял солидную сумму в нескольких не слишком успешных предприятиях. Он все еще делает вид, будто преуспевающий бизнесмен, но, по моим сведениям, он на грани банкротства.
Мэйсон это запомнила.
– А как насчет герцогини?
– Несколько лет назад она вышла замуж за престарелого герцога. Они жили то в Лондоне, то в пригородных поместьях. Родословная этого герцога одна из самых длинных и уважаемых в Англии. Они делают все то, что положено делать знати: посещают церковь по воскресеньям, заседают в попечительских советах, занимаются благотворительностью. Репутация его, судя по тем сведениям, что я получил от своих лондонских друзей, выше всяких упреков. Герцогиня тоже происходит из богатой уважаемой семьи, но росла она в основном в Индии и в Европу приехала только уже взрослой девушкой.
– И каким образом она связана с Ричардом?
– Вот этого я еще не знаю. У ее мужа неплохая коллекция картин, и они вращаются в тех же художественных кругах, что и Гаррет, но нет никаких сведений о том, что они поддерживают с Гарретом отношения – романтические или какие-то еще. Насколько мне известно, их пути даже ни разу не пересекались до самого последнего времени, до их встречи в Париже.
– Но так не бывает. Они оба признаются в том, что знают друг друга.
– Такое вполне возможно, просто у меня нет сведений о том, где и как они встречались.
– Одним словом, нам о них ничего не известно вплоть до того самого момента, как Гаррет всплыл в качестве детектива, а Эмма в качестве герцогини.
– Это верно. Хотя, раз уж вы об этом упомянули, есть интересное совпадение: и то и другое «всплытие» произошло примерно в одно время. Я велю своим людям продолжить поиск, если хотите. Посмотрим, удастся ли нам узнать что-нибудь еще со временем.
– Я буду вам весьма за это благодарна, – сказала Мэйсон, вставая. – Вы очень добры.
Даргело поднялся со смущенной улыбкой. Он не знал точно, зачем им потребовалась эта информация, но в его мире о некоторых вещах спрашивать было не принято. Он взглянул на Лизетту, надеясь получить от нее одобрение.
Но она лишь попросила его оставить их на пару минут одних.
– Нам с Эми надо поговорить наедине.
Даргело и Хьюго вышли из зала. Лизетта взяла Мэйсон за руку и усадила за стол.
– Послушай, дружок. Все это зашло слишком далеко. Тебе пора уезжать из страны. Ты слышала, что за человек этот Гаррет. Я хочу, чтобы ты осталась на ночь здесь. Джуно обо всем позаботится, и, как только он подготовит все документы, ты сможешь безопасно переправиться в Швейцарию, а оттуда назад – в Америку.
Но Мэйсон, похоже, ее не слышала.
– Ты знаешь, я не понимаю одного. Он столько сделал, чтобы создать мне репутацию величайшей художницы мира.
Он обхаживал репортеров, умасливал членов выставочного комитета, даже настоял на том, чтобы для меня выстроили отдельный павильон. Зачем ему это все?
– Ты слышала, что говорил Джуно? Подделки Рембрандта. Ватикан. Кайзеровский музей. Как ты думаешь, как ему удалось добиться такого успеха? Неужели ты не понимаешь: чем более знаменит автор, тем громче дело. Тем более впечатляющим выглядит его успех.
И вдруг в один миг Мэйсон стало все ясно.
– Я никуда не поеду, – заявила она.
– Дружок, ты должна уехать.
– Я не позволю ему меня добить. Я не собираюсь бегать всю жизнь.
– Но у тебя нет выбора. Ты ничего не можешь сделать.
– Нет, кое-что могу. Это прошлое, что он так тщательно оберегает. Я могу раскрыть его тайну. И возможно, я смогу найти способ использовать то, что найду, как оружие против него.
– Это опасная игра.
– Возможно, но я в нее сыграю.
Когда они с Лизеттой покидали Бельвиль, Мэйсон чувствовала себя куда лучше – она была преисполнена решимости, сосредоточенна и спокойна. К тому же теперь рядом с ними был Хьюго, следовавший за Лизеттой, словно тень. Однако Лизетте присутствие громилы не слишком нравилось. Лизетта кипятилась и злилась.
– Я мирюсь с тем, с чем должна примириться, – грозя пальцем телохранителю, говорила Лизетта. – Но позволь мне предупредить тебя: если ты хоть раз обмолвишься Джуно о том, что говорится или делается в твоем присутствии, я пойду к нему и скажу, что ты залез ко мне в постель. Он мне поверит, потому что считает, что ни один мужчина не может передо мной устоять. И тогда он порежет тебя на мелкие кусочки и скормит тебя моим собакам. Ты понял?
Хьюго покраснел как рак. Он бросил взгляд назад, на пристанище своего господина, и нервно кивнул в знак согласия.
– Хорошо. А теперь пойди и отыщи для нас кеб.
Глава 14
Мэйсон и Лизетта стояли на тротуаре и, задрав головы, смотрели на окно Гаррета на четвертом этаже. За руку Лизетту держал один из ее коллег-циркачей, шимпанзе по имени Бобо. Часы только что пробили десять. До тех пор, пока не кончится представление и публика не повалит из Оперы, здесь будет относительно пустынно. В запасе у них был час или около того.
Всю прошедшую неделю Мэйсон безуспешно пыталась проникнуть в номер Ричарда, полагаясь на то, что человек, живущий по большей части в отелях, вынужден возить с собой важные документы. Она пыталась подкупить горничную, но получила отказ. Однажды она позволила Ричарду затащить ее в свой номер лишь затем, чтобы прикинуться нездоровой в очередной раз. Она специально оставила дверь незапертой, но на следующее утро, попытавшись вновь проникнуть на запретную территорию, обнаружила, что дверь на замке.
Ничего у нее не получалось.
Со своей стороны Гаррет прилагал максимум усилий к тому, чтобы сделать имя Мэйсон Колдуэлл общеизвестным. В дополнение к прочим своим инициативам теперь он планировал провести на следующей неделе гала-прием в строящемся павильоне. Гаррет часами торчал на месте будущего павильонa – чтобы стройка шла без помех и у бригады было все необходимое, зачастую требовалось его личное присутствие и горячее участие. Несмотря на нехватку свободного времени, натиск на бастион по имени Мэйсон только усилился. На самом деле, чем больше она избегала Ричарда, тем сильнее разжигался его аппетит. Он был неизменно внимателен. Он преувеличенно переживал по поводу ее самочувствия, отпаивая ее бренди, чтобы убить все мыслимые микробы, которые, возможно, ей досаждали. Но, поскольку ухаживания Гаррета действовали на Мэйсон расслабляюще, она отвергала их по мере сил. Он всеми способами – жаркими взглядами, нежными прикосновениями при каждом удобном случае и под каждым благовидным предлогом, явным нежеланием покидать ее у двери номера – сообщал ей о том, что снедаем желанием.
Однажды, находясь у нее в гостиной, Ричард подошел к ней со спины и, наклонившись, поцеловал в затылок, нежно перебирая пальцами вдоль позвоночника. Мэйсон поняла, что происходит, лишь обнаружив, что застежка на спине расстегнута. Ричард принялся стаскивать с нее платье, страстно целуя плечи. Мэйсон была на грани капитуляции. Хорошо, что ей вовремя пришло в голову заявить о своем нездоровье. И это ее спасло.
В другой раз, заметив напряженность Мэйсон, Ричард принялся разминать мышцы в области затылка.
– Почему ты не позволишь сделать тебе массаж? – предложил он. То, что он делал, было настолько приятно, что Мэйсон с трудом преодолела искушение согласиться. Проводить с ним время становилось все труднее. Несмотря на все свои тайные страхи и тайную ненависть, ее тянуло к нему так, как тянет к огню мотылька.
Недельный поиск информации о прошлом Гаррета не дал результатов. Мэйсон была горько разочарована.
Она уже была на грани отчаяния, когда в дверях вдруг появилась Лизетта со своим другом приматом.
– У этого парня, – Лизетта указала на шимпанзе, – темное прошлое. Он принадлежал грабителю, который сделал из него своего помощника, причем натренировал отлично. Грабителя посадили в тюрьму, а Бобо попал к нам в цирк.
– Я его помню. Ты с ним выступала – он стоял у тебя за спиной, когда ты гарцевала на белой лошадке.
– Точно. Этот парень очень талантлив. Не его вина, что его хозяин попался. Он может ходить по канату, летать на трапеции, короче, все умеет.
По сигналу Лизетты Бобо протянул Мэйсон руку для пожатия.
– Я счастлива тем, что мне выпала честь познакомиться с таким выдающимся артистом, но, может, ты объяснишь, почему он здесь?
– Пойдем. Я тебе покажу.
И теперь, стоя в сгущающихся сумерках под окнами Гаррета, Лизетта наклонилась к своему другу и что-то шепнула ему на ухо. Бобо почесал голову, показал Лизетте зубы, подошел к стене и принялся карабкаться по ней вверх. На каждом этаже здания были железные балконы, так что Бобо без труда перебирался с этажа на этаж, хватаясь за решетки и взмывая вверх, словно забирался на кокосовую пальму. Добравшись до четвертого этажа, шимпанзе посмотрел на Лизетту, которая подняла руку и показала на нужное окно.
– Так уж повелось, – объясняла Лизетта своей недоумевающей подруге, – что балконы в отелях очень редко запирают изнутри. Щеколды на балконных дверях почти не ставят. Так что Бобо заберется в номер снаружи. Смотри! Он уже там.
Мэйсон подняла голову и увидела, что Бобо открыл балконную дверь и, показав Лизетте зубы, запрыгнул внутрь.
– Пошли, – сказала Лизетта.
Хьюго ждал их в фойе. Перед тем как подняться с Мэйсон на второй этаж, Лизетта сказала ему:
– Гаррет на ужине с какими-то важными особами. Он не вернется до полуночи. Но если он вдруг появится, не давай ему зайти в лифт. Останови во что бы то ни стало. Понял?
Хьюго кивнул.
Оставив телохранителя дежурить возле лифта, подруги поднялись наверх и быстро пошли по коридору к номеру Гаррета. Дверь в номер была открыта. Бобо стоял на пороге и ждал их.
– Отличная работа, Бобо, – ласково проворковала Лизетта. Она наклонилась и обняла шимпанзе. Потом Бобо взял Лизетту за руку и повел внутрь.
Дверь на балкон была открыта. На столе в гостиной горел торшер. Мэйсон вся обливалась потом от волнения. В номере чувствовался еле заметный запах Ричарда. От этого запаха волнение Мэйсон усилилось. Ей почему-то казалось, что он может появиться в любую минуту.
– С чего начать?
И, не успев принять решения, она заметила нечто интересное. На журнальном столике лежал номер «Фигаро», открытый на странице со светской хроникой. Одна из статей была обведена чернилами. В ней говорилось о том, что граф Дмитрий Орлов, известный русский собиратель картин, прибыл в Париж на открытие Всемирной выставки. Статью иллюстрировал головной портрет знаменитого знатока живописи. Однако Мэйсон не удалось понять, как выглядит русский граф, потому, что портрет был крест-накрест перечеркнут жирными чернильными линиями.
Потом она подумает над тем, что бы это значило. А пока ее ждала работа.
– Похоже, это важные бумаги, – сказала Лизетта, возившаяся возле письменного стола.
Бобо угостился яблоком из фруктовой корзины и, счастливо чавкая, носился по комнате.
– Нет, – тут же оговорилась Лизетта. – Там всего лишь счета и приглашения.
Мэйсон подошла к столу и принялась копаться в выдвижных ящиках. Ничего существенного. Наконец в нижнем ящике она наткнулась на кожаный мешочек, запрятанный под писчую бумагу. Она развязала тесемку, запустила руку внутрь и достала ферротипию, изображавшую улыбающуюся темноволосую девушку от силы лет восемнадцати.
– Красивая, – заметила Лизетта, заглянув Мэйсон через плечо. – Интересно, кто это? Любовница?
– Это же ферротипия. Таких не делают уже лет двадцать.
– Может, его мать?
Мэйсон пошарила в мешочке и достала еще одну ферротипию. На ней был изображен мужчина лет тридцати, а рядом с ним мальчик. Мужчину Мэйсон узнала сразу – Хэнк Томпсон. Насчет мальчика она не была так уверена, но, похоже, это был Ричард. Несмотря на то, что на фотогравюре ему было лет семь или восемь, не больше, взгляд у мальчика был таким холодным и жестким, что у нее по телу мурашки побежали.
Лизетта обшаривала комнату.
– Кстати, где Бобо?
Пока Лизетта искала Бобо, Мэйсон достала из мешочка то последнее, что в нем хранилось, – маленький бумажник. Она открыла его и увидела значок. Значок, выполненный в виде громадного глаза со знаменитым пинкертоновским лозунгом под ним: «МЫ НИКОГДА НЕ СПИМ».
Она подавила нервную дрожь.
В другом отделении бумажника она обнаружила несколько сложенных документов, удостоверяющих личность его обладателя. Просмотрев их, Мэйсон узнала только одну интересную вещь: Ричард был гражданином США и в тот момент, когда он поступил на работу в агентство, жил в штате Колорадо.
Итак, он был американцем. Причем американцем с Запада.
Мэйсон не успела до конца осмыслить этот факт, когда Лизетта позвала ее из спальни:
– Мэйсон, иди сюда. Ты должна это увидеть.
Мэйсон быстро убрала содержимое кожаного мешочка на местo и засунула его в нижний ящик стола. Затем прошла в спальню. На стуле возле кровати стоял ее автопортрет. Мэйсон была потрясена, увидев свою работу здесь, возле его постели, столь бережно хранимую.
Лизетта с Бобо на руках тоже смотрела на картину.
– Как ты думаешь, почему он ее сюда поставил? Мэйсон была слишком потрясена, чтобы говорить. Она лишь покачала головой. Возможно ли, что он при всем его стремлении заманить ее в капкан все же не притворялся, будто ему нравятся ее картины?
Внезапно Бобо похлопал Лизетту по щеке и тихонько заскулил, словно предупреждал о чем-то. Через секунду они услышали, как в замке повернулся ключ.
– Он вернулся! – свистящим шепотом возвестила Лизетта.
Мэйсон погасила в спальне свет, и девушки спрятались за дверью. Ричард вошел не один. С ним был Хэнк.
– Достань бурбон, мальчик. Мне надо выпить. Мне было чертовски скучно, но…
– Возможно, тебе стоило взять на себя труд выучить французский, тогда бы ты знал, что происходит, – беззлобно подтрунил над ним Ричард.
– Именно поэтому я и отправил тебя в Оксфорд, чтобы самому не учить французский.
– В любом случае сегодняшний вечер можно назвать успешным. Я смог нашептать президенту Карно кое-что о коллекции Колдуэлл. Теперь он умирает от желания увидеть ее своими глазами.
– Что тебя грызет сегодня весь вечер, Бустер? Ты весь ощетинился, как кактус. Эта фифа не дает тебе покою?
– Орлов. Что чертов ублюдок тут забыл?
– Как и все, он приехал на выставку.
– Ни секунды в это не верил. Что он, что Эмма. Этих крыс выманили из щелей публикации о картинах.
– Ну и что с того?
– Что с того? Лично я считаю его дьяволом во плоти. Чем дальше он будет от всего этого держаться, тем лучше.
– Знаешь, парень, мне кажется, ты делаешь из мухи слона. Ты себя прямо в гроб загоняешь этой работой. Знаешь, что тебе надо? Отдохнуть. Иди поспи, и все пройдет.
– Может, ты и прав.
«Он пойдет спать?»
Мэйсон и Лизетта переглянулись. Стоять за дверью было не слишком удобно, но как им теперь выбраться из спальни?
Бобо оказался самым сообразительным. Он снова похлопал Лизетту по щеке, затем по голове. Лизетта поняла его без слов и что-то шепнула на ухо. И тогда без тени колебаний шимпанзе выпрыгнул в гостиную. Он стрелой влетел в комнату и в одну секунду повалил настольную лампу, разбил ее и погрузил гостиную во мрак.
Мэйсон с Лизеттой в темноте пробрались к входной двери. Бобо между тем стал визжать как безумный и скакать по мебели.
– Господи! – закричал Хэнк. – Тут чертов пигмей!
– Нет, тут чертова мартышка, – возразил Гаррет. – Должно быть, залез сюда через окно.
– Осторожнее. Не прикасайся к нему. Эти твари здорово кусаются.
– Даже не собираюсь его трогать.
Но Бобо знал, когда пора убегать. Видя, что его партнеры уже покинули сцену, он выпрыгнул через открытую дверь на балкон и был таков.
Мэйсон и Лизетта бежали вниз по лестнице.
– Я голову снесу этому чертову Хьюго! – злобно прошипела Лизетта.
Телохранитель мирно посапывал в мягком кресле в фойе. Лизетта подошла к нему и хлопнула изо всей силы по его лысой башке.
Хьюго подскочил.
– Я не сплю!
– Гаррет прошел мимо твоего носа, а ты его не заметил, дурак! Он застал нас в своей комнате.
– Я только на миг глаза закрыл, – заскулил Хьюго. Мэйсон сочла, что на этом стоит остановиться.
– Нам пора выбираться отсюда. Гаррет может спуститься, чтобы подать официальную жалобу.
Лизетта захихикала:
– Месье, в нашей комнате была обезьяна…
Мэйсон не выдержала и рассмеялась, и Хьюго тоже не удержался от смеха.
– Над чем это ты смеешься? – шикнула на него Лизетта, и он тут же закрыл рот и глуповато захлопал глазами.
Бобо ждал их снаружи. Лизетта подставила руки, и он забрался к ней на шею. Лизетта покрыла его физиономию благодарными поцелуями.
– Ты такой хороший парень, Бобо. Ты нас спас.
Исцелованный Бобо повернул голову к насупленному Хьюго и победно ему ухмыльнулся.
Глава 15
Апрель закончился, начался май. И город, словно опомнившись, поднялся на дыбы. Всего шесть дней осталось до открытия грандиозной Всемирной выставки 1889 года. В громадных выставочных залах из стекла и бетона шли последние приготовления. Все отели полнились гостями со всего мира, стекавшимися в Париж, словно паломники в Мекку. Туристы были везде: в кафе, ресторанах, танцевальных залах, на улицах, площадях, в парках и скверах. Весь город словно раздулся от важности.
Париж снова стал центром мира.
Но, пока все вокруг отсчитывали дни, оставшиеся до шестого мая, официальной даты открытия выставки, Гаррет тревожно отсчитывал часы до грандиозного приема, который был назначен на третье мая. Прием должен был состояться в павильоне Мэйсон Колдуэлл, строительство которого завершили лишь наполовину. У Мэйсон не осталось иллюзий по поводу мотивов Гаррета. Но пусть он делал все это отнюдь не ради нее, в таланте импресарио ему не откажешь. Он говорил ей о том, как важно «украсть немного грома» у более масштабных художественных экспозиций, которые вот-вот должны были открыться неподалеку от их павильона, привлечь внимание сильных мира сего к их «детищу» и перенаправить в нужную им сторону поток спонсорской помощи. В Париже всегда было рискованно проводить мероприятия на открытом воздухе весной – погода французской столицы капризна. Однако, на сей раз, погода выступила их союзником. На Париж опустился чудесный майский вечер, небо было ясное, без намека на угрозу дождя. Цветные японские фонарики были развешаны по периметру участка, отведенного под павильон. Оркестр играл Моцарта и Гайдна. Под шатром столы ломились от яств и шампанского. Официанты в красных фраках выстроились в ряд, готовые выполнить любую прихоть гостей, которые усилиями Ричарда представляли собой самые сливки парижского общества. Здесь были люди, обладавшие значительным влиянием в мире культуры, финансов и политики. Присутствовали тут и критики, и торговцы от искусства, и меценаты. Принц Уэльский и президент Карно тоже были в числе приглашенных. Но главным на этом приеме были картины. Картины расставили вдоль периметра ограждения так, чтобы любой желающий мог вдоволь налюбоваться каждой из них.
Ричард был на редкость общителен. К тому моменту как гости начали собираться, он на все сто включил свое необыкновенное обаяние. Он лично встречал каждого – сама любезность и гостеприимство, представлял гостей друг другу, представлял гостям сестру художницы. Шампанское лилось рекой, приятно звучала музыка, дул легкий ветерок. Ричард подходил к наиболее значительным фигурам из числа гостей, рассматривающих картины, обсуждал с ними достоинства полотен. Его красноречие было таким непринужденным, что никому и в голову не могло прийти, что он лишь набивает картинам цену. Он пояснял некоторым гостям художественную ценность шедевров, то место, что они непременно займут в истории, и почему они заслуживают отдельного павильона.
Собрание было блестящим. Актрисы и дамы полусвета мешались с акулами бизнеса и промышленными королями. Тут были итальянские аристократы и нувориши из Америки, сколотившие состояния на торговле крупным рогатым скотом. Тут были владельцы африканских алмазных месторождений, критики, драматурги, поэты, салонные художники и скульпторы, путешественники, армейские генералы и изобретатели, чьи труды предстояло явить миру грядущей ярмарке. Беседа текла легко, живо. Реплики блистали остроумием и мудрыми наблюдениями. Во всем чувствовалось приятное возбуждение – предвкушение грандиозного события. И над всем этим возвышалась Эйфелева башня – восьмое чудо света, увитая электрическими гирляндами, мерцавшая, словно маяк в ночи. Наблюдая за всем этим волшебным действом, за Ричардом, слушая его речи, в которых звучало столь искреннее преклонение перед работами Мэйсон Колдуэлл, Мэйсон хотелось ущипнуть себя, чтобы напомнить о том, что на самом деле это всего лишь ход в его игре. А главной целью его плана остается одно – захлопнуть капкан.
«Ах, ты, подлец. Ты думаешь, я не вижу тебя насквозь? Не понимаю, зачем ты все это делаешь? Не знаю, что трудишься ты лишь ради себя любимого? Потому что чем более знаменитой ты сделаешь меня, тем больший успех ждет тебя, когда ты сорвешь с меня маску. Ну что же, ты, верно, считаешь, что вечер тебе удался. Но, если повезет, я тоже сделаю тебе сюрприз!»
И ждать сюрприза пришлось недолго, всего несколько минут. Высокий светловолосый мужчина аристократической дружности с резкими чертами лица появился у входа.
Граф Дмитрий Орлов.
И когда он присоединился к гостям, улыбаясь и раскланиваясь с прочими приглашенными, Мэйсон коварно усмехнулась в предвкушении скандала. Два тигра в одной клетке. Теперь ей лишь оставалось отойти в сторону и наблюдать. Посмотрим, что полезного она может добыть для себя в этой схватке.
Ричард никак не ожидал прихода Орлова. Он был где-то на другом конце огороженной территории, беседовал с Эмилем Золя. Сколько времени понадобится Ричарду, чтобы заметить новое лицо среди всей этой толпы?
И, как оказалось, почти нисколько. Каким-то звериным чутьем он угадал, что случилось непредвиденное, замолчал на середине предложения, обернулся, заметил Орлова, и в мгновение ока взгляд его из любезно-услужливого превратился в откровенно злобный.
Мэйсон наблюдала за происходящим с тонкой усмешкой. Что он станет делать?
С перекошенным от ярости лицом Ричард пулей бросился Орлову. Мэйсон подошла поближе, чтобы ничего не упустить…
Орлов заметил его приближение. Насмешливо приподняв уголки губ, он сказал, пряча усмешку в усы:
– Ба! Хозяин вечеринки Ричард Гаррет собственной персоной!
– Что вы здесь делаете? – прорычал Ричард.
– Как что? Мой дорогой друг, я получил приглашение.
– Я не стал бы приглашать вас даже на ваши собственные похороны.
Несколько гостей почувствовали назревающий скандал и повернули головы, чтобы посмотреть представление. Мэйсон воспользовалась этими гостями как удобным укрытием, из-за которого она могла наблюдать происходящее, не будучи уличенной в излишнем любопытстве.
– Но я действительно получил приглашение. – С этими словами Орлов извлек из кармана карточку с приглашением, ту самую, что отправила ему Мэйсон.
Гаррет лишь мельком взглянул на предъявленный пропуск.
– Не знаю, как вы его раздобыли, и мне, если честно, все равно. Но для вас же будет лучше, если вы немедленно отсюда уйдете.
Гаррет повысил голос и тем самым привлек к себе дополнительное внимание.
– Мой дорогой коллега, я не собираюсь отсюда уходить. Я сгораю от нетерпения: очень хочется посмотреть на картины, о которых так много говорят. Возможно, мне даже захочется некоторые из них приобрести.
Ричард стоял с каменным лицом.
– Даю вам ровно одну минуту на то, чтобы исчезнуть с моих глаз.
– А что, если я проигнорирую ваше ультимативное требование?
– Я вас сам вышвырну.
Орлов засмеялся.
– И сваляете дурака перед всеми этими завсегдатаями салонов? Устроите публичный скандал? Закатите сцену на приеме, на котором рассчитывали собрать средства? Я так не думаю.
– Вы считаете, что я не стану устраивать сцен? – вспылил Ричард. Едва договорив фразу, он размахнулся и закатил Орлову пощечину.
Толпа ахнула, когда Орлов пошатнулся, едва не упав на тех, кто был ближе к нему. Реакция у Мэйсон была примерно та же, что и у остальных членов высокого собрания. Она никогда не видела Ричарда разъяренным. Он буквально дрожал от гнева и ненависти. Гости попятились. Ричард распугивал народ своим видом.
– Полагаю, вы потребуете от меня сатисфакции? – проредил он сквозь зубы. – Готов дать ее в любое время и в любом месте по вашему выбору. Выбор оружия тоже за вами. На чем вы предпочитаете драться, Орлов?
Русский отряхнулся, выпрямился и вновь насмешливо улыбнулся:
– О, мой друг, я непременно получу сатисфакцию. Но сделаю это в свое время, и способ ее получить тоже выберу свой. И, я думаю, я не стану задерживаться на вашей маленькой сходке, поскольку необходимости в том, чтобы увидеть картины сегодня, у меня нет. У меня будет достаточно времени, чтобы ими полюбоваться, когда я стану их брокером.
Ричард бросился следом за Орловым, схватил его за полы пиджака и яростно его тряхнул. Приблизив к нему лицо, он прошипел:
– Послушай меня, сукин ты сын! Я убью тебя, если ты близко подойдешь к этим картинам!
Толпа пришла в движение, и вперед вышел Хэнк Томпсон.
– Все, мальчик мой, довольно. Держи себя в руках. Ты что, забыл, где находишься?
– Если его отсюда не уберут, клянусь Богом, я его убью!
Орлов, в конце концов, потерял терпение:
– Эй ты, прыщ британский, ты мне за это заплатишь. Я знаю, как тебя достать.
Хэнк оттеснил Ричарда от Орлова, крикнув русскому:
– Тебе, парень, и впрямь лучше отсюда убраться подобру-поздорову, пока еще можешь идти на своих двоих. А то ведь вынесут, смотри. – А для зрителей Хэнк добавил: – Ничего не случилось, господа. Просто два молодых бычка решили пободаться. Бывает. Ничего особенного.
Толпа начала понемногу рассасываться. Люди перешептывались, обмениваясь мнениями об увиденном. Предлагали свои версии возникновения конфликта. Мэйсон слышала, как женщина у нее за спиной вздохнула, обмахиваясь веером.
– Боже, как это занимательно. Я никогда ничего подобного не видела. И этот англичанин… Ах, как бьется сердце…
– Я в восторге, – вторила ей ее спутница.
Мэйсон наблюдала за тем, как Хэнк что-то тихо говорит Ричарду, успокаивая его. Она подождала, пока Хэнк отойдет, затем взяла бокал шампанского и принесла Гаррету.
– Вот так сцена.
Она видела, что Ричард еще не вполне справился с приступом гнева, но он уже почти сумел взять себя в руки.
– Приношу свои извинения. Боюсь, что этот инцидент не слишком способствовал сборам, но так уж вышло. Этот человек для меня – все равно, что красная тряпка для быка. Представить не могу, как он раздобыл приглашение.
– Почему ты так его ненавидишь?
– Он подлец. Выдает себя за ценителя искусства, за аристократа, а на самом деле он сколачивает деньги, выступая брокером краденых произведений. Как только где-то в мире случается кража картины, вор знает, что он сумеет сбыть ее в Россию через графа Орлова. Даже для законно приобретенной картины нет хуже судьбы, чем оказаться у Орлова.
Он продаст ее кому-то из русской знати, что понятия не имеет о музеях, и там она сгинет навсегда. Орлов в моих глазах воплощает все то плохое, что есть в мире искусства, и я его презираю.
Гаррет говорил с такой страстью, с таким неподдельным чувством, с такой болью, что Мэйсон вдруг стало стыдно. Она спровоцировала эту сцену, чтобы узнать что-то ценное для себя о прошлом Ричарда, но то, что она невольно причинила ему боль, не принесло ей радости. И она не узнала ничего нового.
Этот случай лишь ослабил ее иммунитет против него.
Мэйсон отвернулась. Она должна побороть в себе это чувство. Если она станет его идеализировать, если будет видеть в нем лучшее, то сердце ее не устоит.
Она должна уничтожить на корню те нежные чувства, что к нему питала.
Глава 16
Инцидент с Орловым несколько сгладил остроту страха Мэйсон перед Ричардом Гарретом. Она не сомневалась в том, что он сейчас на задании, цель которого ее разоблачить, и, принимая во внимание его идеалистическую любовь к искусству, не было ничего удивительного в том, что такие личности, как граф Орлов, вызывали у него отвращение. Но при таком взрыве эмоций мог ли он обдуманно изображать страстное желание защитить ее картины? Мэйсон запуталась. Ее раздирали противоречивые чувства. Она чувствовала, что еще очень далека от того, чтобы разгадать загадку Ричарда Гаррета.
Тем временем он продолжал ухаживать за ней с неослабеваемым вниманием. Его ни в коей мере нельзя было назвать назойливым или настырным, но он вел кампанию по ее обольщению весьма искусно, покоряя Мэйсон своим обаянием, компетентностью и доброжелательной настойчивостью. Как бы ни старалась Мэйсон обороняться, она сама чувствовала, что решимость противостоять ухаживаниям Ричарда тает с каждым днем. То, как он то и дело притрагивался к ней в самые неожиданные моменты, как проводил подушечкой пальца по ее ладони, вызывало в ней острые приступы желания. То, как он целовал ее, прощаясь перед сном, как обнимал ее при этом, побуждало ее искать спасения за закрытой дверью своего номера, ибо она больше сама себе не доверяла. Постепенно, исподволь, без спешки Ричард раздувал в ней предательское пламя страсти. Этот огонь терзал Мэйсон, не давал уснуть, и она ночи напролет проводила без сна, меряя шагами спальню, то и дело подходя к окну, выходящему на его отель. Она знала, что Ричард сейчас там, что он может и хочет дать ей то, что могло погасить лихорадку в ее крови. Она ненавидела себя за то, что хочет его, что любит его, несмотря ни на что, вопреки всему. Каждая минута, проведенная в его обществе, оборачивалась смертной мукой, но без него ей было еще хуже.
Шестого мая Всемирная выставка открылась для посетителей. Мэйсон и Лизетта вместе со всеми жителями и гостями Парижа бродили по просторным выставочным площадкам, заглядывали в павильоны, где демонстрировались последние достижения в науке и технике. За последние три дня они успели отведать пахлаву в греческом павильоне, побывали в павильоне Тонкина, посмотрели на танцоров из Центральной Африки, полюбовались персидскими древностями, побродили по выставкам хрусталя, ювелирных украшений и фотографии, покатались на миниатюрном поезде и, конечно же, посетили выставку картин и скульптуры во Дворце художеств. Здесь было столько всего интересного, что могло бы развлечь, отвлечь от повседневных забот.
Но атмосфера радостного возбуждения первой недели работы выставки не ограничивалась одним лишь Марсовым полем, она охватила весь Париж! Можно было пройти много миль от квартала к кварталу, и отовсюду доносились пение, музыка, гимны и тосты во славу Франции. Волшебство праздника, наконец, захватило и Гаррета, который до сих пор не проявлял особого интереса к событию, если только это не имело прямого отношения к павильону Колдуэлл. На третью ночь великой недели он появился у двери Мэйсон, одетый в вечерний костюм, и объявил:
– Я хочу вывести тебя в город.
Мэйсон попыталась отговориться:
– Спасибо, Ричард, но я так устала. Мы с Лизеттой истоптали все ноги за последние три дня. У меня вообще сил не осталось.
– Чепуха, – ответил он. – Весь мир празднует, и у меня тоже праздничное настроение. Я подожду, пока ты оденешься.
– Но я действительно не могу, – возразила Мэйсон.
Ричард улыбнулся в ответ:
– Так не бывает. Не может быть, чтобы среди всего этого разгула веселья не нашлось бы чего-то такого, что отвечало бы твоему настроению.
– Ну, – задумчиво протянула Мэйсон, – пожалуй, есть одно место, куда бы я хотела попасть, но мне так и не удалось достать билет. Все билеты давно распроданы.
– Нет ничего невозможного. Особенно в Париже. Особенно в эту ночь. – Ричард подошел к Мэйсон и положил ладони ей на плечи. – Скажи мне, чего тебе сейчас очень-очень хочется?
Мэйсон отстранилась. Слишком сильно действовало на нее тепло его ладоней.
– Лизетта сегодня выступает с новым номером на трапеции в «Фоли-Бержер». Мне бы очень хотелось туда сходить, но все билеты давно раскупили.
Ричард победоносно усмехнулся:
– «Фоли-Бержер» так «Фоли-Бержер». Одевайся. Я вернусь через час.
Полтора часа спустя метрдотель кабаре «Фоли-Бержер» вела их сквозь толпу страждущих к столику в первом ряду от сцены.
– Это лучшие места в зале, – восхищенно заметила Мэйсон, когда их усадили за столик. – Полагаю, мне ни к чему спрашивать, как ты их раздобыл.
Ричард пожал плечами:
– Надо просто знать, к кому обратиться.
Ричард заказал шампанского, а Мэйсон написала записку Лизетте. Сложив вчетверо листок бумаги и передав его официанту, сказала Ричарду:
– Я хочу, чтобы Лизетта знала, что мы здесь. Вот она обрадуется!
Мэйсон и Ричард потягивали холодное шампанское, а между тем свет медленно погас и на сцену вышел конферансье.
– Дамы и господа, руководство «Фоли-Бержер» с гордостью представляет вам принцессу каната, восхитительную наездницу трапеции, леди Го диву, покорительницу воздуха, единственную и неповторимую Лизетту Ладо!
Одетая в трико телесного цвета, в котором она действительно выглядела обнаженной, с распущенной копной золотистых кудрей, Лизетта выбежала на сцену, сделала реверанс, приветствуя публику, и подмигнула Мэйсон. Затем с изящной гибкостью феи вскочила на трамплин в центре сцены, несколько раз подпрыгнула, чтобы набрать высоту, и, сделав обратное сальто, взлетела на трапецию.
Следующие двадцать минут весь зал зачарованно следил за акробатическими подвигами Лизетты, которая умудрялась еще и веселить публику, несколько раз намеренно создавая ощущение, что вот-вот упадет, заставляя зал замирать от страха и ахать. Она очаровывала зрителей, возбуждала, пугала, мелькая в свете софитов в этом своем костюме, создающем иллюзию полной наготы.
Когда все закончилось, Ричард поднялся и с жаром захлопал.
– Я и не думал, что она такая талантливая, – признался он Мэйсон. Когда они снова опустились в кресла, он наклонился к ней и шепнул: – Пойдем?
– О нет. Будет еще интереснее.
Конферансье вернулся на сцену, рассыпаясь в комплиментах Лизетте, затем объявил следующий номер:
– А теперь перед нами выступит величайший гипнотизер мира, великий Валентин, прямо из Румынии, из Бухареста.
Ричард застонал.
– Только не этот чертов гипнотизер. Он обыкновенный мошенник.
– Нет-нет, мы должны остаться. Лизетта говорила, что он на самом деле потрясающий маг.
– Этот гипноз – просто чепуха!
– Ричард, не порть мне удовольствие. Ты же хотел, чтобы я хорошо провела время, верно?
Румын вышел на сцену, заинтриговал аудиторию несколькими вступительными фразами и попросил выйти добровольцев. Таковых не оказалось.
– Я понимаю ваши опасения. Вы не хотите, чтобы то, что вы скрываете, открылось миру. Очень мудро с вашей стороны. Так что позвольте спросить, кто из вас больше всех сомневается в моем мастерстве? Кто только что сказал своему спутнику или спутнице: «Этот человек – мошенник»?
Мэйсон рассмеялась, схватила Ричарда за руку и высоко подняла ее. Он недоуменно приподнял бровь, но возражать не стал.
– Вот и первый кандидат. И разумеется, это мужчина. Подойдите ко мне, достопочтенный господин. Можно принести кресло для джентльмена?
Лизетта, все в том же телесном трико, вышла на сцену со стулом и снова сорвала аплодисменты. Кто-то крикнул с места:
– Загипнотизируйте Лизетту и заставьте ее снять одежду!
Валентин погрозил балагуру пальцем.
– Вы бы этого хотели, негодник, разве нет? А кто из нас этого не хотел бы?
Лизетта послала «негоднику» воздушный поцелуй, и в зрительном зале раздался смех.
Тем временем Ричард уселся на приготовленный для него стул.
– Удачи тебе, старина, – сказал он гипнотизеру. – Она тебе явно понадобится, помяни мое слово.
Валентин взял запястье Гаррета, нащупал пульс, уставился Ричарду в глаза и велел ему вести медленный обратный счет от пятидесяти.
Не в силах сдержать насмешливой улыбки, Ричард начал считать:
– Пятьдесят… сорок девять… сорок восемь…
Ричард считал, а гипнотизер удерживал его взгляд и тихо шептал, чтобы не слышала публика:
– Расслабьтесь… расслабьтесь… Закончив считать, Ричард язвительно спросил:
– И что теперь?
– Теперь ничего. Вы в трансе.
– Разве? Вы меня дурачите. Аудитория разразилась смехом.
– Когда я хлопну в ладони, вы очнетесь и ничего, абсолютно ничего не будете помнить о том, что произошло с вами с того момента, как вы сели на этот стул. Но когда вы услышите слова «Всемирная выставка», вы почешете голову и скажете: «Да здравствует Франция».
– Едва ли.
И снова раздался смех.
Валентин кивнул Лизетте и сказал, обращаясь к аудитории:
– Я собираюсь вывести этого господина за кулисы, чтобы он там отдохнул немного. А тем временем мне нужны еще два добровольца. Вы видите, что с этим господином ничего страшного не случилось. Возможно, это придаст вам храбрости.
Лизетта помогла Ричарду подняться и увела его за кулисы. Мэйсон встала и пошла к ним. За занавесом уже стоял второй стул. Валентин поспешил выйти к ним и торопливо сказал:
– Побыстрее. Я не хочу выглядеть дураком. – Затем, обращаясь к Ричарду, спросил: – Как вы себя чувствуете, молодой человек?
– Полностью себя контролирую, спасибо, – заверил его Ричард.
– Он выглядит совсем как обычно, – заметила Мэйсон.
– Давайте проверим. Вам нравится Всемирная выставка?
Ричард тут же почесал голову и сказал:
– Да здравствует Франция.
– Отлично. А теперь я хочу, чтобы вы закрыли глаза. Ричард закрыл глаза.
– Я хочу, чтобы вы абсолютно честно ответили на все вопросы, что зададут вам эти женщины. Вы меня понимаете? – приказал ему гипнотизер.
– Я понимаю.
Валентин кивнул девушкам и сказал:
– Давайте спрашивайте.
– Вы уверены, что он в трансе? – спросила Мэйсон.
– Конечно, уверен.
Гипнотизер вернулся на сцену к двум новым добровольцам. Как только гипнотизер начал общаться с теми двумя, Мэйсон и Лизетта присели на корточки рядом со стулом, на котором сидел Ричард.
– Кем вы работаете? – спросила Мэйсон.
– Я любитель искусства, – ответил Ричард.
– Нет. Какова ваша настоящая профессия? На кого вы работаете?
– Я работаю на сыскное агентство Пинкертона, Чикаго, Иллинойс.
У Мэйсон захватило дух. Выходит, гипноз все же сработал?
– У вас есть ферротипия симпатичной молодой женщины, которую вы очень цените. Кто она?
После некоторого колебания Ричард сказал:
– Молли. Моя сестра.
Мэйсон возбуждалась все сильнее. Итак, гипноз действительно сработал! Она получила привилегированный доступ к самым потаенным уголкам души этого мужчины.
– Вам действительно понравилось мое выступление? – спросила Лизетта.
– Я подумал, что на вас слишком много косметики.
– Прекрати, – шикнула на нее Мэйсон. – Не трать драгоценное время на дурацкие вопросы.
– Я увидел, – продолжал Ричард, – как ваши акробатические возможности могли бы пригодиться в моей профессии.
– Мои? – переспросила Лизетта.
– Ерунда, – отмахнулась Мэйсон. – Скажите нам, что вы в действительности думаете о картинах Мэйсон Колдуэлл?
– Ни одно произведение искусства так глубоко меня не трогало. Я не вижу для себя лучшей участи, чем посвятить жизнь тому, чтобы о них узнал мир.
Ответ Ричарда отозвался приятным теплом в сердце Мэйсон, но ей предстояло задать более жесткий вопрос:
– Вы когда-либо подозревали, что Мэйсон, возможно, не умерла? – Мэйсон сама испугалась того, что произнесла вслух.
Переглянувшись с Лизеттой, Мэйсон добавила:
– И сейчас подозреваете?
– Нет, я отбросил это предположение.
– Почему?
– Нет доказательств.
– Ни одного? – спросила Мэйсон.
– Ничего существенного. Я понял, что был лишь излишне подозрителен. Как профессионал, я знаю, что не следует пытаться доказать то, подо что нельзя подвести неопровержимые улики. Поэтому я сдался.
Мэйсон перевела дух.
– А что вы чувствуете в отношении сестры Мэйсон Эми?
– Я влюбился в нее. Я люблю картины ее сестры, но я люблю Эми как женщину. Я никогда ничего подобного не чувствовал. Я бы хотел провести с ней всю оставшуюся жизнь. Я хочу пестовать и баловать ее до конца дней.
Эти слова столь очевидно шли из самого сердца Ричарда, что даже Лизетта не сдержала умильную слезу.
– О-ла-ла! – сказала она и шмыгнула носом.
Мэйсон раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, ей было стыдно за себя – за то, что она заставила его сказать о том, чего он не собирался открывать. Но с другой стороны, услышать такие слова от столь сдержанного на слова мужчины… Она никогда еще так сильно его не любила.
Мэйсон хотела спросить его, почему он никогда сам ей этого не говорил, но тут вернулся Валентин.
– Ваше время истекло, – объявил он. Затем он взял Ричарда под руку и вернул на сцену, где двое других господ уже ходили по кругу гуськом под хохот публики. Он усадил Ричарда на стул и хлопнул в ладони.
Ричард тут же спросил:
– Ну, когда же начнем? По залу пробежал смешок.
– Перед тем как мы продолжим, позвольте вам задать один вопрос: вам нравится Всемирная выставка?
Ричард почесал голову и сказал:
– Мне весело. Да здравствует Франция.
Аудитория взревела от хохота.
Ричард растерянно обвел взглядом зал.
– Черт…
Валентин улыбнулся:
– Вижу, вы для меня слишком крепкий орешек. Пожалуйста, займите свое место в зале.
Ричард пошел к столику под хохот аудитории.
– Что их так потешает? – спросил он у Мэйсон.
– Ты выставил на посмешище гипнотизера, – сказала она. – Пойдем отсюда.
У выхода из кабаре он поймал кеб. Мэйсон подняла взгляд, подернутый дымкой желания.
– Я хочу вернуться к тебе в отель.
Ричард казался удивленным.
– С чего бы?
– Не говори. Ничего не говори. Просто давай вернемся в отель как можно скорее.
Ричард протянул вознице банкноту и сказал, что он удвоит плату, если тот сможет домчать их до «Лё-Гранд-Отеля» за пять минут. Мэйсон жалась к Ричарду всю дорогу, вдыхая его особый свежий запах, и говорила себе: «Какой же я была дурой. Какой маниакально подозрительной!»
Возница отработал премию, и вскоре Мэйсон и Ричард уже входили в отель.
– Одну минуту, – сказал Ричард и, оставив Мэйсон возле лифта, подошел обменяться парой слов с консьержкой. Очевидно, он просил, чтобы их никто не беспокоил. Мэйсон не могла дождаться, когда они попадут в номер. Как только Ричард пропустил ее в лифт, она схватила его за плечи и поцеловала в губы, крепко, как только могла. Когда двери открылись, она схватила его под руку и потащила по коридору. Ей было страшно жаль упущенного времени и очень хотелось наверстать все и сразу.
– Не могу выразить, как я тебя хочу, – хрипло сообщила Мэйсон возле дверей.
Ричард прижал ее к себе и жадно поцеловал. Быстро открыв дверь, он подтолкнул ее в номер, зашел сам и, закрыв дверь, подхватил Мэйсон на руки и понес в спальню. В комнате было темно, но лунный свет лился в окно, романтичный и волшебный.
Мэйсон лежала на кровати и не могла дождаться, когда Ричард избавится от одежды – досадного препятствия, мешающего свершиться тому, чего она так долго ждала. Она рванула полы его рубашки, отрывая пуговицы, и торопливо начала стаскивать ее с плеч. Ричард тем временем избавлялся от брюк. Мэйсон ему помогала. Все остальное он сделал сам. Затем он лег рядом с ней, совершенно нагой, в состоянии сильного возбуждения.
Очень медленно Ричард принялся раздевать Мэйсон. Один за другим предметы ее туалета падали на пол. Мэйсон так изголодалась, что его медлительность действовала ей на нервы, она тоже решила принять участие в процессе раздевания. Она потянула за корсет, не потрудившись расшнуровать его, и ей было наплевать, если он порвется.
И, наконец, она осталась в той же первозданной наготе, что и Ричард. Он лег на нее, нагая плоть к нагой плоти. Он снова ее поцеловал страстным, долгим поцелуем, словно вся та страсть, что так долго копилась в нем, обрела наконец свободу выражения. Руки его гладили тело Мэйсон, ласкали, накрывали изящные округлости, сжимали. Казалось, он истосковался по ее телу, стремясь прикоснуться к каждому его дюйму. Так же, как Мэйсон истосковалась по нему.
Ричард перевернулся, продолжая целовать Мэйсон так, что она оказалась на нем, покусывая ее шею, целуя плечи. Он отыскал губами ее сосок и втянул его ртом. Мэйсон застонала, откинула голову. Наслаждение было нестерпимо острым. Она хотела сказать Ричарду если не словами, то телом, как сожалеет о том, что сомневалась в нем. Она хотела отплатить ему за все свои подозрения, за то, что избегала его, за грубое вторжение в его частный, одному ему принадлежащий мир. Она хотела заразить его своей страстью, вдохнуть в него новую жизнь, свести на нет те барьеры, которых никогда не должно было быть между ними. Ее желание было настолько сильным, что все прочее просто переставало существовать.
Никогда раньше они не видели друг друга полностью обнаженными, и ее необычайно возбуждало соприкосновение их тел. Ей нравились его руки, его сильные плечи, его покрытая жесткими завитками грудь. Ей нравилось чувствовать, как соприкасаются их бедра, ощущать его мощную эрекцию. Ричард целовал ее так умело, так мастерски. Его губы ласкали ее везде, он проводил языком по ее предплечью, целовал ладони, брал в рот ее пальцы один за другим, словно хотел вкусить всех тех соков, что могло предложить ее тело, своим горячим языком он создавал пожар в ее лоне.
Потом Ричард перевернул Мэйсон на бок, целуя плечи, затем перевернул на живот. Уткнувшись лицом в подушку, она чувствовала, как его язык движется вдоль позвонков. Желание казалось невыносимым. Ниже, ниже, ладони его сжимали ее ягодицы, мяли их нежно, соскальзывали внутрь, где она была влажной от телесных соков. Мэйсон вскрикнула, готовая взорваться сию же минуту. Господи, как она его хотела!
Ричард лег на нее сверху. Мэйсон думала, что он войдет в нее сзади, но вместо этого он сунул руку под подушку. Внезапно она почувствовала что-то холодное на запястье и услышала металлический щелчок. Мэйсон рванулась и поняла, что рука ее прикована к изголовью. Он надел на нее наручники!
– Что ты делаешь? – задыхаясь, спросила она.
– Все кончено, Мэйсон, – холодно сообщил Ричард. – Ты поймана.
Глава 17
В ужасе Мэйсон потянула на себя покрывало. Ричард включил настольную лампу. Он смотрел на Мэйсон сверху вниз с холодным безразличием.
– Ты… мерзкий лжец! – брызжа слюной, закричала она. – Как ты мог!
– Это было непросто, уверяю тебя. – Ричард проверил, хорошо ли наручник прикреплен к изголовью, и начал собирать с пола свою одежду.
– Ты сумасшедший.
– Родинка, Мэйсон. – Он схватил ее за запястье и развернул боком к себе. – Ты забыла о родинке. О той самой железной улике.
Господи! Она действительно о ней забыла. Увидеть она ее могла только в зеркале, и тогда, работая над портретом, она пользовалась зеркалом. И больше о ней не думала. Какая непростительная глупость!
– Ты глупец, – сказала Мэйсон. – У всех Колдуэллов есть эта родинка.
Ричард неторопливо одевался, заставляя ее чувствовать себя еще более беспомощной в своей наготе.
– Брось, Мэйсон. Вероятность того, что у сестер родинка в одном и том же месте и той же формы – одна на миллиард.
Но Мэйсон не желала сдаваться.
– Кто сказал, что это автопортрет? Фальконе так его назвал, и что с того? На самом деле Мэйсон рисовала меня. Я просто не стала тебе этого говорить, потому, что ты так поверил в то, что это она, что я не захотела тебя разочаровывать. Но на самом деле это я.
Ричард не смог сдержать улыбки.
– Да, ты действительно достойный противник. Чудесная оборонительная тактика, должен признать. Но ты оступилась не только в этом. Есть еще один момент, и весьма существенный – твои ресницы. Все знают, что у Мэйсон были необыкновенно длинные ресницы. Которые, как я должен заметить, отчетливо видны на портрете. А у Эми ресницы, наоборот, довольно короткие. Но произошла весьма странная вещь: за то время, пока мы с тобой знакомы, ресницы приобрели свойство отрастать. Вначале я подумал, что мне это кажется. Но потом совершенно внезапно они снова стали короткими. Что может означать только одно – ты их подрезаешь. И я хочу спросить, с какой стати женщине себя уродовать?
Мэйсон все равно не желала сдаваться.
– Ресницы – тоже семейная черта. Мне просто не нравятся длинные ресницы. Тебе это не приходило в голову, грязный ублюдок?
Ричард продолжил как ни в чем не бывало:
– Но все стало еще более очевидным, когда ты попыталась нанести мне ответный удар. Я понял, что ты под меня копаешь. Каким-то образом тебе удалось выяснить, что я агент Пинкертона. Полагаю, это дело рук Эммы, не иначе. Так что ты начала собирать информацию, которую могла бы против меня использовать. Эта мерзкая мартышка. Кто еще мог бы раздобыть это чудовище, если не та, чья лучшая подруга работает в цирке?
– С чего бы мне не попытаться нанести ответный удар и узнать о тебе правду, если мне стало ясно как день, что все, что ты мне говорил – сплошная ложь?
– Насчет обезьяны – это был умный ход, творческий, можно сказать, – продолжал Ричард, – но с гипнотизером случился настоящий фарс. Сесть в такую лужу! Ты на самом деле считаешь, что я настолько слабоволен, что позволю тебе прибрать меня к рукам? Я едва удерживался от смеха. Да здравствует Франция! Вот уж смех, да и только. Ты считаешь меня болваном?
У Мэйсон сердце упало в пятки.
– Выходит, все, что ты мне говорил, ты говорил лишь для того, чтобы затащить меня в кровать и увидеть мою родинку?
Ричард был уже полностью одет. Вынув из кармана часы и взглянув на них, он сказал:
– Пора.
Он подошел к кровати, отстегнул наручник от изголовья и стал наблюдать за тем, как Мэйсон одевается. Она дрожала от обиды, унижения и гнева.
– Ты поплатишься за то, что сделал. Я подам на тебя в суд. На тебя и на твое агентство в Чикаго. Я подам в суд на всех, кто тебе помогал. Ты еще об этом пожалеешь.
Когда они подошли к двери, Ричард защелкнул наручники на обеих ее руках.
– Сожалею, что вынужден применить такие меры, но противника никогда не следует недооценивать.
– Я бы тебя с радостью придушила, если бы могла.
– Ах, – с холодной улыбкой заметил Ричард, – никто так не бесится при поимке, как завзятые мошенники.
Мэйсон развернулась, чтобы ударить Ричарда ногой, но он вовремя отступил.
– Думаю, сегодня мы не станем проходить через фойе, а воспользуемся иным выходом.
Он прошли четыре лестничных пролета и оказались у черного хода. По дороге они наткнулись на коридорного, который едва не подпрыгнул, заметив наручники на даме. Мэйсон никогда в жизни не испытывала такого унижения.
– Любовные игры, – пояснил Гаррет, любезно кивнув пареньку, словно ситуация была самой естественной.
Мэйсон удивилась, увидев у выхода карету, явно их поджидавшую.
– Ты чертовски самоуверен, – процедила она сквозь зубы.
– Я оставил консьержке несколько распоряжений. Как видишь, этот вечер я спланировал заранее.
Карета тронулась вдоль авеню Опера в направлении Префектуры полиции. Мэйсон забилась в дальний от Ричарда угол. Страх цепко держал ее в объятиях.
– Представим на минуту, что ты сможешь убедить власти, что я выдавала себя за мою сестру. Как ты думаешь, как они со мной поступят?
– Трудно сказать. За мошенничество и обман, я думаю, могут дать восемь—десять лет тюрьмы. Но французы, как ты знаешь, могут быть весьма суровыми при назначении наказания и бывают довольно мстительными в отношении тех, кто водил за нос столь важных людей. Они могут решить, что для острастки следует примерно наказать преступника, и назначить гораздо более серьезную меру.
Только сейчас Мэйсон осознала, что самое страшное уже происходит. И это сознание парализовало ее. Весь оставшийся путь она проделала, тупо уставившись в окно.
Вскоре они приблизились к Пале-Рояль, но вместо того чтобы повернуть налево на улицу Риволи, где располагалась Префектура, карета затормозила и остановилась.
– Мы на месте, – сказал Ричард. Мэйсон огляделась.
– Лувр?
– Вы весьма проницательны. Выходите.
Мэйсон вышла из кареты. Как это нелепо, оказаться в наручниках у входа в величайшую в мире сокровищницу искусства.
– Пожалуйста, поднимитесь наверх.
Ричард подтолкнул ее, чтобы вывести из ступора. Сейчас, должно быть, было уже за полночь, но у входа стоял охранник. При их приближении он слегка кивнул Ричарду и открыл перед ним дверь.
– Что происходит? – спросила Мэйсон.
– Идите вперед.
Они пустились в путь по длинному коридору, стены которого были увешены картинами Пуссена, Буше и Фрагонара, едва различимые в лунном сиянии, лившемся со стеклянного куполообразного потолка. За поворотом их ждал еще один охранник. Не выразив никакого удивления присутствием посторонних, он передал Ричарду ключ.
– Пожалуйста, не останавливайтесь, – сказал ей Ричард.
Они прошли по еще одному коридору, и шаги их отдавались эхом в громадном и пустом храме искусства. Странное чувство охватывает того, кто прогуливался здесь ночью. Было ощущение, что тишина полнится призраками. Громадные картины, на сей раз художников Возрождения, в жутком сумраке казались окнами в иные, потусторонние миры.
– Я требую, чтобы ты немедленно прекратил это безобразие и сказал мне, куда мы идем и зачем.
– На вашем месте я не стал бы выступать с требованиями.
Они повернули налево, и попали в маленький коридор. Девушка, одетая горничной, сделав перед Ричардом реверанс, сказала:
– Все готово, месье.
Ричард слегка подтолкнул Мэйсон, и они пошли дальше.
Куда он мог ее вести? Мэйсон не приходило в голову ничего даже относительно вразумительного. Хотя, возможно, он договорился с Дювалем, что они встретятся здесь, чтобы он мог передать ее в руки полиции.
Темнота залов, неземная тишина, эхо шагов – все это должно было заставить Мэйсон дрожать от благоговейного ужаса.
Они подошли к закрытой двери. С помощью ключа, переданного охранником, Ричард открыл ее и отступил на шаг.
Там, внутри, Мэйсон ждало невероятное зрелище. Громадную комнату, декорированную в стиле рококо, освещали десятки белых свечей. Вдоль одной из стен на постаментах были выставлены два холста, как раз перед креслом. На столе в дальнем конце стояли бутылка шампанского и два бокала.
Ричард закрыл за ними дверь, Мэйсон во все глаза смотрела на картины. Одна – «Мона Лиза» да Винчи, другая – ее, Мэйсон, автопортрет.
Мэйсон онемела от шока. Она обернулась и уставилась на Ричарда в ожидании объяснений. Но он ничего не сказал, лишь расстегнул наручники, которые беззвучно упали на застеленный ковром пол.
– Что это значит? – с трудом выговорила Мэйсон.
Его холодное безразличие разом куда-то испарилось. Глаза его лучились нежностью.
– Мы празднуем.
– Празднуем? Что мы празднуем?
– Наше воссоединение, которое, наконец, произошло.
О каком воссоединении речь? Что он такое говорит?
– Вы меня не арестуете?
– Не в том смысле, который вы в это вкладываете.
– Но… Я вас не понимаю.
– Разве? Вот так я показываю тебе, как сильно я тебя люблю. Как восхищаюсь тобой.
У Мэйсон ноги стали ватными. Ричард поспешил поддержать ее и усадить в кресло.
– Должно быть, я сплю. Он сел рядом.
– Я хотел, чтобы все это показалось тебе сном. Я хотел создать момент, который не принадлежит этому миру. Знаешь, я ни разу не говорил женщине, что люблю ее, и я хотел, чтобы это было… как чудо.
– Это какой-то новый трюк.
– Все. Больше никаких игр. Никакого трюкачества. Все это – настоящее.
Мэйсон подняла на Ричарда глаза.
– Ты любишь меня?
– Я думаю, что люблю тебя с тех пор, как увидел твои картины.
– Ты любишь женщину, которую считаешь мошенницей?
– Ты не мошенница. Ты такая, какой я себе тебя представлял и даже более.
– Более?
– Ты женщина, которую я чувствую сердцем. Ты не боишься бросить перчатку провидению и сотворить себе новую судьбу.
– Но все эти разговоры о чистоте и честности…
– Чистота, которой я восхищаюсь, есть в твоих картинах. И честность, что приводит меня в восхищение, – это твое стремление сделать все, чтобы принести эту чистоту в мир. Любой ценой.
– Тебя восхищает то, что я сделала?
– Больше, чем ты думаешь. Мир оказался невосприимчив к гениальности твоих картин. И, когда представился случай, когда судьба дала тебе шанс, ты бесстрашно воспользовалась уникальной возможностью, ты рискнула всем. То, что я сделал сегодня, я сделал, чтобы показать, что могло бы случиться с тобой, чтобы показать, насколько мужественным был твой поступок. Я хотел прославить твою смелость, твою рискованность, воздать ей по заслугам. Мэйсон, кажется, начинала ему верить.
– И своим прославлением ты едва не запугал меня до смерти?
Ричард уронил ее руку.
– У меня все не слишком хорошо получается. Я сказал тебе, как мне удалось выяснить, что ты – Мэйсон, с точки прения сыщика. Но это неправда. Вернее, не вся правда. Он встал и подошел к ее автопортрету.
– В тот первый день у Фальконе, – тихо сказал Ричард, – я стоял перед этой самой картиной и влюбился. Я видел в твоей работе нечто, что тронуло меня так глубоко, что потрясло меня до самых глубин души. Эта картина совершенно меня обольстила. Было так, словно до того момента я и нe жил вовсе. Но за этим открытием пришла печаль. Если бы я только мог познакомиться с ней, узнать ее, когда она была жива, думал я. И ни о чем другом больше думать не мог. Я бы жил для нее, помогал во всем, любил. Быть может, я бы даже мог ее спасти. – Ричард повернулся к Мэйсон: – И потом я взглянул на тебя, ее сестру. И я захотел тебя. Я даже не очень понял, почему я тебя захотел. А когда мы занимались любовью в карете… Это было нечто, чего я никогда не испытывал прежде. И я был потрясен и тронут тогда не меньше, чем когда смотрел на твой портрет. Я не мог этого понять. Я подумал, что я хотел тебя потому, что с тобой мог стать ближе к Мэйсон, и поэтому я старался не слишком сближаться с тобой. Но я не мог. Я сходил с ума. Потом в Овере я увидел на твоих руках пятна краски. И я подумал: возможно ли? Я даже не смел надеяться. Но я решил узнать правду не для того, чтобы над тобой свершилось «правосудие», но потому что я очень хотел, нуждался в том, чтобы мое предположение оказалось правдой. – Ричард вернулся к креслу, присел перед Мэйсон. – Я думаю, что сердце мое знало правду с самого начала. Но я не мог быть в этом совершенно уверен. И я не мог вступить с тобой в открытую конфронтацию, не мог рисковать, боялся спугнуть тебя. Вот так началась эта игра между нами. Мне на самом деле нравилась эта игра. В своем роде эта игра была сродни сексу. Как на качелях – взлет и падение, и снова взлет. То даешь, то отнимаешь. Восхитительно было наблюдать за тем, как ты испытываешь меня, как одерживаешь порой верх. Ты действительно была мне весьма достойным противником. И с таким отличным воображением! – Ричард засмеялся. – Кто, если не ты, прибег бы к таким занимательным маневрам? – Он взял ее за руку и снова стал серьезным: – Я знал, что сегодня наступит торжественный момент. Я все заранее спланировал. Очень дотошно. Но один вопрос так и остался без ответа. Мне надо кое-что узнать, прежде чем смогу исповедаться перед тобой.
– И что это?
– Я не знаю, что ты ко мне чувствуешь. Не знаю, остается ли у меня надежда быть любимым тобой после всего того, что ты узнала. Поэтому я сказал тебе правду, отвечая на твои вопросы, когда ты считала, что я в трансе. Я сказал тебе, что люблю тебя. Чтобы увидеть твою реакцию. Чтобы увидеть, теплится ли искра искреннего чувства ко мне под всей твоей обидой, гневом, ощущением того, что тебя предали. Есть ли у меня надежда, что все это было не зря?
– Ты хотел знать, люблю ли я тебя?
Мэйсон увидела в темных глубинах глаз Ричарда сомнение, беззащитность.
– Да, – тихо признался он.
Мэйсон пристально смотрела ему в глаза. У нее не было ни малейшего сомнения в том, что он говорит правду.
Она взяла в ладони его лицо:
– Да, я люблю тебя всем сердцем, всей душой, всем, что у меня есть.
Ричард яростно схватил Мэйсон в объятия и прижал к себе, боясь отпускать. Она чувствовала, как гулко бьется его сердце.
– Слава Богу! – прошептал он.
Мэйсон чувствовала, что любовь Ричарда вливается в нее. Она прижимала его к груди, и благодарные слезы наполнили ее глаза.
– Сейчас мы можем все начать сначала, – пробормотал Ричард. – Все преграды – прочь.
Мэйсон несколько отстранилась. Ей не хотелось портить такой момент, но у нее хватило ума спросить:
– Моя оборона пала до последних рубежей? А как насчет твоей? Я очень многого о тебе не знаю.
– Ты знаешь, что я люблю тебя.
– И это все, что я знаю о тебе. Как насчет твоего прошлого?
Ричард удивленно заморгал.
– И что… насчет моего прошлого?
– Кем ты был до того, как стал гордостью сыскного агентства Пинкертона?
– Ах, вот ты о чем. Ты хочешь знать, чем я занимался?
– Можно и с этого начать.
– Ты действительно хочешь об этом знать?
– Конечно, хочу.
– Предупреждаю, тебя ждет шок.
– Больший шок, чем оказаться в одной компании с Джокондой?
Ричард негромко рассмеялся и встал. Затем с озорной усмешкой сказал:
– Я был вором.
– Не может быть!
– Но я был вором. Я крал предметы искусства. Я был одним из самых успешных и удачливых воров по этой части. Я мог бы позабавить тебя рассказами о моих приключениях, но, каким бы умелым вором я ни был, в конечном итоге меня поймали. Я был поставлен перед выбором: либо надолго сесть в тюрьму, либо стать агентом Пинкертона, чтобы отдать все свое мастерство и опыт на службу закона. Выступить, так сказать, за другую сторону. Мне не пришлось выбирать долго, как ты понимаешь.
Мэйсон потребовалось время, чтобы уложить в сознании полученную информацию. Затем внезапно она откинула голову и засмеялась. Она смеялась так, что у нее заболели бока.
– Подумать только! – сквозь взрывы смеха проговорила она: – Я так боялась, что ты обнаружишь, что я совершила что-то бесчестное!
Ричард прочувствовал иронию ситуации и рассмеялся вместе с Мэйсон. Как это чертовски весело, как забавно, что они оба на деле оказались мастерами обмана, мошенниками, людьми вне закона!
Мэйсон вскочила и, бросившись Ричарду на шею, воскликнула:
– Я обожаю тебя!
Она никогда не видела его таким счастливым. Он обнял ее и поднял на руках.
Но, когда вновь опустил на землю, Мэйсон обвела взглядом комнату, свечи, картины:
– Тебе пришлось подмазать немало народу в министерстве культуры, чтобы все это устроить.
– Скажем так, иногда полезно знать, в каком шкафу какой скелет спрятан.
– Но… Джоконда! Что это значит?
– Это значит, что я ставлю твой автопортрет на одну доску с шедевром Леонардо. И я верю, будь ты Мэйсон или Эми, что твое предназначение стать одной из величайших фигур в художественной истории Запада. Мэйсон затаила дыхание.
– Ты хочешь сказать, что… Ты хочешь, чтобы все было как прежде? Что наша с тобой миссия сделать Мэйсон, то есть меня, знаменитой остается в силе?
– Именно это я и хочу сказать.
– Но… Мэйсон ведь не может ожить внезапно… Или может?
– Боюсь, что не может. Ее легенда требует мученичества. Никто этого не планировал, просто так вышло. Но миф стал жить своей жизнью, и мы не можем стать у него на дороге.
– Тогда мне придется остаться мертвой. Мне придется быть Эми.
– Но когда ты будешь рисовать, ты будешь Мэйсон. Мэйсон задумалась.
– Если ты чувствуешь, что тебе такое не под силу, я пойму. Но если ты предпочтешь стать моим соратником в выполнении этой высокой и почетной миссии, я отдам все, что у меня есть, ради претворения в жизнь нашей мечты. Все отдам… тебе.
Ричард сказал это так искренне и так страстно, что у Мэйсон закружилась голова. За один вечер она услышала от него, что он ее любит, что он ее прощает – нет, восхищается ее обманом, и еще – что он хочет посвятить ей жизнь. Какая женщина против этого устоит? И к чему сопротивляться?
Мэйсон приподнялась на цыпочки, взяла в ладони лицо Ричарда и от всей души поцеловала. То был самый сердечный, самый горячий поцелуй в ее жизни.
– Ты уверен, что дверь заперта? – спросила она. Ричард улыбнулся и показал ей ключ:
– Мы отрезаны от всего мира. Нас только трое: ты, я и Джоконда.
– Хорошо.
Мэйсон завела руки за спину и расстегнула застежку на платье, и оно упало на пол. За ним последовали нижняя юбка, рубашка, затем туфли, чулки, корсет. Пока она не осталась стоять перед Ричардом совершенно нагой.
– Я никогда так не обнажалась раньше. Не знала, что при этом чувствуешь себя такой… свободной.
Ричард подошел к ней и медленно развернул спиной к себе. Он поцеловал ее в плечо. Затем провел влажную дорожку из поцелуев вдоль ее спины, ниже, ниже, опустился на колени. Он бросил взгляд на ее автопортрет, взглянул на родинку на портрете, затем на Мэйсон. Он поцеловал ее родинку нежно, почтительно, с благоговением.
Интимность его поклонения привела Мэйсон в возбуждение. Она обернулась к Ричарду и сказала:
– Сними одежду. Я хочу видеть тебя таким же нагим, как я сама. Я хочу, чтобы мы были как Адам и Ева здесь, в нашем Эдеме.
Ричард поднялся с колен и стал раздеваться. Сильное тело, мощное и мужественное, мощная, развитая грудь, покрытая темным волосом, притягивала взор, вызывала желание прикоснуться к ней, пробежать пальцами по этим скульптурным контурам. Тонкая талия, узкие, но мускулистые бедра. Все в нем, каждый дюйм тела, отличалось необузданной, мужественной красотой. И член его, дерзкий, набухший, стремительно поднимался под взглядом Мэйсон. Ричард был сложен так, что сам Аполлон мог бы ему позавидовать. Сев рядом с Мэйсон на кресло, он прошептал:
– Не торопись, почувствуй дух этого места. Подумай о том, что за свою долгую историю видели эти стены. Подумай об энергии, которой обладают все эти восхитительные предметы искусства, собранные в одном месте. Энергия, что взывает к нам, что говорит с нами без слов, но так ясно, так мощно… Пусть эта энергия войдет в нас, овладеет нами, даст нам силы выдержать то, что нам предстоит. Пусть она сплавит нас воедино.
Слова его западали Мэйсон в душу. Она чувствовала ту энергию, о которой говорил Ричард, квинтэссенцию всего того, что создали великие мастера, их боль, их страдание и их гений, сумевший превратить даже само страдание в красоту. Эта энергия наполняла ее, дарила ей уверенность и веру. Словно сами боги давали ей благословение на то, чтобы она соединилась с ним в одно целое.
Она взяла его в рот и почувствовала, как он еще сильнее набух там, внутри, заполнил собой все свободное пространство. И та пустота, что зияла в ее сердце столько лет, тоже начала наполняться. То чувство, что охватило ее, было выше блаженства. Словно она унеслась на иной, более высокий уровень существования. И, покуда он скользил внутрь ее рта и обратно, Мэйсон потеряла всякое представление о времени, о том, кто она, и о том, что может принести ей завтра, или следующая неделя, или следующий месяц. Она чувствовала Удовлетворение, и благодарность, и исключительную целостность, которая была выше всего того, что она могла бы вообразить, и ей хотелось, чтобы это никогда не кончалось.
Однако Ричард все же вышел из нее, опустил ее на шезлонг и встал на колени рядом.
– Я хочу вкусить тебя, – сказал он и припал губами к ее лону.
Язык его был как жаркое пламя. Когда Ричард нашел ее нежный клитор и умело принялся за работу, Мэйсон перенеслась туда, где уже успела побывать только что, где понятия времени не существовало, где было одно лишь наслаждение. Наслаждение, которое нарастало, нарастало и нарастало, пока вся она – тело, ум, душа – не открылась свободно навстречу Ричарду, ликуя от экстаза, рожденного его языком.
Как только закончились спазмы оргазма, Ричард вошел в нее и вновь перенес Мэйсон в мир чистого восторга. Он загонял себя в нее, и она поднималась ему навстречу, и они обнимали друг друга так крепко, что сложно было сказать, где начинается тело одного и где кончается тело другого.
– Глубже, – приказывала она. – Глубже… Не останавливайся… оторвись от земли… глубже, глубже…
Ричард вскрикнул и откинул голову. Когда он выплеснул в нее семя, она почувствовала, что уносится куда-то, меняется, перетекает в него, сливается с ним, сливается… сливается… Ее тело не могло вместить его. Она закричала, и весь огромный дворец эхом повторил ее крик.
– О Боже…
И, когда все осталось позади, Мэйсон лежала, свернувшись калачиком в объятиях Ричарда, и чувствовала себя божественно. Сонно она взглянула на шедевр Леонардо.
Извечная тайна оказалась раскрыта.
Она знала, почему улыбалась Джоконда.
Глава 18
То было чудо! После всех переживаний, всех подозрений и страхов, что неотступно следовали за ней с тех самых пор, как Эмма открыла ей, кем на самом деле является Ричард, все вдруг само встало на место, словно некая добрая фея махнула волшебной палочкой, и все мечты Мэйсон разом осуществились. Все сразу. Работа, признание, поддержка и любовь мужчины, который знал ее и ценил. И необходимость оставаться в маске для всего мира казалась малой ценой за столь многие блага. Теперь ей больше не придется лгать Ричарду. Эта ноша упала с ее плеч. А что там думает о ней весь остальной мир, ей все равно, главное, с ним она может быть самой собой.
Прошло два дня с той ночи, когда Лувр стал свидетелем интимной близости Мэйсон и Ричарда. В ту ночь они вернулись в номер Ричарда и снова любили друг друга. Они даже ели, не вставая с постели и не одеваясь. Ричард, казалось, стал совсем другим: расслабленным, непринужденно веселым и остроумным, временами озорным, как мальчишка, временами горячим и страстным. По молчаливому соглашению они не говорили о том, что было между ними раньше, как не говорили о том, что происходит за стенами их номера. Каждый подсознательно старался сохранить в себе как можно дольше магию пережитого в Лувре. Словно, кроме них, на свете людей не было. Словно они и вправду были Адамом и Евой. Даже появление коридорного, доставлявшего им еду, или горничной, приходившей убирать номер, воспринималось как Досадное вторжение извне. Как попытка нарушить сакральное уединение.
Но на третью ночь Мэйсон разбудил и немало испугал крик Ричарда во сне. Он резко сел в кровати, тяжело и хрипло дыша и обливаясь потом. Мэйсон в тревоге перевернулась и спросила:
– Что с тобой?
– Ничего, – сказал Ричард. Тон у него был натянутый. – Просто плохой сон.
Мэйсон обняла его.
– Ты дрожишь.
– Через минуту все будет в порядке. Просто полежи со мной в обнимку.
Ричард так сжал Мэйсон в объятиях, что она едва не задохнулась.
– Что тебе снилось?
Он все еще дрожал в ее объятиях.
– Ничего особенного, – прошептал Ричард. – Просто кошмар. Со мной такое бывает время от времени. Возможно, так мое тело сообщает мне, что пора нам возвращаться к работе. – Он зажег настольную лампу, и комнату залил свет. – Позволь мне просто подержать тебя минутку, и все будет хорошо.
Мэйсон баюкала Ричарда, словно младенца, и слышала, как сильно колотится его сердце. Постепенно сердцебиение вернулось к нормальному ритму, и он уснул.
На следующее утро, когда Мэйсон проснулась, Ричард уже не спал. Он поприветствовал ее улыбкой.
– Мне надо ехать в Рим.
– В Рим? Что тебе понадобилось в Риме?
– Сеньор Альберто Лугини.
– Лугини? Критик?
– Он не просто критик, он наиболее заслуженный ученый-историк в Европе.
Мэйсон почувствовала укол ревности. Ричард словно щелкнул ее по носу, давая понять, что, кроме нее, у него существуют и другие интересы. Но у Мэйсон хватило ума мысленно осадить себя. Последние несколько дней Ричард слишком баловал ее и, похоже, испортил. Да и внешний мир казался чем-то далеким и туманным.
– Зачем тебе ехать прямо сегодня? Нам так хорошо. Побудь со мной еще немного.
Она прижалась к нему и поцеловала.
– Увы, я должен ехать сейчас. Скоро двадцать первое июня, а с поддержкой критики у нас дела обстоят неважно. Не так, как я рассчитывал. Моррель, Вульф и другие влиятельные французы отказываются нас признавать, сколько я ни пытался добиться своего. Поэтому мы должны надавить на них с флангов. И сделать это быстро.
Надавить с флангов? Что ты имеешь в виду? – Если человек с влиянием и престижем Лугини увидит твои картины и влюбится в них, все прочие критики присоединятся к нему. Его слово достаточно весомо.
– Но он еще более привержен традициям, чем Моррель другие.
– Верно. Но я надеюсь его просветить.
– И как ты собираешься это сделать?
Ричард усмехнулся:
– Скажем так, мне известны некоторые их тайны.
– Есть ли в Европе места, где кому-то хоть что-то удалось от тебя утаить?
Ричард чмокнул Мэйсон в нос.
– Таких мест чертовски мало, – сказал он и улыбнулся.
– Не знаю, что я буду без тебя делать, – проворчала Мэйсон.
– Ты можешь закончить несколько картин. И время пройдет незаметно, и тебе будет приятно.
– Бледная замена тебе.
– И еще один момент. Кто, кроме меня, знает, что ты Мэйсон?
– Только Лизетта.
– Ей можно доверять?
– Разумеется.
Ричард не выглядел убежденным.
– Ну ладно. Но давай все же постараемся, чтобы эта тайна осталась между нами тремя. Чем меньше людей об этом знают, тем лучше.
Ричард встал и накинул халат. Мэйсон забралась под одеяло и капризно надула губы.
Во второй половине того же дня они оба стояли на платформе Лионского вокзала и прощались. Поезд ждал сигнала к отправлению. Мэйсон вовсю старалась держаться молодцом, но на самом деле ей страшно хотелось зарыдать и упросить его остаться.
Раздался свисток.
– Мне пора, – сказал Ричард.
– Ты надолго уезжаешь?
– На неделю примерно. Но я останусь в Риме столько, сколько потребуется, чтобы склонить Лугини на нашу сторону. – Торопливо, словно боясь, что больше ее не увидит, Ричард сгреб Мэйсон в охапку и страстно поцеловал в губы.
– Господи, – пробормотала она, – еще один такой поцелуй, и я тебя никуда не отпущу.
– Не забудь, у тебя тоже есть работа. Ты должна закончить несколько картин до моего возвращения. Запрись и постарайся сконцентрироваться на работе. Постарайся вернуть себя в то состояние, которое было у тебя, когда ты создавала свой автопортрет. Не думай ни о чем другом.
– Я попытаюсь.
Ричард еще раз поцеловал Мэйсон и направился к поезду. Но внезапно он остановился, оглянулся и поспешил назад, чтобы поцеловать ее еще один, последний раз.
– Помни. Мы вместе. – И с этим он ушел.
Мэйсон смотрела вслед поезду, пока тот не скрылся из виду, затем направилась к себе в отель. Она никогда еще не чувствовала себя такой одинокой. Целая неделя без Ричарда. Как она это выдержит? Но Мэйсон помнила, что он сказал. Запрись. Закройся от мира. Работай. Ради него она так и поступит. Она уже представляла, как они встретятся вновь. Как она покажет ему картины. Удовольствие на его лице при виде ее работ. Как он обнимет ее, как отблагодарит за труды. И эти образы согревали ее.
Прошло несколько дней с тех пор, как Мэйсон ночевала у себя в номере в последний раз. Когда она вошла в фойе и подошла к регистрационной стойке, портье встретил ее словами:
– Мадемуазель Колдуэлл, мы уже начали за вас беспокоиться.
– Мне надо было вас предупредить. Я гостила у друзей.
– Вчера здесь была полиция. Они искали вас.
– Полиция? – Возвращение к действительности было болезненным, как падение с большой высоты.
– Они оставили вам сообщение. – Клерк заглянул под стойку. – Где же оно? – Наконец он вытащил конверт, на котором было выведено имя Эми Колдуэлл.
Мэйсон вскрыла конверт и достала из него листок с требованием явиться к инспектору Дювалю при первом удобном случае.
Мэйсон не на шутку испугалась. Но если она отложит этот визит, страх разрастется еще сильнее. Даже не проходя в номер, Мэйсон вызвала кеб и отправилась в Префектуру полиции, сказав себе, что чему быть, того не миновать.
Офис Дюваля располагался на втором этаже массивного здания на острове Сите, выходящего прямо на собор Парижской Богоматери. Дюваль вышел в приемную, поздоровался с Мэйсон, проводил ее в свой кабинет и усадил на стул. Дюваль встал над ней и пристально смотрел несколько долгих секунд. Мэйсон чувствовала, что обливается потом. Ей так и хотелось утереть лоб.
– Как вы, вероятно, помните, мадемуазель, – заговорил наконец Дюваль, – обстоятельства смерти вашей сестры меня сильно беспокоят. – Дюваль сделал многозначительную паузу.
– Да, я помню.
– С тех пор как мы встречались в последний раз, я успел продвинуться в расследовании этого дела. И выяснил еще несколько странностей.
Дюваль снова замолчал.
– Странностей? – Мэйсон сжала ладони.
– Я должен сообщить вам, что существует очень высокая вероятность того, что имело место преступление, связанное с этим инцидентом.
«Преступление. Господи, неужели он знает?»
– И что за преступление?
– Я бы предпочел об этом пока не говорить.
– И какие у вас есть улики, подтверждающие ваш вывод?
– И вновь вынужден сообщить, что не имею права разглашать такого рода информацию.
Дюваль впился взглядом в ее лицо и не отпускал ни на секунду.
«Не смей показывать ему свой страх!»
– Тогда зачем вы вызвали меня сюда, инспектор? – осторожно спросила Мэйсон.
– Чтобы официально известить вас о том, что Служба безопасности проводит полномасштабное расследование инцидента. И для того, чтобы попросить вас не покидать страну до завершения расследования. Вы готовы к сотрудничеству?
– Конечно. Если у вас появится какая-либо новая информация относительно обстоятельств смерти моей сестры, я бы хотела получить ее до того, как уеду домой.
Мэйсон поднялась, чтобы уходить.
– Еще один момент, мадемуазель.
Мэйсон замерла.
– Слушаю, инспектор.
– Последнее время вас часто видели в обществе британского джентльмена Ричарда Гаррета. Могу я узнать о характере ваших отношений?
Мэйсон изобразила наивное удивление.
– Мы друзья. А почему вы спрашиваете? Он большой почитатель работ моей сестры и помогает мне уладить ее дела.
– Он был другом и вашей сестры тоже?
– Нет, они никогда не встречались. Он узнал о ее работе только после смерти Мэйсон.
– Что вы знаете об этом человеке? О его прошлом?
– Я знаю, что у него хорошие связи и репутация в мире искусства.
– Понимаю. Спасибо, вы можете идти.
Мэйсон медленно вышла из кабинета и на ватных ногах спустилась вниз. Выходя из здания, она увидела, как двое полицейских тащили к входу женщину, которая визжала и отбивалась от них ногами. Мэйсон понятия не имела, какое преступление совершила эта дама, но видела, что преступница была прилично одета и была вне себя от страха.
Ужас сдавил Мэйсон горло. Она поспешила перейти на другую сторону Сены по мосту Менял – подальше от жуткого здания.
Странности в обстоятельствах смерти Мэйсон Колдуэлл.
Совершено преступление.
Полномасштабное расследование Службы безопасности.
«Что вы знаете о прошлом этого Ричарда Гаррета?»
Что именно знал сам Дюваль? Если бы ему было известно все, он наверняка бы арестовал ее прямо на месте. Значит, он пускает пробные шары, прощупывает ее и надеется, что она себя чем-нибудь да выдаст. Мэйсон прокручивала в памяти разговор с Дювалем. Не проговорилась ли она? Мэйсон так не думала, но Дюваль, как опытный профессионал, мог извлечь нечто важное для себя из ее ответов.
Первым побуждением Мэйсон было отправить в Рим телеграмму, предупредив Ричарда о том, что происходит. Но что, если Дюваль устроил за ней слежку? Он мог бы перехватить телеграмму. И если за ней действительно следят, как сможет она создавать новые картины? Работать в отеле она не может, как не может снять студию в Париже. Ричард подсказал бы ей решение.
Она чувствовала себя больной.
Еще сегодня утром она была так счастлива. А теперь… По правде говоря, ей не хотелось писать. Совсем. Она не хотела, чтобы Ричард уезжал в Рим. Как-то вдруг увековечивание ее художественного наследия показалось ей делом, не стоящим того риска, с которым оно было связано.
«Прекрати! Нельзя предаваться отчаянию!»
Мэйсон взглянула вниз с моста на Сену и попыталась успокоиться.
Именно этого и добивался от нее Дюваль. Он хотел, чтобы она раскисла и выдала себя. Ей надо было подумать. О чем говорил ей Ричард? «Сосредоточься. Сконцентрируйся. Забудь обо всем».
Но как этого добиться сейчас?
Овер.
Она вернется в Овер.
Пойдет к Лизетте и пригласит ее поехать вместе.
И там, в безмятежности деревенской природы, она забудет обо всем.
Холсты и краски все еще были там. Она с головой окунется в работу и забудет обо всем, как это всегда бывало с ней. Прочь из города, долой с глаз дювалевских ищеек.
«Не думай об этом. Не теряй головы.
Когда вернется Ричард, он подскажет, что делать.
Просто сохраняй спокойствие.
И не делай глупостей!»
Глава 19
Лето в Овере наступило рано. Полевые цветы наполняли волшебным ароматом воздух. Теплые денечки проходили в ленивой неге, ночи дарили прохладу и освежали. В окрестные Дома на лето съехались горожане, отдыхающие купались в Уазе, плавали, катались на лодках. Мэйсон и Лизетта со всеми своими собаками и телохранителем Хьюго вернулись в свой летний укромный дом, и Мэйсон принялась рисовать, надеясь, что работа разгонит тучи, которые вновь сгустились на ее небосклоне.
Лизетта наслаждалась деревенской жизнью. Она подолгу позировала Мэйсон или гуляла со своими любимцами по берегу реки и по пшеничному полю. Хьюго неизменно шел сзади. Здесь, в деревне, где не ощущалось подавляющего влияния большого города, Лизетту перестал раздражать ее страж, она даже начала испытывать к нему симпатию. Она узнала, что Хьюго когда-то выступал силачом в цирке города Лилля, и он смог помочь Лизетте отрепетировать кое-какие новые акробатические трюки, которые Лизетта готовила к летним гастролям цирка Фернандо. Хьюго даже сумел построить для Лизетты трамплин на лужайке перед домом. И еще он искренне любил животных н всем сердцем полюбил собак Лизетты, чем завоевал ее симпатию.
– Ты знаешь, – как-то сказала она Мэйсон, – этот Хьюго вовсе не так уж плох.
Но у Мэйсон не было времени предаваться праздности. Она вся целиком отдалась воплощению в жизнь той задумки, что возникла у нее в «Фоли-Бержер». Она изобразит Лизетту на трапеции глазами зрителя из зала. Эта картина будет выполнена почти в том же стиле, как и ее предыдущие работы. Мэйсон мечтала создать шедевр – лучшее из всего, что было нарисовано ею до сих пор.
Три дня и три ночи она трудилась над этой работой. А завершив картину, отступила на несколько шагов, критически осмотрела свое творение и нахмурилась. Она была вовсе не так уж уверена в том, что работа ей удалась. Удовлетворенности Мэйсон не испытывала.
Что случилось? Что послужило причиной ее неудачи? Смятение, постоянная тревога? Или с недавно обретенным счастьем она утратила способность видеть мир таким, каким она изображала его раньше? Мэйсон сама этого не знала.
Но неудовлетворенность результатами своих творческих усилий стала причиной для серьезного беспокойства. Мэйсон была в растерянности. Словно природа лишила ее дара, оставив взамен ноющую пустоту внутри. Мэйсон старалась не думать о худшем, говорила себе, что все дело в эмоциональной усталости. Свежий воздух и крепкий сон – вот лучшее лекарство от тревоги.
Мэйсон ложилась рано, надеясь отоспаться. Но сон не шел – ей все время что-то мешало. Ей словно хотелось вылезти из собственной кожи. С ней такое бывало раньше, и тогда она брала в руки краски и начинала рисовать. Но три дня почти непрерывной работы не уняли этот душевный зуд.
Наконец, понимая, что уснуть все равно не удастся, Мэйсон встала с постели, пошла в маленькую комнату, используемую как студию, вставила в подрамник новый холст и, почувствовав внезапный прилив вдохновения, принялась рисовать Ричарда. Рука ее порхала над холстом, ее мазки ложились уверенно и смело, и хранившийся в воображении образ ложился на холст со счастливой легкостью, не имеющей ничего общего с мучительными потугами последних трех дней. Через час она закончила работу. Фотографической схожести с оригиналом не было, но зато она сумела отразить его ум, его сексуальность, его уверенность в себе, его физическую красоту и отчасти двойное дно. В этом портрете он был не совсем таким, каким его видели окружающие, а скорее таким, каким его видела она, Мэйсон. Таким, каким она его ощущала. То был портрет мужчины, заставившего ее почувствовать себя желанной, понятой, оцененной и целостной.
Этот портрет стал лучшим, что Мэйсон удалось написать, и он подарил ей удовлетворение и радость. Она взяла портрет с собой в спальню и уснула в его тени. И так крепко, так сладко, как она не спала много лет. Ей казалось, будто ее окутал мягкий и добрый свет любви Ричарда.
Мэйсон проснулась на рассвете, полная сил и энергии. Лежа в постели и глядя на плод своего ночного вдохновения, она вдруг почувствовала непреодолимое желание нарисовать восходящее солнце.
Даже не потрудившись одеться, Мэйсон схватила этюдник и краски и босая, в ночной рубашке пошла по утренней росе искать место на лужайке, где ничто не заслоняло от нее восточный горизонт. Когда небо окрасилось яркими розовыми и оранжевыми бликами, она принялась за работу, в страстном стремлении поймать этот ускользающий свет – прозрачность дымки над рекой, тени ив, кроваво-красный диск солнца, едва показавшегося над горизонтом.
Мэйсон как раз успела сделать несколько мазков лимонно-желтого, обозначив полевые цветы на лужайке, когда, подняв голову, увидела мужчину, который смотрел прямо на нее. Он стоял внизу, у самой реки, как раз на границе участка. Одет он был в деловой костюм, и в нем с первого взгляда можно было узнать человека, выполняющего свою работу. Увидев, что Мэйсон его заметила, он торопливо спрятался за деревом.
Этот тип от Дюваля! Он что, следил за ней?
«Может, он уже давно приставлен наблюдать за домом? Господи, я рисую! Эми не умеет рисовать! Роковая ошибка. Что он сделает? Подойдет и арестует меня?»
Мэйсон медленно начала завинчивать крышки на тюбиках с краской и складывать их в этюдник. Затем она сняла холст с мольберта и пошла назад, в дом. Нервно бросив взгляд через плечо, она увидела, что тот человек не пошел за ней следом.
Мэйсон вошла в дом, заперла наружную дверь и побежала наверх, в спальню. Первое, что бросилось ей в глаза, был портрет Ричарда. Самая гибельная улика из всех, что можно вообразить. Картину, на которой была изображена Лизетта на трапеции, можно выдать за раннюю работу Мэйсон. Рассвет над Уазой назвать пробой пера сестры. Но портрет Ричарда… Он не мог принадлежать кисти начинающей художницы. То была работа зрелого мастера. И при этом всем было известно, что Мэйсон Колдуэлл никогда не встречалась с Ричардом Гарретом.
Мэйсон опустилась на стул перед портретом. Его нужно уничтожить. Но сможет ли она? Найдет ли она в себе силы это сделать? Ибо уничтожить портрет все равно, что уничтожить часть себя.
Однако выбора не было.
С тяжелым сердцем Мэйсон окунула широкую кисть в жидкую белую краску и, пока в ней не исчезла решимость, начала покрывать холст широкими мазками.
Потом она заперлась в спальне, легла на кровать и зарыдала.
Когда остальные обитатели дома проснулись, Мэйсон рассказала Хьюго, что произошло. Он пошел разведать обстановку, однако тот мужчина как сквозь землю провалился. Мэйсон так и не нашла в себе силы в тот день выйти из дома.
В своей спальне она чувствовала себя, словно зверь в капкане. Она рано отправилась спать в ту ночь, но сон не шел к ней. Она все представляла себе, как инспектор Дюваль во главе с нарядом полиции окружают дом. Когда сон сморил ее, было уже далеко за полночь.
Среди ночи Мэйсон вдруг проснулась. Что это было? Ей показалось, что она услышала шум снаружи. Нет, ей не почудилось. Она снова услышала этот звук. Шуршание гравия под чьими-то ногами. Шелест листвы под окном. Скрип отворяемой задвижки. Она села в кровати, испуганная, встревоженная, нервно натянула простыню. Окно открывалось! И тогда она увидела силуэт мужчины в окне.
Сердце Мэйсон заколотилось как бешеное. Мужчина подтянулся, опираясь на подоконник, и перекинул ноги на пол.
– Я буду стрелять, – пригрозила Мэйсон срывающимся голосом.
Незваный гость замер. Наступила напряженная тишина. Потом знакомый голос с легким шотландским акцентом произнес:
– Не такой встречи я ждал.
Одно мгновение – и Мэйсон бросилась в распростертые объятия Ричарда.
Он прижал ее к себе и крепко поцеловал в губы.
– Я не хотел тебя напугать, – сказал Ричард между поцелуями. – Мне стало известно, что Дюваль идет по твоему следу. Меня в Риме вызвали в полицию для допроса – вот куда он добрался. Вот я и решил подстраховаться и приехал ночью. Чем меньше он будет о нас знать, тем лучше.
– За домом действительно следят. Поэтому я так испугалась.
– Я здесь. Все будет теперь хорошо. Мэйсон все еще трясло.
– Ричард, полюби меня. Прошу тебя.
Он поцеловал ее, прижимая к себе так тесно, словно хотел передать Мэйсон часть своей силы.
– Господи, как я скучал по тебе, – прошептал он и поднял ее на руки. Мэйсон почувствовала, как страхи ее уходят, растворяясь в энергии жизни, волнами исходившей от Ричарда.
Он бережно положил ее на кровать, быстро сбросил одежду и снял с Мэйсон ночную рубашку. Затем накрыл ее своим телом и принялся ласкать.
– Я здесь, – шептал он ей на ухо. – Тебе нечего больше бояться.
Скоро страх ушел, ушел совсем. Его место заполнило ощущение счастья, блаженства и любви. Ничто не могло омрачать их нежного соития. Мэйсон растворилась в Ричарде, в жаре его губ, в вибрации плоти, в его преданности…
Потом они долго лежали в объятиях друг друга в темноте, ничего не говорили, лишь слушали дыхание друг друга. Мэйсон чувствовала, что он дает ей время собраться с духом, не подталкивая, но терпеливо ожидая, чтобы она рассказала о том, что произошло сегодня.
У Мэйсон не было желания об этом говорить. Она хотела, чтобы все забылось, ушло само собой. Но она понимала, что рано или поздно иллюзию мирного благополучия придется разрушить. Придется обо всем рассказать.
– Дюваль вызывал меня в Префектуру.
Ричард поцеловал Мэйсон в висок.
– Расскажи, как это было, только не торопись.
Она так и сделала.
– Дюваль что-то подозревает, – задумчиво сказал Гаррет, когда Мэйсон закончила свой рассказ. – Но у него ничего нет. Он просто рассчитывает взять тебя на испуг. Заставить совершить оплошность.
– Я тоже так подумала. Но ему ведь ничего не стоит выяснить, что в Бостоне нет никаких записей об Эми Колдуэлл.
– Уже есть. У меня нашелся там полезный знакомый, и теперь там есть запись и о рождении Эми Колдуэлл, и о ее крещении, и об окончании колледжа для женщин мисс Ганновер. Имеется также запись о том, что ты приобрела билет на пароход во Францию.
Мэйсон была потрясена предусмотрительностью Ричарда. И даже слегка напугана ею. Тем не менее, новость значительно подняла ей настроение. Мэйсон прижалась к Ричарду теснее, положила ладони ему на грудь, чувствуя, как бьется его сердце.
– Ты обо всем позаботился?
– Я старался.
– А как Лугини? Как с ним обстоят дела?
– Вначале он был не слишком сговорчив, но я сумел его убедить.
– Значит, он обеспечит нам защиту с флангов?
– Скоро увидим. Кстати, тебе удалось выкроить время для работы среди всех этих неприятностей?
– Я закончила одну картину.
– Давай посмотрим.
Мэйсон накинула рубашку и пошла в студию за картиной. Ричард включил настольную лампу. Мэйсон поставила картину на кровать, прислонив к спинке.
Ричард долго смотрел на полотно, никак не выражая своих чувств.
Мэйсон не выдержала и заговорила первой:
– Я не могу назвать эту работу хорошей. Чего-то в ней не хватает.
Ричард вскинул голову.
– Мне нравится концепция. Трапеция в «Фоли-Бержер». Но контраст между чистотой и великолепием гимнастки и тусклой толпой недостаточно ярок, чтобы произвести необходимый эффект.
– Возможно, проблема в том, что я больше не ощущаю того, что ощущала раньше.
– Нет, проблема в том, что ты жила в состоянии постоянного стресса и временно разминулась со своей музой. – Ричард продолжал смотреть на картину.
Мэйсон чувствовала себя ужасно. Словно она предала его. Те три картины, а теперь еще и эта. Не надо быть провидицей, чтобы угадать: они для него не значили ровным счетом ничего.
– Я постараюсь исправиться, – пообещала Мэйсон.
Ричард долго смотрел на холст и молчал. Наконец он сказал.
– Нет, пожалуй, мы обойдемся без картин. Это слишком опасно. Теперь, когда Дюваль следит за каждым нашим шагом, разыграть доставку картин из Штатов невозможно. Так что ограничимся теми восемнадцатью холстами, что у нас есть.
И все же он продолжал пристально смотреть на разочаровавшую его картину, словно что-то искал в ней и не находил Он словно не верил своим глазам. Мэйсон заметила этот взгляд и так расстроилась, что подошла и убрала картину.
– Позволь мне избавиться от этой вещи.
Когда она вернулась в комнату, Ричард снова стал собой. Мэйсон выключила свет и легла рядом с ним. Он нежно поцеловал ее в лоб. Но, уютно прижавшись к нему, Мэйсон не могла не чувствовать то, что его разочарование качеством картин разрушило что-то главное между ними.
Мэйсон попыталась уснуть, успокаивая себя тем, что снова лежит в его объятиях, что с ним она в безопасности, что он ее защитит. Но она понимала, что его состояние далеко от безмятежности. Ричард лежал на спине, закинув руки за голову, и смотрел в потолок. Мэйсон чувствовала, как он отдаляется от нее.
В ту ночь Ричарду снова приснился кошмар. Он проснулся от собственного крика. Мэйсон включила свет и прижала его к себе, но на этот раз, чтобы вырваться из кошмара, Ричарду потребовалось куда больше времени.
– Ты не хочешь рассказать мне о своем сне? – осторожно спросила она. – Я хочу помочь тебе. Я не могу видеть твои страдания.
Ричард покачал головой:
– Я не могу его описать. Там нет никакого смысла, никакой последовательности. Я думаю, мне просто надо как-то научиться с этим жить, и все.
– Но вдруг тебе станет легче, если ты поговоришь об этом?
– Что мне точно поможет, – сказал он, в изнеможении опустив голову на подушку, – так это успешное воплощение в жизнь наших планов. Я не могу объяснить… но у меня такое чувство, что всю свою жизнь я шел к выполнению этой миссии. И я не могу избавиться от ощущения, что как только миссия наша будет завершена и Мэйсон станет для мира тем, чем она должна стать, кошмары исчезнут сами собой.
Ричард, наконец, уснул, но Мэйсон не могла уснуть. То, как он отзывался о ней в третьем лице… В свете его явного разочарования ее работой… Все это как-то тревожило.
Глава 20
На следующей неделе прославленный собиратель картин Эдуард Андре и его жена-портретистка, Нелли Жакома, устраивали воскресный прием в своем доме на бульваре Осман по поводу приезда в Париж редкого гостя, весьма уважаемой в мире искусства фигуры, Альберто Лугини из Академии изящных искусств в Риме. Хотя тема предполагаемого выступления сеньора Лугини не разглашалась, ходили слухи о том, что он намерен изложить свою позицию в отношении предмета, разделившего парижских критиков на два непримиримых лагеря, а именно высказаться о своем отношении к произведениям прославившейся посмертно американской импрессионистки Мэйсон Колдуэлл. Ожидали, что Лугини, как и многие другие его коллеги, развенчает так называемый феномен Колдуэлл. Но то были лишь предположения, а что произойдет на самом деле, никто не знал. Что придавало предстоящему событию особую интригу.
Вернувшись из Овера в Париж, Мэйсон все дни проводила в одиночестве. Она была в депрессии. Заниматься живописью она не могла. Лизетта работала – в цирке начался новый сезон. Мэйсон же слонялась без дела и постоянно думала о том расследовании, которое столь истово проводил Дюваль. Ричард был занят решением финансовых проблем, возникших при завершающей стадии строительства павильона. После возвращения в Париж они любили друг друга всего лишь раз – магия Лувра куда-то пропала. Ричард был неизменно внимателен и вежлив с Мэйсон, но отношение его к ней неуловимо изменилось, и она ничего не могла с этим поделать. Казалось, что ее неспособность сотворить то, чего хотел и ждал от нее Ричард, умалило его влечение к ней. Поскольку он категорически возражал против того, чтобы она продолжала писать, реабилитироваться в его глазах у нее просто не было возможности. Он настойчиво повторял, что писать ей стало опасно, Мэйсон же понимала, что дело не только в этом. Она чувствовала, что Ричард больше не хочет, чтобы она писала.
Но в этот судьбоносный день Ричард пребывал в приподнятом настроении и весело болтал с Мэйсон всю дорогу до особняка Жакома – Андре. Карета свернула на аллею, огибавшую скучный фасад здания, выходившего на бульвар Осман, и остановилась перед украшенным колоннами парадным. Высокие арочные стены выгодно отличали этот особняк от других, соседних. Мэйсон показалось, что они вдруг приехали в загородное поместье.
Мажордом встретил их у кареты и проводил в холл, ведущий в величественный зал для приемов. Зал был полон людьми – культурной элитой Парижа. Мэйсон заметила в толпе продавцов картин Фальконе, Дюран-Рюэля, Жоржа Петита и Тео Ван Гога. Эмма, герцогиня Уимсли, тоже была среди гостей, были там и художники: Ренуар, Фантин-Латур и Гюстав Кэллеботт.
Пока Ричард здоровался за руку со знакомыми, Мэйсон ухватила взглядом в дальнем конце зала Хэнка Томпсона, который шептался с графом Орловым. Возможно, он предупреждал русского о том, чтобы тот держался от Ричарда подальше. Мэйсон было не по себе в этой толпе. Она знала, что должна вести себя с особой осторожностью, ибо все здесь говорили по-французски, и она могла легко забыться и поддержать разговор. Мало-помалу она пробиралась в ту часть помещения, где слышалась английская речь. Мэри Кассатт, художница из Пенсильвании, представила Мэйсон миссис Поттер Пальмер – «Зовите меня просто Берта, дорогая», – жене чикагского миллионера и истовой собирательнице предметов искусства, уговорившую мужа в числе первых приобрести несколько картин импрессионистов для семейной коллекции. – Мы останемся здесь до 14 июля, – обмахиваясь веером, сказала она Мэйсон. – Говорят, сюда доставят корабли с полными трюмами фейерверков и потешных ракет из самой России и Гонконга. Вот это огненное шоу действительно хочется посмотреть.
Вдруг в задних рядах гостей произошло какое-то шевеление, пронесся слух о том, что вот-вот начнется выступление Лугини. Ричард отыскал Мэйсон и повел ее в музыкальный салон, где уже были расставлены стулья для сотни с небольшим гостей. Ричард и Мэйсон заняли места и стали ждать, пока соберутся остальные. Наконец в зал вошел седовласый господин с бородкой в стиле Ван Дейка. Все разом повернули головы, и раздались аплодисменты.
– Дамы и господа, – взойдя на трибуну, обратился к аудитории Лугини. Он говорил на французском с сильным итальянским акцентом. – Меня зовут Альберто Лугини, и я прибыл сюда, чтобы поговорить о Мэйсон Колдуэлл, которая представляет одно из самых значительных явлений современности.
Зал ахнул. Никто, даже те, кто был настолько наивен, чтобы поверить, что Лугини поддержит сомнительную американку, не ожидал столь однозначной и недвусмысленной поддержки. Никто, кроме одного человека.
Ричард взял руку Мэйсон в свою и пожал.
Следующие сорок минут Лугини говорил о том, как восемнадцать работ Мэйсон соединили в себе, слили воедино и акцентировали все то, что было важно в импрессионизме и неоимпрессионизме, и в то же время стали абсолютно новаторскими в смысле техники живописи.
– Эта новая живопись отражает не то, что художник видит глазами, а то, что он или она чувствует сердцем. Это новое искусство, искусство двадцатого века и искусство нового тысячелетия.
Лугини налил себе в стакан воды из графина и сделал глоток. В зале было так тихо, что слышно было, как он глотает.
– Но жизненный путь этой замечательной молодой женщины имеет еще большее значение, чем ее творчество как таковое. Она воплощает радикально новое представление о самой природе и месте художника в человеческом обществе. Она не льстила и не подлизывалась к аристократии, церкви, двору. Она не была ремесленником, которого заботит лишь то, хорошо ли продаются картины и хорошо ли о них отзываются критики. Она была поборницей нравственности, она была изгоем, она восставала против косности этого мира, она была верна собственному мироощущению и священному зову, и эту верность она ставила превыше всего, даже превыше собственной жизни.
Лугини продолжал в том же духе с большим напором и убедительностью, очаровывая аудиторию своим красноречием. Взглянув на Ричарда, Мэйсон заметила, что он беззвучно произносит те слова, которые через долю мгновения произносит вслух Лугини. Ричард написал сценарий, а Лугини в данном случае выступал лишь как исполнитель.
– И возможно, самое главное, – продолжал профессор, – Мэйсон Колдуэлл представляет собой новую личность в культуре, которая после смерти обретает жизнь более насыщенную, чем до нее. Она настоящая Жанна д'Арк от искусства. Она луч надежды для отчаявшихся, мученица, чьи страдания застыли навеки в истории. Она художница, чья история не может не вызвать эмоциональный отклик, чье видение трогает так, что мы можем смотреть на ее картины лишь сквозь пелену слез…
Мэйсон ощущала себя так, словно присутствовала на собственных похоронах. Только то были вовсе не ее похороны. То, что говорилось здесь, не имело никакого отношения к ней настоящей. Она была всего лишь вымыслом – плодом буйного воображения Ричарда.
Речь оратора была встречена овацией. Зал аплодировал стоя.
Когда аплодисменты стихли, Мэйсон и Ричард присоединились к потоку людей, вытекавших из музыкального салона в зал для приемов. Проходя мимо критика Морреля, они заметили, что он беседует с двумя журналистами, которые тоже присутствовали в галерее Фальконе в тот первый день, когда Мэйсон превратилась в Эми.
– Да, я действительно вначале не увидел очевидных достоинств работ Колдуэлл, – объяснял своим собеседникам Моррель. – Но потом я вернулся и присмотрелся к ним внимательнее. И тогда я увидел их истинную ценность. Я одним из первых поддержал ее работы.
Мэйсон уставилась на него, не веря своим глазам.
Лугини направлялся к ним сквозь толпу. Его то и дело останавливали, каждый стремился пожать ему руку, переброситься с ним парой слов. Но Лугини, не обращая ни на кого внимания, шел прямо к Ричарду. Его лицо, хранившее столь искреннее, столь любезное выражение во время выступления, сейчас перекосилось от гнева.
– Я выполнил свою часть сделки, – сказал он Ричарду тихим голосом. – И с сегодняшнего дня я не желаю иметь с вами никаких дел, как и с той чудовищной чушью, что вы впихнули мне в глотку. Надеюсь, вы будете гореть в аду за то, что заставили меня сделать.
Лугини повернулся и быстрым шагом вышел из зала. Он локтями распихивал толпу и даже ударил по руке кого-то, кто пытался задержать его за плечо.
Наблюдая за тем, как Лугини покидал место своего позора, униженный, осознающий себя преступником, Мэйсон задумчиво проговорила:
– В его речи не было ни слова правды.
– Может, и не было. Но нам важно то, что он сказал.
Мэйсон повернулась к Ричарду лицом:
– Что ты сделал, чтобы заставить его так себя скомпрометировать? Только не говори мне, что ты знаешь его тайны.
– Этому человеку действительно есть что скрывать. Я бы не стал тратить время на жалость к нему.
– Ты его шантажировал?
– Я не стал бы называть это шантажом. Я просто предложил ему обмен. Мое молчание о его приключениях с весьма и весьма юной особой в обмен на сегодняшнюю речь.
У Мэйсон свело живот.
– Ричард, это дурно.
– Что дурно? Немного надавить на грязного старикашку – это дурно? Просто подумай, что мы сегодня сделали для наследия Мэйсон Колдуэлл.
– Я – Мэйсон Колдуэлл.
– Конечно. – Он наклонился и чмокнул ее в щеку. Прижавшись губами к ее уху, он добавил: – Только не говори об этом так громко. Тебе придется привыкать к тому, что это тема закрытая. Не говори больше этих слов. Даже наедине со мной.
Он сказал это по-доброму, но Мэйсон чувствовала себя так, словно ее ударили по лицу.
Ричард отвлекся, заметив кого-то в дальнем углу.
– Меня зовет Хэнк. Пойду узнаю, чего он хочет. Ты останешься ждать меня здесь?
Мэйсон смотрела Ричарду вслед. Она чувствовала себя отвергнутой, брошенной и никому не нужной.
– Эми, как славно встретиться вновь, – услышала она за спиной.
Мэйсон повернулась и увидела Эмму.
– О, здравствуйте.
Эмма сияла:
– Ну, разве он не душка?
– Лугини?
– Господи, конечно, нет. Наш Ричард. Только мы двое в этом зале знаем, кто на самом деле написал эту историческую пламенную речь.
Мэйсон почувствовала, как прилила кровь к лицу. Она совсем не радовалась напоминанию о том, что только что произошло. Больше всего ей хотелось, чтобы Эмма ушла.
Но Эмма, казалось, ничего не замечала.
– Надо отдать ему должное. Он сумел взять быка за рога. Всякий раз, когда я склонна его недооценить, он доказывает, что прав он, а не я. Но, подумать только, сам Лугини!
Вот это действительно удачный ход!
– Я не понимаю, о чем вы говорите, – едко заметила Мэйсон.
Эмма от души рассмеялась.
– Моя дорогая, передо мной вам незачем притворяться, Я знаю, что Ричард дергал Лугини за нитки, словно кукловод марионетку. – Эмма замолчала и пристально посмотрела на Мэйсон, словно впервые заметив ее дискомфорт. – Но возможно, скромную девушку из Бостона шокировала моя откровенность?
Она намеренно уколола Мэйсон, и Мэйсон это отлично поняла.
– Я думаю, что должна сказать вам, ваша светлость, что я определенно решила не продавать вам картины моей сестры, – в отместку заявила Мэйсон.
Эмма лишь улыбнулась:
– О, не стоит из-за этого переживать, моя дорогая. Вам в чем себя винить. Я отказалась от этой идеи несколько недель назад. Я достаточно хорошо знаю Ричарда, чтобы пытаться встать у него на пути. Не сомневаться в том, что он землю перевернет, лишь бы картины достались Хэнку. В любом случае мне повезло и у меня теперь есть моя собственная картина Колдуэлл.
Мэйсон похолодела.
– О чем вы говорите?
– Я нашла независимого торговца, который намерен продать мне самые лучшие работы Колдуэлл из всех, что вы видели.
– Но это невозможно!
– Почему невозможно? Ваша сестра жила и работала тут пять лет. Естественно, картин у нее больше, чем те восемнадцать, что видели все.
– Это подделка.
– Уверяю вас, никаких подделок. Когда вы увидите ту работу, о которой я говорю, сомнений у вас не возникнет.
Мэйсон не знала, что сказать. Она никогда и представить не могла, что однажды станет настолько знаменитой, что ее будут подделывать.
Вот до чего она дожила! Писать картины она больше не могла. Критики наделяли ее качествами, которых у нее никогда не было. Мошенники подделывали ее работы и подписывались ее именем. В конце концов, Мэйсон исчезнет совсем. И она действительно станет Эми.
Глава 21
Раздавленная, несчастная, Мэйсон остро нуждалась в поддержке. Среди всей этой толпы только один человек знал, кто она такая на самом деле. И Мэйсон отправилась искать Ричарда. Она не сразу его нашла: он был в зимнем саду с Хэнком, Мэри Кассатт и миссис Поттер Пальмер. Мэйсон не сразу подошла к Ричарду, решив немного понаблюдать за ним издали. Он находился в центре внимания и наслаждался триумфом. Мэйсон подождала, пока возникнет пауза в разговоре, чтобы приблизиться к ним, еще раз окинула взглядом зал, и вновь взгляд ее упал на графа Орлова. Она застигла его в удачный момент: рядом с ним никого не было, и он, не испытывая необходимости напускать на себя непринужденно-дружелюбный вид, злобно смотрел на Ричарда. Он ненавидел его всей душой, и всю силy своей ненависти вложил в этот взгляд. Однако он умело спрятал эту ненависть, когда к нему подошли люди. Но Мэйсон было довольно того, что она видела. И эта ненависть Орлова к Ричарду лишь усиливала чувство тревоги и опасности.
Мэйсон хотела покинуть прием и поскорее. Она подошла к Ричарду и встала рядом, надеясь, что он ее заметит.
– Могу я уехать? – спросила она у Ричарда, когда гот обратил на нее внимание.
Он отошел от группы и сказал, понизив голос:
– Хэнк устроил для нас ужин с миссис Пальмер. Он думает, что она могла бы выписать чек, который покроет все недостающие средства на павильон.
– У меня болит голова. Я действительно хочу вернуться в отель.
– Этот ужин на самом деле важен.
– Оставайся с ними. Денек отличный, мы не слишком далеко от отеля. Я с удовольствием вернусь в отель пешком.
– Ты уверена, что не имеешь ничего против того, чтобы я остался?
– Уверена.
– Я заскочу после ужина посмотреть, как ты себя чувствуешь.
– Нет, не стоит себя утруждать. Я хочу лечь спать пораньше.
Мэйсон прошла пешком вниз по бульвару Осман мимо длинных, геометрически правильных фасадов зданий времен Второй империи, бессознательно отмечая игру света, танцующие блики послеполуденного солнца в листве миндальных деревьев, такую же, как на картинах Моне. Пестрой толпой проплывали мимо нарядные воскресные пешеходы. К тому времени как Мэйсон вернулась в отель, голова у нее разболелась еще больше. Есть ей не хотелось, поэтому она легла пораньше. Но сон тоже не шел.
Что происходило? Мэйсон не знала, как назвать свое состояние. Наверное, потерянность – лучшее слово. С особой остротой Мэйсон ощутила эту потерянность во время выступления Лугини. Когда уже перестаешь понимать, кто ты есть и как это соизмеряется с объективной реальностью. Утрата ориентиров, размытость представлений о добре и зле. Угроза полной утраты собственного я, распада личности. И на этом фоне полное непонимание того, зачем они с Ричардом делали то, что они делали, и полное неприятие средств, уже не оправданных никакой целью. Зачем? Зачем ей, Мэйсон, все это надо?
Слава, которая раньше казалась ей оправданием всего, наградой за упорство и смелость, на поверку оказалась дешевой обманкой. Такая слава не просто не приносит удовлетворения, она абсурдна, нелепа и смехотворна.
Но, что еще хуже, Мэйсон больше не хотела – да и, очевидно, не могла – писать картины. Ее любовь к Ричарду заполнила ту пустоту, что раньше могло заполнить только творческое самовыражение. И отношение к жизни у нее поменялось. Такого трагичного видения мира у Мэйсон Колдуэлл больше не было. Если ей и хотелось выразить себя, то не так, как раньше. И неизвестно, найдет ли отклик в других людях ее новое творчество.
Мэйсон была бы счастлива просто взять и уехать с Ричардом на край света, где никто бы ее не знал, и рисовать то, что ей взбредет в голову.
Но Ричарду было мало простого человеческого счастья. Он испытывал потребность в той химере, которая пугала Мэйсон, доводила ее до отчаяния. Его ночные кошмары говорили ей, что им движут темные силы, которые он сам призывает и прославляет, и не ведает того. И это они, эти призванные им инфернальные силы, побуждают его обессмертить фальшивую Мэйсон. Ту Мэйсон, что все более отдалялась от нее, Мэйсон настоящей, Мэйсон, существовавшую лишь в его воображении. И в своем поиске он готов был пойти на все, броситься во все тяжкие.
Она уснула только около трех часов ночи, измученная физически и эмоционально, проснулась же поздно и чувствовала себя не лучше, чем накануне. Ей принесли завтрак и свежий номер «Фигаро». На первой странице Мэйсон заметила статью, повествующую о выступлении Лугини. Но кроме этой статьи, была и другая, в которой говорилось о вчерашнем инциденте на выставке, когда «три картины Мэйсон Колдуэлл» вызвали необычно глубокий эмоциональный отклик у зрителей. Якобы несколько человек при виде картин бросились рыдать. Такого выражения скорби, писал автор статьи, Париж знал со смерти великого Виктора Гюго.
В дверь постучали. Мэйсон узнала этот характерный стук Ричарда и спустилась вниз, чтобы открыть. Он окинул взглядом ее ночную рубашку и спросил:
– Ты еще не встала?
– Нет. Я плохо спала ночью.
– Надеюсь, ты уже не переживаешь из-за Лугини?
– Нельзя сказать, чтобы все это мне было приятно. Но я гораздо больше расстроена по другому поводу. Твоя давняя знакомая Эмма сказала мне вчера, что она приобрела несколько картин Мэйсон Колдуэлл.
В глазах Ричарда мелькнуло нечто, что больше походило на досаду, чем на удивление.
– Естественно, подделка.
– Разумеется, это подделка.
Ричард пожал плечами:
– Ну что же, этого следовало ожидать. Когда художник становится знаменитым, его начинают подделывать. В любом случае это неопасно. Она лишь хотела подействовать тебе на нервы. Это в ее стиле.
– А как насчет той коллективной истерики на ярмарке? Ты ничего мне об этом не говорил. Как не сказал, что картины будут выставлены для широкого показа до завершения строительств павильона.
– Я подумал, что будет лучше, если они останутся на виду у публики.
– Я нахожу довольно странным такое совпадение: в один и тот же день Лугини бросает эту напыщенную фразу о том, что на них нельзя смотреть без слез, люди начинают биться перед ними в истерике, и тут же, весьма кстати, согласись, поблизости оказываются журналисты, чтобы все это засвидетельствовать.
Ричард загадочно улыбнулся.
– Ты заплатил им за рыдания, верно?
– Только нескольким первым плакальщицам. Потом все раскрутилось само собой. Знаешь, слезы – вещь заразительная, как и смех. Люди до сих пор рыдают перед картинами Мэйсон. Я только что там побывал. Знаешь, на это стоит посмотреть – как глубоко они трогают публику!
– Они плачут лишь потому, что ты так устроил!
– Может, я и толкнул снежный ком с горы, но дальше машина покатилась сама собой. Сотни людей явились туда прямо с утра, и чувства их вполне искренние. Они тронуты до слез, и слезы эти очищают им души.
– Но все это фальшивка.
– Это не фальшивка. Это правда. Картины Мэйсон – это…
– Прекрати! Ты когда-нибудь перестанешь говорить обо мне так, словно я умерла?
Ричард многозначительно хохотнул.
– Поверь мне, я-то знаю, что ты живая. Мэйсон устало вздохнула.
– Ричард, можно я задам тебе вопрос?
– Конечно.
– В ту ночь в Овере, когда у тебя был кошмар, ты сказал, что тебя что-то подталкивает делать все это. Что именно ты имел в виду?
– Разве я так сказал? Не помню. Я часто болтаю чепуху после этих видений.
– Почему это для тебя так важно?
Ричард посмотрел на Мэйсон с недоумением:
– Что такое «это»?
– То, что мы делаем. Почему ты считаешь это своим жизненным предназначением?
Ричард казался озадаченным.
– Ты же знаешь почему. Потому что я люблю искусство. Я люблю эти картины и ту историю, что с ними связана. Я хочу разделить эту любовь с остальным миром.
– Но почему именно эти картины? Что в них такого, что взывает к тебе, что заставило тебя в них влюбиться с первого взгляда?
Ричард смотрел на Мэйсон так, словно никогда не думал об этом и даже не хотел думать.
– Почему бы тебе не сказать мне, что на самом деле тебя беспокоит?
– Ричард, я сама себя теряю! Все, что делает меня собой, постепенно ускользает. Теперь благодаря тебе появились записи о том, что я – Эми. Даже в суде мне будет сложно доказать, что на самом деле я не Эми Колдуэлл.
Ричард подошел к Мэйсон и взял ее обеими руками за плечи.
– Послушай, ты многое пережила, и ты устала. Блеф Дюваля на тебя здорово подействовал. Проблема, которая у тебя возникла с живописью, не дает тебе покоя. Вне сомнений, ты видела вчера этого Орлова на приеме, как он все высматривал и вынюхивал. И конечно, быть свидетелем того, как твою сестру канонизируют, не очень легко и приятно.
– Мою сестру?
Ричард улыбнулся:
– Ты знаешь, что я имею в виду. Но то, что мы создаем здесь для потомства – важно. Это самое важное, что мы можем сделать в жизни. Мы сродни тем, кто сохранял свитки с греческими мифами от разграбления турками. Не важно, жили на самом деле или нет Зевс и Гера. Главное, что их истории дали миру. Надежду. Преемственность традиций. Мудрость. Вдохновение.
Ричард поцеловал Мэйсон, но она не сразу растаяла в его объятиях. А когда, наконец, растаяла, он подхватил ее на руки и отнес в спальню, на кровать. Они любили друг друга, и это было чудесно. Любовь Ричарда была необходима Мэйсон. Но, когда он оделся и вернулся к себе в номер, Мэйсон так и не нашла ответа на весьма любопытный вопрос: кого он любил больше – женщину из плоти и крови или легенду, которую так страстно защищал?
Следующее утро принесло еще один удар. На первой странице «Фигаро» напечатали еще одну статью о Мэйсон Колдуэлл. В этой статье ехидно сообщалось о том, что прославленная герцогиня Уимсли приобрела не одну, а три ранее неизвестные работы трагически ушедшей молодой художницы. Несколько экспертов подтвердили их подлинность, качество их было признано превосходным, и благодаря щедрости и благородству новой владелицы эти картины будут сегодня выставлены в витрине галереи Дюран-Рюэля на улице Пелетер.
Мэйсон, кипя от ярости, быстро оделась и пошла по указанному адресу. Даже не пошла, а побежала – все пять кварталов до галереи. Перед витриной уже собралась толпа. Несколько юных созданий всхлипывали. Мэйсон протиснулась к самой витрине. И то, что она увидела, едва не свалило ее с ног.
В витрине были выставлены три холста небольшого размера… На каждом была запечатлена сцена вполне в ее, Мэйсон, стиле. На каждой была исключительно красивая женщина, которая могла бы вполне сойти за Лизетту, в окружении враждебной мрачной вселенной. Каждая из работ была изобретательна по композиции и исполнена выше всяких похвал. Картины были так похожи на те, что в прошлом писала Мэйсон, что она невольно принялась рыться в памяти – не она ли сама их написала, а потом позабыла про них?..
Но нет, то были весьма мастерски выполненные подделки.
Мэйсон чувствовала себя так, словно ее изнасиловали. Она помнила то утро, когда на нее снизошло это. Тот уникальный ракурс. Цвета. Какое тогда она испытала удовлетворение! Казалось, новое видение реальности охватило все, что она успела прочувствовать в жизни к тому моменту. За месяцы, за годы работы, что вели ее к вершине.
И хотя Мэйсон сейчас уже переросла то свое состояние, боль при виде подделок была непереносимой.
Мэйсон медленно протиснулась сквозь толпу плачущих гимназисток и отправилась назад, в свой отель. Чувство почти полной утраты своей личности усилилось донельзя. Мэйсон чувствовала, что находится на краю безумия.
Но это было еще не все. Когда она забирала ключ от номера у стойки, клерк сказал:
– Там вас ждет господин.
Мэйсон обернулась и увидела инспектора Дюваля. Он сидел в кресле перед камином в дальнем конце вестибюля.
Господи, только не сейчас!
Но что она могла сделать?
Мэйсон постаралась придать лицу любезное выражение и подошла к инспектору. Когда она подошла, он встал и с особым вниманием уставился на нее.
– У меня появились новости, – сказал инспектор, – они имеют отношение к смерти вашей сестры. Пожалуйста, присаживайтесь. – Он указал на ближайшее кресло. – Наконец в этом деле наступил прорыв.
– Прорыв?
Дюваль ощупывал Мэйсон взглядом, оценивал ее реакцию.
– Да, – медленно проговорил он. – Наконец появился свидетель.
– Что за свидетель?
– Прохожий, что был на мосту в момент предполагаемого самоубийства.
– Я не понимаю. Кто бы стал…
– Молочник. И то, что он рассказал, показалось мне интересным.
Мэйсон взяла себя в руки:
– И что же он сказал?
– Что на мосту в ту ночь стояли две женщины. Что они разговаривали.
– Разве он мог такое припомнить?
– То была самая ненастная ночь в нашем городе на памяти многих горожан. Его жена не хотела, чтобы он выходил на улицу в такую погоду, но он все же пошел – работа есть работа.
– Но это было четыре месяца назад!
– Даже если так, те две женщины были единственными, кто ему встретился на его пути.
– И к какому выводу вы пришли, основываясь на свидетельских показаниях? – спросила Мэйсон.
– Я еще не готов вам это сообщить. Но я скажу, что эти показания подтверждают все мои наихудшие опасения относительно этого дела, и я вас уверяю, что в ближайшее время последует арест.
Глава 22
Мэйсон перебежала через улицу в «Лё-Гранд-Отель», но Ричарда там не застала. Не было его и в соседнем кафе, где он часто бывал в павильоне на выставке. И только пару часов спустя что-то подтолкнуло ее поискать его в своей старой квартире на Монмартре, которую Ричард превратил в мемориальный музей.
Мэйсон пришла сюда впервые с той памятной ночи, когда она прыгнула в Сену. Сад был таким же, как раньше, весь увитый плющом, но сам дом преобразился полностью. Он сиял необыкновенной чистотой. Лестница была покрыта свежим слоем лака, стены выкрашены в приятный терракотовый цвет. Войдя в свою квартирку на втором этаже, Мэйсон увидела, что все ее симпатичные украшения: занавески, подушечки и прочее во французском фольклорном стиле исчезли. Даже мебель теперь там была другая – та, что лучше отвечала концепции Ричарда. Благородная голодающая художница должна была, по его представлениям, спать на жесткой узкой койке, хранить вещи в одном– единственном комоде и пользоваться мутным от старости зеркалом с трещиной посредине.
Посреди этого музея-мемориала за колченогим столом, заваленным почтовой бумагой, сидел Ричард с пером в руке. На полу валялись скомканные исписанные листы. Рукава его рубашки были закатаны, а сам Ричард был с головой погружен в себя.
– Дюваль нас раскусил, – сообщила ему Мэйсон. Ричард поднял голову и окинул ее невидящим взглядом.
– Что?
Мэйсон поведала ему о встрече с инспектором, голос ее дрожал от волнения.
– Он знает, что на мосту была еще одна женщина. Он узнал, что это другая женщина прыгнула с моста и это ее тело было найдено и по ошибке принято за мое.
– Нам не о чем беспокоиться, – спокойно ответил Ричард.
– Как ты можешь так говорить? – воскликнула Мэйсон. – Дюваль сказал, что арест последует незамедлительно.
– Он не может арестовать тебя за то, чего не может доказать.
– А что, если он выяснит, кто была та, другая женщина?
– Он не может.
– Почему не может?
– Потому что я уже об этом позаботился. Я уничтожил все записи, свидетельствующие о ее существовании.
– Но… Мы даже не знаем ее имени. Ричард опустил перо в чернильницу.
– Я детектив. Это моя работа. Ту женщину звали Бланш Куверо. Родилась в Бордо, в 1860 году. Вдова, бездетная, никого из родственников в живых нет. Ее свидетельства о рождении и крещении у меня в номере, если тебе хочется на них взглянуть.
Мэйсон вспомнила, как ветер откинул капюшон, и она увидела лицо той женщины на мосту. И то, как бурлящий поток уносил ее в небытие… Теперь она знала ее имя. Бланш…
– Господи, – едва слышно прошептала Мэйсон. – Она же человек. Человек со своей жизнью, своей судьбой. А ты заставил ее исчезнуть, будто ее и не было никогда. Есть ли предел тому, что ты сделаешь, чтобы добиться желаемого?
– Я хочу лишь защитить тебя. Это плохо? Если бы я упустил возможность сделать то, что сделал с той утопленницей, угрозы Дюваля не были бы пустыми. Он бы давно тебя сцапал и посадил за решетку.
Мэйсон понимала, что Ричард говорит правду. Весь ее энтузиазм разом испарился. Она присела на койку, на которой никогда не спала. Даже если Ричард прав, этот поступок был верхом кощунства. Взять и убить несчастную во второй раз. Ради спасения жульнической славы, которая не приносила Мэйсон ничего, кроме горестей.
«Будь осторожна со своими желаниями…»
– Полагаю, ты читала о подделках, – говорил Ричард.
– Я ходила на них смотреть, – безучастно ответила Мэйсон.
– Я бы тоже не стал из-за них беспокоиться. Едва ли они так уж хороши.
– Они хороши. Я едва не упала, когда увидела их.
– Немало прекрасных подделок Рембрандта бродят по свету, но репутация Рембрандта от этого вряд ли пострадает. Ты ведь не расстроилась, правда?
– Когда я только их увидела, я подумала, что для меня это как конец света. Но потом, после встречи с Дювалем, после того, что я узнала от тебя о несчастной Бланш, которую… все это кажется пустяками.
– Сегодня просто не твой день. Завтра ты почувствуешь себя лучше. – Ричард снова стал что-то писать. – Позволь мне закончить, и тогда мы сможем еще немного поговорить.
Мэйсон молча сидела на узкой спартанской койке, погрузившись в свои невеселые мысли. Она больше не чувствовала в себе сил для борьбы, сил для жизни. Но постепенно скрип пера по бумаге стал действовать ей на нервы. Мэйсон встала и подняла с пола скомканный лист. Развернув его, она увидела жирно перечеркнутые крест-накрест строчки, выведенные твердым размашистым почерком. То было начало письма, датированного 6 мая 1885 года. Письмо начиналось со слов: «Дорогая Эми».
– Что это такое?
Ричард поднял голову и взглянул на нее.
– Я как раз собирался тебе рассказать. Мне пришла в голову блистательная идея. Одну минутку. – Он закончил строчку, положил перо и повернулся к Мэйсон. – Мне это пришло в голову, когда я увидел, как эмоционально реагируют люди на картины. Я сказал себе, что существует еще один способ оживить легенду. Мне пришло в голову, что мы могли бы раскрыть ее характер, заставить ее голос звучать посредством писем, что она писала своей сестре. Я уже договорился с издателем. Если мы смогли бы передать ему на следующей неделе штук тридцать таких писем, к моменту открытия павильона он успел бы издать солидный том. Конечно, работать приходится в спешке, но что поделаешь. Жаль только, что мне не пришло это в голову раньше. Мэйсон не могла поверить своим ушам:
– И ты собираешься стать автором «моих» писем?
– Дискутировать по этому поводу времени нет, так что я просто взялся за дело сам.
Мэйсон подошла к столу и взяла одно из законченных писем. Быстро пробежала его глазами. В патетических тонах эта придуманная Мэйсон описывала своей наперснице-сестре, как она голодала, какие лишения сносила, чтобы купить краски и закончить автопортрет. Как картина в итоге была осмеяна всеми, кому она предлагала ее купить. Она писала о том, что, несмотря ни на что, будет бороться, будет делать все, что потребуется, лишь бы жить, продолжать писать, лишь бы выразить то, что жжет ее мозг, лихорадит кровь. Она писала, что ради исполнения своей миссии готова выйти на панель.
Мэйсон медленно подняла на Ричарда взгляд:
– Ну вот, теперь ты превратил меня в шлюху. Ричард болезненно поморщился.
– Тот факт, что Мэйсон готова была продать себя ради дела, в которое верила, – решительно заявил Ричард, – не делает из нее шлюху. Этот факт лишь возвышает ее дух. Показывает, что она не постояла бы за ценой ради исполнения своей миссии.
Мэйсон покачала головой:
– Ты просто не можешь остановиться?
– Разве ты не понимаешь, какая во всем этом красота? С помощью этих писем мы заставим Мэйсон ожить, по-настоящему ожить в сознании людей – даже тех, кто никогда не видел и не увидит ее картин.
Мэйсон выронила листок.
– Это для меня слишком. Я больше не могу.
– Я думаю, эти письма жизненно необходимы для того, что мы пытаемся сделать.
– Это нужно прекратить. Все это.
– Это нельзя прекратить. Это слишком важно.
Мэйсон положила ладонь на лоб.
– Ричард, я не виню тебя. Не пытаюсь сделать тебя ответственным за все. Я в таком же ответе, как и ты. И даже больше. Это я хотела славы, бессмертия.
– И ты можешь его получить.
– Но я не хочу бессмертия. Я думала, что хочу. Но я это все ненавижу. Я ненавижу все, что с этим связано. Весь это процесс лишает меня моей индивидуальности. Я одно время боялась этого, пыталась ухватиться за то, что от меня осталось. Но только сейчас я осознала, что мне все равно. Все – все равно. Я не хочу держаться за ту Мэйсон, за Мэйсон, которой надо было рисовать те картины, чтобы выразить свое видение. Я переросла себя прежнюю и не хочу возвращаться. Все, что мне надо, – это ты. Я хочу остановить эту дурацкую болезнь, пока она не разрушила нас обоих. Мне все равно, что случится с картинами и сколько людей их увидят. Мне все равно, посадят меня в тюрьму или нет. Я просто хочу, чтобы все это кончилось.
Ричард встал.
– Это невозможно.
– Почему невозможно? Давай уедем отсюда. Уедем из страны и никогда больше сюда не вернемся. Мы могли бы столько всего сделать вместе, если бы ты дал нам шанс.
– Я сказал тебе, что не могу.
– Ты меня совсем не любишь?
– Ты знаешь, что я люблю тебя.
– Нет, Ричард. Ты не любишь меня. Ты любишь… вот это. – Мэйсон обвела рукой вокруг себя.
– Это просто смешно.
– Разве? Тогда почему ты ни разу не спросил меня ни о чем личном? Тебе абсолютно плевать на меня настоящую, наплевать, почему я писала эти картины. Все, что тебя волнует, лишь та Мэйсон Колдуэлл, которую создал ты. Той Мэйсон ты можешь управлять. Но ко мне это не имеет никакого отношения.
Лицо Ричарда приняло напряженное выражение. Сжав руку в кулак, он ударил им по столу.
– Я сказал тебе – это ключевой момент для того, чтобы…
– Но зачем, Ричард? Почему это так для тебя важно? Что спрятано в твоем прошлом такого, что заставляет тебя пускаться в такие крайности? Что преследует тебя в твоих кошмарах? Что, если именно это превратило тебя в вора – вора от искусства?
– Мое прошлое не имеет к этому никакого отношения.
– Имеет, и самое прямое. Разве ты не видишь, что вся эта кампания, которую ты затеял, – очередная кража?
– И кого же я обкрадываю?
– Меня, Ричард. Меня. Но мне и это теперь безразлично. Я о тебе волнуюсь. Ты пугаешь меня. Ты позволил этому, – Мэйсон обвела рукой вокруг себя, – заполонить твою жизнь – стать твоей жизнью, так, что у тебя больше совсем ничего не осталось. Ты создал монстра, который не имеет со мной даже приблизительного сходства. И твоя увлеченность, твоя преданность этому чудовищу разрушает тебя. Ричард, я люблю тебя. Я хочу тебе помочь. Ты можешь мне доверять. Скажи мне ради Бога, что тебя заставляет это делать?
Ричард смотрел на Мэйсон, и в глазах его была мука. Кулак его был сжат так крепко, что костяшки пальцев побелели.
– Я никогда не хотел ничего у тебя отнимать. Я хотел лишь дать. Я хотел подарить Мэйсон миру.
– Ты скажешь мне или нет?
– Мне нечего тебе сказать.
– Ладно. Тогда я сама выясню. – Мэйсон повернулась, чтобы уйти.
– Куда ты? – На этот раз голос Ричарда звучал раздраженно, даже зло.
Мэйсон повернулась к нему лицом:
– Ричард, ты одержим чем-то, чего сам не понимаешь, не желаешь понимать, не в силах держать под контролем. И я собираюсь найти способ освободить тебя от этой нечисти.
Ричард не дал ей уйти и схватил Мэйсон за плечи.
– Я спрашиваю: куда ты идешь?
– Туда, куда придется. Мэйсон высвободилась.
– Ты никуда не пойдешь. – Он перегородил ей путь к двери.
Мэйсон бросилась к столу, сгребла письма и швырнула их в окно. Когда Ричард бросился за ними, Мэйсон воспользовалась моментом и бегом слетела вниз по ступенькам и на улицу.
* * *
Мэйсон вышла из омнибуса в респектабельном районе Шайо. Прямо перед собой она увидела величественный особняк Галлери, который занимал целый квартал. Обычно в этом уголке Парижа всегда было очень тихо и мирно, но сегодня из здания доносились раскаты громового хохота и пьяное пение.
Персиваль, тот самый слуга, что возвестил о прибытии Эммы в гостиницу, где жила Мэйсон, открыл перед ней дверь.
– Мисс Колдуэлл, – поприветствовал он ее, перекрикивая шум, – как приятно видеть вас вновь. Мы вас не ждали.
– Извините, что пришла без приглашения, но мне действительно очень нужно повидаться с герцогиней.
– Ну что вы, вам здесь всегда рады. Ее светлость всего лишь устраивает маленькую вечеринку.
Мэйсон заглянула в зал. В нем было полно гостей. Люди из высшего общества мешались с личностями весьма сомнительного вида. Кто-то пил шампанское прямо из бутылки, передавая ее по кругу, как в лагере у костра. Внезапно раздался выстрел, за которым последовал взрыв смеха.
– О Боже! – вздрогнул Персиваль. – Весьма энергичные ребята, это точно. Надеюсь, никто не пострадал.
– И в чью честь вечеринка? – спросила Мэйсон.
– Как, вы не знаете? В честь полковника Коди, естественно. Если вы подождете минуточку, я разыщу ее светлость и сообщу ей о вашем приходе.
Персиваль удалился, и как раз в это момент группа мужчин у барной стойки затянула во все горло:
Буффало Билл, Буффало Билл
Ни разу мимо не пробил,
Уж если стрельнул, то убил,
И по счетам не он платил,
Этот Буффало Билл.
Все покатывались от хохота и хлопали друг друга по спине. И как раз в этот момент Эмма показалась в фойе с приветливой улыбкой на губах.
– Эми, какой приятный сюрприз! – Эмма выглядела еще милее, чем раньше, в своем наряде абрикосового цвета. Сама непринужденность посреди всей этой немыслимой вакханалии. – Мы как раз развлекаем кое-кого из ваших соотечественников. Почетный гость еще не появился, но я могу познакомить вас с его друзьями.
– Мне надо с вами поговорить, – настойчиво сказала Мэйсон.
– Моя дорогая, вы бледны как смерть. Давайте найдем местечко потише, и вы мне скажете, что я могу для вас сделать.
Они прошли в соседнюю комнату и сели на кушетку в относительно спокойном уголке.
– Боюсь, более тихого местечка нам сегодня не найти. Ну, так о чем вы хотели со мной поговорить?
– Я хочу, чтобы вы рассказали мне все, что вам известно о прошлом Ричарда.
– Господи! Вот уж действительно странная просьба.
– Мне надо знать.
– Боюсь, вы зря проделали весь этот путь. Видите ли, у нас с Ричардом есть договоренность. Мы никому не говорим о прошлом друг друга. Ничего.
Из комнаты снизу донесся звон разбитого стекла. Затем раздались крики:
– Драка! Драка!
Мэйсон постаралась не отвлекаться.
– Ричард в беде. В большой беде. Я хочу помочь ему выбраться из беды.
– Ричард в беде? В это трудно поверить. На днях он просто раздувался от гордости за свою победу над Сеньором Лугини.
– Он во власти заблуждения. Мне нужно понять, почему это с ним произошло.
– Заблуждение?
– Эмма, перед тем как стать агентом Пинкертона, он был вором…
Маска вежливого безразличия частично спала с лица Эммы.
– Он вам об этом рассказал?
– Значит, вы знали?
– Да, – осторожно кивнула Эмма. – Я знала.
– Что вы можете рассказать мне о той его жизни?
Несколько ядовито Эмма заметила:
– Если вы с ним на такой короткой ноге, почему сами не спросите у него?
– Я пыталась, но он ничего не говорит. Похоже, что есть что-то, на что он не хочет смотреть, но то, что имеет над ним власть. Я надеялась, что вы дадите мне подсказку.
– Боюсь, вы теряете время. С ним, и со мной тоже.
Кое-кто из гостей бандитской наружности ввалился в комнату и стал размахивать над головой оружием. Хорошо же развлекаются гости герцогини, подумала Мэйсон.
Она чуть повысила голос:
– Если вы скажете мне, я могу кое-что дать вам взамен.
– В самом деле? И что же это?
– Информацию, которая избавит вас от многих неприятных моментов.
– И что это за информация?
– Я видела картины, которые вы купили, и я с абсолютной определенностью могу сказать вам, что они – подделка.
Эмма прищурилась. Фиалковые глаза ее опасно блеснули.
– Как вы можете заявлять подобное с такой уверенностью?
Мэйсон пребывала в нерешительности. Не за этим она сюда пришла. Но раз уж так вышло, она готова была прыгнуть в пропасть. Другого выхода не было.
– Я могу заявить с абсолютной уверенностью, что эти картины не были написаны Мэйсон Колдуэлл, потому что Мэйсон Колдуэлл – это я.
Кровь отлила от лица Эммы.
– Это… бред. Вы ее сестра.
– У меня нет сестры.
Эмма была в шоке, и это чувствовалось. Мэйсон даже показалось, что она вот-вот упадет в обморок.
– Не может быть!
– Уверяю вас, я – Мэйсон. У Эммы глаза полезли на лоб:
– Мэйсон совершила самоубийство. Зачем вы так говорите?
– Не было никакого самоубийства. Ниже по течению нашли тело другой женщины. Все это просто большое недоразумение, которому, с сожалением вынуждена сознаться, я немало поспособствовала.
Эмма закрыла глаза. Ее пробила дрожь. Затем, ни слова не говоря, она вскочила, выхватила «кольт» из кобуры ближайшего мужчины и нажала на курок.
Глава 23
Мэйсон бросилась на пол, и пуля, просвистев над головой, разбила вазу с цветами, стоявшую у нее за спиной. Не веря своим глазам, Мэйсон подняла голову и увидела, что Эмма, передернув затвор, снова нажала на курок. Мэйсон перекатилась в сторону, и вовремя: пуля со свистом врезалась в паркет.
Решив, что веселье в разгаре, гости повытаскивали свои «кольты» и принялись стрелять в потолок с воплями и улюлюканьем. Мэйсон, воспользовавшись суматохой, вскочила на ноги и бросилась мимо Эммы к двери. Эмма кинулась следом, выстрелив в нее в третий раз. Пуля влетела в дверной проем, но, по счастью, миновала Мэйсон.
Мэйсон со всех ног пустилась бежать через лужайку к воротам. У ворот Мэйсон успела оглянуться. Эмма стояла на портике с пистолетом в вытянутой руке. Она выстрелила еще три раза, но Мэйсон уже была далеко.
Она стремглав помчалась по улице, не задумываясь о том, куда бежит. Ей просто надо было как можно быстрее убраться подальше от этого гостеприимного дома. Времени на то, чтобы обдумать произошедшее и понять причину такого странного поведения Эммы, у нее не было.
Мэйсон на бегу врезалась в группу мужчин, выходивших из ресторана. Они окликнули ее, но Мэйсон не стала останавливаться.
Она пробежала около мили, плутая по улицам, и, наконец, остановилась, прислонившись спиной к каменной стене.
Мэйсон судорожно хватала ртом воздух, легкие ее горели, она дошла до изнеможения и была вне себя от страха. Эта женщина пыталась ее убить! Но, Господи, зачем?
Все это казалось совершенно бессмысленным. По какой-то непонятной причине тот факт, что Мэйсон Колдуэлл была жива, напугал герцогиню Уимсли до такой степени, что у нее совсем сдали нервы. Сцена эта была такой неожиданной и дикой, что Мэйсон спрашивала себя, не привиделось ли ей все от начала до конца. Только в одном она была уверена – так могла вести себя только женщина патологически ревнивая.
И тут Мэйсон осенила ужасная мысль. Если Эмма была настолько ревнива и настолько неуправляема, что попыталась убить ее, не хватит ли у нее безумия убить виновника ее состояния – Ричарда? И если после сегодняшнего разговора он догадается, куда она пошла, не решит ли он перехватить ее у Эммы?
«Он может сейчас быть у нее!»
Мэйсон ясно как наяву представила Ричарда на лужайке перед особняком Галлери, Эмму, направляющую на него дуло пистолета и спускающую курок.
Но Мэйсон не могла туда вернуться. Эмма тут же ее пристрелит. Она могла бы остановить Ричарда, перехватив его, но она не могла знать наверняка, пошел он к Эмме или нет, и с какой стороны появится. А что, если Эмма сама решит пойти к нему? Ричарду грозила опасность. Со всех сторон, куда ни посмотри. И Мэйсон была совершенно бессильна отвести от него беду.
Если только не…
Сказав Эмме, кто она такая, Мэйсон сожгла все мосты, и назад ей дороги не было.
Внезапно она поняла, что должна сделать.
Ситуация стремительно уходила из-под контроля. Пора поставить точку. Жирную точку.
Мэйсон вышла на бульвар и остановила проезжающий экипаж. Кучер бросил на нее удивленный взгляд, тем самым дав ей понять, что она производит не самое благоприятное впечатление.
– Отвезите меня в Префектуру полиции как можно быстрее. Это вопрос жизни и смерти.
Кучер щелкнул кнутом, и кони пустились с места в карьер, Мэйсон думала только о Ричарде, только о том, что он сейчас в смертельной опасности, о которой и не догадывается.
– Быстрее, быстрее, – поторапливала Мэйсон возницу.
Ей казалось, что прошли часы с того момента, как она наняла экипаж и он остановился у железных ворот Префектуры.
– Подождите меня здесь, – сказала Мэйсон, спрыгивая с приступки. – Я заплачу, когда вернусь.
Возница недовольно закричал ей вслед, но она даже не оглянулась. Вход в здание охраняли двое полицейских. Мэйсон попыталась протиснуться мимо, но они остановили ее.
– Мне назначена встреча с инспектором Дювалем, – заявила Мэйсон. – Не смейте мне мешать.
Властные нотки в ее голосе сыграли свою роль, и полицейские ее пропустили. Мэйсон поднялась по двум лестничным пролетам. Сердце ее готово было выскочить из груди. Но когда она вошла в приемную и подошла к секретарю, оказалось, что Дюваля нет в своем кабинете.
– Где он? – требовательно спросила Мэйсон у секретаря.
– Он наверху, на совещании, – ответил секретарь.
– Я должна его видеть. У меня к нему срочное дело.
– Это невозможно. Он встречается с министром юстиции. Вам туда нельзя.
Мэйсон развернулась и бегом взлетела на третий этаж. В конце коридора она увидела двойные двери под нарядным плинтусом из резного дерева. Перед дверью стояли двое охранников. Мэйсон направилась прямо к ним. Не останавливаясь и ничего не объясняя, она ворвалась в приемную еще до того, как охранники сообразили, что произошло.
Мэйсон вошла в просторное помещение с высокими потолками. Настолько громадное, что оно, казалось, призвано было олицетворять собой всю славу и величие самой Франции. Дюваль сидел за столом в стиле Людовика XIV напротив чиновника с редеющими рыжими волосами. Оба уставились на Мэйсон в недоумении.
– Назад! – послышался за ее спиной голос. Мэйсон бросилась к Дювалю, но тот же голос снова попытался ее остановить:
– Назад или я буду стрелять!
Но Дюваль уже встал и поднял руку:
– Нет, подождите.
Мэйсон едва не упала ему на грудь.
– Инспектор! Вы должны мне помочь! Я здесь, чтобы во всем признаться.
Дюваль посмотрел на министра и сказал:
– Месье, боюсь, что мне придется этим заняться. Это может быть важным для дела, которое мы сейчас обсуждаем.
Дюваль велел охранникам проводить Мэйсон в комнату для допросов.
– Я сейчас к вам вернусь, – пообещал он Мэйсон.
– Прошу вас, допросите меня сейчас же. Нельзя терять время. На кону стоит человеческая жизнь.
Охранники проводили Мэйсон в маленькую комнату по соседству с кабинетом Дюваля. Единственное окно выходило на собор Парижской Богоматери. Прошло несколько минут, а Дюваль все не появлялся. Мэйсон встала и принялась нервно ходить по комнате. Где он? Чем он занят? Разве она не сказала ему, что у нее срочное дело?
Наконец, дверь открылась и вошел инспектор. Он сел за стол и сказал:
– Очень хорошо, мадемуазель, я готов вас выслушать.
– Я хочу во всем сознаться. Я устала от вранья. Глаза Дюваля широко распахнулись:
– Хорошо, мадемуазель.
– Я ничего не стану говорить, пока вы не отправите своих людей на поиски Ричарда Гаррета. Его жизнь в опасности. – Мэйсон сбивчиво поведала инспектору о том, что только что произошло, а в конце добавила: – Если он уже не в том особняке, то его можно найти в квартире на Монмартре или в его номере в «Лё-Гранд-Отеле». Но где бы он ни был, вы должны найти его и защитить от этой сумасшедшей.
После недолгого колебания Дюваль встал, подошел к двери и отдал распоряжения охраннику. Когда Мэйсон услышала, что именно тот ему сказал, она сразу же почувствовала облегчение. Слава Богу. Теперь, по крайней мере, Ричард будет в безопасности. Словно из нее разом вышибли дух, Мэйсон бессильно опустилась на стул.
Дюваль вернулся и сел напротив.
– Ну что же, начнем. Теперь пути назад уже не было.
– Мэйсон Колдуэлл не совершала самоубийства.
– Я прекрасно об этом осведомлен. Но скажите мне, как вы об этом узнали?
– Потому что я и есть Мэйсон Колдуэлл.
Дюваль дернулся, словно случайно положил ладонь на раскаленную сковородку. Он явно был удивлен. Но почему? Он же не раз намекал, что знает правду? У него есть доказательства того, что на мосту была еще одна женщина.
– Расскажите мне все, что знаете, – ледяным тоном приказал он.
Мэйсон так и сделала. Не в силах усидеть на месте, она вскочила и, расхаживая взад-вперед, рассказала Дювалю, как все было с самого начала. Во всех подробностях, не щадя себя, не пытаясь как-то оправдать свои поступки.
Он слушал, не сводя с нее глаз. Закончив рассказ, Мэйсон в изнеможении опустилась на стул.
Дюваль продолжал сидеть неподвижно, погрузившись в глубокое раздумье. Затем он встал и медленно подошел к окну.
После еще более продолжительного молчания он сказал:
– Я намерен вас задержать.
– Я так и предполагала. Я готова нести ответственность за то, что совершила.
– Боюсь, – сказал Дюваль, продолжая смотреть в окно, – что ответственность, которую вы намерены нести, не вполне та, что вы ожидаете.
– Мне все равно, что вы со мной сделаете. Я просто хочу, чтобы все это кончилось, и Ричарду перестала бы угрожать опасность.
– К сожалению, я не могу принять на веру ваш рассказ, как бы вы ни были при этом убедительны и искренни.
Мэйсон с тревогой посмотрела на Дюваля:
– Но это правда. Каждое слово.
– Это не может быть правдой, мадемуазель. Вы не можете быть Мэйсон Колдуэлл, потому что тело Мэйсон Колдуэлл было найдено на берегу Сены.
– Я вам сказала. То была Бланш Куверо.
– И в то же время вы говорите, что не существует записей, свидетельствующих о существовании этой женщины.
– Я же вам сказала, Ричард их уничтожил.
– Не слишком убедительно.
– Прекратите играть со мной в игры, инспектор! Я же сказала вам, я себя не убивала.
– Это в основном верно. Мэйсон Колдуэлл себя не убирала.
– Наконец-то!
– Она была убита.
Казалось, последнее слово повисло в воздухе, продолжая зловеще вибрировать.
– Убита?!
– Подло убита женщиной, с которой ее видели чуть раньше тем же вечером. Женщиной, которая сбросила ее с моста.
Мэйсон вскочила со стула:
– Нет-нет, все не так. Я сказала вам…
– Все эти несколько недель я трудился над тем, чтобы выяснить ее имя. Имя убийцы. И сегодня же это имя станет известно прессе.
– Это безумие. Какая убийца?
– Подойдите сюда. Я вам покажу. Смотрите. Вот ее привезли.
Из окна Мэйсон видела, как полицейский фургон заехал во двор. Двое полицейских вытащили из фургона в наручниках женщину, которая отчаянно сопротивлялась. Солнечный луч упал на ее золотистые локоны. Лизетта!
Глава 24
Мэйсон мерила шагами тесную камеру. Бесконечный путь, ведущий в никуда. Вне себя от переживаний за Ричарда и Лизетту. Сбитая с толку нагромождением немыслимых домыслов. В ужасе от того, куда это чудовище, созданное ею самой, может их всех завести.
После того как допрос был окончен, Дюваль вызвал тюремщика. Тот надел на Мэйсон наручники и накинул ей на голову капюшон. Затем Мэйсон потащили по лестнице вниз, в подвальный этаж, в темницу. Там с нее сняли наручники и заперли в камере. Мэйсон в недоумении оглядела свою новую обитель – Дюваль сообщил ей, что эта камера – пересыльный пункт для буйных сумасшедших. Отсюда Мэйсон должны были отправить в сумасшедший дом.
– В настоящий момент здесь нет никого, кроме вас, – пояснил Дюваль. – Вы можете не тратить силы попусту. Поскольку, что бы вы ни говорили, как бы ни кричали, охранники сочтут все бредом сумасшедшей.
– Вы не можете так поступить, Дюваль, – взмолилась Мэйсон. – Если вы считаете, что должны так поступить со мной, прошу вас, не поступайте так с Лизеттой. Это чудовищное преступление. Лизетта и мухи в своей жизни не обидела.
Дюваль ушел, захлопнув за собой дверь.
Прошли сутки. Мэйсон устала колотить в дверь, умоляя охранников ее выслушать. Она пыталась унять тревогу, говоря себе, что Дюваль не может допустить, чтобы события развивались в этом же ключе. Неужели он действительно всерьез намеревался до конца жизни запереть ее в психиатрической лечебнице в Шарантоне? Неужели всерьез собирается судить Лизетту за убийство? В это невозможно поверить! Дюваль придет в себя и увидит всю нелепость своих построений. Как только он поговорит с Лизеттой, и она все ему расскажет, он поймет ошибку, и они обе окажутся на свободе.
Но в минуты отчаяния Мэйсон приходило на ум совсем другое. Она знала, насколько несовершенна система правосудия во Франции.
Прошел еще один день и еще одна ночь. Тюремщик большую часть дня проводил, сидя на стуле перед камерой. Мэйсон требовала встречи с инспектором, умоляла позволить ей увидеться с Лизеттой, спрашивала о том, где сейчас Ричард. Но тюремщик был глух ко всем мольбам. Он сидел на стуле и читал газету, не обращая никакого внимания на бесноватую сумасшедшую.
Если бы только знать, что происходило снаружи, за стенами этого здания. Мэйсон спрашивала его о том, что нового в мире, но он и на эти вопросы не отвечал. Тюремщик всегда приходил с бутылкой вина и медленно его посасывал. К вечеру он обычно засыпал на своем стуле.
В очередной раз Мэйсон услышала его храп, и у нее родилась идея. Заглянув в щель под дверью, через которую ей дважды в день просовывали миску с едой, Мэйсон увидела, что газета стражника лежит на полу. Рука у Мэйсон была гонкой, так что, если постараться…
Еще чуть-чуть… еще немного… Ей все же удалось подцепить двумя пальцами газету и втащить ее через щель в камеру.
Заголовки на первой полосе оповещали о скандале, которого давно не видел город. Американская художница Мэйсон Колдуэлл не совершала самоубийства, она была убита. Убита своей лучшей подругой, цирковой артисткой Лизеттой Ладо. Лизетту Ладо арестовали, но она отказалась признаваться в совершенном преступлении, как отказалась говорить что-либо в свою защиту. Была назначена дата суда. Инспектор Оноре Дюваль, чудом сумевший раскрыть преступление, стал героем дня. Скандал лишь способствовал стремительно растущему интересу к произведениям художницы, выставленным на Марсовом поле. Сестра убитой, надломленная известием об убийстве, сделалась затворницей и вообще перестала выходить на улицу.
Затворница… Означало ли это, что они собираются держать ее всю жизнь взаперти? И где же Ричард? Что с ним стряслось? Успели ли они его спасти? Все было так запутанно.
Мэйсон все бы отдала, лишь бы вернуться в ту ночь на мосту Альма и все переиграть.
Наконец Мэйсон сморил сон, а через несколько часов ее разбудил скрежет металла. Потом Мэйсон услышала голоса. Один из них принадлежал Дювалю. Мэйсон понятия не имела, который час, но почему-то решила, что сейчас или очень поздняя ночь, или очень раннее утро.
Она услышала, как в двери повернулся ключ. Дверь со скрипом отворилась. Свет ударил в глаза, на мгновение ослепив Мэйсон.
– Что происходит? – ворчливо спросила она.
– Нам пора ехать, – спокойно заявил инспектор. «Ехать?»
– В Шарантон? – спросила Мэйсон.
– Вам лучше не задавать вопросов, мадемуазель.
– Инспектор, вы умный человек. Вы должны понимать, что изложенная вами версия событий не может быть правдой. Вы должны понимать, что правду говорю я.
– Я знаю, что вы говорите правду, – тихо сказал Дюваль. У Мэйсон сердце подпрыгнуло в надежде:
– Тогда… Вы здесь, чтобы освободить меня?
– Увы, нет.
– Нет?
Дюваль подал знак двум мужчинам, сопровождавшим его, и они подняли Мэйсон на ноги. На всех троих были дождевики.
Один из охранников спросил:
– Мешок на голову будем надевать, сэр?
– Нет необходимости. В это время никого не будет поблизости.
Они повели Мэйсон вверх по лестнице и вывели из здания на улицу. Снаружи бушевала настоящая буря. Завывал ветер, и дождь лил так, как ни разу не лил с той ночи, когда все это началось. Карета и трое всадников уже ждали. На Мэйсон не было пальто, и она промокла до нитки еще до того, как Дюваль усадил ее в экипаж.
Карета выехала со двора, переехала по мосту Нотр-Дам на правый берег и укатила в ночь, следуя за конным эскортом. Инспектор Дюваль казался погруженным в глубокие раздумья.
– Вы полицейский, – с горьким упреком сказала ему Мэйсон. – Ваша работа – раскрывать преступления, выявлять истину. Как можете вы отворачиваться от правды сейчас?
Мэйсон почувствовала меланхолическое настроение Дюваля.
– Удовольствия мне это не приносит, – сказал он.
– Тогда в чем же дело?
– У меня нет выбора.
Мэйсон смотрела на него во все глаза.
– Нет выбора?
– Меня собираются произвести в рыцари Почетного легиона.
Мэйсон не понимала, о чем он.
– За что?
– За раскрытие преступления века.
– Но вы же знаете, что никакого убийства не было.
– Нет. Но к тому времени, как вы сказали мне, кто вы такая на самом деле, было уже поздно. Я уже убедил министра юстиции, министра культуры и самого президента Карно в том, что совершено убийство. Ваша подруга мадемуазель Ладо уже была арестована. Уже назначена пресс-конференция, посвященная моему «легендарному расследованию». Я стал знаменитым человеком. Так что, как видите, я едва ли могу все это взять и остановить, признавшись в том, что свалял дурака. Моя карьера была бы загублена, моя репутация… вся моя жизнь.
– Вы позволите умереть невинной женщине ради спасения вашей карьеры?
Дюваль заерзал на сиденье:
– Я не ждал, что вы меня поймете. Но мужчина без репутации – ничто. Пария. Даже если бы я смог выстоять в этой буре, моя жена не смогла бы. Она происходит из старинного аристократического рода, и она вышла за простого полицейского. Орден Почетного легиона мог бы отчасти реабилитировать ее и меня в глазах ее семьи. Кроме того, здоровье у нее слабое, и скандал просто убьет ее. Так что мой выбор ясен.
– Значит, вам пришлось выбирать между вашей женой и Лизеттой.
Дюваль отвел взгляд. Повисла пауза. И вдруг Мэйсон поняла.
– Дело не в одной лишь Лизетте, верно? Вы не смогли бы спать по ночам, осознавая, что тот, кто знает правду, еще жив. Вам мало того, что я стану затворницей или попаду в сумасшедший дом. В конце концов, оттуда можно сбежать.
– К сожалению, вы правы.
В этот момент экипаж достиг места назначения и остановился. Дюваль открыл дверь.
– Боюсь, единственным логичным окончанием жизненного пути Эми Мэйсон было бы символичное воссоединение с сестрой.
Когда Мэйсон помогали выбраться под ураганный ветер и проливной дождь, она поняла, что находится на мосту Альма. И только тогда она окончательно поверила в то, что Дюваль не блефует – что сейчас она простится с жизнью. И обратного пути не будет.
Самое печальное, что она сама подвела себя к такому концу. Сама постелила ту постель, в которую ей предстояло лечь. Ее неуемная жажда успеха, славы и ее неразборчивость в средствах, готовность получить желаемое не самым честным способом навлекли на нее беду. И не на нее одну.
Мэйсон повернулась к Дювалю со слезами на глазах:
– Как Ричард?
– Слишком поздно переживать за него, дитя мое. Разумеется. Они не могли оставить его в живых.
– Пора тебе примириться с Господом. Я обещаю, что страдать ты не будешь. Один быстрый удар, и все будет кончено. В объятиях Сены ты забудешь обо всем.
«Поэтический конец. Обезумев от сознания того, что сестра ее была убита той, кто была для нее всем, Эми приходит на место преступления и бросается в реку…»
Дюваль добавил с ласковой интонацией:
– Вы можете утешиться тем, что не будете забыты. Ваши картины станут национальным достоянием Франции. Кампания, которую вы начали, дабы обессмертить свое имя, будет продолжена. Выставка ваших произведений будет открыта под моим личным патронажем, со всеми приличествующими почестями. Вы видите, дитя мое, что чем громче имя Мэйсон Колдуэлл, тем лучше это для Франции и для репутации человека, раскрывшего убийство.
Мэйсон посмотрела вниз, на едва различимые за пеленой дождя бушующие воды Сены. Все равно судьба готовила ей конец в их глубинах. Если бы только все это произошло тогда, несколько месяцев назад. Если бы она знала, что из всего этого выйдет, не стала бы она бороться за жизнь.
Мэйсон шагнула к перилам, безразличная к своей судьбе. Она все это заслужила.
Однако, перед тем как закрыть глаза, Мэйсон огляделась и поразилась странной симметрии ситуаций. Тот же мост. Такая же ночь. Такое же ненастье. И даже… еще один пешеход на мосту, внезапно появившийся из-за кареты и идущий в ее направлении.
Но на этот раз то была не отчаявшаяся женщина. Мужчина шел, сильно качаясь. Пьяница, возвращающийся с ночной попойки. И по мере того как он приближался, становились различимы слова популярной песенки, что он распевал.
Что ж, придется подождать, пока пьяница не пройдет. Полицейские подняли воротники, спрятав лица.
– Доброй ночи, господа, – поприветствовал их пьяница.
– Доброй ночи, – хмуро откликнулись полицейские. Но мужчина не пошел своей дорогой. Он остановился перед ними и одарил их пьяной улыбкой.
На какой-то миг Мэйсон показалось, что она увидела призрак.
– Ричард!
Глава 25
Ричард, пошатываясь, направился к одному из людей Дюваля.
– Какая ужасная ночь. Вы не могли бы пожертвовать несколько су несчастному, которому негде преклонить голову?
– Убирайся! – огрызнулся полицейский.
Ричард подошел к нему ближе и заискивающе взял под руку:
– Имейте жалость, добрый господин.
Полицейский стряхнул его руку:
– Если ты сейчас же не уберешься с моих глаз, я дам тебе ботинком.
– Ботинком? А… Вы это имели в виду? – Ричард подпрыгнул высоко вверх и ударил мужчину ногой прямо по лицу, да так, что тот отлетел на перила и, перевалившись через них, упал в воду.
Все это случилось буквально за тридцать секунд, ровно столько, сколько понадобилось второму полицейскому, чтобы вытащить пистолет и направить его на Ричарда. Но в мгновение ока тот выхватил из-за пояса свой пистолет и, не целясь, разрядил его прямо в голову своего противника. Полицейский выронил пистолет и упал замертво.
Дюваль потянулся за своим оружием, но Ричард с проворством пантеры набросился на него. Одним стремительным движением Ричард схватил Дюваля за ногу и за руку и бросил в Сену. Дюваль кричал и отчаянно махал руками, летя вниз. Мэйсон бросилась навстречу своему спасителю.
– Я думала, ты умер.
– Совсем нет. А ты в порядке?
Мэйсон шагнула в объятия Ричарда:
– Сейчас – да.
Он подержал ее в объятиях несколько долгих секунд, после чего сказал:
– Нам надо идти.
И тут Ричард заметил трех всадников вдалеке: эскорт Дюваля. Эскорт остановился в некотором отдалении от моста. Из-за густой пелены дождя полицейские не могли видеть того, что произошло, во всех подробностях. По их представлениям, именно инспектор Дюваль выстрелил в ту, которую надлежало убить. Однако всадники все же что-то заподозрили.
Ричард быстро выпряг коня из кареты, вскочил на него верхом и усадил Мэйсон у себя за спиной. Однако всадники перекрыли беглецам путь к спасению. Ричард и Мэйсон могли перебраться по мосту на левый берег, но тогда они стали бы легкой мишенью для полицейских. Ударив коня каблуками, Ричард бросился наперерез всадникам. Двое дрогнули и отступили. Третьего Ричард сбросил с коня, проносясь мимо.
Ричард мчал коня по мощенной булыжником улице. Мэйсон плотно обхватила его руками за талию.
Звук выстрела раздался в ушах гулким эхом. Мэйсон почувствовала, как что-то обожгло ей спину, должно быть, ее ударил кусочек камня, отколовшийся от булыжника. Было больно, но лишь одно мгновение, затем боль ушла. Мэйсон держалась за Ричарда изо всех сил, а дождь нещадно хлестал по их спинам и плечам.
– Они явились и арестовали меня! – крикнул, обернувшись, Ричард. – Но я сумел скрыться от них, воспользовавшись тем, что в холле гостиницы было много народу.
– Это я виновата. Я пошла к Дювалю. Я и подумать не могла, что он так поступит. Я не знала, как мне быть. Я просто хотела, чтобы все это прекратилось, чтобы можно было начать жизнь заново.
– В том нет твоей вины. Ни в чем нет твоей вины.
Мэйсон чувствовала себя странно. Голова ее кружилась. Теперь ей даже не было холодно.
– Я назвала Эмме свое настоящее имя, и она попыталась меня убить. Поэтому я пошла к Дювалю и сказала ему, кто я на самом деле, и он попытался меня убить. Неужели это все мне не снится? – Собственный голос казался Мэйсон далеким эхом.
– Не думай об этом, просто держись крепче.
Мэйсон чувствовала, как слабеют руки. Она с трудом ворочала языком:
– Мы должны помочь Лизетте.
– Они держат ее в тюрьме Сантэ. Надо придумать способ, ее оттуда вытащить.
– Как ты меня… нашел? – Мэйсон все труднее было связывать слова. Казалось, силы оставили ее. Единственное, на что ее еще хватало, так это на то, чтобы не потерять сознание.
– У меня было предчувствие, что они выкинут что-то в этом роде. Я выставил своего человека возле Префектуры. Когда твоя карета покинула Сите, я прыгнул на запятки. К счастью, эскорт двигался перед каретой, поэтому они меня не заметили.
Мэйсон почувствовала, что пальцы ее разжимаются. Она начала соскальзывать с коня.
– В чем дело? – оглянувшись, крикнул Ричард. Мэйсон не могла ответить. Ричард остановил коня и перехватил Мэйсон свободной рукой, не давая упасть.
– Господи, они тебя ранили! – крикнул он, заметив на ладони кровь.
Ричард соскочил с коня и взял Мэйсон на руки. Затем разорвал платье и осмотрел рану на спине. Прижимая Мэйсон к себе свободной рукой, Ричард вытащил рубашку из брюк, оторвал лоскут и перевязал рану Мэйсон.
– Я должен доставить тебя к врачу. Но теперь нам придется идти пешком. Постарайся не засыпать. Поняла?
Мэйсон попыталась ответить Ричарду, но говорить она уже не могла. Он нес ее по пустым улицам под проливным дождем. Его слова проникали в ее сознание с трудом, словно во сне.
– Что я натворил! Это все моя вина. Чем я могу отплатить тебе за все эти несчастья? Держись крепче, Мэйсон. Ты должна держаться за меня, чтобы я видел, куда идти. Ты понимаешь меня, Мэйсон?
Нежность, с которой он произнес ее имя, была для нее как спасательный круг. Мэйсон прижалась щекой к груди Ричарда и чувствовала, что его сила перетекает в нее. Вскоре они остановились. Она слышала, как Ричард стучит в дверь кулаком. Потом его слова:
– Мне нужен врач. Немедленно.
– Доктор спит, – ответил женский голос. – Вы хоть знаете, который час?
Ричард, стараясь держать Мэйсон как можно осторожнее, прошел в дверь мимо испуганной горничной.
– Разбудите его.
После этого Мэйсон лишь слышала гул голосов. Сердитых голосов. Они спорили о чем-то. Потом яркий свет ударил в глаза.
– Она должна выжить, доктор! – хриплым от непереносимой муки голосом сказал Ричард. – Вы понимаете? Она должна выжить!
Потом был запах алкоголя, сильная боль в спине, словно ее обожгли, потом звук от падения металлического предмета в жестяную кастрюлю. Боль растворилась в темноте.
Голос Ричарда пробился сквозь мглу:
– Мне надо доставить тебя в безопасное место. Дюваля, верно, уже вытащили из реки, и он разослал телеграммы во все концы Парижа о нашем побеге. Наверное, уже выставлены наряды на дорогах. Они заглянут ко всем нашим знакомым. Врач сказал, что тебя опасно перевозить, но мне надо вызволить тебя отсюда. Ты сможешь еще немного продержаться?
Мэйсон собрала последние силы и кивнула. Она почувствовала, как Ричард снова поднял ее и вскоре переложил на что-то мягкое, а потом завернул в несколько одеял.
– Я взял у врача карету, – сказал Ричард. – Постараюсь везти как можно медленнее.
Заботливость его тона убаюкивала, давая Мэйсон ощущение безопасности и благополучия. В одеялах ей было тепло, уютно и сухо. Но куда он ее вез? Ричард ехал довольно медленно, и приятные ощущения продолжались. Словно издалека Мэйсон слышала голос Ричарда, его глубокий баритон. Она не могла расслышать, что он говорит, но это было не важно.
Прошло время. Сколько времени – Мэйсон не знала. Kaретa плавно остановилась.
– Добрый вечер, господа, – сказал Ричард.
– Вылезай, – ответил мужской голос. – Мы должны обыскать карету.
– Заставляют работать в такую погоду? – сухо заметил Ричард. – Какое свинство.
– Отойди в сторону и помолчи.
Через мгновение Мэйсон услышала стук как от глухого удара, затем шум драки и тревожные крики. Затем ружейные залпы.
«Господи, сохрани его!»
Кто-то снова прыгнул на козлы, щелкнула плеть, и лошади пустились в галоп. Теперь Мэйсон уже бросало из стороны в сторону, и было очень больно. Спустя какое-то время она почувствовала липкое тепло и поняла, что из раны вновь пошла кровь.
После нескольких минут бешеной гонки по ночным улицам карета резко остановилась. Мэйсон почувствовала, что чьи-то сильные руки подняли ее, это был Ричард.
– Ты снова в крови. Я должен пережать рану рукой, поэтому остаток пути мне придется тебя нести. Теперь уже недалеко. Не засыпай, держись за меня.
Ричард прижал Мэйсон к себе и побежал. Вскоре дыхание его стало сбивчивым. Мэйсон почувствовала, что вновь проваливается в темноту.
И, словно догадавшись, что она теряет сознание, Ричард снова заговорил с ней:
– Я не знаю, почему так с тобой обращался. Я никогда себя не понимал, как не понимал, почему делаю то, что делаю. Но одно я знаю. Я люблю тебя, Мэйсон. Я никогда никого не любил. Я не могу тебя потерять. Не могу! Держись, любовь моя. Держись…
Наконец Ричард остановился, опустился на колени, продолжая держать Мэйсон на руках. Он дышал так тяжело, словно легкие его вот-вот разорвутся.
– Мы сделали это, – выдохнул он.
– Где мы?..
– В Бельвиле.
Ричард дождался, пока его дыхание вернется в норму, затем снова поднялся, держа Мэйсон на руках. Стук в дверь. Голоса. Мягкая кровать. Привкус коньяка на губах. Осторожно, бережно снимают одежду. Моют губкой. Меняют бинты. И снова мрак.
Мэйсон чувствовала, что кто-то сидит рядом с ней на кровати. Прикосновение губ к щеке. Ричард. Затем он лег рядом и нежно обнял ее.
И вновь Мэйсон накрыла чернота. Но каждый раз, просыпаясь ночью, она чувствовала присутствие Ричарда, теплоту его объятий.
Глава 26
Темнота. Уютный, укромный кокон. Затем где-то вдали неровный свет. Голоса.
– Не могу смотреть, как она мучается. – Это голос Ричарда.
И затем другой голос, голос человека постарше, голос француза:
– У нее очень высокая температура. Боюсь, рана инфицирована. Я оставлю микстуру. Она должна принимать по столовой ложке каждые три часа.
Мэйсон открыли рот. Горькая жидкость течет по горлу.
– Она будет спать спокойнее.
И снова Мэйсон провалилась в темноту. И тогда она увидела себя со стороны, словно была в театре и смотрела спектакль. Летний день в Массачусетсе. Небо синее-синее. Беззаботная девочка бегает в лесу босиком. Возвращается домой по мосту с навесом – в белый дом с остроконечной крышей и зелеными ставнями. Бежит наверх, к матери, в студию. Мама сидит у окна и рисует. Обхватив руками коленки, Мэйсон, беззаботная и обласканная теплом материнской любви, завороженно смотрит на то, как мать выдавливает из тюбика краски на палитру, смешивает с другими цветами, чтобы получить нужный оттенок. Как любовно кладет мазки на холст. Тихим голосом объясняет ребенку, что она делает.
– Почему ты все время рисуешь, мама?
– Пытаюсь принести немного красоты в этот жестокий мир.
Внезапно Мэйсон почувствовала, словно ее вырвали из этого уютного мирка, и тело свела боль. Сверху полился свет, послышались голоса. Но на этот раз другой мужской голос, смутно знакомый. Гангстер Даргело?
– Я должен вас обоих отсюда вывезти. Шпики обыскивают каждый дом в Бельвиле. Надо найти для вас более безопасное убежище.
И снова голос Ричарда:
– Я не уверен, что Мэйсон это выдержит. Боюсь, мы ее потеряем.
– Оставаться здесь опасно. Есть еще одно место, в двух кварталах отсюда. Там на чердаке – потайная комната. Там вас никогда не найдут.
Тишина. Затем снова голос Ричарда у самого уха:
– Нам надо тебя взять и перенести в другое место. Тебе может быть больно, но это ненадолго, обещаю. А уж потом я прослежу за тем, чтобы никто и ничто не причинили тебе боль. Держись, любовь моя. Продержись еще немного ради меня.
Мэйсон почувствовала, как ее подняли. Снова резкая боль. Мэйсон услышала собственный крик. Но боль быстро исчезла, и она почувствовала, что соскальзывает в небытие, где боли не существует.
Мэйсон снова увидела себя со стороны, но на этот раз она была старше, взрослее. Она увидела, как выходит на пристань в Гавре. Мечтая о славе. Готовая на все, чтобы добиться успеха и признания. Готовая уцепиться за любую возможность, чтобы подняться над толпой, чтобы добиться признания. И вот оно: искушение. Как перед ним устоять? Ставки сделаны, и слава пришла к ней. Но, сама не ведая того, что творит, Мэйсон поставила на кон не только свою жизнь, но и жизнь тех, кого больше всех в этом мире любила. И вот не одна она, а самые дорогие ей люди находятся в отчаянном, безвыходном положении. Лизетту ждет гильотина, Ричард, словно загнанный зверь, прячется от преследователей, а она, Мэйсон, медленно умирает на чердаке в Бельвиле от пули полицейского.
Как все это произошло? Что за демон жил в ней, кто довел ее до этой точки? Откуда все началось?
И вновь Мэйсон почувствовала, как что-то вытягивает ее из этого мира без боли, без физической боли. Свет ослепил ее, она услышала голос Ричарда:
– Мне кажется, она приходит в себя.
Мэйсон открыла глаза и увидела изможденное лицо с недельной щетиной и красными усталыми глазами. Другой голос, голос врача, сказал:
– Жар спал. Я думаю, что она все же выживет. Попробуйте заставить ее поесть немного супа.
Мэйсон так и не смогла ничего сказать. Она почувствовала прикосновение ложки к запекшимся сухим губам и затем вкус чего-то солоноватого и теплого, похожего на куриный бульон. Мэйсон проглотила бульон и почувствовала приятную сытость. И снова провалилась в черноту.
Она видела себя стоящей рядом с матерью на фоне холмистого пейзажа Пенсильвании. Мирное зеленое пастбище было все в продольных шрамах – белые могильные плиты, уходящие в бесконечность. Внимая рассказу матери, Мэйсон воочию слышала жалостное ржание коней, гром пушек, крики раненых и умирающих. Она видела слезы в глазах матери, когда та опустилась на колени, взяла в горсть земли и уткнулась в нее лицом, рыдая навзрыд.
– Вот что мы сделали. Несмываемое пятно на нашем имени. Вот то проклятие, что ты должна снять с нашего рода.
* * *
Мэйсон очнулась.
Она не сразу поняла, где находится. Низкий скошенный потолок. Железная кровать. Окон нет. Одинокая керосиновая лампа.
Мэйсон почувствовала что-то теплое и влажное. Ричард, все такой же измученный и заросший, протирал влажной губкой ее ноги. Медленно, борясь со слабостью, Мэйсон потянулась к нему, бормоча его имя. Он повернулся и посмотрел на нее. Когда Ричард увидел, что она пришла в сознание, слезы заволокли его глаза.
Он уронил губку и, наклонившись к Мэйсон, взял ее голову в ладони, стал покрывать поцелуями ее лицо. Он был похож на приговоренного к смерти, внезапно получившего помилование.
– Ричард, – повторила Мэйсон едва различимым шепотом.
– Не пытайся говорить, любовь моя. Ты прошла через ад. Не торопись.
– Что-то… что-то случилось. Мне надо… сказать тебе.
– Потом. Потом. Еще будет время. Я так боялся, что потеряю тебя.
Он держал ее так крепко, словно боялся, что она исчезнет, если ее отпустить.
Мэйсон погладила Ричарда по голове.
– Теперь все будет хорошо, – сказала она. – Только не отпускай меня.
Ричард присел рядом на кровать и снова обнял ее теперь осторожно, чтобы не причинить боль. Уткнувшись губами в ее волосы, он заговорил тихо, проникновенно:
– Когда я подумал, что теряю тебя, мне расхотелось жить. Я и представить не мог, что в жизни кто-то станет для меня настолько дорог. Я люблю тебя так сильно, что сам боюсь этого чувства. И при мысли о том, что это из-за меня ты так страдаешь… – Голос его сорвался.
– Нет, – запинаясь, ответила Мэйсон, – это я… я это сделала. Из-за меня все это случилось. Теперь я понимаю. Я хотела… должна была… тебе рассказать.
Ричард крепче обнял ее и погладил по волосам.
– Теперь это все не важно. Ничто не важно – важно лишь то, что с тобой все будет в порядке. Мы не будем пока ни о чем говорить. Сначала надо, чтобы ты поправилась. Это сейчас для меня главное.
Ричард продолжал нежно целовать Мэйсон, шептать ей всякие ласковые слова, и она уснула, убаюканная звуком его голоса.
Но вскоре она проснулась в страшном волнении.
– Прости, – сказал Ричард в темноте. – Это я тебя разбудил. Очередной кошмар. Мне не надо было здесь спать.
Мэйсон протянула к нему руку:
– Нет, я хочу, чтобы ты был рядом.
– Обычно это случается раз в неделю, не чаще. Я не думал, что кошмар повторится так скоро.
– Хотелось бы мне сделать так, чтобы они больше никогда к тебе не приходили, – пробормотала Мэйсон.
Прошло несколько дней. По мере того как Мэйсон обретала способность больше есть, силы начали к ней возвращаться. Она все еще была слаба, но голова была ясной, как никогда. Ричард продолжал кормить ее с ложечки и после того, как Мэйсон смогла есть сама. Казалось, забота о ней доставляла ему удовольствие. Он нашел томик Бальзака и ночью читал ей, лежа рядом, убаюкивая Мэйсон своим голосом. Это время она любила больше всего. Никто не читал для Мэйсон вслух с тех пор, как много лет назад умерла ее мать.
Несколько раз Даргело подходил к двери расстроенный, вне себя от горя, но Ричард спускался с ним вниз и разговаривал внизу. Он не хотел, чтобы новости из внешнего мира мешали выздоровлению Мэйсон. Всякий раз, когда она задавала вопросы про Лизетту, Ричард уходил от ответа.
– Потом у нас еще будет много времени обо всем поговорить.
Наконец Мэйсон смогла встать с кровати и осторожно прошлась по комнате. Когда этот рубикон был перейден, она решила, что пришло время рассказать Ричарду о том, чему научило ее пограничное состояние. Что узнала она о себе, когда находилась между двумя мирами.
– Мне нужно поговорить с тобой, – сказала Мэйсон.
Ричард посмотрел на нее, словно оценивая, насколько она окрепла.
– Ты уверена, что набралась достаточно сил?
– Мне надо выговориться. Тогда я буду чувствовать себя намного лучше.
– Хорошо.
– Видишь ли, не тебя одного преследует проклятие. У меня тоже есть скелет в шкафу. Я думаю, что, наконец, готова тебе рассказать о нем. Уезжая из дома, я думала, что навеки прощаюсь с этой тайной. Я думала, что сожгла все мосты. Никто об этом не знает. Никто – даже Лизетта. Так бывает, теперь я это знаю: думаешь, что можешь забыть, свести счеты с прошлым. Делаешь для этого все. Но человек только считает себя всесильным, на самом деле он слаб. И прошлое настигает его, преследует. Оно будет возвращаться до тех пор, пока ты не найдешь в себе силы повернуться к нему лицом и взглянуть в глаза кошмару. Иными словами, я хочу рассказать тебе о том, что сделало меня художницей.
Ричард взял стул, поставил его перед кроватью и уселся на него.
– Я готов выслушать твою историю.
Мэйсон нервно сглотнула.
– Говорят, что в жизни каждого художника есть какая-то рана, душевный надлом. Эта рана, эта сосущая пустота и рождает ненасытную жажду творить, ибо этот зияющий свищ может излечить, пусть на время, лишь акт творчества. Если ты спросишь у художника, что это за рана, когда она появилась, то, скорее всего, он не ответит тебе на вопрос. Тот надлом, как правило, происходит с человеком в детстве, когда душа его еще нежна и восприимчива и не успела обрасти панцирем. Этот надлом может быть вызван чем угодно – случайный эпизод, который ребенок вскоре забывает, но шрам остается. Бывает и так, что человек точно знает, что с ним случилось и когда, потому что произошедшее слишком серьезно и глобально, чтобы быть забытым. Раньше мне не хотелось думать об этом, искать переломный момент, потому что поиски и воспоминания были сопряжены с болью. Но когда я лежала тут, и меня мотало между тем миром и этим, я увидела все воочию и поняла, что это за семя, из которого выросла вся моя жизнь.
Мэйсон взглянула на Ричарда и увидела, что он слушает ее с напряженным вниманием.
– Твоя мать?
– Это случилось, когда мне было лет тринадцать. Отец уехал по делам. Когда я вернулась домой из школы, то увидела большую дорожную сумку. Уже собранную. Мама была в мрачном настроении, в котором часто пребывала после того, как отец на нее накричит. А он постоянно пенял ей на то, что она все время посвящает живописи, вместо того чтобы заниматься мной, им и домом. И вот мама сообщила мне, что мы отправляемся в поездку. Когда я спросила маму, куда мы едем, она сказала, что хотела бы показать мне нечто важное. Нечто такое, что мой отец мне никогда не покажет, но что я обязательно должна увидеть своими глазами. И вот мы сели на поезд и отправились в Пенсильванию. Туда, где за год до моего рождения произошло сражение, получившее название Геттисбергское сражение. Ты знаешь, о чем я говорю?
– О битве времен Гражданской войны. Переломный момент.
– Все было так странно. Насколько я знаю, моя мать тоже никогда раньше там не бывала. Но она успела изучить все аспекты кампании и знала каждый дюйм поля битвы. Она устроила мне экскурсию по этому полю, так живо описывая то, что там происходило, что я воочию видела летящие ядра, чувствовала запах горелой плоти, слышала крики умирающих воинов.
Глаза Ричарда зажглись узнаванием.
– Твой автопортрет. На заднем плане Геттисберг.[6]
– Да. Я не понимала, зачем мама все это мне показывает. Но потом она опустилась на колени, взяла в ладонь горсть земли… и сказала: наш дом, каждый кусочек хлеба, что мы едим, все, что носим, – все это плоды того побоища. Это мы сделали. Мы нажились на крови погибших солдат. И во всем мире не сыщется в достатке воды, чтобы смыть эту грязь с наших душ.
Глава 27
Мэйсон замолчала, морщась от боли. Ричард протянул руку и сжал в ладонях ее ладонь.
– Как можно такое сказать ребенку!
– Но все, что сказала мама, – правда.
– Как это может быть правдой?
– Во-первых, я должна признаться тебе, что родилась я не в Бостоне. Я это все придумала. Моя семья родом из Гринфилда, что на другом конце штата.
– Поэтому в Бостоне не нашлось никаких записей о Мэйсон Колдуэлл.
– Когда я приехала во Францию, я хотела похоронить прошлое, поэтому придумала для себя новую биографию. Гринфилд – мой дом. Когда в 1860 году мои родители поженились, отец владел небольшим плавильным цехом. Он учился на оружейника, и у него был настоящий талант механика. Он также, как оказалось, обладал недюжинным талантом коммерсанта. Как бы там ни было, когда на следующий год после свадьбы моих родителей началась война, отец, как и многие владельцы мелких мануфактур в Новой Англии, переоборудовал свой цех под нужды войны. Но он сделал это с большим воображением и мастерством, чем его конкуренты, и к 1862 году литейный цех Амоса Колдуэлла была самым крупным предприятием по производству оружия в штате Массачусетс. К следующему году он уже был главным крупным производителем оружия во всей Новой Англии. Почти все оружие, которое использовалось в Геттис-Овергском сражении, битве при Чикамоге и Вайлдернесе, было сделано нами.
– Кто-то должен был производить оружие, – заметил Ричард.
– Не пойми меня неправильно. Вначале мы гордились этим, даже хвастались. В честь моего отца устраивались приемы. Сам президент Линкольн наградил его медалью и похвальной грамотой. Наши соседи хотели выдвинуть его в конгресс. И такое отношение продолжалось в течение нескольких лет после войны. Но потом, постепенно, это отношение начало меняться. Из зависти к состоянию моего отца многие добрые люди в Гринфилде начали шептаться о том, что богатство свое он нажил на крови молодых американцев. Когда мне было десять лет, бостонская газета напечатала длинную статью, в которой перечислялись все сражения, послужившие росту состояния Колдуэллов, с указанием числа погибших в каждой из этих битв. Вскоре после этого обезумевшая женщина, потерявшая в битве при Шило троих сыновей, остановила моего отца на улице и публично назвала его убийцей.
Ричард сжал руку Мэйсон.
– Это несправедливо.
– Справедливо или нет, подобные случаи стали повторяться с пугающей регулярностью. И мать, и отец принимали все это близко к сердцу. Отец старался делать вид, что его это не трогает, но о том, что происходило у него внутри, можно было лишь догадываться. Он становился все более желчным, злым и пристрастился к алкоголю. Мама, будучи очень чувствительной и артистичной натурой, была близка к саморазрушению. Все так называемые подруги ее бросили. Она стыдилась нашей состоятельности, того, что имели мы и не имели другие, того, что скрывали мы от мира за высоким забором нашей усадьбы. Мать стала фаталисткой. Часто она повторяла одни и те же слова: «Твой отец хотел стать самым крупным промышленником в Новой Англии, и он преуспел. Будь осторожна со своими желаниями, Мэйсон». Следующие десять лет нашей жизни были особенно трудными. Мама, наконец, раскрыла мне глаза. Я узнала о той печати позора, что лежала на нашей семье, когда мне исполнилось тринадцать. Когда она отвезла меня в Геттисберг. Она хотела, чтобы я поняла, в тени какой тучи я родилась, и осознала, что своей жизнью я должна каким-то образом смыть это позорное клеймо, это семейное проклятие. Мама научила меня рисовать и работать маслом, и я с самого начала влюбилась в живопись. Мне нравились покой и умиротворение, нравилось, когда мы обе тихо писали вместе. То был способ уйти от мира, который мне теперь казался уродливым и страшным. Мама возила меня с собой на художественные выставки в Бостон и Нью-Йорк, чтобы показать, что делают другие художники. Это было чудесное время. Но всякий раз, когда мы возвращались, нам приходилось расплачиваться. Отец обвинял мать в том, что она пытается сделать из меня такую же чокнутую, как она сама. Он говорил мне, что живопись сделает меня жалкой, такой же, как мать. Между тем отец пил все больше.
Он тоже пытался вырваться из враждебного окружения, но по-своему…
– Что в конечном итоге стало с твоими родителями? – спросил Ричард.
– Мать умерла, когда мне исполнилось восемнадцать. Я винила в том отца. Я наговорила ему такого, что и представить страшно. Я сказала ему, что он убил ее, как в свое время убил тех мальчишек в Геттисберге. Я действительно это сказала.
Отец был раздавлен моими словами, потому что, как я теперь понимаю, он любил меня. Но тогда я видела в нем лишь источник наших бед. Я взяла и выплеснула ему в лицо все, что о нем думала. У моей матери было небольшое состояние, которое она унаследовала от своих родителей, и она мне его завещала. Я получила наследство и отправилась в Бостон, а затем в Париж.
Когда я уезжала из страны, отец попытался дать мне денег, но я не взяла их. Я сказала, что не притронусь к его кровавым деньгам. С тех пор мы больше ни разу не говорили. Несколько лет назад я получила письмо от поверенного отца, в котором сообщалось, что он утонул во время кораблекрушения у берегов Бразилии.
– Корабль назывался «Симон Боливар»?
– Откуда ты знаешь?
– Об этой катастрофе много писали. Тогда действительно погибло много народу.
– Мой отец был одним из тех людей.
– Выходит, вы так и не помирились?
– Нет. И сейчас я понимаю, как была несправедлива, взвалив на отца вину за жестокости войны. В конце концов, он служил своей стране и хотел покончить с рабством. Несправедливо было делать из него козла отпущения только за то, что он преуспел в своем деле. Жаль, что я ему этого не сказала. Но в то время мне не хотелось ему этого говорить. В тот момент мне хотелось лишь отстоять честь матери и смыть пятно позора с нашей фамилии. Я подумала, что, если я смогу найти способ собрать весь ужас моего прошлого и переплавить во что-то красивое, мир меня за это полюбит. Через какое-то время ко мне пришло это видение. Но его было недостаточно. Потому что, какое бы удовлетворение в связи с этим не испытывала я лично, миру было глубоко наплевать на мои проблемы.
Ричард нежно улыбнулся:
– Зато теперь они поняли.
– Да, поняли. Потому что я лгала и мошенничала, потому что я решила прийти в бессмертие коротким путем, срезав углы. Вот об этом я и пытаюсь тебе сказать. Мое прошлое, мое детство и юность оставили у меня в душе зияющую пустоту. И потребность заполнить эту пустоту привела меня в Париж, заставила меня творить, а когда подвернулась возможность, подвигла схватить удачу за хвост: глядишь, вывезет. Но правда, к которой я пришла, состоит в том, что слава, хоть и пришла ко мне, не заполнила пустоту. Она, эта слава, лишь заставила меня испытать еще большую неприкаянность, и она, эта слава, привела нас к тому, что мы сейчас имеем. Если меня чему-то и научила вся эта авантюра, так только тому, что успех, известность и деньги не панацея. Ни от чего не панацея. Вместо того чтобы заполнить пустоту в моей душе, они сделали эту дыру больше. Единственное, что может заполнить пустоту, – любовь. Моя любовь к тебе. Остальное просто бессмысленно. Вот что я поняла. Вот чему научил меня мой опыт.
– Возможно, ты просто сейчас все это так воспринимаешь, но…
– Нет. Своими картинами я избавлялась от той темной, непонятной тоски. Теперь они для меня ничего не значат. Они просто нечто. Я теперь на другой стороне. Ты, Ричард, излечил меня от потребности выражать то свое видение, излечил от потребности получать хорошие оценки за старания. Любовь к тебе научила меня тому, что пустоту в душе мы заполняем, отдавая любовь, а не получая ее от других.
Глаза Ричарда подернулись дымкой. Он вытянулся рядом с Мэйсон на кровати и обнял ее.
– Спасибо, – хрипло проговорил он. – Спасибо за то, что доверяешь мне, что делишься со мной самым сокровенным.
Спасибо, что любишь меня. Я даже не могу выразить, что чувствую.
Мэйсон прижалась к Ричарду, а он ласково гладил ее по волосам. Мэйсон чувствовала, как сердце ее переполняется любовью к нему.
– Я рассказала тебе о своем проклятии. Почему бы тебе не рассказать мне о своем?
Рука Ричарда замерла. Затем он прижал Мэйсон к себе теснее и поцеловал в макушку.
– Ты устала, – сказал он. – Тебе надо поспать. Я не хочу, чтобы ты думала о чем-то тяжелом. Просто позволь мне позаботиться о тебе.
К концу недели Мэйсон почувствовала себя почти здоровой. И необходимость сидеть в укрытии уже немного ее раздражала. Однажды утром дверь внезапно широко открылась, и свора собак влетела в комнату. Псы прыгали на кровать, лизали лицо Мэйсон, и каждый стремился завладеть ее, Мэйсон, вниманием. Собаки Лизетты! Мэйсон уже справлялась о них и узнала, что Даргело спас их после ареста Лизетты и перевез в свою квартиру в Бельвиле, где Хьюго о них заботился.
Ричард вышел следом за собаками.
– И тебе надо подышать свежим воздухом. Я подумал, что мы могли бы оказать добрую услугу и себе, и этим ребятам, если бы взяли их на прогулку.
При виде любимцев Лизетты Мэйсон не могла не вспомнить о лучшей подруге. Лизетта в страшной беде, и эту беду на нее навлекла она, Мэйсон! Мэйсон обняла каждую из собак и поцеловала. Как, должно быть, Лизетте не хватает общества ее любимцев!
Они прошлись по улице Бельвиль вниз, потом свернули к парку, откуда открывался потрясающий вид на Париж с востока. Пока собаки резвились на зеленой травке, Мэйсон и Ричард любовались золотистым куполом Дома инвалидов и далеко вдали остроконечной верхушкой Эйфелевой башни.
Мэйсон взяла Ричарда за руку.
– Как нам быть с Лизеттой? – спросила она.
– Я не знаю, что мы можем сделать.
– Я не смогу жить, если с ней что-то случится.
– Она девушка умная, найдет способ защитить себя. Лизетта знает правду и скажет ее прежде, чем ступить под гильотину.
– Ты совсем ее не знаешь. Лизетта – это сама Франция, противоречивая, удивительная и чудесная. Она то не пускает тебя к себе, годами держит на расстоянии, но потом, когда примет тебя, становится другом, более верным, более преданным, чем самые лучшие из нас, американцев. Говорю тебе, она пойдет под нож, не сказав ни слова в свою защиту, если посчитает, что ее слово навредит мне.
– Боюсь, все может случиться именно так.
– Не может быть, чтобы не было выхода. Кто-то должен нам помочь! Пресса. Американский посол. Кто-нибудь, кто согласится нас выслушать!
– Дюваль узнает об этом еще до того, как мы доскажем историю до конца. Стоит нам предпринять такую попытку, и он сделает все, чтобы себя обезопасить. Да он пристрелит нас при всем честном народе. Сейчас он только о том и думает, как бы нас сцапать.
– А как насчет Джуно? Он может что-нибудь сделать?
– Видит Бог, он из кожи вон лезет, чтобы помочь Лизетте. Даргело вне себя от горя. Я лишь могу попытаться уговорить его не делать глупостей.
– Он знает, кто я на самом деле такая?
– Нет. Я подумал, что лучше не усложнять ситуацию. Он думает, что ты Эми и что за тобой охотятся.
Мэйсон в отчаянии покачала головой:
– Должен быть какой-то выход. Я просто не могу сидеть сложа руки.
– Лизетте не позавидуешь, это верно. Но без суда не казнят даже во Франции. Так что гильотина ей пока не грозит. У нас еще есть в запасе немного времени. А вот другие дела не терпят отлагательств.
– О чем ты? – в недоумении спросила Мэйсон.
– Французское правительство конфисковало картины.
– Я знаю.
– Мы должны их вернуть.
– Картины?
– Они украли их у нас, мы выкрадем их у них.
Мэйсон не верила собственным ушам.
– Тебе все еще нужны эти картины?
– Конечно, нужны.
– Разве ты не слышал ни слова из того, что я тебе рассказала? Меня больше не интересуют эти картины. Что касается меня, пусть делают с ними все, что заблагорассудится.
– Я слышал тебя, я тебя понимаю. Но ты тоже должна понять: какие бы чувства ни питала ты к этим картинам сейчас, они шедевры. Они часть тебя и представляют ценность для искусства, для мира. На нас лежит ответственность за то, что с ними случится. Мы не можем снять с себя эту ответственность.
– Даже если это так, как ты намерен осуществить кражу?
– У нас в союзниках Даргело и весь преступный мир Парижа. Мы найдем способ.
– Хорошо. Допустим, случится невозможное, и мы вернем картины. Что потом?
– Мы доставим их Хэнку, а он переправит их в Америку. Мэйсон смотрела на Ричарда и не верила своим глазам.
После всего, что с ними случилось, главным для него по-прежнему оставались картины!
Все надежды ее потерпели крах.
Мэйсон долго молчала. Затем, глубоко вздохнув, сказала:
– Ричард, я раскрыла перед тобой тайну моего прошлого. Почему ты не откроешь мне свою тайну?
– Мне нечего тебе сказать, – ответил Ричард.
– Ты мог бы рассказать мне о своих кошмарах. Я знаю, они мучают тебя, снедают изнутри. Они приходят к тебе все чаще и чаще. Ты стараешься спрятать их от меня, но я знаю, что тебе плохо. Разве ты не можешь сделать над собой усилие и открыться мне?
Мэйсон видела, как напряглись мускулы его лица. Затем Ричард взял обе ее руки в свои:
– Я знаю, что ты стараешься мне помочь. Но ты должна понять, я на самом деле не хочу говорить о своих кошмарах. Это не потому, что я что-то от тебя скрываю. Просто потому, что эти кошмары и сами по себе осложняют мне жизнь. Не хватало еще, чтобы то, что отравляет мое существование по ночам, терзало меня еще и днем. Они уходят, мои кошмары. Я обнимаю тебя, и все снова в порядке. Пожалуйста, Мэйсон, не усугубляй моих проблем. Пожалуйста. Если ты хочешь мне помочь, подумай о том, как вернуть твои картины.
Сердце Мэйсон сжалось от тревоги за Ричарда, от любви к нему. Еще очевиднее стал тот факт, что он остается пленником своего прошлого, и ее назначение – освободить его из этого плена.
Глава 28
Суд над Лизеттой начался в начале июня. Лизетта с гордо поднятой головой упорно и храбро молчала. В сером тюремном платье она вышла из тюремного фургона и, со всех сторон окруженная полицейскими, прошествовала во Дворец правосудия мимо стаи репортеров и досужих зевак.
Заседание суда должно было проходить при закрытых дверях. Допускались лишь судебные чиновники. Все должно было проходить в строжайшей тайне. За такие крайние меры ратовало само министерство юстиции, поскольку дело вызвало слишком сильный и эмоциональный отклик в обществе, а дальнейшее нагнетание ажиотажа могло бы закончиться уличными беспорядками, недопустимыми в то время, когда в Париже было столько гостей со всего света. Была еще одна причина: у подсудимой имелись определенные связи в преступном мире, так, что существовала вероятность организации побега.
Несмотря на закрытый характер процесса, в прессу просочились сведения о том, что суд будет недолгим. Как было замечено в редакторской колонке «Фигаро», обвинение строило свою линию на трех главных составляющих.
Во-первых, это были свидетельские показания неких двенадцати свидетелей, которые видели подсудимую вместе с жертвой в кафе «Тамбурин» в ночь смерти последней. По их показаниям, Лизетта усердно потчевала свою подругу алкоголем и даже настояла на том, чтобы Мэйсон выпила очень крепкий и опьяняющий ликер абсент.
Во-вторых, это было показание молочника, который видел подзащитную, стоявшую на мосту Альма вместе с погибшей художницей за несколько мгновений до того, как покойная оказалась в Сене.
В-третьих, имел место тот факт, что после смерти своей подруги, воспользовавшись ее посмертной и внезапной славой, Лизетта немедленно стала искать способа поживиться на ее кончине, незаконно овладев картинами покойной и даже продав несколько картин неизвестным коллекционерам.
Против подсудимой говорил и тот факт, что она наотрез отказалась сотрудничать с правосудием, как отказалась и выступать на суде. Прошел слух о том, что Лизетта вовсе не намерена была защищаться. Когда пришла пора выступать стороне защиты, назначенный судом адвокат вынужден был встать и просто пожать плечами.
Читая отчеты в газетах, Мэйсон сходила с ума от горя. Но она была не одинока в своем несчастье. Телохранитель Лизетты, Хьюго, часто навещал Мэйсон и делился с ней своими переживаниями. Только вдесятером смогли полицейские, пришедшие арестовать Лизетту, справиться с Хьюго. На теле его все еще оставались синяки – следы полицейских дубинок. Но Хьюго все равно считал себя виноватым в том, что Лизетту арестовали. Чувство вины так мучило бедного Хьюго, что он много раз умолял Даргело пустить ему пулю в лоб. Даргело, однако, не считал Хьюго виноватым. Он сам был вне себя от горя. Ему не терпелось немедленно что-то предпринять, сделать что-нибудь, лишь бы спасти Лизетту. Он попытался отправить в суд своего личного адвоката, но Даргело недвусмысленно дали понять, что адвокат его не будет допущен в суд. Тогда Даргело стал собирать свою маленькую армию, чтобы штурмовать суд и вызволить Лизетту. А там будь что будет.
Со своей стороны Ричард не забывал о несчастье, постигшем Лизетту, и сам немало переживал из-за нее. Его голос был единственным голосом разума среди разгула эмоций. Он повторял, что штурм суда, скорее всего, закончится неудачей, погибнут все, в том числе и Лизетта.
Ночь за ночью Ричард, Даргело и Мэйсон ломали головы, придумывая варианты спасения. Но, увы, ни один план не выдерживал критики. Даргело не ел и не пил, он дошел до предельной черты в своем горе, и Мэйсон начала осознавать всю глубину его чувства к Лизетте. Она искренне сочувствовала ему.
– Вам надо что-то поесть, – сказала она ему как-то ночью. – Иначе вы просто упадете замертво.
Даргело обхватил голову руками:
– Я не могу. Я не могу есть. Я не могу спать. Я не могу ни о чем думать. Когда я думаю о том, через что Лизетте пришлось пройти, как она страдает… – Он не смог продолжать.
Мэйсон обняла его за плечи. Она почувствовала, что Даргело немного расслабился, словно давно нуждался в ее сочувствии. Он похлопал ее по руке.
– Вы одна, кто меня по-настоящему понимает, – сдавленно прошептал он. – Потому что вы любите Ричарда так же, как я люблю Лизетту.
Через неделю после начала суда над Лизеттой другая связанная с Мэйсон история попала на первые полосы парижских газет. Еще несколько ранних работ жертвы убийства увидели свет, и все они были приобретены герцогиней Уимсли. Мэйсон было не до картин, но Ричард отреагировал бурно. Прочитав статью, он бросил газету на стол и сказал:
– Рынок наводнен этими чертовыми подделками. Ты была права. Стоило прекратить все это в самом начале.
– Я не понимаю. Зачем кому-то продолжать их подделывать, и зачем Эмме продолжать их покупать? Разве французское правительство не дало понять со всей ясностью, что конфискует любую работу, на которой стоит моя подпись?
– Я знаю зачем, – сказал Ричард.
Мэйсон ждала продолжения, но Ричард ничего не стал объяснять. Он просто сидел и молчал. У Мэйсон сложилось впечатление, что он придумывает какой-то план. Но что он мог по этому поводу предпринять?
Ее удивило и озадачило то, что именно сейчас, в разгар таких трагических событий, наличие подделок так его всколыхнуло.
Мэйсон решила подождать и посмотреть, что он предпримет. Ждать долго не пришлось.
В ту же ночь, примерно через час после того, как они легли, решив, что Мэйсон уже спит, Ричард тихонько выскользнул из-под одеяла за дверь, прихватив с собой одежду. Как только дверь за ним закрылась, Мэйсон встала и быстро оделась. Затем она на цыпочках спустилась вниз на три лестничных пролета и успела как раз вовремя. Ричард выходил за дверь.
Мэйсон, крадучись, пошла за ним. Он исчез за углом улицы Бельвиль. Было еще не слишком поздно для Парижа, и пешеходов все еще хватало, так, что Мэйсон не составило труда остаться незамеченной, следуя за Ричардом на почтительном расстоянии. У границы Бельвиля он нанял кеб и направился на запад. Мэйсон тоже взяла кеб и велела вознице следовать за Ричардом.
Когда, проехав через весь центр, он оказался в шестом округе, у Мэйсон не осталось сомнений. Ричард спешил на встречу с Эммой. Когда его экипаж въехал во двор особняка Галлери, Мэйсон тоже вышла из кеба и пошла следом за Ричардом, стараясь держаться в тени. Освещение здесь было скудное, и, когда Ричард расплатился с извозчиком и подошел к двери, Мэйсон удалось спрятаться в тени дерева в нескольких ярдах от входа.
– Ричард! – радостно воскликнула Эмма. – Ты пришел! – Она говорила взволнованно, с придыханием.
Ее явно переполняли чувства.
– Разве ты не этого добивалась?
– Я надеялась, но потом начала думать, что ты перестал понимать намеки.
– Я подумал, что лучше мне зайти и посмотреть, что ты на этот раз затеяла. – Он говорил словно бы самым обычным тоном, но что-то едва уловимое в его голосе сообщало Мэйсон, что Ричард отнюдь не спокоен.
Эмма открыла дверь шире, из просвета хлынул поток света. В тот момент, когда Ричард ступил за порог, Мэйсон залезла в сумочку и достала визитку. Затем, когда Эмма закрыла за ними дверь, Мэйсон поспешила выйти из своего укрытия и встала боком к двери, просунув между замком и косяком карточку, чтобы замок не защелкнулся.
Мэйсон подождала несколько секунд, затем приоткрыла дверь и заглянула внутрь. К этому моменту Ричард и Эмма уже перешли в салон, холл был пуст.
Мэйсон осторожно вошла, убедившись, что дверь не хлопнула, затем на цыпочках подкралась к двери салона и заглянула внутрь.
– Насколько я понимаю, ты используешь этот особняк в качестве стрельбища? Оттачиваешь, так сказать, мастерство, – заметил Ричард нейтральным тоном.
– Ах, ты про то недоразумение… Давай про него пока забудем. Ты же знаешь, я не люблю сюрпризов. Ты хотел бы посмотреть на картины? Они здесь. Я расставила их в том порядке, в котором бы хотела, чтобы ты их увидел. Нет-нет, не сюда. Начнем с этой.
Мэйсон смотрела, выглядывая из-за двери, как они прохаживаются по комнате, вдоль стен которой стояли картины – шесть картин. Мэйсон казалось, что молчание длится вечность. Ричард переминался с ноги на ногу, но он казался ошеломленным увиденным.
Наконец голосом, который изобличал показную уверенность, Эмма сказала:
– Еще ничто из того, что я делала, не давалось мне с такой легкостью и не дарило такого удовлетворения. Впервые я не просто копировала стиль, я создавала, оставаясь в рамках этого стиля. Я лишь надеюсь, что ты тоже это чувствуешь.
Что она говорит? «Эмма сама подделывала работы?»
– Использование дополняющих цветов в этой работе действительно впечатляет, – заметил Ричард, как истинный профессионал. – Из тебя получился отличный колорист.
– В самом деле? Ты так думаешь? – Теперь в голосе Эммы звучала неподдельная радость.
«Я что, схожу с ума? – думала Мэйсон. – Ричард действительно обсуждает эти фальшивки с женщиной, которая их произвела, с такой непосредственной небрежностью, словно они гуляют с ней по залам Дувра?»
Эмма смотрела на Ричарда с надеждой.
– Подойди и взгляни на эту работу. Она мне по-настоящему нравится. – Они проследовали к очередному холсту. – Что ты думаешь по поводу цвета зонтика?
– О да! Значительный прогресс. Я помню, что твоим слабым местом всегда была текстура света.
Со стороны их беседа звучала так, как должна звучать беседа двух давних сообщников. Они обсуждали работу Эммы с непринужденной куртуазностью двух светил медицины, обсуждающих состояние пациента.
Ричард с самого начала знал, что картины подделывает Эмма. Почему он не сказал об этом Мэйсон?
Эмма говорила тихим голосом, с интимными интонациями:
– Стиль картин не просто мне подходит, он меня освобождает. Этот стиль впервые наделил меня собственным правом художницы. И хотя у меня и помутился рассудок, когда я узнала, что она жива, теперь я вижу, что, жива она или нет, разницы для меня нет никакой. Потому что неопровержимая правда состоит в том, Ричард, что из меня получилась лучшая Мэйсон Колдуэлл, чем та, другая. Посмотри на эти картины. Ричард смотрел на холст.
– Вот это смещение композиции от центра – довольно интересное решение. Похоже на японскую технику.
Эмма просияла, словно ребенок, которому вручили золотую звезду.
– Вчера здесь был Моррель, – возбужденно продолжала она. – Он так и рассыпался в комплиментах. Он сказал, что эти картины – вершина творения Мэйсон Колдуэлл. Он считает, что они все должны быть выставлены на ярмарке в числе первых и лучших. – Она смотрела на Ричарда так, словно вручала ему свое сердце.
Мэйсон смотрела, как Ричард переходит от одной картины к другой, неторопливо изучая каждую. Наконец он обернулся к Эмме.
– Ну, хорошо, Эмма. Я на них посмотрел. А теперь скажи мне, что ты задумала?
– Разве ты не догадываешься? Я пытаюсь снова наладить наши отношения.
Ричард слегка нахмурился, не вполне понимая, о чем она говорит.
– Наладить?
– Я знаю, как сильно ты любишь искусство. Больше, чем людей, это точно. Я знаю, что ты ненавидишь меня за то, что случилось с Пуссеном. Я всегда знала, что если ты и способен кого-то полюбить, так это художника того же уровня, что и Пуссен. Я видела, как ты всего себя посвятил художнице, которую все считали мертвой. И вдруг мне все стало ясно. Как сделать так, чтобы начать все с чистого листа, как загладить свою вину и заставить тебя простить меня? Заставить тебя любить меня? Я могла бы стать Мэйсон Колдуэлл! Я могла бы показать тебе, что я больше чем копировальщица, что я настоящая художница. Я могла бы принять ее стиль и писать лучше, чем писала она. И, когда бы ты увидел картины, ты полюбил бы их, и тогда я бы сказала, что сама их написала. И ты бы гордился мной. Вот поэтому я и потеряла голову, узнав, что та женщина жива. Потому что я подумала, что все теперь пропало. Но теперь… когда ты увидел картины… я надеюсь… я молюсь, Ричард… Это уже не важно. Ты поймешь, Ричард, что, жива Мэйсон Колдуэлл или мертва, я твоя женщина.
Эмма смотрела на Ричарда с обожанием и мольбой, и слезы текли у нее по щекам.
– Ты все это делала…
– Ради тебя, Ричард. Ради твоей любви.
Какое-то время он просто молча смотрел на нее. Мэйсон сжала кулаки. Все будущее ее зависело от его реакции. Наконец он сказал:
– Эмма… Эмма. – Он покачал головой. – Все правильно, кроме одного.
Эмма моргнула.
– Что-то не так?
Ричард понизил голос почти до шепота, прежде чем сказать:
– Они… просто… не очень хорошие. Лицо Эммы стало как фарфоровая маска.
Ричард продолжал:
– В них есть рисунок, цвет, композиция. Технически они безупречны. Но под техникой ничего нет. Задний план не вызывает ничего, кроме отвращения. Центральная фигура красива, но не более того. В этих картинах нет души, нет искры. В них нет волшебства. А оно одно может превратить уродство в красоту. В них нет гениальности Мэйсон.
Повисла тягостная пауза, затем раздался голос Эммы:
– Ты сукин сын!
– Эмма, ты ведь знаешь, что я прав. В том, что касается искусства, я никогда не ошибаюсь.
Эмма ударила его по лицу. Звонкий звук пощечины эхом отлетел от стен.
В ярости она набросилась на Ричарда с кулаками, ногтями вцепилась в его лицо. Ричард перехватил запястье Эммы и заломил руки ей за спину. Затем, когда силы ее иссякли, он швырнул женщину на пол.
– Ты напрасно тратишь время, Эмма. Ты не можешь занять место Мэйсон. Ни в искусстве, ни в моем сердце.
С этими словами он развернулся и вышел. И мимо Мэйсон, успевшей шмыгнуть за колонну, он пошел прочь из этого дома.
Глава 29
Эмма лежала, свернувшись калачиком на полу, она рыдала так, словно ее мир был разрушен до основания. Всего несколько недель назад Мэйсон ушла бы молча, посчитав, что справедливость свершилась, но она изменилась за эти недели. Сердце ее открылось несчастьям других, она стала более чуткой, более отзывчивой. Слыша рыдания Эммы, Мэйсон не чувствовала ни негодования, ни гнева. Странно, если учесть, что всего несколько недель назад эта самая женщина пыталась ее убить.
Мэйсон тихо вошла в комнату и остановилась у двери, глядя на герцогиню. Плечи ее тряслись от отчаянных рыданий. Мэйсон подошла, присела на корточки рядом с Эммой и осторожно тронула ее за плечо.
Эмма вздрогнула от неожиданности и села. Глаза у нее были красные, на лице остались мокрые полосы.
– Что вы тут делаете? – прошипела она.
– Простите, я…
– Вы все слышали? – Эмма судорожно огляделась. – Ну что же, надеюсь, вы счастливы. – Она скинула руку Мэйсон со своего плеча и встала. – Я все потеряла. Все, что мечтала иметь, и все, на что надеялась. А вы… вы победили.
Мэйсон выпрямилась:
– Мне не нравится такая победа.
– Вы завоевали единственное, что имеет для меня значение.
– Мы очень похожи, вы и я, – сказала Мэйсон.
– У меня нет с вами ничего общего! – визгливо крикнула Эмма. – Ничего! Неужели вы этого не видите? Я не художница, я всего лишь никчемная копировальщица.
– Когда я впервые вас увидела, – сказала Мэйсон, – я решила, что вы самая счастливая женщина на свете. Я вам завидовала. Я мечтала получить все то, что есть у вас. Деньги, положение в обществе, уважение, уверенность. И, чтобы обрести все это, я притворилась тем, чем не являюсь. Так что в этом мы очень схожи. Мы обе самозванки. Как видите, разницы между нами нет никакой.
– Не говорите со мной так. Я хочу вас презирать. Мне необходимо вас презирать.
– И вы правы в том, что меня презираете. То, что я совершила, достойно презрения. Мне вздумалось получить то, что судьба мне не предназначила, и мне было наплевать, какими средствами я завладею желаемым. И столько людей из-за меня пострадали. Но я тоже хочу все исправить. И первое, что я могу сделать, это простить вас.
– Вы меня прощаете? Ах вы, самонадеянная нахалка! Мне не нужна ваша жалость!
– Я не испытываю к вам жалости, Эмма. Я вас понимаю. Я знаю, почему вы поступали так, как поступали. В конце концов, – тихо добавила она, – я тоже люблю Ричарда.
И тогда случилось странное: у Эммы словно не осталось сил на ненависть, на злобу и на гнев. Она разрыдалась, пряча лицо в ладони. Мэйсон подошла к ней и, когда Эмма оттолкнула ее, она все равно обняла ее и так и держала, пока Эмма не выплакалась у нее на плече. Мэйсон не пыталась ее успокоить, урезонить, не произносила ненужных слов утешения. Она просто ждала, пока со слезами не уйдет боль, пока на душе у Эммы не полегчает, пока слезы не иссякнут сами. Она обнимала соперницу, гладила ее по спине и сама чуть не плакала.
Когда Эмма наплакалась вдоволь, Мэйсон вытащила из рукава носовой платок и вытерла Эмме глаза.
– Почему вы так поступаете? После того, что я сделала… Я хотела вас убить!
Мэйсон убрала со лба Эммы прилипший локон и тихо сказала:
– Потому что я думаю, что Ричард глубоко несчастный человек. Он не знает, как освободить себя от наваждения. Я чувствую его боль, но он не желает говорить о том, что его мучает. Он не позволяет мне помочь ему. Я не знаю, что его терзает, но я вижу, что это нечто подтачивает его изнутри, калечит его тело, душу, мозг. Если все так и будет продолжаться, боюсь, он сломается. Я должна его спасти. И мне нужна ваша помощь.
– Моя? – Эмма презрительно сморщила нос. – Даже если бы я хотела вам помочь, как я могу это сделать?
– Расскажите мне о том, о чем не захотели рассказать тогда. О том, что вам известно о его прошлом.
– Он возненавидит меня за это. Впрочем, теперь это уже не важно. Но он возненавидит и вас за то, что вы строите козни у него за спиной.
– Я должна воспользоваться этим шансом. Что бы ни случилось, каковы бы лично для меня ни были последствия моего поступка, я должна ему помочь. Пока мы тут с вами разговариваем, единственное, о чем думает Ричард, – как выкрасть мои картины у французского правительства. Что-то, чего он не понимает и чем он не в силах управлять, движет его поступками. В конце концов, это его убьет. Разве вы не видите, Эмма, мы должны ему помочь. Я верю, что у нас получится. Кто еще ему поможет, если не две женщины, которые любят его? Разве вы не хотите спасти его от самого себя? Разве это не важнее всего в жизни?
Эмма смотрела на Мэйсон так, словно впервые видела. Наконец она с удивлением сказала:
– Вы действительно любите Ричарда?
– Конечно, люблю.
– Все эти годы я думала лишь о себе, о том, чего хотела я. Мне и в голову не приходило задуматься о том, что я могу сделать для него.
– Вы можете кое-что сделать для него сейчас.
Эмма с задумчивым видом прошлась по комнате.
– Мне всегда казалось, что я люблю Ричарда так, как никто его никогда не сможет полюбить, ни одна женщина на свете. Я считала, что он мой по праву. Но в действительности просто хотела его. А вы его на самом деле любите.
Мэйсон подошла к Эмме, взяла под руку и повернула лицом к себе.
– Эмма, прошу вас, ради всего святого, помогите мне помочь ему!
Эмма пристально смотрела на Мэйсон и молчала, казалось, целую вечность. Наконец она со вздохом сказала:
– Чего вы от меня хотите?
Мэйсон подошла к буфету, достала хрустальный графин с бренди, налила немного в бокал и протянула Эмме.
– Просто расскажите мне о вас с Ричардом. О нем. Все, что знаете.
Эмма сделала глоток и невесело рассмеялась:
– Я, знаете ли, не привыкла говорить правду.
– И я тоже. Мы с вами родственные души.
– Еще какие. Вы удивитесь, когда узнаете.
Эмма села на кушетку, и Мэйсон присела рядом с ней. Эмма обвела взглядом комнату в задумчивости, вздохнула и начала свой рассказ:
– Может, сейчас я и богата, как Крез, но большую часть своей жизни я была бедной. Не просто бедной – нищей. Многим и невдомек, что это такое. Нищета проникает в твою плоть и кровь, нищета отнимает у тебя достоинство, лишает воли. Когда мне было семнадцать, я уехала из Лондона, из Ист-Энда, и отправилась в Сент-Луис, где жила сестра моего отца. Я надеялась поселиться временно у нее, пока найду себе работу и жилье. Но, когда я приехала к сестре, она ясно дала мне понять, что селить меня у себя не намерена. Поэтому я решила поискать счастья на Западе.
– Должно быть, вам нелегко далось это решение. Женщина, юная, одна, без спутников…
– Нет, на самом деле все было не так уж плохо. По правде говоря, «рывок на Запад» стал для меня забавным приключением. У меня было то, что называется жизненной хваткой, И еще у меня был талант. Я умела рисовать. Я делала скетчи нa тему местных новостей, и по моим рисункам изготавливали ксилографии, а затем печатали в местных газетах. Но в основном я зарабатывала тем, что рисовала карикатуры с завсегдатаев салунов. Мои рисунки их веселили, да и платили они щедро.
– Как вы познакомились с Ричардом?
– Как-то я работала в одном салуне в городке Крид, что в Колорадо, и обратила внимание на то, что один молодой красавчик ковбой все время смотрит в мою сторону. Конечно, для меня такое было не внове, кто-то непременно пялился на меня, когда я работала в маленьких старательских городках, но на этот раз все обстояло несколько по-другому: тот ковбой смотрел на мои рисунки, а не на мое тело. Он был просто без умa от моей работы.
– Ричард? Ковбой?
Эмма улыбнулась, и лицо ее словно засветилось изнутри при воспоминании о том времени.
– Он гнал стадо для Уэллса Фарго. И он действительно был душкой. Чтоб мне провалиться, он был классный парень! Отличный наездник и стрелок, которому не было равных. В те времена Ричард был совсем неотесанным деревенщиной, но я влюбилась в него с первого взгляда. И кто на моем месте устоял бы? Помимо прочих достоинств, он обладал главным: он с почтением относился к моей работе, и мне это льстило.
Мэйсон заерзала на стуле. Слышать все это было тяжело, но она сама напросилась.
– У нас с ним было еще кое-что общее, – продолжала Эмма. – То, что мы оба были родом из Англии. Он приехал в Америку, на Запад, ребенком со старшей сестрой, которая, насколько мне известно, умерла в дороге. Он никогда не говорил со мной об этой части своего прошлого. Но вскоре после того, как Ричард остался совсем один, его приютил у себя Хэнк Томпсон.
Мэйсон вспомнила ту ферротипию, на которой Хэнк стоял вместе с маленьким мальчиком.
– Теперь Хэнк уважаемый бизнесмен, но в те годы он был никем. Мошенником, карточным шулером, игроком. Он взялся за воспитание Ричарда, научил его играть в карты, даже отправил в Англию учиться, хотел навести на него лоск. Ричард считает, что Хэнк все это делал для него от чистого сердца, но я думаю, что Хэнк просто стремился использовать Ричарда, понимая, что цивилизованный, светский человек может стать для него весьма полезным.
– Но как он стал вором?
– Вот про это я могу рассказать все, потому что это случилось на моих глазах. Произошло это в восемьдесят втором, нет, вру, в восемьдесят третьем. Весной. Тогда появился у нас в Денвере этот серебряный король, который купил самый внушительный дом в городе. И более того, он приобрел картину Делакруа, которую повесил над каминной полкой в гостиной, чтобы все сливки Денвера могли смотреть на нее и завидовать. У Хэнка возникла мысль украсть картину. И вот он сделал так, чтобы Ричарда и меня пригласили в тот дом на вечеринку. Я до сих пор отчетливо помню тот момент, когда Ричард впервые увидел картину. Он никогда раньше не видел ничего более красивого. Было так, словно он увидел творение самого Господа. Он стоял, как завороженный, перед картиной бог знает сколько времени. В конце концов, я его оттащила.
– Так это вы ее украли?
– Ну… и да, и нет. Проблема состояла не в том, как ее украсть, а как с ней скрыться из города. Картина, знаете ли, была большая, а из Денвера просто так не исчезнешь. И тогда Ричард сказал: «Если бы только мы могли сделать с нее копию». Я посмотрела на картину и сказала, сама не знаю почему, что, если я запомню ее хорошенько, каждую мелочь, го смогу, пожалуй, ее скопировать. Я сказала ему, что хочу попробовать. На следующий день он купил холст и краски, и я принялась за работу. Я закрыла глаза и попыталась собраться с мыслями. Потом я открыла глаза и начала писать. Через две недели я сделала такую копию, что сама жена Делакруа не отличила бы ее от оригинала. Потому что, знаете ли, у меня есть такой особый дар подражания. Как бы там ни было, через несколько суток после того, как картина была закончена, мы украдкой пронесли ее в особняк и подменили на настоящую. Насколько я знаю, тот серебряный король до сих пор уверен, что у него над камином весит настоящий Делакруа. Может, он до сих пор всем его показывает. Хэнк продал подлинник одному скотному королю в Южной Америке.
– Значит, это все Хэнк?..
– Может, Хэнк и подтолкнул Ричарда, но сам-то Ричард с удовольствием подхватил эстафету. Ему нравилось этим заниматься. Все в этом процессе ему нравилось. Проработка вопроса, возбуждение, интрига. То, что он с головой окунулся в историю искусства. Угрызений совести он никогда не испытывал, потому что считал, что, воруя картины, он лишь освобождает произведения искусства от хозяев, которые не имеют права ими владеть. Он считал, что настоящие шедевры – достояние всего человечества, и чем больше людей их увидят, тем лучше. А так – воруя картины – он пускал их по свету. Но самое главное – это дело давало ему возможность жить в мире искусства, которое он так любил. После первой удачной кражи Хэнк принялся настаивать на том, чтобы мы все прекратили.
– Но почему?
– Потому что он мечтал о другой карьере для своего протеже. Хэнк всегда мечтал стать акулой Уолл-стрит. Те деньги, что он выручил за картину, он поставил на карту. Сыграл в покер. По крупной. И выиграл медную копь в Монтане, в которой вскоре после того, как ее приобрел Хэнк, обнаружилась жила. И тогда Хэнк смог легализоваться и начал уговаривать Ричарда стать его правой рукой. Он даже отправил его в Оксфорд. Однако Ричард проучился там всего год…
– И вы активно участвовали во всех его махинациях?
– Мы были равноправными партнерами. Возможно, мое участие было даже более существенным, чем участие Ричарда. В конце концов, копии делала я. Мы почти все время были вместе. Много путешествовали. И мы не просто осматривали достопримечательности. Мы совершали кражи. Метод использовался все тот же, что и в Денвере. Выбирали объект. Затем я его копировала, и мы заменяли настоящую картину копией. О, какие это были времена! Тогда Ричарду очень импонировало то, что я так славно умею подделывать подлинники. Он меня уважал. Я искренне верила, что он меня любит. Хэнку совсем не нравилось то, что мы делали, и особенно он возненавидел меня за то, «что я увожу Ричарда по кривой дорожке». Притом, что Ричард весьма почтительно относился к Хэнку и готов был поступать так, как тот хочет, практически во всем и всегда, в вопросах картинных краж он твердо придерживался собственного мнения. И я думаю, что он бы до сих пор этим занимался, если бы не одно происшествие, случившееся в то самое время.
– И что это?
– Во-первых, три украденных Пуссена. Нашим партнером в этом деле был Дмитрий Орлов.
– Граф?
– Граф! – Эмма рассмеялась презрительно. – Он родился в нищете, похлеще той, в которой жила я в детстве. Его герб сделал тот же человек, что справил мне родословную. Дорогуша, в высшем свете фальшивок больше, чем можно представить. В любом случае Орлов забрал товар и доставил его на портовый склад, где картины должны были дождаться отправки настоящему покупателю в Стокгольм. Но полиция, я уж не знаю как, пронюхала про это дело. Орлов был вынужден уничтожить улики. Он поджег склад, и весь Пуссен сгорел.
– Выходит, Ричард за это так ненавидит Орлова?
– И его, и меня заодно. В ту ночь я была на этом складе и бросила спичку на картины. Таково неписаное правило нашей профессии, – делали то, что нужно делать. Я и не знала, кто такой Пуссен. Откровенно говоря, мне было наплевать. Но для Ричарда уничтожить «бесценные шедевры» означало совершить преступление против человечества. Он никогда не мог простить себя за это и, уж конечно, не мог простить меня.
У Мэйсон всплыл в памяти день, когда они с Ричардом прогуливали собак в Бельвильском парке. То, что он тогда сказал про ее картины… «представляют ценность для всего мира… на нас лежит ответственность, которую мы не вправе сбрасывать со счетов…»
– После этого случая у него сдали нервы. Когда он попытался провернуть еще одно дело, его поймали. Была ли то рука судьбы или просто небрежность, я не могу сказать. Я думаю, он подозревает меня в том, что я его сдала, потому что наше расставание было полно горечи, и это еще мягко сказано. Но, хотя доказать я ничего не могу, у меня сильное подозрение, что сдал его не кто иной, как Хэнк.
– С чего бы Хэнку закладывать Ричарда?
– Он не хотел, чтобы тот был вором. Он имел на своего мальчика более смелые планы. И, хотя Ричард и не помог Хэнку войти в мир воровской элиты, он, тем не менее, был весьма полезен своему приемному отцу все те годы, что он работал агентом Пинкертона. Я бы не удивилась, если бы узнала, что именно Хэнк надоумил их сделать Ричарду то самое предложение, от которого он не смог отказаться.
– И Ричард ни разу не заподозрил Хэнка?
– Я хотела ему сказать, но он не желал меня слушать. Стоило мне лишь заикнуться о Хэнке, как я оказывалась словно перед закрытой дверью. Для него Хэнк – непререкаемый авторитет. Не знаю почему, но все, что бы Хэнк ни делал, как бы ни мошенничал, Ричард считает не просто оправданным, но и благородным.
– Выходит, Ричард так и не простил вас за то, что вы уничтожили Пуссена?
– Он со мной даже разговаривать перестал. Но Хэнку и этого было мало. Хэнк всегда меня ненавидел. И до, и после Пуссена он видел во мне угрозу для будущего Ричарда. Поэтому он устранил меня, подвергнув искушению, перед которым, как он знал, я не могла устоять. Он горы свернул, чтобы свести меня с одним из самых богатых людей Англии. С герцогом, так-то вот! Прекрасно понимая, что такая девушка, как я, выросшая в нищете, не сможет отказаться от ухаживаний богатого и знатного человека.
– И вы вышли за него замуж.
– Я воспользовалась возможностью. Если бы у меня была хоть малая надежда на то, что Ричард ко мне вернется, я бы герцогу отказала. Но такой возможности не было, и поэтому я приняла предложение. После того как блеск роскошной жизни потускнел для меня, я возненавидела себя за тот шаг. Я начала думать, что, если бы я устояла и продолжила бороться за Ричарда, со временем он забыл бы свою обиду и нашел бы для меня место в своей жизни. Я была одержима своей идеей. Она преследовала меня как наказание. Я бы все отдала – респектабельность, положение в обществе, даже богатство – за то, чтобы провернуть еще одно классное «дельце» с Ричардом.
Эмма замолчала и закрыла глаза. Слезы текли по ее щекам.
Мэйсон не хотела снова доводить ее до истерики, но теперь она уже не могла повернуть назад:
– Я все пытаюсь понять, откуда взялась та сила, что движет Ричардом? Его фанатичная преданность искусству… Откуда все это? Где источник? У вас есть соображения?
Эмма шмыгнула носом.
– Я никогда об этом не думала.
– Он прячет у себя портрет сестры. Кроме фотографии с Хэнком, это единственная вещь из его прошлого, которую он хранит. Не может ли быть так, что все это как-то связано с его сестрой?
– Возможно. Я никогда не могла вытащить его на разговор о ней. Он становился чужим, когда я спрашивала о ней, и потому я прекратила попытки.
– Вы знаете о его кошмарах?
– О том, как он кричит от страха во сне? Вы еще спрашиваете!
– Он когда-нибудь говорил вам, что ему снится?
– Ни слова. Однажды я его спросила, так он мне чуть голову не откусил.
– Ему все хуже и хуже. Теперь он видит кошмары чуть ди не каждую ночь. Я не могу смотреть на то, как он мучается. Хочу ему помочь. Ричард одержим каким-то демоном, и этот демон толкает его на безумные поступки. Я надеялась, что вы сможете мне рассказать, какова история этих кошмаров, но, очевидно, он и от вас держал это в тайне. Я уже не знаю, что придумать.
Эмма задумалась.
– Вы поставили перед собой очень трудную задачу. Потому что если есть некий ключ к тайне, который «объясняет» Ричарда, то есть и тот, кто действительно знает его тайну. И это Хэнк. Хэнк был с ним с самого начала. Он был ему отцом, учителем, исповедником – всем сразу. Хэнк постоянно присутствовал в его жизни и всегда был для Ричарда гарантом безопасности и любви. Иного Ричард не знал. Покуда у Ричарда есть тот оплот, что защищает, понимает и делит с ним его маленькую тайну, Ричард ни с кем больше не станет ее делить. Так что если вы когда-нибудь доберетесь до потайного места в сердце Ричарда, вы разрушите то чувство безопасности, которым он так дорожит, и заставите Ричарда увидеть Хэнка таким, каков он есть – абсолютно беспринципным и безнравственным человеком.
Глава 30
Когда Мэйсон вернулась той ночью в Бельвиль, Ричард встретил ее у дверей с искренней обеспокоенностью.
– Сейчас три часа ночи. Где, черт возьми, тебя носило.
– Я проснулась и увидела, что тебя нет, – с невинным видом ответила Мэйсон. – Я испугалась, решила, что с тобой что-то случилось. Я ходила тебя искать.
Ричард привлек ее к себе, крепко обнял.
– Ты меня до смерти напугала. Не делай так больше.
– Не буду, – заверила его Мэйсон и, просто чтобы посмотреть, скажет ли он ей правду, спросила: – Где ты был?
После небольшой заминки он ответил:
– Мне не спалось, и я решил прогуляться.
– У тебя лицо исцарапано.
– Пустяки. Пошли спать.
Мэйсон поднялась вместе с ним по лестнице. «Ничего, пусть скрытничает, – думала она. – Я должна вытащить на белый свет твою тайну, и тогда скрывать будет нечего».
Большую часть следующего дня Джуно и Ричард провели, ломая голову над тем, как вызволить Лизетту. Но этот день не принес никаких ощутимых результатов. А ночью в дом явился громадный детина, сообщив, что он послан Хэнком Томпсоном. Может, он принес добрые вести и Лизетту удастся спасти?
Великан сообщил, что Хэнк собрал банду «солдат удачи» – всего человек пятьдесят отъявленных головорезов, которых Хэнк переправил в Париж под видом «сотрудников компании Томпсона». Если Даргело тоже соберет человек пятьдесят и две армии сольются в одну на Марсовом поле за день до открытия павильона, можно было бы попробовать штурмом взять павильон и спасти картины. Затем надо было решить вопрос с резервацией поезда до Кале, где уже ждало бы быстроходное судно.
– И как насчет Лизетты? – с нажимом спросил Даргело.
– Мистер Томпсон ничего об этом не говорил.
– Ее хорошо стерегут. И сто человек ничего не смогут сделать, чтобы вырвать ее из лап Дюваля, – проворчал Даргело.
– Мы потом подумаем, как нам вызволить Лизетту, – пообещал Ричард. – У нас полно времени. Даже когда суд закончится, до приведения приговора в действие пройдут месяцы. А пока ты мог бы помочь нам со своей командой?
Даргело кивнул:
– Могу.
– Скажи Хэнку, что мы с ним заодно. Пусть просто даст нам знать, где встречаемся.
Мэйсон почувствовала, что ее время пришло:
– Подождите минутку. – Она успела остановить посланника перед самым его уходом. Мэйсон обратилась к Ричарду: – Тебе не кажется, что мы должны лично встретиться с Хэнком? Я никого не хочу обидеть, но пока мы знаем о том, что этот человек – посланник Хэнка, только с его же слов. Может, перед тем как пускаться в авантюру, стоит все же лично встретиться?
– Знаешь, а ведь она права, – заметил Даргело.
После недолгих раздумий Ричард сказал посланнику:
– Не стоит ему сюда приходить. За ним может быть хвост. Лучше встретиться на нейтральной территории.
– Тебе опасно появляться в центре Парижа. Твой словесный портрет есть теперь у каждого шпика.
– Я знаю, где можно встретиться, – сказала Мэйсон. – В обсерватории. Обсерватории Людовика XIV. Она стоит на отшибе на холме Монпарнас. Туда по ночам никто не ходит.
– Отлично. Передай это Хэнку. Мы встретимся с ним у обсерватории завтра в десять вечера.
Мрачные сумерки опустились на город. Очертания обсерватории, построенной еще в семнадцатом веке, едва различались вдали. Ричард остановил экипаж у входа в парк. Дальше Ричард и Мэйсон пошли пешком. На верхнем этаже обсерватории горел свет. Какой-то ученый или группа ученых трудились там, разгадывая тайны Вселенной.
В стороне от обсерватории стояли несколько мужчин, но в сумраке можно было разглядеть лишь их силуэты. Ричард остановился и внимательно посмотрел в их сторону, стараясь понять, стоит ли подходить ближе. Но те, кто ждал их на условленном месте, пошли навстречу Ричарду и Мэйсон.
– Ну, значит, то была не ловушка, – радостно сказал Ричард. – Его походку я узнаю из тысячи.
– Это ты, Бустер?
– Я.
Они подошли ближе.
– Вот как складывается: двое приличных людей вынуждены встречаться в темноте, словно преступники.
– У меня небольшие проблемы, – признался Ричард.
– Ну что же, твой старый партнер готов прийти к тебе на выручку.
Мужчины обнялись. Ричард и не думал скрывать, что рад встрече. Хэнк обнял Ричарда за плечи как отец и отвел в сторону. Мэйсон пошла следом.
Четверо мужчин, что пришли с Хэнком, шли позади. Они переговаривались друг с другом на кокни, языке лондонской бедноты.
Наконец Ричард и Хэнк, похоже, сошлись во мнениях по всем пунктам. Хэнк остановился и повернулся так, что Мэйсон тоже оказалась в их кругу.
– Дело будет нелегким, но нам оно по плечу. Самое важное – сыграть на неожиданности. Возможно, они и ждут каких-то действий, но чего они точно не ожидают, так это того, что мы впрямую будем их атаковать. И как только мы окажемся в Кале, считай, дело в шляпе, потому что я зафрахтую самое быстрое судно, которое можно заполучить за деньги.
Мэйсон, до сих пор хранившая молчание, спросила:
– Можно мне задать вопрос?
– Конечно, леди.
– Почему Кале? Французский флот базируется в Гавре, и вам придется пройти прямо перед их носом, чтобы попасть в Атлантику. Не кажется ли вам более разумным отправить картины из Шербурга или даже Бреста?
– Хороший вопрос, и у меня есть на него ответ. Потому что самый быстрый корабль, который только можно нанять за деньги, сейчас идет в Кале.
– Вы, случайно, не о «Княжне Александре»?
Хэнк даже вздрогнул от неожиданности.
– Да. А вы о нем слышали?
– Это ведь русский корабль, верно?
– Да, русский. Он привез русские фейерверки на празднование Дня взятия Бастилии. Сейчас в Париж со всех концов земли приходят грузы, знаете ли. Так что, есть еще вопросы?
– Нет, других вопросов нет. Зато мне есть что сказать.
В темноте Мэйсон не могла видеть лица Ричарда, зато она чувствовала, что ему не по себе.
– Да? – покровительственным тоном спросил Хэнк. – И что ты хочешь нам сказать, дитя мое?
– Есть кое-что, о чем знают другие и о чем не знаете вы. Вот я и хочу вас проинформировать. По-моему, пришла пора.
Мэйсон почувствовала, что Ричард натянулся как струна.
– Эми, – несколько раздраженно заметил он, – возможно, тебе не стоит…
– Не томи. Давай выкладывай свои новости.
Мэйсон стряхнула руку Ричарда и заявила Хэнку:
– Я не сестра Мэйсон Колдуэлл Эми. Я сама Мэйсон Колдуэлл.
Хэнк обернулся к Ричарду:
– Что она несет, сынок?
– Она говорит правду, – спокойно ответил Ричард. – Я сам этого не знал, когда все началось.
Не дав Хэнку отреагировать, Мэйсон продолжила:
– Есть еще кое-что, что вам обоим следует знать. Завтра я выхожу из игры и уезжаю из Франции. Мне плевать, что будет с моими картинами, но вам не сделать из меня другого человека. Имя свое я беру назад. Я еду в Рим, где намерена написать картину для сеньора Лугини. Он с первого взгляда на мою живопись поймет, что Мэйсон Колдуэлл – это я. И ни вы, ни инспектор Дюваль, никто другой с ним спорить не смогут. Так что я желаю вам всем удачи и ухожу. Как там у вас на Диком Западе говорят? Счастливых троп?
Мэйсон развернулась и направилась к ждущему ее экипажу.
– Эй, подожди, сестренка, – крикнул ей вслед Хэнк.
– Что? Вам есть, что мне сказать? – не без сарказма поинтересовалась Эми.
– Ты никуда не поедешь, – сказал Хэнк.
– Это почему? Неужели живая Мэйсон Колдуэлл мешает вашим планам?
Хэнк ответил молчанием на этот вопрос.
– Эй, вы, оба! – Ричард встал между Хэнком и Мэйсон. – Подождите, не кипятитесь. Остыньте немного.
– Не вмешивайся, Ричард. Это наши с Хэнком счеты. Обернувшись к Ричарду, Хэнк процедил сквозь зубы:
– Ты должен был сказать мне об этом раньше. Теперь все существенно усложнится.
– Но почему, Хэнк? – снова перешла в наступление Мэйсон. – Если вы просто хотели передать мои картины в музей, то какая вам разница, живая я или мертвая? Или, возможно, это изначально не входило в ваши планы?
– О чем ты? – рявкнул Хэнк.
– Я случайно узнала, что у вас серьезные финансовые проблемы. Гораздо более серьезные, чем думает Ричард или кто другой. Фактически вас приперли к стенке.
– Это правда, Хэнк? – спросил Ричард.
– Откуда тебе знать о моих делах? – зло бросил ей Хэнк.
– Джуно мне давно об этом сообщил. Несколько месяцев назад. Последнее время я стала задумываться о том, какова ваша настоящая роль во всем этом деле, и после вчерашнего благородного предложения я попросила Джуно послать в Кале телеграмму и навести кое-какие справки. И знаете, что я узнала, Хэнк? Что в маршрутном листе этого самого быстроходного судна, что вам удалось зафрахтовать, черным по белому написано: место назначения – Санкт-Петербург.
Мэйсон почувствовала, как по телу Ричарда прокатилась дрожь, словно его ударило током.
Хэнк, стараясь замять скандал, заговорил примирительным тоном:
– Эй, остыньте, все вы. Не стоит сходить с ума. Мне плевать, что там написано у них в маршруте. Пишут одно, а на самом деле…
Мэйсон его перебила:
– Я попросила Джуно сделать еще кое-что: послать телеграмму в Санкт-Петербург с запросом о том, кто снял ближайший к месту стоянки «Княжны Александры» склад в порту. И представляете, какой это выдающийся человек – сам граф Дмитрий Орлов.
– Это правда? – спросил Ричард.
Пока Хэнк стоял и думал, как ему ответить, Мэйсон сама терялась в догадках. То, что Хэнк и Орлов затеяли какое-то совместное дело, она вычислила методом дедукции, и никакой телеграммы никто не отправлял и не получал. Она затаила дыхание. Что, если ее блеф сейчас раскроется?
Хэнк подошел к Ричарду, достал пистолет у него из-за пояса и сказал:
– Боюсь, что это правда, мой мальчик.
– Как ты мог? – воскликнул Ричард, вне себя от боли и гнева.
– Она сказала правду. Меня приперли к стенке. Одна катастрофа за другой, и налоговый инспектор – вот он, тут как тут. Я играл по-крупному, но карта не пошла. Такое случается. Но эта маленькая сделка поставила бы меня снова на ноги. Ты представить не можешь, сколько эти русские готовы выложить за картины. У них больше веры в будущее импрессионизма, чем у самих французов! И ты так славно продвинул имя Колдуэлл, что русские коллекционеры за ее картины готовы драться. У Орлова есть связи с царской семьей и двором. Как раз то, что мне нужно. Вот мне и пришлось войти с ним в дело.
Ричард задыхался от гнева и обиды:
– Хэнк! Скажи, что ты шутишь!
– Знаешь, сынок, я коммерсант. Я пытался научить тебя всему.
– И эта сделка может сорваться, если Орлов и компания узнают, что я не умерла. Так? – поинтересовалась Мэйсон.
– Да, малышка, тут ты в точку попала. Ричард не вполне понимал, что происходит.
– Тогда… Что? Ты собираешься ее убить?
– Пойми меня правильно. Мне этого совсем не хочется. Но разве у меня есть иной выбор?
И в этот момент Мэйсон вытащила из сумочки пистолет, который дал ей Даргело. Она сунула его Ричарду в руку, а тот поднес его к лицу Хэнка. Четверо телохранителей немедленно вытащили оружие.
– Подождите! – взревел Хэнк. – Давайте обойдемся без глупостей.
Рука у Ричарда дрожала, но он не опускал ее и продолжал держать Хэнка под прицелом.
– Ты этого не сделаешь, Хэнк.
– Тогда тебе лучше нажать на курок сразу, сынок, и не тянуть с этим. Потому что, если эта сделка сорвется, мне все равно не жить. Но знаешь, я не думаю, что ты хочешь убить своего старого друга после всего того, через что мы прошли вместе. После всего, что я для тебя сделал. Черт побери, парень, я для тебя – почти что семья.
Ричард держал ствол на уровне головы Хэнка, но рука его сейчас по-прежнему дрожала. Он взвел курок. Было так тихо, что щелчок прозвучал как выстрел.
И вдруг Ричард опустил пистолет и толкнул Хэнка к его телохранителям. Все четверо столпились с оружием наизготове. Затем Ричард схватил Мэйсон, и они побежали к экипажу.
Пуля просвистела над головой Мэйсон.
– Не стреляйте в него! Цельтесь в девчонку! – кричал Хэнк.
За первым выстрелом последовали еще несколько. Уже у экипажа Мэйсон резко остановилась.
– Нет, – закричала она, – они убьют лошадей. За мной! Я знаю место, где они нас никогда не найдут.
Слыша за собой топот ног, Мэйсон и Ричард бегом пересекли пустующую площадь, обогнули здание и помчались по аллее к закрытому люку. Мэйсон отодвинула крышку и бросила Ричарду:
– Мы можем спрятаться там, внизу.
– А что там? – поинтересовался Ричард.
– Катакомбы.
Глава 31
– Подожди. – Ричард потянул Мэйсон за руку. – Тут слишком темно.
Закрыв за собой металлическую крышку, они спустились вниз по лестнице и пробежали по узкому и длинному проходу.
Наконец, стало понятно, что дальше бежать нет смысла. В подземелье было холодно и совершенно темно. Воздух был затхлым и отдавал плесенью.
– Подожди. Мы заблудимся. – Ричард потянул Мэйсон за руку. – Тут совершенно темно.
– У меня есть спички.
Мэйсон залезла в сумочку, достала спички и платок, зажгла спичку о стену и подожгла край ткани. Платок занялся желтым пламенем, осветившим стены туннеля, уходящего в бесконечность.
– Давай переждем здесь. Я думаю, они нас уже потеряли.
– Я слышу шаги, – стояла на своем Мэйсон. – Нам надо идти дальше.
Держа платок на вытянутой руке, словно факел, Мэйсон шла впереди.
– Примерно в полумиле отсюда есть выход. Ричард увидел впереди груду черепов.
– Это здесь ты рисовала Лизетту?
– Да, прямо здесь. В средние века здесь были шахты известняка.
Они пошли вперед. И шли довольно долго, пока Ричард не остановил Мэйсон.
– Давай подождем. Уже никаких шагов не слышно.
– Нет, нам надо идти дальше, – сказала Мэйсон.
Туннель перед ними внезапно подошел к развилке. Отсюда дорога шла в четырех разных направлениях. Не давая Ричарду времени сообразить, куда идти, она потащила его за руку.
– Сюда. – Мэйсон крепко держала Ричарда за руку, ведя по туннелю. Вскоре они подошли к еще одной развилке, и Мэйсон свернула налево. Потом к еще одной – в три стороны – и к еще одной. И тогда Мэйсон затушила дотлевающий платок.
Казалось, темнота стала еще чернее.
– Что ты делаешь? – воскликнул Ричард. Голос его слегка дрожал.
– Мы на месте.
– Где?
– Здесь мы можем поговорить.
– Ты не зажжешь еще одну спичку?
– Сожалею, но у меня была только одна.
– Тогда нам надо отсюда выбираться.
– Мы никуда отсюда не пойдем, пока ты не скажешь мне то, что я хочу услышать.
– Это не смешно, Мэйсон.
– Я и не хочу, чтобы это было смешно. Я знаю выход, а ты – нет. Если ты попытаешься уйти от меня, то наверняка заблудишься. Этим коридорам нет конца. Люди быстро теряют ориентир в темноте и остаются здесь навечно. Так что у тебя два выхода: либо ты честно говоришь со мной, и я показываю тебе выход, либо останешься тут, в темноте. Выбор за тобой.
– Ты не понимаешь, что делаешь.
– Я очень хорошо понимаю, что делаю. Я пыталась до тебя достучаться, но упиралась в стену. Ты не оставил мне выбора.
– Ты не понимаешь. Ты же знаешь про мои кошмары.
– Поэтому мы и здесь. Чтобы ты мог мне о них рассказать.
– Но ты не знаешь главного. Темнота – она и есть мой кошмар. Я не люблю темноту. И я иногда боюсь засыпать. Боюсь, что усну, и мне снова приснится это, и я не смогу дотянуться до лампы и включить свет, который один может спасти меня от кошмара. Вот, теперь ты все знаешь. Так что, пожалуйста, Мэйсон, Богом тебя прошу, выведи меня отсюда. Прямо сейчас.
– Думаешь, мне сейчас легко? Думаешь, я бы не поступила по-другому, если бы считала, что могу заставить тебя рассказать мне то, что хочу услышать? Я не для себя сейчас это делаю. А для тебя. Так что мы отсюда и шага не ступим, пока ты не скажешь мне то, что я хочу услышать.
Мэйсон почувствовала, как Ричард привалился спиной к стене, устало сполз по ней и сел на землю. Она села рядом. Ричард дышал глубоко и трудно.
– Ну и вечерок ты мне устроила. Так сильно хотела, чтобы я обнажил перед тобой душу?
– Я сожалею, что мне пришлось столкнуть тебя и Хэнка лбами. Но мне пришлось сделать это, потому что у меня не было уверенности в том, что, если я расскажу тебе все сама, ты мне поверишь.
Ричард ничего не ответил.
Мэйсон предприняла новую попытку:
– Тебе не приходило в голову, что он может тебя предать?
После недолгой паузы Ричард ответил с сарказмом:
– Нет, Хэнк был единственным человеком, на которого я рассчитывал больше, чем на самого себя.
– Теперь у тебя есть еще один человек, на которого ты можешь рассчитывать. Это я.
– Ну да. Именно поэтому ты затащила меня сюда.
– Да, на меня. Потому что только я одна готова за тебя бороться. Хэнк хотел вылепить тебя по своему образу и подобию. Я не думаю, что он когда-либо тебя любил. Он использовал тебя. Я люблю тебя, Ричард. Я люблю тебя так, что мне все равно, что со мной будет, и что ты обо мне думаешь. Я думаю только о тебе. Но если ты мне все не скажешь, все мои старания пропадут. Ты должен мне довериться, Ричард. Пожалуйста.
– Я не могу, – простонал он.
Мэйсон чувствовала, как мучается Ричард.
– Если ты мне не скажешь, Хэнк может праздновать победу. Я знаю, что это трудно. Я знаю, что это больно. Но я знаю, что ты это можешь. Просто подумай, вспомни и скажи мне, что случилось. Попытайся, Ричард. Пожалуйста. Ради меня. Ради нас обоих.
Он все не отвечал.
– Вернись к началу, – подсказала ему Мэйсон. – Самое раннее твое воспоминание.
Долгое время Ричард не отвечал, и Мэйсон почти пала духом. Но вдруг он заговорил:
– Я вижу маленького мальчика…
Его слова потрясли Мэйсон. Неужели он правда это сделает?
– Расскажи мне о нем. Какой он?
– Он взъерошенный, неуживчивый, наглый всезнайка… Отец его умер в Англии, и мать его, шотландка, умерла от скоротечной пневмонии по дороге в Америку, оставив его сиротой.
– Но он ведь не один, верно?
– Нет. В его жизни присутствует чудо, которое он по недоразумению еще не в силах оценить.
– И что это за чудо? Краткая пауза.
– Его сестра. Старшая сестра.
– Молли?
– Молли. Она на восемь лет его старше. И она хорошенькая, с чистой кожей, ясными глазами и улыбкой, которой можно осветить мир. Она святая. И она заботится о мальчике… обо мне так, как никогда не заботились родители. Мы приехали в Америку совершенно нищими. Но мы выжили благодаря ее решимости и неистощимой вере в будущее. Господи… – Голос Ричарда сорвался. – Молли была настоящим чудом!
Мэйсон положила ему ладонь на колено, чтобы поддержать.
– Расскажи мне о ней.
– Она была самым сильным и самым любящим человеком из всех, кого я знал. В ней была магия очарования, которая покоряла людей, и та добродетель, что побуждала других быть человечнее и гуманнее. И еще она была бесстрашной. Когда мы высадились в Нью-йоркской гавани, она взяла меня за руку и пошла, не оглядываясь. Мы шли на запад из одного города в другой. Молли работала в танцевальных залах. И. она немного пела. Мы всегда сводили концы с концами. Наконец мы осели в Виргинии как раз перед началом лихорадки в жиле Комстока.[7] – Ричард замолчал.
Опасаясь, что он не захочет продолжать, Мэйсон спросила:
– И что вы там вдвоем делали?
– Она работала в салуне. Молли отправила меня в школу. Но я ненавидел учиться. Я ходил туда только потому, что этого хотела сестра. Однако я просто терпеть не мог высиживать в классе день за днем. «Образование – самое важное в жизни, – любила повторять Молли. – Ты пойдешь в школу, и будешь ходить туда каждый день, и станешь образованным человеком». Но мне просто хотелось свободы. Так что однажды, вместо того чтобы пойти в школу, я отправился в горы.
Ричард снова замолчал, и Мэйсон опять сжала его колено.
– Что произошло?
– Молли пошла меня искать, разумеется. – Внезапно в его голосе зазвучала непереносимая боль. Такого раньше никогда не было. – И, несмотря на то, что она никогда толком верхом ездить не умела, она взяла напрокат лошадь и отправилась меня искать верхом. Но она меня не нашла. – Ричард давился словами. – Ей кое-что помешало. Нечто непредвиденное. Нечто… невообразимое.
Ричард не мог говорить дальше. Он мелко и быстро дышал. Он потянулся к руке Мэйсон, схватил ее и сжал до боли. Мэйсон подумала, что Ричард раздавит ей кости. Она поднесла его руку к губам и нежно поцеловала. И этот простой жест, кажется, открыл шлюзы.
– Молли не дошла до меня примерно полмили. Я прятался в расщелине и видел ее, – быстро заговорил Ричард. – Ив полумиле от моего убежища она наткнулась на группу мужчин, которые проводили время на берегу мелкой речушки – пили виски. То были братья Мерфи: Клинт, Чад и Руфус и еще Гарп Чилдерс. Самая мерзкая свора божьих тварей с первого дня творения. Они стащили Молли с лошади… – Ричард больше не мог удерживать слезы, он всхлипывал: – Они насиловали ее один за другим. Потом опять… Я слышал, как она кричала, Мэйсон. Я видел все с высоты. Я не понимал, что происходит. Я не знал, что мне делать.
Мэйсон чувствовала слезы Ричарда на своей ладони. Она повернулась и прижала его к себе, а он плакал у нее на плече, изливая свою печаль:
– Когда они насытились, Молли была в беспамятстве. Она попыталась встать и, пошатываясь, пошла на Гарпа, вытянув вперед руки, словно протягивала их к его ружью. Но Клинт Мерфи пристрелил ее не моргнув глазом, как пристрелил бы гремучую змею. А двое других Мерфи рассмеялись. Они смеялись!
Мэйсон гладила Ричарда по голове, она ничего не говорила, давая ему время успокоиться.
– Мне было всего семь лет, и я совершенно не понимал, что произошло. Я побежал к ним. Я стал кричать Клинту Мерфи: «Зачем ты ее обидел?» И Клинт Мерфи ответил мне с улыбкой, которую я никогда не забуду: «Я не стал бы тратить слезы на салунную шлюху, мальчик». Потом он пришпорил коня, и они все ускакали. Я подошел к Молли и положил руку на ее рану… Я думал, что так смогу вернуть ее к жизни, но, конечно, у меня ничего не получилось. Поэтому я просто лежал рядом с Молли, обнимал ее, плакал, молился, не зная, что мне делать. Я на самом деле был не в себе. Только через несколько часов мимо проехал всадник. Карточный игрок, который меня пожалел. Он привязал Молли к своему коню и привез назад в город. Через два дня были похороны, и этот игрок оплатил их. Но еще до похорон я ходил посмотреть на Молли. Она лежала в гробу в своем любимом синем платье. Молли вся словно светилась изнутри. Все, кто приходил посмотреть на нее, говорили, что она похожа на ангела. И она действительно была похожа на ангела. Угольно-черные волосы. Белая кожа. Синее-синее платье. Нигде и никогда не видел я такой синевы. И эта красота… она давала мне силу. Иначе я не знаю, что бы я сделал. Мир, в котором есть такая красота, не может быть безнадежно дурным.
Ричард выпрямился и перевел дыхание.
– Я остался тогда с Молли на всю ночь. Смотрел на нее при свете свечей и как-то обрел покой. Но на следующее утро пришли люди и заколотили гроб. Отнесли его на Голубой холм. Я пытался их остановить. Когда они положили Молли в яму и стали забрасывать землей, меня пришлось оттаскивать от могилы. Они не могли справиться со мной впятером. Ты понимаешь, я хотел сохранить этот образ. Потому что, кроме него, у меня ничего не было. Я так разошелся, что меня уже собрались связать. И тогда подошел этот добрый игрок и успокоил меня. Он посмотрел мне в глаза и сказал: «У тебя нет на это времени, сынок. Нам надо заняться кое-чем поважнее».
– Этот игрок был Хэнк?
– Хэнк. – У Ричарда словно сдавило горло. – Если бы ты видела его тогда, до того, как сытая жизнь его изменила. Он был худым и жилистым и стрелял без единого промаха. Хэнк раздобыл мне коня, и мы вдвоем отправились на поиски убийц моей сестры… В конечном итоге мы достали каждого. Одного за другим.
– Вы их убили?
– Всех. А в Клинта Мерфи я выстрелил лично. Нажал на курок и… Я получил громадное удовлетворение, не испытав ни капли раскаяния. И до сих пор нисколько не жалею об этом своем поступке.
Слезы, что так долго стояли в глазах Мэйсон, полились по щекам.
– Как это жестоко, как отвратительно… Так поступать с маленьким мальчиком. Заставлять ребенка убивать.
– Наверное. Но тогда я ничего отвратительного в том убийстве не увидел. Я находил в этом сладкую месть. И я боготворил Хэнка за то, что он предоставил мне возможность отомстить за мою Молли. А потом он опекал меня как мог. Находил для меня приемные семьи. Он то появлялся в моей жизни, то исчезал. Он позаботился о том, чтобы я получил образование. Когда я немного подрос, он взял меня к себе, и я стал жить при нем постоянно. Он хорошо ко мне относился, действительно хорошо, Мэйсон. Но я никогда бы не смог стать тем, кем он хотел, чтобы я стал. Потому что я так и не забыл Молли. Стержнем всей моей жизни был не Хэнк. То был образ моей сестры в гробу в синем платье. Неизгладимый, совершенный образ. Неописуемая красота. Когда мне в жизни становится по-настоящему страшно, я закрываю глаза, и ко мне приходит ее образ, и он помогает мне выйти из беды. И в определенном смысле мой сон об этом.
– Что ты имеешь в виду?
– Во сне я всегда окружен безымянным ужасом. Из темноты ко мне тянется что-то жуткое, пытаясь вобрать меня в себя. Но впереди голубой свет, который, я знаю, меня спасет. И поэтому я стараюсь дотянуться до него. Но я не могу. Никогда. Когда я просыпаюсь, мне больше не хочется об этом думать. Но я не настолько глуп, чтобы не понимать, что голубой свет – это синее платье Молли, и он исчезает так же, как Молли исчезла в земле. Чего я до сих пор не понимал, так это то, что вся моя жизнь – это поиск того голубого платья.
– Ты имеешь в виду свою любовь к искусству?
– Да. Первая по-настоящему великая картина, которую я увидел, – это картина Делакруа в Денвере. Она потрясла меня до глубины души. Когда я увидел это величественное произведение искусства, с его богатыми цветами и платьем женщины, выписанным синим кобальтом, было так, словно я снова увидел Молли. Словно я снова увидел ее в гробу, в том синем платье… Увидел ее – этот образ вечной красоты. Я не могу описать, что со мной творилось при виде этой работы. Она изменила всю мою жизнь в одно мгновение. Изменила все в моей жизни. С этого момента, кроме искусства, меня больше ничто не занимало.
– А когда ты увидел мои работы?
– Когда я увидел твои работы, потрясение оказалось еще более сильным. Не только потому, что техника была оригинальной, но и потому, что они отражали мое видение мира. Контраст между неописуемым ужасом и ангельской чистотой. Было так, словно ты заглянула ко мне в душу и написала то, что увидела там. Все твои работы, но особенно автопортрет – женская фигура с совершенной грацией, сильная и уверенная в своей привлекательности, в своей сексуальности… Женщина в синем платье.
Мэйсон все теперь понимала.
– Насчет картин все ясно. Но когда ты узнал, что я жива, зачем ты стремился превратить меня в то, чем я не являюсь?
Ричард немного подумал и ответил:
– Ты знаешь, когда этот Клинт Мерфи сказал мне, чтобы я не тратил слез на салунную шлюху… Ну, когда я подрос и стал понимать, что значат его слова, я просто поставил на них табу. Я не мог принять того, что Молли, очевидно, приходилось продавать себя, чтобы мы смогли выжить. Поэтому я заменил реальную Молли ее образом, образом чистоты и невинности. В каком-то смысле по отношению к ней это было несправедливо. Я должен был еще выше вознести ее за ту жертву, что она принесла ради меня. Пожалуй, я только сейчас понял, что сотворил с Молли. Я ее канонизировал.
– И то же самое ты пытался сделать со мной?
– Наверное, да. Я, конечно, этого не понимал. То, как я пытался изменить твою биографию, писал те письма, создавая несуществующую Мэйсон… Теперь мне все это кажется сумасшествием. Но в то время все это мне было необходимо. Я пытался создать женщину из легенды, но она не была тобой. Никогда не была. То была Молли. Все время она. Теперь я это вижу. Я полагаю, что во мне все еще живет желание ее воскресить. Потому что внутри себя… Я знал… Я не только виноват в ее смерти, я видел, как ее убивали, и я ничего не сделал, чтобы остановить убийц.
– Ты был маленьким мальчиком! – Мэйсон прижала Ричарда к себе. – Ты ни в чем не виноват. И ты ничего не мог сделать, чтобы предотвратить неизбежное.
Потом они долго молчали. Мэйсон переполняла нежность к Ричарду. Наконец-то он поделился с ней самыми сокровенными тайнами своей души. Мэйсон нисколько не сомневалась в том, что он ей все сказал и ничего не утаил.
– Я горжусь тобой, – сказала она ему.
Ричард обнял Мэйсон, позволяя целительной энергии ее любви войти к нему в сердце. Она чувствовала его благодарность, чувствовала, как Ричард расслабляется в ее объятиях, словно с него сняли чудовищный груз.
– Как ты? – спросила она у него некоторое время спустя.
Ричард подумал немного и сказал:
– Я успокоился.
– Ты готов отправиться в путь?
– Готов.
Мэйсон достала маленькую свечку из сумки и зажгла ее. Свет показался слишком резким после уютной темноты в объятиях друг друга. Когда глаза ее привыкли к свету, она заметила, что Ричард смотрит на нее как-то странно, словно впервые понял что-то важное о ней.
– Должно быть, ты сильно меня любишь, если решилась на такое.
Мэйсон прикоснулась к его лицу.
– Ричард, я люблю тебя так, как невозможно любить ничего и никого. Ты сделал мне бесценный подарок. Твоя любовь меня вылечила. Я хотела отплатить тебе услугой за услугу. Я мечтала о том, что мне это удастся.
Ричард нежно и благодарно поцеловал ее. Мэйсон чувствовала себя такой счастливой, такой окрыленной. Теперь она верила, что все кончится хорошо.
Они пошли обратно по лабиринту и поднялись по железной лестнице к люку. Ричард приподнял его, выглянул наружу, проверил, нет ли кого на улице. И вдруг замер.
– Мне сейчас в голову пришла одна мысль. Ведь катакомбы идут под всем Парижем, верно?
– Говорят, что так.
– Значит, и под Марсовым полем они проходят. Как ты думаешь?
– Наверное, да.
– Я знаю, как нам спасти картины! Мы сделаем подкоп!
Мэйсон чувствовала его возбуждение, но сама она пала духом. Выходит, она рано радовалась. Ей так и не удалось помочь Ричарду. Он все еще хотел заполучить ее картины.
– Но они нам больше не нужны, – возразила Мэйсон.
– Мы же не можем просто взять и бросить их на произвол судьбы!
– Почему же на произвол судьбы? О них есть кому позаботиться. Пусть они достанутся французам.
– А как же мы? Ты предлагаешь нам забыть о них?
– Ну да. Пусть себе картины живут своей жизнью, а мы будем жить своей. У них своя судьба, у нас – своя.
Ричард провел рукой по волосам.
– Не думаю, что смогу так поступить.
– Если ты их выкрадешь, что ты станешь с ними делать?
– Не знаю. Спрячу в безопасное место. Буду о них заботиться. Ты столько труда в них вложила. Я не могу допустить, чтобы они попали в руки людей, которые хотят тебя убить.
Мэйсон разочарованно вздохнула:
– Почему мы не можем оставить картины в покое?
– Нет, я не могу махнуть рукой на картины. Это абсолютно исключено. Они часть тебя. Отвернуться от них для меня все равно, что отвернуться от тебя.
Ричард все еще не был свободен. Да, он понял, какие силы движут, но понимания, похоже, было недостаточно.
Глава 32
Инспектор Оноре Дюваль все утро провел перед отгороженным канатами павильоном, в котором на следующее утро должна была открыться выставка картин Мэйсон Колдуэлл.
Критики и учители искусства со всего света съехались в Париж ради этого события. Интерес был еще сильнее подогрет сенсационной новостью об убийстве художницы и грядущим судом над Лизеттой Ладо.
– Какие последние новости о Томпсоне? – спросил Дюваль у своего помощника.
Дювалю было хорошо известно, что американский делец приходился Гаррету лучшим другом. Знал Дюваль и о том, что Томпсон собрал банду головорезов, очевидно, для того, чтобы они помогли ему захватить картины и контрабандой вывезти из страны.
– Он в Кале со своими людьми, – сказал помощник Дюваля. – Его корабль в полной готовности, но он пока не предпринял никаких действий по переправке своих людей в Париж. Струсил, очевидно.
Дюваль полагал, что американец попробует объединить силы с бельвильскими союзниками Гаррета и Колдуэлл, но до сих пор никаких свидетельств тому не обнаружил. Если бы Томпсон выбрал такую стратегию, то начал бы действовать раньше, ибо открытие выставки узаконит нового собственника коллекции – французское правительство. А это существенно осложнит перепродажу картин.
Но если бы попытка захвата и была предпринята, то она была бы обречена на неудачу. Дюваль убедил министра обороны выделить на охрану павильона побольше людей.
Дюваль посмотрел на зевак, собравшихся у ограждения. Толпа людей стояла перед павильоном и следила за тем, что происходит на площадке. Команда плотников возводила на территории павильона какое-то странное сооружение. Все утро стучали молотки и кувалды, у Дюваля голова распухла от этого шума.
Он снова остановился и посмотрел на Даниэля, своего помощника.
– А как идут дела в тюрьме?
– Все в порядке. Завтра утром ровно в десять состоится казнь убийцы. Как вы просили, никаких предварительных объявлений о казни в прессе не было и не будет. Когда все будет закончено, тогда и объявят прессе о том, что мадемуазель Ладо была признана виновной.
– Хорошо.
Дюваль смог убедить министра юстиции в том, что необходимо обеспечить секретность мероприятия, дабы не вызывать публичных волнений, было решено не объявлять о том, что обвиняемая признана виновной, сразу по завершении процесса, закончившегося на прошлой неделе. Дюваль также настоял на том, чтобы приговор привели в исполнение немедленно и втайне. Дюваль мотивировал свои соображения тем, что обожатель Лизетты Ладо гангстерский король Бельвиля Даргело, узнав о смерти своей возлюбленной, будет слишком подавлен и не станет оказывать помощь Гаррету и Мэйсон, которые наверняка попытаются вернуть себе картины.
В глубокой задумчивости Дюваль прошел по тропинке примерно двадцать футов и остановился, бросив через плечо взгляд на своего помощника.
– А как насчет сестры художницы? Что-нибудь удалось выяснить?
– Нет, сэр. Мы получили информацию о том, что они покинули ту квартиру в Бельвиле, где прятались изначально, и мы выставили дополнительный патруль в центре города. У каждого полицейского есть описание беглецов, и каждому дано указание задержать их любой ценой. Полицейским разрешено открывать стрельбу на поражение, сэр.
Они знают, сэр, что на сегодняшний момент это задание – главное.
Дювалю все это совсем не нравилось. Он не испытывал никакой враждебности к молодой американке и тем более к красивой гимнастке, которую вот-вот должны были казнить. Все они, включая самого Дюваля, стали жертвами ситуации, которая, казалось, уже давно развивалась по собственной воле. Горькая ирония состояла в том, что эти молодые и полные сил люди должны были умереть во имя будущего Франции.
Конечно, детективу Дювалю было бы куда спокойнее, если бы Мэйсон Колдуэлл, Ричард Гаррет и Лизетта Ладо оказались на том свете, где они уже никак не смогут испортить ему карьеру. Но не это главное. Нет, не это. Главное – честь Франции! Дюваль считал себя французом, во-первых, а полицейским – лишь во-вторых.
С другой стороны, пока Мэйсон Колдуэлл и Ричард Гаррет оставались на свободе, угроза его карьере, не просто угроза, а смертельная угроза, определенно присутствовала. И поэтому он вынужден был быть непреклонным.
Ну что же, если у них достанет безрассудства и дерзости для того, чтобы осмелиться похитить картины, он знает, как им ответить.
Дюваль развернулся и зашагал обратно к павильону. Стук молотков сильно действовал ему на нервы. Когда же это прекратится?
– Что делают эти люди? – раздраженно спросил он. Даниэль покраснел:
– Очевидно, сэр, эти работы как-то связаны с укреплением основания башни.
– Когда они уже закончат? Мы же не можем допустить, чтобы все знаменитости, которых мы пригласили, оглохли от этого грохота! Скажи им, чтобы заканчивали, и чтобы к восьми утра завтрашнего дня ноги их тут не было. Если им придется работать всю ночь, пусть работают. Мне все равно.
Ричард швырнул лопату на кучу рыхлой земли с кусками известняка и положил булыжник в плетеную корзину. Рабочий, что стоял у Ричарда за спиной, взял корзину и передал следующему позади себя. В катакомбах кипела работа. От этого узкого конца ствола к другому, более широкому, тянулась длинная цепочка людей. Ричард был весь в пыли и в поту. Он устал, от керосинки, которую он вынужден был постоянно держать у лица, шел жар. Без лампы работать Ричард не мог. Непроглядная тьма рождала у него чувство страха, симптомы клаустрофобии. Работа была тяжелой, но перепоручить ее кому-то другому Ричард не мог по многим причинам. Так что приходилось копать самому.
Они проникли в катакомбы через лаз в подвале дома, выходившего фасадом на южный конец Марсова поля. Туннель тянулся примерно на три квартала под выставочными площадями, но затем резко сворачивал в сторону Сены. По расчетам Ричарда, до павильона оставалось около сотни футов. И эти сто футов предстояло прокопать, что оказалось куда труднее, чем можно было себе представить. Сначала кувалдой приходилось разбивать твердый грунт, затем удалять разрыхленную землю лопатой. Твердые камни приходилось вытаскивать и складировать в катакомбах. Работа пусть медленно, но продвигалась вперед. Скоро, как рассчитал Ричард, пойдет слой глины, тот, что ближе к поверхности, и тогда работать станет легче.
Ричард, орудуя лопатой, то и дело возвращался мыслями к Мэйсон. Последние несколько дней она была на удивление молчалива и даже замкнута. После его исповеди они, казалось бы, должны были сблизиться. И в отношении его, Ричарда, так оно и было. Он действительно никогда и ни с кем в жизни не был так близок. Срывать слой за слоем коросту прошлого было мучительно, но, когда он закончил, часть груза словно свалилась с его души. В итоге Ричард даже испытал к Мэйсон благодарность за терпение, за понимание и… да, и за это тоже: за то, что она заставила его увидеть Хэнка таким, каким он был на самом деле. Но потом он поделился с ней своей идеей о том, как можно использовать катакомбы для спасения картин, и она сразу сникла. И с тех пор держалась с ним на расстоянии. Ричард же целиком ушел в работу. Время поджимало. А Ричард работал упорно и целеустремленно. И все же… этот ее взгляд. Он все не шел у него из головы.
На четвереньках к Ричарду подполз еще один землекоп, добродушный корсиканец Пьер, правая рука Даргело. Пьер отлично знал катакомбы. Только благодаря Пьеру они нашли этот туннель.
– Пора мне тебя сменить, – сказал он.
– Одну минуту. Я хочу вытащить вот тот здоровый камень. Он шатается.
– Глина пока не попадалась?
– Нет, но скоро должна пойти, как мне кажется.
– Мы должны быть уже близко, – сказал Пьер.
– Надеюсь, что расчеты нас не подвели. Тут, внизу, легко сбиться с нужного направления. Было бы грустно, если бы мы прокопали туннель к Сене.
Пьер перекрестился.
– Времени у нас в обрез, вот что меня тревожит, – сказал Ричард. – Нам отпущена только ночь – до восьми утра завтрашнего дня. Строительной бригаде велено завершить работу к этому времени. А если мы будем продолжать копать и после восьми, нас могут услышать.
– Тогда уступай мне место. Ты устал. Я постараюсь копать как можно быстрее.
Роскошный экипаж свернул с бульвара Капуцинов на подъездную дорожку к «Лё-Гранд-Отелю». Когда карета остановилась, возница объявил слуге в красивой униформе:
– Граф Дювиль.
Лакей поспешил открыть дверь, и граф вышел.
То был низенький худощавый человечек с вечной ухмылкой на полных губах под коротко стриженными усиками. Дювиль с надменным видом огляделся, затем поднялся наверх по ступеням, вошел в отель, пересек вестибюль и остановился, увидев герцогиню Уимсли, которая сидела с пожилым господином в дальнем углу. Приблизившись к парочке, Дювиль поприветствовал их кивком головы, а к протянутой руке дамы едва прикоснулся губами.
– Прошу вас, присоединяйтесь, – сопроводив свои слова грациозным жестом, предложила дама.
Граф сел в кресло, и дама, наклонившись к нему, шепотом сказала:
– Маскировка просто отличная. Я раскусила вас только тогда, когда вы поклонились.
Это была идея Эммы – встретиться тайно и в то же время у всех на глазах. Не исключена вероятность того, что за особняком Галлери ведется наблюдение. Эмма отправила экипаж по нужному адресу и позаботилась обо всем прочем. Персиваль с его всегдашней невозмутимостью встретил Мэйсон у границ Бельвиля со стороны Парижа, и уже в экипаже она преобразилась в графа Дювиля.
– Это мой муж, Смедли, – сообщила Эмма. – А это, мой дорогой, это… – После секундного колебания Эмма продолжила: – То лицо, о котором я говорила.
Смедли Фортескью-Уинтроп-Смит, герцог Уимсли, подался вперед, чтобы обменяться с Мэйсон рукопожатиями.
– Я счастлив с вами встретиться, хотя по причинам вам известным не могу обращаться к вам по имени.
Мэйсон усмехнулась:
– Пока вы можете звать меня «граф». У вас что-нибудь получилось?
– Нам удалось приобрести именно то, чего хотел Ричард. На самом деле это Смедли все устроил. Расскажи графу о наших планах, Смедли, дорогуша.
– Через своего личного знакомого, графа Хамбершема, я смог зафрахтовать самый быстрый катер. В настоящее время судно стоит в Шербурге – это самый безопасный маршрут из страны.
Эмма с гордым видом похлопала мужа по руке.
– Смедли чересчур скромничает. Ему пришлось выложить круглую сумму графу, чтобы его уломать.
Смедли покраснел:
– Зачем человеку деньги, если не затем, чтобы выручить друзей в трудную минуту?
Мэйсон наклонилась ближе к герцогу:
– То, что вы делаете, чрезвычайно опасно. Я хочу, чтобы вы знали, как высоко мы ценим ваши усилия.
– Да не за что, моя… мой юный друг. Это ничто в сравнении с теми маленькими – как ты их называешь, дорогая? – номерами, что выкидывала моя Эмма. Кстати, вы знаете, что она была отъявленной мошенницей? Все эти годы я и понятия об этом не имел. Но она, наконец, мне открылась. Я знал, что она выдающаяся женщина, но не знал, насколько она выдающаяся. Должен сказать – это редкая удача, жениться на авантюристке. И я очень горд и счастлив тем, что Эмма любит меня настолько, чтобы облагодетельствовать своим доверием.
– Знаете ли, – сказала герцогиня, взяв мужа за руку, – мы уничтожили мои подделки ваших работ. Мы сделали это вместе.
– И какой отличный получился костер, знаете ли! Эмма улыбнулась мужу и попросила:
– Смед, дорогой, будь любезен и принеси нам чего-нибудь прохладительного. Нам надо немного поболтать.
Когда он ушел, Мэйсон сказала:
– Выходит, вы послали все к чертям и рассказали мужу о своей жизни?
– Да. Благодаря вам. С того самого дня, как я вышла замуж, я жила в постоянном страхе разоблачения. Но теперь, когда я все рассказала Смеду, мне кажется, он снова в меня влюбился. А может, и в первый раз влюбился. В меня настоящую. О, Мэйсон, какой же я была глупой! Этот человек – лучшее, что могло со мной случиться в жизни, а я об этом даже не догадывалась.
– Значит, с Ричардом покончено? – спросила Мэйсон.
– Абсолютно. Я никогда не была так счастлива, как в последние два дня. Я освободилась от страсти, которая давно потеряла смысл. Заставив меня посмотреть правде в глаза, вы дали мне еще один шанс в жизни. И я намерена этой возможностью воспользоваться сполна. Мэйсон, дорогая, я даже не знаю, как вас благодарить!
– Вы меня уже отблагодарили. Ваша помощь будет нам незаменимым подспорьем. И Ричард так же благодарен вам, как и я.
Эмма засмеялась:
– А вот в этом позвольте усомниться.
– Но это так. Я сказала ему, что следила за ним в ту ночь, когда он пошел к вам. Он знает о нашем разговоре. Должна признать, он не слишком охотно решился вам довериться. Но, Эмма, он действительно пытается измениться. Он знает, что должен измениться. То, что вы считали невозможным, произошло. Он порвал с Хэнком. Я воспользовалась вашим советом и довела дело до конца.
У Эммы от удивления расширились глаза.
– Ну-ка расскажите немедленно!
Мэйсон пересказала все то, что произошло возле обсерватории.
– Ах, эта змея, Хэнк! Я знала, что ничего хорошего он затевать не станет. Но такое предательство?! Дмитрий Орлов! Нашел с кем связаться! И как это все воспринял Ричард?
– Именно так, как вы предсказывали. В этом и лежал ключ к разгадке его прошлого. Он все мне рассказал, Эмма. Все.
У Эммы блеснули глаза.
– Всего несколько дней назад я бы умерла, если бы узнала, что стоит за этим «все». Но теперь я считаю, что это должно остаться между вами двумя. Я так счастлива за вас, Мэйсон. Теперь мы обе имеем то, что хотим иметь.
– Не совсем. Ричард открылся навстречу тому, что его преследует, но он не освободился. Он до сих пор во власти прошлого. Он все еще видит кошмары. И, как вы видите, его одержимость картинами, той легендой, что они представляют, все еще движет им. Мне на эти картины наплевать, и я никогда не буду счастливой, пока они не уйдут из нашей жизни.
Эмма сочувственно кивнула. Только она могла полностью понять Мэйсон. В конце концов, разве она сама не была в ее положении, когда три картины Пуссена оказались для него важнее живой любящей женщины?
– И что вы намерены делать?
Мэйсон ответила не сразу. Затем она взглянула на Эмму и сказала:
– Я заставлю его сделать выбор между мной и моими картинами.
Ночь кончалась, но Ричард еще не закончил подкоп. В очередной раз воткнув лопату в грунт, он вдруг со счастливым облегчением почувствовал, что грунт стал податливее, мягче. Еще немного, и в лицо ему ударил луч света. Все-таки они это сделали!
– Мы пробились! – крикнул он, обернувшись. – Готовимся к наступлению.
Ричард просунул лопату в образовавшееся отверстие и повернул ее, пытаясь его расширить. Лопата ударилась о какой-то металлический предмет. Тогда Ричард отвел ее назад и снова с силой толкнул вперед, пробив препятствие. Послышался зловещий шипящий звук.
– Я повредил трубу с газом! – крикнул он, обернувшись. – Быстро отходите назад!
Схватив лампу, Ричард пополз назад, к широкому концу туннеля. Но, оступившись, выронил лампу. Она упала, покатилась, и керосин струйкой потек по каменному полу.
Ричард изо всех сил бросился назад, но волна горячего воздуха подхватила его, подняла с пола и покатила по коридору.
Глава 33
Отец Гастон прибыл в тюрьму Сантэ ровно в восемь утра, за два часа до казни, тайно назначенной на десять утра. Проходя под конвоем по тюремному двору, он не мог не заметить, что все учреждение было превращено в военный лагерь. Кольцами расположенные улицы Монпарнаса были запружены солдатами, а на внутреннем дворе, где уже успели установить гильотину, плотными рядами стояли бойцы ударного отряда полиции.
– Видите ту белую трибуну возле гильотины, святой отец? – показал на турникет один из конвоиров. – Это для самого президента Франции. Охрана получила известие вчера вечером о том, что его превосходительство может пожаловать на казнь самолично. Почтить нас своим присутствием.
Отец Гастон взял в руку большое деревянное распятие, висевшее у него на шее, и поцеловал его.
– Да свершится воля Господа, – пробормотал он.
Когда они поднялись на второй этаж, где приговоренная доживала свои последние часы, охранник сказал:
– Простите, святой отец, но я вынужден вас обыскать.
– Обыскать меня? Но зачем? Я ведь тут, чтобы принять исповедь и причастить женщину перед смертью.
– Здесь каждого велено обыскивать. Приказ. Даже самого папу римского пришлось бы обыскать, если бы он решил к нам пожаловать.
Священник вздохнул:
– Ну что ж. Надо так надо.
Охранник смущенно похлопал отца Гастона по бокам.
– Все хорошо, святой отец. Еще раз простите.
– Ты прощен, сын мой.
– Боюсь, что мне придется быть с вами, когда вы будете слушать исповедь.
– Но я не могу этого допустить! – возмутился священник.
– Еще раз прошу прощения, святой отец, но таков приказ.
– Ну что же. Пусть это и вопреки традициям, но, как я полагаю, мы должны выполнять приказы.
Шаги их отдавались гулким эхом в каменных казематах.
– Как она? – спросил священник.
– Держится вызывающе. Боюсь, она может плюнуть вам в лицо.
– Бедное заблудшее дитя.
– Она красивая, святой отец. Ужасно, что ей отрубят голову.
– Дьявол, похоже, питает склонность к красивым женщинам, сын мой.
– Верно, святой отец. Ох, как верно.
Охранник вставил ключ в замок, повернул его и открыл тяжелую дверь. Лизетта сидела на голой койке, поджав под себя ноги, и смотрела в стену. Светлые волосы ее были распущены и немного растрепаны. Она была босиком, туфли валялись под койкой.
– Я здесь, чтобы отпустить тебе грехи, – объявил священник.
Не глядя на священника, Лизетта сказала:
– Не стоит беспокоиться. Мне не в чем исповедоваться.
– Посмотри на меня, дитя мое. Посмотри мне в глаза.
И Лизетта повиновалась. В глазах ее промелькнуло радостное удивление.
– Так вы считаете, что можете спасти меня, святой отец?
– Господь наш говорит, что каждый может быть спасен. После недолгой паузы Лизетта пожала плечами.
– Почему бы нет? – Она встала и опустилась перед священником на колени. – Простите меня, святой отец, ибо я согрешила.
Когда от взрыва под Дювалем дрогнула земля, он стоял в двадцати футах от павильона Колдуэлл, прямо перед входом в него, отдавая последние распоряжения своему рвущемуся в бой помощнику. Оба, и Дюваль, и его ассистент, бросились на землю. Поднявшись на ноги, Дюваль, обескураженный случившимся, никак не мог взять в толк, что произошло. С некоторым опозданием смысл произошедшего стал до него доходить. Одного он не учел, об одном не подумал: они ведь могли сделать подкоп под павильон! Как он сам не додумался? Но что случилось? Они, очевидно, перебили трубу, по которой шел газ. Не повезло ребятам…
Но тут, помешав дальнейшему развитию его соображений, донесся крик:
– Пожар!
Из-под дверей павильона валил дым. Двое людей Дюваля, которых инспектор на всякий случай поставил дежурить внутрь, выбежали из павильона, задыхаясь и кашляя.
Внутри уже полыхало пламя.
Господи! Картины!
Дюваль крикнул сержанту, командовавшему ближайшим взводом солдат:
– Давайте сюда! Спасайте картины, пока не поздно!
Без особой охоты солдаты побежали в горящее здание и стали снимать картины со стен и вытаскивать их из горящего павильона. Даниэль подбежал к своему начальнику:
– Что нам с ними делать? Мы же не можем оставить их здесь, у всех на виду?
Дюваль понимал, что Даниэль говорит дело. На площадке было полно рабочих. На пожар сбежались посмотреть все окрестные зеваки. Кто-то уже нес ведра с водой: воду набирали из фонтанов, что били поблизости. Среди всей этой толпы вполне могли оказаться преступники, люди, склонные к воровству.
Дюваль огляделся по сторонам и увидел вереницу повозок из шоу Буффало Билла.
– Реквизируй повозки! Мы погрузим картины на них и отвезем в Префектуру.
Уже вовсю звонили пожарные колокола. Скоро на место должна была прибыть бригада брандмейстеров. Дюваль с тревогой взглянул на сваленные на земле картины.
– Осторожнее! – крикнул он одному из солдат, тащившему холст волоком по земле.
Когда все холсты были погружены в три повозки, инспектор приказал:
– Доставить картины в Префектуру как можно скорее.
– Черта с два ты их заберешь! – Через толпу к Дювалю отчаянно продирались двое: мужчина и женщина. У мужчины были длинные седые волосы и борода, на нем были штаны из оленьей кожи и два пистолета за поясом. Женщина была одета на тот же манер, и в руках у нее был винчестер. – Куда это ты собрался с моими повозками? – крикнул мужчина.
Даниэль, стоявший рядом с Дювалем, прошептал начальнику на ухо:
– Это и есть Буффало Билл, сэр. Тот самый знаменитый американский ковбой. А с ним, должно быть, Анни Оукли.
– Именем Франции я конфискую ваши повозки.
– Именем Америки я говорю тебе: черта с два!
Багровея, Дюваль рявкнул:
– Мне надо немедленно доставить эти бесценные картины в безопасное место.
– Мне плевать, что тебе надо, только я не позволю тебе красть мои повозки.
– Не будь дураком, твои повозки никуда не денутся. Тебе их вернут. Я просто одолжу их на пару часов.
– А я тебе говорю, что не дам их тебе и на пару минут. У меня сегодня утреннее представление, и весь реквизит лежит в повозках.
На виске Дюваля начала вздуваться вена.
– Убирайтесь прочь. Пожалуйста, не мешайте мне. У меня нет времени на дурацкие разборки. Если мне придется вас арестовать, я так и сделаю.
– И кто это собрался меня арестовывать? Может, ты?
– Да. И если у тебя хватит глупости сопротивляться, я просто отдам команду вон тем солдатам, и они тебя пристрелят.
– Может, оно и так, только прежде, чем ты сможешь отдать команду «пли!», вы оба, мелкие крысы, уже испустите дух. Анни, ты берешь того, мелкого, а я беру на себя босса.
– О чем разговор, Билл. – Женщина вскинула винтовку.
– Сэр! – Даниэль потянул Дюваля за рукав. – Они ведь могут нас пристрелить.
– Заткнись, ты, идиот! – вспылил Дюваль. Затем, решив испытать иной подход, он сменил тон: – Я умоляю вас, месье Коди. Франция нуждается в вашей помощи в этот тяжелый для страны момент.
Мужчина в кожаных штанах пожал плечами:
– Ну что же, раз ты это так излагаешь, поступим по-соседски. Но я хочу, чтобы правили этими повозками мои люди. У меня лучшие мустанги Запада, и я не хочу, чтобы ваши городские хлыщи обращались с ними, словно с вьючными мулами. Ими надо уметь управлять. – Он повернулся к своим людям: – А ну-ка, братцы, отвезите эти картины туда, куда он хочет.
– Я должен посадить рядом с каждым из ваших людей своего человека, – сказал Дюваль.
– Сажай на здоровье. Пошли, Анни, мы тоже поедем. Подвезти? – спросил он, обращаясь к Дювалю.
– К сожалению, я не могу ехать с вами. Тут на мою голову свалилось несчастье. Известным и уважаемым людям, приехавшим в Париж ради того, чтобы посмотреть на собрание картин Колдуэлл, мне придется показывать дымящиеся руины.
Дюваль и Даниэль смотрели вслед удаляющемуся каравану. И тут один из сыщиков с озадаченным видом подошел к Дювалю.
– Индейцы, сэр. Один из моих людей сказал, что узнал их. Говорит, они из «апачей».
– Разумеется, идиот, – презрительно фыркнул Даниэль. – Буффало Билл приглашает в свое шоу настоящих индейцев.
– Нет, сэр. Не индейцы апачи. «Апачи» из Бельвиля. «Апачи» Джуно Даргело.
Дюваль побледнел как полотно.
– Догнать их! – крикнул он, обращаясь к конвою. – Остановить! Стрелять на поражение!
– Но, сэр, нам не на чем их догонять. И если мы будем стрелять, то можем убить своих.
Дюваль понял, что его переиграли. Ну что же, он еще сумеет отыграться. Он не из тех, кто сдается без боя.
– Подать сюда мой экипаж, – приказал инспектор Даниэлю.
* * *
Лизетта, отец Гастон и капитан охраны шли через двор под барабанную дробь. Волосы Лизетты были собраны на затылке, а руки связаны за спиной. Пока они шли, священник читал отрывки из Библии, которую держал в руках. Палач, крупный, грузный с черным капюшоном на голове, стоял рядом с гильотиной. По левую сторону от платформы, на которой он находился, была расположена трибуна белого цвета, выстроенная специально для президента Франции. Но трибуна была пуста. Очевидно, президент передумал приезжать на казнь.
Вся троица медленно шла к палачу. Капитан охраны церемонно сказал:
– Передаю пленницу вашему попечению. Да свершится правосудие.
Палач кивнул ему, затем обернулся, залез в свой мешок и достал оттуда черный предмет с запалом. Из кармана он достал спичку, которую зажег о каблук, и поджег запал. Пока все собравшиеся, открыв от удивления рты, наблюдали за происходящим, палач со всей силы швырнул горящий предмет на несколько сот футов вверх, через стену, к парадному входу в тюрьму. Раздался чудовищной силы взрыв.
Сделав это, палач снял капюшон.
Хьюго.
Пока рота ошалевших солдат приходила в себя, Хьюго бросился прямо в солдатскую толпу и стал расшвыривать их, как кегли. Пока громила продолжал выводить охрану из строя, священник, который был вовсе не священник, а сам Джуно Даргело, выхватил из-за пояса капитана саблю и перерубил его пополам. Затем быстрым движением он перерезал веревки, которыми были стянуты руки Лизетты.
– Эта белая трибуна – трамплин, – сказал он ей. Если ты сможешь с его помощью впрыгнуть на стену, что позади тебя, то увидишь твоих друзей с повозками. Тебе надо только прыгнуть вниз, на одну из повозок. Но ты должна торопиться. Бомба Хьюго отвлекла охранников, однако они вернутся на свой пост уже очень скоро.
– Вот так веселье! – радостно воскликнула Лизетта.
Она быстро спустилась с платформы и побежала к трибуне. Взлетев на трамплин по ступенькам, Лизетта пару раз прыгнула, чтобы набрать высоту, а затем, сделав обратное сальто, взлетела на стену. Взглянув вниз, она увидела повозки Буффало Билла прямо внизу.
– Они здесь! – крикнула она Даргело.
Кое-кто из солдат успел схватиться за оружие. Джуно наклонился, поднял пистолет капитана и стал отстреливаться.
– Прыгай! – крикнул он Лизетте.
– А ты?
– Не обращай внимания. Мы задержим их, прикроем тебя. Давай же!
Но Лизетта подбоченилась, надула губы и заявила:
– Я никуда без тебя не уйду.
Он снова выстрелил, сбив солдата, целившегося в Лизетту.
– Не упрямься. Прыгай!
– Если ты полагаешь, что я возьму на душу смерть Хьюго, то ты еще больший дурак, чем я думала!
Даргело бросил недобрый взгляд на Хьюго, который управлялся с двумя охранниками сразу.
– Хьюго, давай за ней.
– Но, босс…
– Я сказал, пошевеливайся!
Хьюго столкнул солдат головами, затем, как было приказано, бросился вверх по ступенькам, ступил на трамплин и в один миг оказался на стене.
– Теперь ты! – крикнула сверху Лизетта.
– Я останусь. Я прикрою ваш отход. – Даргело поднял пистолет и выстрелил еще в одного солдата. – В любую минуту они вернутся. Быстрее прыгайте.
– Я без тебя никуда не уйду. Почему ты не хочешь идти? Джуно не откликался.
И вдруг Лизетта поняла.
– Ты боишься… Ты ведь боишься высоты, верно? Джуно бросил на нее возмущенный взгляд.
– Ты уберешься, наконец, отсюда!
– Вот как! Джуно Даргело, человек, перед которым трепещет в страхе весь Париж, все добропорядочные обыватели, боится высоты! Неудивительно, что он так прикипел к покорительнице воздуха! – Лизетта тряслась от смеха. Она смеялась так, что Хьюго решил ее поддержать, чтобы она случайно не свалилась со стены.
– Ну, держись! – рявкнул Джуно. – Я покажу тебе, кто тут трус.
Два солдата бросились на него со штыками, но он, словно матадор, изящно ушел в сторону, предоставив им проткнуть штыками стену, что была у него за спиной.
– Значит, я боюсь?
Он стремительно взбежал по ступеням и, не дав себе подумать о том, что делает, прыгнул на трамплин. Однако, оказавшись в воздухе, он потерял равновесие и полетел на стену вверх тормашками. Хьюго успел его поймать. С помощью Лизетты Даргело был успешно водружен на парапет.
И в этот момент со двора открыли огонь. Пули со свистом пролетали мимо. Даргело дернулся, и Лизетта с Хьюго еле-еле смогли его удержать от падения. Лизетта увидела на рукаве Даргело кровь. И в тот же момент весь ее кураж куда-то исчез и она, обняв Джуно что есть мочи, запричитала:
– Джуно, любовь моя! Мой бедный, нежный, храбрый голубок!..
Глава 34
В порту Кале Хэнк Томпсон наслаждался сигарой, развалившись в шезлонге на палубе «Княжны Александры». Дмитрий Орлов, сидевший рядом, то и дело посматривал на карманные часы и качал головой. Для них обоих эта неделя стала сплошным разочарованием, начиная с ночной встречи возле обсерватории. Однако Хэнк никак не выражал своих эмоций в отличие от его русского партнера. Хэнк потягивал сигару, вращая в пальцах, и лениво выдувал кольца дыма. Внизу на пристани нанятые ими «солдаты удачи» играли в карты и кости, рассказывали друг другу сальные истории и ждали, когда их призовут к действию.
– Сколько еще мы собираемся сидеть тут и бездельничать? – воскликнул Орлов.
– А вы что предлагаете?
– Как вы можете так спокойно ко всему этому относиться? Если мы не раздобудем картины, то, считайте, мы оба покойники. Я уже договорился с нужными людьми, а с ними, поверьте мне, шутки плохи. Если я вернусь с пустыми руками после всего, что им наобещал, моя жизнь не будет стоить и ломаного гроша.
– Но ведь мы действительно ничего не можем сделать! Французы держат на Марсовом поле целый полк. Даже если бы люди Даргело пришли к нам на помощь, нам против регулярной армии не устоять.
– Так вы намерены просто взять и сдаться?
– Нет. Сдаваться я не собираюсь. Как я понимаю, у нас еще есть хороший шанс заполучить эти картины.
– Ба! Вы сами не знаете, что говорите.
– Ни вы, ни я сделать ничего не можем, потому что нам не хватает мозгов. Но Ричард – он умнее нас с вами, вместе взятых. И он хочет заполучить картины Мэйсон, и уж не знаю как, но он их получит. Я готов на это поставить свою жизнь.
– И как, позвольте поинтересоваться, он их получит?
– Не знаю. Если бы я знал, я бы сам их добыл. Но Гаррет самый умный парень из тех, что мне попадались в жизни. Я знаю моего Ричарда. Он добудет эти картины, а мы их у него заберем.
– Это безумие! – вспылил Орлов. – Зачем я только с вами связался!
Хэнк посмотрел на Дмитрия и улыбнулся:
– Расслабьтесь. Говорю вам, я знаю Ричарда.
Хэнк увидел, что к ним идут. Курьер, разносчик телеграмм.
– Месье Томпсон?
Хэнк взял телеграмму и сказал Орлову:
– Дайте пареньку монетку, Дмитрий. – Пока Орлов доставал из кошелька мелочь, Хэнк вскрыл конверт. Прочитав сообщение, он широко улыбнулся. – Что я вам говорил? Знаю я своего напарника или нет?
– Он украл картины?
– Все до единой. И он уже погрузил их на поезд.
– Какой поезд?
– До Шербурга.
– Это же в сотне миль отсюда!
– Не важно. Мы можем их перехватить.
– Вы все это спланировали?
– Я не знал, с какого порта они отправятся, но понимал, что порт будет северный. Подайте мне карту с того стола.
Пока Хэнк разворачивал карту Франции, Орлов спросил его:
– Как вы обо всем узнали? Кто направил вам телеграмму?
– Послушайте, Дмитрий, вы же не думаете, что я стал бы затевать такую рискованную операцию, не подстраховавшись. У меня есть свой человек в тылу врага.
Орлов просиял:
– Шпион?
– Да, и очень хороший шпион. Из ближайшего окружения Даргело. Парень весьма сообразительный и изобретательный.
– И что теперь мы станем делать?
Хэнк скосил глаза на карту, на линии железнодорожных путей, испещривших страну, и нашел маршрут, связывавший Париж с Шербургом.
– Вы спрашивали, что мы будем делать? Мы воспользуемся нашим поездом, чтобы отрезать их вот здесь – где южная ветка от Кале пересекается с трактом Париж – Шербург. – Хэнк ткнул кончиком сигары в нужное место на карте.
– Что вы имеете в виду под словом «отрезать»? Вы хотите блокировать пути?
– Именно.
– Но что это даст? Если поезд наберет хорошую скорость, он просто пробьет вагон насквозь. Вы же знаете, из чего сделаны железнодорожные вагоны? Из досок, неплотно пригнанных одна к другой!
– Возможно, друг мой, только вагоны того поезда, который мы собираемся взять, сделаны из другого материала.
– Не понял?
– Эти вагоны будут доверху – от пола до потолка – набиты пороховыми ракетами, которые только что сгрузили с корабля. По расписанию поезд с ними должен отбыть в Париж сегодня днем, но мы его ненадолго одолжим у Франции. На всех вагонах будет маркировка «взрывоопасно». И, будь уверен, в них он точно не врежется.
Орлов оценил красоту комбинации, но сама идея ему все же не очень нравилась.
– Что, если ты ошибаешься? Тогда мы взлетим на воздух!
– Я не ошибаюсь, говорю тебе. Я знаю своего Ричарда. Когда козыри сброшены, он не сделает ничего, что могло бы навредить старику Хэнку. И уж точно он не сделает ничего такого, что могло бы навредить картинам.
Высунувшись, насколько это возможно, из окна локомотива скорого поезда Париж – Шербург, Ричард, теперь уже снявший костюм Буффало Билла, смотрел назад. Он видел, что второй поезд их догоняет – наверняка его пустили по их следу. В воздух вздымались клубы пара, топка работала на износ. Впрочем, между составами оставалась дистанция не меньше мили, и если не сбавлять ход, то преследователи могли и не успеть.
– Ребята, бросайте побольше угля! – крикнул Ричард двум парням из банды Даргело, все еще одетым как индейцы.
Когда весть о скорой казни Лизетты пришла к ним через своего человека из тюрьмы Сантэ, у них оставалось всего несколько часов на все про все. Самым легким оказалось с помощью того же человека организовать постройку трамплина и заменить настоящего священника и палача на Джуно и Хьюго. Нетрудным оказалось – благодаря дружбе Эммы с Буффало Биллом, сложившейся еще в те времена, когда она работала в салунах Запада, – устроить маскарад с костюмами и повозкой. Но все остальное… Поджечь павильон… за считанные минуты выбраться из туннеля и переодеться в костюмы индейцев, а потом разыграть спектакль перед Дювалем… скинуть с повозок людей Дюваля и ко времени домчаться до тюрьмы… потом успеть на вокзал, как раз к отправлению экспресса Париж – Шербург… вот это оказалось задачей не из легких.
Ричард вернулся в первый пассажирский вагон. Все картины были внутри.
Лизетта делала перевязку раненому Даргело.
– Как здоровье пациента? – спросил Ричард.
– Пуля только слегка его задела, – сказала Мэйсон. – Он непременно поправится.
– Слегка? – возмутилась Лизетта. Посмотрите, как он страдает. Мой бедный Джуно, ты готов был отдать за меня жизнь.
Купаясь в тепле ее внимания, гангстер с гордостью сообщил Ричарду:
– Видели, как я сделал сальто в воздухе? Великолепно, правда?
Ричард улыбнулся:
– Ты летал как птица. Пожалуй, ты был похож на ястреба. Даргело немного подумал и решил уточнить:
– Или на орла?
– Именно. На орла.
Даргело просиял.
– Нам с Джуно надо поговорить относительно того, как нам действовать, когда мы приедем в Шербург.
Лизетта погладила Даргело по голове, провела нежно по лбу.
– Я уйду. Но я буду недалеко. Если я буду нужна тебе, мой друг, позови свою голубку, и я прилечу к тебе, мой бравый орел. – Лизетта наклонилась и крепко поцеловала Даргело в губы.
Мэйсон вместе с Лизеттой отошли в дальний конец вагона. Мэйсон заметила счастливую улыбку на лице Даргело.
– Она меня любит, – сообщил он Ричарду.
Женщины сели на подбитые ватой и обтянутые плюшем сиденья первого класса. Прошла целая вечность с тех пор, как они вот так сидели вдвоем и секретничали. Столько всего произошло за это время. Мэйсон повернулась к Лизетте и положила руки ей на плечи.
– Ты самый лучший друг, о котором может только мечтать человек.
Лизетта, казалось, была искренне удивлена.
– Но это ты спасла меня.
Слезы подступили к глазам Мэйсон:
– Лизетта, ради меня ты готова была лишиться жизни. Ты даже не подумала сказать им правду, чтобы спастись. И все это лишь потому, что боялась мне навредить. Они могли бы пытать тебя неделями, но ты все равно бы молчала. Ты самый честный, самый преданный, самый благородный человек на свете. Такого друга нет ни у кого на земле.
Лизетта пожала плечами. Как всегда, когда не хотела показывать, что чувствует на самом деле.
– Да так, ерунда.
– Нет, – продолжала настаивать Мэйсон. – Это не ерунда.
Не в силах сдержать переполнявших ее чувств, она привлекла Лизетту к себе и крепко-крепко обняла. Когда она ее отпустила, глаза Лизетты тоже были влажными.
Лизетта с досадой смахнула со щек слезы.
– Не заставляй меня плакать. Мне надо держать фасон. Нельзя позволять мужчинам думать, что я сделана из ахов и охов.
Мэйсон засмеялась и тоже утерла слезы.
– Ну вот, вижу, ты помирилась с Джуно.
– Я решила его простить. – Лизетта хотела, чтобы это прозвучало с беспечной небрежностью, но Мэйсон было не так легко провести. – Если уж он рисковал ради меня, надо уметь прощать.
Лизетта бросила томный взгляд в сторону Джуно. Мэйсон смотрела на нее и думала, что никогда еще не видела свою подругу такой счастливой.
– Ну а теперь, когда все позади, ты можешь сказать мне, что он натворил? За что ты не могла его простить?
Лизетта бросила взгляд в сторону Даргело, словно сомневалась, стоит ли открывать про него ужасную правду.
– Ну ладно тебе, Лизетта. Ты же знаешь, я ни одной живой душе не расскажу, – улыбнулась подруге Мэйсон.
После недолгого колебания Лизетта, приложив палец к губам, наклонилась к ее уху и прошептала:
– За то, что он чавкает! – Лизетта выпрямилась, положила руки на колени и добавила. – Ну вот. Я сказала.
Мэйсон открыла рот от удивления.
– Чавкает?
Лизетту передернуло:
– Это так отвратительно, что я даже не могу об этом думать.
– Поэтому ты ему все время отказывала? Не потому, что он самый знаменитый бандит в Париже? Но потому, что он чавкает?
Лизетта смотрела на Мэйсон так, словно видела перед собой полоумную:
– Послушай, как бы тебе понравилось сидеть за одним столом с мужчиной до конца дней и слушать этот ужасный звук? Чав-чав-чав. Придется мне в уши ватные шарики вставлять!
Мэйсон с недоумением посмотрела на Лизетту, потом откинула голову и захохотала. Она так хохотала, что у нее заболели бока и слезы полились по лицу. Наконец, отдышавшись, она сказала:
– Просто попроси его так больше не делать! Лизетта посмотрела на нее с озадаченным видом и сказала:
– Но мужчинам не нравится, когда женщины ими командуют. – Она оглянулась на Даргело. Ричард уже поговорил с ним и возвращался в локомотив. Лизетта повернулась к Мэйсон и подмигнула. Затем она пожала Мэйсон руку, встала и пошла к Даргело.
Мэйсон видела, как они сидели, склонив головы друг к другу. Она вдруг почувствовала зависть к этим двум любящим друг друга людям. Они-то были вместе, а вот она и Ричард…
Выдержит ли она тот удар, что сама же и подготовила? «Надеюсь, я поступаю правильно!»
Через полчаса Мэйсон выглянула в окно и увидела дорожный знак, До города Верней оставалось пять километров. Час настал.
Мэйсон направилась к Ричарду. Поезд медленно въезжал на крутой холм, пыхтя и отдуваясь, и Ричард помогал кочегару. Как только поезд достиг вершины холма, Мэйсон подошла к Ричарду и встала рядом.
– Теперь уже недолго осталось, – сказал он, опустив лопату.
– Да, недолго.
Когда поезд начал спускаться с холма, Ричард выглянул из окна и увидел нечто такое, чего никак не ожидал. Прямо под ними, на рельсах, пересекавших путь, по которому шел поезд, стоял паровоз с пятью вагонами.
Ричард выругался:
– Должно быть, Дюваль успел выслать телеграмму и нас уже ждут.
– И что нам делать? – спросила Мэйсон.
– А что нам еще остается? Набрать как можно больше скорости и протаранить их. Если повезет, можем и не сойти с рельсов.
Мэйсон протянула руку к висящему на гвозде биноклю.
– Может, тебе лучше посмотреть внимательнее?
Ричард взял из ее рук бинокль и поднес к глазам. На площадке того, другого, локомотива стоял и точно так же смотрел на них в бинокль Хэнк, а рядом с ним – его партнер, Дмитрий Орлов.
– Посмотри на вагоны, – сказала Мэйсон.
Ричард пробежал глазами весь поезд. Каждый из вагонов был промаркирован угрожающим черепом с костями, и большие красные буквы предупреждали: «ВНИМАНИЕ! ВЗРЫВООПАСНО!»
– Похоже, ты влип. Тебе так не кажется? – спросила Мэйсон.
Ричард обернулся и, прищурившись, посмотрел ей в глаза.
– Позади Дюваль, впереди Хэнк со всей своей командой. Каков наш выбор? Мы можем спрыгнуть, и поезд пустой пойдет дальше, но тогда погибнет Хэнк и картины. Ты можешь остановить поезд, но тогда Хэнк убьет меня, но зато он и картины останутся живы. Картины он, конечно, заберет, но, по крайней мере, они не погибнут. Так как, Ричард? Решай, времени у нас в обрез.
Ричард сжал зубы так, что под скулами заходили желваки. Он взглянул на Хэнка, на неподвижный поезд, к которому они быстро приближались, затем снова на Мэйсон.
– Это твоя работа?
– Да, я отправила Хэнку телеграмму и навела его на эту мысль.
– Значит, мне придется делать выбор между тобой и картинами?
Мэйсон кивнула. Губы у нее подрагивали.
В какой-то момент она решила, что Ричард сейчас ее ударит. Она помнила, что Ричард так и не смог простить Эмму за то, что та уничтожила Пуссена. Но эти картины – ее, Мэйсон, картины, были для него дороже любого Пуссена. Сможет ли он пойти на это? Сможет ли Ричард, в конце концов, расстаться с ними?
Он смотрел на нее со злобой, руки его сжались в кулаки. Секунды тикали. Поезд шел на сближение.
Затем медленно, очень медленно выражение лица Ричарда стало меняться. Злоба уступила место восхищению. Ричард улыбался мальчишеской, озорной улыбкой.
Обернувшись к двум «апачам», он сказал:
– Всем прыгать. Вернитесь в вагон и передайте мой приказ: прыгать не раздумывая! Времени нет.
– Прыгать? – разом воскликнули «апачи».
Ричард повернул голову к Мэйсон и широко улыбнулся:
– Точно, ребята. Мы покидаем корабль.
«Апачи» бросились в вагон, громко выкрикивая команду Ричарда. Пассажиры, увидев, что за препятствие стоит у них на пути, немедленно повиновались.
Какой-то момент Ричард, не шевелясь, смотрел на Мэйсон и улыбался, затем, выдавив акселератор до предела, чмокнул ее в щеку, схватил за руку, и оба они спрыгнули с убиравшего скорость поезда.
В сотне футах от них Хэнк, продолжавший смотреть в бинокль, не мог поверить собственным глазам. Поезд набирал скорость, и пассажиры прыгали с него, словно кузнечики с раскаленной решетки.
– Я знаю своего мальчика! – презрительно протянул Орлов.
И то были его последние слова. Еще через миг поезд протаранил вагон со взрывчаткой, после чего последовала целая серия взрывов. Вагоны взлетали на воздух по цепочке – один за другим.
Поднявшись с земли, Мэйсон и Ричард взялись за руки. Они наблюдали за взрывами, и оба думали об одном и том же: небо точь-в-точь как поле тюльпанов Моне.
Эпилог
14 июля 1889 года День взятия Бастилии
– Правда, впечатляет? – восхищенно сказала Мэйсон.
Они с Ричардом стояли на мосту Альма, любуясь Эйфелевой башней и ночным небом над ней, расцвеченным салютом. Отовсюду несся колокольный звон – во всех парижских церквях колокола звонили, не переставая. Это был ключевой момент величайшего празднования за всю историю Франции. В дань уважения победоносному прошлому страны, борьбе ее народа за свободу, равенство, братство и за возрождение Франции, возвращение ей роли маяка, указывающего другим народам путь в будущее.
У Ричарда и Мэйсон был еще один повод для праздника, личный повод. Сегодня они отмечали счастливое освобождение от всего того, что началось на этом самом мосту полгода назад. Когда толпа вокруг запела «Марсельезу», Ричард и Мэйсон, захваченные общим патриотическим порывом, подхватили ее. Песню пели и на другой стороне Сены, на Марсовом поле. То был мощный хор, приумножавший гордость и надежду, звучащую в каждом голосе. Мэйсон пела с большим чувством, думая о том, что это песня и о ней тоже. Она приехала в эту страну как изгнанница, как беженка, и страна приняла ее, одарила ее всем тем, чего ей, Мэйсон, так недоставало на родине.
Со слезами на глазах она сказала Ричарду:
– Я так люблю эту страну.
Прошло более трех недель с тех пор, как возле городка Верней, среди полей Нормандии, столкнулись два поезда. Ричард и Мэйсон стояли и смотрели, как взмывают в небо искры, как горят вагоны, когда прибыл Дюваль и взял их под стражу.
– Попал впросак, старина? – сказал ему тогда Ричард.
– Ты еще пожалеешь о том, что родился на свет, – злобно прошипел Дюваль.
– Наши дела не слишком хороши, согласен, – ответил Ричард, – но твои и того хуже. Верно?
– Что вы хотите этим сказать? – подозрительно прищурился Дюваль.
– Сами подумайте. Вы допустили, чтобы убийца сбежала. Вы допустили, чтобы у вас под самым носом умыкнули бесценную коллекцию картин. И из-за вашей небрежности эта коллекция оказалась уничтожена. Не думаю, что вам будет приятно прочесть о себе такое в прессе.
– Не видать вам ордена Почетного легиона, – вставила Мэйсон.
Дюваль болезненно поморщился.
– Ну что же, лучшим утешением мне будет тот факт, что вы оба остатки дней проведете в тюрьме.
– А как вы проведете остатки дней? – не унимался Ричард.
Мэйсон ответила за Дюваля, у которого вся кровь от лица отхлынула при ее словах.
– В бесчестье. В забвении. В одиночестве. Вечным позором Службы безопасности и бельмом в глазу Франции. Я уже не говорю о том, что будет с бедной мадам Дюваль с ее слабым здоровьем.
– А не пришлось бы вам больше по вкусу прослыть героем? – предложил Ричард.
– Героем? – Дюваль от неожиданности замигал.
– Я думаю, что история в моем изложении выглядит довольно привлекательно. Вот послушайте. Американский мошенник Хэнк Томпсон и его русский сподручный украли картины, чтобы контрабандой вывезти их из Франции. И сестра художницы, и я пытались их остановить. Нам удалось это сделать, но, к несчастью, произошло крушение поездов и картины погибли.
Дюваль пристально смотрел на Ричарда.
– И где во всей этой истории я?
– Вас при этом не было, так как в это время вы вследствие весьма продуманной сыскной операции обнаружили, что смерть Мэйсон Колдуэлл не была все же насильственной, что те самые Хэнк Томпсон и Дмитрий Орлов пытались оболгать храбрую и невиновную Лизетту Ладо, подкинув следствию ложные улики. Вы не смогли поспеть вовремя и спасти картины лишь потому, что сделали все, чтобы успеть спасти от гильотины бедную оболганную Лизетту Ладо, столь любимую многими парижанами. И вы, человек высоких нравственных принципов, когда пришлось выбирать между спасением картин и спасением жизни юной цветущей женщины, выбрали человеческую жизнь. То был трудный выбор, и для того, чтобы его сделать, нужен настоящий мужской характер. Скажите, разве не станут парижане аплодировать вашему мужеству и вашему благородству? Лично у меня самого слезы наворачиваются на глаза. Позвольте мне пожать вашу руку.
Взгляд у Дюваля на некоторое время стал отсутствующим, словно он мысленно прокручивал в голове эту новую версию. Наконец он сказал:
– Да, то был героический выбор, не правда ли?
– По возвращении в Париж нас, вне сомнения, встретят толпы репортеров. Сестра покойной художницы и я лично – мы оба будем петь вам такие дифирамбы, что вы затмите славой самого Карла Великого, Святого Людовика и Шерлока Холмса заодно.
Как раз в этот момент к ним подбежал помощник Дюваля Даниэль с наручниками наготове.
– Я подумал, что они вам понадобятся, инспектор, – задыхаясь, сказал помощник, протягивая Дювалю металлические браслеты.
– Наручники? – вскричал Дюваль. – Идиот! Принеси моим друзьям чего-нибудь выпить. Вскоре им встречаться с прессой, и они должны подкрепиться.
– Но, инспектор…
– Ваша некомпетентность не перестает меня удивлять. Неужели вам никогда не приходило в голову, что эти двое «подозреваемых» на самом деле уже давно работают на меня под прикрытием и все для того, чтобы разоблачить грязные махинации американского негодяя и его русского подручного? Послушайте, Даниэль, если вы хотите когда-нибудь стать сыщиком, вы должны научиться быть более проницательным.
Вернувшись в Париж, после почти часового восхваления заслуг Дюваля во время пресс-конференции, устроенной прямо на вокзале Монпарнас, Ричард и Мэйсон, наконец, оказались в номере Ричарда в «Лё-Гранд-Отеле». Теперь, когда все осталось позади, Мэйсон могла с облегчением вздохнуть. Но, странное дело, помимо вполне понятного радостного возбуждения, она испытывала и некоторые опасения. Ричард однозначно выбрал ее, но, когда осядет пыль, не пожалеет ли он о сделанном решении? Действительно ли тот лист, с которого им предстоит начать жизнь, чист, или на нем остались следы сомнений, следы раскаяния?
Для них обоих это был момент истины.
Они стояли и смотрели друг на друга. Глядя Ричарду прямо в глаза и обмирая от страха, Мэйсон спросила:
– У нас все в порядке?
Он не ответил. Он просто в два шага преодолел разделявшее их расстояние и привлек ее к себе. Мэйсон чувствовала, как бьется в груди его сердце, сильные руки Ричарда согревали ее. Он держал ее так, словно она была самым дорогим в его жизни, и тогда на глаза ее навернулись слезы радости.
Но времени на слезы не было. Ричард чуть-чуть отстранился, ровно настолько, чтобы наклонить голову и поцеловать ее. Он целовал ее так, как никогда не целовал раньше: нежно, бережно. Не отрывая губ от ее губ, он поднял ее и понес через гостиную в спальню. Он осторожно уложил ее на кровать, затем поцеловал и стал раздевать медленно, неторопливо, словно пробуя на вкус каждый миг этого действа.
– У меня такое странное чувство, что я это делаю впервые, – сказал он, с улыбкой глядя ей в глаза.
Он разделся сам и лег рядом с Мэйсон на кровать. Он снова ее поцеловал долгим глубоким поцелуем, зажав лицо в ладонях. Затем он стал покрывать страстными поцелуями ее подбородок, ее шею, ключицы, грудь. Он целовал ее всю, и руки его заряжали ее страстью, которую они оба ощущали с новой остротой и глубиной.
– Ты дрожишь, – заметил Ричард.
– Я немного боюсь.
– И я тоже. Совсем чуть-чуть.
Он опустил ладонь ей на грудь и стал играть с соском, катая его между пальцами. Затем он опустил голову и лизнул сосок. По телу Мэйсон прокатилась дрожь. Она поняла, что до этого самого момента в минуты близости между ними все равно существовал некий барьер, преграда из секретов, сомнений, вопросов, на которые не были даны ответы. Но в нормандском поле эти барьеры взлетели на воздух вместе с вагонами и картинами. Мэйсон чувствовала, как энергия Ричарда перетекает в нее, льется свободно и щедро, как никогда раньше. Такой мощный, такой неудержимый поток… И этот поток подхватил ее, приподнял и наполнил собой.
Когда Ричард вошел в нее, Мэйсон показалось, что никогда еще он не был так тверд, так силен, так уверен в себе. Он держал ее в объятиях, входил в нее глубокими и сильными толчками, сливался с ней, отдавал ей всего себя с почтением и преданностью, словно совершал приношение божеству. Мэйсон чувствовала, что возрождается в его руках, поднимается из пепла той, кем была раньше, в первозданной чистоте и первозданной целостности. Впервые она чувствовала, что живет.
Следующие две недели прошли для них как медовый месяц. Они часами занимались любовью. Ричарду все было мало. Он просил Мэйсон подушиться теми духами, что были на ней в тот вечер в опере. Он даже признал, что они удивительно сильно влияют на его потенцию.
Днем они рука об руку бродили по берегу Сены. Устраивали пикники возле пруда в чудесном парке Монсо. Катались на лошадях в Булонском лесу. Там же Ричард показал Мэйсон несколько конно-акробатических трюков, которым научился еще на Диком Западе. Мэйсон хохотала как девчонка.
С Джуно и Лизеттой они ходили на выставку, бродили среди экспонатов, поднимались на башню… Потом, когда они сидели по-турецки на полу в марокканском кафе, Ричард сделал Джуно весьма необычное предложение.
– Джуно, ты лучший партнер, с каким мне выпала честь работать. На следующий год Пинкертон собирается открыть бюро в Париже. Как ты смотришь на то, чтобы его возглавить?
Даргело чуть не поперхнулся:
– Я?
– Столько денег, сколько ты можешь заработать сейчас, ты не заработаешь. Но приключений будет не меньше, и жить, скорее всего, ты будешь дольше.
– Не говоря уже о том, что ты станешь уважаемым гражданином, – добавила Мэйсон.
Даргело посмотрел на Лизетту, которая восторженно захлопала в ладоши.
– Так, – пробормотал он. – Джуно Даргело – агент Пинкертона. Интересный получится поворот. Могу представить себе физиономию Дюваля, когда я протяну ему свою визитку! Мы с ним на равных будем восстанавливать справедливость и творить правосудие во Франции! Вот так смех!
И в благодарность за оказанную помощь они пригласили Эмму и ее мужа на скачки по Лоншану, но у Эммы была идея получше: она настояла на том, чтобы вся компания отправилась на шоу Буффало Билла. Они сидели на лучших местах, забронированных для них самим Биллом, а потом сам Билл хохотал до слез, когда ему рассказали о том, как Ричард сыграл роль «ковбойского короля», а «апачи» из Бельвиля – настоящих апачей. Как ни странно, обе пары прекрасно себя чувствовали в компании друг друга, а под конец Ричард и Эмма обнялись как старые друзья – все их разногласия и обиды остались в прошлом.
И, что самое главное, за эти две благословенные недели у Ричарда не было ни одного ночного кошмара. Он спал, обнимая Мэйсон, и если и просыпался ночью, то лишь затем, чтобы очередной раз заняться с ней любовью.
Мэйсон никогда не была так счастлива.
Но постепенно она стала замечать некоторые перемены в Ричарде. То и дело он под разными благовидными предлогами исчезал один, без нее.
А однажды утром сказал ей, что должен уйти по делу примерно на час.
– Мне бы очень хотелось, чтобы ты была дома, когда я вернусь, – добавил он. Ричард показался ей немного дерганым и нервным.
– Хорошо, – спокойно ответила Мэйсон. – Я никуда не уйду. – Но в глубине души она вся обмерла от страха.
Через час Ричард вернулся, как и обещал. Выглядел он более спокойным и расслабленным, нежели когда уходил.
– Внизу тебя ждет сюрприз, – сказал он. – Надеюсь, он окажется приятным, но, хороший он или плохой, я думаю, он тебе необходим. Ты спустишься со мной?
Его серьезность воодушевила Мэйсон, но тревога осталась. Что за сюрприз, который может оказаться плохим, но все равно необходимым?
Охваченная беспокойством, Мэйсон последовала за Ричардом к лифту. Они молча проехали с четвертого этажа на первый. Когда лифт остановился, Мэйсон сделала шаг к двери, но Ричард остановил ее, положив руку ей на предплечье.
– Я должен тебе сказать сейчас, чтобы ты могла бы вернуться, если захочешь.
– Да что там такое? Ты меня просто пугаешь.
– Твой отец.
У Мэйсон подкосились ноги.
– Мой отец мертв.
– Нет, он жив. Он выжил при кораблекрушении «Симона Боливара». Я знал о том, что некоторые пассажиры все же доплыли до берега. Мне пришлось немного потрудиться, но я разыскал его через агентство. Он живет в Бразилии с тех пор, как его вынесло на бразильские берега. Ты хочешь поговорить с ним?
Отец жив?
– Да, я хочу его увидеть, конечно… Но, Ричард, Господи… Я не готова…
– К такому вообще нельзя приготовиться. Поэтому я не стал заранее тебя предупреждать. Тебе просто надо это сделать, и все.
– Но… Как я выгляжу? Нет, я не могу… Это слишком…
Голова у Мэйсон кружилась. Она перевела дыхание и сказала:
– Да, я могу. Я хочу поговорить с ним. Где он?
– Он не тот человек, каким ты его помнишь. Все это время после кораблекрушения он работал в миссионерской общине. Он раздал все свои деньги и все силы и средства тратит на нуждающихся. Этот образ жизни дает ему душевный покой, и он настаивает на том, чтобы все оставить как есть.
– Почему он не сообщил мне, что жив?
– Он считал, что ты не хочешь его видеть. Никогда.
– Понятно. После всех тех гнусностей, что я ему наговорила. Мне никогда не загладить свою вину перед ним.
Ричард улыбнулся:
– Забавно. Примерно то же самое он сказал мне. Что ему никогда не загладить вины перед тобой. Так мы идем?
– Ричард… я просто в шоке. Просто… поразительно, что ты для меня сделал.
Ричард прикоснулся ладонью к ее щеке.
– Мэйсон, я люблю тебя. Я для тебя сделал бы все, что угодно. Ты сказала мне, что я излечил тебя, но я знаю, что не вылечился бы, если бы твое чувство вины перед отцом так и осталось бы при тебе.
Мэйсон повернула голову и поцеловала ладонь Ричарда. Выйдя из лифта, она огляделась. Отец ее стоял в углу со шляпой в руке, он словно стал меньше и еще сильнее ссутулился, но вся его фигурка светилась спокойной безмятежностью, чего раньше Мэйсон никогда не наблюдала.
Мэйсон направилась к отцу. Сначала она шла медленно, неуверенно, но, встретившись с ним глазами, побежала к нему навстречу.
Теперь, спустя целую неделю после чудесного воссоединения с отцом, Мэйсон все никак не могла поверить в то, что Ричард сделал это для нее. Как нужно любить человека, чтобы так поступить… Мэйсон крепче прижала к себе руку Ричарда и посмотрела вверх, любуясь роскошно расцвеченным небом. Голоса сотен людей, поющих «Марсельезу», воспаряли к сверкающим всеми цветами радуги небесам, и чувство благодарности к судьбе, к Ричарду переполняло Мэйсон. Голоса понемногу стихли, колокольный звон умолк, люди вокруг утирали глаза.
– Как ты думаешь, что пойдет следующим номером? – спросил ее Ричард.
– Следующим? – Мэйсон не вполне понимала, о чем он.
– Что мы будем делать дальше? Ты когда-нибудь об этом задумывалась? Как бы ни была приятна такая перспектива, мы не можем вечно жить в отеле.
– Почему нет?
– Мне пора возвращаться к работе.
– Тебе нравится твоя работа?
– Нравится. Но что я уяснил для себя из этого конкретного дела, мне она нравится еще больше с таким талантливым и весьма соблазнительным союзником. – Он шутливо чмокнул Мэйсон в нос. – Но ты не ответила на мой вопрос.
– Ну, рано или поздно я хочу снова начать писать. У меня родилось несколько свежих идей. Но сейчас мне хочется писать только для своего удовольствия… и твоего. Все те терзания, которые мне надо было передать холсту, иссякли. Я хочу писать просто потому, что я люблю живопись, потому, что процесс создания картины приобщает меня к чему-то более высокому и более великому, чем я сама.
– Ты видела статью Морреля? Сегодня утром в газете.
– Нет. Она обо мне?
– Нет, не конкретно о тебе. Она вообще о том искусстве, что представлено на выставке. Но он действительно упомянул и твое имя.
– И что он сказал?
Ричард встал в позу и процитировал:
– Когда трагическая гибель произведений Колдуэлл станет историей, имя ее, если вообще не будет забыто, останется только в сноске истории импрессионизма. Но те из нас, кому повезло видеть ее работы, никогда их не забудут… их гениальность, их жизненную силу, их потрясающее прозрение, их цепкость… – Ричард сделал паузу и спросил: – Ты точно знаешь, что не станешь скучать по такому почитанию? Зная, что запросто можешь соблазнить мир своей кистью?
Мэйсон засмеялась:
– С меня довольно того, что я смогла соблазнить тебя. Остальное не так уж важно.
Ричард усмехнулся и подмигнул.
– Это понятно. Но как насчет твоего имени? Ты не станешь по нему скучать?
– Нет, я от него устала. Только подумай, мне надоело быть Мэйсон, но и Эми тоже. Новая жизнь требует нового имени, тебе так не кажется?
– Хм… Полагаю, ты права.
– Ну, вот и хорошо, что мы пришли к согласию. Теперь осталось только придумать мне новое имя. Как тебе Луиза Мэй Колдуэлл?
Ричард покачал головой:
– Нет, мне не нравится.
– Ладно. Как насчет Лилли Лэнгтри Колдуэлл?
– Только не это!
– Какой ты привередливый. Тогда как насчет Элизабет Баррет Колдуэлл?
Ричард задумался.
– Мне нравится Элизабет. Однако без Колдуэлл. Если уж брать новое имя, то по полной.
– Тогда пусть будет Элизабет Баррет. Ричард взвешивал предложение Мэйсон.
– Лучше, но требует некоторой доработки. Вот это «Б» мне как-то не нравится.
Мэйсон медленно подняла глаза и встретилась с ним взглядом. В глазах Ричарда плясали озорные огоньки.
– Может, – предложил он, – ты согласишься «Б» поменять на «Г»?
Сердце в груди ее застучало с утроенной силой. Мэйсон сделала судорожный вдох.
– Элизабет Гаррет,[8] – задумчиво протянула она. – Художник… мансарда… одно другому вполне подходит, разве нет?
Ричард улыбался.
– Только это тот самый случай, когда мансарда проводит больше времени в художнике, чем художник в мансарде.
Преисполненная радости от того, что Гаррет, наконец, сделал ей предложение, да еще в такой неординарной форме, Мэйсон бросилась его обнимать как раз в тот момент, когда еще одна ракета взмыла в небо, и Ричард отошел на шаг, чтобы посмотреть, как фейерверк расцветет огнями. Мэйсон с разгона угодила на перила и чуть не перелетела через них в темные воды Сены. Жизнь ее, похоже, завершила цикл.
Но на этот раз сильные руки Ричарда успели ухватить Мэйсон за талию как раз вовремя. И она навсегда осталась в его надежных и крепких объятиях.