
Шашки наголо!
Воспоминание кавалериста
Кавалерия лучше танков? Абсурд! Тем не менее этот «архаичный», род войск прошел всю войну. Случались ли конные атаки в 1944 и 1945 годах? Одерживала ли конница победы?
В данной книге вы найдете ответы на все эти вопросы.
Автору этих уникальных воспоминаний довелось воевать в составе легендарной 5–й гвардейской кавалерийской дивизии, вместе с которой он с боями прошел от Днепра до Эльбы.
ПРЕДИСЛОВИЕ
В Великой Отечественной войне участвовало почти все население нашей страны, и каждый ее гражданин в зависимости от своего места, положения, возраста, мировоззрения, душевного и физического состояния по–разному оценивал большие и малые события войны, победы и поражения Красной армии.
На фронт я прибыл в мае 1943 года, в период великого перелома войны. Я не испытал горечи и позора отступления, был полон патриотизма и боевого азарта.
На мою положительную оценку боевых действий особое влияние оказали победные наступательные операции 3–го гвардейского кавалерийского корпуса в Белоруссии, Восточной Пруссии и Германии. За годы войны 3–й гвардейский кавкорпус прошел с боями более 10 тысяч километров на 12 фронтах.
Несмотря на три ранения и контузию, в моих воспоминаниях о войне звучат оптимистические нотки. Ради исторической правды свой рассказ о военных событиях я веду с указанием времени и места, действующих подразделений, а также привожу отдельные приказы Верховного Главнокомандующего.
Я взялся за перо под впечатлением прочитанной книги Александра Кривицкого «Точка в конце», где он пишет: «Мы умудрены жизнью необычной, неповторимой, и я убежден, что почти каждому советскому человеку зрелых лет есть что вспомнить, и уж одну–то книгу «Рассказ о времени и о себе» он смог бы написать, не будучи ни журналистом, ни писателем»
Я не журналист и не писатель и даже не кадровый военный, а просто бывший работник Ленинградского Адмиралтейского объединения, участник Великой Отечественной войны. Прошу прощения у читателя за отдельные литературные огрехи в изложении моих воспоминаний.
НАЧАЛО ВОЙНЫ
Позади учеба. Переводные экзамены позади, и вот начались каникулы. Еще один год в 10 классе и прощай, школа! На семейном совете решили лето провести на родине, в Тульской области, на берегу родной реки Оки. Недолгие сборы, покупка подарков для родных, и вот мы — я, мама и младший брат Николай в поезде. Две пересадки: в Витебске и Смоленске, и мы в небольшом старинном русском городке Белеве. Белев старше Москвы, сохранились еще старинные стены городскоЙ крепости. Дома одноэтажные и двухэтажные, фасады белые — под стать названию города.
На станции по телеграмме нас встретила тетя Устинья, родная сестра моей матери. Тетя живет и работает в Белеве недалеко от станции. Ночевали у нее, а на следующий день за нами приехал дядя Леша. На сельповских лошадях он привез нас к себе в деревню Зубково, расположенную у почтовой станции Дольцы. Деревня эта в 30 километрах от Белева, недалеко от границы с Орловской областью. Здесь мы и решили провести свой летний отдых, непременно погостив также и у других наших родственников в деревнях Николаевка и Бердницы, расположенных в шести и двенадцати километрах от станции Дольцы. У всех надо было побывать и погостить хотя бы недельку, иначе будет большая обида. В Бердницах, на берегу Оки,еще сохранился кирпичный дом, где я родился. Отец увез меня с матерью к себе в Ленинград в 1926 году, когда мне было еще полтора года. Теперь в этом доме живут мой дядя (родной брат отца) Петр Иванович и его семья.
Лето 1941 года выдалось теплое, солнечное, урожайное. Свежий воздух, аромат полей, садов и лесов, хорошая погода, встречи с близкими, родными людь-. ми, парное молоко и свежие овощи — все это поднимало настроение. Где–то позади остались городские заботы, дорожные тревоги и волнения, компостирование билетов и ночные пересадки с поезда на поезд в переполненные вагоны. Мой мир замкнулся в беззаботном отдыхе на родном просторе. Это был рай для довоенного подростка: рыбалка, игры со сверстниками, дядин велосипед, купание в прозрачных ключевых водах Оки и загорание на ее мягких береговых золотых песках.
Так день за днем бежало время. Тревожная обстановка в мире, война в Западной Европе не очень–то нас трогали. Хитросплетения внешней политики, завершившиеся пактом о ненападении с Германией, создали в народе атмосферу относительного спокойствия и безразличия к угрозе войны. Было какое–то затишье, как перед бурей.
Незаметно пролетела половина июня … И вот поползли тревожные слухи из деревни в деревню.
Одна баба сказала (информбюро ОБС), что у нее под печкой объявился домовой. Домовой поведал ей, что скоро будет большая беда для всего народа. Бабы верили и охали, мужики смеялись над очередной бабьей выдумкой, но в душе и у них зародилась тревога.
И вот 22 июня неожиданно, как гром среди ясного неба, грянула война! Началась поспешная мобилизация. Коммунисты, а за ними и беспартийные мужики потянулись на призывные пункты. Мобилизовали и моего дядю Лешу, Алексея Титовича Панкина.
Еще недавно воевал он на финском фронте. Он коммунист с 1918 года. А коммунистам на фронте одна привилегия — первым подниматься в атаку, им же и первая пуля.
Заголосили, запричитали бабы … Через узловой центр Дольцы стали проходить маршевые роты. Солдаты, запыленные и усталые, располагались на отдых в тени высоких многолетних тополей у почтового отделения. Разомлевшие от жары, они перематывали портянки и пили холодную студеную воду, которую в ведрах подносили им сердобольные бабы и мы, ребятишки. Многие хозяйки угощали солдат молоком, яйцами, хлебом и самосадом, смахивая на ходу непрошеные слезы.
С фронта шли тревожные вести … Не радовали и сводки информбюро. Несмотря на ожесточенные бои, Красная армия оставляла город за городом. Фронт подошел к Ленинграду, неумолимо двигался и к нам. Я стал убеждать Ма1 ь, что нам пора уезжать, а то попадем к немцам. Любыми путями надо пробиваться к отцу, в Ленин град. Белевский район может быть оккупирован немцами, а Ленинград не сдадут никогда! В этом у меня не было никаких сомнений. Мать согласилась, и мы стали собираться в дорогу.
Перед отъездом надо было попрощаться с многочисленной родней во всех четырех деревнях. Эту миссию я взял на себя. Объехав на велосипеде всех родных, я, как загнанный конь, ночью вернулся домой. Мать с братом не теряли времени и спешно собирались в дорогу. Родные забили и сварили для нас кур, напекли подорожников, сварили яиц, уложили шпик и хлеб и много другого, они как чувствовали, что путь наш будет трудным и долгим. Со слезами провожали они нас. Прощались с нами. Увидимся ли еще когда–нибудь? Фронт неумолимо приближался, и не было уверенности, что к зиме он не докатится до Москвы. Фашисты не жалели наших людей на оккупированной территории. Мои двоюродные братья, Иван и Шура Панкины, готовились уйти в партизаны. Забегая вперед, скажу, что они отчаянно дрались в партизанском отряде, но погибли как герои в одном из боев 1942 года.
Ранним утром, собрав весь свой багаж, мы отправились в дорогу. До самого большака провожали нас родные тети и двоюродные братья и сестры. Голосили, причитали, обнимали мать, прощались, рыдая по своим мужьям, ушедшим на фронт, как по покойникам.
С большим трудом мне удалось оторвать их друг от друга. Надо отправляться в путь. На попутной подводе приехали мы в Белев, покрыв 30 км пути. В Белеве опять остановились у тети Устиньи. Она работала на железнодорожной станции, и через нее мы надеялись достать билеты до Ленин града. Но, несмотря на старания, бищпы на Ленинград и даже на Москву приобрести было невозможно, их просто не продавали. С большим трудом приобрели мы билеты до Тулы. Прощание на платформе с тетей Устиньей — и мы опять в пути, в переполненном вагоне едем в Тулу.
В Туле на вокзале большое скопление народа, едущего в разных направлениях. У билетных касс сутками безрезультатно выстаивают гражданские пассажиры. Путь на Москву закрыт. Билеты могут получить только военные, и то по разрешению начальника вокзала. Ищу в этой толчее попутчиков, ленинградцев. И нахожу ленинградца, учащегося 7–й Ленинградской специальной артиллерийской школы, моего ровесника Бориса. Он в полувоенной форме с удостоверением артиллерийской спецшколы. Пытается приобрести билеты на Москву, но все безрезультатно. Себе лично он мог бы еще достать билет, но он едет не один, а с матерью, тетей и двоюродной сестренкой десяти лет. Едут они из Киева и вот застряли в Туле. Договариваемся пробиваться вместе. Познакомив друг с другом своих родственников и собрав их всех в одном месте, мы с Борисом берем командование на себя. Ищем выход из создавшегося положения. Нас снабжают деньгами, и мы попутно пополняем нашу группу продовольствием. Ввиду того, что проезд через Москву закрыт, решаем двигаться в объезд Москвы с востока через Ряжск, Рязань, Ярославль, Вологду, Череповец, Тихвин, Волхов. Двигались когда на пассажирских, а чаще на грузовых поездах, на открытых платформах. В пути попадали и под обстрел немецких пикирующих бомбардировщиков. Но упорно двигались к своей конечной цели. Справа и слева вдоль железнодорожного пути встречались опрокинутые, исковерканные и сожженные остовы железнодорожных вагонов, разбитые паровозы. Иногда при налете «стервятников» поезд останавливался, и мы кубарем скатывались под насыпь, прихватив с собой только документы и деньги. Когда «натешившись» над поездом, отстрелявшись и отбомбившись, фашисты улетали, мы возвращались на свои платформы и продолжали путь. Если с самолетов проводился только обстрел из пулеметов, поезда, как правило, не останавливались и продолжали свой путь, а мы вынуждены были, как бойцы, пере носить все «радости» свиста и рикошета пуль, прячась за бортами платформ и грузов. Поначалу все это пугало наших женщин, особенно строгий приказ, запрещающий проезд пассажиров на товарных поездах, карающий нарушителей расстрелом. Постепенно все привыкли к этой боевой военной обстановке, даже тетя Бориса. Грузная, полнотелая, она страдала одышкой и чрезмерной потливостью.
Чем ближе мы приближались к Ленинграду, тем чаще были налеты авиации. Еще несколько суток — и мы в Тихвине, а через несколько часов уже в Волховстрое. Но здесь стоп. Дальше на Ленинград поезда не ходят. Немцы перерезали железную дорогу. Все чаще стали налеты авиации на Волховстрой. При налетах мы прятались в щели, вырытые прямо на привокзальной площади. От начальника вокзала мы узнали, что на Ленинград пошли два бронепоезда. Если они прорвутся, движение будет восстановлено. Через сутки один бронепоезд вернулся назад. Движение поездов в сторону Ленинграда не было восстановлено. Женщины приуныли. Мать Бориса предложила нам временно поселиться где–нибудь в деревне. Мы там смогли бы найти работу и прожить до тех пор, пока не отгонят немцев от Ленинграда. Она смогла бы работать учительницей в школе, а мы все тоже нашли бы подходящую работу в совхозе или колхозе.
За такими вот размышлениями застало нас известие о прибытии колонны военных грузовиков из Ленинграда. Не мешкая, мы с Борисом разыскали эту автоколонну. После наших переговоров с капитаном, начальником колонны, выяснилось, что автоколонна действительно прибыла из Ленинграда, привезла хлеб и через сутки порожняком вернется в Ленинград. На нашу просьбу прихватить и нас с собой капитан сначала согласился, но, узнав, что с нами еще три женщины и двое детей, отказался. Мы обещали ему и хорошие деньги, и помощь в дороге. Ничто не помогало. от денег он сразу отказался. И только после того, когда мы ему порядком надоели своими просьбами, не давая ему прохода, капитан сдался, согласился взять нас всех, но с одним условием, что мы будем во время движения следить за воздухом (за небом). Мы с радостью согласились.
На другой день, еще до рассвета, мы тронулись в путь. Борис со своими родными в кузове головной машины, я с мамой и братом в кузове последней машины колонны. Двигались по каким–то лесным грунтовым дорогам. Выезжая на открытые места, мы смотрели за небом. Нам повезло. Погода была пасмурной, и немецких самолетов не было видно .
Поздним вечером мы прибыли в Ленинград, подъехали к Московскому вокзалу. Был уже комендантский час. Ходить в эти часы без пропуска нельзя. Мать Бориса предложила нам переночевать у них, так как они жили недалеко от Московского вокзала. Мы согласились. Квартира их оказалась без хозяина, отец Бориса. На столе лежало письмо от него. В письме было сказано, что он мобилизован и направлен на фронт. Спали не раздеваясь, на полу, ведь мы давно не мылись. По сравнению с дорожными ночлегами, это был комфорт, ведь мы были дома, в Ленинграде!
БЛОКАДА
После больших тревог, обстрелов и бомбежек в пути мы снова дома, в Ленинграде. Рано утром, даже не позавтракав, мы, поблагодарив своих спутников и радушных хозяев и распрощавшись с ними, как на крыльях поспешили к себе на канал Грибоедова в свой дом номер 160, у Аларчина моста. Очень жаль, что в спешке мы не записали и не запомнили адрес наших добрых попутчиков и их фамилии. За время опасного и тяжелого пути мы сдружились С ними, как с родными. Где ты, Борис, выжил ли ты в блокаду? Пережил ли войну?
Отец не ждал нас, так как Ленинград был фактически уже отрезан от Большой земли. Он собирался на работу. Велико же было его удивление и удивление наших соседей, когда мы с нашим багажом ввалились в квартиру. К несчастью, наш приезд совпал с днем отмены коммерческой торговли. Население Ленинграда полностью перешло на обеспечение продуктами по карточкам. В городе уже стала ощущаться нехватка продовольствия. Если в маленькой столовой на углу проспекта Огородникова и Лермонтовского проспекта (дом 2/45) можно было еще без талонов и карточек поесть чечевичной каши, то во всех остальных столовых требовали талоны с продуктовых карточек. Не без труда выдали продуктовые карточки и нам.
Школы не работали. Мои однокашники устроились кто где. Большинство ребят поступили учениками на завод. Мне было шестнадцать, а тем, кому исполнилось семнадцать, сумели записаться в ополчение. Мой приятель по дому Сергей Егоров уже щеголял в военной форме учащегося 9–й специальной артиллерийской школы. Спецшкола готовила кадры для артиллерийских училищ[1]. Форма была красивая. Китель с двумя перекрещенными стволами на петлицах, синие брюки с красным кантом, ботинки, шинель командирского покроя, фуражка, ремень с латунной пряжкой и звездой как у курсантов военных училищ. Все это вызывало зависть дворовых мальчишек. Сергей и другой спец с нашего двора уговорили и меня поступить в их 9–ю спецартшколу.
Войне не видно конца, воевать нам все равно придется, так лучше воевать со знанием дела, командиром, а не рядовым бойцом. Я, в свою очередь, уговаривал поступить в спецшколу и своих однокашников: Петрова Павла, Кармазина Бориса и Зорина Сергея. Первые двое не согласились, а Зорин Сергей так же, как и я, подал заявление в 9–ю САШ. И вот мы на медицинской комиссии. Я боялся, что меня забракуют по зрению. Уговорил Зорина пройти окулиста еще раз уже с моей карточкой. ОН согласился. Врач то ли от усталости, то ли по рассеянности не заметил нашего обмана, и мы, сдав все документы, были зачислены в 1–й взвод 1–й батареи (10–й класс) 9–й СДШ. Получив военную форму, мы при встрече с военными «козыряли», получая ответные приветствия. Начались занятия.
8 сентября 1941 года окончательно замкнулось кольцо фашистских войск вокруг Ленинграда. Но занятия продолжались. Наряду с общеобразовательными предметами много времени уделялось военному делу. Мы изучали воинские уставы, основы артиллерии, занимались строевой подготовкой. Возглавлял военную подготовку в школе капитан Хачатурян, армянин. Ему трудно давался русский язык. Вместо целлулоидного круга он говорил цилюлюидный круг. Командовал «левое (правое) плечо вперед» вместо «правое (левое) плечо вперед, марш» и так далее. Но, несмотря на зто, он прекрасно знал свое дело, пользовался всеобщим уважением, как среди нас, учащихся, так и среди преподавателей школы. Говорили, что в 1942 году он ушел на фронт и командовал артиллерийским полком.
До наступления холодов и голода мы усиленно занимались строевой подготовкой, браво печатали шаг, маршируя по проспекту Москвиной от Лермонтовского проспекта до Измайловского и обратно, а иногда и вокруг Троицкого собора.
Из строевых песен особенно любили «Марш артиллеристов» :
По широким дорогам колхозным,
По Московским большим площадям,
Мы проходим лавиною грозной, Мы готовы к боям!
Припев
Артиллеристы, точней прицел,
Разведчик зорок, наводчик смел,
Врагу мы скажем:«Нашей Родины не тронь!
А то откроем сокрушительный огонь».
Огонь!
Нашим танкам дорогу проложим,
Есть гранаты, готова шрапнель.
Наши пушки и наши мортиры
Бьют без промаха в цель.
Припев
Положение блокированного Ленинграда стало постепенно ухудшаться. В классах перестали топить, занимались в шинелях, но, несмотря на холод и голод, мы старались «грызть» основы военной науки. Из иностранных языков мы изучали немецкий. Встречая преподавателя, дежурный подавал команду и отдавал рапорт на немецком языке ( «Aufstehen!»). Как–то в сентябре 41–го меня по повестке вызвали в Октябрьский РК ВЛКСМ. Доложив о своем прибытии и предъявив повестку в райкоме, я ожидал указаний. Но указаний не последовало. Рассмотрев меня с головы до ног, мою военную форму, секретарь райкома взял мою повестку и, извинившись, сказал, что это ошибка и я свободен. Очевидно, райком думал, что я сижу дома и ничего не делаю.
Нам было еще неведомо, что ждет нас впереди. Долго ли протянется блокада и война? Не знали мы тогда и о плане «Барбаросса», и о том, какую судьбу готовил Гитлер нам, ленинградцам. А его планы предусматривали полное уничтожение города и населения.
Из книги видного американского журналиста и историка Ульяма Ширера «Взлет И падение Третьего Рейха» (Лондон 1961 г.).
План «Барбаросса»
Два крупнейших города Советского Союза — Ленинград, который в качестве своей столицы на берегу Балтийского моря построил Петр Великий, и Москва, древняя русская столица, ставшая после победы большевиков столицей Советского Союза, вот–вот, как казалось Гитлеру, должны были пасть. (8 сентября 1941 г. он издал строгий приказ: «Капитуляцию Ленинграда и MOCKBbI не принимать, даже если она будет предложена». Какая судьба ожидала эти города, Гитлер разъяснил своим командирам в директиве от 29 сентября. «Фюрер решил стереть Санкт–Петербург (Ленинград) с лица земли. Дальнейшее существование этого большого города, как только Советская Россия будет повержена, не представляет интереса… Цель состоит в том, чтобы окружить его и сровнять с землей артиллерийским огнем и непрерывными налетами авиации…
Просьбы о сдаче нам города будут отклонены, так как проблема выживания его жителей и снабжения их продовольствием не может и не должна решаться нами. В этой битве за существование мы не заинтереcованы даже в сохранении части населения этого крупного города».
Занятия занятиями, а голод не тетка, и надо позаботиться и о дополнительном питании, особенно для матери и брата Николая. Мать тогда не работала, и им с братом полагалась иждивенческая карточка (на 2 сентября 1941 г. по 300 г хлеба).
О том, что надо приберечь что–то из продуктов на зиму, на черный день, мы спохватились слишком поздно. В городе повеяло голодом. Правда, за день до захвата немцами Стрельны мы с Сергеем Егоровым успели привезти по мешку картошки. А было это так: 5 сентября 1941 года, прихватив с собой мешки, мы на трамвае доехали до самой Стрельны. Там у меня жила с семьей двоюродная сестра Маруся. До войны я иногда летом отдыхал у нее в доме. Из окна трамвая не видно было каких–либо оборонных приготовлений. В вагоне спокойно ехали мирные гражданские люди. Сойдя «на кольце» с трамвая, мы направились на запад по Петергофскому шоссе. К Марусе мы не попали. Свернув с шоссе на картофельное поле, мы натолкнулись на боевые порядки артиллерийской батареи. У орудий суетился и отдавал какие–то распоряжения старший лейтенант, командир на батарее. Завидев нас, он начал кричать, чтобы мы немедленно покинули расположение батареи. «Уходите, уходите!» — кричал он. Д мы не хотели уходить. Уж больно хороша была картошка на этом поле. Мы были в военной форме с артиллерийскими эмблемами на петлицах, тоже артиллеристы. И вот благодаря этому после непродолжительных пере говоров нам удалось уговорить старшего лейтенанта. Он разрешил нам накопать картошки неподалеку от огневых позиций. ; Копайте, но через пятнадцать минут чтобы духу вашего здесь не было!» — прокричал он и побежал куда–то по своим делам.
Картошка была отменная, и мы, взвалив полные мешки на спину; неспешно направились к остановке трамвая. На кольце толпился народ, а трамваев все не было. Прождав безрезультатно с полчаса, мы поймали попутную грузовую машину и благополучно доехали до Обводного канала. Ну, а там три остановки на трамвае — и мы дома. Дома, завидев нас с картошкой, все были в восторге. Особенно брат Коля, так как на 300 г хлеба не проживешь. Этого мешка картошки хватило нам надолго.
А на следующий день, 16 сентября 1941 года, Стрельну захватили немцы. (Блокада фактически началась еще раньше, 8 сентября.)
Были еще поездки в конце ноября 1941 года в Озерки за «хряпой» — морожеными листьями и корнями капусты. Но от мороженых корневищ капусты было мало толку. Опоздали мы и на пожарище Бадаевских складов, которые немцы подожгли 8 сентября 1941 г. Там нам осталась только черная, чуть подслащенная земля. Старую нашу квартиру разбомбило, а в новой было пусто, ничего съестного.
Наш кирпичный пятиэтажный дом N160 по каналу Грибоедова, в котором мы жили с 1926 года (до 1926 года мы жили на Гороховой улице), как и все дома, имел свою историю. До революции он принадлежал Покровской церкви, которая сдавала его внаем жильцам. В доме жили и солидные господа, из «бывших», занимавшие отдельные квартиры, и простые рабочие, и служащие в своих коммуналках. Жили мирно и дружно, знали каждого в отдельности, помогали друг другу, когда это требовалось. На весь наш большой дом был только один пьяница — маляр Белкин, да и тот вел себя довольно спокойно, а когда был трезв, работал за двоих — быстро и качественно, и все старались к себе на ремонт пригласить только его. Казалось бы, наш дом, полный «бывших», стал бы лакомым кусочком для НКВД, но в 1930–е годы у нас в нашем доме не было арестовано ни одного человека.
Перед войной в доме было оборудовано хорошее газобомбоубежище с полной герметизацией, принудительной вентиляцией с химическими фильтрами, с медицинским отделением и мощными стальными шлюзовыми дверями.
Вот война пришла и к нашему порогу. Все жильцы, не ушедшие на фронт, получили противогазы, провели работы по светомаскировке окон своих квартир, наклеили на стекла крест–накрест бумажные полоски и по очереди во время воздушной тревоги дежурили у ворот, в бомбоубежище и на крышах. Четко работали формирования МПВО. Наряду с фугасными фашисты сбрасывали на город и множество зажигательных бомб. Несмотря на термитную начинку, дежурные на крышах, среди которых были и дети–подростки, успешно боролись с ними, ловко орудуя стальными щипцами. Зажигалки тушили в ящиках с песком или сбрасывали с крыш на землю. Несмотря на героический труд горожан — защитников города, с каждым налетом авиации рушились дома, гибли и лишались крова ни в чем не повинные гражданские люди. Война есть война.
Ко всему привыкает человек, даже к ежедневным воздушным тревогам, бомбежкам и артобстрелам. Все реже стали спускаться жильцы дома в бомбоубежище по сигналу воздушной тревоги. И если на улицах города дежурные МПВО обеспечивали строгий порядок при объявлении воздушной тревоги, то контроль за нахождением жильцов в квартирах осуществляться не мог. Несмотря на опасную близость завода Марти, на который нацеливались фашистские бомбардировщики, в тот памятный день, 30 октября 1941 года, моя мама с братом Николаем также понадеялись «на авось» («авось пронесет» ) и не покинули квартиру по сигналу воздушной тревоги. Надеялись, что и на сей раз бомба минует наш дом. Мать продолжала мыть пол, согнувшись у самого окна, а брат вышел в коридор, когда во дворе раздался оглушительный взрыв полутонной фугасной бомбы …
Каждый раз, когда я возвращался домой из спецартшколы после очередного налета, меня неотступно тревожила мысль: «а вдруг бомба угодила в наш дом, ведь опять бомбили возле завода Марти? Что с моими близкими?» — а в этот день смутное предчувствие особенно не давало мне покоя. У Аларчина моста повстречал расстроенную соседку Елизавету Генриховну. Чуть не плача она мне поведала, что на наш дом упала бомба, мою мать и брата увезли в госпиталь. Остаток пути до дома я бежал со всех ног … Фасад дома, выходивший на канал, был не поврежден, только на заднем дворе, куда упала бомба, зияла большая воронка. Окна всех этажей вместе с рамами и коробками были высажены начисто и зияли пустыми проемами. Стены имели глубокие трещины. Лестничные марши уцелели. Поднимаюсь по битому стеклу и завалам штукатурки на второй этаж к нашей квартире N13. В квартире пусто, гуляет ветер вдоль голых кирпичных стен. Ни дверей, ни оконных рам, ни мебели, на стенах — только голый кирпич. Все снесено и впрессовано в капитальные стены взрывной ударной волной. Уцелели только узлы в бывшей ванной комнате, превращенной после революции в кладовку. Хранить вещи в узлах на случай бомбежки рекомендовала служба МПВО.
Как в такой обстановке остались живыми мои мама и брат Николай? Что с ними? Во дворе разыскал тетю Нюшу, мать моего друга Сергея Егорова. Она была комендантом бомбоубежища, отправляла всех раненых, в том числе и мою мать с братом, в госпиталь, который размещался в бывшей школе на Мясной, 15. Тетя Нюша успокоила меня, сообщив, что мать и брат отделались сравнительно легкими ранениями. Через неделю или две их должны выписать из госпиталя. Пришел с работы отец и поспешил в госпиталь, а я стал переносить уцелевшие узлы, все, что осталось в нашей квартире, в бомбоубежище. Временно мы там и разместились, в его машинном отделении, любезно предоставленном нам тетей Нюшей.
Мама и брат уцелели чудом. После выписки из госпиталя мама рассказала, что она в момент взрыва мыла пол под подоконником и таким образом была защищена кирпичной капитальной стенкой. Брат оказался также под защитой капитальной стены, в коридоре. Это их и спасло. Мама получила множество ранений на спине от битого стекла. Вся спина была как одно кровавое месиво. Хирургам пришлось долго повозиться, извлекая из спины осколки стекла. Брат получил касательное осколочное ранение головы.
К моменту выписки их из госпиталя 7 ноября 1941 года мы уже получили ордер на новое местожительство, здесь же, по каналу Грибоедова, в трехэтажном доме NQ 156.
У домов, как и у людей, своя судьба. Одни (а их в блокадном Ленинграде было большинство) выстояли, другие полностью разрушены или сгорели от ежедневных бомбежек, третьи получили тяжелые или легкие ранения (разрушения), а четвертые (деревянные) были разобраны на дрова. Дважды пострадал от бомбежки соседний дом NQ 154 (Маклина, 35), построенный после революции для работников завода «Судомех» (на углу канала Грибоедова и Маклина). В нашем квартале на этот дом упала первая и последняя фугасная бомба. Даже после окончания войны еще долго у всех на виду в рассеченном сверху донизу Аоме на третьем этаже печально свисал с потолка оранжевый абажур. Стоя с дежурным у ворот дома N160, я был свидетелем взрыва первой бомбы, упавшей на дом N154. Долго горел пострадавший от бомбежки дом «Сказка» на углу Маклина и Декабристов.
Тяжелый снаряд угодил в Аларчин мост и пробил его настил. При этом артобстреле у парадной своего дома был смертельно ранен и скончался на руках моей матери замечательный человек, военный инженер–строитель Николай Николаевич Федоров (родственник моей супруги). Николай Николаевич в качестве военного инженера участвовал в военных действиях и Первой мировой, и Гражданской войны. В мирное время работал в строительных организациях нашего города, принимал непосредственное участие и в перестройке дома N! 156 по каналу Грибоедова, на пороге которого он, как старый солдат, скончался, сраженный осколком вражеского снаряда. В этом же году от голода умерла и его жена Любовь Владимировна Федорова.
Начался голод. В конце третьего квартала 1941 года и до весны 1942 года ленинградцы получали по карточкам в основном только хлеб. Причем хлеб имел примеси из целлюлозы и других заменителей от 20 - 25% и в отдельные дни до 40–50%.
За первую блокадную зиму в Ленинграде погибло от холода более 600 тысяч человек, а в самые трудные месяцы, январь и февраль, более 200 тысяч человек.
Мне было еще терпимо. Я питался в столовой спецшколы по военной карточке. Д мать с братом получали по 125 г. хлеба. Только у отца была рабочая карточка. Положение тяжелое, если не сказать отчаянное.
Отец мой был простой русский человек, участник Первой мировой войны, рабочий. Он не был членом коммунистической партии. Однако от него я ни разу не слышал жалоб на правительство, критики городских властей, ни слова он не сказал о том, что город надо сдать немцам. Он просто говорил нам, семье, что надо потерпеть, надо пережить. Помню, он часто приходил домой, ложился на кровать и думал, думал, где достать еды, как выжить. В один момент его озарило. Он когда–то работал агентом по снабжению костяного завода. Знал он все ямы в столовых, куда они сваливали кости. И вот решил он проверить их, не осталось ли что–нибудь в этих ямах. Столовые давно не работали. И вот, на наше счастье, в некоторых ямах он вместе с замерзшей землей откопал и немного костей. Мать в большой кастрюле выварила их, а всплывший жир собрала в баночки и остудила. На некоторых костях оставалось даже еще немного мяса. Кости глодали всей семьей. Это был праздник! Собранный в баночки костный жир как–то помогал моим родным пережить самые голодные блокадные дни.
у отца с довоенных дней сохранилась легкая тележка с рессорами. Она стояла во дворе, там, где он работал, перевязанная цепью на замок. И вот уже после моей эвакуации на этой тележке он из последних сил подрабатывал, перевозя продукты в булочные и магазины, возил и дрова, получая за все натурой хлебом и дровами. Д когда летом 1942 года эвакуировался и мой брат Коля, мать устроилась на работу и стала получать рабочую карточку. Возле Кировского завода на пустыре за шестым магазином им выделили клочок земли под огород. С одной картофелины они смогли вырастить целый огород. А осенью 1946–го, когда я демобилизовался из армии, с этого огорода мы выкопали уже тридцать мешков картофеля, не считая других овощей. Но это было потом.
А зимой 1941–1942 годов голод косил людей как косой. В спецшколе еще продолжалась учеба, но суровая зима, голод, бомбежки и артобстрелы все чаще срывали наши занятия. В конце января мы разбирали деревянные дома на дрова, но силы таяли с каждым днем, одолевала дистрофия, а от воды мы стали пухнуть. (26 января 1942 года постановлением Ленгорисполкома разрешена разборка деревянных домов на дрова.)
В канун Нового 1942 года нас, учащихся 9–й САШ, пригласили на праздничный вечер в Театр имени Горького. Несмотря на голод и холод, мы не нарушали формы одежды и даже в самые лютые морозы носили шинели, темно–синие брюки с красными кантами, ботинки. В промерзшем зале театра была такая же температура, как и на улице. Мы сидели в шинелях, ежась от холода. Особенно мерзли ноги. Старались не топать ногами и следить за ходом действия. На сцене «Вишневый сад» АЛ. Чехова. Кутаясь в шубы, актеры героически и вдохновенно исполняли свои роли. Им, похудевшим от голода и посиневшим от холода, надо было зарабатывать свой тяжкий блокадный хлеб.
Да простят нас Антон Павлович и труппа театра, мы были далеки от переживаний РаневскоЙ в связи с гибелью ее маленького мирка и смертью престарелого Фирса. Разве можно было сравнить их трагедию с нашей! За стенами театра — война. Фирс умирал в глубокой старости, нам же суждено было умирать молодыми, и если не в блокадном Ленинграде, то на фронте. На наших глазах умирали ленинградцы, гибли города, наша страна стояла перед опасностью исчезновения.
В конце каждого действия мы энергично хлопали в ладоши и даже стучали ногами, так как это давало возможность хоть как–то немного согреть наши окоченевшие руки и ноги.
С нетерпением мы, зрители, думаю, что и актеры, ждали окончания спектакля. Ведь всех нас, зрителей и актеров, после спектакля (в этот поздний вечерний час) ждал … праздничный новогодний горячий обед.
Для голодного продрогшего блокадника–дистрофика ничто не могло сравниться с горячим обедом. Это был верх блаженства. Все остальное было неважно, отступало на второй план.
И вот спектакль окончен. Бурные аплодисменты! Торжественно, повзводно входим в фойе, где для нас накрыты столы. Обед из трех блюд, горячий суп, котлета с макаронами и фруктовое желе. е собой всем выдали по плитке шоколада «Золотой якорь». Такого торжества мы не ожидали. о роскошного по тем временам угощения мы оттаяли душой и телом. Надежно запрятав за пазухой драгоценную шоколадку, мы направились домой. По узенькой, протоптанной в глубоком снегу на одного человека тропинке, молча гуськом шли мы домой по правому берегу Фонтанки. Где–то глухо стреляли орудия, но здесь, на набережной, город будто вымер. Было тихо, ни огонька, ни прохожих. Только полная луна освещала искристый, морозный, не по–городскому белый снег…
Дома не спали. Зажгли фитилек на блюдечке. Шоколадку разрезали на множество крошечных кусочков, после чего она как–то незаметно быстро исчезла. На всю жизнь запомнилась нам, выжившим в ту войну, эта блокадная предновогодняя ночь. Впереди еще была блокада, эвакуация и долгие годы войны.
При вожу здесь же воспоминания моей жены Ирины Львовны о начале войны и блокады.
«Нежданно–негаданно грянула война. Взрослые были в большой тревоге, а мы, дети и подростки, еще не представляли, какое горе обрушилось на всех нас.
В сентябре 1941 года ушел на фронт добровольцем мой брат, Миша. Ушел и не вернулся, погиб в бою под Ленинградом в 1942 году. В Шувалове, где мы тогда жили, появились беженцы из районов, прилегающих к финской границе. Приютили и мы одну семью. Беженцы влачили жалкое существование, у них ничего не было, карточек им не выдавали, и с наступлением голода и лютых морозов они умирали первыми. Нас, молодых, да и старых, которые не работали, направили на оборонные работы. Мы рыли окопы и траншеи, а немецкие самолеты обстреливали нас на бреющем полете, иногда сбрасывали листовки: «Доедайте свои бобы и готовьте гробы!» При налетах мы прятались в вырытые нами окопы и отсиживались в них, пока не улетят самолеты. На поселки самолеты сбрасывали фугасные и зажигательные бомбы. Деревянные дома не успевали тушить, и они сгорали дотла.
В конце сентября 1941 года немцы плотно замкнули кольцо вокруг Ленинграда, и мы стали остро ощущать нехватку продуктов. Старшая сестра Зина работала в госпитале на приемке раненых, в Мечниковской больнице.
На место ушедших на фронт заводы и фабрики стали принимать и подростков. Мне было шестнадцать, и отец устроил меня подсобницей к себе на деревообделочную фабрику, где он работал в охране. Я стала получать рабочую продуктовую карточку. Часть фабрики находилась в центре города на улице Моисеенко, другая ее часть — на берегу Невы у Комаровского моста. Ездить на фабрику из Шувалова было далеко, да и трамваи сначала ходили с перебоями, а потом совсем остановились. Ходила пешком, пока меня не приютила к себе тетя Вера, которая жила недалеко от фабрики на Советской улице, дом 40. На фабрике мы разгружали доски на Неве, перетаскивали их на склад, делали гробы, а когда доски кончились, убирали территорию. Ходить в Шувалово навещать маму я стала редко: не было сил. Сокращая путь через Неву, я ходила по льду, а у Военно–медицинской академии прямо на улице лежали трупы, их никто не убирал. Мама, Мария Львовна, таяла с каждым днем, пока 30 марта 1942 года ее не стало — умерла от голода.
На бомбежки и артобстрелы мы уже не стали обращать внимания, дистрофия атрофировала все наши чувства. Отец работал и ночевал на фабрике, питался в фабричной столовой, иногда и мне перепадала тарелочка жидкого, но горячего бульона. Но голод брал свое, еще бы немного, и я бы последовала за своей мамой. Как я перезимовала эту первую блокадную зиму? Не знаю. За водой ходили на Неву, черпали из проруби. Дома, пока был столярный клей, варили его и ели с блинчиками из кровавой муки с подгоревших Бадаевских складов. От такой еды начинались кровавые поносы. Тетя Вера еще что–то меняла на хлеб. На золотое кольцо можно было выменять буханку хлеба. Готовили на буржуйке в комнате. Жгли книги и мебель. А на кухне бегали огромные крысы.
Истощены мы были до неузнаваемости. Увязанную платком меня принимали за старушку …
В июле 1942 года мне с отцом предложили эвакуироваться. Смутно помню, как собирались, как нас погрузили на машины, перегружали в вагоны, переправляли через Ладогу. В Борисовой Гриве нас посадили на «тендер»[2], без вещей — вещи погрузили отдельно.
С верхней палубы нас спустили вниз, в трюм, возможно, был налет немецких самолетов, задрожали крышки люков. Там, в темноте и духоте, сидели мы, плотно прижавшись друг к другу. А сверху по палубе как горох застучали пули или осколки от бомб. Но нам было не страшно, мы были безразличны ко всему, что творилось вокруг нас. Голод был сильнее страха.
Не помню, как мы доехали. Все было как во сне. На той стороне Ладоги нам выдали талоны на питание. Кормили прямо на улице. Был горячий суп и второе. Выдали хлеб и сухой паек.
Но несмотря на предупреждение, чтобы мы ели всего понемногу, так как был возможен кровавый понос, некоторые не смогли побороть чувство голода и съедали все, что могли добыть. В поезде, в телячьих вагонах, они стонали от боли в животе и просили марганца. Начались кровавые поносы. Больных снимали с поезда чуть живых. Многие умирали, не доехав до больницы.
Приехали мы в Вологодскую область, в деревню Ягодная. Расселили по избам. Смотреть на нас сбежалось все население, вся деревня. Меня приняли за старушку и очень удивились, когда отец сказал, что мне еще шестнадцать. Жители несли нам все, что могли. Еды было много, но я не могла понять, что я ем, ощущала на вкус только хлеб.
Шли дни. Мы стали поправляться и осваивать деревенскую работу.
В Ленинград я вернулась только весной 1944 года, завербовавшись на завод «Пролетарий». Стала работать контролером в чугунолитейном цехе».
Здесь я хотел бы упомянуть о моих родственниках и родственниках моей жены, погибших в блокаду Ленинграда.
В первую блокадную зиму от голода умерла вся семья моего дяди, Якушина Ивана Ивановича. Дядя Иван Иванович, старший в семье Якушиных, до революции работал сельским учителем в Тульской губернии. у него в начальной школе учился и мой отец, Александр Иванович. Иван Иванович был знаком с такими видными людьми того времени, как Л.Н. Толстой. Он бывал у него в Ясной Поляне, делился опытом своего преподавания, пили чай за одним столом. В Первую мировую войну, как образованному человеку, ему было присвоено офицерское звание. После революции он приехал в Ленинград, работал служащим на Кировском заводе, но продвижению по службе ему мешало офицерское звание в царской армии.
Отец сколотил кое–как из досок и фанеры гроб для своего брата Ивана и повез на своей тележке к пункту сбора трупов, что находился, как мне помнится, на территории Троицкого рынка. Тела погибших ленинградцев лежали там штабелями, как дрова. У входа в пункт горел костер, у которого грелись два работника этого уличного морга. Отец отдал им гроб с телом брата. Работники вытащили тело Ивана Ивановича из гроба, забросили его в общий штабель тел со словами вроде «Что он, барон, что ли? Пусть будет со всеми», и поблагодарили отца, что принес им дров для костра, то есть гроб. На глазах у отца гроб разломали и бросили в костер. Таково было отношение к жизни и смерти в блокадном Ленинграде.
В тот же месяц скончались его жена, тетя Настя, и две мои двоюродные сестры, Мария и Дуня. Его третья дочь, Евдокия Ивановна, 1920 г.р., пропала без вести в ту же первую блокадную зиму.
Умер также мой дядя Якушин Тимофей Иванович, 1878 Г.р., проживавший на Расстанной улице. Умерли также мой двоюродный брат, Рябых Иван Яковлевич, работал в охране Кировского завода, и Рябых Федор Иванович, его сын.
Погибшие родственники Ирины Львовны:
Трескунова (Фельдман) Мария Львовна, мать Ирины Львовны (1890 — 30.03.1942). Проживала 1–е Парголово, 2–я линия, д. 119, кв. 2. Похоронена в братской могиле Шуваловского кладбища.
Федорова Любовь Владимировна (свекровь сестры).
Федоров Николай Николаевич (свекор сестры). Убит при артобстреле. Проживал он с женой на канале Грибоедова, д.156, кв. 4.
Фельдман Михаил Львович, убит в 1942 году под Ленинградом.
Помимо перечисленных здесь у нас погибло еще человек пятнадцать дальних родственников.
Помню, как–то ранним утром я шел из дома навстречу ветру по узкой тропинке, протоптанной вдоль панели ранним прохожим. Ветер бросал острые, колючие горсти сухого снега. Заснеженные улицы были пустынными. Не доходя до Покровской площади, заметил впереди темную, сгорбленную фигуру. Прохожий шел медленно, с трудом передвигая ноги, то и дело останавливаясь, переводя дыхание. Поравнявшись с ним, Я помог ему преодолеть сугроб и заглянул в лицо. Оно было закутано шарфом, и его невозможно было разглядеть. Я торопился в свою 9–ю САШ на 8–ю Красноармейскую улицу. Времени до начала занятий оставалось мало, и я ускорил шаг. Отяжелевшие, распухшие от водянки ноги плохо повиновались. Впереди Фонтанка и Троицкая площадь, а там рукой подать до школы. В столовой до начала занятий можно было отогреться и съесть скудный, но такой необходимый и желанный завтрак. Ничего в ту пору так не угнетало ленинградцев, как чувство голода. Дистрофикам, а их было большинство, не страшны были бомбежки и артобстрелы. Их мучили голод и холод.
Возвращаясь вечером домой той же дорогой, я вновь повстречал того раннего прохожего. Он лежал наполовину занесенный снегом на углу Садовой и Маклина, под аптекой, у дома 105 — 41. Шарф с его лица сбился, открывая заросшее щетиной исхудалое лицо. Он был один из многих сотен тысяч ленинградцев, безропотно отдавших свою жизнь за свободу и независимость своего родного города. Не дошел он в тот день до своего места работы и не возвратился в свой дом. Еще несколько дней лежал этот человек, покрытый снежным одеялом, встречая и провожая обессиленных голодом прохожих, пока полностью не был занесен снегом и не превратился в сугроб. В ту пору у ленинградцев не хватало сил очищать улицы от трупов и снега. Лютые морозы сковали город. Город был почти мертв. Только внутри зданий, у крохотных печек–буржуек еще теплилась жизнь, на заводах из последних сил работали люди для фронта, для Победы, да на улицах несли свою нелегкую вахту девчата из МПВО.
Слухи о каннибализме в городе ходили. На политзанятиях в училище нам говорили, что людоедов расстреливают на месте, без суда и следствия. Моя супруга вспоминала, что видела на улицах блокадного Ленинграда трупы с отрезанными руками и ногами, но я лично такого не видел.
Об эвакуации стали поговаривать еще в январе 1942 года. Дистрофия начала выбивать из наших рядов наиболее слабых. От чрезмерного употребления воды вместо пищи мы стали опухать. Водянка сразу распознавалась по неглубоким ямкам, которые оставались при нажатии пальцем на опухшую руку. Ямки эти медленно выправлялись.
Эвакуация спецшкол нужна была стране для восполнения кадров командного состава армии. Нам же она давала шанс на выживание от голода.
И вот настал этот день эвакуации. С собой нам разрешили взять теплую одежду и валенки. Провожали нас матери, отцы были на работе или на фронте. В дорогу выдали по 700 г блокадного хлеба, от которого в ожидании транспорта я отщипывал по маленькому кусочку, пока от него не осталось ни крошки. Не утолив голод, я стал переживать, что теперь я буду есть в дороге. Неизвестно, когда нас еще будут кормить. Забегая вперед, скажу, что уже на следующее утро я очень сожалел о том, что съел этот хлеб, а не отдал его матери, так как в Жихореве у меня, как и у всех нас, было уже много хлеба и пищи, а у них, провожающих нас матерей, было мало шансов на выживание. Голод как косой косил ленинградцев. Провожая нас, наши матери были и рады за нас, что мы не умрем от голода, и опечалены расставанием. Доведется ли еще встретиться? Для них — блокада, для нас — армия, фронт. Война! И ей не видно конца. Фашисты под Москвой и рвутся к Волге.
На Финляндском вокзале нас погрузили на пригородный поезд. Набили нас в вагон так плотно, что через несколько минут дышать было уже нечем.
Из табельных малокалиберных винтовок стали стрелять по окнам, чтобы получить хоть немного свежего воздуха. Но эффект был слабый, пока не тронулся поезд и не стал набирать скорость.
На берегу Ладоги нас ждали грузовики. Экономя каждое место, нас плотно усадили на скамейки в кузов открытой машины. Было темно, мела метель. Мы, тесно прижавшись друг к другу, старались сохранить то тепло, которое набрали еще в поезде. Мне досталось место у борта, справа от кабины шофера. На первой скамейке сидели мы спиной по ходу движения.
Сильный встречный ветер продувал меня насквозь, добираясь в разрез шинели до мозга костей, позвоночника. Крепко сжав зубы, чтобы они не выбивали чечетку, я вспоминал слова провожавших нас матерей о том, что в Сибири нас будут кормить белым хлебом, так как черного там не выпекают, у нас будет вдоволь мягких и вкусных булочек … Ехали без остановок. Вверху темное небо, с которого сыпал редкий сухой снег, под нами белая бескрайняя снежная равнина.
Проехав несколько километров, шофер затормозил и свернул в сторону от проторенной дороги. Впереди какая–то машина уходила под лед. Вокруг в темноте толпились люди. Не останавливаясь, шофер, объехав полынью, опять свернул на проторенную дорогу. Ехали молча…
По ту сторону Ладоги на Большой земле нас ждала новая жизнь.
И вот небольшой подъем. Машину тряхнуло — и мы на твердой земле. Остановились у небольших темных строений. Приятно запахло кухней и обжитым жильем. Команда — «Слезай!», и мы, одеревеневшие от мороза, переваливаемся через борт машины. Разминая отекшие и замерзшие ноги, неуверенно шагаем к месту сбора. Но не всем суждено было живыми ступить на эту землю обетованную. Один из нас, не выдержав голода и холода, скончался по дороге, в машине, открыв счет спецшкольников, погибших при эвакуации. Темные здания оказались бараками, в которых размещались пищеблоки и залы ожидания. В столовой было тепло. Горячая пища ощутимо изгоняла мороз из промерзшего тела, прибавляя силы истощенным мышцам, поднимала настроение. Наши руководители получили для нас талоны на столовую и на сухой паек. Многие старались правдой и неправдой выпросить себе лишний талончик. Это их и сгубило. В тот период для нас, дистрофиков, главный враг был — переедание и грубая жирная пища. Истощенные желудки не выдерживали такого изобилия пищи, и начинались кровавые поносы … и новые жертвы нашего пути из блокады.
Нас ждал товарный поезд. «Телячьи» вагоны, наскоро оборудованные нарами по обе стороны от откатных дверей. В середине — печь–буржуйка.
Наш первый взвод первой батареи был укомплектован шестнадцати–семнадцатилетними ребятами, учащимися 1 О–го класса. Мы были старшими в спецшколе, и, естественно, нам уделялось меньше внимания, чем 2–й батарее (9–й класс) и 3–й батарее (8–й класс). Заготовка дров, воды, сухого пайка, и … эшелон готов к следованию. «По вагонам!» — и вагоны застучали по рельсам. Главный недостаток «телячьих» вагонов — отсутствие гальюна. Это особенно сказывалось в условиях зимнего времени, редких остановок поезда и расстройств в наших дистрофических желудках, отвыкших от нормальной пищи. Вначале спецы как–то терпели боли в животе, и облегчались на первых остановках прямо на рельсах рядом со своим вагоном. Дальше положение усложнилось. Остановки стали реже, а кровавые поносы стали губить все новых и новых спецов. Раздвинув откатную дверь, спец, держась за поручень, испражнялся на полном ходу поезда. Несмотря на наше тяжелое положение, мы не теряли чувство юмора. Как–то при очередной такой операции у дверей спец Петров резко дернулся внутрь вагона и закричал: «Ребята, я, наверно, задницей сбил телеграфный столб!» Выглянув из дверей, мы увидели стрелочницу, которая грозила нам своим флажком. Древком этого флажка и хлопнула она Петрова по голой заднице.
Наиболее слабые из нас пробирались к буржуйке, к теплу. Отсюда они и покидали наш вагон либо мертвыми, либо тяжелобольными. Мне запомнилась поза этих умирающих подростков с растопыренными пальцами рук над буржуйкой. Апатия была самым страшным врагом. Чтобы выжить, надо было двигаться: колоть дрова для буржуйки, ходить на остановках за продуктами, снимать с вагона мертвых и больных, а главное, не переедать.
Остановки становились все реже и реже. Во время остановок у нас спрашивали: «Есть больные?» Ответ был всегда утвердительным, больные находились всегда. Были не только больные, но и мертвые. Снимали с поезда мертвых и тех, кто уже не мог двигаться. Большинство таких больных не выживали и в больницах, пополняя собой кладбища на всем пути следования нашего эшелона. Могилы умерших блокадников–однокашников отмечали каждую остановку нашего пути.
Очередной жертвой буржуйки был и наш командир взвода. Молодой лейтенант, он тоже не выдержал испытания блокадой. Обращаясь к нам, он начал молоть чепуху о пользе стекла при пищеварении, особенно для нас, дистрофиков. Надо, мол, грызть все стеклянное … На очередной остановке мы сдали его в больницу, и больше он к нам не вернулся.
За Уралом к нашему эшелону прицепили два паровоза ФД, которые почти вдвое увеличили скорость. В Новосибирске была большая остановка, и мы с Сергеем Зориным не выдержали искушения и направились в столовую при вокзале отведать горячей пищи. В столовой было уютно, хорошо и вкусно, но после нее нашим блокадным дистрофическим желудкам стало совсем плохо.
Нас спасла сравнительная близость конечного пункта нашего пути. Вскоре мы прибыли туда в город Мунды–Баш Алтайского края. Там нас ждали и приветливо встретили в теплом светлом здании со всеми удобствами, создав все условия для восстановления здоровья. Недельку провалявшись в изоляторе, мы с Сергеем вернулись в строй. При отличном питании, на чистом горном воздухе мы стали поправляться и полнеть как на дрожжах. Быстро набрав жирок, мы довольно медленно набирали силы в мышцах. Шло время, и возобновились занятия в Специальной артиллерийской школе. Там же родилась и наша песня ленинградцев в эвакуации.
Песня учащихся 9–й САШ в эвакуации в городе Мунды–Баш, 1942 год:
Помню раскаты ночных канонад,
Помню на Стачек ряды баррикад,
Взрывы снарядов и «Юнкерсов» вой,
Помню свой город любимый, родной.
В городе том тебя нянчила мать,
Там же ты начал слова лепетать,
Дрался с мальчишками, в школу ходил,
Двойки хватал и отличником был.
Разве забыть Ленинград дорогой,
Зимний, Исаакий и шпиль над Невой,
Разве забудешь тот город, где раз
Видел огонь двух пылающих глаз.
Пусть же в далеком сибирском краю
Каждый сегодня даст клятву свою,
Пусть же сердца тем огнем загорят
Мстить за любимый родной Ленинград.
Пели ее мы на мотив песни «Крутится, вертится шар голубой … ».
3акончились занятия, подведены итоговые оценки на апестат зрелости. Наступило время летних каникул. Весна и лето в Алтайском крае особенно хороши. Горы и дикая природа. Вдали видна самая высокая гора Сибири — Белуха, со своей белой, снежной вершиной (4506 м над уровнем моря). Невдалеке от нас шахта, от нее идет подвесная канатная дорога к железнодорожной станции. По ней взад и вперед двигаются вагонетки с рудой. Ходили мы и в походы, в таежный лес, туда, куда без топора и не пройдешь. Как–то вышли мы на лесную полянку, где стояла изба староверов. Поздоровавшись с нами, старик стал спрашивать: «Почему вы такие молодые и в военной форме?» Здесь, в лесной глуши, он и не знал, что идет война. Мы хотели пить. ОН напоил нас студеной водой, но когда мы уходили, он забросил в кусты кружку, из которой мы пили воду. У староверов такой обычай: пить и есть только из своей посуды, не давая «осквернять» ее другим людям. Быстро пробежало время беспечного отдыха.
В августе 1942 года нас, первую батарею (1О–й класс), направили в Томск в 1–е Томское артиллерийское училище. По дороге нас накормили на железнодорожной станции Тайга. В дощатой столовой, напоминающей барак, нас кормили грибами. Грибы подавали нам в больших шайках (таких, как в бане). Но, несмотря на несоответствующий столовый сервиз, пища была очень вкусная. Остаток пути до Томска мы ехали сытые и довольные, в приподнятом настроении.
1–Е ТАУ
В Томске нас разместили вне территории училища и назвали нас кандидатами. С полмесяца мы находились в этом звании. За нами приходили начальники различных служб училища, привлекая нас ко всевозможным хозяйственным работам. Забирали нас утром и вечером. Все эти хозяйственные работы нам порядком надоели, и мы ждали с нетерпением тот день, когда нас зачислят курсантами и выдадут положенное обмундирование. Запомнилась одна такая работа. Почти всех нас вечером направили на разгрузку барж, груженных бревнами. Баржа, на которой мы работали, была большая, и бревна были почти в полтора обхвата и длиной метров десять. Наша задача была скатывать бревна с баржи в воду, в Томь. Было уже довольно темно, прожектор с берега еле освещал нашу рабочую площадку. Бревна мы, человек 10, подкатывали к борту, а у борта два человека, поддев ломиками, сбрасывали их в воду. При сбрасывании очередного бревна я никак не мог справиться с комлем, то есть с толстым его концом. Он не поддавался, а конец бревна напарника уже висит над водой, за бортом. Надо было торопиться, так как за спиной ребята уже подкатывали новое бревно. Поднатужившись, я все–таки сбросил бревно, но в спину мне ударило другое, и я с высоты четырех метров полетел в темноту речной воды. В вынужденном полете я боялся только одного — как бы мне не удариться о плавающие бревна. Но мне повезло. Я нырнул в свободную воду. Вынырнув и проплыв метров пять до берега, я, весь мокрый, выбрался из воды и поплелся на баржу, в каюту. Вода стекала с меня ручьями. В ботинках хлюпало. Мы были еще в форме спецшкольников: гимнастерка, брюки навыпуск и ботинки. Было по–осеннему холодно. Как водяной я открыл дверь каюты и предстал перед нашим руководителем. В каюте было тепло, весело потрескивали дрова в печурке. Старший лейтенант, руководитель работ, строго оглядев меня и обругав за неосторожность в работе, дал мне на обсушку 15 минут — «и марш на палубу продолжать работу». Не просохнув как следует, во влажном обмундировании, через двадцать минут я вернулся на палубу. За работой, незаметно, на ветру, обмундирование высохло, сырыми оставались только носки и ботинки. Несмотря на холодную купель и холодный речной ветер, простуда меня обошла стороной, и я не выбыл из строя.
И вот настал день посвящения нас в курсанты! Нас перевели в казарму на территории училища. Выдали новое обмундирование, сапоги кирзовые, шинели английского сукна, темно–зеленого цвета и все остальное. Английская шинель мягкая, но холодная, непрактичная в полевых условиях, особенно холодно в ней было в Томске, в Сибири. Приняли присягу, получили курсантские погоны и ремни с латунной пряжкой и звездой на ней. Казарма большая, на дивизион, с двухъярусными койками. Я разместился на втором ярусе, там спокойнее, хотя были и некоторые неудобства. Плохо спрыгивать на пол по команде «Подъем!». По неосторожности можно сесть на шею или угодить ногами в физиономию нижнему соседу.
Наша курсантская служба началась с отработки основных правил устава внутренней службы:
— Подъем! Отбой! Становись в строй!
Построения для утреннего осмотра и на вечернюю поверку. Проверка заправки койки, своего обмундирования, и все это по нескольку раз и в считаные секунды и минуты. Все это было не так просто, как кажется.
Приняли присягу и стали ходить в караул. Начались регулярные занятия по восемь часов в день, да еще четыре часа самоподготовки. Самоподготовкой занимались в Красном уголке под присмотром офицера дивизиона. Уйти с занятий можно было только с его разрешения. Учеба чередовалась с выполнением уставных обязанностей внутренней службы. Несение караульной службы, дежурными и дневальными по казарме, работа на кухне и другие хозяйственные работы. Все это были очередные наряды. За нарушение дисциплины и уставных требований полагались внеочередные наряды, которые особенно щедро раздавали младшие командиры (сержанты). Наряд по казарме состоял в том, чтобы отдраивать добела обширный пол в казарме, охранять ее имущество и своевременно и четко рапортовать командованию при его появлении, чем занимается батарея, дивизия. В карауле было лучше, так как там равномерно и строго чередовалось время на пост (караул), сон и бодрствование. В морозные дни в наружном карауле мы стояли в больших пимах (валенках), в шапках–ушанках и в овчинных тулупах до пят с поднятым воротником. Было тепло даже в 50–градусный мороз, но и опасно, так как клонило ко сну. А за сон на посту полагался военный трибунал и как минимум штрафной батальон. Чтобы не заснуть и не прозевать проверяющего или разводящего, а на худой конец и диверсанта, приходилось все время ходить возле поста. Два–три шага вперед, поворот головы направо, еще два–три шага, поворот головы налево, так же прямо, потом кругом и так же назад. В нашем дивизионе все обходилось без ЧП, а в другом были случаи, когда судили курсанта (часового) за сон на посту. Надо сказать, что в карауле кормили лучше, чем в обычные дни. На кухне лучше всего было чистить картошку. Работать у котлов было жарко, да и мыть их, забравшись полностью внутрь котла, вниз головой — занятие не из приятных, но с питанием здесь было даже лучше, чем в карауле.
В баню мы ходили на край города и, как правило, за счет сна. Однажды мы только сменились с караула, только легли спать, как раздалась команда: «Подъем! В баню!» Рассерженные, мы построились и пошли В баню. На команду «Запевай!» не реагировали. Минут через пять опять команда «Запевай!» — и опять мы молчим. Тогда старший лейтенант, который нас вел в баню, командует: «Бегом, марш!» Бежим. Команда: «Стой! Запевай!». Опять молчим. Опять бегом, опять стой, опять «запевай», и мы опять молчим. Новая команда: «Ложись! По–пластунски марш!» Ползем. Впереди лужа. Ползем по луже и грязи. Команда: «Встать! Шагом марш!» Все в грязи, мы входим в баню. Одежду сдаем в дезкамеру, сами в баню. Помывшись и поменяв белье, счищаем засохшую грязь с шинели и галифе. На обратном пути команды «Запевай!» уже не было. Подходя к училищу, старший лейтенант остановил батарею и перед строем произнес воспитательную речь, в которой была и такая фраза: «Тоже мне, ленинградцы. А вы читали «Как закалялась сталь» Шолохова?» Дружный хохот был нашим ответом. Больше этот старший лейтенант нас в баню не водил, водить в баню стали старшины.
Наступила зима со своими сибирскими морозами до 50·С. По плацу перекатывали трехтонные 122–мм гаубицы. Холодно было заниматься разборкой орудий на холодном плацу, изучая их материальную часть. Тяжелый поршень затвора 152–мм гаубицы прилипал от мороза к голой коже кистей рук. Трудно было и на занятиях по тактике. В открытом поле мерзли мы под тонким сукном английских шинелей. Только ногам было тепло в громадных валенках (пимах). Валенки выдавали из каптерки промерзшими и такими тяжелыми, что ими смело можно было убить человека: снимай с ноги и орудуй вместо винтовки в рукопашном бою. На своих занятиях по тактике в поле мы наблюдали и занятия курсантов Белоцерковского пехотного училища. Нам было трудно, а им было еще труднее преодолевать в глубоком снегу по–пластунски рубежи условного переднего края, атаковать условного противника, сражаться в рукопашном бою, штыком и гранатой прокладывая себе путь. В заключение курсанты Белоцерковского пехотного училища, не закончив курс обучения, в тяжелые дни Сталинградской битвы были направлены офицерским полком под Сталинград.
Мы тоже отрабатывали приемы рукопашного боя, работая штыком и прикладом, на соломенных щитах и чучелах. Команды «Коротким коли», «Длинным коли», «Прикладом бей» раздавались по плацу. Но у нас для этого выделялись часы, а у них дни и недели.
Старший сержант Стулов был помощником командира нашего взвода. Насколько был человечен командир взвода, лейтенант Сербин, настолько бесчеловечен был Стулов. Он был высокого роста, широк в плечах и обладал небывалой силой и скверным характером. 76–мм пушку ЗИС–З он свободно один катал по плацу. Откуда он такой свалился на наши головы мы не знали. Друзей у него не было. Дисциплину во взводе он поддерживал своим непреклонным характером, зычным голосом и чертовской силой. Был требователен чрезмерно, до издевательства. По нескольку раз заставлял он нас исполнять не понравившиеся ему наши действия. То койка, по его мнению, неправильно заправлена, или неверно подшит подворотничок, или слабо вычищены сапоги, или отдраена пряжка ремня и пуговицы … Да мало ли к чему еще можно было придраться у курсанта! Ему доставляло большое удовольствие заставлять нас по несколько раз исполнять его приказания, при этом он направо и налево раздавал нам свои наряды вне очереди. Мы уже хотели устроить ему «темную» за все его издевательства над нами, но передумали и решили расправиться с ним после окончания училища. По основным предметам, кроме строевой, Стулов успевал посредственно, так что звания лейтенанта ему не видать, в лучшем случае ему присвоят звание младшего лейтенанта. И мы с нетерпением ждали того дня, когда нам присвоят офицерские звания и мы смогли бы разделаться со Стуловым. Но, увы, во время государственных экзаменов Стулов куда–то пропал из училища так же внезапно, как и появился в начале нашего курса.
Хотел бы немного рассказать об особенностях курсантского быта. Прохудились у меня сапоги, и пришлось их сдать в ремонт. Каптенармус вместо сапог предложил мне ботинки с обмотками, мотивируя тем, что сапог на замену нет, а кожаные, новые ботинки гораздо лучше, чем кирзовые сапоги. Так что, пока не отремонтируют ваши сапоги, придется поносить вам обмотки. Не представляя последствий такого шага и так как другого варианта не было, пришлось согласиться. Беда подстерегала меня утром при подъеме и построении на физзарядку. Ребята по команде «Подъем!» и почти одновременно «Становись!», всунув ноги с портянками в сапоги, бегут в строй. А я все еще копаюсь с портянками, ботинками, шнурками и обмотками. Надо не только надеть ботинки с портянками, но и зашнуровать ботинки, намотать обмотки, чтобы они не размотались при движении, и встать в строй. Если обмотки размотаются в строю, на них наступит идущий сзади, ну а дальше это будет уже не строй, а куча мала. В строй я становлюсь последним, с опозданием. Строй я задержал и получил от Стулова один наряд вне очереди. Иногда я хитрил. Скатанные обмотки засовывал в карманы и уже в строю наматывал их на ноги. Намучившись с неделю, я наконец–то получил свои сапоги из ремонта и, несмотря на четыре наряда вне очереди, заработанные в это время, облегченно вздохнул.
Какой–то отдушиной для курсантов было участие их в художественной самодеятельности. На прослушивании кандидатов, желающих записаться в хор, был и я. Участники хора освобождались от непосредственных хозяйственных работ, таких, например, как спасение тюков табака от разлива реки Томь. При прослушивании я старался как можно громче и отчетливее пропеть куплеты песни, не особо считаясь с мелодией, исполняемой на рояле. Слух меня подвел, и в хор меня не приняли, в то время как курсанты с тихим, на мой взгляд, непригодным для хора голосом записались в хор.
Демонстрировали для нас и новые кинофильмы в большом кинозале, расположенном рядом с нашей казармой. В кинозал мы ходили, чтобы выспаться. Во время сеанса в темноте нам никто не мешал хорошо поспать, так как спать до отбоя курсанту не разрешалось. А сна нам не хватало. 1 О часов занятий, из которых более половины на морозе, и 4 часа самоподготовки под присмотром офицера, остальное время уходило на питание, умывание и прочие бытовые надобности, так что на личные дела время почти не оставалось.
Кормили нас хорошо, но занятия нас так изматывали, что, несмотря на калорийное и достаточное для нормальных условий питание, нам все было мало, и при случае мы покупали булку или белый хлеб (черный хлеб в Сибири не выпекали). Для борьбы с цингой нам подавали на стол сибирский чеснок (калбу). Кал6а напоминала листья щавеля, но запах имела чеснока. Для более полного освоения нами витаминов врач училища предложил поварам картофель мыть, но не чистить, варить его с шелухой, так как в шелухе и под ней много витаминов. С этого времени и в супе и в пюре у нас картофель был с шелухой. Ну, а что курсанты? Курсанты все съедят.
В программу подготовки курсантов входила и лыжная подготовка. Лыжный кросс проходил по льду реки Томь. Надо было показать умение ходить на лыжах на дальность и скорость. В кроссе принимали участие все курсанты училища. Томь была покрыта достаточным слоем снега, на котором проложены две хорошие лыжни, чуть припорошенные свежим сухим снегом. Для курсантов–сибиряков преодоление намеченной дистанции не составляло большого труда, дя них ходьба на лыжах была привычным делом. Нам же, ленинградцам, а особенно мне, непривычным к дальним лыжным прогулкам, участие в кроссе было делом непростым. Уже на старте я оторвался от основной группы лыжников. Меня стали обгонять лыжники из последующих групп. Безнадежно отстав от своего взвода, я стал думать, как мне выйти из такого положения. Ведь командир взвода не похвалит, и ребята засмеют. По карте я знал, что река в этом месте делает петлю, и я, недолго думая, чтобы сократить путь, снял лыжи и, взвалив их на плечо, стал карабкаться по крутому берегу Томи на противоположный склон. Спустившись по склону на другую излучину реки, обнаружил, что лыжня пуста, никого. Думая о том, что и здесь мне не удалось догнать своих, я поднажал на палки. К моему удивлению, уже перед финишем меня стали догонять наши лыжники. На финиш я пришел третьим. Командир взвода, лейтенант Сербин, похвалил меня. Пришлось признаться, что я сократил путь, перелезая через берега излучины. Сербин ругать не стал, а, наоборот, еще похвалил меня за находчивость.
На одном из занятий по тактике нам было приказано за одну ночь отрыть, оборудовать и замаскировать НП батареи в полный профиль. Место было выбрано на склоне одной из высот, в шести–семи километрах от города. Мороз был по–сибирски крепким, 40 градусов. Вооружившись шанцевым инструментом (ломы, кирки, большие и малые саперные лопаты), мы после тщательной разметки с наступлением темноты приступили к работе. Сняв метровый слой снега, принялись ломами и кирками врубаться в мерзлый грунт, выковыривая из него булыжники. Наработавшись до пота и добравшись до мягкого грунта, мы в изнеможении падали на него. Пока мы отдыхали 10–15 минут, грунт опять успевал промерзнуть на 8–10 сантиметров, и мы опять принимались за ломы и кирки. И так повторялось по нескольку раз, пока глубина не достигла по грунту почти двухметровой отметки. Потом последовала распилка бревен и укладка наката, планировка амбразур, смотровых щелей и установка стереотрубы. Засыпав накат хвойным лапником, землей и свежим снегом, утомленные, но довольные своей работой, мы перед рассветом вповалку улеглись в оборудованном нами НП, плотно прижавшись друг к другу. А утром нас ждало разочарование. Приехавший к нам командир дивизиона заявил, что наш НП обнаружен, и надо снова рыть новый НП на новом месте, соблюдая тщательную маскировку. И все повторилось сначала.
Взвод наш имел не только хорошие показатели по строевой подготовке, но и занимал одно из первых мест по строевой песне. Пели мы как общеизвестные песни, такие как «Марш артиллеристов», «Дальневосточная, краснознаменная … », так и малоизвестные песни, такие как «Наказ футболиста», «Марш курсантов 1–го Томского артиллерийского училища».
Наказ футболиста
Вчера, друзья, в сраженьи бравом,
Карьера кончилась моя,
На футболматче с Наркомздравом
Сам лучший бек, сам лучший бекподбил меня.
Теперь, товарищи, прощайте,
Недолго мне осталось жить,
Навеки буду я в офсайте,
Позвольте вас, позвольте вас мне попросить.
Когда умру, похороните
На стадионе вы меня,
Бюро–ячейку попросите
Из списков вычеркнуть
Немедленно меня.
Не надо мне поповской банды,
Не надо своры мне солдат,
Пусть все футбольные команды
За гробом с песнею идут, как на парад.
Несите спереди на крышке
Футболку, трусики мои,
И бутсы, камеру с покрышкой,
Все принадлежности футбольные мои.
Ногами в аут положите,
А головой под самый гол
И на могиле напишите:
«Покойный здесь, покойный здесь играл в футбол».
Сначала весь куплет бодрым голосом исполняет запевала, последующие две строки подхватывает взвод. Автор песни неизвестен. Эту песню особенно полюбили мальчишки, живущие возле училища. Наш взвод они узнавали по песне и, когда мы проходили, нам кричали: «Еще раз спойте про футболиста!»
Марш курсантов 1–го Томского артиллерийского училища
Из лучших людей для борьбы за свободу
Для армии нашей страны
Ты кадры ковала в суровые годы
Великой Гражданской войны.
При пев
Наше Томское артиллерийское
Воспитало в нас дух боевой,
За нашу Родину по зову партии
Курсанты первыми пойдут в победный бой.
И снова твои молодые питомцы
Фашистов без промаха бьют
И песни о первом училище Томском
В тылу и на фронте поют.
О наших курсантах, о преданных людях
Родная узнала страна,
Советский народ никогда не забудет
Про подвиг Ильи Шуклина.
Почет заслужили делами своими,
Училище славой покрыв,
И Первого Томского гордое имя
Звучит, как к победе призыв!
За правое дело, за Красное знамя
Нас в бой посылает народ,
Мы знаем, мы верим: победа за нами,
К ней партия твердо ведет.
Слова марша написал курсант 1–го ТАУ, бывший спец Московской спецартшколы, Викторов Костя.
Особое внимание в нашей подготовке уделял ось освоению основных предметов артиллерии. Подготовка данных для стрельбы, глазомерная неполная и полная подготовка данных для стрельбы, огневая подготовка, материальная часть орудий и стрелкового оружия, их тактико–технические данные и т.д. Более глубоко изучались тактика и топография, отрабатывалась строевая подготовка, изучался строевой и дисциплинарный уставы. Достаточное время отводилось и практическим занятиям.
При сдаче государственных экзаменов по основным предметам на «пять», а по остальным не ниже четырех баллов присваивалось звание лейтенанта. При наличии по основным предметам хотя бы одной четверки присваивалось звание младшего лейтенанта.
В течение всего курса я по основным предметам имел твердые пятерки и надеялся на присвоение мне звания лейтенанта. Но… подвел зуб. А дело было так. Накануне госэкзаменов у меня разболелся зуб, щеку раздуло большим флюсом, поднялась температура, и меня положили в медсанчасть. Чтобы не отстать от взвода и не остаться еще на полгода в училище, пришлось просить командование допустить меня к экзаменам с раздутой щекой и больным зубом. Мою просьбу удовлетворили. Но больной зуб подвел меня на строевой подготовке. Я не смог как положено «печатать» строевой шаг и сильным, командирским голосом подавать команды. Все эти «упражнения» острой болью передавались больному зубу. В общем, по строевой подготовке я получил четыре балла и то с натяжкой за свои прежние заслуги, а вместо звания лейтенанта мне было присвоено звание младшего лейтенанта.
Но меня это не очень огорчило. Лишь бы скорее расстаться с училищем. И следуя поговорке, что в таком случае «меньше взвода не дают и дальше фронта не пошлют», Я успокоился.
За время занятий в училище я из тетрадных листов сброшюровал себе нормативный справочник, записную книжку. В нее я очень кратко, убористым почерком записывал все основные правила по стрельбе и основные тактико–технические данные артиллерийских орудий. На фронте эта записная книжка долгое время была мне подручным справочником как на арттренажерах, так и при проведении занятий во взводах. Все было хорошо, пока уже в 1944 году про мою записную книжку не пронюхал начальник артиллерии нашего 24–го гвардейского кавполка гвардии майор Сонин. Взяв мой самодельный справочник на время, он так и не вернул его мне. Но это в 1944 году. А в мае 1943 года выдали нам новенькое обмундирование, полевую сумку, кобуру под пистолет, полевые погоны с одним просветом, продовольственный! денежный и вещевой аттестаты. С большим удовольствием крепили мы звездочки на погонах. Теперь мы офицеры! Зачитали приказ. 60% курсантов (бывших) направили в Иран, 25% в Уральский артиллерийский центр и только 15% на фронт. В эти 15% попал и я. Никакого выпускного вечера или бала не было. Не было времени и на стажировку в воинских частях в тылу, фронт требовал пополнения. Нас, восемнадцатилетних, наскоро испеченных офицеров, ждал фронт.
Сопровождать нас на Центральный фронт поручили нашему командиру взвода лейтенанту Сербину. Погрузились мы в товарные вагоны, наскоро переоборудованные для перевозки военнослужащих, устроились на нарах — и в путь. В проеме откатных дверей вагона замелькали сибирские пейзажи. Таежные сосновые рощи чередовались с зелеными просторами на фоне голубого неба. Старинные мощные паровозы ФД, оставляя за собой шлейф черного дыма, мчали нас на фронт защищать нашу Родину.
Осень и зима 1942–1943 года, которую мы провели в 1–м ТАУ, огневая подготовка и тактические занятия в поле при 40–градусном морозе дали нам необходимую для фронта закалку в прямом и переносном смысле.
В 1943 году в армию пришли восемнадцати–и девятнадцатилетние лейтенанты, выпускники специальных школ военного времени, окончившие ускоренные курсы военных училищ. Нас не пугал фронт, мы стремились скорее попасть на передовую, и, если бы сейчас нам сказали, что многие из нас по гибнут уже в первых боях, мы бы ни за что не поверили.
Образно говоря словами спецов 1–й Московской САШ из книги «Покой нам и не снился… », можно сказать: «8 этом и есть, наверное, некая «тайна» войны. Человек не верит в то, что его убьют. Если бы он все время думал об этом, то он не смог бы подняться в атаку, и вообще не в силах был бы ни дня находиться на переднем крае».
На дворе стоял май 1943 года. Мы, молодые офицеры, всем по восемнадцать лет, прибыли на Центральный фронт. Городок районного значения, тихо, весна, солнце, как будто и нет войны. Сопровождающий нас командир взвода из 1–го ТАУ лейтенант Сербин в ожидании попутной машины к месту назначения разрешил нам погулять по городу.
Стоим на тротуаре, проходят редкие прохожие, проходит священник в рясе. Подойдя к нам, здоровается: «Здравствуйте, товарищи офицеры!» Мы удивлены. Ответили: «Здравия желаем!» Один из наших офицеров заметил на рясе священника орден Красного Знамени. Мы не поверили. Незаметно забежали вперед и убедились: действительно у священника боевой орден Красного Знамени. Мы были очень удивлены. Проходившая женщина, заметив наше удивление, объяснила, что священник был командиром партизанского отряда, а теперь опять служит в церкви.
Походив по городу И получив по аттестату продукты, мы выехали в район назначения, в местечко Свобода. Мы тогда не знали, что в этом населенном пункте был расположен штаб Центрального фронта (комфронта Рокоссовский К. К.). В штабе лейтенант Сербин передал наши документы, распрощался с нами, пожелав нам успехов в боях с фашистами, и уехал.
В течение получаса мы получили направление в 60–ю армию (командующий — генерал–лейтенант И.Д. Черняховский) и на попутной машине направились в расположение штаба 60–й армии, где были приняты командующим артиллерией армии. После короткого ознакомления с нами я и еще четверо моих товарищей были направлены в 497–й артиллерийский минометный полк. На мою реплику, что мы не минометчики, а артиллеристы, последовал ответ: «Молоды еще определять, где вам служить, будете воевать там, куда вас направили. Знания, полученные вами в училище, достаточны и для работы в минометном полку!» В сопровождении связного поздним вечером мы прибыли в штаб полка. По трупному запаху и редким пулеметным и автоматным очередям чувствовалась близость переднего края.
Принял нас начальник штаба полка и, как было принято на фронте, поинтересовался, нет ли среди нас его земляков. И так как по рождению тульский, я оказался его земляком из соседнего с ним района. Распределив всех по батареям, он оставил меня одного и предложил должность по разведке, то есть помощника начальника штаба. Должность эту даже по тем временам занимали офицеры не ниже капитана, тем более что полк был отдельный и комполка имел права на уровне комдива. Конечно, такая ответственная должность меня, восемнадцатилетнего, не имевшего опыта командирской работы, молодого офицера, не только пугала своей сложностью работы, но и высокой ответственностью выполнения заданий полка в боевой обстановке. Тем более что после выпуска из училища мы не имели стажировки командирской работы.
— Не робей, земляк, все будет хорошо, ведь ты закончил училище, а у нас большинство офицеров выходцы из сержантов и не имеют специального военного образования, не считая полковой школы, уговаривал меня начальник штаба полка.
Но я наотрез отказался от должности по разведке и просил направить меня в батарею командиром огневого взвода.
— Ну ладно, земляк, я хотел как лучше, но так как ты загорелся работать на батарее, направлю тебя в лучшую батарею полка — 1–ю батарею 1–го дивизиона командиром огневого взвода, — закончил начальник штаба и, вызвав связного, приказал проводить меня в 1–ю батарею.
497–й армминполк занимал оборону в самом центре Курского выступа (Курской дуги) на реке Сейм под Рыльском. По ходам сообщения (траншеям) ночью связной привел меня в расположение 1–й батареи. Войдя в землянку, я доложил командиру батареи, что прибыл в его распоряжение. После короткого знакомства и выяснения, не земляк ли я его, комбат приказал ординарцу принести мне ужин и налил мне в алюминиевую кружку водки (для знакомства). Я сказал, что не пью. На что он заявил, что на фронте все пьют и надо оставить всякие там домашние нежности. «Здесь фронт, война и надо быть мужчиной». Выпив водки и плотно поев, я отправился с ординарцем в отведенную мне землянку и там крепко уснул.
Все землянки на батарее больше напоминали добротные блиндажи, имели по три–четыре наката. Разбудил меня по приказанию комбата тот же ординарец на другой день часов в 12 и сказал, что комбат меня вызывает. Наскоро помывшись и приведя себя в порядок, я представился ему.
Комбат сказал, чтобы я шел завтракать, после чего должен принять взвод. Так как «живых» минометов я не видел в училище, мы о них знали только по учебникам, я попросил у комбата время сначала ознакомиться с материальной частью и правилами стрельбы; изучить наставления и уже после этого принять взвод. В ответ комбат сказал, что наставлений у него никаких нет, нет и правил стрельбы, а есть только таблицы прицелов, и это он считает вполне достаточным, чтобы вести огонь взводом. Снова повторил приказ после завтрака принять взвод, а ознакомиться с матчастью и осваивать стрельбу из минометов рекомендовал в процессе работы со взводом. После завтрака комбат представил меня третьему взводу, построенному у огневых позиций.
Минометная батарея состояла из трех огневых взводов и одного взвода управления. Каждый огневой взвод имел по два 120–мм миномета. (Иногда минометные батареи имели по два огневых взвода, как в артиллерии, но по три миномета на взвод.) Представив меня личному составу взвода и приказав ему «любить и жаловать нового командира взвода», комбат удалился. Поздоровавшись со взводом и ознакомившись с каждым поименно, я приказал:
— Разойдись! Командирам орудий, ко мне!
Личный состав взвода состоял из бывалых, обстрелянных во многих боях, пожилых бойцов, от 25 до 45 лет. Я понимал, что с первого дня должен завоевать авторитет командира у подчиненных и поэтому никак не могу показать свое незнание военной техники полка, в данном случае минометов, о которых у меня было смутное представление. Необходимо было показать и свою требовательность к подчиненным с первых дней своего знакомства со взводом. Оставив командиров орудий, я приказал им показать мне свою материальную часть (минометы). Минометы находились в ровиках, отрытых в полный профиль (около 170 см глубиной) и тщательно замаскированы. Требования к маскировке в период обороны на Курском выступе были особенно строгими. Маскировка хорошо поддерживалась над землянками, ходами сообщения и другими сооружениями батареи. Дерн, которым обкладывались сооружения, должен был всегда быть свежим и зеленым. Батарея располагалась в яблоневом саду и дополнительно маскировалась фруктовыми деревьями и ягодными кустами. На мой своеобразный экзамен по матчасти командиры орудий отвечали четко и слаженно:
— Вес миномета в боевом положении — 257 кг.
— Основные части миномета: труба, двунога–лафет, опорная плита… и так далее.
Странно для меня, привыкшего к артиллерийским названиям, звучали части миномета. Но, проведя перекрестный опрос, я убедился, что ответы были правильными. Сделав замечание командиру шестого орудия о недостаточном уходе за минометом (на ручках опорной плиты была ржавчина), я отпустил командиров орудий и пошел знакомиться с офицерами батареи. Офицеры (лейтенанты 1–го и 2–го взвода) были практиками и выросли из сержантов. Приняли меня хорошо, поделились со мной таблицами стрельбы из минометов и подтвердили правильность ответов моих командиров орудий по матчасти миномета. Полковые 120–мм минометы могли стрелять как с «жестким» креплением бойка (выстрел сразу после опускания мины в ствол), так и с «мягким» креплением бойка затвора для стрельбы за шнур, как у артиллерийских орудий. Вес мины около одного пуда (точнее — 15,9 кг) дальность стрельбы на 6–м заряде 5,7 км, радиус поражения при осколочном взрывателе до 30 метров. Стрельбу можно вести при установке взрывателя как на осколочное действие, так и на фугасное, для поражения долговременных огневых точек (дотов). Минометная батарея 120–мм минометов так же, как и артиллерийская, могла стрелять залпом и подчинялась правилам артстрельбы за исключением прицела — прицелы были табличными. Из минометов нельзя было стрелять прямой наводкой по танкам.
Для ПТО (противотанковой обороны) у каждого орудия было противотанковое ружье.
«Фрицы» на нашем участке обороны вели себя спокойно. Ночью пускали осветительные ракеты, вели беспокоящий орудийный и пулеметный огонь. Огонь был не прицельный, но все же заставлял нас не ходить открыто, а пользоваться траншеями. Днем высоко в небе появлялся немецкий разведчик «рама» (Фокке–вульф 189). «Рама» имела бронированную кабину и была трудноуязвима.
Быстро освоившись со своими обязанностями, я уже через две недели вел ночную стрельбу из «кочующих» минометов. Стрельба эта очень эффективна и поражала в основном пулеметные точки противника. Утром после нашей стрельбы «фрицы» по данным своей звуковой разведки вели усиленный артобстрел предполагаемого места нашей батареи. Но нас там уже не было, т. к. сразу после окончания стрельбы «кочующие» минометы возвращались на свои основные огневые позиции. Утром, как обычно, в небе появлялась «рама». Для большей уверенности немцев в обстреле нашей батареи мы решили после каждой стрельбы «кочующими» минометами оставлять на временных огневых позициях ложные минометы, изготовленные из бревна и двух опор из жердей, благо этого материала было в достатке.
Эффект превзошел все наши ожидания. Утром после облета «рамы» немец обрушивал на нашу «ложную» батарею сотни снарядов. Мы были довольны нашей работой, жаль только, что после сильного артналета нам приходилось снова подбирать и устанавливать новые бревна и жерди, так как старые «минометы» были полностью уничтожены.
И впредь почти всегда, уходя с временной огневой позиции на основную, мы оставляли после себя дубликат из деревяшек. Основные позиции батареи противником не были обнаружены и только изредка в расположение батареи залетали шальные снаряды беспокоящего, неприцельного огня.
Однажды со стороны Курска на бреющем полете возвращалась «рама», очевидно, уже подбитая нашими зенитчиками или истребителями. Недалеко от батареи солдат из пехоты вскинул винтовку и стал стрелять по «раме». После нескольких его выстрелов «рама» закувыркалась и упала в районе передовых позиций пехоты и НП нашей батареи. Возможно, она уже была подбита под Курском, но факт оставался фактом, что после выстрелов пехотинца она была сбита окончательно. К нашей позиции с криками «Кто стрелял? Кто стрелял?» побежали офицеры. Солдат, добивший «раму», сначала испугался, что сделал что то не то, и не хотел признаваться. Но офицеры его нашли, стали пожимать руку, поздравлять и представили к ордену.
После этого случая мы также решили сбивать самолеты, тем более что у нас были на вооружении такие эффективные средства, как ПТР. Мы установили столбы, на них насадили колеса от старых повозок и, используя их как опоры (турели) для стрельбы, вели залповый огонь из всех шести ПТР по появляющимся немецким самолетам. Но все наши старания не увенчались успехом, мы не подбили ни одного.
Батарея периодически проводила ночные боевые стрельбы как с НП (наблюдательного пункта) батареи, так и с НП дивизиона. Батарея стреляла отлично, умело поражая огневые точки противника, хотя условия для стрельбы ночью были очень плохие. Для ночных точек наводки (местный предмет (веха или фонарь) использовался для горизонтальной наводки орудий при стрельбе с закрытых ОП) использовались самодельные фонари с керосиновыми коптилками, которые гасли и от ветра, и от выстрелов батареи. Керосина не хватало, и мы его частенько заменяли бензином, добавляя в него соль. В одну ветреную, но лунную ночь я решил научить батарею построению параллельного веера по луне. (Параллельный веер — взаимно согласованное параллельное направление стволов артиллерийских орудий (минометов) батареи для одновременной стрельбы по ширине цели.) Ночи были звездные, луна была отличным серпом. Обучение прошло успешно, и в каждую такую лунную ночь мы уже строили веер не по наземным точкам наводки, а по верхней или нижней точке серпа луны. Подал команду:
— Батарея к бою! После доклада:
— Первое готово!
— Второе готово!
И так далее до шестого. Командую:
— Угломер за–о, отражатель о, наводить в нижнюю точку серпа луны!
Командиры орудий докладывают:
— Первое готово …
— Второе готово .. .
— Шестое готово!
Наводчики все время ведут перекрестье прицела по нижней точке серпа луны (луна движется), до моей команды «Стоп!». Веер построен, и можно продолжать стрельбу по команде с НП. Способ построения параллельного веера по луне был новый, на фронте о нем не знали. Я получил знания о нем в стенах 1–го ТАУ. Командир дивизиона одобрил новый метод построения параллельного веера по луне и рекомендовал другим батареям перенять наш опыт.
В один из июльских дней в полк прибыло артиллерийское командование 60–й армии. Недолго побывав на огневых позициях нашей батареи, они направились на НП и дали команду командиру батареи провести огонь «по площадям». Так как командиру 1–го взвода (старшему на батарее) не приходилось стрелять по площадям, да он и не знал, как это делается, комбат приказал мне командовать огнем батареи на огневой позиции. Приняв командование, я подал команду:
— Батарея, к бою! Первое основное! … И так далее.
После пристрелки первым орудием (минометом) по команде с НП командую:
— Батарея, 4 снаряда беглым. Зарядить!
Мне было слышно, как с шипением вошла в ствол мина первого орудия, командир орудия доложил «Первое готово!» Так же второе, третье … шестое …
Мина последнего миномета с шипением вошла в ствол, но сразу прозвучал выстрел! А произошло следующее: в то время, когда я с нетерпением ждал с НП от телефониста команды «Огонь!», в этот напряженный момент телефонист НП, перед решающей командой решил проверить связь с ОП (связь часто нарушалась от артобстрела, и из–за нехватки телефонного провода телефонисты были вынуждены натягивать колючую проволоку). Запросив батарею, телефонист с НП, сказал «Аргун» (позывная ОП), телефонист на батарее понял как «Огонь!» и передал мне: «Огонь!»
И я, в свою очередь, подаю команду:
— Натянуть шнуры! Батарея — огонь!
Последовал залп батареи, и беглый огонь по четыре снаряда (мины). Докладываю на НП:
— Залп! Очередь!
Комбат не мог понять, в чем дело? Он не подавал команды «Огонь»! Но, не растерявшись, он, чтобы незаметно исправить ошибку, попросил у командования открыть огонь. Получив добро, скомандовал огонь! Мины, особенно на дальнем прицеле, летят долго, поэтому ошибки, как с преждевременным выстрелом шестого миномета, так и с преждевременным залпом и беглым огнем, на НП не заметили. Мины легли ровно. Дальше последовала команда о переносе огня в глубину немецкой обороны. Стрельбы по площадям обороны противника прошли на отлично, и мы получили благодарность от командующего артиллерией армии. С тех пор меня назначили командиром 1–го взвода. Таким образом, я стал старшим на батарее. Разбираясь после стрельбы о причине преждевременного выстрела шестого миномета, мы установили, что из–за густой смазки ударного механизма боек при переводе на мягкое крепление не утопился и при заряжании разбил капсюль хвостового патрона мины.
В конце июня я был направлен в штаб армии с донесением. Проходя через одно село, я решил уточнить свой маршрут и зашел в одну избу. В избе никого, на мой вопрос «Есть ли кто–нибудь?» из русской печки высунулась голова бабы и спросила: «Что вам нужно?» Я сказал, что хочу уточнить свой маршрут, и получил ответ, что она парится и не может мне помочь. Я вышел из избы и у встречных уточнил свой путь. Выполнив поручение и вернувшись на батарею, я себя плохо почувствовал. Появился сильный озноб, и, несмотря на летнюю жару, я никак не мог согреться. В блиндаже ординарец затопил буржуйку, накинул на меня две шинели. Несмотря на то что печка рас калилась докрасна, я не мог унять дрожь, не мог согреться. Вечером потерял сознание. Ночью я был доставлен в госпиталь, во Льгов. Диагноз — тиф, сыпняк. Это было ЧП во всей армии! Военврачи не могли понять, как мог случиться тиф при долговременной обороне, когда на батареях и в других подразделениях соблюдалась высокая чистота солдат и офицеров. Баня с дезинфекцией обмундирования проводилась почти каждую неделю. Тифозную вошь я подхватил тогда, когда заходил в избу, где в печи парилась баба. Болезнь протекала в тяжелой форме, температура держалась все время под 40. Часто терял сознание, бредил во сне, в общем, было состояние полного кошмара, обычное для тифозных больных. Потом наступил перелом, температура спала, появился аппетит. Молодой организм, старания врачей и медперсонала победили тиф, и я стал поправляться. Недели через две я уже выходил на прогулку, но был еще очень слаб. Спустившись как–то к реке Сейму, я не смог обратно взобраться по крутому берегу и был доставлен в палату санитарами. Выздоровев, я, несмотря на слабость, попросился в часть. Меня выписали с освобождением от работы (при части) на две недели.
Отдохнуть мне после болезни не пришлось, так как за нашей спиной, на флангах с севера и юга основания Курского выступа, готовилась решающая наступательная операция гитлеровских войск под кодовым названием «Цитадель».
Мы находились в самой западной точке Курского и мы
выступа и в случае удачи гитлеровских войск оказались бы в окружении — в глубоком тылу противника. Командир полка объявил повышенную боевую готовность, приказал всем командирам батарей и дивизионов находиться на НП. Только на два часа разрешалось им покинуть НП для проверки огневых позиций: Я как старший офицер на батарее обязан был организовать боевую подготовку огневых взводов, подготовить круговую противотанковую оборону батареи средствами ПТР. День и ночь я должен находиться возле телефониста, готовый без промедления принять приказ с НП.
Отдыхать разрешалось только в блиндаже телефониста. В период ожесточенных боев на Орловско–Белгородском направлении у нас было сравнительно спокойно. Начало августа, в саду, где расположилась наша батарея, поспели яблоки, груши, ягоды. На батарею зачастили проверяющие всех рангов от командования артиллерии армии до командования артиллерии фронта. То ли наличие фруктов и ягод, то ли потому, что наша батарея была первая и лучшая в полку, к нам зачастили разные армейские и фронтовые комиссии. Проверяющих мы щедро угощали яблоками, грушами, крыжовником. Серьезных замечаний к нам не было. Ночи стояли теплые и тихие, если не считать отдельные перестрелки.
Немцы иногда подвозили на свою передовую громкоговоритель и проводили пропагандистские передачи для наших солдат, используя выступления предателей и изменников Родины.
«Я русский, курский из такой–то деревни, перешел к немцам. Здесь дают землю! Переходите к нам!» доносился голос из репродуктора. Он был слышен даже на наших огневых позициях, хотя мы располагались в более чем двух километрах от передовой. У нас громкоговорителей не было, на НП был только сломанный граммофон. Я позвонил на НП комвзвода управления лейтенанту 30зеву, чтобы он дал наш должный ответ предателю через граммофонную трубу. 30зев без промедления высказал немцам и изменникам наше общее мнение о них и об их бесславном конце, закрепив свое выступление, для ясности, крепким русским проклятием. После обмена такими «любезностями» началась обоюдная, плотная, пулеметная и артиллерийская перестрелка.
Но все же поговаривали, что после этой радиопередачи немцев были перебежчики из курских, которые «клюнули» на немецкую пропаганду, после чего курских из передовой убрали.
На очередном семинаре в штабе дивизиона один шутник из офицеров штаба заявил:
— А мы в окружении. Молодые немцы в Курске!
— Откуда они взялись? Что, десант?! Шутишь, что ли?!
— Ну, что в окружении — это шутка. А вот что молодые немцы в Курске, это точно, их курские бабы нарожали от немцев!
В тылу батареи, в метрах 300 от КП, располагались: кухня, продуктовые и боевые (для минометов, мин, зарядов, патронов, ПТР и т.д.) брички, лошади и даже приблудная корова. Была и настоящая деревенская баня. Короче, все старшинское хозяйство. Баня и корова были за санинструктором, сержантом Аней. Раз в неделю, если было тихо, объявлялся банный день. Вот и сегодня Аня командует:
— Первый взвод, в баню, по очереди первое, а потом второе орудие.
Сама Аня моется первой. Солдаты шутят:
— Нас за одним разом целое орудие, а сама одна.
— А зачем одна, вот и лейтенант со мной помоется и спинку потрет. Если согласится.
— Я не против!
— Да тебе молоденького подавай, да не ниже лейтенанта, а мы не в счет.
После бани чистое белье и стакан парного молока из–под коровки, а то и 100 грамм фронтовых. Живи, да радуйся!
В начале второй декады августа батарея как никогда была пополнена большим количеством боеприпасов. В районе расположения батареи появились новые пехотные части. Слева от нас заняла огневую позицию батарея 76–мм орудий ЗИС–З И начала пристрелку. С КП поступила команда подготовиться к ведению стрельбы по всем ранее пристрелянным целям с основной огневой позиции, чего раньше никогда не было.
Подошла наша очередь … Мы без устали обрабатывали передний край противника, уничтожая цели, разведанные за долгое сидение в обороне. Вели огонь всей батареей, накрывая площади немецких позиций и траншей по ту сторону Сейма. В то же время мне было странно, что обработку переднего края вела только наша батарея, в то время как на этом участке можно было сосредоточить огонь не только нашего дивизиона, но и других дивизионов полка. Долговременная и глубоко эшелонированная оборона противника, укреплявшаяся в течение трех месяцев, требовала массированного многочасового артиллерийского И авиационного налета многих соединений армии и фронта. Такого массированного налета произведено не было. После стрельбы на поражение заранее разведанных огневых точек, беглого огня и стрельбы по площадям нашей батареей началось наступление пехоты на нашем участке фронта …
Огонь батареи был перенесен в глубину обороны противника. От беглого огня стволы минометов раскалились докрасна. Но, несмотря на нашу интенсивную артподготовку, немецкая оборона была еще довольно боеспособна, и при переправе через Сейм много наших бойцов погибло. Через расположение нашей батареи проходили толпы раненых, они говорили, что Сейм стал красным от крови. Безуспешное наступление продолжалось до самого вечера, до темноты. Я терялся в догадках, не понимая «неразумные» действия нашего командования.
С наступлением темноты неожиданно поступил приказ: «Отбой! На колеса!» Время для сбора и выступления отводилось не более трех часов. Поднять за такое короткое время батарею, которая прочно обосновалась и обжилась на одном месте в течение трех месяцев, было чрезвычайно трудно. Следует сказать, что обосновались мы капитально. Все минометные расчеты имели добротно оборудованные блиндажи в три наката. Потолки и стены их были затянуты плащ–палатками. Нары застланы свежей соломой и тоже заправлены плащ–палатками. Возле нар имелся небольшой столик с лампой (гильзой от снаряда). Такие же блиндажи–землянки были и у офицерского состава, только вместо соломы на нарах были настоящие матрасы, добытые старшиной в разбитых домах. Огневые позиции были отрыты в полный профиль, глубиной на высоту ствола миномета. Стены окопов и траншей обшиты досками и закреплены кольями и так далее. Трудно было расставаться со всеми этими удобствами … Несмотря на все трудности, сборы были закончены ночью, в течение времени, отведенного по приказу.
Батарея была поднята на «колеса» И заняла свое место в походной колонне дивизиона и полка. Конечно, пришлось отказаться от некоторых весьма удобных в обороне, но громоздких в походе вещей. Корову подарили жителям прифронтового села. Боевые брички были загружены до отказа. На брички были погружены не только минометы, но и ящики с минами, зарядами и пр. батарейным снаряжением. Ночью двигались по холодку, и было даже приятно размяться и коням и людям после продолжительной стоянки в обороне. Под утро сделали привал. Меня вызвали в штаб дивизиона. Оказалось, что там заседала ДПК (Дивизионная партийная комиссия). Меня вызвали для приема в кандидаты ВКП (б). Члены ДПК, за исключением заместителя командира дивизиона по политчасти (кстати, он и давал мне рекомендацию), были мне не знакомы. Зачитали мое заявление и рекомендации, заслушали мою короткую биографию и стали задавать мне вопросы. Первый из вопросов был: «Участвовал в боях?» Я ответил, что не участвовал. Члены комиссии удИвИлИсь. Замкомдивизиона начал уточнять мой ответ, задавая мне наводящие вопросы:
— Ты вел огонь взводом и батареей по противнику?
— Да!
— В расположении огневых позиций батареи рвались снаряды противника?
— Да!
— Так почему ты заявляешь, что не участвовал в боях?
Я ответил, что этот вопрос я понял как участие в рукопашной схватке или стрельбе с открытой огневой позиции при непосредственном соприкосновении с противником… Члены комиссии переглянулись и, сдерживая улыбку, проголосовали принять меня кандидатом в члены ВКП (б). По окончании ДПК замполит дивизиона поздравил меня с принятием и, отозвав меня в сторонку, сообщил, что нашего комбата переводят в другой дивизион и мне скоро нужно будет принять батарею. Для меня это было неожиданной новостью, т.к. кроме меня на батарее были и другие лейтенанты в солидном возрасте и с достаточным боевым опытом. Настораживала меня большая ответственность и за хозяйственное состояние батареи, и за выполнение боевой задачи. За боевую и политическую подготовку я не боялся, так как занимался с личным составом постоянно в период обороны. Предугадав мои опасения, замкомдивизиона сказал, что все это поправимо и что на меня уже подана бумага о присвоении мне очередного звания. «Но пока обо всем этом комбату не сообщай».
Весь остальной день был трудный. Тяжелый марш под раскаленным августовским солнцем. Кони с трудом тащились по песку, в котором глубоко утопали колеса. Ездовые шли рядом с бричками, помогая коням, в трудных местах упираясь плечом сзади бричек или ухватившись за спицы колес. Несмотря на то что у меня кроме полевой сумки почти ничего не было, я очень устал, двигаясь по песку, в котором утопали ноги, — все время приходила мысль пристроиться на какой–нибудь бричке. Однако несмотря на смертельную усталость, я отмахивался от этой слабости и продолжал идти вместе с батареей в пыли и зное по, казалось, бескрайней равнине. На моем состоянии сказывалась еще недавняя болезнь — тиф. Войска шли в новый район сосредоточения для нанесения главного удара в направлении г. Севска. К вечеру зной спал, и мы вышли на твердую грунтовую дорогу. Солдаты и кони оживились, почуяв конец пути.
Вскоре после полуночи наш дивизион сосредоточился в большом саду. Командир дивизиона поставил задачу и указал место для огневых позиций. Я как старший на батарее разбил фронт батареи, указав место каждому командиру орудия. Сержанты вбили колышки в указанном мною месте и, очертив огневые позиции, принялись с расчетами их отрывать. В это время пришел мне приказ принять батарею, и я должен был выдвинуться на НП, совместно с командиром взвода управления готовить огни батареи. Пока оборудовали НП и тянули связь к ОП и к КП дивизиона, я решил немного отдохнуть и тут же, на огневой, свалился на землю и заснул. Это было ранним утром 16 августа 1943 года.
Разбудили меня близкие разрывы и сильный удар по ногам, как будто дубиной огрели меня по напряженным мышцам. Одновременно в носу появился какой–то ранее не знакомый мне привкус крови. Инстинктивно, в горячке, я поднялся и, пробежав метра три, прыгнул в свежевырытый ровик для миномета. Противник наугад обстреливал скопление наших войск из полковых минометов. Разрывы мины, в отличие от разрыва снаряда, своими осколками поражают все вокруг, как над землей, так и на земле, так что не спастись и лежа, если попадешь в радиус их действия. Еще не понимая, что я ранен, я старался разобраться в обстановке. Разрывом мины было накрыто еще человек пять батарейцев, и им делали перевязки индивидуальными пакетами.
Моя попытка встать ни к чему не привела. Левая нога стала как чужая и не двигалась. Кровь быстро просачивалась через галифе. Рука от прикосновения к ногам (были ранены обе ноги) стала мокрая от крови. Меня быстро перевязали. Сапог пришлось разрезать, так как он набух от крови и не снимался. Повязки на одну и вторую ноги наложили поверх галифе. Ходить я уже не мог, и меня, как и других раненых, положили в одну из освободившихся бричек. Передав командование батареей командиру второго взвода и, попрощавшись с батареей, я разрешил ездовому ехать в медсанбат. Ездовой старался везти нас быстро, осторожно объезжая колдобины и кочки, но даже от малейшего толчка я испытывал сильную тупую боль в левой ноге …
в медсанбат мы прибыли в ту же ночь. Нас положили на солому, сделали противостолбнячные уколы и стали готовить к операции. Операционная располагалась под большим брезентовым шатром. Внутри она была довольно ярко освещена карбидными лампами. На нескольких столах лежали раненые, возле них суетились медсестры. Меня раздели и, распоров галифе, положили ничком на холодный операционный стол. Рядом, на другом столе, также лежал ничком раненый, на котором не было живого места сплошное кровавое месиво. Он лежал тихо и не стонал. Картина создавалась тяжелая, раненый не подавал голоса, вероятно, был без сознания. Как его угораздило получить такой плотный заряд мелких осколков в спину? Осколки ему удалили и теперь готовили к перевязке. Подготавливая меня к операции, сестры делились мнениями о своем хирурге: «Как может он уже трое суток не спать и производить операции, ведь он валится с ног!»
Меня такая информация не радовала, но мне ничего не оставалось делать, как лежать и ждать, когда и меня будут резать, чтобы извлечь из бедра левой ноги злосчастный осколок. Один за другим производили уколы местной анестезии. Сколько их было, сказать трудно — только первые уколы были болезненные, а остальные я уже не ощущал. Пришел хирург и начал резать. Я отчетливо слышал хруст разрезаемой ткани, сестра–ассистентка на успевала убирать кровь, и она холодной струей подтекала мне под живот. Сделав довольно широкий глубокий разрез, хирург пытался достать осколок различными хирургическими инструментами, но ничего не получалось. Осколок прошел сквозь все бедро, затащив в рану обрывки галифе, и не дошел до выхода с другой стороны каких–нибудь 2 — 2,5 сантиметра. Достать его было гораздо проще с другой стороны бедра, но тогда бы вся грязь, занесенная осколком, осталась бы в пробитых тканях. Хирург поступил правильно, прилагая все усилия для извлечения осколка через входное отверстие. Последующие разрезы я уже ощущал с болью, вероятно, наркоз не дошел до этих тканей или уже кончилось его действие. Боль была настолько сильной, что мне приходилось напрягать всю свою волю, чтобы не стонать. Хирург, выполняя свою работу, успокаивал:
— Потерпи, дорогой, скоро закончу, вот сейчас я его вытащу, еще немного, еще чуть–чуть …
Мне показалось, что осколок он вытащил своими длинными пальцами, засунув в рану всю свою руку, так как попытки вытащить его хирургическими инструментами не удались. Вытащив осколок, хирург показал его мне и, завернув в кусок бинта, отдал мне его на память. Осколок был тяжелый, с острыми краями, размером 2,5–3 см. Очистив рану, медсестра в образовавшуюся впадину 9 на 12 см напихала тампоны и сделала перевязку обеих ног. После перевязки нас, раненых, погрузили на машины и повезли в тыл, в ближайший эвакогоспиталь. Эвакогоспиталь, куда нас привезли (возможно, это был еще медсанбат), был расположен в сельских деревянных домах. В одном из таких домов поместили и меня. Уложили на настоящую койку и накормили. После всех волнений, переживаний и бессонной ночи я крепко уснул. Проснулся оттого, что рядом с моей койкой, на полу, кого–то разместили. Открыв глаза, я увидел, что со мной рядом на носилках лежит раненый майор медицинской службы. Постепенно разговорившись с ним, я узнал историю его ранения. Оказалось, что это тот самый хирург, который делал мне операцию! Он определил это сразу, как только я рассказал ему про свое ранение и где мне делали операцию. После того как нас увезли, на медсанбат произвели налет немецкие бомбардировщики. Операционный шатер разбомбили, многие раненые и сотрудники госпиталя погибли при бомбежке, а он (хирург) получил тяжелое осколочное ранение в живот и, по его мнению, часы его сочтены. Я пытался его успокоить, что все обойдется, на что он ответил, что ему лучше знать, с каким ранением все обойдется, а с каким не обойдется. Вечером меня отправили дальше, в тыл. Раненый майор был нетранспортабельный — его даже не переложили на койку. Каждое неосторожное движение вызывало у него адские боли. На прощание я еще раз поблагодарил за операцию и пожелал скорейшего выздоровления. Он горько улыбнулся, пожелал мне всего хорошего, а о себе сказал, что его песенка спета, с ним все кончено. Эту горькую, печальную истину подтвердила и сопровождающая нас медсестра, когда меня погружали в санитарную машину.
Очередной эвакогоспиталь, а может быть, опять медсанбат, представлял собой большой барак с двойными, двухэтажными нарами, в три ряда. Меня положили на нижние нары. Лежали мы еще в гимнастерках, наши шинели лежали в ногах, а сапоги (со мной путешествовал один сапог) под нарами. Несмотря на большое помещение и большое количество раненых, порядок поддерживался хорошо, медсестра и санитарки заботливо ухаживали за ранеными. Тем, у которых были забинтованы руки, они сворачивали «козьи ножки». Курить разрешалось, но не всем сразу, а по одному. Барак хорошо проветривался, и воздух был сравнительно чистым. На новом месте после очередных уколов и измерения температуры я опять уснул. Проснулся от оживления в бараке, ко мне рядом кого–то укладывали, снимая с носилок. Раненые балагурили:
— Лейтенанту повезло, под бок ему положили молодую и красивую.
Я с трудом повернулся и ощутил около себя что–то твердое. Возле меня лежала девушка, лейтенант медицинской службы, в гипсе с ног до головы. Открытым было только лицо. Девушка была в забытьи, лежала с закрытыми глазами и лишь изредка по ее лицу проходила судорога от боли. Что с ней было и что с ней стало, я не знаю, так как утром меня опять погрузили в машину и повезли к железнодорожной станции. Там нас погрузили в вагон госпитального поезда, причем не в телячий грузовой вагон, а в пассажирский со всеми удобствами. Меня положили на верхнюю полку, и как только поезд тронулся, я опять заснул. Надо сказать, что я всегда отсыпался дня три, восстанавливаясь после бессонных суток непрерывных боев, маршей, ранений и операций.
Меня разбудили грохот и разрывы бомб: немцы бомбили эшелоны и станцию. В окно мне было видно зарево пожара, запахло гарью, поезд остановился у большого железнодорожного узла. На соседнем от нас пути горел поезд с ранеными. Раненых вытаскивали из огня и укладывали недалеко от горящего поезда на землю. Картина была не из приятных, а точнее — ужасная. Уже после войны я видел подобную картину на полотне художника в Ленинградском военно–медицинском музее.
Наш поезд тронулся, по вагонам забегали сестра и санитары. Сказали, что сейчас нас будут выгружать и отправят в настоящий госпиталь. Через несколько минут поезд остановился, и нас действительно стали выгружать из вагона в санитарные машины. С вокзала машины повезли по улицам города. Это был Курск. Поместили во фронтовой госпиталь, который был размещен в здании, вероятно, принадлежавшем городской больнице. Перед тем как направить в палату, нас помыли, переодели во все чистое и сделали перевязку. Меня поместили в офицерскую палату на втором этаже. В палате было четыре койки. На одной лежал старший лейтенант с ранением в ногу и стонал, и мы на другой — майор, третья койка была свободной. После хорошего обеда, в чистой и мягкой постели опять все располагало ко сну. Но не тут–то было, захлопали зенитки, стали слышны отдаленные взрывы авиабомб, в общем, повторилась картина, до боли знакомая мне по блокадному Ленинграду. «Очередной налет фашистских бомбардировщиков, и так каждую ночь», — сказала нам дежурная медсестра.
Ходячие раненые при налете направлялись в бомбоубежище. Ну, а мы, лежачие, должны были лежать спокойно и не паниковать. Что мы и делали, так как ничего другого делать нам не оставалось. При близких разрывах дребезжали оконные стекла и здание вздрагивало, как живое. Бомбежка прекращалась, фашисты улетали, и опять царило спокойствие. Слышалось только недовольное ворчание и стоны старшего лейтенанта.
Утром был обход главного хирурга в сопровождении лечащих врачей. Наш врач докладывал историю ранения и состояние раненого. Главный хирург осматривал раненого, справлялся у него о настроении и что тревожит, давал короткие указания врачу и переходил к другому раненому. Возле старшего лейтенанта он надолго задержался, осматривая его рану, и сказал, что необходимо срочно ампутировать ногу: газовая гангрена прогрессирует и быстро распространяется по всей ноге. Ампутировать сегодня, завтра будет поздно. Старший лейтенант стал ругаться, кричал, что он не даст ампутировать ногу, что они коновалы, без ноги он полчеловека, что все обойдется и без их вмешательства, чтобы они убирались и оставили его в покое …
Осмотрев меня и майора, главный хирург со своей свитой покинул нашу палату. При осмотре я пожаловался на то, что после операции мне свело левую ногу под 90 градусов, и я не могу ее разогнуть. Мало того, что это неудобно даже при ходьбе на костылях, но главное неудобство было из–за моего ревматизма в коленках. При сгибании и разгибании ног в коленях боли в суставах утихали. Теперь же я был лишен этой манипуляции левой ногой, и приходилось просить сестру растирать мне коленный сустав. На все это главный хирург сказал, что, несмотря на боль, надо постепенно, пересиливая себя, каждый день понемногу разгибать ногу, и она разогнется. После ухода «медицины», мы С майором пытались убедить старшего лейтенанта дать согласие на ампутацию, что главный хирург не шутит и что без ноги можно жить. В ответ на наши советы он послал нас к такой–то матери и добавил, чтобы мы от него отстали, т.к. это его личное дело. А мне сказал, что я еще молод его учить, как ему поступать. Нам принесли обед, и мы с майором занялись этим полезным делом, но старший лейтенант есть не стал, а сестру, которая пыталась его накормить, также послал матом. Ночью опять бомбили. Сестра сказала, что опять бомбили вокзал, где было большое скопление воинских эшелонов. Но бомбы рвались где–то рядом, да так, что наше здание сильно содрогалось. После бомбежки мы уснули и спали крепко. Проснувшись утром, я заметил, что не стало слышно стонов старлея. Повернувшись в его сторону, я увидел, что он уже накрыт с головой простыней. Вскоре пришли санитары, переложили его на носилки и унесли. Предсказания главного хирурга сбылись раньше, чем мы думали … Майор был из штаба 60–й армии, знал наш полк. С ним было интересно беседовать на разные темы. От него я узнал и об отвлекающем наступательном маневре наших войск под Рыльском, о котором я так недоумевал, и о главном ударе 60–й армии под Севском. Впоследствии войска Центрального фронта, преодолевая упорную оборону немцев в районе Севска, форсировали Десну и 21 сентября овладели Черниговом. Вслед за 13–й армией наша 60–я армия ген. Черняховского форсировала Днепр в р–не Ясногородки (севернее Киева). Подводя итоги Курской битвы, Верховный Главнокомандующий отмечал: «Если битва под Сталинградом предвещала закат немецко–фашистской армии, то битва под Курском поставила ее перед катастрофой».
На следующий день опять осмотр главного хирурга. При осмотре ему не понравилась моя нога. Он сказал, что говорить пока рано, но может повториться та же история, что и со старшим лейтенантом. Газовая гангрена — вещь опасная, шутить с ней нельзя. Распознать ее в ранней стадии и лечить ее они пока не могут, но вот в Москве уже довольно успешно работают в этом направлении. На все эти рассуждения я высказал свое мнение:
— Я не хочу остаться без ног, и тем более раньше времени отправиться на тот свет, как тот старший лейтенант. Прошу меня направить в Москву, где могут лечить газовую гангрену.
Главный хирург ответил, что об этом он сейчас и думает … Поразмыслив немного, он приказал врачу готовить меня к отправке и ушел.
Через полчаса санитарная машина уже везла меня к аэродрому. Когда меня выносили из машины, я видел, как тяжело взлетал последний санитарный самолет «Дуглас». Больше пассажирских и транспортных самолетов на аэродроме не было. Пусто, хоть шаром покати. Меня отнесли в палатку, которая стояла на аэродроме, и машина уехала. В палатке лежали еще три раненых офицера, их не смог взять только что улетевший «Дуглас» — И без них он был сильно перегружен. Пришел комендант аэродрома и стал рассуждать вслух, как ему поступить с нами, что с нами делать? Мы заявили, что нас надо отправлять во что бы то ни стало, так как у нас серьезные ранения. Он ответил, что ему это известно. С легкими ранениями сюда не направляют. Постояв немного, он сказал, что у него есть два «кукурузника» (У–2), но они находятся в личном распоряжении командующего фронтом, Рокоссовского. Попробую созвониться со штабом фронта, и если мне разрешат, то я отправлю вас на «кукурузниках». Минут через пятнадцать он вернулся, сказал, что разрешение получено и дал указание готовить нас к погрузке в самолеты. Кроме летчиков в самолет У–2 можно было погрузить не более троих человек, двоих в кабину (за спиной летчика) и одного лежа в фюзеляже. Меня посадили в кабину лицом к летчику, впереди меня посадили раненого капитана. В кабине было тесно. Нас пристегнули ремнями, пожелали счастливого полета и задвинули смотровое стекло. Обзор был прекрасный т.к. все можно было видеть через оргстекло кабины, даже не наклоняя головы. Взревели моторы, мы легко и плавно оторвались от земли и стали набирать высоту. Наш самолет летел первым. Летели на небольшой высоте, под нами мелькали села, леса, луга, реки и озера. Видны отдельные люди и скот на лугу. (С 1944 г. легкокрылая машина У–2 стала именоваться ПО–2.) Я впервые летел на самолете, и для меня все было в этом полете необычным. Мотор самолета трещал, как трактор над самым ухом, и к этому шуму трудно было привыкнуть. Самолет то поднимался вверх, то опускался, то проваливался в воздушные ямы, да так, что сердце замирало. Постепенно нас стало укачивать. Капитан, который сидел ко мне лицом, изрядно побледнел. Видно, его стало изрядно мутить, да я тоже чувствовал себя не лучше. Через полчаса или час (время мы не засекали) мы пошли на посадку, плавно снизились и мягко приземлились на большой поляне среди фруктовых .садов. Летчики отодвинули стекла нашей кабины и куда–то ушли, Мы свободно вдохнули полной грудью ароматный воздух фруктового сада, наслаждаясь внезапно наступившей тишиной. Вскоре появились и наши летчики, неся за спиной большие мешки с яблоками. Мешки они уложили в хвостовую оконечность фюзеляжа в ноги лежащим там раненым. Вместе с летчиками к нам подошли работники совхоза (это был плодово–ягодный совхоз) и принесли нам, раненым, в подарок по вещмешку крупных спелых яблок.
у летчиков на груди было по несколько орденов, что в 1943 году было весьма редким явлением. Я полюбопытствовал у летчиков, за что они получили все эти награды. Оказывается, они их получали за количество боевых вылетов. И наш полет из Курска в Москву тоже относился к боевому вылету, так как мы летели вдоль линии фронта и, как нам сообщили летчики, при таком полете были случаи, когда на них налетали «мессеры». Их спасало то, что они могут летать над самой землей и имеют высокую маневренность во время полета. «Кукурузниками» У–2 также прозвали за их высокие посадочные свойства, У–2 можно посадить даже на кукурузном поле. Сообщение о том, что мы еще во время полета можем встретиться с «мессершмиттами», нас не обрадовало. Но война есть война, и нам ничего не оставалось, как надеяться на благополучный полет. Справившись о нашем самочувствии, летчики заняли свои места, задвинули крышки кабин, запустили моторы, и мы плавно взлетели. Сделав круг над поляной, откуда нам махали работники совхоза, самолеты взяли курс на Москву.
Всего наш полет длился около шести часов. За время полета мы порядком вымотались. Сказывалась и большая потеря крови от ранения, и наша неприспособленность к таким полетам. К вечеру мы начали плавно планировать с выключенными моторами над Москвой–рекой, и мягко приземлились на аэродроме в Москве. Здесь же на аэродроме была предусмотрена большая санитарная палатка, куда нас и доставили. Медсестра аэродромного санбата удивилась, узнав, что мы из Курска летели на «кукурузниках», так как мы не успели на «Дуглас», который вылетел раньше нас.
— Это не тот ли «Дуглас», который сегодня разбился, еще говорят, что его сбили немцы?
— Вероятно, он, мы его сегодня не принимали! — вздохнув, сказала сестричка и вышла из палатки, чтобы позаботиться о нашей отправке.
Поздним вечером нас доставили в Тимирязевскую академию, где был размещен большой госпиталь.
По прошествии лет можно сказать, что комфронта Рокоссовский спас мне ногу и жизнь, дав разрешение использовать свои «кукурузники» для нашей эвакуации в Москву.
После некоторых формальностей нас развезли по палатам. Со мной был доставлен и мешок с яблоками. Этими яблоками я угостил всех раненых нашей палаты и медсестер. Сестры не хотели брать яблоки, так как каждое такое яблочко в Москве, как они говорили, стоило 25 рублей. Но я все–таки уговорил их и раздал свой совхозный подарок, оставив себе только три яблока. На осмотре у хирурга мне было сказано, что с гангреной справятся. Очистили рану (9х 12 см), сделали в районе раны несколько уколов (вероятно, пенициллина), засунули тампон и наложили повязку. В Тимирязевской академии я находился недолго. Через несколько дней меня перевезли в другой стационарный госпиталь Москвы. Этот госпиталь был оборудован по последнему слову медицинской науки. Все здесь было предусмотрено для быстрейшего выздоровления. Помню, он был расположен возле авиационного завода, шум его доносился до наших палат. Рядом с палатой находилась хорошо оборудованная комната отдыха с мягкими диванами и креслами. Для нас, фронтовиков, это был не госпиталь, а рай земной. Здесь же из окна госпиталя в октябре 1943 г. смотрели мы салют в честь освобождения очередного города. Первый салют в Москве был в честь освобождения городов Орел и Белгород 5 августа 1943 года. А всего в годы Великой Отечественной войны в Москве было произведено 354 артиллерийских салюта в честь крупных побед Красной армии на фронтах Великой Отечественной. Приказом Верховного Главнокомандующего нашему 497–му артиллерийско–минометному полку так же, как и другим соединениям, участвовавшим в освобождении Киева, было присвоено почетное звание «Киевский». Медперсонал госпиталя, от главного хирурга до санитарки, обращался с нами как нельзя лучше. Естественно, что в такой обстановке я начал ухаживать за молоденькой сестричкой. Она принимала мои ухаживания, а раненые, в основном пожилые, всячески создавали нам необходимые условия, вовремя предупреждая о приближении дежурного врача или старшей медсестры. Раны мои постепенно затягивались, и я уже мог ходить без костылей, врачи стали поговаривать о переводе меня в госпиталь для выздоравливающих. В середине ноября 1943 года меня переводят в санаторий им. Алексина, расположенный в Сокольническом парке. Там размещался офицерский госпиталь для выздоравливающих после ранения. Палата, в которую меня поместили, размещалась в бывшем клубе, или красном уголке, санатория. Койки стояли в бывшем зрительном зале и на сцене. В нашей палате размещалось около 60 человек. Питались мы в общей столовой, где собирались все раненые госпиталя. По утрам в столовой зачитывали приказы начальника госпиталя о наказании офицеров, побывавших в самовольной отлучке и задержанных в Москве патрулями комендатуры. За нарушение внутреннего распорядка госпиталя полагалось двое–трое суток домашнего ареста с отбыванием их на новом месте службы. Некоторые офицеры набирали больше дюжины. Для нас, фронтовиков, это была простая формальность, если не считать вычетов из оклада, по 50 процентов за каждые сутки ареста. Так как военной формы мы не имели, а единственной верхней одеждой был госпитальный халат, из–под которого выглядывали кальсоны на завязках и тапочки, нам разрешалось ходить только по территории санатория, огражденной решеткой. Как исключение, в теплую сухую погоду мы могли прогуливаться и по парку, возле санатория. У меня было плохое зрение вдаль. Мне нужны были очки: старые вместе с полевой сумкой на фронте накрыл шальной снаряд. Я обратился к своему врачу и получил направление в гарнизонный госпиталь Москвы, где был глазной врач. По этой бумаге мне выдали обмундирование, и я получил возможность не только посетить глазного врача, но и пройтись по Москве. Заехав в прежний госпиталь, я пригласил на прогулку по Москве и свою медсестру. Она отпросилась у старшей сестры, и мы вдоволь нагулялись по Москве и даже побывали в кинотеатре неподалеку от Красной площади. Моя подружка была студенткой мединститута, ей, как и мне, было 18 лет. Мы были молоды; несмотря на войну, нам было хорошо, и мы думали о будущем только в оптимистичных тонах.
Москва 1943 года была еще довольно суровой и строгой. Красная площадь показалась мне небольшой, вероятно, потому, что на ней с целью маскировки были нарисованы дома. Дома были нарисованы и на Кремлевских стенах. Наибольшее впечатление на меня произвело метро. В Ленинграде его еще не было, так же, как не было и в других городах Союза. На фоне военной Москвы станции метро выглядели торжественно, нарядно и празднично, они напоминали вестибюли роскошных дворцов. Побывал я и в гарнизонном госпитале у глазного врача, выписал и заказал, а вскорости и получил очки. Правда, на фронте они мне мало помогали — я пользовался биноклем или стереотрубой. Как только я получил обмундирование, соседи по палате попросили меня как можно дольше его не сдавать. И мы по очереди разгуливали в нем, пока (дней через шесть) его у меня не отобрали. Изредка я также пользовался обмундированием других офицеров, как и мне, выдаваемым им во временное пользование. Один раз, потеряв бдительность, я был задержан в чужом обмундировании патрулем у станции метро. А так как документов у меня не было, меня доставили в комендатуру. В комендатуре знали о похождениях офицеров нашего госпиталя и прозвали нас «Алексинскими артистами». После краткого разбирательства всех задержанных (а нас было более 25 офицеров) выстроили в коридоре комендатуры. Помощник коменданта скомандовал:
— Строевые офицеры, выйти из строя!
Никто не вышел. Я тоже стоял в строю, так как у меня еще не зажила рана. Остальные были интенданты, медики и прочие нестроевые офицеры, задержанные за нарушение формы одежды, за неотдачу приветствия старшим по званию и за прочие мелкие нарушения воинского устава.
Проходя вдоль строя, помощник коменданта заметил меня и приказал выйти из строя. Приказ был краток. Мне поручалось провести два часа строевой подготовки с задержанными офицерами на площади перед окнами комендатуры. После строевой подготовки всем выдали документы. За то, что я проводил занятия по строевой подготовке, меня отпустили без наказания, остальным «выдали» по трое суток домашнего ареста с сообщением о задержании по месту службы.
ЗАПАСНОЙ ПОЛК И НАЗНАЧЕНИЕ В КАВАЛЕРИЮ
Раны мои зажили, и 21 октября 1943 г. я выписался из госпиталя и был направлен в Наро–Фоминск, в запасной артиллерийский офицерский полк. До Наро–Фоминска добирался поездом. В вагоне познакомился с лейтенантом, который так же, как и я, направлялся в Наро–Фоминск, тоже в запасной артполк. Но, в отличие от меня, не знал, примут его там или нет, поскольку он был не артиллерист, а командир прожекторного взвода ПВО. Он побывал в двух запасных полках, но так как он прожекторист, его в них не приняли. Спрашивал у меня совета — как ему действовать дальше, если и в Наро–Фоминске его не примут? Что я мог ему посоветовать, ведь я и сам впервые ехал в запасной полк, правда, с официальным направлением. На мои вопросы — где он служил, где воевал, попутчик–лейтенант поведал мне свою историю.
« … Был я командиром прожекторного взвода в системе ПВО, оборонявшей Москву. Во взводе были одни девушки, с которыми было трудно. Приходилось считаться с их женскими потребностями и с их капризами. А дисциплину надо было держать строгую, если не сказать, жесткую и даже жестокую. Иначе нельзя — война, немец под Москвой. И все равно, идешь бывало проверять посты, а часового нет на посту. Смотрю, а под кустом, солдат из соседней части, забавляется с моим часовым … ЧП, да и только. Разгоняю эту теплую компанию, девчонку под арест. Ведь не под трибунал ее отдавать! А отдашь, самому не поздоровится. Под арест сажать тоже накладно, сразу два бойца выбывают из строя — арестованный и часовой. По тревоге ведь каждый боец на учете! Проводишь политбеседу с разбором ЧП. Стоят, слушают, а сами украдкой улыбаются или задают каверзные вопросы о подробностях ЧП. Стараюсь ко всем относиться одинаково, строго. Иначе нельзя. И вот случилось же такое, влюбилась в меня одна дурочка. Вижу, сохнет по мне, глазки строит и все такое прочее, некстати вопросы задает о дружбе и любви. И все это на глазах остальных девчат и командиров отделений! Вижу, что взвод может 9тать неуправляемым. Начинаю «прижимать» влюбленную, посылаю на самую трудную работу, за мелкую провинность строго наказываю, все делаю, чтобы она выбросила из головы свои амурные мысли. Ничего не помогает … И вот ЧП! Она застрелилась на посту, оставив записку, что я виноват в ее смерти, так как не оказывал ей должного внимания, наказывал строже, чем всех остальных, и так далее. Приехало начальство. Трибунал. И, несмотря на то, что меня защищал весь взвод, меня осудили … И в штрафной батальон … Воевал рядовым, в пехоте. Отличился в бою, был ранен, лежал в госпитале. После госпиталя восстановили в звании и направили в запасной полк. В какой, не указано. Боюсь, что и в Наро–Фоминске меня не примут. Если и тут не примут, буду проситься обратно в пехоту!»
Позднее в штабе я узнал, что горемыку–прожекториста и здесь не приняли … Видно, пришлось ему все же податься в пехоту.
В запасной полк я мог явиться и спустя пять дней: при выписке из госпиталя я получил отпуск на пять дней и сухой паек. Ленинград по–прежнему был в блокаде, и мне ничего не оставалось, как направиться прямиком в запасной полк. В Наро–Фоминск я прибыл в тот же день, доложил командованию, сдал документы, продовольственный и вещевой аттестаты. Артдивизион, в который я был направлен, располагался в большой казарме, человек на сто. Свободных коек не было, да и без меня на одной койке располагалось по два офицера. Мне было предложено переночевать на подоконнике. Подоконник был широкий, но холодный как лед, бетонный, а в неутепленное окно дул холодный осенний ветер. Офицеры дивизиона несли караульную службу в качестве часовых, были дневальными в казарме, мыли полы и выполняли все другие солдатские обязанности. Меня как новенького хотели сразу записать в наряд по казарме на следующий день, но я показал отпускное свидетельство, и от меня отстали. С утра я не ел, на обед опоздал, да меня, наверно, и не накормили бы, так как не был еще поставлен на котловое довольствие. Поэтому, захватив свой сухой паек, я вышел из расположения полка, чтобы зайти в соседний поселок и попросить хозяйку ближайшего дома сварить мне обед.
Постучался в первый попавшийся дом. Вышла девушка, сержант, поприветствовала и спросила: «Что вам надо?» Я сказал, что мне нужна хозяйка дома. Она улыбнулась и ушла в дом. Вскоре из дома вышла другая девушка, старший лейтенант, поприветствовала меня и сказала, что она и есть хозяйка дома. Я извинился, сказал, что ошибся и хотел уйти, но она стала допытываться, зачем мне нужна хозяйка. Узнав, что я хотел бы пообедать, она пригласила меня в дом и сказала, что они тоже собирались обедать и будут рады гостю. Отказываться было уже неудобно и пришлось принять приглашение. За обедом, кроме «хозяйки», были еще две девушки, сержанты. Обращались они друг К другу по–домашнему, по именам. За мной ухаживали хором и расспрашивали, откуда я и куда? Из беседы выяснилось, что в поселке стоит женский автоматный полк особого назначения. Почти все командиры полка женщины, многие из которых уже побывали в боях и имели правительственные награды. Хозяйка дома (старлей) приглашала меня заходить к ним обедать и в другой раз. Если есть желание, у них можно и заночевать. Я поблагодарил за обед, за гостеприимство и приглашение и вежливо ответил, что, к сожалению, должен вернуться к себе в полк, чтобы подать рапорт об отправке на фронт.
В полку были разные люди, и такие, как я, и направленные в полк после ранения из госпиталя, и такие, которые старались держаться подальше от фронта. Здесь я встретил и одного выпускника 1–го ТАУ, которого направили в запасной полк после окончания училища в 1942 году, и он ни разу еще не был на фронте. Он даже с некоторым самодовольством рассказывал, как ему удается увильнуть от фронта, о том, что его часто посылают в командировки и что некоторые неудобства и плохое питание — это все пустяки против фронта и передовой. Ведь на фронте убивают или искалечат на всю жизнь. Для таких «патриотов», как он, лучше чистить уборные и быть живым, чем командовать взводом или батареей и рисковать своей жизнью. Фронтовики мало задерживались в полку, они сами просились на фронт и их отправляли в первую очередь, ведь представители действующих частей всегда с большой охотой отбирали в свою часть обстрелянных офицеров — фронтовиков, прошедших суровую боевую школу. Вернувшись в полк, я подал рапорт командиру дивизиона с просьбой о немедленной отправке меня на фронт. Он пообещал удовлетворить мою просьбу при первой же возможности. Ночь я провел плохо, жесткий и холодный подоконник после мягкой госпитальной постели не давал уснуть, из окна дуло. Я все время ворочался с боку на бок, но это мало помогало. В полудреме я думал, как, получив направление в часть, я заеду в Москву, встречусь со своей медсестричкой, погуляю дня два или три и только тогда поеду в часть. Заснул я под утро, под музыкальный храп на разных нотах спящих офицеровзапасников. «Патриоты» полка, а их было достаточно, надежно обосновались на своих позициях, на своих койках, и не собирались никому их уступать. Лучше спать «валетом» на одной койке, чем в сыром окопе под огнем противника. Позиция этих «патриотов», была едко сформулирована в стишке военной поры:
На фронт умный не пойдет.
Войну умный переждет,
В тихом безопасном,
Запасном прекрасном!
Второй день пребывания в запасном полку не принес ничего нового. Побродив по Наро–Фоминску, я вернулся в казарму. К давешним знакомым, военным девушкам, я не заходил, как–то было неудобно, да их, вероятно, и не было дома. Вся деревня будто вымерла. Пообедав в полковой столовой, я пристроился на свободной койке и уснул. У меня впереди оставалось еще три дня отпуска. Вечер прошел так же скучно и однообразно. После отбоя я вернулся на свой подоконник: на койку пришел спать ее «хозяин».
Около полуночи меня разбудил дежурный по казарме: меня вызывают в штаб дивизиона. Приведя себя в порядок, я явился в штаб, где уже собралось человек семь офицеров, которых так же, как и меня, подняли с постели. Дежурный по штабу зачитал приказ командира полка об удовлетворении наших просьб. Нас направляют в З–й Гвардейский кавалерийский корпус, и мы должны быть довольны, что будем воевать в таком прославленном соединении Красной армии. Я ждал всего, чего угодно, вместо артиллерии я уже повоевал в минометном полку, но воевать в кавалерии! Этого я не мог себе представить, просто не укладывалось в голове!
— Есть вопросы? — спросил гвардии подполковник, представитель корпуса, и молодцевато щелкнул шпорами. Все молчали. Я спросил:
— Есть ли дивизионная артиллерия в корпусе? Он ответил:
— В корпусе все есть, и танки, и «катюши», И самолеты, и всякая артиллерия.
На вопрос: «Когда нам явиться в часть?» последовал ответ:
— Немедленно! Сейчас мы доставим вас в корпус на студебеккерах. Машины ждут у здания казармы!
Все дальнейшие события развивались в сумасшедшем темпе, как в ускоренном кино. Нас погрузили на машины, и через несколько часов мы были уже в штабе корпуса, у командующего артиллерией. Короткое распределение по дивизиям … И вот я уже в штабе 5–й гвардейской кавдивизии. Оттуда я был направлен в штаб 24–го гвардейского кавалерийского полка.
В штабе полка меня встретил начальник штаба, культурный и вежливый гвардии капитан Тодчук, воплощавший в себе все лучшие качества кадрового офицера–кавалериста. С улыбкой он сообщил мне, что свободных артиллерийских вакансий в полку пока что нет, но полк идет маршем к фронту, и свободные места скоро появятся. Увидев мое разочарование, он сказал:
— Не унывай, специалист! Ты же в прославленном гвардейском Краснознаменном полку, в дивизии Котовского! Пока что поступай в распоряжение командира нашей полковой батареи, а там мы что–нибудь придумаем.
Затем он вкратце рассказал мне историю дивизии. Зародилась дивизия в еще в годы Гражданской войны как кавалерийская бригада Котовского. После Гражданской она была переформирована в 3–ю кавалерийскую дивизию. В Великой Отечественной войне дивизия участвовала с самого начала, с 1941 года. Дивизия отличилась в боях и была переименована в 5–ю гвардейскую дивизию, а наш полк, ранее бывший 158–м кавполком, стал 24–м гвардейским. Дивизия принимала участие в битве за Сталинград, и большинство офицеров и солдат было награждено медалью «За Оборону Сталинграда».
Столь длительные военные традиции полка и дивизии меня впечатлили. Однако в то время я думал, что кавалерии не место на современном поле боя, и про себя решил уйти из кавалерии после первого же ранения. Позднее мое мнение радикально поменялось, и я всегда возвращался в свой родной полк.
Тодчук вызвал связного и приказал ему проводить меня в расположение батареи полковой артиллерии. Затем он пожал мне руку, пожелал удачи, щелкнул шпорами и удалился. Связной пошел искать кого–нибудь из полковой батареи, а я в это время стал наблюдать за жизнью кавалерийского полка. Все для меня было ново и необычно.
Полк стоял на дневке и спешно готовился к ночному маршу. Всадники сновали туда–сюда. В отличие от пехотинцев, все кавалеристы были обуты в сапоги, а шинели имели длинный разрез на спине, чтобы в них можно было сидеть в седле. Погоны у всех были с светло–синей выпушкой и кавалерийской эмблемой подковой с двумя перекрещенными клинками. В дополнение к стрелковому оружию каждый кавалерист был вооружен шашкой. Несмотря на промозглую ноябрьскую погоду, все всадники выглядели опрятно и молодцевато.
Связной вернулся и доложил, что возле штаба стоит бричка старшины батареи и что старшина меня отвезет на батарею. Старшина оказался высоким и разговорчивым кадровым младшим командиром. Мешая русские и украинские слова, он стал расспрашивать меня, откуда я родом, где воевал и так далее. Узнав, что я из городских, он сообщил мне, что в кавалерии самое важное — конь. Это альфа и омега для каждого всадника.
Прибыв в полковую батарею 24–го гвардейского кавполка (5–й гвардейской кавдивизии), я разыскал комбата и доложил о своем прибытии в его распоряжение в качестве офицера резерва. Комбат, молодой офицер лет двадцати пяти, принял меня хорошо, познакомил с командирами взводов, с которыми я как–то сразу нашел общий язык и подружился. Особое участие ко мне проявил гвардии лейтенант Кучмар. Он познакомил меня с особенностями действий артиллерийской батареи в составе кавполка. Он же, раскуривая свою неразлучную трубку, с приветливой улыбкой предложил мне на первых порах находиться у него во взводе, на что я с удовольствием согласился. Батарея размещалась на опушке леса и готовилась к ночному маршу. На вооружении батареи были четыре 76–мм полковые пушки образца 1939 года Каждую пушку перевозила шестерка добротных лошадей, в то время как такое же орудие в пехотных полках перевозила только пара тощих лошадок. Это и понятно, ведь артбатарея в кавалерии не должна отставать от эскадронов полка.
Гвардии лейтенант Кучмар, общительный и культурный инженер с Урала, лет тридцати, всегда готов был прийти мне на помощь. Вот и сейчас он позаботился обо мне, когда на своей «зенитке» (так называли здесь походную кухню) приехал батарейный повар и начал раздавать ужин. Ужин получали в котелки, на два–три человека. В эти же котелки, наскоро помыв их, наливали и чай. Коновод Кучмара принес в двух котелках ужин и для меня, и для себя. Под деревом он расстелил плащ–палатку, поставил на нее котелки с кашей, чаем, положил рядом нарезанный хлеб, достал из–за голенища для меня свою ложку (у Кучмара была своя) и позвал нас ужинать. Несмотря на дождь, который лил нам за ворот, смачивал хлеб и добавлял воду в кашу и чай, все ели с большим аппетитом. Не успели мы поужинать, как со стороны штаба полка запела труба горниста. «Вот и «Седловка», — проговорил Кучмар, поднявшись с плащ–палатки. Быстро темнело. Но, несмотря на темноту, ездовые и бойцы расчетов привычно, без суеты и шума, седлали коней и запрягали их к орудиям и к боевым бричкам. Сигнал «Седловка» повторялся горнистом по несколько раз. Звук этого протяжного мелодичного сигнала то затихал, то становился громче и требовательней.
«Хло–о–пцы, кото–ов–цы, сед–ла–ай ло–ша–дей!» выводил трубач, предвещая долгий и трудный поход.
Протяжные и мелодичные, нехитрые сигналы трубача кавполка в трудные походные дни, а скорее ночи, доходили до сердца каждого конника, тревожили его душу. Почти к каждому сигналу горниста для лучшего запоминания были и словесные приложения. Кроме общеизвестных по большим и малым парадам сигналов — «Слушайте все!» и других, мне особенно запомнились сигналы нашей дивизии «Седловка!» и «Сбор командиров!».
«Седловка!» — протяжный мелодичный сигнал поднимал как по тревоге невыспавшихся бойцов, заставляя их не мешкая седлать коней, запрягать их в тачанки, боевые брички и орудия. Вечером, перед закатом солнца, где–то за селом, на хуторе или немецком фольварке, горнист подавал приказ командира полка, предвещающий поход в тыл противника, скоротечные встречные бои, а иногда и затяжные бои.
Запомнился и бодрый, задорный, веселый сигнал — «Сбор командиров!». В походе он предвещал скорую остановку на дневку или на кратковременный отдых. Усталые бойцы с надеждой провожали взглядом командиров, которые, пришпорив коней, спешили в голову колонны к командиру полка для получения необходимого приказа по размещению подразделений на дневке. «Ко–ман–диры, ко–ман–ди–ры, собе–ри–тесь, собе–ри–тесь! .. » — выводил трубач. Иногда сигнал заканчивался протяжным — «Ка–саа–ет–ся всех!», то есть всех офицеров полка. Эти сигналы, как правило, подавались за 3–5 км до остановки на дневку или до места сосредоточения перед вводом в прорыв.
После недолгих сборов батарея вытянулась (построилась) в походную колонну и заняла свое место в общей колонне полка. Стало совсем темно, и только пофыркивание коней да приглушенный стук колес боевых бричек говорил о продвижении полка. Всю ночь не переставая шел холодный дождь. Грунтовые дороги совместными действиями конских копыт, колес и дождя развезло так, что они превратились в сплошную реку жидкой грязи. Глубина этой грязной жижи доходила до боевых осей орудий, и орудия даже не катились, а плыли по этой бесконечной топкой реке–дороге. Несмотря на плащ–палатки и плащ–накидки, которыми мы укрывались поверх шинели, на нас не осталось ни одной сухой нитки. В сапогах хлюпало. К рассвету похолодало , вместо дождя с неба посыпалась острая, колючая снежная крупа. Плащ–палатки и шинели замерзли и стали на нас колом. Двигаться стало все труднее и труднее. Мы все промерзли, как говорится, до мозга костей. Люди и лошади с нетерпением ждали сигнала трубача «Сбор командиров!» И вот долгожданный сигнал: «Командиры … Командиры … Соберитесь … Соберитесь!» — выводил трубач, двигаясь вдоль колонны. Значит, скоро остановка, и мы сможем переобуться, просушиться, обогреться и отдохнуть. Место для дневки нашей батареи было отведено у двух уцелевших домов. Поскольку у меня пока еще не было определенных обязанностей, Кучмар предложил мне обогреться, привести себя в порядок и просушиться В одном из домов. Для меня это было очень кстати, и я направился в ближайший дом.
В избе на полу лежали вповалку конники ранее прибывшего сюда эскадрона. Было здесь тепло и сухо, но воздух такой густой, настолько спертый, тяжелы, что хоть топор вешай. С русской печки свешивались две детские головки. Глазенки детей с любопытством разглядывали спящих бойцов. Сердобольная хозяйка предложила мне раздеться, снять сапоги и просушить все на печке. «Да И сам полезай на печь к ребятам, пока все просохнет, там согреешься и поспишь». Я не заставил себя долго ждать и, перебравшись через спящих, в два прыжка юркнул на печь. Блаженству, которое я испытал, согреваясь на печи, не было предела. Холод приятно выходил из моего промерзшего тела. Согревшись, я сразу уснул. Разбудил меня коновод Кучмара, позвавший на обед. Завтрак я проспал. В хате было пусто, солдат уже не было, они разошлись по эскадронам и готовились к новому маршу. Обмундирование мое подсохло, и его, теплое от печи, было приятно надевать на отдохнувшее тело. Умывшись и плотно пообедав на батарейной кухне, я готов был к новым дорожным испытаниям. Дождь перестал совсем, и легкий морозец подсушил дороги.
После нескольких переходов мы пошли дорогами Псковщины. Под вечер на одном из дневных переходов, на марше, по колонне передали: слева от дороги могила Матросова. Весть о подвиге А. Матросова к этому времени облетела все войска. С группой бойцов мы бегом, чтобы не отстать от полка, направились в указанном направлении. Недалеко от дороги, на небольшой голой возвышенности, одиноко возвышался, наскоро оборудованный могильный песчаный холмик. После героического подвига А. Матросова (23.02.43) прошло не более девяти месяцев. Время было тяжелое, и стране, и населению ближайших сел было не до обелисков героям.
Об этом страна не забудет в послевоенные годы. Постояв у могилы героя, своим телом закрывшим амбразуру вражеского дзота, мы бегом бросились догонять батарею, удалившуюся от нас на порядочное расстояние.
Где–то позади осталась деревня Чернушки, Великие Луки, а впереди меня ждали неизвестные бои. Какие–то они будут? В начале .нового пути, в новой обстановке, некоторое время находишься еще под впечатлением старых своих связей, друзей и товарищей. Чем больше отдаляешься от них по времени, и расстоянию, тем чаще и чаще начинаешь думать о том, что впереди, пока эти мысли полностью не овладевают тобой, и тогда старые связи уходят в далекое прошлое.
Со старого моего места службы, 497–го армейского минометного полка, по–прежнему не было вестей. Я знал только, что полк участвовал в освобождении Киева, за что был удостоен звания «Киевский». И только спустя сорок лет после войны из письма бывшего командира взвода управления 4–й батареи 497–го минометного полка, Артеменко В. М., я узнал некоторые подробности о дальнейших действиях полка после 16 августа 1943 года, когда полк вышел на исходную позицию для прорыва долговременной обороны противника и когда я был ранен: «24 августа, после продолжительной артподготовки оборона противника была прорвана, и полк участвовал в освобождении: Шостки, Прилуки, Конотопа, Остера и вышел к Днепру, севернее Дымеры (24 сент.). Участвовал в освобождении Киева, получил звание «Киевский» и был награжден орденом Красного Знамени. Но никто из полка наград не получил (кроме комполка Молчанова), так как замполит полка угодил вместе со всеми наградными документами к немцам под Коростенем …
Там много наших ребят погибло, в том числе и комбат 1–й батареи (после моего ранения), Ануфриев. Он попал вместе с начальником дивизиона разведки и командиром отделения связи 4–й батареи и связистом в один двор, куда направился обоз немцев. Ануфриев стал во дворе за калиткой, а остальные спрятались в сарае и на чердаке, когда немцы вошли во двор. Ануфриев в упор застрелил шестерых немцев, а потом и себя. Остальные дождались ночи на чердаке и ночью пробрались к своим:
Там, в Коростене, похоронены и младший лейтенант Карпашко Иван и другие наши ребята полка. После Коростеня полк уже в составе 1 3–й армии освобождал: Н. Волынский, Корец, Костополь, Луцк, Дубно, Кременец. (За него полк был награжден орденом Суворова II степени.) Вел бои под Бродами в апреле 1944 года и далее».
Мы прибыли на 1–й Прибалтийский фронт. До 20 октября он назывался Калининским фронтом. В состав 1–го Прибалтийского фронта с начала ноября 1943 года вошла и наша конно–механизированная группа в составе 3–го гвардейского кавкорпуса и 5–го мехкорпуса. В составе этой КМГ мы начали наше участие в боях в Невельской горловине.
« …Начались проливные дожди. 16 ноября части корпуса начали втягиваться в узкую, насквозь простреливаемую Невельскую горловину. В течение 1618 ноября части корпуса по дорогам, превращенным в сплошное месиво, прошли простреливаемую артиллерией противника горловину. Войдя в прорыв, корпус ускорил движение в район западнее г. Городка, но кони к этому времени вымотались до предела, а мотомехчасти усиления, штатная артиллерия и автоколонны либо отстали на 50–60 километров, либо застряли в болотах вдоль всего маршрута. Фактор внезапности был утерян, овладеть Городком с ходу стало невозможным. Начались изнурительные бои в условиях, особо трудных для кавалерии …»[3].
Задача кавалерии не держать оборону, а войти в прорыв И развивать успех наступающих армий. И мы, обойдя озеро Езерище, несмотря на мороз, по непролазной грязи входили в про рыв через узкий перешеек шириной в три километра. Несмотря на обстрел противника с обеих сторон, немецкие пули и снаряды пролетали мимо, не причиняя нам вреда.
Опасную зону проходили ночью, бесшумно. Разговаривать и курить было строжайше запрещено, и если бы не грязь, размешенная тысячами ног и колес, переход был бы вполне удовлетворительным. После нескольких переходов мы подошли к Городку. Городок несколько раз переходил из рук в руки. Когда мы подошли, он был почти полностью освобожден от немцев, и нам оставалось только закрепить успех общевойсковых подразделений.
Наша батарея расположилась в восьми километрах от Городка в местечке Новые Войханы. Офицеры и взвод управления батареей разместились в просторной избе на окраине поселка. Батарея готовилась к боям, а я изучал боевой устав кавалерии и знакомился с полком. В часы отдыха гвардии лейтенант Кучмар рассказывал мне о нашем корпусе.
Ночью меня неожиданно вызвали в штаб полка. Осторожно перешагивая через крепко спящих вповалку, на чистом дощатом полу моих товарищей, я тихонько вышел из избы. На улице шел слабый снег и мела поземка. В штабе меня встретил помощник начштаба и передал мне приказ командира полка, в котором предписывалось мне, младшему лейтенанту Якушину, немедленно выехать в распоряжение штаба дивизии. Коня я должен получить в музыкальном взводе, а седло в саперном взводе полка. Взводы эти были расположены недалеко от штаба. Разыскав и разбудив старшину музвзвода, я передал ему распоряжение штаба о выделении мне коня. И вот здесь я совершил первую свою ошибку в кавалерии, попросив старшину подобрать мне хорошего коня, т.к. в конях Я пока не разбираюсь. Разглядев на мне артиллерийские погоны с красным кантом (у кавалеристов погоны с синим кантом), старшина выбрал мне самого плохого коня, по–цыгански расхваливая его достоинства и доказывая, что это один из лучших коней его взвода. Получив коня, я в поводу повел его к саперному взводу. Там уже знали, что мне нужно, и дневальный предложил мне на выбор любое драгунское седло, находящееся в конюшне. Я показал на первое попавшееся мне на глаза седло и приказал подседлать им моего коня. Самому седлать мне еще не приходилось. Выведя коня из конюшни, Я стал искать удобное возвышение, с которого я смог бы сесть на коня, так как садиться, как полагается, вдев ногу в стремя, я также еще не умел. После нескольких попыток, заведя коня в канаву, я с ее бровки с большим трудом сел на коня. (В минометной батарее у нас были кони, но не под седло.)
Мое счастье, что все мои упражнения с конем происходили ночью, в темноте, когда меня никто не мог видеть, иначе я надолго потерял бы авторитет у своих однополчан и долгое время был бы героем веселых рассказов гвардейцев–кавалеристов. Проехав несколько десятков метров, конь остановился, и, несмотря на все мои попытки, сдвинуть его с места мне не удалось. Мелькнула мысль, что конь не идет потому, что у меня нет шпор, чтобы его пришпорить. Пришлось с коня слезать. Привязав коня к забору, я пешком направился в расположение нашей батареи.
Войдя в избу, я стал будить Кучмара, чтобы попросить у него шпоры. Но Кучмар не просыпался, только мычал. Боясь разбудить бойцов, я снял с его сапог шпоры и нацепил их на свои сапоги. Как потом выяснилось, надел я их неверно — пряжками вовнутрь. И это была моя вторая ошибка в кавалерии.
Выйдя из избы, я направился к своему коню, для верности сломав по дороге хороший прут в помощь шпорам. С трудом сев в седло, я при помощи шпор и прута заставил двигаться коня рысью в направлении штаба дивизии. Погода испортилась, снежная поземка перешла в метель, дорогу стало заносить снегом. Я не заметил, как сбился с дороги и забрался в незамерзшее болото. Конь все тяжелее и тяжелее вытаскивал ноги из трясины.
Большими прыжками он пытался выскочить на твердую землю, но сил, видно, не хватало, и он вместе со мной рухнул на правый бок, подмяв под себя мою ногу. Выдернув ногу из–под лошади, я встал на ноги, помог коню подняться и за повод стал выводить его из болота. Это оказалось нелегким делом. И только изрядно вывозившись в грязи, я с трудом выбрался сам и вывел коня на твердую землю. К моему счастью, болото оказалось небольшим, да и метель стала стихать. Конь был весь мокрый от борьбы с болотом, от него шел пар, с меня тоже лил пот градом. Метель стихла, и я смог после недолгих поисков найти дорогу. Время шло, мне надо было торопиться, чтобы до рассвета прибыть в штаб дивизии. Канавы или какойнибудь возвышенности, с которой я мог бы сесть на коня, нигде не было — кругом было ровное поле.
Идти пешком, ведя коня в поводу, было просто неразумно, и я стал пытаться сесть на коня, вдев ногу в стремя. Прикинув, что, если я буду садиться с правой стороны, могу оказаться на коне задом–наперед, я вдел левую ногу в левое стремя, оттолкнулся правой ногой и, занеся ее над крупом коня, с трудом взобрался на него. Для меня это было первой победой по самостоятельной конной подготовке. По дороге в штаб я для тренировки еще несколько раз спешивался и садился в седло без помощи посторонних предметов. После совместного купания в болотной грязи конь как–то сразу стал послушным и начал выполнять все мои команды поводом и шенкелями, без применения прута. Времени оставалось мало и до самой деревни, где размещался штаб дивизии, я двигался рысью, иногда пуская коня в галоп. Галопом мне скакать было легче, жаль только, что конь в галопе быстро уставал. К рассвету я подъехал к деревне. У крайнего дома я остановился, спешился и стал приводить себя и коня в порядок.
Мороз подсушил грязь, и она легко счищалась, отваливаясь корками с моего обмундирования. Приведя себя в порядок, соломенным жгутом почистив коня, я направился к штабу. Вручив направление дежурному по штабу, я был представлен помощнику начальника штаба, который передал мне приказ штаба дивизии. Согласно приказу я должен получить из эскадрона разведки двадцать конников, с которыми осуществлять патрулирование и охрану тридцатикилометрового участка дороги от нашего тыла дивизии до передовых частей. На словах он добавил, что участились случаи просачивания и нападения на наши тылы немецких диверсионных групп, которые на дорогах задерживали и уничтожали наш транспорт с боеприпасами, фуражом и продовольствием.
Ребята из эскадрона разведки, которых я получил, были стройные и подтянутые как на подбор. Кони их были также под стать молодым разведчикам, настоящие кавалерийские, не то что мой заморенный гнедой. В числе моей боевой группы были два сержанта, командиры отделений, с которыми я и наметил план выполнения поставленной задачи. Свой опорный пункт мы решили разместить в селе, расположенном на полпути от конечных пунктов нашего патрулирования. Выполнив некоторые формальности по обеспечению нашего отряда продовольствием и фуражом, мы выступили к месту нашей временной дислокации. Мне на моем коне было как–то неловко и неудобно вести за собой колонну опытных конников на прекрасных конях, тем более после того как один из сержантов тактично заметил, что шпоры у меня надеты неправильно и их следует перестегнуть пряжками наружу. Разведчики держали необходимую дистанцию и не показывали виду, что замечают мою некомпетентность в верховой езде.
Село, которое мы облюбовали для размещения, не пострадало от боев и было свободно от воинских частей. Разместив бойцов по избам, я выбрал себе избу в центре села, откуда было удобнее управлять первым и вторым отделениями, расположенными по обе стороны от моего дома. Наметив маршруты и очередность патрулирования отдельных конных дозоров, я расположился на отдых. Мороз сковал дороги. Преодолевать в оба конца 15–километровый маршрут дозорам было нетрудно. День у них уходил на патрулирование — день на отдых. Я выезжал редко из–за своего коня, которому надо было набрать силу и тело. На маршрутах патрулирования было тихо, нападения на транспорт прекратились, и я, полностью полагаясь на опыт и исполнительность своих сержантов, занялся изучением правил по уходу за конем, тактики действия кавалерии в современном бою и других правил конной подготовки.
Незаметно прошла неделя, и в конце ее, ночью, в окно постучали. Хозяйка разбудила меня, и я, открыв дверь, впустил в избу офицера. Он оказался квартирьером нашего 24–го гвардейского кавполка. Оказывается, полк перебрасывают на другой участок фронта, и к утру он прибудет сюда на дневку.
ПЕРВЫЙ ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ. МОИ ПЕРВЫЕ БОИ В КАВАЛЕРИИ
По прибытии полка в село меня вызвали в штаб, где ознакомили с приказом командира полка, гвардии подполковника Ткаленко, о назначении меня командиром взвода противотанковой батареи (ПТО). Мне предписывалось без промедления отчитаться перед штабом дивизии, передать бойцов в разведэскадрон и явиться в распоряжение командира батареи ПТО, гвардии старшего лейтенанта Агафонова Н.М. Рассчитавшись со штабом дивизии, я отыскал батарею ПТО на окраине села. Расспросив у артиллеристов, где найти комбата, я направился к бане, в которой он разместился. На мой стук в дверь из бани вышел невысокого роста, коренастый старший лейтенант с открытым русским лицом и выправкой кадрового военного. Он был без шинели. Это и был командир батареи ПТО. На вид ему было лет двадцать пять. На груди его поблескивал орден боевого Красного Знамени, орден по тем временам весьма редкий (и вдобавок старого выпуска — на винте–закрутке). Узнав из моего рапорта, что я направлен к нему командиром взвода, он, поздоровавшись, без лишних слов, предложил мне сразу же принять второй взвод. Указав место расположения взвода, он напоследок заметил, что полк после марша вступит в бой и что я должен и на марше, и в бою беречь коней, особенно коней артиллерийских упряжек, которым нет цены.
Я все больше и больше стал убеждаться в том, что главное в кавалерии — это конь, а бойцы, орудия, оружие и прочее стоят на втором месте. Разыскав взвод и помощника командира взвода гвардии старшего сержанта Евстигнеева, который временно исполнял обязанности командира взвода, я сообщил ему о своем назначении и приказал познакомить меня с личным составом и материальной частью. Времени на построение взвода для официального знакомства не было, и о моем назначении бойцы узнали от командиров орудий, с которыми я осматривал коней, орудия и боевые брички.
На вооружении взвода и батареи были 45–мм противотанковые пушки, которые перевозились двумя парам и лошадей (в пехоте сорокапятку таскали только две лошади). К каждому орудию относились и две брички со снарядами, запряженные тройкой лошадей. Орудийный расчет состоял из десяти человек (командира, наводчика, замкового, заряжающего, ящичного, четырех ездовых и коновода). Во взводе вместе с комвзвода, помощником командира взвода и кузнецом всего 23 человека. Взвод должен иметь по штату военного времени 35 лошадей. Но после последних боев лошадей не хватало, и расчеты размещались на лафетах орудий и на боевых бричках. В наличии во взводе было восемь орудийных, восемь бричечных (повозочных) и три верховые лошади, то есть всего 19 лошадей. За ознакомлением со взводом и подготовкой к маршу незаметно пролетел весь день. С наступлением темноты запела труба горниста, возвещая седловку. Бойцы взвода проворно, без суеты, стали седлать и запрягать лошадей. Командиры орудий, проверив личный состав и матчасть, доложили мне о готовности орудий к маршу. Вытянув взвод в походную колонну, я повел его к батарее, где занял свое место после первого взвода. Проверив взвод лично, я доложил комбату о готовности взвода к маршу и боевым действиям. Взошла луна. Мороз сковал землю, и марш предвещал быть не из трудных. Чистый белый снег, сверкающий под лунным светом, успокаивающе скрипел под ногами и выводил своеобразную мелодию с колесами боевых бричек.
В самом начале марша нам выдали новое зимнее обмундирование — красивые овчинные полушубки. Однако погода в то время была переменчивая, то шел дождь, то ударяли морозы. Промокая, овчина садилась, и вскоре все конники выглядели как клоуны в полушубках с одной полой длиннее другой на 20 сантиметров. Пришлось вернуться к традиционным шинелям и ватникам.
При первой же возможности бойцы взвода повыкидывали противогазы из сумок, что вызвало у меня большое беспокойство — я не столько боялся немецкой газовой атаки, сколько материального взыскания в случае инспекции. Офицерская братия посоветовала мне, как решить эту проблему — списать все на боевые потери. После первого же боя я написал отчет, что все противогазы взвода, сложенные на бричку, были уничтожены прямым попаданием вражеского снаряда.
Что меня ждет впереди, какова тактика кавалерийского боя и роль орудий ПТО в этом бою, я представлял себе смутно. Знал главное: не отставать от эскадронов, вовремя поддержать их огнем и колесами, а при появлении танков отразить танковую атаку.
Впоследствии, после войны, в своей книге «Под грохот сотен батарей» командующий артиллерией нашего фронта, Герой Советского Союза, генерал полковник Н. М. Хлебников так характеризовал действия противотанковых орудий:
« … в противоборстве орудия, открывающего огонь прямой наводкой с 600–700 метров, и танка, мчащегося на это орудие, успех часто решают секунды. Остановить бронированную махину, подбить или поджечь ее с первых выстрелов удается далеко не всегда. Чтобы выйти победителем из этой схватки, противотанкисту надо иметь не только верный глаз, не только слаженную до автоматизма работу всего орудийного расчета, но и сильные нервы. Горячее сердце и трезвый холодный расчет в бою — этими качествами должен обладать командир противотанкист».
Все мои последующие бои с танками целиком и полностью подтверждали слова командующего артиллерией фронта. Но обо всем этом мне тогда не хотелось думать. Сейчас на марше мне было хорошо. Приятно дышалось свежим и чистым, сухим морозным воздухом. Полк движется в полной тишине, я веду свой взвод и являюсь полноправным членом среди офицеров прославленного гвардейского корпуса, а до передовой еще целая ночь пути. После пяти–шести часов марша на горизонте появилось зарево пожарищ. Огонь от подожженных гитлеровцами домов, вспышки и кратковременное горение осветительных ракет, отдаленная орудийная канонада и короткие пулеметные очереди пунктирами трассирующих пуль, и мы
рассекающих небо, говорили о приближении фронта, его переднего края.
Колонна остановилась. Где–то в голове ее прозвучал сигнал трубача «Сбор командиров». Комбат пришпорил коня и рысью направился к штабу, к командиру полка. Через несколько минут он вернулся, коротко ознакомил нас с обстановкой и передал приказ командира полка, по которому все наши орудия придавались эскадронам (по одному орудию на эскадрон). Мой взвод придавался третьему и четвертому эскадрону. Не теряя времени, я повел орудия к эскадронам. С третьим орудием пошел сам, с четвертым пошел мой помкомвзвода. Полку была отведена линия обороны вдоль железной дороги, она же была исходной позицией для наступления. Мы сменили пехоту 3–й ударной армии.
3–й эскадрон стал окапываться на западном склоне открытой возвышенности, примыкающей к железной дороге. До рассвета оставалось еще достаточно времени, чтобь! незамеченными окопаться, установить орудие и замаскировать огневую позицию. Вместе с командиром орудия гвардии сержантом Паланевичем я наметил место огневой позиции в 100 метрах от окопов 3–го эскадрона, на голой высоте, продуваемой со всех сторон холодным декабрьским ветром, так как в других местах не было необходимого сектора обстрела для прямой наводки. Расчет приступил к оборудованию огневой позиции, Вiрызаясь в промерзшую, твердую, как камень, землю с помощью шанцевого инструмента, добытого еще под Сталинградом. Рыли окопы для расчета, капонир и площадку для орудия. Работали дружно, тщательно маскировали снегом вырытый грунт.
Впереди железная дорога, по которой курсирует бронепоезд противника. Закончив работу и закатив орудие на огневую позицию, подготовив снаряды, расчет пошел с котелками к кухне, оставив у орудия одного наводчика. Кухня расположилась в овраге, неподалеку от орудия. Получив горячую кашу и промерзший хлеб, солдаты дружно заработали ложками. Как работали дружно, так и ели дружно, по два–три человека на котелок, поочередно черпая ложкой теплую, наваристую гречневую кашу из концентратов. Совместная взаимопомощь на марше и взаимовыручка в бою, где оплошность одного из них может стоить жизни всему расчету, сплотила этих людей, разных по характеру, возрасту и национальности, в единый организм, с ПОЛУGлова пони мающих друг друга и беспрекословно выполняющих волю своего командира. Тщательно, до крошки очистив котелки и попив горячего чая, бойцы закурили махорочку, пряча цигарки в рукава шинели. И потекла неторопливая, тихая беседа о довоенной жизни. Каждый отгонял свои мысли о завтрашнем дне, о том, как поведет себя противник на этом пока незнакомом участке фронта. Зима брала свое, чем ближе к утру, тем крепче мороз. Поднялся ветер, по земле мела колючая поземка, против ветра стало трудно дышать. Приобретенное после сытного ужина тепло постепенно выветривалось, под шинель забирался знобкий неприятный холодок. С немецкой стороны время от времени раздавались автоматные и пулеметные очереди. Трассирующие пули пролетал и над высоткой в lаправлении леса, где в овраге расположились тылы эскадрона (кони, брички, тачанки). Некоторые пули ударялись о камни и, рикошетируя, свечой взлетали в темное декабрьское небо.
Метров в трехстах от нас, в глубине нашей обороны, на видном месте, одиноко стоял чудом уцелевший дом. Дом как дом, со стенами, крышей, целыми оконными рамами, дверью и русской печкой. Окна завешены, а на столе коптилка–моргалочка. И вот в этот дом, как в санаторий, получив разрешение своих командиров, потянулись отдельные бойцы, чтобы обогреться и набрать хоть немного тепла про запас. Дом был битком набит бойцами: пехотинцами, артиллеристами, кавалеристами. Кто сидел, кто спал лежа под столом и под лавками, кто забрался на печь, а кто пришел позднее, дремал стоя, прислонившись к печи или к плечу соседа. Воздух в доме был настолько спрессован, что при открытии двери входившего валило с ног теплом, пропахшим потом, портянками и запахом давно немытых человеческих тел. Несмотря на духоту и тесноту, это был райский уголок, случайно уцелевший на переднем крае. Время от времени дверь отворял ась, впуская очередного промерзшего с неразгибающимися пальцами бойца или выпуская обогревшегося и отдохнувшего с запасом на два–три часа солдата.
Примостившийся у стола старлей–пехотинец несколько раз предупреждал всех, чтобы до рассвета все покинули избушку, так как он не ручается ни за дом, ни за тех, кто в нем. С рассвета будет артналет с немецкой батареи и с бронепоезда, курсирующего по железной дороге, так что избушка на этот раз может не уцелеть. Предупредив всех, старлей встал, забрал свою пехоту и вышел из дома. Стало свободнее. Снова открылась дверь, впуская еще одного до костей замерзшего солдата. Был он среднего роста в белом маскировочном халате с немецким автоматом на шее, руки от мороза у него не сгибались. Сняв рукавицы и развязав завязки шапки–ушанки, обратился к нам:
— Братцы, спасите мою душу! Промерз до мозга костей … Дайте обогреться!
— Откуда ты такой, молодец? — спросил я его.
— Оттуда! — ответил он и махнул рукой в сторону передовой. — Ходили за языком, промерзли! Не привели! Разрешите немного обогреться, потом опять пойдем и будем лежать в засаде, пока не приведем «фрица» или сами не превратимся в ледышку.
Все это он сказал не переводя дыхания и как был, в маскхалате и с автоматом, полез на печь. Я сказал ему, чтобы он долго не задерживался на этом «курорте» и до рассвета покинул помещение. Он что–то пробормотал в ответ и сразу же заснул крепким сном. Покидая такой уютный дом, я наказал солдатам, чтобы они уходя не забыли разбудить разведчика. На позициях еще яростнее мела поземка, но мне было уже приятнее смотреть на свет божий, так как под шинелью и в сапогах был запас тепла, полученный за время моего пребывания в доме. Командир орудия похозяйски проверял готовность орудия к предстоящему бою. Из домика вернулись последние солдаты. Я спросил про разведчика. Они ответили, что разбудили его, он встал, но потом опять полез на печь и сказал: «Будь, что будет, а я еще с полчасика посплю!»
С рассветом послышался шум приближающегося поезда … Из дефиле, скрывающего железную дорогу от нашего наблюдения, медленно выдвигались бронеплощадки немецкого бронепоезда и … Шквал огня по всей нашей высотке из крупнокалиберных пулеметов и орудий разных калибров! Достаточно было моей короткой команды «Орудие И расчет в укрытие!». В одно мгновение орудие оказалось в капонире, а расчет — в окопах. Ураганный огонь с бронепоезда продолжался, вероятно, недолго, но нам казалось, что нет конца этому шквалу огня. Велся ли нами ответный огонь? Прямой наводкой ответить не осмелился никто. Несмотря на то что за нами стояли 76–мм орудия ЗИС–З, они тоже молчали. Да и не удивительно: огневой налет бронепоезда был настолько неожиданным и плотным, что выдержать дуэль с ним на открытой местности было практически невозможно. А огонь с закрытой огневой позиции, если бы и велся, был бы малоэффективен. Так же неожиданно, как и начался, огонь прекратился, и бронепоезд исчез в дефиле. Покинув укрытия, мы стали осматриваться. Весь расчет цел, не повреждено и орудие, но район огневой позиции вдоль и поперек перепахан снарядами, BOPOHKа на воронке, разрушен бруствер, незначительно осколками поцарапаны станины орудия. Подобная картина наблюдалась и в траншеях, занимаемых эскадроном. Наибольший урон понесли пулеметные гнезда. Картина налета постепенно прояснялась. Бронепоезд вел прицельный огонь, получив предварительно данные от разведчика–корректировщика. Вскоре было обнаружено и место его нахождения. Оно было на вышке в глубине немецкой обороны, метрах в 700 от от полотна железной дороги. Командующий артиллерией ставит задачу «Снять корректировщика!». Секунды потребовались для подготовки орудия в положение «к бою!».
Расчет выкатил орудие из капонира, занял свое место, и я командую:
— По вышке, осколочным, прицел … Наводить в середину верхней площадки! Огонь! Выстрел! Взять ниже. Огонь! Четыре снаряда, беглый огонь! Очередь!
После четвертого снаряда верхняя площадка с корректировщиком была сбита. Командую:
— Стой, записать: цель N! 1 — вышка корректировщика!
Я и расчет были довольны своей работой. Подвезли еще снаряды. Из оврага ящичные подтаскивали их к огневой позиции. И тут только мы обратили внимание на то, что домика, нашего ночного рая, уже нет. На его месте возвышалось нагромождение из кирпича и бревен с полуразрушенной трубой от русской печки. Над всем этим поднимался слабый дымок, разгоняемый ветром. Успел ли покинуть свой теплый приют неизвестный разведчик или он похоронен под развалинами дома?
Жаль, если не успел! У развалин появились два солдата в обмотках (пехотинцы), походил и вокруг, махнули рукой и ушли. А мы готовились К новому визиту бронепоезда. Я побывал на КП командира эскадрона и согласовал с ним свои действия. Комэска обещал после боя дать мне недостающего коня в артупряжку взамен убитого при артобстреле коня переднего уноса. До вечера бронепоезд больше не показывался. Разведчики с саперами взорвали железнодорожное полотно у дефиле, так что путь для очередного налета бронепоезду был прегражден. С наступлением темноты пришел приказ о переброске нас в другой район. До отбоя нам, артиллеристам, было приказано тщательно обработать передний край противника для безопасной смены позиций пехотным ротам. Огонь вела с закрытой ОП и батарея ЗИС–З из дивизиона сына В.И. Чапаева. Нам было на руку ведение огня, так как мы могли значительно сократить количество снарядов, которые было не под силу поднять нашим боевым бричкам. Меняя прицел и изменяя угломер вправо и влево, мы вели беглый огонь по четыре снаряда на каждой установке, методично обрабатывая передний край и по фронту, и в глубину обороны противника. Выпустив за 15 минут не менее 60 снарядов, я скомандовал отбой. В темноте ночи орудие заняло свое место в боевых порядках походной колонны эскадрона. Проходя мимо развалин еще недавно такого уютного и теплого дома, я не удержался и, несмотря на темноту, решил проверить, уцелел или погиб под развалинами незнакомый нам разведчик. Мои надежды на то, что он жив, не оправдались. Под грудой битого кирпича разрушенной печи виднелись клочья белого маскхалата и лохмотья шапки–ушанки. «Жаль разведчика, — думал я, догоняя колонну. — Решив поспать еще минут пять–десять после рассвета, уснул навечно».
Коней не хватало, и, несмотря на обещание комэска–З, орудие гвардии сержанта Лаланевича передвигалось на трех лошадях вместо четырех. Не хватало и верховых лошадей для орудийного расчета. Расчет сопровождал орудие пешком, подсаживаясь на станины орудия при переходе эскадрона на рысь. Мороз усиливался, гривы коней покрылись инеем, бойцы зябко поеживались ОТ сильного ветра. Благополучно пройдя через опасный перешеек, полк продолжал движение и днем, под прикрытием ненастной погоды. С неба сыпала колючая пороша. К вечеру полк сосредоточился в длинном широком и достаточно глубоком овраге.
Склон оврага со стороны противника был почти отвесный и гарантировал безопасность от пулеметного и артиллерийского огня. Ненастная погода маскировала нас от налетов авиации. Исключением мог быть только высокоточный минометный огонь. Противник вслепую вел беспокоящий артиллерийский огонь по участкам сосредоточения наших войск.
Во время очередного артналета от разорвавшегося вблизи шального снаряда был убит конь под командиром нашей дивизии, а сам генерал Чепуркин Н.С. был ранен. В полку уважали и любили своего генерала за его отцовское, культурное отношение к солдату и офицеру. Все были глубоко опечалены и обеспокоены ранением генерала, но это не привело к замешательству в подразделениях. Полк четко выполнял свои боевые задачи, готовился к новым боям, к новому наступлению. Полковые кухни, прижавшись поплотнее к высокому, спасительному склону оврага, по–хозяйски готовили сытный обед. Ездовые и конники кормили лошадей, ветинструкторы и кузнецы осматривали их, и каждый, используя временное затишье, занимался своим делом. Командиры орудий осматривали материальную часть и боевые брички, пулеметчики хлопотали у тачанок.
Связные созывали командиров в штаб полка. Перед наступлением хотелось просушиться, но разводить костры не разрешалось, и солдаты ограничивались осмотром ног, разувая поочередно сапоги и перематывая портянки на натруженных ногах … Явился комбат и спокойно, неторопливо доложил обстановку и боевое задание: тылы полка и коноводы остаются в балке (овраге), боевые подразделения вечером пере. ходят в наступление. Первый взвод поддерживает первый и второй эскадрон, второй взвод — третий и четвертый. При встрече с противником возможны танки.
С наступлением темноты без шума, тихо и спокойно полк вытянулся в пешем строю в боевую колонну. Мы шли во втором эшелоне полка, а головной отряд уже вошел в соприкосновение с противником и завязал бой. Бой не принес успеха, и полк был вынужден занять оборону. План стремительного продвижения кавалерии в тыл противника на сей раз не сработал. Прорыв обороны противника пехотой был неглубоким, 10–15 км. Вероятно, командование фронта не знало о наличии у противника второй, хорошо укрепленной линии обороны. Об этом стало известно только после того, как наша полковая разведка была обстреляна всеми видами оружия со второй линии обороны немцев.
Мы были вынуждены перейти к обороне. Участок нашей обороны располагался на низкой, заболоченной местности, сзади нас небольшой лес. Даже сильные морозы не сковали грунт, и окопаться практически было невозможно. Как только мы снимали грунт на штык лопаты, появлялась вода, и нам приходилось лежать под огнем противника в неглубоких сырых ячейках. За ночь вода подмерзала, и наши шинели примерзали к грунту. Выданные накануне валенки отсырели, и за ночь портянки примерзали к ним. По телу пробегала противная дрожь; чтобы немного согреться, приходилось время от времени по–пластунски отползать к лесу и там, в лесу, основательно попрыгать и побегать. Здесь же в лесу стояли наши орудийные кони и боевые брички со снарядами. В лесу была небольшая возвышенность, и ездовые вырыли для себя окопы почти во весь рост, застелив дно лапником от здесь же растущих елок. Противник нащупал сосредоточение наших войск, подтянул артиллерию и начал обстреливать наши позиции. Наибольший урон мы несли от налетов шестиствольного миномета, «ишака», как мы его прозвали за противный рев реактивных снарядов. Настроение было скверное. Сырость и ограниченность движения гнетуще отражались на здоровье бойцов. Вдобавок ко всему немец перерезал и тот небольшой коридор, связывающий нас с нашими тылами, прекратилось продовольственное снабжение и боепитание. Мы окружены. Люди голодали. В редкую летную погоду появлялись наши «кукурузники» (У–2) и сбрасывали нам мешки с сухарями. Но сухари не всегда доставались нам, часть мешков падала в расположение противника, а нам оставалось только облизываться. Потрескавшимися, воспаленными губами мы проклинали и поганого фрица, и погоду, и сырую болотистую землю, которая не могла нас укрыть от вражеских пулеметных очередей и артналетов. Появились и постоянные спутники холода, голода и грязи — вши.
Комэска четвертого эскадрона, изрядно выпив, без согласования с командиром полка решил поправить наши дела стремительным наступлением на позиции немцев. Подняв эскадрон, сам впереди в полный рост, он повел его в атаку без предварительной артподготовки и даже без нормальной огневой поддержки пулеметов. Не дойдя метров 20 до немецких окопов, комэска был убит наповал, атака захлебнулась из–за плотного автоматного и пулеметного огня. Оставшиеся в живых бойцы вернулись на исходные позиции. Поступок командира эскадрона был строго осужден командованием и всеми офицерами полка, но судить было некого, главный обвиняемый остался лежать мертвым на поле боя. Убитых решили вынести ночью, чтобы избежать новых жертв.
Настроение падало, давали знать себя голод и холод. Обходя расположение ездовых орудийных упряжек и боевых бричек в лесу, метров 200 от переднего края, я заметил дымок от костра. Подойдя ближе, я увидел, как у небольшого костра, в лощинке, по–фронтовому, у «маленького Ташкента» сидела и грелась группа офицеров, среди которых был и начмедслужбы полка. Некоторые сидели голыми по пояс и прожаривали свои нательные рубашки и гимнастерки на костре. Вши, гроздьями гнездившиеся на рубашках, с треском лопались от огня, доставляя немалое удовольствие их владельцам.
Спереди было тепло, но по спине бегали мурашки. Офицеры зябко поеживались, проклиная войну и немцев в самых жестких русских выражениях. Я тоже подсел поближе к огню и стал отогревать свои озябшие руки. Капитан медсанслужбы предложил новый метод уничтожения паразитов, не снимая гимнастерок и рубашек. Он вынул индивидуальный пакет, развернул бинт и заправил его себе за шиворот. Просидев таким образом минут 10–15, он вытащил бинт. На чистом бинте сидело 5–8 вшей. Отрезав этот кусочек бинта ножницами, он бросил его в костер. Бинт сгорел вместе с паразитами, которые звонко лопались на огне. Всем понравился этот метод вылавливания паразитов на бинт, как на у,очку, и мы дружно стали практиковать его на себе.
Конечно, все это было временным успокоением, и скорее забавой, ведь вши размножались на грязном и истощенном теле гораздо быстрее, чем мы их вылавливали. Всем нужна была хорошая дезинфекция. Но в наших условиях об этом можно было только мечтать.
Даже небольшой дымок от нашего маленького «Ташкента» вызвал артналет противника. Костерок загасили. Пора было возвращаться к орудию. Положение было напряженное, фрицы могли начать наступление на наши позиции в любой момент. Командир орудия, гвардии сержант Паланевич, по–хозяйски устраивался на ночь, заставляя расчет подтаскивать к орудийным окопам сухой хворост и елочный лапник из леса. Вечер был пасмурный, низкий туман ограничивал видимость со стороны противника.
Я подправил свой окопчик, расположенный метрах в семи от орудия, возле небольшого бугорка, и заменил мокрую подстилку сухой. Коновод принес скудный обед, он же и ужин. Суп–болтушка в котелке был еще горячий, и я, поставив его на бугорок, с аппетитом поел и согрелся, несмотря на то что промерзший хлеб крошился и не имел вкуса хлеба. Не дожидаясь очередного налета, я малой саперной лопатой начал расширять свой довольно тесный окоп. Сняв покров снега с прилегающего к окопу бугорка, я наткнулся на кусок немецкой шинели. Дальнейшая раскопка обнаружила труп убитого и замерзшего «фрица». Такое соседство меня явно не устраивало. Неприятно было и то, что этот бугорок, то есть труп засыпанного снегом фрица, я только что использовал как стол для обеда, а ночью прижимался к нему, прячась от ветра и стужи. Пришлось спешно отрыть новый окоп и замаскировать старый окоп свежим снегом. Проверив часового у орудия и переговорив с комэска–З о совместных действиях, я улегся в мягкий от лапника, но холодный и сырой окоп. Кое–как согревшись, я уснул.
В полночь, продрогнув до мозга костей, я проснулся и, решив, будь что будет, пошел в лес и забрался в свою бричку, под сено. Разбудил меня грохот мощных разрывов по всему лесу. Это был очередной налет шестиствольного миномета «Ишака». Кони, запряженные в мою бричку, неслись по лесу как бешеные, по кочкам и пням, не выбирая дороги. Вскочив спросонья, я остановил коней, из которых один был тяжело ранен, а два других имели на крупах глубокие касательные кровоточащие раны. Осколками мин были изрешечены борта брички. Чтобы выпрячь тяжелораненого коня, который после бешеной скачки упал, я стал звать ездового. Ездовой не откликался. Прибежавший с огневой позиции Паланевич сказал, что ездовой, наверно, спит в своем окопе, который был под бричкой. Я ему не поверил. Не может быть, чтобы такой исполнительный и хозяйственный пожилой солдат, каким был ездовой, Спирин, мог спать после адского налета «Ишака».
я побежал к окопу. Ездовой лежал в окопе без движения. В первый момент я тоже подумал, что он спит, но когда я начал его тормошить, то убедился, что он убит. Подошедший сержант расстегнул на Спирине шинель и гимнастерку и обнаружил небольшое осколочное отверстие в районе сердца. Пока сержант занимался с лошадьми, мы забрали документы убитого и в этом же окопе схоронили его, установив небольшой столбик с дощечкой. До сих пор я не перестаю удивляться: как это могло случиться, что я, находясь на бричке, более полуметра над землей, остался жив и даже не ранен (только в нескольких местах осколками мне посекло шинель), а ездовой, который лежал под бричкой, в окопе глубиной больше метра, был убит
Только мы успели схоронить нашего ездового, как вновь противно завыл «Ишак», и еще одна партия смертоносных мин накрыла участок леса недалеко от нас. Шестиствольный миномет в лесу был наиболее опасен за счет взрывов мин над землей при соприкосновении взрывателя с ветками деревьев. Осколки при таких взрывах летят сверху вниз и поражают людей даже в окопах.
Таким же образом меня ранило на Курской дуге в саду при минометном налете на мою батарею … Тяжелораненую лошадь пришлось пристрелить и тут же разделать на мясо. Мясо распределили по подразделениям, и в этот вечер бойцов вдоволь накормили свежей кониной. В окружении мы были несколько дней, но для меня они были самыми тяжелыми воспоминаниями за всю войну (не считая пережитых мной дней в блокадном Ленинграде).
В ноябре 1943 года, в один из вечеров, поступил приказ об оставлении занятых позиций и выходе из окружения. Вражеское кольцо одним ударом нашего передового отряда и авангарда полка было прорвано, и в образовавшуюся брешь, без шума, в полной темноте, была выведена из окружения вся наша Группировка. Настроение у всех было приподнятое. Впереди нас ждали баня и довольно сносное жилье. Выходя из окружения, я допустил грубую ошибку, которая могла стоить мне жизни или, хуже того, я мог попасть в позорный плен.
Выведя орудие Паланевича с бричками и присоединив их к боевой колонне эскадрона и полка, я решил проверить другое мое орудие, гвардии сержанта Петренко, приданное третьему эскадрону. Дошел ли до них приказ и не забыл ли о нем эскадрон? Если расчет с орудием останутся в окружении, отвечать все равно придется мне, несмотря на то что я находился с другим орудием и в другом эскадроне. В то время у меня еще не было личного оружия, и я, взяв карабин у своего бойца, вернулся в лес и направился к месту расположения 4–го орудия. Кругом была тишина, и только ветер раскачивал кроны деревьев да под моими ногами поскрипывал снег. Загнав патрон в патронник карабина, я с карабином наперевес, озираясь по сторонам, перебежками приближался к огневой позиции моего орудия. В расположении эскадрона и на огневой позиции не было ни души. Следы на снегу говорили о том, что орудие вместе с эскадроном покинуло свои позиции и вышло на соединение с полком. Со стороны противника не было активных действий, иначе он сел бы нашим отходящим частям на хвост и навязал бы нам ненужный в настоящей обстановке бой. Противник не знал наших действий и, как всегда, периодически пускал осветительные ракеты и вел беспокоящий огонь из пулеметов и орудий. Но это было где–то вдали. А здесь было тихо. Но я мог напороться на разведку немцев, и тогда мне с моим карабином было бы тошно. Против разведгруппы я бы явно долго не продержался. Закинув карабин за спину, я бегом пустился догонять своих. От сильного бега болело сердце и стучало в висках. Запыхавшись, я перешел на шаг. Мысль о том, что я могу отстать от своих и остаться в окружении, подстегивала меня, и я снова бежал, пока почти вплотную не наскочил на арьергард полка. Поразмыслив, я о своем поиске орудия никому не доложил, боясь хорошей взбучки от командования. Рапорт о состоянии взвода комбату я отдал с опозданием, но, поскольку наш комбат докладывал командиру полка последним, все обошлось благополучно и мое кратковременное, но опасное отсутствие осталось незамеченным.
ОТДЫХ И ПОПОЛНЕНИЕ, ПОДГОТОВКА К НОВЫМ БОЯМ
Выйдя из окружения, полк не спеша продвигался к месту сосредоточения. Еще не доходя до места назначения, на дневке, санинструкторы и старшины готовили нехитрые сооружения для дезинфекции и бани. Где и как они добывали железные бочки для «вошебоек», как оборудовали их для своего подразделения в считаные часы, отведенные для этой санитарной операции в полевых условиях, остается одной из нераскрытых тайн русского солдата в минувшей войне.
В обязанность санинструктора входило не только продезинфицировать белье и обмундирование бойцов, но и помыть их в наскоро организованной бане. В банные дни организация требовалась не менее тщательная, чем при боевой операции. Командующими всей этой операцией были старшины подразделений, которые через помощников командиров взводов и командиров отделений (орудий) выполняли все указания санинструкторов, а после бани одевали бойцов в чистое, пахнущее каким–то особым домашним запахом, белье. Такие полевые бани были вроде праздника и поднимали настроение и боевой дух бойцов не хуже хорошего духового оркестра. На следующей дневке за дело принялись ветеринарные инструкторы, организовав поголовную проверку конского состава совместно со взводными кузнецами.
Кузнецы были в каждом взводе, и от них также зависела боеспособность лошадей. Плохо подкованный конь захромает и станет обузой во взводе.
Командиры орудий использовали каждую свободную минуту, проверяя боевую технику: орудия, боевые брички, стрелковое оружие бойцов и конское снаряжение. Никто не знал, надолго ли будет передышка. И только при размещении подразделений полка в населенных пунктах, вдали от фронта, можно было надеяться на то, что отдых будет не менее недели. После очередной дневки орудия покинули эскадроны, и батарея уже на марше стала двигаться в полном своем составе. Все говорило о скорой продолжительной передышке для доукомплектования подразделений новым пополнениеМ бойцов и лошадей.
В одном из сел Витебской области, сохранившемся после фашистской оккупации, полк разместился на длительный отдых. Наша батарея заняла отдельный дом неподалеку от штаба полка. В доме разместились офицеры и тылы батареи. Расчеты построили себе легкие землянки. Для коней оборудовали открытые коновязи. Местное население, побывавшее под оккупацией, жило очень бедно. Выручала картошка. Если бы ее не было, население бы голодало, — есть было больше просто нечего. Картофель, приправленный толченым чесноком, да кусок черного хлеба были пищей и взрослых, и детей. Поскольку население голодало, плохо было и нам, и нашим коням. Не было ни сена, ни соломы. Получаемый для коней овес не мог восполнить отсутствия грубых кормов. Зима 19431944 годов стояла суровая. Кони стали падать в теле. За день они перегрызали толстые бревна коновязи. Возникла угроза массового заболевания коней коликами. Штабом полка было предложено счищать снег и срезать из–под него прошлогоднюю траву. Первые же попытки показали, что это напрасный труд. Трава под снегом была низкая и смерзшаяся с землей. Комбат старший лейтенант Агафонов собрал нас, командиров взводов и старшин, на совет и предложил снарядить обоз в три–четыре брички и направить его на поиски соломы с крыш заброшенных строений. Это было разумное решение, и все его поддержали.
На поиски соломы в другой район, километров за тридцать от нашего расположения, направили меня. Мне были выделены четыре брички с наиболее опытными ездовыми. Захватив необходимые снасти, слеги, веревки, топоры и вилы, сухой пае к на два дня, мы до рассвета выехали в северном направлении, где, как нам казалось, было больше разоренных войной сел. Утро было морозное, и колеса бричек скрипели, как сюрреалистический оркестр. Я ехал на передней бричке, замыкающей была бричка ездового Ведерникова: пожилого, коренастого, молчаливого, как все спокойные люди, мужичка. Погода была тихая, взошло солнце, и белый, чистый снег искрился под его лучами. Отъехав километров двадцать, мы стали проезжать поля недавних боев. Под снегом валялась разбитая боевая техника, недалеко, метрах в ста от дороги, у леса, задрав кверху ноги, лежала довольно упитанная обозная лошадь. Бричка Ведерникова остановилась, а сам ездовой с топором побежал, утопая в снегу, в сторону леса, туда, где лежала убитая лошадь. Я удобно устроился на своей бричке и был в полудреме. Про себя я подумал, что Ведерникову просто нужно оправиться, но зачем ему тогда топор?
Дорога в этом месте делала поворот, и я крикнул Ведерникову, чтобы он не отставал и догонял нас. Спустя полчаса Ведерников догнал нас, и мы в полном составе после короткой остановки, чтобы покормить лошадей, продолжали свой путь. К вечеру погода начала портиться, подул сильный, холодный ветер со снегом. Дорогу стало заметать, и к наступлению темноты мы сбились с дороги. Ехали по целине, по рытвинам и колдобинам, наугад. Неожиданно натолкнусь на одинокий полуразрушенный сарай. Стен у сарая не было, крыша завалилась к самой земле, но, к нашему счастью, она была покрыта соломой. Соскочив с брички, я осмотрел и пощупал крышу сарая. Солома была хотя и старая, но вполне пригодная для грубого корма. Для проверки кинул охапку соломы под ноги коней, и те сразу начали его есть. Воистину верна поговорка «Кто ищет — тот всегда найдет!». Снять солому с крыши и погрузить на брички, несмотря на метель, было делом нескольких минут. Две нагруженные соломой брички, плотно увязанные веревками, были почти половиной нашего задания. Назначив из двух ездовых одного старшим, я приказал им немедленно, не дожидаясь пока будут загружены остальные две брички, возвращаться в расположение части. Накормив коней, я с остальными бричками двинулся дальше на поиски новой удачи, предварительно разыскав дорогу и отправив по ней груженые брички. Ветер все усиливался, и нам впору было искать не солому, а ночлег для отдыха. Проплутав в темноте еще около часа, мы услышали отдаленный лай собаки. Держа направление на собачий лай, мы вскоре подъехали к одиноко стоявшему дому, как выяснилось после, чудом уцелевшему от целой деревни. В окне тускло горел огонек, и мы, привязав коней к изгороди, постучали в окно. Дверь нам открыла женщина неопределенного возраста, старушечьего обличья, и молодым голосом пригласила нас в избу. В избе было тепло, на столе тускло горела старенькая керосиновая лампа, освещая только стол. Все остальное было в темноте. Промерзшие до мозга костей мы с особым удовольствием сняли шинели, вытряхивая из них лютую стужу разбушевавшейся метели. Хозяйка предложила сразу нам отдохнуть с дороги и обогреться. Мне запросто сказала, чтобы я полезал на полати к ребятишкам и немного отдохнул, пока солдаты занимаются своими делами. Не дожидаясь повторного приглашения, я юркнул на нары в теплый, посапывающий клубок ребячьих тел и сразу же заснул. Разбудил меня Ведерников, приглашая к столу.
От стола приятно пахло вареным мясом и картошкой с чесноком. Пригласил за стол Ведерников не только меня, но и всех обитателей нашего приюта, а их оказалось столько, что все они не помещались за довольно обширным столом. Наскоро умывшись из рукомойника о двух сосках, повешенного в углу избы, я сел за стол. Подкрутив лампу, Ведерников распоряжался за столом, молча накладывая каждому по большому куску мяса. Дымящаяся картошка стояла на столе в двух котлах, и каждый брал ее по потребности. Особенно были рады дети, повскакавшие с полатей, как только запахло вкусным мясом. В одних рубашках они сразу пристроились на коленях у своих матерей. «А откуда появилось столько мяса? У нас же была всего одна банка тушенки в пайке», — мысленно задавал я себе вопрос. Такой же вопрос вслух задала и молодая женщина, которую, несмотря на ее стеснительные отказы, усаживал за стол Ведерников. Он же не моргнув глазом ответил, чтобы она не беспокоилась, так как нас, солдат, кормят очень хорошо, и мы всегда готовы поделиться с попавшими в беду людьми. Другая из женщин, что–то заподозрив, высказала сомнение:
— А не конина ли это? Я бы конину не смогла есть, меня бы сразу стошнило!
Но на все эти вопросы и сомнения никто не обращал внимания, никого не стошнило. Наоборот, все ели с большим аппетитом, усердно трудясь над большим куском мяса, заедая его картошкой с чесноком. Особенно усердно и с большим удовольствием ели дети, сверкая исподлобья своими большими глазами. Мясо оказалось мягким и сочным. Особенно нахваливала его молодая женщина, высказавшая сомнение о его пригодности, думая, что это конина. За разговором выяснилось, что В доме, кроме хозяев, приютились еще три семьи погорельцев с этой деревни. Все бабы да детишки малые. Мужики в армии и в партизанах. Деревню сожгли фашисты, а какая была живность, увели с собой. Этот дом чудом уцелел, осталась и собака, которая своим лаем вывела нас к дому. Ведерников угостил и ее костью с нашего стола.
Только наевшись, я начал догадываться, откуда у Ведерникова оказалось столько мяса. Вспомнил я и убитую лошадь вдали от дороги и Ведерникова, соскочившего с брички с топором, и все стало ясно. Убитая зимой в недавних боях, в лютые морозы, лошадь сохранилась как в холодильнике. Конское мясо от отрубленной Ведерниковым задней ноги лошади, оказалось как нельзя кстати.
Наевшись, все стали наперебой благодарить нас, утверждая, что такого сытного ужина они не ели с самого начала войны. Рассветало, метель поутихла и нам можно было продолжать путь. Поблагодарив хозяйку и оставив ей на прощанье банку свиной тушенки, мы выехали со двора. После многочасового блуждания по полям у опушки леса мы натолкнулись на развалившийся стог прошлогодней соломы. Погрузив солому на брички, мы к вечеру прибыли в расположение части. Наш комбат Агафонов был доволен нашим походом и на радостях даже не стал спорить с начштаба полка, когда тот предложил нам одну бричку соломы направить в распоряжение штаба.
Вечером 27 января 1944 года меня разыскал писарь батареи и сообщил, что приехал связной из штаба, и меня срочно вызывают в штаб полка. Зачем и почему, он не знал. Коновод уже оседлал коней, и мы рысью направились к штабу. Дежурный по штабу меня уже ждал и сразу направил к замкомандира полка по политчасти, гвардии м–ру Выдайко Н.Ф. Майор Выдайко пользовался особым уважением и любовью всего личного состава полка за свой открытый характер, простоту в обращении, внимание и чуткое отношение к людям. С ним было как–то легко даже в самой тяжелой обстановке. Я доложил о своем прибытии. Майор, поздоровавшись, усадил меня рядом с собой и без лишних слов сказал, что завтра будет митинг всей нашей 5–й гвардейской кавдивизии по случаю полного освобождения Ленинграда от блокады. Я как ленинградец должен выступить на этом митинге. Оказывается, я не только жил в блокадном Ленинграде, но и единственный ленинградец во всей дивизии.
Утром 28 января 1944 года на широком поле ровным четырехугольником, в пешем строю были построены полки дивизии. Сразу после выступления замкомандира дивизии слово было представлено мне. В своем выступлении я говорил о героическом подвиге ленинградцев, которые в тяжелые дни блокады, в холод, бомбежки, артобстрелы и смертельный голод, умирали, но не сдавались. Строили оборонительные сооружения, сбрасывали зажигалки с крыш домов, работали на заводах и фабриках.
В конце я призвал всех конногвардейцев в предстоящих боях отомстить фашистам за Ленинград, за всех погибших в блокаду. Слава доблестным советским войскам, полностью освободившим от блокады колыбель Великой Октябрьской революции Ленинград от фашистской нечисти! Да здравствует наша Родина! Наша коммунистическая партия! УРА!
Дружное многоголосное «У–р–р–а–а!» далеко разнесл6сь в округе, и было слышно даже в окрестных селах. После меня выступали еще бойцы и командиры из других полков. Митинг закончился дружным «Ура!» в честь нашей доблестной Красной армии и нашей партии. Сводный оркестр исполнил Гимн Советского Союза. Под звуки военных маршей полки с развернутыми знаменами проследовали в свои расположения.
Вместо погибших и выбывших по ранению в последних боях прибыло новое пополнение полтавских и саратовских ребят. Корпус перебрасывали в другой район, и осваиваться с нашей походной кавалерийской жизнью новому пополнению пришлось на марше. В это же время мы получали и новых коней. Коней нам прислала братская Монголия. Кони были низкорослые и полудикие, не ели из торб и не пили из брезентовых ведер, а на марше без этого обойтись было нельзя. В полку начался падеж монголок. На одной из дневок командир полка гвардии подполковник Ткален ко решил пристыдить командиров эскадронов, сказав, что часть монголок он передаст нам, артиллеристам, они их откормят и покажут, как надо обращаться с ними. После такого решения мы получили в батарею 40 монголок. И с этих пор начались наши мучения. Мы воспитывали новое пополнение бойцов, а они воспитывали монголок, так как монголки достались им, молодым бойцам. Младшие командиры и старички наотрез отказались садиться на это чудо природы. С большими трудностями и с небольшими потерями (пять–шесть коней мы все же потеряли) нам все же удалось приручить монголок, приучить их есть овес из торб, пить из брезентовых ведер и соблюдать порядок в строю. Несмотря на свой малый рост, монголки выносливые и неприхотливые в походе и бою. Переброска кавалерии в другие районы производилась, как правило, в ночное время. Днем мы отдыхали в лесах или балках, неподалеку от населенных пунктов. Скрытность передвижения и сосредоточения крупных кавалерийских соединений необходимы были для того, чтобы противник не смог распознать направление главного удара наших войск и, соответственно, не смог заранее подготовиться для отражения этого удара, то есть стянуть необходимое количество войск и укрепить свою оборону на данном участке фронта. Задача кавалерии не стоять в обороне и не прорывать ее, а после прорыва ее пехотой на достаточную глубину (12–15 км) войти в прорыв И развивать успех наступления фронта на оперативном просторе, в тылу врага. Ночные марши особенно тяжело пере носило новое пополнение.
Новому бойцу необходимо было не только переносить все тяготы ночного перехода, но во время дневки накормить и напоить коня, привести в порядок свое личное оружие (карабин) и противотанковое орудие. Ездовым орудий и боевых бричек забот было еще больше, на каждого из них приходилось по две (у ездовых орудий) и по три (у ездовых бричек) лошади. Ну а тем, кому еще надо было заступать в наряд, приходилось еще тяжелее. Солдаты были измотаны до предела. Один из моих новых бойцов так намучался у нас, что самовольно покинул часть. Это было ЧП, дезертирство! Но боец пошел не в тыл, а на фронт и примкнул К пехотинцам. СМЕРШ его отловил только после Белорусской операции. Его привели к нам под арестом, был трибунал. Боец не сказал ни слова в свое оправдание, только отдал судьям свое представление к награде за успешные действия в бою. Его все равно отправили в штрафную роту, но боец даже обрадовался: «А, я там всех знаю».
На одной из дневок пришел приказ: сдать все трофейное оружие, автоматы оставить только у командиров орудий. Вообще в боевой обстановке на наличие нештатного стрелкового оружия у расчетов смотрели сквозь пальцы. Один из командиров орудия из нашей батареи всегда возил с собой даже ручной пулемет. На мои вопросы зачем он ему, следовал ответ: «Пусть будет, вдруг пригодится»,
Вместо сданного оружия мы получили для ездовых и для расчетов старые длинноствольные винтовки, которые никак не подходили ни тем ни другим. Но приказы не обсуждают, и мы принялись приводить В порядок эти чудо–винтовки. Винтовки были старые, в плохом состоянии, Один из молодых бойцов, прочищая ствол, так загнал шомпол, что его никто и никак не мог вытащить из ствола. Боец чуть ни плакал от обиды. Пришлось прийти ему на помощь. Приказав вынуть пулю из гильзы патрона, я заложил ее в патронник винтовки, закрыл затвор и, отойдя подальше от людей, выстрелил шомполом в небо. Шомпол улетел, и из винтовки уже можно было стрелять. Это было нарушение всех правил, но другого выхода у нас в то время не было.
Место, где мы расположились на отдых, было между лесом и проселочной дорогой. Во время пристрелки к нам подъехал незнакомый подполковник (как позже выяснилось, начальник особого отдела дивизии) И устроил нам разнос. Выяснилось, что, когда он ехал по дороге, возле него свистели пули от нашей стрельбы. Мы переглянулись. Я указал подполковнику направление нашей стрельбы. Он не поверил и, погрозив нам кулаком, уехал. Осматривая канал очередной винтовки, я обнаружил, что ствол у нее кривой … Вот почему пули из этой винтовки летели на дорогу. Помкомвзвода не огорчился и сказал, что он знает, кому надо вручить это «ружье». В новом пополнении есть солдат, который не прочь стрелять из–за угла, как в том анекдоте: «Воевать, так воевать, пишите в обоз на последнюю бричку и дайте мне кривое ружье, чтобы я мог бить фашистов из–за угла!»
И пошли солдатские анекдоты … Командир орудия не моргнув глазом рассказал, как он сам наблюдал во время атаки следующую картину у соседей в пехоте. Командир роты поднимал бойцов в атаку словами: «Вперед, орлы!» Все поднялись, а два солдата сидят в окопе. Политрук спрашивает у них: «Почему сидите, вся рота наступает?» Отвечают: «Команда была орлам, а мы львы!»
Мне было не до шуток, слава Богу, что с подполковником все обошлось, с Особым отделом шутки плохи, доказывай потом, что мы в него не стреляли … Вообще с особистами я дел имел мало. Один раз он меня вызвал и сообщил, что мои бумаги с предыдущего места службы, из армейского минометного полка, еще не пришли. У меня екнуло сердце. Несколько позже особист вызвал меня снова и сообщил, что все в порядке. Особист также требовал от меня информации о бойцах, кто как себя ведет в бою, не позволяет ли себе лишних высказываний? Особенно он требовал следить за бойцами из нового пополнения, то есть из Полтавской области — они успели побывать под немецкой оккупацией. Я просто сказал особисту, что дерутся все хорошо, а если ему надо посмотреть, кто чего стоит, то ему надо самому поучаствовать в бою. На этом наши контакты с ним прекратились.
Наша дивизия была кадровая и сохранила костяк довоенного офицерского состава. Это были первоклассные наездники. Ткаленко, командир полка, при любой возможности устраивал занятия по верховой езде, лично наблюдал за ними. Все офицеры полка участвовали в этих выездах. Для меня поначалу это было сущим мучением, ведь я в первый раз сел на коня по прибытии в дивизию.
— Учебной рысью! Ноги из стремян убрать! Мааарш! — командовал Ткаленко. И начиналось сущее мучение, задняя часть отбивалась страшно. Говорят, что у кавалеристов не бывает камней в почках — все вытряхивается при езде на коне.
— Ох уж эти мне артиллеристы! — ворчал Ткаленко, имея в виду в первую очередь меня. Однако со временем я научился сносно ездить на коне, и меня уже было не отличить от кадрового кавалериста.
Несмотря на то что я служил в кавалерийском полку, я продолжал носить артиллерийские погоны с красной выпушкой, только поменял артиллерийские эмблемы на кавалерийские. Каждый раз при встрече командир полка говорил мне: «А, здравствуй, пехота!» Каждый раз я отвечал, что я не пехота, а артиллерист. На что Ткаленко всегда говорил: «Все равно пехота!» Только позже я понял, что таким образом Ткаленко прививал мне уважение и любовь к кавалерии, этому элитному в Красной армии роду войск.
И опять начались ночные марши. На одном из маршей не обошлось без происшествия. Завершая утомительный переход, мы в полной темноте вошли в большое село. Было холодно, сильный ветер бросал колючие крупинки снега прямо в лицо. Естественно, что у каждого было желание хотя бы на пять минут зайти в избу и обогреться. А вот этого, в таком состоянии бойцов на марше, делать было нельзя. Комбат по колонне передал команду: «Никому в дома не заходить!»
Я предупредил командиров орудий и наказал им особенно следить за новым пополнением. В середине села колонна, как назло, остановилась минут на десять, и младшим командирам пришлось, как пастухам, все время следить за бойцами, что в полной темноте оказалось нелегким делом. И, как всегда, после остановки колонна перешла на крупную, продолжительную рысь. Когда полк перешел на шаг, командиры стали проверять нахождение в строю личного состава.
У меня во взводе не оказалось бойца Балацкого из нового пополнения! На поиски Балацкого я направил его командира орудия, гвардии сержанта Петренко. Спустя полчаса он явился без Балацкого. Потеря бойца, особенно в небоевой обстановке, — это же ЧП! Поэтому я, предупредив комбата, сам отправился на поиски Балацкого. В темноте проезжая в обратном направлении, вдоль колонны полка и дивизии, я время от времени громко кричал: «Балацкий! Балацкий! Балацкий!» — но ответа не было.
Прошла уже наша дивизия, за ней, с некоторым интервалом, пошли полки 6–й гвардейской кавдивизии, а Балацкого все не было. И только не доезжая несколько километров до злополучного села, я на свой зов получил слабый отклик: «Ось я! Ось я!» У меня как камень свалился с души. Я направил коня на отклик. Сквозь темноту я разглядел, как по обочине дороги навстречу мне двигалась маленькая фигурка солдата. Это был Балацкий, солдат полтавского набора, прибывший с новым пополнением. Коня при нем не было. Наскоро выяснив причину случившегося, я от радости, что солдат нашелся, и от возмущения из–за его поступка, приказав ему держаться за мое стремя, за короткое время догнал свою батарею. А все произошло так, как предвидел наш комбат Агафонов.
При нашей остановке в селе Балацкий, изрядно продрогший, подошел к ближайшему дому, привязал коня (монголку) к изгороди, зашел в дом обогреться и сразу же уснул на стуле. Проснувшись, выбежал из дома, коня у изгороди уже не было. Конь или сам отвязался и пошел за колонной, или был уведен конниками других полков дивизии. Поиски коня в полной темноте не принесли успеха, и Балацкий, испугавшись, что его могут принять за дезертира, стал пешком догонять полк. В кавалерии сбережению коня и уходу за ним уделяли исключительное внимание. В своей брошюре «Конница в Отечественной войне» легендарный полководец Ока Иванович Городовиков писал: «Для того чтобы кавалерийские части имели высокие боевые качества, надо воспитать во всем личном составе большое чувство ответственности за сохранность коня. Конь является боевым оружием кавалериста, и утеря коня должна рассматриваться как утеря боевого оружия».
Знал ли все это Балацкий — не знаю. Вид у него был жалкий и растерянный. Вину свою он сознавал и, чтобы не отстать от части, бегом с передышками, изо всех сил догонял свою батарею. В этот момент он готов был понести любое наказание, лишь бы ему простили его проступок. Он чуть не плакал. Мне и жалко было его, он был мой ровесник, но вел себя как малый ребенок, несмотря на свои девятнадцать лет.
Но жалость плохой советчик в армии, особенно в канун новых сражений. Впереди нас ждали бои, и Балацкий как орудийный номер мог обходиться и без коня, передвигаясь на лафете (на станинах) орудия. Строго наказав Балацкого, я приказал ему добыть коня и седло в первом же бою. Забегая вперед, скажу, что в бою Балацкий не оплошал и добыл себе коня и седло.
Спустя несколько дней мы расквартировались в довольно большом селе с невеселым названием Голодуша. Начались дни усиленной боевой подготовки личного состава. Я и командиры орудий отрабатывали с расчетами огневую подготовку, изучали материальную часть орудий, занимались политической и строевой подготовкой, изучали личное оружие, так как молодые бойцы обо всем этом имели слабые знания. Как–то спросил у молодого бойца:
— Из каких частей состоит карабин?
И получил ответ:
— Из трех частей: железяки, деревяки и ременяки! Выяснилось, что, кроме этой шутки, он ничего не знал. В один из весенних дней я получил приказ готовить одно орудие на смотр боевой техники корпуса. Нам, всем участникам смотра, был отведен полигон для боевой стрельбы, у каждого был свой сектор обстрела и свои цели.
Целями нашего орудия были три макета пулеметов на расстоянии 1,5 км (более расстояния прямого выстрела 45–мм орудия). Рядом со мной расположилось 76,2–мм орудие полковой артиллерии, у которого также были свои цели (пулемет и дзот). На подготовку нам был отведен один день. Этого было вполне достаточно, чтобы изготовить и установить макеты целей, отрыть и оборудовать огневую позицию. Промерив шагами расстояние до целей, я с большой точностью определил прицелы. Командир орудия гвардии сержант Паланевич подготовил и наклеил на щит орудия схему ориентиров. Утром все было готово. Вся боевая техника корпуса, от ручного пулемета до танка Т–З4 вытянулась по фронту полигона в одну линию. Появилось командование корпуса, генералы и старшие офицеры. Они двигались большой группой от одного вида оружия к другому. Отстрелялось стрелковое оружие.
Командование приближалось к нам. В группе генералов я заметил и нашего командира полка и командира нашей дивизии. Коротко и четко представив свое орудие с его характеристикой, я попросил разрешение на ведение огня. Получив разрешение, подаю команду, сначала целеуказание, затем:
— Ориентир № 1, правее о–за, прицел … и так далее.
— По пулемету, гранатой, взрыватель осколочный, один снаряд, огонь!
Расчет повторяет мою команду. Четкий щелчок затвора поглотившего снаряд, выстрел и … Разлетевшийся в щепы макет пулемета! На все три цели мне понадобилось всего четыре снаряда. Даже без бинокля было хорошо видно, как от разрывов разлетались мои деревянные цели. Генералам наша стрельба понравилась, и они приказали мне продолжить огонь по другим макетам. Я доложил, что эти макеты не мои, но генерал приказал поразить один макет полкового орудия. Что я и сделал, одним снарядом уничтожив и эту «цель».
С большим подъемом и чувством отлично выполненного долга возвращались мы к месту нашего расположения. На душе было легко и радостно.
Один из старослужащих запел старинную артиллерийскую песню:
— Ориентир в зеленом поле …
— Застыл связист у телефона, еще минута и приказ! — мелодично выводил запевала.
Расчет дружно подхватывал припев:
— Готовь снаряд! Готовь снаряд!
— Гранаты и шрапнели!
— Команды жди! Команды жди!
— Не тратя лишних слов
— По цели бьем! По цели бьем!
— Не тратя зря снарядов
— По цели бьем! Все цели разобьем!
Так с молодецкой песней вошли мы в наше село, где нас ждал сытный, на редкость вкусный обед. Повар был в ударе и постарался на славу. Я перед строем взвода поблагодарил гвардии сержанта Паланевича и его расчет за отличную стрельбу. Этот день для нас был как большой праздник. Мы доказали себе и командованию, что готовы к предстоящим боям. Приятно было сознавать, что время на боевую подготовку взвода потрачено не зря. Через несколько дней проводились учения полка «Наступление полка с боевой стрельбой». Учения проводились в обстановке, приближенной к боевой. Боевые патроны и снаряды, применяемые на учениях, необходимы были нам чтобы «обстрелять» не только солдат нового пополнения, но и новых коней. Необстрелянные кони особенно опасны в упряжках. При близких разрывах снарядов в боевой обстановке они шарахаются в сторону и путают постромки. Один необстрелянный конь может в самый ответственный момент сорвать своевременную доставку орудия на огневую позицию. При ведении огня минометной батареи у одной мины в полете отвалился стабилизатор, и мина упала в цепь наступающего эскадрона. От разрыва мины пять человек были выведены из строя. Но, несмотря на потери, результаты учений, приближенных к боевым, оправдали себя. В предстоящих боях полученные навыки сохранили жизни десяткам и сотням бойцов, которые приобрели первый опыт поведения в бою. Всегда с болью приходится вспоминать первые бои, где, как правило, погибали в основном молодые, неопытные бойцы.
После боевой стрельбы орудийные расчеты усердно банили и пыжевали стволы орудий, чистили личное оружие, готовились к предстоящим боям. Особенно надо отметить прекрасные характеристики советских противотанковых пушек. 45–мм противотанковая пушка отличалась хорошей маневренностью, была легкой и подвижной даже на сильнопересеченной местности. Малые габариты (у некоторых пушек были даже откидные щитки) обеспечивали хорошую и быструю маскировку на огневых позициях. Пушка обладала способностью пробивать любую броню танков противника 1941–1942 года выпуска. При дальности прямого выстрела (900–1100 метров) она пробивала броню до 160 мм.
С появлением у немцев средних и тяжелых танков с усиленной броней на фронт поступили 57–мм пушки, которые успешно справлялись со всеми типами немецких танков. К концу войны на вооружение поступили и сверхмощные 100–мм противотанковые пушки, насквозь прошивающие «тигров». В подразделениях полка проходили очередные отчетно–выборные комсомольские собрания. На комсомольском собрании батареи я был избран комсоргом батареи, или, как в шутку называли в войсках, — «комсомольским богом», комсомольским вожаком. Кроме обязанности командира взвода, у меня появилась еще и общественная обязанность — комсорга батареи.
Гвардии сержант Силютин, санинструктор нашей батареи ПТО, был самым старшим по возрасту из всех нас. Небольшого роста, скромный и тихий, он не выделялся из общей массы батарейцев. Исправно справлялся со своими обязанностями как в бою, на марше, так и между боями. Лечил бойцов по своим способностям и возможностям. Перевязывал раны, лечил пилюльками, мазями, шутками и прибаутками.
Проверял бойцов на вшивость, организовывал бани, дезинфицировал обмундирование. Героических подвигов не совершал, но службу свою нес исправно и пользовался, как говорится, заслуженным авторитетом среди батарейцев. Почти за каждую боевую операцию нашего корпуса награждался медалью ЗБЗ («За боевые заслуги»). А так как операций было много, то и медалей этих у него была полная грудь. К ним нужно добавить еще медаль «За оборону Сталинграда». Он их берег. Начищал и надевал по праздникам. Однажды я был свидетелем его разговора с молодым бойцом из нового пополнения. Боец жаловался на головную боль. Силютин взял его руку, пощупал пульс и изрек:
— Пульс 65. Здоров, как молодой олень! Пошто в шинели?
— Голова болит и знобит.
— А шинель–то новая, пехотинская. Где выдали? В запасном полку? Как же ты в этой шинели на коня сядешь? Сделай разрез по самый пояс и будь кавалеристом. Как орел, а не как курица на яйцах. Ну, так что у тебя?
— Я же сказал. Голова болит и знобит.
— Голова болит, заднице легче! Задница не болит? Холку коню не стер?
— Нет, и задница не болит, и холку коню не стер. Голова болит.
— Ну, вот и молодец. Видно, хорошо учился. А задница — это главное у конника, так же, как у пехоты ноги. А головная боль бойцу не помеха. Я дам тебе пилюльку, боль как рукой снимет. А вот если задница заболит у конника, дело дрянь. Тогда прощай, кавалерия! Читал книжку «Всадник без головы»? Так там все его боялись и без головы. А ты говоришь, голова болит. Получай еще одну таблетку и иди к своему командиру орудия и доложи, что ты здоров. До свидания! Кругом! Марш!
Заметив меня, Силютин вздохнул и сказал:
— Трудно при выкать сынкам к нашей службе. Еще молодые. А что поделаешь. Война. Через два, три боя забудут свои болячки.
И добавил:
— Если будут живы. С танками шутки плохи! Хозяйка дома, где мы стояли, заговорила о том, что мы скоро уедем. Незаметно пробежали майские и июньские деньки 1944 года в районе Пушкинских Гор на реке Великой (2–й Прибалтийский фронт). Все предвещало скорую переброску нас поближе к линии фронта. Не знали мы еще тогда, что наш корпус снова перебросят в Белоруссию, под Витебск … Как и откуда бабы первыми узнавали секретные сведения о передислокации полка, было для меня загадкой, так как этими сведениями заранее не располагал даже штаб полка. И действительно, через два дня полк поднят сигналом «Седловка!». Через час полк выступил в походной колонне. Двигались всю ночь, а утром нас погрузили в железнодорожный эшелон и повезли на юг. В поезде было хорошо и уютно. Отдыхали и люди, и кони. Хорошо было путешествовать под стук колес, когда весь твой взвод на месте, в соседних вагонах и кони, и пушки, и брички с ящиками снарядов. На коротких остановках, на полустанках или прямо в поле бойцы с удовольствием разминали ноги, выскакивая из вагонов за фуражом, сеном, скошенной травой, водой или продуктами для питания. Единственное беспокойство за то, чтобы никто не отстал от эшелона.
Под вечер эшелон остановился в открытом поле, и поступила команда: «Выгружаться!»
Мы опять на марше. Временно сосредоточились в лесу. Могучие деревья, кроны которых уходят высоко вверх, внизу только гладкие, как колонны, стволы деревьев. Лучи солнца почти не пробивались сквозь кроны деревьев, на земле не росла трава, и было просторно, как в колонном зале сказочного дворца. Лучшего места для маскировки большого скопления войск с воздуха трудно было бы отыскать … Здесь, кроме нас, были сосредоточены и разные пехотные части, и фронтовые тылы.
На импровизированной сцене (на открытом кузове автомашины) по соседству с нами выступали артисты. Здесь я впервые услышал вальс «В лесу прифронтовом», и, поскольку обстановка соответствовала этому вальсу, впечатление от его исполнения было огромное. Затем мы опять двигались вдоль фронта, теперь уже на северо–запад. И вот мы в новом районе сосредоточения. Это березовое мелколесье со множеством веселых полянок. Погода по–летнему солнечная. Но нам никуда не разрешается выезжать и выходить. Требуется тщательная маскировка. При выезде из расположения части по срочным делам службы личному составу меняли погоны на общевойсковые и снимали шпоры, а с транспортных средств убирали опознавательные знаки частей (в то время лошадиная голова с номером дивизии).
Продовольственное снабжение из–за ограниченного передвижения тыла корпуса заметно снизилось, особенно нам не хватало табака. На очередном сборе командиров в штабе полка только единицы курили те крохи табака, которые они наскребли в своих кисетах и карманах, вывернув их наизнанку. К моему удивлению, у моего лучшего друга гвардии лейтенанта Кучмара оказался целый кисет, туго набитый табаком. Улыбаясь, он неспешно набивал свою неразлучную трубку. На правах лучшего друга я сразу же подготовил бумажку на полстраницы тетрадного листа и запустил руку в его кисет.
Скрутив самокрутку с собачью ногу и прикурив из его трубки, я чуть было не задохнулся при первой же затяжке от горького, удушливого дыма, из глаз брызнули слезы … А Кучмар улыбался, спокойно попыхивая своей любимой трубкой, глядя на меня и на других любителей чужого табачка, так называемых «стрелков». Отдышавшись и растоптав злосчастную «собачью ногу», я получил ответ на свой вопрос о происхождении этого мерзкого табачка. Оказывается, Кучмар, до войны работавший на одном из уральских заводов, ни дня не мог обходиться без своей любимой трубки, и, чтобы как–то восполнить отсутствие табака, он сам изготовлял его из сухих березовых листьев и сухих опилок. По цвету и форме он напоминал что–то среднее между махоркой и легким табаком низкого сорта. Как он его курил, не могу себе представить, при воспоминании у меня и теперь появляется горечь во рту и першит в горле …
ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССИИ
И вот мы опять на марше, но теперь уже к передовой, к месту последнего сосредоточения перед входом в прорыв.
Наш 24–й гвардейский кавалерийский полк походной колонной шел в арьергарде 5–й гвардейской кавдивизии. До места сосредоточения было уже недалеко. Колонна полка двигалась днем, что было редким явлением при передислокации войск в военное время. Светило яркое летнее солнце, с полей веяло прохладой. Слева по дороге с шумом проносились танки, самоходные орудия и прочая военная техника 3–го механизированного корпуса. В ожидании близкого наступления настроение у всех было приподнятое.
Колонна замедлила шаг и остановилась. Перекатами прозвучала вдоль колонны многократно повторяемая команда: «Слезай!» Конники проворно спешились, взяв коней под уздцы. Приятно было после длительного нахождения в седле размять затекшие ноги на твердой земле. Сойдя с коней, мы не сразу рассмотрели странный силуэт на земле.
На раскатанной и отполированной сотнями тысяч колес, плотной, как бетон, сухой и глинистой дороге чуть заметно вырисовывался силуэт солдата с раскинутыми ногами. Он лежал головой на запад, в сторону наступления наших войск. Солдат, а точнее, его останки, были настолько сильно впрессованы в дорогу, что составляли с ней единое целое. Останки солдата были заподлицо с дорогой, и только более темным обмундированием выделялись на твердой и гладкой поверхности. Судя по ботинкам и обмоткам, это был наш боец из пехоты. Как он встретил свой последний час — был ли ранен, убит, — сказать было уже невозможно. Этот отпечаток на дороге послужил нам еще одним напоминанием, что надо беспощадно мстить фашистским разбойникам за все беды нашей многострадальной Родины и за всех погибших советских людей.
Командир роты, где числился погибший солдат, наверное, доложил о нем, как о без вести пропавшем, и занялся приемом нового пополнения. Небыстро знакомился в наступлении комроты с людьми, не было на это времени, надо наступать, не давать немцам передышки. Уцелевшие после боя друзья помянули его в числе погибших, подняли чарку за упокой.
«Садись!»
Полк перешел на рысь, продолжая свое движение вперед, к встрече с врагом. Впереди была Белоруссия. Мы были на пороге одной из замечательных стратегических операций Великой Отечественной войны.
Перед самой Белорусской операцией у меня во взводе случился интересный эпизод. Полк форсированным маршем двигался к исходным позициям для входа в прорыв. Последняя дневка, расседланные кони паслись на лугу. И тут случилось непредвиденное. С пастбища, к расположению батареи, ездовые вели отдохнувших и сытых коней, когда командир орудия Петренко, указывая на приближающихся лошадей, ехидно заметил:
— Смотрите, лейтенант, а у Паланевича (командира другого орудия) пополнение. Его коренные идут не парой, а втроем!
— Что такое?
— Ездовой коренных (орудийной упряжки) ведет свою пару коней и … жеребенка!
— Откуда жеребенок? — спрашиваю у Паланевича.
— Не знаю.
А Петренко сострил:
— Не знает, откуда берутся жеребята? Да это твоя коренная кобыла в подоле принесла. Вон смотри, стригуночек ей под брюхо лезет, проголодался, сердешный, после рождения!
ЧП, да и только! И это в то время, когда через день–два в рейд и в бой!
— Ездовой, ко мне!
Повесив голову, подошел ездовой орудийной упряжки, исправный солдат из старослужащих. Спрашиваю:
— Откуда жеребенок? Опять Петренко встрял:
— И этот не знает, кобыла в капусте нашла, хе–хе!
— Сержант Петренко, иди к своему орудию, без тебя разберемся!
Надо сказать, что мои командиры орудий дружили между собой и выручали друг друга как на марше, так и в бою. Но любили подначивать друг друга. Я опять обращаюсь к ездовому:
— Как это получилось?
— Виноват, товарищ гвардии лейтенант, недоглядел. Может, это тогда, когда наши кони паслись со штабными. У капитана, начальника штаба полка, жеребец чистокровный, я его тоды прогонял, а он, видно, подлец, улучил момент. Виноват, оплошал, не усмотрел … И добавил:
— А Стригунок такой славный, жалко его в расход.
— Ну вот, теперь начальник штаба виноват. А кобылу не жалко? Кто будет пушку таскать? Что делать будем? У нас не цыганский табор. Положено пристрелить его и повару на мясо!
Сказал, а жеребенок, как будто понял наш разговор, подошел ко мне и ткнул свою мордочку мне в руку, а потом и ездовому. В душе мне стало жалко Стригунка, уж больно он ласковый.
— Паланевич, разберись, твои кони, и тебе с ними и в рейд, и в бой.
А через час пришла ко мне целая делегация просить за Стригунка:
— Мы все его будем оберегать! И от начальства схороним. А стрелять его у нас рука не поднимется!
Решили обождать с расправой. Тем более что в рейде и в бою старшее командование нас редко посещает. Мы придавались эскадронам. Комэскам мои орудия только придавались, а подчинялись мне. Комбату пришлось доложить, на что он сказал:
— Смотри сам, ты отвечаешь за свой взвод. Тебе и решать, но лучше, пока не поздно, избавиться от жеребенка.
Ночью был марш. Вошли в прорыв, а утром в районе Богушевска, опережая пехоту генерала Крылова, вышли на оперативный простор. Все время двигались рысью, и с нами рядом бежал Стригунок. Видно, крепким родился, весь в мать. А она прошла с батареей рейды и под Москвой, и под Сталинградом. Перешли на шаг. Короткая остановка. В головном отряде полка второй эскадрон Олейникова, а у нас передышка. Советуюсь с Паланевичем:
— Может, нам переправить Стригунка во второй эшелон к помкомвзвода?
— Правильно! — опять встрял Петренко, — Там и штаб рядом и жеребец, отец Стригунка. Пусть ухаживают за ним на отцовских правах.
— Пошел бы ты, Петренко, со своими советами! В деревне, где мы остановились, у плетня крайней
хаты стоял дед, белая голова, седая борода, и махал нам рукой. Обращаясь к коноводу, я приказал позвать ко мне этого деда.
— Слушай, дед, у тебя молоко есть?
— у меня нет, все полицаи забрали, даже курей. А вот у моей соседки, жены моего сына, есть. Она в подпол схоронила свою козочку, когда уходили лихоимцы. Я зараз принесу козьего молочка. Нешто я не понимаю! У меня сынок в Красной армии.
— Ты не так меня понял, отец. Хочу тебе подарить от Красной армии жеребеночка молочного.
Обрадовался дед:
— Вот спасибочки! Вот радость–то какая нам со старухой! — И слезу вышибло у старика. — Будем беречь его как своего сына!
— Ну, все. Нам пора. Видишь, полк тронулся. Береги, отец, Стригунка, он гвардейский!
И полк опять перешел на рысь. А дед с бабкой от радости стали обнимать жеребенка и ударились в слезы. Хотели меня угостить, но я поблагодарил и отказался. Замечательно все получилось! Коренная, несмотря на трудные переходы и бои, дней пять беспокоилась, ржала жалобно, звала жеребенка. Потом все же успокоилась. Ездовой доил кобылку, и долго еще угощал бойцов кумысом.
И вот последняя ночь перед входом в прорыв. Ожидание на исходных позициях всегда было тягостным для каждого бойца. И командиры, и бойцы рвались в бой. Каждый знал, что после окончания операции в полку останется не больше трети личного состава, двое из троих будут убиты или ранены. Но об этом мы тогда не думали. Вперед и только вперед, на простор за линией фронта! Вероятно, ничто не может сравниться с тем азартом и высоким душевным подъемом, который испытывают бойцы, стремительно идущие вперед и освобождающие свои родные города и села. Общая радость охватывала всех конногвардейцев.
Никто не спал. Все прислушивались к недалекой канонаде. В полк пришел заместитель полка по политчасти гвардии майор Выдайко Николай Федорович. Он сообщил, что решением командующего фронтом мы входим в состав вновь создаваемой конномеханизированной группы. На нас возлагалась одна из наиболее ответственных задач Белорусской операции: мы должны были войти в прорыв в полосе наступления 5–й армии и не позднее чем на шестой день наступления овладеть переправами на Березине.
Замполита в полку любили за его храбрость в бою и за отцовское отношение к солдатам. И в эту летнюю ночь все офицеры полка собрались вокруг него и внимательно слушали о тех задачах, которые нам предстояло выполнить.
Утром 23 июня 1944 года после мощной артподготовки началось наше наступление. После прорыва фронта частями 5–й армии генерала Крылова в прорыв в районе Сенно вошла наша конно–механизированная группа генерала Осликовского. За нами в прорыв вошла армия Ротмистрова.
Наш полк завязал упорные бои на фланге армии Крылова в районе Богушевска. В головном отряде полка шел 2–й эскадрон гвардии старшего лейтенанта ОлеЙникова. Он первым принял бой в этой операции. Внезапно нарвавшись на немецкий заслон, Олейников принял решение: двумя сабельными взводами связать немцев и отвлечь их внимание, а в это время двумя другими взводами обойти немцев и атаковать их с тыла в конном строю. План удался с блеском. Конники лихо, с шашками наголо бросились на окопы немцев с тыла. Немцев охватила паника, они повыскакивали из окопов и были перебиты бойцами Олейника. После этого путь на Богушевск был открыт. На исполнение этого дерзкого плана Олейникову потребовалось не более часа.
Мы продолжили наступление на Борисов. Одно за другим освобождали мы деревни и города нашей многострадальной Белоруссии. Мы прошли Яново, Зеленко, Догановка, Коковчино, Прихобь, Селец.
При освобождении села Смоляны особо отличился расчет нашей батареи гвардии сержанта Малахова. Когда мы подошли к Смолянам, село уже горело, подожженное немцами. На окраине деревни немцы оставили заслон из двадцати человек с ручным пулеметом. Этот небольшой немецкий заслон не давал подняться нашим бойцам. Малахов выдвинул свое орудие на прямую наводку. Немцы открыли по нему убийственный артиллерийский огонь. Малахов, не обращая на огонь немцев ни малейшего внимания, уничтожил своим огнем немецкий пулемет и автомашину, на которой немцы пытались подвезти боеприпасы к своим пушкам. Малахов был награжден орденом Красной Звезды за этот бой. К 7 утра 26 июня мы полностью овладели Смолянами. В Смолянах мы обнаружили, что перед отступлением немцы расправились с беззащитным местным населением.
По слухам, где–то перед нами отступала власовская кавбригада. Эти сведения меня немало тревожили. На учениях до Белорусской операции я видел на полигоне стремительную сабельную атаку двух эскадронов. Это было потрясающее зрелище. Я понял, что, если мы, противотанкисты, столкнемся с власовской кавалерией, от нас останутся лишь рожки да ножки. Мы успеем сделать только два выстрела, прежде чем конная лава доскачет до нас и всех зарубит. Я старался максимально подготовиться к этой возможной встрече и всеми правдами и неправдами пытался достать картечь для 45–мм пушки. Но У нас на складах ее не было. И только в Белоруссии мне удалось найти два ящика картечи у брошенной немцами трофейной советской сорокапятки.
На следующий вечер мы покинули Смоляны, И К утру 27 июня после тяжелых боев освободили Обольцы, Неклюдово, Волосово, Обчуга.
у небольшого села настала очередь моего взвода вступить в бой с немцами. Два эскадрона полка прямо с марша налетели на немецкий заслон, спешились, завязали бой и началй теснить немцев на открытое поле за селом. Поддерживая конников огнем и колесами, орудие гвардии сержанта Паланевича заняло огневую позицию на краю села и беглым огнем осколочными снарядами начало сечь отступающих немцев.
Слева от нас немцы еще держались и открыли огонь по нашему орудию из автоматов. Пули противно защелкали по щиту и станинам орудия, но никого не задели. Это был первый бой для молодого расчета из полтавского пополнения, и все бойцы вели себя в первом бою по–разному. Командир орудия, наводчик и заряжающий спокойно посылали снаряд за снарядом по отступающей немецкой пехоте. Ящичный Чихин И.Г. вдруг ни с того ни с сего решил, что настало время окапываться. Без приказа он в считаные минуты отрыл себе такой окоп, что скрылся в нем с головой и сидел в окопе как заяц, пока я не приказал такому же молодому бойцу Черкащенко Ивану вытащить его из окопа для работы у орудия. На учениях Чихин никогда не проявлял такой прыти. Особенно не любил он рыть окопы — то грунт как камень, то лопата поганая, то живот болит, то еще какая напасть. А тут в бою побил все рекорды по рытью окопа для одиночного бойца даже без моей команды.
Черкащенко и Балацкий, тоже молодые бойцы, вели себя образцово, действовали как ветераны. Да, это был тот самый рядовой Балацкий, из–за которого у меня было столько неприятностей во время ночного марша, когда он отстал от колонны и потерял своего коня.
Черкащенко, как только орудие было приведено в положение «к бою» под пулями, бегом направился к боевым бричкам и, обливаясь потом, принес ящик со снарядами .
Балацкий в расчете был коноводом, и его задача в бою с другими коноводами и ездовыми была отвести коней в укрытие и оставаться там до команды «Коней К орудию!». Балацкий же не потерял головы, привязал коней в укрытии и открыл огонь по немецким автоматчикам, что были левее нас. Я никак не ожидал от него, такого робкого и запуганного, до сих пор переживающего свою вину бойца столь решительных действий в бою. Молодец, Балацкий!
Справа от нас, осторожно, на небольшой скорости из леса выползла головная тридцатьчетверка сопровождавшей нас танковой колонны. Выползла и остановилась. Из люка башни по пояс высунулся командир танка и стал осматривать поле боя. Я ему кричу:
— Жми вперед, немцы бегут!
На мою реплику он никак не отреагировал, захлопнул люк и даже не удосужился открыть огонь по немцам. Стал дожидаться своих. И только когда подошла вся колонна, танки двинулись вперед, стреляя на ходу из пушек. Это окончательно деморализовало немцев, они дрогнули и побежали.
И тут же одновременно с танками из–за леса крупной рысью вырвалась на поле лава третьего и четвертого эскадронов полка. Я скомандовал отбой. Прицепили орудие к передку, коноводы подали коней, и мы рысью стали догонять наступающие эскадроны.
Слева по дороге, поднимая тучи пыли, заглушая все остальные звуки боя, шли наши танки. Из–за грохота моторов, гусениц, стрельбы подавать команду голосом было невозможно, и для управления артиллерийской упряжкой я выхватил шашку из ножен и обнаженной шашкой показывал направление движения командиру и ездовым орудия.
А справа от дороги, рассыпавшись по полю, без оглядки бежали немцы, за ними с шашками наголо мчалась наши эскадроны. Мне впервые довелось увидеть конную атаку в боевой обстановке, не на учениях — это было впечатляющее и незабываемое зрелище. Конники рубили бегущих немцев направо и налево. Одни делали это профессионально, одним мощным ударом разрубая надвое голову фашистского гада. у других, молодых и неопытных конников, посаженных на низкорослых «монголок», это получалось хуже и не так красиво, но все равно убедительно — от их ударов все меньше и меньше оставалось на поле бегущих немцев.
Конная атака удачно поддерживалась огнем наших танков и полевых орудий. Во время этой бешеной скачки какой–то ошалелый фриц метнулся прямо под ноги моему коню, пытаясь перебежать дорогу. От неожиданности конь отпрянул в сторону, а я с размаху рубанул немца шашкой. После боя ездовой переднего уноса артиллерийской упряжки сказал мне:
— Хорошо ты его рубанул. Упал он в канаву и больше оттуда не появлялся.
Здесь я хотел бы сказать особое слово благодарности нашим боевым коням. Они, как и бойцы, тонко понимали, что от них требуется и в походе, и в бою, в часы при вала. Им не нужны были дополнительные команды и унизительные удары плети или кнута. Они и без команды по самой обстановке чувствовали, когда надо скакать бешеным аллюром навстречу врагу, не обращая внимания на разрывы снарядов, пулеметные и автоматные очереди. Каждый конник с уважением относился к своему обстрелянному четвероногому другу, который так помогал и в бою, и в долгих изнурительных переходах. И как можно сравнить боевого коня с пусть даже самым чистокровным скакуном, не знавшим боя! Обстрелянные боевые кони, уже познавшие запах пороха и крови, никогда не шарахались В сторону от каждого выстрела или разрыва, а четко выполняли свою нелегкую и опасную работу в любой боевой обстановке.
За все свое пребывание на фронте я видел только несколько атак в конном строю. Обычно кавалеристы, столкнувшись с сопротивлением неприятеля, спешивались и воевали, как обычная пехота. Коноводы, которых было несколько в каждом эскадроне, в это время собирали коней и уводили их в безопасное место. Атаки в конном строю устраивались, как правило, на отступающую, бегущую, деморализованную пехоту противника. И эффект этих атак был ужасающим, бегущих немцев рубили беспощадно.
Мне запомнилась теплая июньская ночь перед сменой полков. Лес. Просека. Полк после длительного марша расположился на отдых. Приятный, сырой запах травы. Лес покачивает кронами деревьев, в просветах видно звездное небо. Пофыркивают усталые кони, хрупая овес из матерчатых торб, навешанных у них на головах. Тихо переговариваются часовые.
Мой взвод уже спит, отдыхают мои кони, мои орудия, боевые брички со снарядами и пушки — все на месте. Взвод в любой момент может подняться и занять свое место в колонне полка. Впереди и сзади по просеке расположились эскадроны полка. Моя работа взводного сделана, что еще надо? Но мне все не заснуть.
На рассвете мы сменяем 17–й полк нашей дивизии, преследующий наступающих немцев.
Все, надо выспаться. Укладываюсь поудобнее, ослабляю ремень, передвигаю кобуру с пистолетом на живот и заворачиваюсь с головой в плащ–палатку. Земля снимает усталость.
Корпус рвался к Березине. Задача: овладеть переправами через реку и форсировать ее севернее Борисова. Город Борисов был ключом к белорусской столице, городу Минску. Плацдарм на западном берегу Березины открывал войскам 3–го Белорусского фронта дорогу на Молодечно и Виленка. Погода стояла сухая, дождей не было давно. Первыми к Березине вышли полки 32–й Смоленской кавдивизии. 28 июня они уже поили в ней своих коней.
Но за переправы пришлось отчаянно драться. Немцы заметались. Головной полк 6–й кавдивизии атаковал 120–й охранный полк СС с танками и САУ. Мощная колонна немцев обрушилась и на наши боевые порядки, но командир нашей 5–й гвардейской кавдивизии принял рискованное, но, очевидно, правильное решение: в заслоне оставил наш 24–й кавполк, он с остальными частями дивизии ушел вперед. Спустя двое суток мы нагнали свою дивизию, но до этого нам пришлось отражать серьезные атаки противника.
К Березине мы подошли ранним утром. Пройдя под прикрытием утреннего тумана с полкилометра вдоль берега, мы вышли к наведенной саперами переправе. Саперы гвардии лейтенанта Грибанова еще заканчивали свою работу, бойко стуча топорами, когда головной отряд полка, а за ним наш эскадрон с моим орудием поспешно начал переправу.
Ритмично стучали копыта коней и громыхали колеса боевых бричек, плавно и бесшумно катились колеса сорокапятки по наскоро сколоченному деревянному настилу. В то время мы не думали о том, сколько труда, мастерства и смекалки вкладывали саперы в такие вот переправы. Под огнем и непрерывными налетами авиации гвардии лейтенант Грибанов подавал личный при мер мужества и всегда находился со своими бойцами. Многие саперы из его взвода получили ранения на переправе, но не ушли со своего боевого поста до тех пор, пока последняя бричка полка не переправилась через Березину.
Сразу за пере правой была низина, поросшая густой травой, за которой на небольшой возвышенности зеленел лес. Наши головные дозоры уже подошли к нему, когда слева, с возвышенности, открыли огонь по переправе окопавшиеся там стрелки немецкого заслона. От их огня пал конь упряжки пулеметной тачанки, шедшей за нашими боевыми бричками. Это задержало движение колонны, и я со своим орудием и двумя боевыми бричками оказался один на переправе. В результате мы приняли на себя весь огонь заслона противника. Надо было срочно выйти из сектора обстрела.
Конец переправы резко обрывался перед низким берегом, сходни с моста были сдвинуты со своих мест ранее прошедшими эскадронами. Чтобы благополучно, без поломок, сойти с переправы на берег, нужно было показать ездовым, куда направлять орудие. Я спрыгнул с лафета орудия и стал показывать ездовым безопасный путь съезда с переправы. Орудию и сошедшей на берег бричке я приказал рысью преодолеть простреливаемый участок и укрыться на опушке леса. Отдав тот же приказ последней бричке «гони!», я надеялся подсесть на одну из идущих следом тачанок. Но их не было видно, что–то случилось на том берегу. Вероятно, переправа была разрушена одним из шальных снарядов. Немецкая батарея с закрытых огневых позиций вела постоянный беспокоящий огонь по переправе.
Надо было догонять свой взвод. Я спустился с переправы и бегом кинулся вдогонку последней бричке, удаляющейся от переправы рысью. Но не тут–то было, немцы сосредоточили на мне весь свой ружейный огонь и устроили на меня настоящую охоту! Пули заныли и засвистели вокруг, я уткнулся в траву. Дальше пришлось продвигаться по–пластунски. Ползти так, да еще в гору, да еще под прицельным огнем противника, становилось все тяжелее и тяжелее.
Вспомнились занятия в училище, где командир взвода строго следил за отработкой правильных приемов переползания по–пластунски. Если у курсанта приподнималась голова или высовывалось заднее место, то ему снижали оценку и приказывали повторить упражнение. Здесь, на фронте, экзаменатором был противник, и оценкой за плохую подготовку была смерть или, если повезет, ранение. Поэтому я изо всех сил вжимался всем телом в землю–матушку. Используя каждую складку местности, бугорок или канавку, я полз, делал короткие перебежки и тем самым постепенно сокращал расстояние до своего взвода. Потом опять полз, проклиная себя за то, что не сел на последнюю бричку, а по надеялся на тачанки. Полз и полз, так как фрицы постоянно держали меня на прицеле и били из винтовок — пули то и дело то свистели над ухом, то били в землю совсем рядом со мной.
Выручила меня идущая следом пулеметная тачанка, которая наконец–то появилась с переправы, и фрицы сосредоточили на ней весь свой огонь, оставив меня в покое. Я вскочил на ноги и уже в полный рост добежал до мертвой зоны у опушки леса, где стал недосягаем для немецких стрелков. Здесь меня ждал мой взвод, который видел мою игру с огнем, но не мог мне помочь, так как находился в мертвой зоне.
Сердце сильно стучало, готово было прямо выпрыгнуть из груди, в висках толчками пульсировала кровь, пот лил градом, и я еле стоял на ногах. Присев на лафет орудия, не отдышавшись, я подал команду:
— Прямо! На хвост ушедшей вперед колонне! Путь проходил по лесной дороге. От быстрой езды
и легкого ветерка я быстро пришел в норму. Впереди показалась колонна. Сзади рысью нас догоняли пулеметные тачанки. Взвод в полном составе занял свое место в колонне полка.
Борисов оставался слева, где–то в 14 километрах от нас.
В лесу было тихо и прохладно, кроны деревьев надежно укрывали нас от наблюдения с воздуха. Я понемногу успокоился после приключения у переправы. Немцев было не видно и не слышно. Цветущий летний лес живо напомнил мне довоенное время, школу, с которой попрощался в сорок первом году, походы за грибами, ягодами и наши школьные «зарницы» В лесу на станции Озерки под Ленинградом … я совсем расслабился, когда по колонне от взвода к взводу до нас дошла команда:
— Командир второго взвода батареи ПТО в голову колонны!
Ничего не поделаешь — пришлось пересесть со столь удобного лафета орудия на коня и вместе с коноводом скакать к командиру полка за получением боевого приказа. Обогнав всадников впереди, я с ходу, осадив коня, доложил командиру полка о своем прибытии.
Гвардии подполковник Ткаленко, как всегда, был краток. Со взводом противотанковых орудий мне было приказано вернуться к развилке дорог на город Борисов. Я должен был занять там противотанковую оборону и не допустить удара немецких танков, идущих от Борисова, по арьергарду полка.
Взяв с собой две сорокапятки и две боевые брички со снарядами, я вернулся к месту предполагаемой встречи с танками. В лесу было тихо и ничего не напоминало о приближающейся опасности. Выбрав огневые позиции вдоль дороги уступом, я с коневодом пошел в сторону Борисова разведать обстановку.
Командиры орудий поспешно готовили орудия и огневые позиции к бою. Помкомвзвода с коноводами укрывали коней, передки орудий и боевые брички в лесу, в низинке, в метрах сорока от орудий. Выбор огневых позиций для противотанковых орудий — дело ответственное, и, когда есть время, необходимо так установить орудие, чтобы сектор обстрела был хорошим и чтобы вести огонь можно было не только по фронту, но и в тыл, на тот случай, если противник обойдет. И самое главное — это маскировка орудий и огневых позиций. Пока противник не засек орудие, оно может вести огонь на поражение спокойно и безнаказанно.
Мы прошли вдоль дороги метров триста до поворота, прислушались. Стал слышен отдаленный шум моторов. Шум то возрастал, то затихал. Мы изучили дорогу до поворота, наметили ориентиры в местах ожидаемого появления танков, прошли еще немного вперед и повернули к своим позициям. Пока мы ходили на разведку, расчеты орудий подготовили огневые позиции, закатили на них орудия и занимались маскировкой. Все понимали, что бой будет тяжелым, поэтому бойцы работали быстро и слаженно. Каждый занимался своим делом. Заряжающие старательно протирали подкалиберные и бронебойные снаряды. Командиры орудий и наводчики хлопотали у прицелов–коллиматоров. Указав командирам орудий ориентиры и место возможного появления танков, я опять, во второй раз, пошел по дороге, останавливаясь и прислушиваясь через каждые десять шагов. Шум моторов постепенно стихал. Очевидно, танки повернули назад. Или они просто заглушили моторы и остановились в засаде? Надо было проверить. Пройдя еще несколько десятков метров, мы вернулись, чтобы разведать ситуацию уже на конях. Проскакав около полутора километров в сторону Борисова, мы увидели место, до которого дошли танки. Было видно, что танки круто развернулись и ушли назад.
Надо было сообщить об этом в полк, но это и не потребовалось, так как прискакал связной от Ткаленко с приказом снять заслон и догонять полк. Полк ушел далеко вперед, и нам потребовалось немало времени, пока мы снова заняли свое место в боевом порядке полка.
Ближе к вечеру третий эскадрон занял место головного отряда, орудие гвардии сержанта Паланевича вошло в состав головной походной заставы. Я пошел с ним.
Вообще–то в противотанковом взводе два орудия, и с каким из них находиться — решать самому командиру взвода. Я, восемнадцатилетний младший лейтенант, не особо думал о смерти, ранении, опасности и обычно шел к орудию, которое вело бой. Командир первого взвода, лейтенант Зозуля, был женат, у него уже были дети, и он старался держаться с орудием, что было подальше от передовой. Я его не понимал тогда, а после войны мы с ним серьезно из–за этого поссорились. Ну, что было, то было.
Дорога по–прежнему пролегала по лесу, мы шли севернее Борисова в направлении Минска. В сумерках все силуэты стали расплывчатыми, неясными, и мы стали больше полагаться на слух, чем на зрение. у небольшой полянки головная походная застава остановилась, чтобы подождать головной отряд полка и таким образом сократить расстояние до него на дальность голосовой связи. Бойцы спешились и тихо переговаривались, не нарушая тишины леса. Спокойствие вечернего леса всех нас расслабило.
Неожиданно из–за поворота прямо на нас, тихо шурша шинами, выскочила легковая машина. Заметив нас, не доезжая метров двадцать–тридцать, легковушка резко затормозила и какие–то секунды оставалась неподвижной. В голове не укладывалось, что это был враг, до того буднично и мирно выглядела машина, столь лихо, без охраны выскочившая прямо к нам навстречу! Мы все застыли. И только в тот момент, когда машина стала разворачиваться, я от неожиданности скомандовал: «к бою!» А ведь достаточно было одной очереди из пулемета или даже из автомата, чтобы остановить ее! Пока расчет приводил орудие к бою, «Мерседес» развернулся, дал газу и скрылся за поворотом дороги. Только после этого мы опомнились И поняли, что, скорее всего, упустили важную птицу, причем когда она была у нас почти в руках …
Ну, теперь только вперед, пока немцы не успели опомниться!
Я перешел к орудию гвардии сержанта Петренко, так как его орудие было придано 4–му эскадрону, который должен был теперь идти в головном отряде полка.
Пройдя несколько километров по открытой местности на запад, эскадрон круто свернул с дороги на юг и рысью направился к видневшемуся впереди в отдалении лесу. Мы с орудием поотстали и двигались теперь примерно в трехстах метрах позади. Свернув в сторону леса за конниками, я заметил, что параллельным курсом с нами в нашем тылу двигалась большая воинская колонна с обозом. Что–то мне показалось в этой колонне подозрительным, я вскинул бинокль и отчетливо разглядел в колонне немецких солдат. Немцы в колонне, очевидно, тоже приняли нас за своих и спокойно продолжали свой путь. Я принял решение обстрелять колонну, чтобы не дать ей возможности зайти в тыл эскадрону и подал команду орудию: «К бою! Немцы слева!»
Одновременно с этим я послал связного к командиру эскадрона доложить обстановку.
Командую:
— По фашистскому обозу, гранатой, взрыватель осколочный, прицел 10, один снаряд, огонь!
— Выстрел!
Разрыв в середине обоза. Перехожу на беглый огонь по четыре снаряда с переносом огня то вправо, то влево от середины колонны. Не дожидаясь команды, к орудию подъехал на боевой бричке ездовой Ведерников и начал неспешно выгружать ящики со снарядами. Это было хорошо, но, с другой стороны, недопустимо нахождение брички у орудия, ведущего огонь с открытой огневой позиции. Немцы между делом опомнились и открыли прицельный огонь по орудию. Ведерников со своей бричкой демаскировал нас и подвергал опасности себя и своих коней.
— Немедленно убирайся отсюда! — орал я ему в промежутках между выстрелами. Но Ведерников как будто не слышал. Несмотря на свист пуль, он неторопливо, как будто у себя дома в колхозе, выгрузил последние ящики, собрал стреляные гильзы в пустые ящики и только после этого покинул огневую позицию.
Такой вот был у нас боец Ведерников — спокойный, неразговорчивый, медлительный, но по–хозяйски заботливый. В идеальном порядке поддерживал коней, бричку и оружие. Беззаветно преданный своему делу, он никогда не терялся, будь то в бою, на марше или на боевом смотре полка.
А орудие между тем продолжало расстреливать немецкую колонну. Расчет быстро и слаженно выполнял команды. Азарт и горячка успешного боя захватили всех. Петренко командовал орудием, стоя во весь рост, весело повторял команды и приговаривал:
— Вот вам, гады, еще подарочек!
Колонна начала разбегаться, организованный огонь по нашему орудию почти прекратился. Петренко продолжал комментировать ход боя. Ствол орудия раскалился от беглого огня. Противник совсем прекратил огонь. На дороге остались повозки и десятки убитых, уцелевшие рассеялись по полю. Ввязываться в этот бой было рискованно, так как с нашей стороны не было стрелкового прикрытия. На наше счастье, в этой немецкой колонне не оказалось ни орудий, ни минометов, ни пулеметов. Немцы даже не попытались контратаковать. Одним орудием мы уничтожили немецкий обоз и до роты пехоты.
Боевая задача была выполнена, и надо было догонять эскадрон головной походной заставы. Они успели ускакать далеко вперед, и опять нам пришлось потратить много времени на то, чтобы их догнать.
Двигаясь по большаку, утром 4 июля мы подошли к крупному железнодорожному узлу Красное. По данным разведки, в Красном немцы оборонялись силами до полка с танками и штурмовыми орудиями. Утро было солнечное, предвещая жаркий день. Эскадрону была поставлена задача войти в лес, обойти Красное и ударить по немцам с тыла.
Свернули в лес. Сначала шли по проселочной дороге, а потом резко свернули в довольно топкое место. Легкие верховые кони эскадрона и тачанки прошли достаточно легко, даже не нарушив травяного покрова. Наша же орудийная упряжка стала увязать сразу после нескольких метров. Попытки обойти это топкое место справа и слева успехом не увенчались. Кони стали увязать по грудь, а орудие просело в болото по боевую ось. Пришлось срочно распрягать коней и по одному вытаскивать из болота и коней и орудие, так как, промедлив, мы могли потерять боевой расчет в полном составе. За этим довольно неприятным занятием мы провели часа три. Вывалялись в грязи как черти. Хорошо еще, что в эту трясину не успели заехать тяжело груженные боевые брички со снарядами. Кое–как почистив себя, коней и орудие, мы вернулись на лесную дорогу, затем на большак и двинулись в сторону Красного.
Навстречу нам, куда–то спеша, скакал адъютант командира полка. Поравнявшись с нами, он удивленно окликнул меня:
— Якушин, ты что, С того света вернулся?
Я был не в настроении для шуток и ему вдогонку прокричал:
— Все шутишь, да? С какого того света, я из болота!
Пока мы провозились в болоте, Красное уже освободили, никуда нам спешить было не надо, и мы шагом въехали в этот большой населенный пункт. На улицах было безлюдно, и только в некоторых местах были видны следы только что закончившегося боя.
Попадавшиеся навстречу офицеры полка задавали мне все тот же вопрос, что и адъютант:
— Ты что, из мертвых воскрес?!
— Якушин, тебя ж похоронили … а ты, выходит, живой?!
Я ничего не понимал. Только позднее все выяснилось. Оказывается, при атаке третьего эскадрона на Красное (им было придано орудие гвардии сержанта Паланевича из моего взвода), был тяжело ранен лейтенант из соседнего полка нашей кавдивизии. Паланевич стал его перевязывать, но рана была смертельная, и лейтенант из братского полка умер у сержанта на руках. Проезжавший мимо офицер штаба нашего полка, знавший Паланевича в лицо, спросил его, кого это он держит на руках.
— Это наш лейтенант, — ответил Паланевич.
Под словом «наш» он имел в виду, что это был лейтенант из нашей кавдивизии, а не из стрелковой дивизии, которая тоже вместе с нами наступала на Красное. А штабист понял это так, что Паланевич говорил о своем командире взвода, лейтенанте Якушине, то есть обо мне. Так он и доложил в штабе полка. Провозись я чуть дольше в этом проклятом болоте, то и похоронку успели бы выписать! Так меня чуть заживо не похоронили, на этот раз офицеры штаба.
В этот же день наши конники завязали бои за освобождение Молодечно и Лебедево. Северная окраина Молодечно и железнодорожный вокзал несколько раз переходили из рук в руки. После освобождения Красного немецкие гарнизоны были вынуждены оставить и Молодечно, и Лебедево.
До нашего прихода немцы зверски расправлялись с местным населением. Оставшиеся в живых жители рассказывали нам об истреблении советских граждан, которое немцы называли «чисткой». В Молодечно, Запрежье, Волжин немцы уничтожили всех евреев. Дети, женщины, старики были сожжены в сараях. Шло массовое убийство всех «восточных» — русских, белорусов и других советских людей.
После таких рассказов чувство мести все больше и больше захватывало наших бойцов. Несмотря на усталость, бессонные ночи, полк продолжал двигаться вперед, приближая момент полного освобождения нашей земли от немецких захватчиков. Уже вечером 5 июля в штаб фронта пошла телеграмма об освобождении Лебедево и Молодечно.
Наступление продолжалось. Полк сметал все немецкие заслоны на своем пути и продвигался вперед. Для некоторых немецких гарнизонов наше появление у них в глубоком тылу было полной неожиданностью. Были случаи, когда немцы и полицаи выбегали нам навстречу на улицу в одном нижнем белье и в таком виде сдавались, вызывая дружный смех окружавших их конногвардейцев. Но были и серьезно подготовленные гарнизоны с хорошо продуманной обороной, которые встречали нас стеной огня и отчаянным сопротивлением.
В бою с одним таким гарнизоном меня чуть не похоронили во второй раз, на этот раз немецкие артиллеристы.
Наш головной отряд, пройдя песчаные дюны с мелколесьем, вышел на довольно гладкую равнину, которая простиралась до деревни. Дозоры доложили, что деревня занята противником, которые окопался на ее окраине. Спешившийся головной отряд короткими перебежками пошел в атаку на деревню, но был остановлен плотным пулеметным огнем. Наступление не имело успеха и с прибытием второго эскадрона полка. Конники залегли и стали окапываться.
Мне была поставлена задача выдвинуться с орудием на передний край и подавить немецкие пулеметы. На выбор огневой позиции времени не было, да и подходящего места на открытой равнине нельзя было отыскать: впереди, за небольшим оврагом, было чистое поле, освещенное солнцем со стороны противника. Ничего не оставалось делать, как установить орудие у одиноко стоящего дерева. Засечь пулеметы противника не составляло труда — они били по очереди, не давая поднять головы нашим бойцам.
Указав цели командиру орудия, гвардии сержанту Паланевичу, я приказал выкатить орудие на намеченную огневую позицию и уничтожить пулеметы. Расчет, обученный постоянными тренировками в тылу в перерывах между боями, умело выкатил орудие на огневую позицию, прикрываясь щитком, и привел орудие в положение «к бою». В считаные секунды орудие открыло огонь. Первым же снарядом накрыли один пулемет, но второй сосредоточил весь огонь на нашей сорокапятке. Пули застучали по орудийному щиту, как горох. С большим трудом мы подавили и второй пулемет, но тут открыла огонь немецкая артиллерия. Снаряды стали рваться совсем рядом с орудием — стреляли немцы хорошо. Я понял, что если мы все останемся у орудия, то все тут и погибнем, и приказал расчету покинуть орудие и укрыться в овраге. Менять огневую позицию под огнем, на виду у немцев, было невозможно. У орудия остались я и наводчик. Мы стали лихорадочно окапываться — наводчик слева от орудия, я справа. Грунт был легкий, после двух штыков пошел песок. Огонь немецкой батареи по орудию усиливался. После каждого разрыва мы высовывались из окопчиков и спрашивали друг друга: «Живой?» От близких разрывов мой окопчик осыпался, песок ручьями осыпался на дно… Вдруг сильный взрыв потряс воздух, оглушил меня, сверху свалилось что–то тяжелое, и я потерял сознание.
Пришел в себя я от тряски и ударов по спине это мои бойцы тащили меня в овраг на плащ–палатке. Наша сорокапятка была разбита прямым попаданием, а меня завалило в окопе и сверху придавило упавшим деревом. Высунувшийся из своего окопа наводчик увидел, что моего окопа больше нет, сразу же выскочил на огневую позицию и начал меня откапывать. Расчет, наблюдавший за расстрелом нашего орудия из оврага, тоже поспешил на помощь. Согнувшись в три погибели, они оттащили меня на плащ–палатке в безопасное место. К счастью, огонь немцев стал ослабевать, так как в тыл и фланг к ним зашли основные силы полка.
Вскочив на ноги, я был потрясен наступившей вокруг тишиной. Только по открывающимся ртам бойцов, которые обступили меня, и по разрывам снарядов в отдалении, я понял, что бой все еще идет. Это я оглох от близкого разрыва, и все вокруг для меня было как в немом кино. Несмотря на контузию, я отдал приказ забрать наше разбитое орудие с огневой и отправить в тыл полка для замены на новое. Деревню освободили обходным маневром. Нашему полку была дана передышка, и мы последовали вперед во втором эшелоне дивизии.
Слух стал постепенно возвращаться, и я отказался от госпитализации. Через три дня я уже слышал по–прежнему, и к этому времени нам доставили новенькую сорокапятку. Мой взвод был готов к продолжению боев в полном составе.
Через некоторое время наш полк опять пошел в авангарде, а орудие Петренко из моего взвода было опять придано головной походной заставе (ГПЗ). Я присоединился к расчету Петренко. Вперед полк и дивизия двинулись в сумерках.
Наша ГПЗ в составе сабельного взвода, пулеметной тачанки и сорокапятки Петренко с боевой бричкой неслышно продвигалась вперед в темноте леса. Впереди и с флангов на расстоянии голосовой связи двигались парные конные дозоры.
Мы шли первыми, и встречи с немцами можно было ожидать в любую минуту. Но после долгих ночных маршей и непрерывных дневных боев нам всем было сложно бороться со сном и быть начеку. Ночь была тихая, теплая и безлунная. Плавное покачивание в седле убаюкивало всадников, притупляло бдительность.
Я был с орудием гвардии сержанта Петренко. Петренко был ветераном многих сражений. На такого опытного и хорошего командира орудия я мог положиться. Орудийный расчет из нового, полтавского, пополнения уже успел поучаствовать в боях. Так что мне, как командиру взвода ПТО, вроде бы можно было и расслабиться.
Оговорив с начальником ГПЗ порядок следования орудия, я удобно расположился на передке боевой брички рядом с ездовым Ведерниковым. Монотонное движение брички меня сморило. Наша маленькая колонна продвигалась вперед шагом, в тишине еле слышно поскрипывала бричка, всадники двигались беззвучно …
Колонна остановилась. Впереди послышалась немецкая речь. Спросонок я подумал, что наши взяли пленного, и наш лейтенант, начальник ГПЗ, пытается завязать с ним разговор. С чего это я такое подумал? Еще несколько секунд … и на нас в упор обрушился шквал пулеметного и автоматного огня! В темноте не было видно ни противника, ни наших бойцов, только огненные стрелы трассеров снопом проносились вдоль шоссе. Этот огневой налет был настолько плотным и неожиданным, что наши бойцы в первые секунды растерялись. Тут уж было не до сна!!!
Кони встали на дыбы, грозя опрокинуть бричку со снарядами. В считаные секунды мы с ездовым убрали бричку с дороги, заставив коней перемахнуть через достаточно широкий кювет. Мы спасли от огня наших драгоценных коней (кони орудийной упряжки, особенно коренные, обладали редкими для коней качествами: они были достаточно сильными, чтобы перевозить тяжелое орудие по бездорожью, и достаточно выносливыми при стремительных передвижениях в составе эскадрона).
В коротких вспышках пулеметного огня я разглядел на дороге силуэт нашей сорокапятки. От крутого разворота орудие само отцепилось от передка и смотрело в сторону противника. Стараясь перекричать пулеметную трескотню, я выкрикнул:
— Расчет, к орудию! К бою!
Вместе с подоспевшим Петренко мы вдвоем подбежали у орудию, укрывшись за щитком, рывком развели станины орудия и привели орудие в боевое положение.
— Осколочным! — продолжил командовать я.
— Осколочных нет, они все на бричке, тут только бронебойные!
— Давай бронебойным! Заряжай! Огонь! Выстрел!
Стреляю прямо в огненную пасть немецкого заслона, который окопался в каких–то пятидесяти метрах от орудия. Хлесткий, металлический выстрел в упор бронебойным снарядом сразу меняет всю обстановку на поле боя. Конечно, осколочный снаряд был бы убойнее, но такого психологического эффекта, как бронебойный, не дал бы. Немцы просто опешили. После второго и третьего нашего выстрела они вообще прекратили огонь. К этому моменту наши конники пришли в себя и открыли огонь из пулеметов и автоматов. К орудию подполз с ящиком осколочных снарядов Черкащенко, а за ним появился и весь остальной расчет. Обстановка резко изменилась в нашу пользу. Как на учениях, расчет спокойно начал вести беглый огонь осколочными снарядами. Взвод конников поднялся в атаку и с мощным «ура!» стал преследовать удирающих немцев.
Уже светало.
Перед нами в окопах мы обнаружили брошенные станковый и ручной пулемет, ящики с боеприпасами, а чуть дальше стояла разбитая повозка с убитой лошадью. Вокруг лежало около десяти мертвых фрицев. Впереди была крупная деревня.
Обгоняя спешившихся бойцов ГПЗ, мимо нас с шашками наголо промчался эскадрон головного отряда полка. Я скомандовал: «Отбой!» Нам надо было догонять эскадрон и поддержать его атаку огнем. Преследование противника и конная атака продолжились и за пределами деревни. Нельзя было дать опомниться противнику, когда он в панике бежит, нельзя дать ему закрепиться на новом рубеже! Только вперед!
Ни с чем нельзя сравнить чувство победы, азарт преследования, когда бойцы мчатся вперед на конях за отступающим противником. Это чувство охватывало всех бойцов и командиров, все были опьянены стремительной атакой, никакие преграды и смерть уже были не страшны! Мы со своим орудием с трудом нагнали эскадрон и проследовали дальше вместе с ним.
Корпус продолжал наступать севернее Минска, впереди была Лида. Подвижные группы немцев, усиленные танками и самоходками, закреплялись в населенных пунктах и оказывали нам сильное сопротивление.
Мы вырвались далеко вперед, и танки, и пехота отстали. Ждать их значило упустить время и дать немцам время подготовить оборону. Поэтому все три кавдивизии нашего корпуса повели наступление на Лиду с трех сторон, не дожидаясь подхода дополнительных сил. б–я гвардейская кавдивизия первой повела наступление с севера, мы пошли в наступление на восточную окраину города, а с юга в город ворвались конники 32–й Смоленской дивизии. В боях за Лиду особо отличился наш братский 17–й гвардейский кавполк гвардии подполковника Шевченко. В конном строю они атаковали немцев с направления, откуда меньше всего ожидали удара, и ворвались в город фактически без сопротивления. В городе эскадроны спешились и начались уличные бои. Многих сильных и смелых бойцов недосчитались мы в наших рядах. В уличных боях был смертельно ранен гвардии подполковник Труханов, командир соседнего с нами полка. Его похоронили в городе, и его именем была после войны названа одна из улиц в Лиде.
Четвертый эскадрон и приданные ему орудия моего взвода расположились на отдых на одной из улиц города. Все бойцы еще были возбуждены после боя, настроение приподнятое. Особый восторг вызвало появление старшины батареи с полевой кухней и сияющим поваром на передке. Старшина привез и письма, и газеты. Особой популярностью пользовалась наша корпусная газета «Конногвардеец».
Ели бойцы по–семейному, по два–три, а то и четыре бойца из одного котелка, поочередно опуская в него каждый свою ложку. На аппетит никто не жаловался, съели все и не забыли попросить добавки. Оставшийся хлеб завернули в полотенце и по–хозяйски оставили про запас. Когда еще нас догонит кухня, а на пустой желудок и воевать неинтересно.
Я спросил у старшины:
— Как там в тылу дела у других орудий батареи?
— А чего дела? Дела все как надо. Вы тут так разогнали фрицев, что они как неприкаянные слоняются по лесам, кто сдается, кто сопротивляется, пытается пробиться к своим.
По довольному, изрытому оспинами лицу старшины было видно, что на батарее дела действительно в порядке. Старшина добавил:
— Да, еще комбат приказал подать рапорт: кто как воевал. Требует описать состояние взвода и подготовить список отличившихся В боях для представления к наградам. Давайте быстрее, я сейчас покормлю первый взвод и обратно отправлюсь, заодно отвезу рапорт комбату. И еще не забудьте отметить Глушаня, он доставил в штаб двенадцать пленных фрицев.
Это было для меня новостью, что–то не верилось, но старшина заверил меня, что данные точные, он сам видел, как Глушань привел в штаб этих поганых фрицев.
Пристроившись поудобнее в тени дерева, я написал рапорт комбату Агафонову о боевых операциях, состоянии личного и конского состава и матчасти взвода. Далее представил список бойцов, отличившихся В боях. Не забыл упомянуть и о Глушане, отметив, что он за взятие в плен двенадцати немцев достоин представления к медали «За отвагу».
С Глушанем у меня вообще была целая история. Это был боец из нового пополнения, тихий и застенчивый, но с образованием 10 классов, что тогда среди бойцов было большой редкостью. На первых порах он показал себя не лучшим образом, старался всячески увильнуть от тяжелой работы, и командир орудия его иначе, как «сачок», не называл. Пришлось мне самому заняться им. После очередного наряда вне очереди, который Глушаню выдал командир орудия, я вызвал его к себе для беседы.
Доложив о своем прибытии, стоя по стойке «смирно», он терпеливо, но с полным безразличием выслушал все мои наставления. На мой вопрос, как он будет вести себя дальше, особенно в боевой обстановке, он ответил, что будет стараться.
Такой ответ меня не устроил, и я стал допытываться, почему он, образованный боец Красной армии, прославленного гвардейского полка, ведет себя недостойно и пытается увильнуть от трудной, но необходимой работы. В ответ он сказал, что ему проще показать, чем рассказать. Я разрешил показать. Глушань снял гимнастерку, нательную рубаху, и моему взгляду предстал его торс, полностью покрытый большими фурункулами. Фурункулы были красные, воспаленные, некоторые гноились. Я был потрясен. Никогда в жизни я такого не видел. Я вспомнил, как у меня был один фурункул и как я с ним мучался, а у Глушаня их были десятки!
Приказав одеться, я повел Глушаня к Силютину. Силютин, оказывается, знал о проблеме Глушаня и спокойно заявил, что медицина бессильна, они должны пройти сами. Мое обращение к начальнику медсанчасти полка о госпитализации Глушаня не увенчалось успехом. Начальник только рекомендовал на время освободить бойца от тяжелых работ.
В тыл полка его никто не брал, свободного места писаря тоже нигде в полку не было. Мне пришлось определить его помощником на бричку к Ведерникову. Ведерников пытался возражать, но ничего не мог поделать, приказ есть приказ. Таким образом Глушань оказался во втором эшелоне полка.
Подробности того, как Глушань пленил двенадцать фрицев, я узнал только после Белорусской операции, за которую Глушаня наградили орденом Красной Звезды. После торжественного вручения наград все бойцы собрались на праздничный обед, все были в приподнятом настроении.
Мне за участие в Белорусской операции вручили орден Отечественной войны второй степени. Это был мой первый орден на фронте. Я поздравил бойцов моего взвода с наградами и направился к орудию Петренко, откуда слышались взрывы хохота. Подойдя поближе, я увидел, что весь расчет находится в таком бурном веселье, с которым вряд ли что–то может сравниться. Часть бойцов каталась по земле, схватившись за животы. Сквозь слезы они причитали:
— Глушань! Ой, уморил! Ой, уморил!
Только Глушань и Ведерников стояли с серьезными лицами и спокойно наблюдали всю эту картину. Когда все немного успокоились, я спросил У Петренко причину столь бурного веселья. Оказалось, виной потехи был Глушань, который рассказал все подробности пленения им немцев. Петренко, все еще фыркая от смеха, предложил Глушаню повторить свой рассказ.
— Пусть гвардии лейтенант послушает, такого в театре не услышишь!
Глушань не заставил себя долго ждать и без тени улыбки во второй раз пересказал свою историю. А рассказал он следующее.
Второй эшелон полка медленно продвигался за основными силами по направлению к Лиде. В Лиде еще шли бои, и обоз второго эшелона, в котором была и бричка Ведерникова с боеприпасами, остановилась на дороге, ожидая дальнейших приказаний. Справа и слева от дороги колосилось ржаное поле. Пользуясь временной передышкой, Глушань попросился у Ведерникова сбегать в рожь по большой нужде. Ведерников нехотя разрешил, но наказал не задерживаться, так как колонна мoла двинуться вперед в любой момент. Глушань отошел от дороги шагов на двадцать, расстегнул штаны, и тут …
— Только я устроился поудобнее, как прямо на меня выходят здоровенные фрицы, с автоматами в руках, как будто они идут в атаку. Что тут со мной было! Я от страха чуть не помер! А они идут … Подходят ко мне, здоровые, грязные, небритые, и все, как по команде, руки вверх поднимают! Не помню, как пришел в себя, как встал, заправился и вышел на дорогу. Иду впереди, а за мной фрицы. Двенадцать человек, все с автоматами и поднятыми руками. Подхожу к Ведерникову, немцы за мной. Ведерников посмотрел на нас, поморщился и произнес недовольным тоном: «Ну и куда ты их привел? Зачем они нам? Навязался ты на мою голову! Раз привел, то веди в штаб!» Делать было нечего, повел я их в штаб. Повел их в таком же порядке, как мы вышли к дороге: я спереди, а за мной фрицы с автоматами и поднятыми руками. Слышу, Ведерников кричит мне с брички: «Стой, карабин свой возьми и держи его наготове! И немцев вперед пропусти!» Так я и сделал. Привел немцев в штаб, там у них отобрали автоматы, а мне сказали возвращаться обратно, только записали мою фамилию, какого я взвода и сколько немцев привел. Вот и вся история … не понимаю, чего тут смешного! — закончил свой рассказ Глушань под дружный хохот взвода.
Вскоре Глушаню стало лучше, и он попросился в расчет орудия. Воевал он в расчете хорошо, с честью оправдав полученную им награду.
Пройдя с боями всю Белоруссию, мы подошли к Гродно. Личный состав нашего полка к тому времени уже сильно поредел, многие наши боевые товарищи навеки остались в Белоруссии.
Немцы, потеряв Лиду, лихорадочно укрепляли восточные подходы к Гродно. Но это им не помогло, так как наши эскадроны обошли город по топким болотам и ворвались в него с той стороны, откуда немцы нас не ждали. В бою за Гродно погиб наш замполит, майор Николай Федорович Выдайко. Это была большая утрата для всего нашего полка.
Этим же маневром наша конница сумела переправиться через Неман и захватить несколько господствующих высот над окраинами Гродно на левом берегу Немана. Немцы ожесточенно сопротивлялись, бросили на нас свою авиацию. Около 40 бомбардировщиков набросились на переправу полка. Я с одним орудием проскочил переправу без потерь, но второй эшелон полка немцы на переправе на Немане накрыли. Оставшиеся в живых бойцы принесли мне печальную весть о гибели при бомбежке моего помкомвзвода.
Саперы вновь и вновь восстанавливали переправу, пока весь полк не перешел на левый берег Немана.
Немцы отчаянно сопротивлялись на тех высотах, которые остались в их руках. С высот он поливали наши атакующие эскадроны плотным пулеметным и винтовочным огнем. Наше положение осложнялось еще и тем, что немцы и сами переходили в контратаки на наш полк, сильно поредевший в предыдущих боях. Необходимо было без промедления подавить огневые точки немцев и деморализовать его живую силу на высотах. Но как это сделать, если мое орудие стоит в низине, а противник закрепился на вершине высоты? Это дело зениток и минометов! А их у нас в тот момент не оказалось.
Начальник артиллерии полка, гвардии майор Сонин, принял решение втащить орудие на соседнюю высоту и подавить огневые точки огнем прямой наводкой:
— Якушин, установи орудие на вершине высоты и заткни глотку пулеметам фрицев!
Взглянув на указанную Сониным высоту, я сразу усомнился в успехе его решения. Приказав Паланевичу подыскать наиболее удобную позицию у подошвы высоты, я стал карабкаться по склону наверх, чтобы убедиться в возможности выполнения принятого решения. Чем выше я поднимался, тем сильнее и точнее был огонь немцев. Пули неприятно свистели над самым ухом. Я поравнялся с цепью залегших конногвардейцев и пополз было дальше, но меня остановил окрик их командира взвода:
— Стой! Назад, дальше нельзя! Куда тебя несет, тебе что, жить надоело?
Перед нами была голая вершина высоты, на которой в разных позах лежали наши убитые бойцы. Я объяснил лейтенанту, что мне приказано установить орудие на вершине высоты и подавить огневые точки противника. Комвзвода посмотрел на меня, как на сумасшедшего, хотел что–то съязвить. Но передумал, вздохнул и спокойно объяснил мне, что на вершине простреливается каждый сантиметр и что он даже не может вытащить оттуда своих убитых бойцов. Каждая такая попытка только добавляло трупов на высоте.
Поняв, что мне здесь делать больше нечего, я стал поспешно спускаться, а точнее, покатился вниз с высоты, цепляясь за колючки кустарника. Внизу я нашел мое орудие, готовое к ведению огня по передовой линии траншей противника. Передний край обороны фрицев проходил по середине склона, и угол возвышения позволял его обстреливать. Немцы сосредоточили все свое внимание на вершине высоты, откуда я только что спустился, и мое орудие даже не замечали.
Мы открыли огонь. Нас поддержали минометчики Водзинского и подоспевшие 76–мм орудия полковой артиллерии. Наш огонь заставил немцев прекратить огонь и покинуть высоты. Наши бойцы начали наступление на Гродно.
Внезапно поступил приказ: выйти из боя, передать свой участок пехоте, а самим быть готовыми к выполнению новой боевой задачи. Задача состояла в продолжении наступления на Августов, границу СССР и Восточной Пруссии!
Приятно было снова скакать вперед по большаку, с обеих сторон которого росли вековые деревья, кроны которых надежно защищали нас от наблюдения с воздуха. Несмотря на смертельную усталость и бессонные ночи, на душе у меня было легко, хотелось петь. И я запел песню Никиты Богословского:
Там, где кони по трупам шагают
И всю землю окрасила кровь,
Пусть тебя охраняет, от пуль сберегает
Моя молодая любовь …
Ко мне подскакал сержант Паланевич, и спросил:
— Ты что, лейтенант?
— Так, ничего! Пою!
— А я думаю, что это с нашим лейтенантом. Не то зовет, не то поет! А ты, оказывается, поешь. Это хорошо! Поем, поем, да где–то сядем? — и с этими словами он возвратился на свое место.
Несмотря на все мои замечания, бойцы и сержанты называли меня лейтенантом, а не младшим лейтенантом. Так было проще, да и звание лейтенанта было уже не за горами.
Полк стремительно продвигался вперед. Не было времени на отдых для бойцов и коней. Коней поили и кормили на ходу, используя для этого скупые минуты простоя колонны. Как только эскадрон попадал в место, где была вода, бойцы, схватив брезентовые ведра, бежали к воде и поили коней. Напоив коней за два–три захода, вешали на головы коней торбы с овсом и с тревогой вслушивались в команды командиров. Команда «Прямо!» как ветром сдувала брезентовые ведра и торбы с голов коней, и колонна сразу возобновляла марш.
Неожиданно кончился лес, и эскадроны вы рвались на открытое поле, сев на хвост крупному немецкому обозу. В нем немцы увозили награбленное имущество, а также продовольствие и обмундирование со своих армейских складов. Ездовые и немецкая охрана разбежались, оставив обоз на дороге:
И в этот момент впереди в воздухе появились «мессеры». Они стремительно налетели на нас со стороны солнца. Летели строгими звеньями, быстро приближаясь к нашей колонне. Только когда «мессеры» один за другим начали пикировать на нас, прозвучала команда «воздух!» и эскадрон повзводно рассыпался по правую и левую сторону от большака. Мы с орудием галопом направились к небольшому хуторку, густо заросшему кустами акации. Подпрыгивая на картофельном поле, орудие и боевые брички неслись к укрытию. Но добраться до хутора удалось только орудию, боевые брички застряли на грядках, когда «мессеры» начали поливать нас из пулеметов. Пули зашелестели по картофельной ботве. Две лошади были ранены, и их пришлось пристрелить. Кое–как загнав орудие под яблони, я направился к бричкам, но пробежав несколько метров, запутался ногами в картофельной ботве и с размаху упал между грядок. «Мессеры» утюжили нас до наступления темноты. Одно звено сменяло другое, не давая нам ни минуты передышки и возможности сменить позицию. Лежа на спине, я сквозь листья картофеля видел не только пикирующие самолеты, но и лица пилотов.
С самого начала войны я не переносил свиста пуль. Трудно было мне привыкнуть не кланяться им. Если пуля просвистела, значит, она не твоя, она пролетела мимо и нечего ей кланяться — так учили меня бывалые бойцы. Несмотря на это, я не мог побороть в себе эту привычку и хоть изредка, но кланялся злодейке. К минам, снарядам, бомбам я как–то привык уже в блокадном Ленинграде, а затем во время службы в артиллерийских подразделениях. Но к пулям, особенно летящим с неба, мне привыкнуть было невозможно. Время от времени в голове появлялась мысль, что вот со следующего захода «мессер» пригвоздит навечно к любимой матушке–земле.
С наступлением темноты «мессеры» оставили нас в покое. Оказалось, что у немцев рядом был аэродром, поэтому они могли, сменяя друг друга, постоянно штурмовать нашу колонну на протяжении 3–4 часов. Несмотря на беспрерывные атаки с воздуха, потери у меня были незначительные: во взводе я потерял трех коней, два бойца были легко ранены. Пополнив упряжку боевой брички новыми конями и, разместив орудие с расчетом на короткий отдых, я пошел искать орудие гвардии сержанта Петренко. 4–й эскадрон, который сопровождал Петренко, успел достичь опушки леса и скрылся там до налета «мессеров». В лесу было сложно ориентироваться, было темно, но лес был полон наших бойцов, которые показали мне дорогу.
Орудие Петренко разместилось у крыльца дома лесника. Возле небольшого костра сидели бойцы и на большой сковороде жарили яичницу–глазунью. На перилах крыльца, как на буфетной стойке, стояли бутылки разных калибров с красивыми этикетками. Орудийный расчет уже поужинал, и теперь ужин завершали ездовые. Заметив меня, сержант подал команду:
— Встать! Смирно!
Я остановил его, предложив продолжить ужин и доложить обстановку. Доклад был коротким.
«Эскадрон, захватив большой обоз, натолкнулся на крупные силы немцев, завязав бой, перешел к обороне. Часть обоза осталась на нейтральной территории. Орудие на линии обороны в тридцати метрах отсюда. У орудия ведут наблюдение два бойца, остальные — на отдыхе. Прошу, товарищ гвардии лейтенант, отведать нашей глазуньи. Есть и чем горло промочить», — закончил свой рапорт Петренко. Проголодался я изрядно и, наскоро помыв руки каким–то французским вином, так как воды поблизости не было, стал с аппетитом поглощать яичницу. За счет трофеев расчет пополнился не только провизией, но и прибарахлился шелковым бельем, сапогами и тканью на портянки и на попоны для лошадей. Разглядывая мои потрепанные в походах кирзовые сапоги, Петренко предложил тотчас же заменить их на хромовые. Да и белье было бы гигиеничнее заменить, уже не говоря о портянках, от которых осталось одно название. С таким предложением нельзя было не согласиться. Перебрав несколько пар хромовых офицерских сапог, дудочкой, которые никак не налезали на ногу из–за малого подъема, я все же нашел одну пару, которая больше других походила на наши русские сапоги, и с большим трудом натянул их себе на ноги. Солдатские, немецкие сапоги были неудобны как кавалеристам, так и нашей пехоте из–за широких голенищ. Широкие и невысокие голенища мешали всаднику при езде, а пехоте — при переползании по–пластунски.
Проверив с Петренко посты у орудия и у ездовых, я направился к орудию Паланевича. Не доходя до орудия, удобно устроившись на пеньке, решил поменять белье на трофейное, шелковое. С трудом сняв сапоги, обмундирование и поменяв белье на новое, стал вновь натягивать сапоги. Белье приятно холодило тело, но сапоги, хоть плачь, на ноги не налезали. Намокшие при хождении по траве, обильно орошенной росой, они сели и не поддавались, несмотря на все мои старания. Пришлось постепенно надрезать голенища ножом, пока не распорол их до самой подошвы. И так, с распоротыми голенищами обоих сапог пришлось вернуться к орудию Петренко. Хорошо, что еще не рассвело, и никто не заметил, как я добирался до старых своих кирзовых сапог, про себя, на чем свет стоит, проклиная немецких сапожников всех разом. Нет ничего лучше русских сапог! После Белорусской операции я получил новые кирзовые сапоги, а старшина для парада сшил мне еще новые яловые сапоги, в которых я воевал и в Польше, и в Пруссии, и в Германии. В Россию все же приехал в новых кирзовых сапогах, так как при последнем ранении в ногу, осколком немецкого снаряда, мне пропороло голенище левого сапога. Кровь затекла в голенище, и при перевязке в медсанчасти, чтобы снять сапог, голенище распороли и левый тот яловый сапог сняли и выбросили. Так в одном правом сапоге и доставили меня в госпиталь. Жаль, хорошие были сапоги ….
Закончив свои мытарства с сапогами с рассветом, отыскал я комбата Агафонова и доложил ему о состоянии взвода. Приняв рапорт, комбат приказал мне после завтрака дождаться его, так как он направляется к командиру полка на военный сбор командиров, после которого будут особые указания. Еще не вернулся комбат, как меня через связного вызвали к командиру полка. Не доезжая до штаба, встретил комбата, который сообщил, что положение нашего корпуса серьезное, полк вернут назад для прорыва окружения, а мой взвод со 2–м эскадроном останется в заслоне. Я заметил, что 2–й эскадрон поддерживает взвод ПТО гвардии лейтенанта Зозули.
— у Зозули жена и двое детей в Виннице … — как бы про себя, не глядя на меня, ответил комбат.
Я не нашелся, что сказать, и уже был не рад, что напомнил комбату о Зозуле. Подъехали к штабу. Я доложил комполка о своем прибытии. Утро стояло солнечное. Птицы в лесу заливались на все лады. Немец молчал. Офицеры полукругом обступили командование полка. Утро было яркое, праздничное, в отличие от нашего положения. Слишком далеко мы забрались к немцам в тыл и слишком многих потеряли в боях.
Шел 112З–й день войны. У деревни Волокуша бойцы нашей дивизии спилили первый вражеский пограничный столб № 48. Самолетом он был доставлен в Москву, в Центральный музей Советской армии. Лица офицеров были необычно строги, сосредоточенно слушали они начальника штаба полка, гвардии капитана Тодчука, который спокойным и монотонным голосом докладывал обстановку:
— Во второй половине дня 18–го июля, противнику удалось сбить с позиций наши стрелковые части и вернуть себе район Лойки — Белля — Церкевна Келбаски. Враг перерезал коммуникации корпуса. Части дивизий СС «Мертвая голова» и пехота противника опрокинули заслон 5–й гвардейской кавдивизии в Липске и снова овладели городом. Корпус охвачен с трех сторон, с запада, юга и востока численно в несколько раз превосходящими силами противника. Только на севере поддерживается непрочная связь с 174–й стрелковой дивизией, которая ведет упорные бои, неся тяжелые потери. Обстановка плацдарма осложнилась, нависла угроза полного оперативного окружения корпуса. Командование корпуса приняло решение на некоторое сокращение обводов занятого нами района …
Офицеры молчали … Военный сбор командиров завершил командир полка Ткаленко. Он сказал:
— Полк отходит в заданный командиром дивизии район. Для обеспечения беспрепятственного отхода полка на месте остается заслон, в составе усиленного 2–го эскадрона, взвода противотанковых орудий гвардии лейтенанта Якушина и минометного взвода гвардии старшины Водзинского. Заместителем начальника заслона по артиллерии назначить гвардии лейтенанта Якушина. Командование полка надеется на вас. Задача вам ясна? Драться до последнего снаряда и патрона! Без приказа не отходить! Есть вопросы?
У нас вопросов не было.
— Приказ выполним по–гвардейски! — был наш ответ командованию полка.
… Полк бесшумно и незаметно снялся с занимаемых позиций и растворился в утреннем тумане. Мы с горсткой бойцов заслона остались один на один с немцем, защищающим теперь свое звериное логово, а не оккупированную Белоруссию. Впереди Августов и Восточная Пруссия. Сзади — никого. Только завалы, заграждения и мины на дороге, оставленные нашим полком при отходе.
Установив орудия на огневых позициях и предупредив командиров орудий без моей команды не стрелять, я пошел к комэска, начальнику заслона, чтобы согласовать наши действия. Немец молчал, изредка ведя беспокоящий огонь. Но молчание это было тревожное. С его стороны все отчетливее слышался шум моторов и лязганье гусениц. Фашист подтягивал танки и САУ. Предстоящий бой предвещал быть жарким, и именинниками в нем будем мы, артиллеристы противотанковой батареи. С комэска обсудили, как лучше вести себя в данном положении. Решили не дразнить немца, а самое главное — не дать ему понять, что нас мало, что основные силы ушли. Надо было приберечь патроны, мины и снаряды для решающей схватки, а пока решили изредка постреливать из стрелкового оружия, тем более что мины у минометчиков были на исходе. Старшина Водзинский тоже должен будет стрелять только на поражение. Уходя к комэска, я боялся за своих бойцов, чтобы они не выпили лишнего, благо трофейные брички со всем этим добром стояли нетронутыми. Приказал командирам орудий выдать бойцам по 100 грамм, и не более. Каково же было мое удивление по возвращении на огневую позицию! Все мои бойцы наотрез отказались от спиртного и были до неузнаваемости серьезными и сосредоточенными. Как можно в такой ситуации не пить?! Все же понимали, что нам, скорее всего, крышка. Я думал, что бойцы решат выпить как следует в последний раз, но оказался неправ.
Да, в заслоне не шутят и редко когда из заслона возвращаются живыми. Каждый готовился с честью провести свой последний бой и перед смертью уложить как можно больше фашистов. Пусть они дорого заплатят за наши жизни!
Командиры орудий в который уж раз проверяли орудия, прицелы, их готовность к бою. Пока еще не завязался бой и было время, еще и еще раз проверяли снаряды, маскировку, окопы, стрелковое оружие, гранаты, схему ориентиров, готовность к круговой обороне и прочее. В бою времени на подготовку орудий не будет, и каждая оплошность и упущение будут нам стоить жизни. Расчеты заканчивали оборудование запасных огневых позиций, расчищали скрытные пути доставки к ним орудий.
В воздухе на бреющем полете появился желтокрылый самолет–разведчик. Летел он вызывающе низко, высматривая наши позиции, желая как бы вызвать огонь на себя и засечь наши огневые точки. Сделав один круг над нашими позициями, летчик, видно, не стал больше рисковать, и самолет скрылся за лесом. Мы ждали начала наступления …
Но немец не торопился и продолжал накапливать силы, подтягивая к нашим позициям свои резервы, сосредотачивая против нашей обороны свою боевую технику. Шум моторов и лязганье гусениц не прекращался. Фрицы готовили мощный таран. Это было понятно даже новобранцу.
Обедали без аппетита. В мозгу все время сверлила мысль о предстоящем бое. Вдруг с той стороны, куда ушел полк, сначала тихо, потом отчетливо, стал слышен топот копыт одиночного всадника. Все насторожились. Всадник широкой рысью приближался к нам. Бойцы как–то сразу притихли и навострили ушки. Я вышел навстречу всаднику. Им оказался связной штаба нашего полка. Поприветствовав, он спросил:
— Где начальник заслона?
— Я его заместитель и поведу к начальнику заслона.
— С чем прибыл? — спросил я его по пути, причем довольно тихо.
— Сниматься! — так же тихо ответил он. Его ответ был как отмена смертного приговора. Гора с плеч, могильный камень с души.
«Ну, гады, теперь только оторваться от вас, и мы спасены!» — подумал я, направляясь со связным к комэска. Узнав приятную новость, комэска сразу стал готовить эскадрон к отходу.
Командир полка отозвал заслон по двум причинам. Первая — заслон выполнил свою задачу, полк благополучно оторвался от противника. Вторая — мы были полку нужны для прорыва окружения и дальнейших боев. Я предложил свой план отхода заслона:
— Я с орудиями отхожу на расстояние 400–500 метров не доходя до коноводов эскадрона и огнем орудий прикрываю отход эскадрона в пешем строю. Как только эскадрон поравняется с орудиями, я отхожу в район коноводов, на опушку леса, и оттуда снова огнем прикрываю отход эскадрона.
Комэска одобрил мой план, и мы принялись за его исполнение. Ведя огонь, мы перекатами подошли к месту размещения коноводов. В одно мгновение конники были в седлах, пулеметы на тачанках, эскадрон вытянулся в боевую колонну. Связной доложил, что дорога заминирована, через небольшие интервалы сделаны завалы из крупных деревьев. Для конников преодолеть эти препятствия не составляло труда, не так трудно было пройти лес тачанкам и бричкам с минометами. Сложнее было нам, артиллерийским упряжкам. При поворотах между деревьями постромки передней пары цеплялись за них и препятствовали продвижению коренной пары лошадей.
Да и передок с орудием не приспособлен выписывать замысловатые вензеля между часто растущими деревьями. Орудия стали отставать от колонны. Такой порядок меня не устраивал, тем более что фрицы в любой момент могли сесть мне на хвост. Я потребовал от комэска поставить за мной тачанку и не менее одного сабельного взвода, что было и сделано. Конники помогали расчетам орудий преодолевать узкие места лесного бездорожья на всем пути до основных сил полка. В полку нас не ждали, считали погибшими, да им было и не до нас. Они вели бой, пробивая кольцо окружения. Прямо с марша и мы вступили в бой, но это был уже обычный бой, кругом были свои, дрались не одни, а в составе всего полка. А на миру и смерть красна.
21 июля бои достигли наивысшего накала. Гитлеровцы полностью окружили части корпуса. Раненых отправляли на большую землю на «кукурузниках». Сопровождавшие раненых до полевого аэродрома конники на обратном пути попали в засаду и были зверски убиты немцами. Прибывший на место боя комендантский эскадрон корпуса был свидетелем страшного зрелища. Трупы наших бойцов были изуродованы до неузнаваемости. Фашисты вырезали у них на груди и на спинах звезды, у многих отрезаны носы и уши, выколоты глаза. Об этом рассказал нам парторг полка майор Островский. Не было предела гневу наших бойцов. Никакой пощады фашистским палачам!
Кончились боеприпасы. Эскадрон вышел к небольшой деревушке, занятой немцами. Завидев эскадрон, немцы под прикрытием танка пошли в атаку. Когда до них оставалось метров 30, парторг полка Островский с криком «За Родину! Смерть фашистам! За мной, вперед!» поднял бойцов врукопашную. Эскадрон с мощным «ура–а!» ринулся на врага. Сошлись врукопашную. Островский застрелил трех немцев. Метким броском гранаты бойцы подорвали танк и устремились вперед … Вскоре деревня была отбита. Мощным тараном конногвардейцы корпуса самостоятельно прорвали кольцо окружения, вернули себе инициативу и 23 июля соединились с пехотой. Еще двое суток наша 5–я гвардейская кавдивизия гнала на юг теперь отступающих немцев. Вновь началось наступление на Августов. Но бои не проходили бескровно, вновь и вновь на поле боя мы теряли своих боевых товарищей, очень много было раненых. 25 июля получил в бою свое третье ранение отважный минометчик, мой боевой друг комвзвода старшина Водзинский.
Неожиданно (как всегда) - пришла директива командующего 2–го Белорусского фронта: передать дальнейшее наступление на Августов пехоте, а корпусу выйти в резерв. На этом и закончилась для нас Белорусская операция …
За 35 дней победным маршем наш 3–й гвардейский кавкорпус прошел 550 км, а с маневрами — 900 километров. В среднем мы проходили с боями по 25 км в сутки, освобождая города и села нашей многострадальной Белоруссии.
После отдыха и пополнения началось наше наступление в Польше. Во время перерыва между боями у нас, офицеров полка, была возможность сфотографироваться вместе. Эта фотография есть на страницах книги. Я и Зозуля задержались в штабе, нас позвали фотографироваться в последний момент. Поэтому на фотографии мы стоим в самом заднем ряду. Эта фотография мне особенно дорога, так как это единственная фотография моего дорогого боевого друга лейтенанта Кучмара, который погиб 2 мая 1945 года. Он стоит во втором ряду в темном кителе, третий слева.
В то же самое время, на отдыхе, командующий нашего корпуса генерал Осликовский приказал пошить всем кавалеристам корпуса кубанки с синим верхом. Очевидно, в этом проявился извечный снобизм кавалерии в русской армии. Мы и тогда, в годы Великой Отечественной войны, любили повторять пословицу старой царской армии:
Щеголь–в кавалерии,
Лодырь–в артиллерии,
Пьяница–на флоте,
А дурак–в пехоте.
По кубанкам было легко выделять в общей массе военнослужащих кавалеристов нашего корпуса. Носили казачьи кубанки, хотя мы и не были казачьей кавалерией. Интересно, что в Германии мы встретились с казачьими частями Красной армии, так те казаки были одеты в традиционные шаровары с лампасами, но были без кубанок.
ПОЛЬША
Вот мы и на польской земле. Непривычно раскинулись поля, разрезанные узкой чересполосицей единоличных хозяйств Белостокского воеводства. Я опять в ГПЗ, и мы первыми вступаем на польскую землю. Раннее утро, в польских селах тишина, безлюдно. Жители еще или спят, или попрятались в своих склепах (погребах), ожидая нашего боя с немцами. А немцы, видно, далеко отступили. У крайнего дома, в палисаднике, в ряд как по ранжиру, уложены трупы целой польской семьи. Лежат дед и бабуля, пожилой поляк с женой и четверо детей, один другого меньший. Никого не пожалели фашисты, ни старого ни малого. Чем они им помешали? Для чего такая жестокость? Кто уложил их в таком строгом порядке, по росту и по возрасту?
Выехали из села по проселочной дороге. Из крайнего дома бежит к нам одинокая фигурка бедно одетого, пожилого крестьянина. На бегу он кричит нам: «Братушки! Братушки!» и еще что–то на польском языке. Подбежал к нам с непритворной радостью, с сияющими, полными слез, глазами и все время повторял: «Братушки! Братушки!»
Потом заметался, побежал обратно к стожку клевера, набрал его полную охапку и бегом к нам, к нашей бричке. Забросил клевер в бричку и еще долго стоял на дороге, махая нам рукой, пока не скрылся за поворотом из виду. Эта встреча на польской земле с бедным крестьянином, вероятно, батраком, с неподдельной радостью встречающим наши войска, с желанием хоть чем–то помочь нам, освободителям его родины, говорит о многом. Но были и другие, затаившиеся в своих «каморах», С тревогой и недоверием ожидающие — что–то несут им советские «жолнежи,,?
И опять дорога, дорога …
На перекрестках распятия «Пана Езуса», с иконой под маленьким, угловатым навесом. На очередной привал, в небольшое село, прибыли мы поздним вечером. Погода резко изменилась, подул южный ветер с мокрым снегом. Мы теперь шли во втором эшелоне корпуса, и было относительно тихо. Пока ездовые и расчеты распрягали, поили и кормили коней, мы с сержантом Петренко зашли в дом обогреться. Там уже вели оживленную беседу с молодой, веселой хозяйкой: наш санинструктор, Силютин, и двое молодых бойцов из хозотделения. Хозяйка рассказывала что–то смешное, у всех были веселые лица. Наше появление внесло еще большее оживление. Поздоровавшись с нами, миловидная хозяйка любезно предложила нам стулья. ПРИЯТIО было после холодной, сырой погоды посидеть в тепле, в светлой и уютной комнате. Комната была освещена большой керосиновой лампой. С разрешения хозяйки мы закурили махорку, перемешанную с крепким самосадом. С лукавой улыбкой, обращаясь ко мне, хозяйка на ломаном польско–русском языке сказала:
— Если паны жолнежи желают, она будет показывать фокус. Приморозит стакан с водой к потолку.
Мы сказали, что желаем, и она приступила показывать фокус. Налила полный стакан воды, взяла в одну руку крупный кристалл соли, в другую стакан с водой и стала на табурет. На табурете она, лукаво улыбаясь, начала жестикулировать со стаканом, приговаривая, что сейчас будет фокус. Неожиданно кристалл соли выпадает из ее руки и падает на пол. Она просит меня подать его ей. То ли из–за того, что мне было лень подниматься со стула, то ли предчувствуя какой–то подвох со стороны хозяйки, я предложил поднять соль сержанту Петренко. Сержант наклонился у табурета, чтобы поднять упавшую соль, а хозяйка, не спеша вылив ему за воротник весь стакан воды, проворно спрыгнула с табурета и, довольная своим «фокусом», со смехом убежала в соседнюю комнату.
Петренко под дружный хохот всех собравшихся стал отряхиваться, а потом кинулся искать проказницу. Но не тут–то было. Хозяйка как сквозь землю провалилась. И только когда Петренко поостыл и смирился со своим положением, из–за двери высунулось лукавое лицо молодой хозяйки. Она, улыбаясь, начала просить прощения, чтобы на нее не сердился пан «жолнеж», так как это у нее произошло случайно.
Осенью 1944 года, пройдя победным маршем не одну сотню километров по Белостокскому воеводству, корпус получил приказ доукомплектоваться людьми, конским составом и боевой техникой для решающих боев в Восточной Пруссии. На период доукомплектования нашему полку приказано держать оборону на довольно спокойном участке фронта, в районе мяста (города) Гониондза. Командир полка, гвардии подполковник Ткаленко в конном строю повел нас, группу офицеров полка, на рекогносцировку местности непосредственно, на переднем крае нашей обороны. Выехав на небольшую возвышенность, откуда был отличный обзор местности, он стал знакомить нас с боевой обстановкой. Впереди, на три километра, простиралась топкая, заболоченная равнина, за которой на возвышенности находился противник.
Вероятно, несмотря на значительное расстояние, наша конная группа хорошо просматривалась, так как не успел комполка закончить свой приказ о боевой задаче полка, как немцы открыли прицельный артиллерийский огонь и возле нас стали рваться снаряды. По команде «в укрытие!» мы галопом направились в небольшой овраг и с ходу стали спешиваться. Я забыл, что у меня на шее висит не пристегнутый к ремню полевой бинокль, и, когда я поспешно спешивался, бинокль с маху ударил меня по верхней губе и рассек ее до крови. Потом это место долго не заживало, и самое обидное, что после заживания на этом месте не росли усы, которые были в моде у всех офицеров полка.
Огневые позиции мы копали уже под новые 57–мм противотанковые пушки ЗИС–2, которые нам доставили вместо сорокапяток. Новые орудия имели значительные преимущества: по дальности прямого выстрела (1100 метров против 800 метров 45–мм пушки). 57–мм пушка могла поражать все танки фашистской Германии. Для сопровождения эскадронов артиллерийские упряжки комплектовались уже из шестерки лошадей, а вместо двух ездовых теперь на упряжку орудия полагалось три ездовых. Огневые позиции рыли ночью, чтобы их не обнаружил противник. Рыли в полный профиль, С капонирами для орудий и укрытиями для расчета. Грунт был мягкий, огневые позиции были вырыты и замаскированы до рассвета.
Днем, оставив у орудий одних наблюдателей, расчеты спали. Наставлений по материальной части и по боевой стрельбе из новых орудий не было, приходилось рассчитывать на свой опыт. А орудия надо осваивать до настоящего боя. Хоть и спокойная оборона, но все же это фронт, и за болотом немец, а впереди новое наступление и встречные бои. По просьбе командира орудия я дал разрешение на один выстрел, а потом еще на два снаряда. Со второго снаряда (с прицелом на 3000 м), мы накрыли немецкие траншеи, но получили в ответ такой плотный артналет по нашим позициям, что пришлось срочно закатывать орудия в свежие капониры. Вдобавок за самовольную стрельбу я получил нагоняй от начальника артиллерии полка Сони на.
Впоследствии я ознакомился с орудиями и обучал взвод по немецким (трофейным) наставлениям. Я вообще любил порыться в бумагах в разбитых немецких штабах. И в одном из них нашел полное описание и наставление на нашу новую 57–мм пушку ЗИС–2! Пришлось полагаться на него, так как отечественных наставлений нам так и не предоставили.
Неподалеку от огневой позиции был довольно вместительный склеп (погреб), в нем мы и разместились с расчетами. Склеп был сложен из крупного камня и надежно защищал нас от артобстрела. К нам часто заходила армейская разведка. Отдыхали у нас в склепе до ночи, как до выхода, так и после. Угощали нас водкой, консервами и прочими продуктами. Надо сказать, что разведчиков снабжали очень хорошо, вероятно, за их нелегкую и опасную работу. Так как перед нами пехоты не было и только мы держали в этом районе оборону, старший по разведке договаривался с нами о месте, времени и сигналах при их возвращении.
Возвращаясь с «языком» через наши позиции, они подавали условный сигнал. Поиски разведчиков проводились в полной темноте. Иногда они волокли с собой «языка», но бывали и неудачные ночи, когда не только не было «языка», но и сами возвращались не в полном составе.
Днем на ничейной земле, между болот, хорошо просматривались бродившие две овцы и жеребенок. у моих ребят эта картина вызывала повышенный аппетит, и они надоели мне с просьбой отпустить их за живым шашлыком. Днем показаться на ничейной земле нельзя — весь трехкилометровый участок хорошо просматривался и простреливался немцами. А с наступлением темноты в промежутках между осветительными ракетами наши и немцы делали вылазки по болоту. Я разрешил двум опытным бойцам, из старослужащих, поймать одного барашка, что и было выполнено довольно быстро. Бойцы целую неделю лакомились свежей бараниной.
Неподалеку от нас, на левом фланге, находился город Гониондз. Немцы часто обстреливали его из артиллерийских орудий. В один из вечеров к нам прибежала насмерть пере пуганная паненка и на наш вопрос, откуда она и как оказалась в нашем расположении, она так быстро начала рассказывать, что никто толком ничего не понял. Я сказал:
— Паны не разумеют, успокойся и говори помедленнее.
А она все повторяла:
— Я пшишла с Гониондза. Там кули леться и леться.
А у меня склепа нимам, негде сховаться.
Полезла в студню, а там хладно, зимно.
И вот… и пшишла до вас.
В переводе это значило, что она пришла из Гонионза, где рвутся снаряды и летят пули, а ей негде спрятаться, так как у нее нет погреба. И вот она пришла к нам. Успокоив, обогрев и накормив паненку, мы отправили ее с сопровождающим в наш тыл.
Позади нашей огневой, в тылу, размещалось поместье пана Крамковского, здешнего помещика. Богатый был пан, но жадный, все боялся за свое стадо овец и коров, все спрашивал у нас — как к нему будет относиться новая власть. Очень боялся колхозов. Мы отвечали, что их польское правительство будет само решать: кому землю, кому скот, кому заводы и нужны ли вам колхозы! А мы только помогаем освободить Польшу от немцев!
Стало холодно или, по–польски, «зимно». На польскую землю пришла зима. Еще несколько маршей по Белостокскому воеводству, и мы остановились в уютном, тихом местечке с небольшим костелом. Поорудийно разместив взвод по отдельным домам, сам я поселился в намеченном квартирьером небольшом чистеньком домике. Хозяйка дома проживала в нем с молодой миловидной семнадцатилетней дочерью и старушкой матерью. Встретили меня приветливо, как–то по–домашнему. 3ося, так звали дочь хозяйки, дородная, хорошо сложенная крестьянская девушка, уступила мне свою кровать, а сама устроилась спать на широком деревянном диване. После нашей солдатской, полевой жизни и ночных походов, приятно было выспаться на чистой, мягкой и теплой постели.
Польский язык немного схож с украинским, и мы без переводчика, как–то незаметно, стали понимать друг друга. К 3осе часто забегала ее подруга, хорошенькая, тихая и застенчивая девушка из соседнего дома. Она всегда находила причину лишний раз заглянуть в наш дом. То нужна им соль, то запалки (спички), а то и просто что–то передать нашей хозяйке от своей соседки. Приходя к нам, она всегда украдкой поглядывала в мою сторону, одаривала меня лукавой улыбкой. Мне она также как–то сразу приглянулась, и я стал проводить у нее в доме все свое свободное время, вызывая по этому поводу недобрые замечания 3оси. Фронт был достаточно далеко от нас. Не слышно было даже артиллерийской канонады. Немец прошел стороной. Дома были целы, и мы жили, и работали, как в мирное время. Эти дни памятны мне двумя событиями: присвоением мне очередного воинского звания, гвардии лейтенанта, и рождественскими праздниками.
В один из вечеров зашел к нам домой наш комбат Агафонов и, обращаясь к хозяйке дома и домочадцам, торжественно заявил:
— Можете поздравить своего постояльца, ему присвоено очередное офицерское звание гвардии лейтенанта. И теперь он будет носить на погонах не по одной, а по две звездочки.
Комбат, доброжелательная хозяйка пани Ядвига, 30СЯ и даже бабуля, по очереди, поздравляли меня с новым званием, а на другой день пани Ядвига в мою честь закатила праздничный обед. Обед был с пирогами, пампушками и прочей снедью по–польски, что–то среднее между украинскими галушками и сибирскими пельменями. А через несколько дней все это доброе местечко преобразилось: наступило Рождество.
В каждом доме к этому празднику тщательно готовились. Хлопотала и моя хозяйка. В день Рождества к ней пожаловали нарядно одетые. близкие родственники. На своей половине дома хозяйка устроила молебен. Молитвы были в виде довольно приятного песнопения. Пани Ядвига своим приятным грудным голосом начинала, остальные пани и паненки хором подхватывали слова молитвы. Моление было похоже на приятную мелодичную песню. После моления Зося и остальные девушки стали собираться на колядки. Звали и меня с собой. Я поблагодарил за приглашение, но вежливо отказался. Не к лицу было советскому офицеру участвовать в подобных забавах. Надо было где–то раздобыть мне четыре звездочки на погоны, две на гимнастерку и две на шинель. Но, как назло, ни у одного офицера полка не оказалось лишних звездочек. Пришлось вырезать их из консервной банки. Закрепив на погонах гимнастерки фирменные звездочки, сняв их с погон шинели, а на погоны шинели пришив самодельные, я собрался уже уходить, как тут в окно постучали, и целый хор молодых голосов стал исполнять заздравную песню …
Хозяйка сказала, что это пришли парни и девушки с колядками и просят разрешения войти в дом. Спросив у меня согласия, хозяйка отворила дверь и с поклоном пригласила всю эту ватагу. Румяная от мороза, веселая молодежь с большой звездой на палке и с торбами для подарков гурьбой 8валилась в избу. Среди них была и Зося с подругами. Выстроившись полукольцом, они начали колядовать, величая хозяйку дома и ее домочадцев. Пение сопровождалось шумовыми Эффектами на самодельных инструментах. По окончании этого импровизированного концерта, его участники поочередно с поклоном подходили к хозяйке дома, которая одаривала их разными выпеченными к празднику: булочками, кренделями, пышками и прочим печением. После этого вся команда со звездой подошла и ко мне. Хозяйка подсказала, что им надо что–то дать за хорошую колядку, можно одарить и злотыми. Злотые я только что получил и не знал, на что их можно потратить, так как у нас все было. Солдату многого не надо, тем более что и население еще не признавало наших злотых. А вот здесь они оказались кстати. Я щедро оделил злотыми всю эту веселую компанию. Довольные, они кланяясь и неоднократно повторяя «Бардзо дзиенькуе!», подталкивая друг друга, вывалились из дома. Хозяйка была тоже довольна, что побаловала меня (русского пана офицера) таким веселым национальным обрядом. Мне также понравился этот старинный обряд, который был когда–то широко распространен и у нас на Руси, и на Украине. Я родился после революции и этот обряд уже не застал, но мать рассказывала, что в России тоже был такой же обряд.
После празднования на дому все местечко собралось на большой молебен в костел. Ксендз, в отличие от нашего попа, мало чем отличался от своих прихожан, разве что своим образованием и интеллигентным видом. Он всегда был чисто выбрит, аккуратно одет, пользовался большим авторитетом и уважением у прихожан. К нам, русским жолнежам, относился весьма доброжелательно. Богослужение в костеле проводилось сидя за столиками, как в школе за партой, только вместо учебников были молитвенники. Ксендз не имел жены, жену ему заменяла довольно молодая и симпатичная экономка. Среди поляков я не встречал фанатиков. К вере они относились довольно сдержанно, как к обязательному обряду в их жизни. Все они аккуратно посещали костел, молились, уважали своего ксендза как духовного наставника. Но твердой уверенности в существовании бога и Пана Езуса–коханого и Матки Боски, у них не было.
На опушке леса, по замерзшему болоту, которое мы превратили во временный полигон, провели боевые стрельбы батареи из всех видов оружия. Стрельбы показали хорошую боевую подготовку наших расчетов, готовность к решающим боям, теперь уже на территории врага, в фашистском логове. Хозяйка, Ядвига и ее соседки начали поговаривать, что мы скоро уедем. Сарафанное радио здесь так же, как и в России, работало безотказно. Как им удавалось узнать день нашего отъезда, который и мы не знали, остается загадкой. Очевидно, кто–то проболтался из штабных.
И вот ранним утром запела труба горниста. Мелодичный, протяжный, требовательный сигнал «Седловки». Он то возрастал, то затихал. Горнист объезжал подразделения полка. Все пришло в движение. Настал день отъезда. На прощание хозяйка передала мне в дорогу «подорожники» — мешочек с выпеченными пышечками. Обняла и проводила меня, как сына. С Зосей мы расцеловались уже в сенях, на глазах у нее были слезы. Подруга ее, моя кохана, прибежала запыхавшаяся тогда, когда я был уже в седле. Сунула мне в руку конвертик с фотокарточкой и тоже прослезилась. Провожать нас высыпало на улицу все местное население. Вдали молодые парни, призывники Войска Польского, пели песню:
Еще польска не сгинела поки мы жиемы,
Еще водка не скваснела поки мы жиемы.
Марш! Марш! Домбровский, все мы влоды да польски.
За твоим пшеводем, звончимся с нородом.
Пшейде Висла, пшейде Варта. Бенде поляками!
Провожающие махали нам руками, желали скорой победы. Желали вернуться домой живыми и здоровыми! День был морозный и безоблачный. Под колесами бричек приятно поскрипывал искрящийся на солнце снег. Мы были готовы к новым боям. Я подал команду:
— Черкащенко! Запевай!
И полилась старинная казачья песня:
Ой на горе, ой на горе, тай жинцы жнуть,
Ой на горе, ой на горе, тай жинцы жнуть.
А по пид горою, яром зеленою казаки ийдуть.
Припев
И ей, далиною, гей. Казаки ийдуть.
По пе, по переду, Дорошенько.
Виде свое вийско, вийско запорижско. Хорошенько.
Припев
И ей далиною, гей. Хорошенько.
А по зади, а по зади Сагойдачный.
Что проминял жинку на тютюнь, та люльку, неубачный.
А мне, а мне с жинкой не возиться.
А тютюнь та люлька казаку в дорозе пригодится.
Припев
И ей, далиною, гей пригодится!
Взвод молодецким, дружным хором подхватывал припев и последние слова куплетов.
Еще один ночной марш, короткий отдых еще в одном польском местечке. Оставив сержантов заниматься с лошадьми, я вошел в дом и по приглашению хозяйки, сняв шинель, прилег отдохнуть на кровать и сразу уснул. Проснулся я от назойливой мухи, которая ползала по моему лицу. Не открывая глаз, я пытался отогнать ее, но ничего не получалось. Открыв глаза, я увидел, что это не муха, а возле меня сидит молодая, симпатичная паненка и водит сухой травинкой по моему лицу. Схватив ее за руку, я прижал ее к себе, но она, как ящерица, выскользнула из моих рук и убежала. Я повернулся на другой бок и снова уснул. Но поспать не пришлось. Паненка, а это была дочь хозяйки, вернулась и опять принялась за свое. Но тут я уж схватил ее и не выпускал. Она стала молить меня, что больше не будет и, чтобы я не сердился, она мне погадает. Взяв мою руку, она начала гадать по моей ладони. Я сказал, что гаданиям не верю. Но она настаивала на своем и заявила, что скажет чистую правду … «Тогда скажи мне: останусь ли я жив в этой войне?» На полном серьезе, всматриваясь в линии на моей ладони, она изрекла: пан лейтенант останется жив, но будет еще несколько раз ранен! Это было в январе 1945 года. В последующих боях я был два раза ранен, в Восточной Пруссии и в Германии. Предсказание ее сбылось.
ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ. РАНЕНИЕ И ГОСПИТАЛЬ
Там же, на границе Польши и Восточной Пруссии, мне запомнилась выводка коней нашего полка. Выводка для нас была и экзаменом, и праздником. Целые сутки перед выводкой мы чистили и мыли коней, заплетали им хвосты и гривы в косички. Косички расплетали в день выводки, чтобы гривы и хвосты вились как волосы молодой девицы–красавицы после завивки. Не только бойцы, но и ветинструктор, и кузнец взвода хлопотали, каждый по своей части, проверяя здоровье, упитанность и ковку. Каждый боец и командир подразделения отвечали за своих коней перед дивизионной комиссией, проводившей выводку. Коня берегли больше, чем оружие, и выводка составляла не последнюю часть боевого смотра перед наступлением части. Плохо, конечно, когда выводку назначали неожиданно, особенно после длительного марша, да в чужом краю и в сжатые сроки для подготовки.
Так случилось и в этот раз. Приказ о выводке комбат привез из штаба за день до начала самого мероприятия. Мы были на дневке. Мой взвод размещался в небольшом фольварке, в спешке оставленном немецким населением недалеко от границы с Восточной Пруссией. Бойцы кто брился, кто штопал свое обмундирование, подшивал подворотнички, приводил в порядок оружие, орудия и боевые брички. На вечернем совете решали вопрос чистки коней. Комвзвода Зозуля предложил чистить коней всю ночь, а утром, до обеда, дать бойцам отдохнуть. Я же, посовещавшись с моим помкомвзвода и командирами орудий, решил: ночью отдыхать, а утром, на зорьке со свежими силами заняться чисткой коней, отдав должное коноходам, щеткам и скребницам. Проблема была только с белой тройкой ездового Ведерникова. На белых лошадях бросалось в глаза каждое пятно, особенно от навоза. Но Ведерников заявил, что проблем не будет, и на выводке его кони будут не хуже других. Надо сказать, что в этот день наш санинструктор сержант Силютин, облюбовал неподалеку от моего дома кирпичный сарай и натопил его для бани солдат нашей батареи.
Ночь прошла спокойно, если не считать утреннего скандала. На рассвете меня разбудили истошные крики сержанта Силютина, который на чем свет стоит крыл Ведерникова и, войдя ко мне, с возмущением требовал наказать его на всю катушку. Выйдя во двор, я застал Ведерникова выводящим из бани последнего своего коня и молча отмахивающегося от Силютина, как от назойливой мухи.
Оказалось, что Ведерников всю ночь отмывал свою белоснежную тройку в силютинской баньке. Пообещав Силютину примерно наказать виновного и, приказав Ведерникову надлежащим образом убрать и помыть баньку, а также нагреть воды, я направился проверять артиллерийские упряжки. Оглянувшись, заметил, как Ведерников, неспешно, по–хозяйски привязывает своих коней на короткий чембур, чтобы они, не дай бог, не смогли лечь. Я, с одной стороны, был на стороне Силютина, а с другой — в душе хвалил Ведерникова за смекалку. Ветинструктор батареи гвардии старшина Минибаев в очередной раз измерял температуру коням, вставляя под хвост граненые градусники, и привязывал их к хвостам белым бинтом. Проверяя ковку, кузнец взвода поочередно поднимал все четыре ноги коня и зажимал их в своих коленях. Кони пофыркивали, дружелюбно и спокойно реагировали на все эти операции. На выводку мы привели своих коней к полудню и заняли свое место в колонне полка сразу за четвертым эскадроном. Всего коней было у нас на батарее не менее ста голов.
Осматривала коней авторитетная дивизионная комиссия во главе с начальником ветеринарной службы дивизии. Члены комиссии ставили оценки по пятибалльной системе каждому коню — по телу, упитанности, чистке, уходу, поковке и по другим ветеринарным показателям. Офицеры представляли свои подразделения. Каждый конник вел своего коня или по очереди своих коней и, подведя к комиссии, четко поворачивался лицом к голове коня, держа в двух руках растянутый между ними повод, и докладывал: «Конь артиллерийской упряжки, кличка Богатырь …» И так далее.
Члены комиссии осматривали коня и докладывали писарю свои оценки. Кони моего взвода, все 30 лошадей, прошли на отлично, особенно понравились комиссии кони Ведерникова. На солнце они сверкали своей белизной, как сказочные. Но всю обедню чуть было не испортил замыкающий взвода, ездовой брички Слабосиленко. Представляя последнюю лошадь своей тройки, он звонко доложил: «Конь боевой брички, кличка Гитлер!»
Комиссия опешила. Председатель, гвардии полковник, возмущенно заикаясь, закричал:
— ЧТО?! КАКАЯ КЛИЧКА?! ПОВТОРИ! Кто выдумал назвать боевого друга, коня кличкой ГИТЛЕР?! Комвзвода, доложи, какая у коня кличка?!
Я на ходу окрестил его «Найденыш» — настоящую его кличку, по описи, никто не помнил и добавил, что конь трофейный и временно заменяет захромавшую пристяжную брички. Председатель пробурчал:
— Если трофейный, то нечего его и представлять на выводке.
Но, несмотря на это, оценку взводу не снизил. А коня этого мы приобрели в Польше из разбитого нами немецкого обоза и вели за собой как резерв боевых бричек. Его как–то сразу невзлюбили во взводе за его непомерно большую голову, капризный характер и агрессивный нрав. Вдобавок он еще и кусался. За все это бойцы прозвали его Гитлер. Кличка эта пристала к нему, и все забыли его кличку по описи ветинструктора. За отличную подготовку батареи к выводке, несмотря на отдельные замечания во взводе гвардии лейтенанта Зозули, нам была объявлена благодарность в приказе командира полка, гвардии полковника Ткаленко!
В то время когда войска 1–го Белорусского и 1–го Украинского фронта вели Висло–Одерскую операцию, 3–й и 2–й Белорусский фронт начали осуществлять Восточно–Прусскую операцию. Нашему корпусу, имевшему более 140 танков и САУ, в составе 5–й, 6–й гвардии кавдивизии и 32–й Смоленской кавдивизии, поставлена задача: обогнать пехоту на рубеже Ежорец, Прасныш и, действуя в полосе 3–й армии, к исходу 22 января 1945 года овладеть городом Алленштайном (Ольштын), вторым по величине после Кенигсберга городом Восточной Пруссии. Наш 24–й кавполк (в составе 5 г.к.д.) обходным маневром 20 января 1945 года перешел границу Восточной Пруссии в районе Браухвальде, Ной Рамук, что южнее Алленштайна. Наконец–то мы на территории противника, в гитлеровском «волчьем логове»!
17–й гвардейский кавполк нашей дивизии шел в этот день головным. При спуске с возвышенности в долину нам хорошо была видна на снегу темная лента его боевой колонны. Мы шли ВО втором эшелоне. Неожиданно в небе появились наши «илы» И С ходу начали поливать огнем на бреющем полете боевые порядки 17–го полка. И только после наших многократных сигналов ракетами штурмовики перенесли огонь на противника. Летчики, видимо, приняли головной отряд дивизии за немцев, за власовскую кавбригаду. Дороги в Пруссии, как и дальше по всей Германии, хорошие. Но начался сильный гололед. Больно было смотреть, как тяжелые кони артупряжек, скользя на асфальте, покрытом слоем льда, падали и задерживали движение колонны. В подковы коренных лошадей артупряжки «на круг» были ввернуты Н–образные шипы, но при таком сильном гололеде они не спасали от падения. Нужны были острые шипы, хотя бы на подковы передних копыт. Справа от дороги валялись, задрав кверху копыта, убитые арткони 17–го полка. На их подковах четко были видны острые шипы. Вызвав к себе взводного кузнеца, я молча указал ему на убитых лошадей. Он понял меня без слов. Вооружившись своим нехитрым инструментом, он в считаные минуты вывернул из подков убитых лошадей шипы. За короткие минуты остановок колонны кузнец заменил шипы в подковах коренников наших упряжек. Падение лошадей упряжек прекратилось.
Вспомнился мне случай (когда–то прочитанный), что Кутузову один солдат подарил четыре подковы от французских лошадей. Они были без шипов. Начался гололед. Кутузов понял намек смекалистого солдата и, оценив его подарок, изрек: «Этим подарком, Семен Жестянников (так, по–моему, звали солдата), ты подарил мне всю французскую кавалерию!»
К ночи 21 января 1945 г. наш 24–й гвардейский кавполк стал головным в дивизии, а я со своим орудием вошел в состав ГПЗ (головной походной заставы). Очень кстати пришлись нам выданные накануне белые маскхалаты, а точнее комбинезоны. Они, кроме своего основного назначения, надежно защищали нас от холодного ветра, прижимая к ногам полы наших кавалерийских шинелей. Дорога проходила лесом по свежевыпавшему снегу. На лесной поляне появился двухэтажный деревянный дом. В доме не было огня. При тусклом свете зажженных нами бумажных жгутов в большом зале столовой был виден стол с еще не остывшей пищей. Вероятно, это был охотничий дом. Хозяева только что покинули его. Им было уже не до еды.
Не задерживаясь в доме, ГПЗ пошла дальше. Пройдя километров пять, головной дозор наткнулся на немецкий заслон и был обстрелян сильным пулеметным и автоматным огнем. Бойцы ГПЗ спешились и залегли … Чтобы уничтожить пулемет, надо было его видеть, а он строчил короткими очередями в кромешной темноте. Скомандовал орудию: «К бою! По пулемету, гранатой, взрыватель осколочный! Зарядить!»
И, приказав командиру орудия ждать меня, я пополз по–пластунски к пулемету. Маскхалат надежно скрывал меня от противника, и я, чуть ли не вплотную, подполз к пулемету. Уточнив его место, я тем же путем вернулся к орудию. Двух выстрелов было достаточно, чтобы пулемет замолчал. Замолчали и автоматчики. Остальное завершили бойцы ГПЗ. На поле боя остались разбитый пулемет и трупы немецкого заслона. Сбив заслон противника, мы продолжали движение на Алленштайн.
Когда прошли без выстрела еще километров восемь, путь ГПЗ преградили крупные силы противника, укрепившиеся в большом населенном пункте. Завязался бой. В бой подключился и головной отряд (усиленный эскадрон), гвардии старшего лейтенанта Коновалова. Противник, силой до двух батальонов с танками, оказывал сильное сопротивление. Населенный пункт находился на возвышенности. Я с орудием, под прикрытием темноты, остановился на дороге. Для уточнения обстановки мною был послан связной к командиру эскадрона.
Шоссе, на котором остановилось орудие, круто спускалось вниз, к деревне. Головной отряд наступал. В процессе боя загорелось несколько домов, которые своим огнем осветили остальные постройки. На противоположную от нас окраину, освещенную пожарищем, выползли три танка. Мы в темноте. По данным комэска, переданным связным, головной отряд захватил больше половины населенного пункта. Удобного места для огневой позиции нет.
Принимаю решение — уничтожить хорошо освещенные танки противника, развернув орудие, прямо здесь, на шоссе. Расчет, в основном состоящий из нового пополнения, еще не вел боя с танками, хотя на учениях стрелял неплохо. Танки были как на ладони, на расстоянии 500–600 метров.
Командую: «К бою! Подкалиберным по головному танку. Огонь!» Танк был подбит с первого выстрела. Но не успели мы перенести огонь по замыкающему танку, как наше орудие осветило светом как–то сразу вспыхнувшего пожаром ближнего к нам дома. Незамедлительно последовал ответный огонь танков. Разрыв снаряда слева от орудия. Надо срочно менять огневую позицию! Причем это сделать легко: свести и поднять станины, тогда орудие само скатится под горку, в мертвую зону для фашистских танков. Командую: «Отбой! Орудие под горку!» Но молодой расчет дрогнул после первого разрыва снаряда и без команды отступил в кювет. Подбегаю к орудию сам и повторяю команду с добавлением крепкого русского слова.
Расчет подбежал к орудию и начал сводить станины. Как ни странно, но такие не предусмотренные уставом слова в нужный момент действовали безотказно. Еще секунды, и орудие само бы скатилось в безопасную зону. Но время было упущено. Вторым снарядом орудие было выведено из строя. Три бойца расчета получили ранения, один, рядовой Орловский, убит. Все из нового пополнения. Немецкие танкисты умеют стрелять не хуже наших. Подошли основные силы полка. Почувствовав наше превосходство, танки, бросив нами подбитый танк, на предельной скорости сбежали с поля боя.
Осколком снаряда и я был ранен в кисть правой руки с повреждением кости. Подоспевшие санинструкторы начали перевязку и эвакуацию раненых в тыл. Я пытался сам индивидуальным пакетом сделать себе перевязку, но левой рукой это не получалось. Из–за мороза кровь было трудно остановить, да и рука, замерзнув, сильно болела. Мне помогли. Только после второго индивидуального пакета кровь перестала сочиться, а несколько глотков из фляги замполита гвардии майора М.Н. Новикова согрели меня лучше всякой грелки.
Впоследствии, анализируя этот бой, я еще и еще раз убеждался в том, насколько опыт и стойкость расчета обеспечивают без потерь четкое выполнение боевой задачи. Если бы расчет состоял из «стариков», орудие без суеты было бы выведено из опасной зоны. В последующих боях уцелевшие бойцы расчета уже не поддавались секундной слабости, четко и стойко выполняли свои обязанности при дуэли с танками. Сражения с танками противника у нас, за редким исключением, проходили неожиданно, скоротечно, во встречных боях, когда нет времени для выбора и оборудования огневых позиций и огонь приходится вести с ходу. И тут уже кто кого. Происходит дуэль с танками, но право на первый выстрел чаще всего за нами. Но если ты его (танк) не уничтожишь, то он не промахнется и уничтожит тебя и твое орудие. Кроме права на первый выстрел, у нас были и другие преимущества:
Мы защищали свою Родину, они вели захватническую войну.
Мы твердо стояли на земле, они были в железной коробке, начиненной взрывчаткой и горючей смесью.
Нас было трудно заметить, они были на виду (если только танк не в засаде).
Вкратце расскажу о боях нашей дивизии и полка за время моего отсутствия. На рассвете 22 января 1945 года 6–я кавдивизия с запада и наша 5–я кавдивизия с юга начали наступление на второй по величине город Восточной Пруссии — Алленштайн. В конном строю, в необычном боевом порядке, эскадроны повели наступление веером. Впереди каждого из них мчались танки и СДУ. В городе началась паника. Толпы гражданского населения пере мешались с кавалеристами, создавая хаос и беспорядок. Наш 24–й и соседний 23–й кавполки захватили железнодорожную станцию. Один из комэсков обратил внимание на настойчивые звонки телефона. Его ординарец, свободно владеющий немецким языком, снял трубку и услышал запрос с соседней станции: может ли Алленштайн принять воинский эшелон? Комэска приказал передать:
— Станция готова принять эшелон!
Только разоружили охрану, как у семафора раздались паровозные гудки.
— Эшелон прибывает, тов. подполковник. Что будем делать? — подбежал к Ткаленко капитан Масленников.
— Встречать надо, как полагается!
И приказал командиру эскадрона быстро расставить людей вдоль полотна, а конникам старших лейтенантов Олейникова и Коновалова взять все подъездные пути в кольцо. Состав пропустили на станцию и тут же разоружили ошеломленный конвой. Только отогнали эшелон на запасную ветку, как у семафоров вновь раздались гудки. Один за другим прибывали на станцию вражеские эшелоны, их принимали по всем правилам эксплуатации железных дорог. Немцы, служащие станции, проинструктированные должным образом, старались вовсю. Пулеметчики и автоматчики по обе стороны насыпи встречали эшелоны. Охрана, видя такой теплый прием, бросала оружие и сдавалась. Станция работала по–немецки четко и организованно. Добровольцы стрелочники и телефонисты, теперь уже из немцев, — поддерживали связь с соседней станцией. К исходу дня станционные пути были забиты сотнями вагонов. Всего же наши полки захватили, а затем приняли с соседних станций 22 эшелона с 37 паровозами и 1200 вагонами и платформами, груженными боеприпасами, танками, горючим, продовольствием.
За успехи в этом бою наш 24–й кавполк получил наименование «Алленштайнский». 22 января 1945 года Алленштайн был полностью освобожден от фашистов нашим корпусом. Упорными были уличные бои. Во многих домах на чердаках засели снайперы и фаустники. Многих бойцов потерял корпус, но немец потерял и того больше.
За успешные боевые действия в Восточной Пруссии наш 3–й гвардии кавкорпус был награжден орденом Красного Знамени, а нашей 5–й гвардии кавдивизии присвоено наименование Танненбергская. Многие генералы, офицеры, сержанты и рядовые были награждены орденами и медалями, в их числе генерал–лейтенант Осликовский — орденом Суворова первой степени. Наш комдив генерал–майор Чепуркин — орденом Суворова второй степени. Я был награжден орденом Красной Звезды.
в госпитале № 2727 я пробыл с 22 января по 5 марта 1945 года. Размещался госпиталь в польском городке Прасныш. Раны заживали. Один палец руки, где было касательное осколочное ранение, зажил спустя 20 дней. Указательный палец с повреждением кости и сустава заживал дольше. Еще в медсанбате мне хотели его ампутировать, но я не дал согласия. А в госпитале обнадежили меня, заявив, что палец будет работать. Не получилось, несмотря на все старания врачей. Поскольку сустав был разбит и не действовал, палец срастили в согнутом положении. В дальнейшем это мешало мне стрелять из пистолета и владеть шашкой. Сбылись предсказания моей бабушки, когда в детстве она предупреждала меня не показывать пальцем на радугу: палец будет кривой! А я не слушал, смеялся над ее суеверием. Время шло, фронт быстро продвигался на запад. Поступившие к нам сведения говорили о героическом наступлении нашего корпуса уже в Померании.
Так как лечебная гимнастика не помогала выправить мой указательный палец, а время шло, начальник госпиталя удовлетворил мою просьбу о выписке из госпиталя. Но, ссылаясь на какие–то приказы, несмотря на просьбу направить меня в свою часть, мне отказали. Зная о том, что командир полка всегда приветствовал возвращение своих бойцов и офицеров в свою часть, я, недолго думая, раздобыв у ребят по палате синий карандаш, поперек направления размашисто написал: «в свою часть». Поставил крючок, похожий на подпись начальника госпиталя, и стал собираться. Имея теперь три основных документа — удостоверение личности, справку о ранении и направление в часть (не считая аттестатов), я, распрощавшись с ранеными и медперсоналом, направился в путь, на запад, догонять свою часть. Было это утром 5 марта 1945 года. Догнать кавалерию оказалось не так–то просто. Сведения от регулировщиц и КПП на основных прифронтовых дорогах о прохождении наших машин были неутешительными. Весь подвижной состав отдельных корпусов имел свои опознавательные знаки. На моей памяти это была конская голова с номером дивизии, потом подкова с номером дивизии и последний знак — треугольник и номер дивизии. Знаки наносились на автомашинах, танках, бричках и даже на самолетах. По знакам проходящих через КПП машин я ориентировался в моем направлении на запад.
Девчата, регулировщицы, информировали меня, как часто и в каком направлении проходили машины с подковой … Сведения были скудные. Главная моя надежда на военных комендантов прифронтовых городов не оправдалась, коменданты имели сведения обо всех частях, наступающих на их направлениях, кроме особо секретных. Кавкорпус, а точнее сведения об их дислокации на прифронтовых территориях носили секретный характер. Это и понятно, так как нахождение на фронте любых родов войск еще ни о чем не говорит, а появление в прифронтовой полосе крупных кавалерийских соединений говорит о направлении главного удара, вводе их в прорыв для развития наступления на оперативном просторе.
Фронтовое братство тех времен безотказно действовало на всех прифронтовых дорогах. Шоферы попутных машин не только охотно подвозили меня, но и поили, и кормили всем, чем они располагали, делились табачком, сожалели, когда мне приходилось менять маршрут и пересаживаться на другие машины.
Военные дороги Пруссии и Померании в то время были переполнены потоками беженцев всех народов и национальностей. Шли пешком, ехали на подводах и велосипедах. Казалось, вся Европа пришла в движение. Цивильные (гражданские) затрудняли движение воинских частей. Как по команде (которую никто не подавал) каждый гражданский передвигался с нарукавной повязкой. Немцы с белой, советские граждане с красной, поляки с красно–белой, французы, англичане и др. тоже с повязками своих национальных флагов. На подводах и велосипедах были закреплены аналогичные флажки. С окон и балконов домов немецких городов свисали белые простыни (знаки капитуляции). На одной дороге я стал свидетелем комичной сцены: группа красноармейцев, окружив бывшего военнопленного француза, обвиняла его в том, что он работал на Гитлера. Несчастный француз на ломаном немецком пытался объяснить, что не работал на Гитлера, а проводил время с разными немками.
Навстречу нам двигались и многочисленные колонны пленных … Четкого маршрута у меня не было. В одном из крупных городов (вероятно, это был Данциг) я добился встречи с военным комендантом города. Сообщить мне направление движения нашего корпуса он не мог (не располагая этими сведениями), но дал мне адрес одного населенного пункта, где, по его словам, мне дадут точную информацию о нашем корпусе, и предложил мне получить талоны на питание и направление в гостиницу. Переночевав в гостинице и имея новый пункт следования, поутру я снова был в пути. Попутными машинами, а где и пешком добрался я вечером до указанного военным комендантом пункта.
В штабе (а это оказался оперативный отдел штаба фронта) мне дали маршрут движения нашего корпуса. В настоящее время удивляет отсутствие малейшего намека на бюрократизм во всех эшелонах управления (командования) фронтом. Теперь мне ничего не надо было спрашивать у девчат–регулировщиц — в кармане у меня был точный маршрут следования. С рассветом я снова в пути.
ПО дороге встретил сержанта и лейтенанта из нашего корпуса, из братской 6–й гвардейской кавдивизии. Стало веселей. Они не знали, как догнать корпус, обрадовались тому, что я знаю маршрут, и присоединились ко мне. Двигаясь на попутных машинах по основной военной автомагистрали, мы после полудня, отойдя от дороги, сделали привал в тихой живописной местности, у небольшого озера. На возвышенности, по другую сторону озера, виднелось красивое двухэтажное здание, похожее на наши старинные помещичьи усадьбы. На озере слышались выстрелы. Присмотревшись, мы увидели офицера, стреляющего в воду из пистолета. После его выстрелов в воду спускался солдат и что–то вытаскивал оттуда. Подойдя поближе, мы стали свидетелями своеобразной рыбалки. Офицер, а это был капитан, комендант населенного пункта, стрелял в зеркальных карпов, которые хорошо просматривались в чистой воде озера. Его ординарец вытаскивал из воды карпов, когда они, оглушенные или убитые выстрелом, всплывали на поверхность. Капитан и нас пригласил принять участие в этой рыбалке, но, когда услышал, что мы проголодались и нам надо отдохнуть, пригласил нас погостить у него, в доме коменданта, в бывшем имении прусского генерала. Мы согласились. Прием был оказан поистине генеральский! Ванну мы принять отказались, но умылись по пояс С большим удовольствием. Стол был накрыт в большой столовой, с белой скатертью и многочисленными столовыми приборами.
Обслуживала нас стройная фрау в белоснежном переднике. Капитан соскучился без русских. Ему до смерти надоела немецкая речь. Он был доволен нашим присутствием, предлагал нам задержаться у него и погостить еще дня два–три или четыре. Обещал выдать любую официальную справку. Как ни хорошо было у него, мы не могли воспользоваться таким предложением. Корпус мог уйти еще дальше от нас. Мы рвались на фронт, ведь Победа была уже не за горами. Поблагодарив его за гостеприимство, мы сказали, что рано утром мы покинем его роскошный дворец и будем опять в дороге. Спали мы, как говорится, без задних ног, на мягких барских постелях. Ранним утром нас уже ждал обильный завтрак и набор продуктов в дорогу. Распрощавшись с капитаном и поблагодарив фрау за угощение и продукты, мы направились к автостраде, по которой непрерывным потоком двигалась на запад военная техника. Остановив первый «студебеккер», мы вдвоем втиснулись в кабину, сержант забрался в кузов. Проехав километров десять, обогнали броневик с опознавательным знаком 6–й кавдивизии.
Остановили «студебеккер» и вышли навстречу броневику. Водитель броневика сообщил, что он отстал от дивизии и едет без точного маршрута. Обрадовался нашей встрече, особенно после того, когда узнал, что я имею точны! маршрут нашего корпуса. Решили ехать вместе. Лейтенант с сержантом забрались вовнутрь броневика, а я, решив подышать свежим воздухом, вскарабкался на башню. Сидеть на башне было удобно, ствол пулемета у меня между ног, а обзор местности был просто прекрасный. Командую водителю — трогай! .. И мы с ветерком, уже на новом транспорте, покатили по дорогам Германии.
Навстречу нам сплошным потоком шли, везли тележки со скарбом и ехали на подводах беженцы всех национальностей. Впереди показался небольшой городок, и мы покатили по брусчатке. На окраине решили сделать привал и перекусить. Остановив броневик у небольшого опрятного дома, вошли в дом. Нас встретила миловидная девушка лет шестнадцати. На наш «гутен таг!» ответила «добрый день!». Оказалось, что она украинка, была угнана в Германию, живет в прислугах у старой фрау, хозяйки дома. Мы попросили ее приготовить нам что–нибудь перекусить.
Она уже собралась пойти в погреб, но с испугом остановилась, взглянув на старую фрау. Тут только мы заметили, что в углу на кресле–коляске сидела старая фрау и зло сверкала глазами, что–то выговаривая нашей юной соотечественнице. Пришлось нам вмешаться и объяснить хозяйке и Гале (так звали девушку), что власть переменилась, что Галя свободна и теперь под охраной Красной армии. Командовать теперь может Галя, а не старая фрау. Галя накрыла на стол. Мы поели, усадив за стол и Галю, но ей не шел кусок в горло. Она все еще рабски оглядывалась на свою старую, властную хозяйку. Боялась наказания. На наше приглашение к столу и фрау хозяйка сердито отказалась. Немного отдохнув после обеда, а мы закусили и продуктами капитана, простившись с Галей и поблагодарив ее и хозяйку за обед, на что фрау только резко махнула рукой, мы собрались в дорогу. На прощание посоветовали Гале обратиться к советскому военному коменданту. «Оседлав» свой броневик, мы снова тронулись в путь. Теперь уже стали попадаться на дороге машины и брички нашего корпуса. К вечеру, когда уже стемнело, мы въехали в город
Кезлин. Встретили еще четырех офицеров из разных полков, которые, как и мы, догоняли свои части нашей дивизии.
В Кезлине разместился штаб нашей 5–й дивизии. Один из офицеров нашей группы доложил начальнику штаба, что семь офицеров дивизии после госпиталя догоняют свои части и просят пристроить их на ночлег. Начштаба, довольный прибытием пополнения, дал распоряжение коменданту города разместить нас в гостинице и накормить. В благоустроенном доме, временно превращенном в гостиницу, к нам приставили англичанина, бывшего военнопленного. Он оказался довольно расторопным и радушным малым. Показал нам ванную комнату, спальню, накрыл на стол в столовой, принес откуда–то французского вина. Мы с ним разговаривали на плохом немецком языке, так как английского мы не знали, а он не знал русского. После первых тостов стали пони мать друг друга превосходно. Застолье затянулось надолго … Спали отлично. Поднялись в десятом часу. Пока умывались, завтракали, похмелялись, пробило уже 11 часов. Я начал справляться, где мой 24–й полк. Оказалось, что полк утром рано прошел мимо нашей гостиницы и теперь находится километрах в двадцати от города. Надо было срочно догонять полк, пока он не затерялся в так называемом оперативном просторе. Распростившись с англичанином, мы вышли за город на дорогу. Нас было трое однополчан.
Начали ловить попутные машины. Но машин не было. У дороги была свалена целая гора новеньких велосипедов. Я предложил продолжить путь на велосипедах, пока нас не обгонит попутная машина. Оба моих спутника согласились. Выбрав из кучи по новенькому велосипеду, двое из нас поехали, а третий продолжал вести его руками. Выяснилось, что он ни разу еще не садился на велосипед! Делать было нечего. Мы выбросили велосипеды в кювет и стали голосовать. Первая машина, а это был трактор с прицепом, нас не устраивала, двигалась довольно медленно. Через 15 минут нас догнал «студебеккер», И уже через полтора часа мы «сели на хвост» нашего полка. Поравнявшись со своим взводом, я остановил машину. Спрыгнув из кузова, я оказался в объятиях своего помкомвзвода Чернова. Он командовал взводом во время моего отсутствия. Коновод подвел мне моего коня. И вот я, уже в седле, веду свой взвод в походной колонне. Не успев доложить комбату, я вынужден был первый свой рапорт отдать командиру полка, гвардии подполковнику Ткаленко, который стоял на обочине, проверяя движение колонны. Приняв мой рапорт, Ткаленко удивился моему неожиданному появлению в полку, тем более на марше. Подозвав к себе, он расспросил меня о том, как я оказался в колонне. Я коротко доложил о своих приключениях и о том, как я вместо запасного полка вернулся в свой родной полк. Похвалив меня за находчивость, он поздравил меня с награждением орденом Красной Звезды за минувшие бои в Восточной Пруссии. Поблагодарив за награду словами: «Служу Советскому Союзу!», я, получив разрешение, при шпорил коня и поспешил к комбату Агафонову. Теплая встреча … И я вновь со своими боевыми друзьями!
Полк двигался к побережью Балтийского моря, к полуострову Леба. Перед корпусом поставлена задача держать оборону и готовиться к последним боям, последнему штурму, к Берлинской операции. До полуострова Леба мы добрались без особых приключений. Подошли к одноименному городку Леба. Дома с островерхими крышами, на улицах безлюдно. Боев здесь не было, и городок полностью сохранился. В городе разместились штаб и службы полка, а мы всей батареей проследовали в район нашей дислокации, к побережью Балтийского моря, в пяти километрах от города. Там нас уже ждали наши квартирьеры. Место расположения было прекрасное. Нетронутое войной, оно сохранило свой курортный ландшафт. Небольшие довоенные здания, свежий морской воздух, чистота и порядок во всем. Свободными оказались хозяйственные и жилые постройки местной береговой службы. В их просторных помещениях с удобством разместились наши солдаты, кухня, хозотделение, санитарный и ветеринарный инструкторы. В сараях и ангарах разместился хозяйственный и боевой инвентарь взводов. Орудия и боевые брички временно установили на открытых площадках. Установку орудий и боевых бричек я не доверял никому, считал своей обязанностью вместе с ездовыми так поставить и выровнять орудия и боевые брички по струнке (колесо к колесу), чтобы они были по фронту в одну линию.
Пока я занимался этим делом, в наше расположение пожаловала солидная, средних лет фрау, и через солдат в вежливой форме просила «Негг Offizier», то бишь меня, уделить ей несколько минут внимания. Немало удивившись ее просьбе, я передал через солдата, что готов буду выслушать ее минут через пятнадцать. Все это время, пока я заканчивал установку орудий, она покорно ждала в отдалении, наблюдая за нашей работой. Освободившись, я поздоровался с фрау. Она пригласила меня в свой дом и по дороге упорно пыталась объяснить мне свою просьбу. Она хотела, чтобы я остановился у нее на постой, а не в доме, который определили для меня квартирьеры. Так как на ее вопрос «Sprechen Sie Deutsch?» я ответил: «Ich kann nicht Deutsch», она стала усиленно жестикулировать мне как глухонемому. Натешившись ее артистическими способностями, я ответил, что все понял, но ответить положительно пока не могу.
Странно, что, несмотря на мои слабые познания немецкого языка, я и в дальнейшем, с помощью предметной жестикуляции, свободно обходился без переводчика при общении с местными жителями. Дом фрау оказался добротный и аккуратный, в немецком стиле, но находился на порядочном расстоянии от расположения батареи. В большой светлой столовой был накрыт стол, за которым, в ожидании хозяйки, чинно сидели две цветущие (кровь с молоком) молодые дочери фрау. Умывшись в поданном служанкой тазике с водой, я с удовольствием пообедал в семье гостеприимной хозяйки. На столе было все, что можно было иметь в Германии в то военное время, в семье со средним достатком. Хорошая выпивка и хорошая закуска развязали языки. Хозяйка поведала, что она вдова, муж погиб на войне. Она хотела бы, чтобы к ней на постой поселился русский офицер, так как она боится солдат, которые могут напроказить и сделать «цап–царап», а у нее ко всему еще и молодые дочери. Все стало ясно … Отдаленность дома от нашего расположения меня не устраивала, да и в поведении хозяйки была какая–то фальшь. Поблагодарив за приглашение и угощение, я сказал хозяйке, что не смогу принять ее предложение, но обещаю рекомендовать ее дом другим офицерам, что я и сделал. В доме поселился один из моих боевых друзей.
Возвращаясь в расположение батареи, я решил отклониться от прямой дороги и осмотреть местность. Погода стояла теплая и безветренная, по–весеннему оживала природа, все это поднимало настроение. Неожиданно я натолкнулся на небольшой концентрационный лагерь с маленькими фанерными, летними домиками, вероятно, для военнопленных. Высота и площадь четырехместного домика чуть больше среднего шалаша. Лагерь был пуст. Обнесен колючей проволокой в три Г–образных кола. По всему было видно, что еще недавно здесь размещались люди, в спешке покинувшие лагерь. Об их дальнейшей судьбе можно было только догадываться. Настроение мое было бесповоротно испорчено.
В памяти возникли рассказы моего отца. Отец тоже был артиллеристом, участвовал на фронте Первой мировой войны. В бою был взят в плен и как военнопленный работал на разных работах в Германии. С одним товарищем ночью бежал из плена, но неудачно. Перейдя бельгийскую границу, заблудились в тумане и опять оказались на территории Германии. Были схвачены и конвоированы в лагерь. Там им добавили за побег еще два года. Много им пришлось перетерпеть в плену … Выручила революция в Германии и в России … Имея прекрасный музыкальный слух и хороший голос, он пел в хоре «Русских военнопленных в Германии». За семейным столом (после выпивки) любил петь русские романсы, такие как «Гори, гори, моя звезда», «Не искушай меня без нужды», «Вечерний звон» И другие. Особенно мне запомнилось, как отец пел «Гимн русских военнопленных» на музыку «Прощание славянки».
В стране чужой, в неволе у врагов,
Забыть не можем мы Россию.
В страну великую отцов влечет неведомая сила,
И мы терзаемся тоской в плену за крепкою стеной.
Судьба над нами подшутила,
Свободы, воли нас лишила.
Отваги, силы отняла
И нас рабами назвала, назвала.
Там на фортах штыки российские сверкают,
Там наши братья умирают,
В бою неравном со врагом,
А мы на помощь не придем, не придем …
С такими родными, теплыми воспоминаниями направился я на батарею. На батарее меня уже ждали. Помкомвзвода, гвардии сержант Чернов, привел меня в дом, намеченный для меня и лейтенанта Зозули.
Там уже были мои скромные вещи. Коновод с хозяйкой, пожилой немкой, хлопотали в отведенной для меня комнате, стелили кровать чистым отглаженным бельем. Рядом на стул хозяйка положила пару чистого нательного белья. Все, как в хорошей гостинице!
Познакомившись с хозяйкой и отказавшись от любезного приглашения к ужину, я прилег отдохнуть и незаметно уснул. Проснулся поздним вечером. Хозяйка позвала меня к чаю, но я отказался и от чая, и от ужина, который готовил для нас, троих офицеров, наш батарейный повар. Есть не хотелось — хотелось спать. Приятно было после продолжительных и утомительных маршей раздеться, умыться до пояса холодной водой, снять сапоги, помыть ноги и нырнуть под одеяло, в прохладную чистую постель. Только я улегся, явилась хозяйка со свечой и спросила, нужно ли закрыть на ключ наружную дверь? Я спросил:
— Зачем?
Она стала объяснять, что могут прийти немецкие солдаты и делать «Пуф! Пуф!». Я сказал, что, если она боится, пусть закрывает, и попросил, чтобы она разбудила меня с рассветом. Хозяйка с трудом разобрала мою ломаную немецкую речь и, пожелав спокойной ночи, удалилась. Утром ровно в семь она пришла меня будить. Но я уже встал, так как за годы странствий по дорогам войны мой организм привык подчиняться до минуты заданному мною времени подъема без часов и будильника. Хозяйка заранее подготовила тазик с водой, мыло и полотенце для умывания. Но я не привык умываться из тазика, я попросил ее поливать мне на руки. После умывания она пригласила меня к чаю. Отказавшись от чая, я поспешил на батарею. Завтракали втроем: я, Зозуля и комбат.
За завтраком комбат Агафонов поставил боевую задачу по строительству инженерных сооружений береговой обороны, огневых позиций, защищающих от артналетов средних и крупных калибров кораблей военно–морского флота Германии. Агафонов уже успел побывать в штабе полка и ознакомиться с местом размещения нашей батареи на побережье полуострова.
Коноводы уже ждали нас с оседланными лошадьми. Неспешно выехали к морю. Дорога проходила через густой хвойный лес. Море скрывалось за высокими песчаными дюнами, и только с них нам открылся величественный вид на бескрайние, залитые солнцем морские просторы Балтики. Море было спокойное до самого горизонта. Тишина, чистое море и голубое небо, ароматный приморский воздух будили воспоминания о пляжах пригородов Ленинграда … Курорт, да и только!
Выбрав огневые позиции батареи (основные и запасные), наметили места установки орудий на достаточном расстоянии друг от друга. Забили колышки и послали связных за орудиями и расчетами. Необходимо было создать долговременные огневые точки, обеспечивающие противодесантную береговую оборону полка. Вначале подготовили открытые огневые позиции, установили на них орудия. Потом оборудовали капониры с укрытиями в три наката и амбразурами с достаточными секторами обстрела. Копать в песке было легко, да и строительного материала было достаточно — рядом хороший строевой лес. Батарейцы работали охотно. На следующий день штаб полка подбросил в помощь местное население. Нам на батарею направили стариков и больных, от которых было мало толку. Я выразил свое неудовольствие помощнику начштаба, который направлял нам людей. Он обещал в дальнейшем прислать молодых. На другой день нам прислали молодых девчат, лет по 16–18. С ними стало еще хуже. Хихоньки да хаханьки. Старики хоть не мешали работать, а девчата только отвлекали и завлекали солдат, в общем, одна морока с ними. В лес за бревнами с солдатами они не идут, боятся, а на огневых позициях они солдатам строят глазки, а солдаты их щиплют. Никакой работы … Им бы только поиграть с молодыми солдатами да повеселиться. Что для них война? Ведь они на своем полуострове ее не видели!
Я заявил помощнику начштаба, капитану Головко, чтобы он больше такой помощи мне не присылал. Да она нам больше и не требовалась, работа подходила к концу. Оставалось только хорошо замаскировать огневые позиции. Наш участок обороны оказался довольно спокойным. На горизонте иногда появлялись боевые корабли, но к берегу не подходили и огня не вели. Были небольшие стычки только на участке 6–й дивизии. Однажды наши наблюдатели обнаружили на поверхности воды странный предмет, похожий на плавучую мину. Были предложения расстрелять ее из орудий, но я приказал обождать. Пусть прибьет его поближе к берегу, тогда и определим, что это такое. Я оказался прав. Когда предмет прибило к берегу, он оказался симпатичным анкерком, бочонком с пресной водой. Открыв пробку, на которой на цепочке укреплен был металлический стаканчик, мы попробовали воду. Вода была холодная, пресная, пригодная для питья. Вероятно, анкерок уцелел при гибели английской или немецкой шлюпки и путешествовал, пока не прибился к нашему берегу.
В то время когда командиры орудий оборудовали огневые позиции, наши помкомвзводов со старшиной батареи выехали за пополнением. Необходимо было доукомплектовать батарею не только личным составом, но и пополнить ее лошадьми, амуницией и фуражом. Из трофейных складов помкомвзвода Чернов привез всего этого в достаточном количестве, прихватив и несколько бидонов этилового спирта. Овес, правда, был с ячменем, но это было не во вред нашим коням. Параллельно велась работа и по оборудованию казарм. Под казармы были отведены просторные светлые помещения. Чернов где–то раздобыл металлические койки и постельные принадлежности, так что казарма была оборудована как в доме отдыха. У каждого бойца своя койка. Посредине большой стол, накрытый скатертью. На столе графин и стаканы. Из–за этого графина чуть было не разразился большой скандал. А дело было так.
Через неделю к нам с инспекторской проверкой прибыл генерал от командующего корпуса. Осмотрев нашу казарму и похвалив за хороший порядок в ней, он взял графин и хотел налить его содержимое в стакан, но передумал, сказав при этом, что графин, наверно, для «украшения». И вода в нем несвежая. «Лучше напьюсь на вашей кухне, там у повара вода всегда свежая». Я не стал убеждать его в обратном. Чернов все это время наблюдал за нами в полуоткрытую дверь. Выходя из казармы, я не узнал своего помкомвзвода. Он был бледен и сильно взволнован, что происходит с ним крайне редко.
— Ух! Пронесло! — вымолвил он с облегчением и перекрестился .
— Ты что, Володя, ведь генерал доволен вроде?!
— Да! Доволен! Но в графине был спирт!!! 100 процентов! Вот был бы номер!
За такую оплошность, такой «номер», Чернов получил от меня на полную катушку. Следует сказать, несмотря на то, что спирта (этилового) было вдоволь, пьяных не было. Выпивали в меру, для аппетита, не более. При отличном питании, да на чистом морском воздухе, на нашем состоянии это не отражалось. Хотя для «аппетита» употребляли по стакану неразведенного, без задержки запивая водой. Пьяниц на батарее и в полку строго наказывали. Дни шли своим чередом. Предприимчивый Володя Чернов где–то раздобыл легковой автомобиль. Целый день он с кузнецом взвода возился с ним, приводя его в рабочее состояние. На следующий день Чернов торжественно заявил:
— Машина в исправности и подана мне для следования в штаб полка! Русскому офицеру, победителю, негоже ездить в штаб на лошади, на то есть автомобиль! Приедете с шиком, как генерал. Пусть другие посмотрят, на чем ездят батарейцы! — промолвив это, он галантно распахнул передо мной дверцу машины. Согласившись, я сел в машину, но на всякий случай приказал коноводу с лошадьми следовать за нами.
Проехав с полдороги, машина зачихала и встала как вкопанная. Все старания новоявленного механика–водителя ни к чему не привели. Машина молчала даже тогда, когда Чернов обозвал ее гитлеровским отродьем. Хорошо, что под рукой был коновод с лошадьми. До штаба мы доехали на конях, а Чернов остался копаться в машине. На обратном пути я увидел нашу машину вверх колесами, не было возле нее и нашего горе–механика. В расположении батареи Чернов заверил меня, что я все–таки буду ездить в штаб на машине, как подобает русскому офицеру, так как у него в запасе есть еще две легковые машины. Но и эти трофейные машины постигла та же участь.
На море было спокойно, ни одного дымка на горизонте. Орудийные расчеты где–то раздобыли муки, масла и сковородку. Пекли на костре вкусные поджаристые оладьи и блинчики. Стали угощать и меня. Блинчики были тонкие и таяли во рту, особенно после стаканчика спирта.
Из штаба полка сообщили, что в полку организована отправка посылок из Германии, домой, на родину. У Зозули были кое–какие трофеи, а у меня — ничего. Разве у нас в передовых отрядах, на переднем крае фронта, могли быть трофеи? О них мы и не думали. Главный наш трофей — это наша жизнь! Остаться живым и неискалеченным в смертельных схватках с противником — вот главное на войне, а не трофеи.
Вот у тыловых работников полков, дивизий, корпусов, армий, фронтов, которых, кстати, так же, как и нас, именуют участниками войны, трофеи были, и доставались они им без риска для жизни и здоровья. Даже у нашего батарейного писаря и то было несколько десятков часов, которые он без труда выигрывал у бойцов, играя в игру «Махнем не глядя».
Игра заключалась в том, что оба играющих, например, разыгрывая часы, прятали их в руке за спиной и по команде (при обоюдном согласии) обменивались ими не глядя. Писарь подсовывал бойцам иногда одни крышки от часов, получая взамен хорошие часы на ходу.
Зозуля успокоил меня, сказав, что у него найдется кое–что и для меня. Но когда его коновод принес и вытряхнул мешок, смотреть там было нечего, одно старье. И я отказался от такой помощи. Про нашу затею с посылками (видно, от моего коновода) прослышала и наша хозяйка. Пошептавшись с ним, предложила свои услуги подобрать кое–что из своих запасов новой одежды и обуви. Я не отказался от ее подарков, и коновод вместе с хозяйкой собрали и отправили мою первую посылку с письмом домой, в Ленинград. Вторую посылку собрал мне гвардии сержант Чернов из взводных трофеев. Забегая вперед, расскажу о третьей и самой ценной для моих родных посылке, из всех трех посланных от меня с фронта. О ней я ничего не знал до тех пор, пока не получил письмо от родителей, после моего ранения и выписки из госпиталя.
В письме они сообщали, что очень довольны этой посылкой. Благодарили за отрез на костюм, за 10 метров белого шелка и особенно за сахарный песок. Все это было большим дефицитом в послеблокадном Ленинграде.
Я никак не мог догадаться, откуда взялась эта посылка, которую я не посылал, пока не вспомнил свой разговор с медсестрами в полевом госпитале. А дело было так.
После ранения в последнем бою 1 мая 1945 года меня перевозили из одного полевого госпиталя в другой. В одном из госпиталей к нам в палату пришли две молоденькие сестрички и предложили свои услуги переправить посылки домой, все, что у нас есть, послать на родину. У моих соседей по палате кое–что нашлось, и они сообщили адреса, куда отправить их посылки. А у меня ничего не было, если не считать полевой сумки и пистолета, который я всегда перекладывал после ранения из кобуры в полевую сумку, чтобы его не отобрали при госпитализации. Сказав сестричкам, что у меня ничего нет, я думал, что они уйдут. Но они не ушли, а стали расспрашивать, кто у меня дома и где мой дом. Узнав, что я из Ленинграда и что дома у меня отец и мать, пережившие блокаду, они, пошептавшись и мило улыбнувшись, попрощались с нами и удалились. Больше я их не видел, так как на следующий день меня отправили дальше в тыл, в другой госпиталь. До сих пор я благодарен всем нашим боевым сестрам, военным фронтовым хирургам, санитаркам (нянечкам), всем этим труженикам за их бескорыстный, тяжелый и благородный труд. За их отеческую, материнскую, сестринскую заботу о нас, раненых бойцах и командирах. Никто не обязывал этих милых сестричек разузнать мой домашний адрес, с любовью подобрать из трофеев эти скромные, но такие необходимые в послеблокадном Ленинграде вещи и продукты и, ни слова не сказав мне, направить их посылкой моим родителям.
Хозяйка показала мне свой дом. Дом состоял из двух половин. Справа и слева от входной двери, напротив которой располагался дымоход от печей правого и левого крыла, размещалась коптильня. В подвале, высотой в полный рост, на полках аккуратно были расставлены стеклянные банки со стеклянными крышками на резиновых прокладках. В банках полуфабрикаты, мясные и овощные. Потянешь за мысок прокладки, и крышка с хлопком соскакивает с банки. Обе половины дома имели по две комнаты, в левом крыле размещалась кухня. Крыша дома остроконечная черепичная. Вечером хозяйка приносила в нашу половину патефон с пластинками. Слушали музыку. Некоторые мелодии были нам знакомы, напоминали мелодии России. На мой вопрос, любят ли они музыку Бетховена, Баха, Моцарта, хозяйка и ее дочка ответили, что такой музыки они не знают.
После боев и походов, мы прекрасно отдохнули на этом не тронутом войной полуострове, набрались сил и подготовились К решающим боям. Но всему приходит конец. Как говорится, делу время, а потехе час. Ранним утром батарея в полном составе выступила к городу Леба, где располагался штаб полка. Я уже был в седле, когда хозяйкина дочь подала сверток с продуктами и сказала, что это в дорогу от mutter.
БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
Корпус получил приказ выйти на исходные позиции в район действия 49–й армии. Сборы были недолгими, и, ранним утром покинув полуостров Леба, батарея заняла свое место в походной колонне полка. Опять дневные марши, ночуем в домах населенных пунктов, заранее облюбованных нашими квартирьерами. Население принимало нас нельзя сказать, чтобы доброжелательно, но не враждебно. Оно привыкло подчиняться силе и, тем более, победителям и представляло нам все необходимое: жилье, фураж для лошадей, места для орудий, для бричек, для коней и пр. Начпроды полков безвозмездно получали продукты. Все войска на территории Германии перешли на самообеспечение.
К месту и не к месту немцы ругали Гитлера, неоднократно повторяя: «Гитлер капут!» Как–то я спросил у пожилой фрау: «Почему вы недовольны Гитлером?» Она ответила — он проиграл войну!
Как–то вечером, собравшись за столом на ужин, после трудного марша, каждый из нас (троих офицеров батареи) стал рассказывать, кто как устроился на ночлег и какая у него хозяйка. Зозуля, как всегда, хвастался, перебирая достоинства своей хозяйки. Она, мол, и молода, и добра, и приветлива … Моя хозяйка была средних лет, сухопарая, строгая и замкнутая, да еще со своей старой «муттер». Послушав наш «отчет», комбат изрек:
— Все, что у вас, — это ерунда! Вот у меня хозяйка! — Он развел руками во всю ширь и сообщил: В эту дверь (показал на дверь), — не пролезет! А как танцует, как бабочка! Поет и играет на аккордеоне. Это надо видеть и слышать!
Мы не поверили, считая это очередной шуткой комбата. Немки тощие и не то что в дверь, а и в щель пролезут. Это не русские и не украинки. Да еще танцует, как бабочка? Комбат не стал спорить, а пригласил нас к себе домой. Все оказалось так, как он рассказывал. Хозяйка, действительно, в дверь еле протискивалась, и то бочком. Встретила нас приветливо, как старых друзей. Пригласила к столу. От угощения мы отказались, так как только что поужинали. Тогда она взяла аккордеон и устроила нам небольшой концерт. Играла и пела она довольно прилично, но время было позднее, и мы, поблагодарив ее и попрощавшись, поспешили с Зозулей по своим домам, оставив комбата наедине со своей хозяйкой. Рано утром опять в дорогу. Еще один марш и новый ночлег, новые люди. Мой дом на пригорке. У моей хозяйки две хорошенькие дочурки пяти и семи лет. Сначала они с недоверием относились ко мне, прячась за своей миловидной матушкой, потом освоились и стали смеяться над моим неправильным произношением немецких слов.
— Такой большой и не умеет правильно говорить! — смеялись они.
Принесли книжки с картинками и начали меня учить немецкому языку. Мы быстро подружились. Дети есть дети, они первые чутко реагируют на отношение к ним, первые идут на контакт, на сближение. Ночью спали дружно, по–семейному на широкой кровати, так как кровать была только одна. Было тепло и уютно. А утром после завтрака коновод заметил:
— Что–то хозяйка сегодня веселая?
— Нами довольна, вот и веселая!
Опять в седле. Свежий ветерок бодрит и поднимает настроение. Чем ближе мы приближались к фронту, тем короче отдых и продолжительнее марши. Середина апреля 1945 года. Последние марши к фронту. Может быть, и последняя дневка вдали от передовой и от шума грохочущей боевой техники фронтовой дороги. Тишина, солнце и сельский простор. Пробуждается природа, зеленеют поля, отдыхаем душой и телом. Я расположился в аккуратном сельском доме. Боев здесь не было, от войны уцелели дома и постройки. Был он и в стороне от основных военных дорог. Хозяйка, дородная фрау, хлопотала по дому, а я, удобно устроившись на диване, вздремнул после сытного обеда. В дверь постучали, и в проеме появилась голова моего коновода. С лукавой улыбкой на круглом, сияющем как полная луна, лице, он доложил:
— Товарищ гвардии лейтенант, туточки до вас якось цивильный, в шляпе и с палочкой.
— Спроси, что ему нужно?
— Гутарит, что сам скаже.
— Пусть войдет.
Вошел гражданский человек, в черном элегантном костюме, с цилиндром и тростью. Небольшие черные усики на смуглом лице напоминали стандартного джентльмена — щеголя из оперетт Кальмана. Стараясь сохранить строгую осанку, он хриплым голосом на смешанном польско–немецком языке с вологодским акцентом обратился ко мне с приветствием:
— Дзиен добры, пан офицер! Гутен таг, херр лейтенант. Энтшульдиген зи диштерунг, их зухе пферд, цвай коня, на спродажу мает?
Подчеркнуто раскланиваясь, церемонно снял цилиндр, аккуратно положил его на стул и прихлопнул ладонью. Цилиндр превратился в блин. Поочередно сняв перчатки, небрежно кинул их на блин. Играя тростью, неуклюже попросил разрешения сесть. Я разрешил.
— Зитцен зи.
Уже сидя, он представился:
— Херр ФинкельштеЙн. Працую куплей и продажей коней, пферден. Ферштеин? Готов купить цвай пферд по сходной цене.
— Их ферштеин, но, увы и ах, на спродажу коней не маю.
Мне сразу показалась подозрительной сбивчивая речь этого щеголя, особенно подтвердили мое подозрение его руки: грубые, рабочие, с мозолями. Вынув из кобуры пистолет и взведя курок, скомандовал:
— Hande hoch!
Подняв руки, «артист» взмолился знакомым мне голосом
— Это я! Не стреляйте! Я пошутил! Я ваш взводный кузнец, Коваль!
— Что, испугался? Будешь так шутить, на пулю нарвешься! Где ты раздобыл такой наряд?
— Это трофеи. Мы их нашли в одном брошенном доме. А что, мне идет? Как вы меня узнали?
— Сразу не узнал, а потом, как только снял перчатки, по рукам стало видно, каков ты джентльмен. Разыграл ты сцену классно. Даже польскую и немецкую речь изучил. Где научился?
— А я до армии участвовал в художественной самодеятельности в нашем сельском клубе. Разрешите идти?
— Разрешаю, иди, теперь наших ребят позабавь.
Коваль, а это был он, наш взводный кузнец, раскланиваясь, надел перчатки и цилиндр, предварительно стукнув себя «блином» по голове, чтобы он выправился, и удалился. Спустя некоторое время ко мне опять постучались. На сей раз хозяйка дома, солидная фрау, лет сорока. Ее очень заинтересовал наш «артист».
— Ферцайунг, дарф ихь, битте, абен коннен зие мир заген? (Извините, не могли бы вы мне сказать.) Кто этот элегантный и благородный господин, который только что вышел от вас? Он такой любезный. Раскланивался и улыбался мне. Я бы хотела познакомиться с ним.
Она еще долго тараторила, и из всего сказанного, я понял, что наш «артист» очаровал мою хозяйку. День был тихий, светило солнце. У коновязи батарейцы окружили «артиста» И смеялись над его очередной байкой.
— Что, все анекдоты рассказываешь? — спросил, я у « артиста».
— Нет, это все на самом деле было. Вы тогда в 3–м эскадроне были, а мы в 4–м. Комэска, старший лейтенант Конвалов, командует:
— Эскадрон, по коням!
А молодой солдатик, такой, как Балацкий, и «монголка» у него такая же мелкая, из пехоты, пропищал:
— Ау меня кобыла! — Разглядел, гад, несмотря на то, что из пехоты.
— А я не из пехоты! — подал реплику Балацкий.
— Ты не из пехоты, а он из пехоты. Не перебивай! Так вот. Комэска рассердился, и заорал:
— Что? Что? Какая еще кобыла?..
— Гнедая, «монголка», — С перепугу ответил солдатик.
— Прекратить разговорчики! Что конь, что кобыла. Команда одна была! Садись!
А через час после того как Коваль закончил свою работу по ковке, он попросил у меня разрешения ненадолго отлучиться.
— у меня приглашение дамы.
— Какой еще дамы?
— Да вашей хозяйки!
— А коней проверил?
— Да. В полном порядке!
— Ну, тогда ладно, но не более двух часов. Встреча их состоялась, но была недолгой, так как
в полночь запела труба: «Седловка!» Опять поход … Объезжая на марше колонну взвода, я спросил у Коваля:
— Ну, как встреча с фрау?
— Отлично, sehr gut. Фрау довольна! — весело ответил кузнец.
Тут же посыпались реплики от бойцов:
— Гвардейцы, как пионеры, — всегда готовы к бою и ко всему другому!
— Он фрау подковал как надо, на все четыре (на круг)!
— Еще бы ей быть недовольной! У него кобылка не сорвется, по ковке он мастер.
— А инструмент захватил с собой?
— А как же, мой инструмент всегда со мной!
Я не могу сказать, что видел насилие, грубость или жестокость со стороны наших бойцов по отношению к гражданскому немецкому населению. Уж слишком крут был наш командир полка, гвардии подполковник Ткаленко. Все знали, что он накажет примерно, и боялись его. Одно могу сказать: немки охотно жили с нашими офицерами. Причин на то, как я думаю, было две. Во–первых, Германия к тому времени обеднела мужиками, все были либо в могилах, либо в плену, либо на фронте. Во–вторых, немки, скорее всего, руководствовались такой логикой: «Если у меня в доме русский офицер, то русские солдаты ничего не посмеют сделать».
Итак, завершив 380 км марша, мы к утру 22 апреля сосредоточились на левом фланге 2–го Белорусского фронта 49–й армии. Во второй половине дня 26 апреля корпус получил приказ о выходе на западный берег Одера и в полночь начать переправу. Последний сбор командиров в штабе полка. Ознакомление с боевой обстановкой и задачей полка, дивизии, корпуса. Докладывал начштаба полка гвардии майор Тодчук. Получили новые карты (когда их только успевали отпечатать в необходимом количеств^?). И по местам, а точнее по эскадронам, которым придавались мои орудия.
По решению командующего фронтом маршала Рокоссовского главный удар фронт наносит левым крылом силами трех общевойсковых армий (65–й, 70–й, и 49–й), трех танковых (1–го, 8–го и 3–го) гвардейских корпусов, механизированного 8–го и кавалерийского, нашего, 3–го гвардейского корпуса, по противнику обороняющемуся на участке Штеттин — Шведт с дальнейшим развитием наступления на Нойшерлиц и Виттенберг.
После форсирования войсками 49–й армии реки Одер наш корпус войдет в прорыв с задачей: действуя в стыке между 2–м и 1–м Белорусскими фронтами, обеспечить левый фланг 49–й армии с целью развития успеха этой армии в общем направлении на Грайфенбер, Темплин и далее до Эльбы.
«Как только колонны войск перешли через мост восточного Одера и вышли на пойму, сразу же образовалась пробка. Орудия, тяжело груженные повозки со снарядами, машины вязли в болотистой пойме, их вытаскивали тягачами, которые сами тонули, и их тоже надо было вытаскивать. На переправе находились все, вплоть до командующего армией. Со всех сторон сыпались приказания, но дело продвигалось медленно. Дивизионные инженеры передовых кавдивизий майор Солянкин и капитан Луговой восстанавливали переправу, разрушенную дальнобойной артиллерией во время самой же переправы. Наши воины сооружали и исправляли настилы — жердевки и лежневку в болотистой пойме, создавая условия для прохода танков и артиллерии. Только кавалерийские части с пулеметными тачанками быстро преодолели пойму и вышли на западный берег Одера».
(Генерал Брикель. «Повесть о последнем рейде».)
Да, нам было немного легче, чем основным силам корпуса, но все же … В полночь, задолго до рассвета, и наш полк вытянулся в боевую колонну. Подошли к Одеру. Топкие места междуречья. Здесь Одер имеет два рукава, образующие две самостоятельные реки — Ост (восточный) и Вест (западный) Одер. Главная полоса обороны противника проходила по западному берегу Вест–Одера. Через каждые 10–15 метров у немцев огневые точки стрелков и пулеметчиков, соединенные ходами сообщения. Все мосты взорваны. Пойма реки в междуречье залита водой. Почва в пойменной части была зыбкой, прогибалась под копытами коней, колесами орудий и бричек со снарядами. Неверное движение колонны грозило прорыву тонкого проросшего густой травой и, частично, залитого водой поверхностного слоя почвы, засасыванию коней и техники в неизведанную трясину поймы. Проворно продвигаясь по этим заболоченным местам, мы стремились проводить орудия и брички так, чтобы их колеса не попадали в колею, проложенную впереди идущими. На небе то и дело вспыхивали, горели и догорали осветительные ракеты, предутреннюю тьму прочерчивали пулеметные трассирующие очереди пуль. Где–то на правом фланге переправлялась тяжелая боевая техника по специально для нее проложенной дороге. Оттуда доносился и глухой грохот канонады. Наша колонна, еще не обнаруженная противником, бесшумно продвигалась к переправе через Вест–Одер.
Серьезность момента и ответственность за четкое выполнение первого этапа завершающей операции войны от командиров передавалась бойцам. Чувствуя предстоящую опасность, чутко реагировали на шенкеля наши боевые друзья — кони. Команды подавались вполголоса, неслышно было разговоров, ржания коней, никто не курил, а если и курили, то на бричках под плащ–палаткой. Нервы сжаты в комок, контролируя каждого в отдельности и всю колонну в целом. Как живой единый организм, мы были готовы развернуться во всю мощь с выходом на оперативный простор после форсирования этой большой водной преграды.
Вспомнился приказ Рокоссовского, повторенный штабом полка перед наступлением: «Беречь солдата, особенно в последних решающих боях!» Перед атакой нам, артиллеристам, предписывалась тщательная, качественная артобработка переднего края противника с надежным подавлением всех его огневых точек. Кроме наших трех батарей, полку придали еще шесть артиллерийских батарей, калибром от 76–мм до 122–мм гаубиц. Вся эта приданная полку боевая техника вместе с танковым полком корпуса двигалась по надежным дорогам, наведенным саперами где–то на флангах полка, то опережая, то отставая от него. Форсирование Одера прошло отлично, без потерь и отставаний основных соединений полка.
«Обеспечивая левый фланг 49–й армии, 3–й гвардейский кавалерийский корпус, которым командовал генерал Н.С. Осликовский, переправившись в ночь на 27 апреля через Одер, к исходу дня вел бои в районе Воллеца. В 13 часов командующий фронтом уточнил задачу корпусу, приказав не позднее 30 апреля выйти в район Фюрстенберг, Райнсберг, имея в виду в дальнейшем наступление на Притцвальк, Виттенберг» (Архив М.О. ф. 237, оп. 2394 д. 1417, л. 38).
Наступлением корпуса в этом направлении обеспечивался левый фланг главных сил фронта, кроме того, достигалось более тесное взаимодействие с войсками 1–го Белорусского фронта. Войдя в прорыв, полк приступил К выполнению боевой задачи на оперативном просторе. Сметая на своем пути заслоны, мелкие группировки противника, полк к концу дня столкнулся с довольно мощной по силе и организации огня обороной фашистов. Комполка приказал ввести в дело танковый эскадрон — и в коротком бою все танки были сожжены фаустниками.
После короткой артподготовки прицельного огня прямой наводкой моих пушек и орудий гвардии лейтенанта Кучмара, а также минометного налета взвода Водзинского, огневые точки противника замолчали. З–й эскадрон гвардии капитана Масленникова в пешем строю с криками «ура!» бросился на немцев. Оборона оказалась не такой уж крепкой, как нам казалось, исходя из силы и плотности огня. Как только конногвардейцы вошли в боевое соприкосновение с обороняющимися немцами, они дрогнули и побежали, побросав оружие. Многие сразу стали сдаваться в плен. Одного такого пленного доставили к командиру полка Ткаленко. Это был пацан лет 15–16. Он дрожал от испуга и грязными руками размазывал текущие по лицу слезы и сопли. И вот такие молодцы из небольших укрытий жгли наши танки!
Ткаленко, указывая на пленного, обратился к офицерам полка со словами:
— Вы посмотрите, кто против вас воюет! Мальчишки воюют! Выдохся Гитлер, если надеется на таких вояк. Вперед! Победа близка!
Видя бесполезность дальнейшего сопротивления, немцы целыми подразделениями сдавались в плен. у штаба полка уже не хватало конников для конвоирования пленных в тыл. Стали практиковать отправку пленных отдельными маршевыми группами во главе с немецким старшим офицером и запиской от начштаба полка Тодчука. Несмотря на небольшие потери, и у нас во взводе чувствовалась нехватка личного состава, особенно в боевых расчетах.
На одном из привалов, во время обеда, когда расчет третьего орудия с аппетитом расправлялся с нехитрой стряпней нашего повара, к нам подошел молодой немецкий солдат без оружия и стал просить что–нибудь поесть. Ребята усадили его на ящик со снарядами, дали ему котелок каши, хлеб, ложку. Фриц, как его прозвали в расчете, со словами «Данке, данке, гут, гут. Гитлер капут!» стал жадно поглощать содержимое котелка. После того как котелок опустел, ребята предложили ему добавки, он справился и с добавкой. Угостив его и табачком, командир орудия предложил фрицу остаться при орудии. Есть он здоров, значит, и работать будет хорошо!
— Ja, ja! Ich bin gut. Хороший, Гитлер капут! бормотал фриц.
Когда я подошел к орудию, фриц сидел в кругу бойцов. Отозвав командира орудия в сторону, я спросил его, что все это значит. Я еще не решил, что С ним делать, но командир орудия и расчет просили немца не прогонять, а оставить при орудии.
— Он не фашист, он хороший, будет нам помогать.
Фриц все это время с испугом смотрел на меня и повторял:
— Гитлер капут! Их гут, хороший! Дарф их хелфен! (Я хороший, разрешите помогать!) - и повторял свое согласие.
Не поинтересовавшись его настоящим именем, все стали звать его Фрицем. Он откликался на это имя и охотно выполнял приказания любого из бойцов расчета. На фронте всякое бывало… Приблудшие солдаты не первый раз получали временный приют в наших орудийных расчетах. Но это были наши,
 Младший лейтенант Иван Александрович Якушин в возрасте 18 лет. Центральный фронт.
Младший лейтенант Иван Александрович Якушин в возрасте 18 лет. Центральный фронт.
 Гвардии лейтенант Иван Александрович Якушин с супругой Ириной Львовной и сыном Александром. Ленинград.
Гвардии лейтенант Иван Александрович Якушин с супругой Ириной Львовной и сыном Александром. Ленинград.
 Командир противотанковой батареи 24–го гвардейского кавалерийского полка капитан Николай Михайлович Агафонов.
Командир противотанковой батареи 24–го гвардейского кавалерийского полка капитан Николай Михайлович Агафонов.
 Комбат Агафонов и командиры взводов ПТО лейтенанты Зозуля Е.К. и Якушин И.А.
Комбат Агафонов и командиры взводов ПТО лейтенанты Зозуля Е.К. и Якушин И.А.
 Сержант Чернов на своем боевом коне.
Сержант Чернов на своем боевом коне.
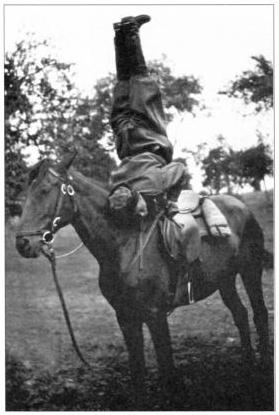 Головко демонстрирует джигитовку.
Головко демонстрирует джигитовку.
 Якушин И.А. и боец Балацкий.
Якушин И.А. и боец Балацкий.
 Иван Александрович Якушин вспоминает: «После Белорусской операции у нас была возможность сфотографироваться вместе. Мы с Зозулей задержались в штабе и подошли к группе офицеров самый последний момент. Эта фотография мне особо дорога,потому что это единственная фотография гвардии лейтенанта Кучмара, моего друга и наставника, который так много мне помогал. Кучмар погиб в ночном бою на Эльбе 2 мая 1945 г.,за несколько дней до конца войны».
Иван Александрович Якушин вспоминает: «После Белорусской операции у нас была возможность сфотографироваться вместе. Мы с Зозулей задержались в штабе и подошли к группе офицеров самый последний момент. Эта фотография мне особо дорога,потому что это единственная фотография гвардии лейтенанта Кучмара, моего друга и наставника, который так много мне помогал. Кучмар погиб в ночном бою на Эльбе 2 мая 1945 г.,за несколько дней до конца войны».
 Лейтенант Якушин и его взвод.
Лейтенант Якушин и его взвод.
 Якушин И.А. и сержанты Сухоловский и Чернов. Сержант Сухоловский — полный кавалер ордена Славы. Оба сержанта участвовали в битве за Сталинград и позднее в Параде Победы.
Якушин И.А. и сержанты Сухоловский и Чернов. Сержант Сухоловский — полный кавалер ордена Славы. Оба сержанта участвовали в битве за Сталинград и позднее в Параде Победы.
 Противотанковая батарея 24–го гвардейского кавалерийского полка.
Противотанковая батарея 24–го гвардейского кавалерийского полка.
 Противотанковая батарея празднует День Победы, 1945 г.
Противотанковая батарея празднует День Победы, 1945 г.
советские солдаты, пехотинцы или конники, отставшие от своих частей, а вот приютить немецкого солдата довелось впервые! Я не знал, насколько это противоречило международной конвенции по использованию солдат вражеских армий, но, так как пребывание Фрица в расчете состоял ось по обоюдному согласию, без какого–либо принуждения с нашей стороны, я не стал препятствовать такому временному содружеству.
Так временно Фриц стал внештатным членом (именно членом, а не бойцом) расчета, старательно помогая каждому из расчета. Вероятно, этот малый был из крестьянской семьи, поскольку умел обращаться с лошадьми. Шефство над ним взял один из ездовых на бричке, к которому он и устроился во время марша. Забегая вперед, отмечу, что этот Фриц вынес меня из–под огня с поля боя в укрытие, к коноводам, когда я был ранен.
Последующие марши и бои были настолько скоротечными, что подробно о них рассказать достаточно сложно. Продвигаясь рысью и днем и ночью, не спешиваясь, конники сбивали небольшие группировки немцев без нашей помощи и, не задерживаясь, двигались дальше. К двенадцати часам 28 апреля б–я и 32–я кавдивизии вышли на линию Грингельде Фридрих — Свальде. Наша 5–я кавдивизия сосредоточилась в районе ГраЙфенберг и Ангермюнде. Правее нас развивал наступление вошедший в прорыв 8–й механизированный корпус. Пехота, как всегда, отставала. По данным разведки, противник, прикрываясь арьергардами, отводил главные силы на подготовленный рубеж обороны по западному берегу реки Хавель. Чтобы не дать ему возможности закрепиться, командир корпуса перебросил нашу дивизию на маршрут 32–й кавдивизии с тем, чтобы к исходу 28 апреля захватить переправу через Хавель. И опять стремительные марши вперемешку со скоротечными боями.
Переправа в районе Лангенваль. Прикрывая уже левый фланг 6–й кавдивизии, наступаем в направлении города Цехов. Скоротечные бои — и дальше, на запад! Где–то впереди Эльба. Дорога хорошая, вдоль нее посадки деревьев, которые скрывают нас от авиации. 30 апреля 1945 года. Скоро конец войне. Кругом тихо, вверху зелень деревьев и голубое весеннее небо. Ровный топот копыт нашего небольшого отряда головной походной заставы. Я скачу с командиром отряда, молодым лейтенантом, взводом конников, пулеметной тачанкой и моим 57–мм противотанковым орудием с боевой бричкой, груженной снарядами.
Впереди парные конные дозоры, сзади, на расстоянии зрительной связи, скачет головной отряд полка (в нем мое второе орудие). Скачем без остановок. Необходимо как можно дальше продвинуться в глубь территории противника. Роль разведки выполняют дозоры. Где противник, каковы его силы, как он нас встретит? Неизвестно! Где–то рядом, по другим дорогам, идут танки 104–го танкового полка, но мы их не видим и не слышим.
Неожиданно дорога вывела нас на простор. Впереди летное поле аэродрома. В строгом порядке двухмоторные самолеты и планеры. Тихо. Нас не ждали! Шашки — к бою! И мы в лихой атаке врываемся на аэродром. Орудие сопровождает конников только колесами — артиллерийского обеспечения не требуется. Тихо. Возможно, здесь уже побывали танки нашего 104–го танкового полка, распугали аэродромную команду и летчиков. Но никаких следов танков не было видно. А из кавалеристов мы были первыми. Захватили аэродром без боя. В книге генерала Брикеля «Повесть о последнем рейде» есть такие строчки: «5–я гвардии кавдивизия, благодаря решительным действиям авангардного 24–го кавполка полковника Ткаленко с танковым эскадроном 1 04–го полка Неверова выполнила свою задачу к 14 часам 30 апреля. Обходным маневром был решен бой за Цехов, где кавалеристы захватили аэродром с 14 исправными самолетами, 12 планерами, складом с имуществом».
В тот день обедали и ужинали мы в захваченном нами здании немецкого аэродромного начальства. Бойцы расчета, подкрепившись продуктами гостеприимных хозяев аэродрома, удобно устроились на отдых в креслах в большой гостиной. Они курили гаванские сигары и никак не реагировали на отчаянную, до слез, мольбу нашего повара отведать его горячей пищи. Повар был оскорблен в своих лучших чувствах, ведь он приготовил изысканнь!й обед с французским вином.
Выставив надежное охранение, мы заночевали. В этом доме оказалось все для отдыха: узкопленочные киноаппараты, фотоаппараты, мягкая мебель, шикарная библиотека, запасы продовольствия. Но нам было не до этого, не до трофеев. После бессонных ночей и утомительных маршей бойцы, не расседлав и не распрягая коней, накормив и напоив их, погрузились В сон. Дорога каждая минута. Неизвестно ведь, сколько нам отпущено спать в этот раз: в любую минуту может прозвучать сигнал трубача и команда: «По коням!»
Первое мая 1945 года. Плотный утренний туман скрывает построенную еще до рассвета боевую колонну нашего полка. Прохладный ветерок забирается под ворот и вызывает легкий озноб. По колонне передают команду:
— Гвардии лейтенанта Якушина, со взводом, в голову колонны!
Пришпорив коня, я С двумя 57–мм противотанковыми орудиями и бричками со снарядами, обогнав колонну, остановился у штаба полка. Там меня ждали: командир полка Ткаленко, начальник штаба Тодчук, замполит Новиков и командир 2–го эскадрона гвардии капитан Олейников. Командир полка поставил задачу:
— Второму эскадрону со взводом ПТО выдвинуться в район дороги на Виттенберг, оседлать ее и остановить продвижение военной техники противника на запад!
От себя Ткаленко добавил:
— Иди, лейтенант. Там тебя ждет Золотая Звезда! Заверив командование, что боевая задача будет выполнена, мы отправились в тыл противника. Зайдя в тыл к немцам, эскадрон спешился и занял боевые порядки. Впереди — Бенинвальде. С комэска оцениваем обстановку: впереди, слева от нас, метров 300, немецкая батарея ведет огонь по нашим тылам. Они нас не видят, мы бесшумно зашли им с тыла. Туман рассеялся, и даже без бинокля было видно, как впереди, по дороге, на расстоянии одного километра от нас движется на запад большая колонна танков, самоходок и тягачей с орудиями.
Принимаю решение подбить одну из боевых машин и создать пробку на дороге. Подпрыгивая на грядках лесопосадки, орудия выдвигаются на огневые позиции, на прямую наводку, благо расстояние позволяет. Командую: «Орудия К бою!» Расчеты быстро и слаженно, отцепив орудия от передков, устанавливают их в нужном направлении. Сбросив часть ящиков со снарядами, ездовые рысью уводят коней к лесу, в укрытие. Лица бойцов серьезны. Предстоит нелегкий бой, а войне ведь скоро конец … Подаю команду:
— По танку, что в середине колонны! Подкалиберным! Прицел, упреждение …
Расчеты повторяют мою команду. Открываются затворы орудий, с характерным щелчком поглощая снаряды.
— Первое орудие! Огонь!
Выстрел. Звонко выбрасывается гильза. Хорошо виден полет трассирующего снаряда. Прошел чуть выше. Делаю поправку и стреляю взводом. Снаряды точно накрывают цель. Танк разворачивается на 180 градусов и замирает, создав пробку. Движение колонны остановлено. Одни машины начали съезжать с дороги, другие пытаются развернуться на забитом шоссе. Я очень боялся, что немецкая батарея, которая рядом с нами, развернет орудия и в упор откроет огонь по нашим огневым позициям.
Но случилось непредвиденное. Немецкие артиллеристы при первых наших выстрелах, опасаясь удара в спину, побросали свои орудия и разбежались. Так что необходимость менять огневые позиции у нас отпала. Но тут боевое охранение дороги противника (солдаты СС) пришло в себя и открыло беспорядочный огонь по наступающему эскадрону. Видя, что конники несут потери и обстановка усложняется, я принимаю решение продолжать огонь взводом прямой наводкой по огневым точкам и живой силе противника уже осколочными снарядами. В результате нашего ураганного беглого огня нам удалось уничтожить две огневые точки, три миномета и пять автомашин с боеприпасами. Эскадрон перешел в наступление. Но эсэсовцы, очевидно, определили, что мы наступаем малыми силами, и опять с танками и самоходкой возобновили контратаку, уже в полный рост ведя огонь из автоматов. Опять веду огонь подкалиберными, подбиваю танк и два бронетранспортера и опять перехожу на осколочные. Подавляю пулеметы и живую силу. Захлебнувшаяся контратака дала возможность эскадрону перейти в решительное наступление и полностью опрокинуть эсэсовцев. Однако немецкая самоходка засекла, откуда мы бьем, и накрыла наше орудие со второго выстрела — мы не успели сменить позицию. Орудие разбито, расчет вышел из строя, я тоже ранен. Под прикрытием огня эскадрона меня вместе с другими ранеными отвели в безопасное место, где подоспевшие ездовые перевязали рану на ноге индивидуальным пакетом. Фриц помогал в эвакуации раненых.
Опираясь на ездового, я вышел к полевой дороге. По ней нам навстречу двигался полк во главе с командиром и штабом. За их спинами возвышались расчехленные полковые знамена, одно с орденом Красного Знамени, врученное еще в Гражданскую войну в бригаде Котовского, другое гвардейское, врученное полку за Елецкую операцию в декабре 1941 года.
Впервые за всю войну можно было видеть картину, когда среди бела дня командир полка со штабом и знаменами двигался к месту боя! Конечно, противник был уже не тот, что в сорок первом, но огрызаться он мог по–настоящему. Стоя на одной ноге и опираясь на моего наводчика, я коротко доложил командиру полка боевую обстановку. Выслушав меня, он ввел в бой основные силы. Обгоняя эскадроны, с шашками наголо, вперед вырвались конники разведвзвода. В бою были убиты и ранены несколько бойцов. Раненого помощника командира взвода разведки положили ко мне в бричку. Двигаться в тыл к медэскадрону было нельзя, там находились еще довольно крупные силы немцев. Пришлось двигаться за полком с его тылами. Позади нас оставалась дорога с разбитой нами боевой техникой и живой, точнее, мертвой силой войск СС.
Такой был мой последний бой и последнее ранение, а полк продолжил свой победный рейд к Эльбе. Именно наш корпус встретился на Эльбе с американцами.
Встрече на Эльбе нашему корпусу предшествовали скоротечные непрерывные бои. Около 160 км за трое суток, с боями, прошел корпус в Берлинской операции, сковав значительные силы гитлеровцев, шедших на помощь осажденному Берлину. Пять раз объявлял благодарность Верховный Главнокомандующий нашему корпусу за взятие городов: Элазем, Торгунов, Штрасбург, Бад, Доберан, Нейбуков, Барен, Зезинберг и других. Виттенберг, с населением 40 тысяч жителей и военным гарнизоном в количестве 10 тысяч (в основном гестаповцев и СС), на ультиматум 32–й кавдивизии капитулировал. Город и жители не пострадали. 1О4–й танковый полк нашей дивизии, подойдя к городу Ленцен, внезапной атакой захватил город, взял в плен 3000 солдат и офицеров, в том числе десять генералов, захватил огромные трофеи.
Захваченный в плен командир артдивизиона тяжелых орудий сокрушенно спрашивал: «Как же так? Как все это могло произойти? Ведь мой дивизион стрелял по Ленинграду… А теперь вы здесь! Нет, я этого не могу понять!»
Немецкое командование пыталось сдержать наше наступление на основных и промежуточных рубежах путем маневренной обороны, создав для этого отдельные боевые группы, усиленные танками и САУ. Однако деморализация и растерянность солдат и офицеров противника не способствовала этому. Маневренной тактике обороны противника части корпуса противопоставляли еще более гибкий и смелый маневр.
Мои однополчане вспоминали об этих последних боях так.
К 22 часам 1 мая наш полк вышел в район Тееп. Бой продолжался ночью в лесистой местности. В 2 часа ночи 2 мая бойцы полка захватили переправу в районе Шпольп, что дало возможность обеспечить выход главных сил нашей дивизии. Полк вел тяжелый бой в лесу. Немцы били фаустпатронами в упор. В этом бою погибли командиры взводов гвардии лейтенанты: Княжев из минометной батареи и мой лучший друг и наставник Кучмар из полковой батареи и другие офицеры, сержанты и бойцы полка. До рассвета 2 мая наша дивиЗия выбила противника из населенного пункта Рюдов и развила наступление на Перлеберг. Поддерживающие наше наступление 104–й танковый полк и 1814–й полк САУ, взяв на броню десантников нашего 24–го кавполка, на больших скоростях ворвались В Перлеберг, и после скоротечного боя комендант этого города и его гарнизон сдались. Не доходя до Эльбы, гитлеровцы прекратили сопротивление и, побросав оружие и боевую технику, устремились к реке. В панике они бежали сдаваться нашим союзникам — американцам. Первыми в полосе 2–го Белорусского фронта вышли к Эльбе части нашего 3–го гвардейского кавкорпуса, а в корпусе — наш 24–й гвардии кавполк и 104–й танковый полк в районе Ленцена. В районе Виттенберга вышли полки 6–й и 32–й кавдивизий.
Подойдя к Эльбе, головной отряд конников с высоты земляного вала застыл, пораженный увиденным. Все пространство между Эльбой и дамбой, вправо и влево от горизонта до горизонта было заполнено гитлеровцами и гражданскими, сбежавшими сюда, казалось, со всей Германии. Солдаты, офицеры, генералы, женщины, подростки, полицейские стояли плотной массой, ближайшие к нам подняли руки вверх, а у самого берега реки слышались крики о помощи, хлопки выстрелов, плач женщин. В небо с треском полетели ракеты, с противоположного берега над Эльбой взвились ответные зеленые ракеты. Связь с союзниками была установлена. Из–за леска взмыл в небо крошечный самолет и стрекозой закружился над подходящими к берегу колоннами кавалерии и танков. На противоположном берегу было видно, как американские солдаты сталкивают в реку понтон и вскоре понтон, стуча подвесным мотором, приблизился к нашему берегу. Войне конец!
ОПЯТЬ В ГОСПИТАЛЕ. ПОБЕДА
Осколочное ранение левой голени, полученное мной в последнем бою, к счастью, оказалось без повреждения кости, хотя рана была приличная (9х6 см). Осколок распорол мышцы голени глубиной до 5 см. Ездовой меня и помкомвзвода разведки доставил в медсанчасть полка. Там нам сделали противостолбнячные уколы, перевязали и направили в медэскадрон. Пробыв в медэскадроне не более суток, я был снова эвакуирован дальше в тыл, в эвакопункт ЭП–124, где и была на меня заведена медицинская карта с указанием даты ранения 3 мая вместо 1 мая. Эвакопункт разместился в лесу, в большом двухэтажном деревянном доме. Были в нем и металлические кровати, и даже прикроватные тумбочки. В палате нас было 15 раненых, большинство ходячих. Мне еще не разрешали ходить, даже на костылях. Кругом тишина, не слышно выстрелов и канонад — только успокаивающий шум сосен из открытого окна. Несмотря на боль, приятно лежать в чистой, в меру прохладной, мягкой постели. Одно тревожило: кругом еще бродят недобитые разрозненные вооруженные группы головорезов войск СС. Охраны у нас в эвакопункте не было, не было и поблизости наших воинских частей. А по сухим деревянным стенам эвакопункта достаточно одной очереди зажигательными патронами, и дом вспыхнет как факел. А в зажигательных, трассирующих и разрывных патронах у немцев недостатка не было.
Не успели мы оценить нашу обстановку, поговорить, как нам быть, если сюда пожалуют немцы, как снаружи, неподалеку от эвакопункта послышалась стрельба одиночными и очередями из всех видов стрелкового оружия … Выстрелы приближались, бой, как нам казалось, разгорался и приближался к нам. Никому не хотелось в последние дни войны быть убитым или заживо сожженным в эвакопункте. В считаные минуты палата опустела. Раненые разбежались кто куда вслед за сбежавшим еще раньше медперсоналом. В палате нас осталось двое, неходячих. Мы не могли ходить, но могли ползать. Я сполз с койки, вытащил из полевой сумки свой пистолет. Хочу повторить, что я всегда после ранения перекладывал его из кобуры в полевую сумку, чтобы не отобрали в госпитале. Полевые сумки и их содержимое в госпиталях не осматривали. И я как был в нижнем белье с пистолетом в руке выполз сначала из палаты, а потом из дома. Надо было как можно дальше отползти от огнеопасного дома. Метров через тридцать я остановился и заполз под куст. Был вечер 8 мая. В лесу было темно. Стрельба не стихала. Выстрелы слышались все ближе и ближе. Вдруг на поляну выскочил солдат в обмотках, наш «славянин» (так мы в шутку называли наших солдат). Вскинув автомат вверх, он дал очередь. Я резко окликнул его:
— Стой! Где немцы?
Он оторопел от неожиданности… И только разглядев меня под кустом, закричал, но не как я, а радостно, с восторгом:
— Какие немцы?! ПОБЕДА!!!
Дав еще несколько очередей из автомата в воздух, он побежал дальше, мимо нашего эвакопункта, сообщить еще кому–то радостную весть. Тревогу как рукой сняло… Победу мы ждали, но не думали, что она придет так скоро и так неожиданно. Тем же путем я вернулся в палату. Спрятал пистолет в полевую сумку … В палате было пусто, если не считать второго лежачего, который сполз со своей койки. Ранение у него было тяжелое, и он дальше палаты выползти не мог.
Я стал громко кричать:
— Ура! Победа! Победа!..
На мои крики стали осторожно появляться раненые. Из медперсонала первой прибежала наша сестричка. Узнав, что кроме нее в эвакопункте никого нет, мы потребовали водки или спирта обмыть Победу. После некоторого сопротивления она на радостях сдалась — у нас появился спирт с закуской. Когда возвратилось начальство, мы были уже «хорошие», по–своему отметив долгожданный День Победы. На общих радостях нашей сестричке за спирт не влетело, а нам, тем, кто ползал, заменили белье. На следующий день новая эвакуация в тыл, а точнее теперь уже на восток, в другой полевой госпиталь.
Новый госпиталь, полевой передвижной ППГ–93, был хорошо оборудован. Размещался в бывшей немецкой больнице. Белоснежные палаты, ванные комнаты, операционные и перевязочные со стенами, выложенными кафелем. Полуторные койки на колесиках легко и бесшумно передвигались по палате в случае надобности. Кормили здесь как в хорошем санатории. Перед приемом пищи давали по 100 грамм разведенного медицинского спирта для аппетита. В палате нас было восемь раненых офицеров: капитан, старшие лейтенанты и лейтенанты. Все получили ранения в последних боях, за исключением одного старшего лейтенанта. Он был начпродом и получил травму ног, катаясь на трофейном мотоцикле — врезался в дерево. Своими стонами начпрод не давал нам спать. Рядом со мной лежал капитан с тяжелым ранением живота и повреждением позвоночника. Иногда он скрипел зубами от боли, но терпел, не показывал вида. Мы вызывали сестру, она делала ему укол, и он успокаивался. Несмотря на боли, капитан был общительным, принимал участие в наших разговорах, шутил, слушал наши байки и сам рассказывал анекдоты и интересные случаи из своей жизни.
Полной противоположностью ему был начпрод: он все время вызывал сестру или врача, требовал особого внимания к своей персоне. Надоел он нам до чертиков. Мы потихоньку начали совещаться, как нам от него избавиться. Рядом с нами, по коридору, находилась палата женщин. И вот ночью когда все уснули, включая начпрода, мы, ходячие (мне уже разрешили ходить), осторожно выкатили его кровать из нашей палаты и повезли по коридору. Бесшумно открыв дверь, вкатили его в женскую палату. Поставили кровать на свободное место и, прикрыв дверь, удалились в свою палату. Утром у женщин был большой шум … А к нам пожаловал главный врач. Мы притворились спящими. Один капитан не спал, его опять беспокоили раны.
— Спите, мазурики! Кто спровадил старшего лейтенанта в женскую палату? Молчите?!
И еще целый ворох вопросов и наставлений посыпались на наши головы. Мы молчали, как напроказившие дети. Капитан, который не мог участвовать в нашей «операции» и бывший вне подозрения, сказал, что ночью он сквозь сон видел, как какие–то санитары в белом увезли начпрода из палаты, наверное, на операцию. Не добившись нашего признания, главврач пригрозил нам пальцем и на прощание сообщил, что начпрод им тоже порядком надоел, да и перелом и ушибы его пустяковые.
— Но все равно так поступать нельзя, ведь он своими стонами перепугал всю женскую палату!
Больше начпрод в нашей палате не появлялся. Несмотря на наши проказы, медперсонал относился к нам очень хорошо. Медсестры даже отправили посылку из трофеев госпиталя домой, моим родным. И снова эвакуация, теперь уже в госпиталь города Пренцлау. Там разместился ленинградский госпиталь, полевая почта 02483 (СЭГ–1924). В этом последнем для меня госпитале я пролежал до 6 июня 1945 года. Госпиталь поселился в многоэтажном здании возле большого озера. Здесь было все, как на хорошем курорте. Меня, как выяснилось, единственного ленинградца, баловали и прощали все проказы. Погода стояла летняя, несмотря на начало июня. На озере купались и загорали на его берегах–пляжах. Мне разрешалось прогуливаться по территории госпиталя, но не выходить за его пределы.
Нога заживала. Я уже ходил без костылей. Спустившись к озеру (несмотря на запрет), я позавидовав купающимся и сам, засучив кальсоны, полез в воду и поплавал. Вода была чистая и теплая. Но после купания кальсоны, а главное бинты, промокли, и требовалась срочная, внеплановая перевязка. В таком виде я предстал перед старшей сестрой в перевязочной. Пожурив меня за мои художества, сестры сделали перевязку, предварительно тщательно обработав рану. Белье следовало также сменить, поскольку не только кальсоны, но и рубашка были мокрые. И тут сестренки решили наказать меня по–своему. Похихикивая, они принесли мне рубашку, которая, несмотря на мой рост метр восемьдесят, оказалась мне до пят. Рукава висели, как у пугала. Любуясь мной, они покатывались от смеха. Им было весело. А каково мне? Как мне в таком виде появиться в палате? Я потребовал заменить рубашку (не то женскую, не то смирительную). Продолжая смеяться, они заявили, что другого белья нет. Нормальное белье у сестры–хозяйки, а она может выдать его только по разрешению лечащего военврача. Пришлось смириться, так как объяснение с врачом за внеочередную перевязку меня не устраивало. За нарушение госпитального режима могли строго спросить даже с земляка–ленинградца.
Засучив длинные рукава и затолкав рубашку в кальсоны, надев пижаму, я поплелся в свою палату. В палате уже знали о моих похождениях и хором стали требовать от меня предстать перед ними в новом наряде. Сестрички уже и здесь побывали, поработали своими языками, рассказав раненым о том, какой у меня теперь привлекательный вид. Пришлось уступить и продемонстрировать новую госпитальную форму одежды во всей красе. Настроение в палате сразу поднялось на высшую отметку, и веселью не было конца. Вдоволь натешившись, сестра смилостивилась и за бесплатный концерт поднесла мне к обеду двойную порцию французского вина.
Надо сказать, что нашему госпиталю по приказу военного коменданта города были переданы трофейные запасы французских вин и нам вместо водки, для аппетита, стали давать по стакану отличного дорогого вина. Так беззаботно и весело после тяжелых утомительных боев протекали наши госпитальные будни. 5 июня я получил письмо из своей части. Комбат Агафонов писал, что корпус покидает Германию и если я смогу передвигаться, то мне надо поскорее выписываться и догонять нас на марше, до перехода границы. Иначе я останусь в Германии и попаду в другую часть. В письме также написал, что поздравляет меня с орденом Александра Невского. Это была награда за последние бои. Указал Агафонов и маршрут движения корпуса.
Вот с этим письмом и моим рапортом я направился к начальнику госпиталя. Видно, и здесь сработало землячество, да и письмо из части сыграло свою роль. Меня отпустили. Выписали из госпиталя под расписку лечиться при части, пока не заживет рана. Сделали последнюю перевязку. Получив все необходимое и новое обмундирование, я распрощался с ранеными и медсестрами. Забрав полевую сумку и документы, направился к большаку ловить попутную машину.
После нескольких пересадок с машины на машину я догнал корпус у самой германско–польской границы. Я всегда с благодарностью вспоминаю братскую помощь военных шоферов, безотказно подбрасывающих нас, военных, в нужном, попутном, направлении. Вот и корпус, и колонна нашего полка. Моя батарея, как и другие подразделения полка, двигалась в два эшелона. Основной эшелон — боевая часть батареи, второй — хозяйственные и трофейные брички, двигались отдельно на расстоянии от основной колонны полка. Теплая встреча. Я опять в своем родном полку. Так как верхом на коне мне было трудно передвигаться с еще не зажившей раной, меня щадили, и первые сутки я удобно устроился на одной из боевых бричек взвода. Из рассказов бойцов и офицеров я постепенно восстановил картину последних трех боев. 2 мая, за день до встречи на Эльбе, в бою погиб гвардии лейтенант Кучмар, прекрасный человек, инженер с Урала, всегда спокойный, рассудительный и бесстрашный в бою офицер, командир взвода полковой батареи, мой боевой друг и наставник. С восторгом рассказывали бойцы о встрече на Эльбе с союзными войсками, показывали свои награды, полученные от английского и американского командования.
В 39–м томе Большой Советской Энциклопедии помещена фотография встречи конногвардейцев нашего 3–го гвардии кавкорпуса с солдатами 13–го американского пехотно–танкового корпуса в мае 1945 года, состоявшейся на 1411–й день войны.
«Кавалерийские корпуса и дивизии участвовали в боевых действиях на всех этапах войны начиная с 22 июня 1941 года. Особенно успешно действовали кавкорпуса в наступательных операциях совместно с мехкорпусами: Как правило, они вводились в прорыв И успешно действовали на оперативном просторе … За период войны стали гвардейскими семь кавкорпусов и 17 кавдивизиЙ. Генералы В.В. Баранов, П.А. Белов, Л.М. Доватор, Ф.В. Камков, В.д. Крюченкин, Н.С. Осликовский, И.А. Плиев — славные имена среди полководцев!» (Маршал К.С. Москаленко)
Двигаться верхом мне по–прежнему было трудно, особенно при движении рысью. От напряжения рана кровоточила, и требовались частые перевязки. Передвижению на бричке я предпочитал орудийный лафет. Орудие мягко шло даже по самой ухабистой и булыжной мостовой. На бричке по плохой дороге было тряско передвигаться даже здоровым бойцам. А на орудийном лафете (между станин) надо было только не дремать и все время держаться. Иначе при резком крене на ухабах можно вывалиться и попасть под колеса орудия. Помкомвзвода Чернов доложил мне о состоянии взвода и о том, кто и что находится во втором эшелоне. На каждое орудие во втором эшелоне приходились две цивильные повозки, и таким образом на взвод, кроме четырех боевых бричек, приходились еще четыре трофейные повозки. По приказу командира полка во втором эшелоне везли трофеи для оборудования Красного уголка (мебель), комплект постельного белья на каждого бойца и прочие хозяйственные вещи.
Когда я с Черновым побывал у своих цивильных повозок, а второй эшелон двигался в хвосте дивизии (как говорил А.В. Суворов, «дабы не позорить доблестное русское войско»), Я был разочарован отношением ездовых к грузу и его состоянию. Ездовые из последнего призыва, старики из нацменов, не знали, да, вероятно, и не хотели знать того, что они везут. Лампы приемников «Телефункен» были разбиты, на диванах отпилены ножки, так как они мешали ездовым — упирались им в спину во время езды. На мои замечания Чернов оправдывался, ссылаясь на то, что с этими чучмеками нет никакого сладу. У них одна забота о своем «курсаке» (животе).
— Путь большой–большой, а курсак пустой–пустой! — говорили они, отвечая на мои замечания.
— Моя твоя не понимал!
Хорошо, что еще одеяла и другие постельные принадлежности были в сохранности. Одно спасение, что этих «вояк», которые, к счастью, еще не успели побывать в боях, скоро первыми демобилизуют. В отличие от военного времени теперь мы двигались днем, без маскировки. Ночевали в населенных пунктах, периодически останавливаясь на дневку, на одни, а иногда и на двое суток. При наступлении мы двигались севернее Варшавы и Берлина, теперь же шли южнее этих городов. Население юга Польши относилось к нам по–разному. Где встречали нас дружелюбно, как освободителей и победителей, а где и с боязнью, и даже враждебно. При нашем появлении в некоторых селах прятались молодые паненки, отцы которых еще помнили проказы казаков царского воинства и поход Первой конной в годы Гражданской войны. Через час–другой население осваивал ось и находило с нами полное взаимопонимание. На одной из дневок меня вызвали в штаб полка, где собралось десятка два награжденных орденами за последние бои в Германии. В торжественной обстановке, под звуки духового оркестра, у развернутых знамен полка, генерал вручал нам боевые награды. Мне был вручен орден Александра Невского.
Чем ближе мы подходили к нашим юго–западным границам, тем чаще распространялись слухи о разбойных нападениях бандеровцев в этих районах. Ночью снаряжались конные патрули в районах расположения полка. А поскольку подразделения полка располагались на значительном расстоянии друг от друга и в разных населенных пунктах, патруль за ночь мог обойти подразделения по заданному маршруту только один раз. В одну из дневок, когда я только удобно разместился в доме гостеприимной хозяйки, меня вызвали в штаб и назначили начальником полкового патруля. Начало патрулирования — с наступлением темноты, окончание — с рассветом, а точнее с подъемом. Несмотря на темную ночь, мы успели объехать все подразделения полка без особых происшествий.
Во время патрулирования я был свидетелем того, как готовится тесто в больших объемах. Было это около 2 часов ночи. Небо заволокло тучами, и по сторонам от дороги была такая темень, что хоть глаз выколи. Неожиданно впереди замерцал огонек. Направив коней на него, мы вскоре подъехали к небольшому дому. Спешившись, вошли, так как дверь была открыта. Перед нами предстала любопытная картина: в слабоосвещенном квадратном помещении стоял большой чан, в котором переминался с ноги на ногу здоровенный детина.
Он был почти голый, если не считать засученных до живота кальсон, или подштанников. Ногами он месил тесто. Пот градом стекал в чан с его тела… Помещение было частью пекарни, в которой готовилась к выпечке очередная большая партия хлеба. Справившись у хлебопека, как проехать в соседнее село, мы продолжили свой путь. А днем во время обеда я поведал офицерам о ночной встрече в пекарне. Начпрод, который оказался с нами во время обеда, дополнил мой рассказ, что хлеб, который мы ели, он утром получил из этой самой пекарни. Так что приятного аппетита, товарищи офицеры!
К концу июня 1945 года мы пришли в район Замостья. Разместились в его окрестностях и сразу стали обживаться. Строили коновязи, оборудовали конюшни и казармы. Для ускорения строительства нам на помощь прислали местное гражданское население.
Утром проводился развод на работы. В один из таких дней я уточнял профессии цивильных:
— Кто плотник? Шаг вперед! Кто сапожник? Шаг вперед!
Я направлял их на работу по специальности для нужд батареи. Не имеющих нужных нам профессий направлял на разные работы в качестве подсобной силы (носить, копать, помогать повару и т.д.). Когда я уже всех распределил, подошел ко мне один поляк и сказал, что он фотограф. Я хотел сначала направить его на разные работы, но передумал, когда узнал, что у него есть все принадлежности: и пленки, и бумага, и проявитель, и фиксаж — эти редкие фотопринадлежности в то военное время.
— Ну, раз у тебя все есть, мы освобождаем тебя от работ по строительству. Фотографируй всех желающих солдат батареи. За фотокарточки будешь получать злотые.
Злотые мы получали тогда вместо советских денег. Фотограф с радостью согласился и в тот же день принялся за свою работу. Фотокарточки были небольшие, шесть на девять сантиметров, но и им были рады. Этому фотографу мы обязаны нашими армейскими фотографиями победного 1945 года, которые бережно хранит каждый наш однополчанин. Некоторые из них и на страницах этой книги.
Вел я как–то взвод на стрельбы. Командую: «Запевай!» И запели:
На Дону и в 3амостье
Тлеют белые кости.
Над костями шумят ветерки.
Помнят псы атаманы, помнят польские паны
Конармейские наши клинки …
— Эту песню прекратить!
На перекуре рядовой Саюк спросил:
— Зачем такую хорошую песню прекратили?
— А потому, что некстати!
— Как некстати, и слова о панах есть, и Замостье рядом?
— А потому, что нельзя дразнить польских друзей!
— Какие они друзья. Жмоты! Попросил У одного пана тютюнь, а он что ответил: нема, вшистко герман забрал. А у самого полная камора моцного табака! подытожил рядовой Чихун.
— Все, прекратить дебаты. Поляки — наши братья! .. Пополнили нашу батарею и другими бойцам из разных полков, даже Героя Советского Союза прислали. Слава богу, что не в мой взвод. Так как от него толку было мало — одни привилегии. И еще прислали молодого лейтенанта во взвод к Зозуле как резерв. Как помню, он очень любил фотографироваться на пару с Героем. А мне тоже, кроме порядочных ребят, прислали двух архаровцев, сачков высшей пробы. Фамилии их были хитрые, как и они сами. Чернов для лучшей памяти прозвал их Жулин и Кастрюлин. Мы никак не могли от них избавиться, но помог случай. Из штаба пришел приказ: срочно направить в распоряжение штаба двух лучших, дисциплинированных бойцов. А где их взять? Нам такие и самим нужны! И решил я сплавить в штаб Жулина и Кастрюлина, но предупредил их, что им оказано большое доверие и чтобы они его оправдали. Сказали, что будут стараться. Пока мы стояли в районе Замостья, нас привлекали и к некоторым хозяйственным работам. Так, например, все наши тяжелые, весьма сильные лошади, коренники орудийных упряжек, вместе с ездовыми
были направлены на заготовку леса. А через неделю я был послан вернуть их на батарею для проведения боевых учений. Расстояние было небольшое, если ехать по прямой — не более 30 км, но В таком случае надо было дважды пересекать государственную границу Польши и СССР. На обратном пути, чтобы сократить время, я решил проехать коротким путем и пересек границу вместе с лошадьми и ездовыми. С польской стороны погранзастав еще не было, а с советской меня задержали пограничники и доставили всех нас на заставу. Начальник погранзаставы не только задержал нас, но и обезоружил. На все мои объяснения не реагировал. Продержал он нас часа три. Только после того как я потребовал напоить и накормить лошадей и людей, а на восемь тяжелых коней надо выдать только одного овса не менее 60 кг, не считая сена, он начал сдаваться. Кроме того, я добавил, что его зарплаты не хватит, чтобы возместить убытки, так как эти кони прошли войну и ценятся на вес золота. В конце концов, я не выдержал и понес, обозвав начальника заставы тыловой крысой.
— Кончай волынку, звони своему начальству и отпускай нас, а то у тебя будут большие неприятности! Мы свою бдительность проявляли на фронте и под Берлином, а ты здесь, в тылу, уж больно храбрый стал!
Не знаю, то ли мои слова на него подействовали, то ли он получил разрешение от своего начальства, но через 15 минут он вернул оружие и мой пистолет, и объявил, что мы свободны. Обласкав его на прощание еще раз крепким русским словом, мы направились к дому И через час были в расположении части.
Доложив комбату о выполнении задания и встрече с пограничниками, я направился во взвод, но был остановлен комбатом.
— Тут твои два «архаровца» прибыли из штаба, что–то неладно. Разберись! А мне срочно в штаб, по–моему, насчет отпусков.
Забрав Жулина и Кастрюлина, которые доложили мне о своем прибытии, начал разбираться:
— Что так рано вас отпустили? Что, вам там было плохо?
— Нет, хорошо, даже очень хорошо! Но мы допустили стратегическую ошибку!
— Какую еще ошибку?
— Нас поставили охранять ценные продукты и бочки с водкой. Мы их очень хорошо охраняли. Но решили проверить, есть ли в бочках водка. Достали дрель и маленькое сверлышко, 1 мм, и просверлили отверстие, нацедили в котелок. Немного, так, для пробы. Оказалось, все верно, водка. Чопиком закрыли отверстие, как положено, чтобы она не вытекла … и каждый день понемногу, только для аппетита, цедили из бочки. Все было хорошо, пока об этом не пронюхали в караулке. Они заставили нас цедить и им, да не мало, а побольше! А то они скажут начпроду. Вот тут–то мы и допустили стратегическую ошибку. Им было все мало. Вот и все. Начпрод сказал, что он больше в наших услугах не нуждается и пусть с нами разбирается наш командир. Скомандовал нам кругом и шагом марш! И еще что–то добавил, но мы не расслышали. Вот и все … Но мы старались!
— Ну, «стратеги», здесь вы превзошли сами себя! Что с вами делать?
— Дайте нам пару нарядов, вот и все!
— Ну, нет! За бочку водки это мало! Доложите Чернову, чтобы он всыпал вам на полную катушку. За «стратегию»!
Прошел слух, что скоро будут давать отпуск. В первую очередь тем, кто не успел побывать в отпуске или демобилизоваться перед войной. Первый на очереди из таких у нас в батарее был комбат Агафонов. Он уже начал готовиться, собрал вещи. Но получилось так, что накануне он поссорился с командиром полка. В результате комбата в отпуск не пустили, как у нас говорили, «за непочитание старших». Вместо Агафонова в приказ был внесен я. О моем отпуске он сообщил мне в тот же день вечером, а утром я уже считался в отпуске. Мне было жаль комбата и неудобно перед ним, но он подбодрил меня:
— Я рад за тебя. Все правильно. Поезжай быстрей в штаб полка, получай документы, аттестаты и утром в дорогу.
Конечно, я был рад. Рано утром с коноводом выехал в Замостье, к железнодорожному вокзалу. На вокзале в ожидание поезда толпились цивильные и военные. Воинская касса не работала, расписание поездов отсутствовало. На Львов поезд ходил один раз в сутки, как придется, все зависело от готовности бригады. Ко мне подошли два офицера, летчики. Спросили, еду ли я в Москву или через Москву? Я сказал, что еду через Москву в Ленинград. Тогда они попросили меня довезти до Москвы подругу их командира полка. Я согласился. «Подруга» предстала передо мной в образе миловидной девушки лет двадцати в звании старшины. Познакомились. Подали состав на посадку. Все ринулись к вагонам занимать места. Народу в вагон набралось столько, что нельзя было повернуться. Я оказался зажатым между двумя молоденькими паненками и подругой неизвестного мне командира авиационного полка. Это было немного лучше, чем в окружении старого прокуренного насквозь пановства с их чемоданами и рундуками …
Через одну остановку в вагоне стало свободнее. Цивильные, в основном, ехали две–три остановки. Новых пассажиров было мало, так как поезд приближался к советской границе. Перед границей поезд остановился и долго стоял. Равномерно пыхтел и отдувался, точнее продувался, паровоз… Вместе с двумя офицерами я пошел к паровозу узнать у машиниста, в чем дело. Из паровозной бригады на локомотиве был только кочегар, который сказал, что машинист с помощником ушли пить пиво. Пошли и мы туда, куда указал кочегар. Машинисты неторопливо пили пиво и вели свою бесконечную беседу, ничуть не беспокоясь о поезде и его пассажирах… Попили пивка и мы. Когда мы возвращались, встречный офицер предупредил нас, что пограничники у отпускников отбирают личное оружие, взамен которого выдают квитанцию.
Меня это не устраивало. Я, как это раньше делал в госпитале, переложил пистолет из кобуры в полевую сумку. При встрече с пограничниками показал им пустую кобуру, сказав, что пистолет оставил в части. Наконец–то машинист с помощником вернулись к паровозу. Продолжительный гудок. Пассажиры поспешно стали занимать свои места. Поезд тронулся и плавно стал набирать скорость. Пересекли границу. Мы на родине. Я живой и здоровый (не считая незажившую рану). Еду домой, в отпуск. К вечеру прибыли во Львов, на конечную остановку польского поезда. Вокзал до отказа набит отъезжающими. Билетная касса закрыта. Билетов нет.
В зале ожидания люди сидят и спят на полу. Большинство военные. Пристроились возле скамейки и мы, я, старшина–девица и ст. сержант нашего полка. Старшине такое неудобство не понравилось, и она пошла на разведку. Вернувшись, доложила, что здесь люди сидят по трое суток, нет надежды приобрести билеты. Ночь спали на чемоданах, кроме старшины, которая, несмотря на предоставленное удобное место, уснуть не смогла и предложила мне устроить мою голову у нее на коленях. Я долго уговаривать себя не стал, принял ее предложение и до рассвета хорошо выспался. Утром старшина встретила знакомого полковника, который ехал в Москву и обещал ее прихватить с собой. Поблагодарив нас за заботу, забрала свои вещи и ушла к полковнику. Мне стало свободнее. «Баба с воза, кобыле легче!» Днем бродили по Львову, любуясь его архитектурой. Город почти не пострадал от войны. Вернувшись на вокзал, убедились в том, что пробиться на московский поезд можно только старшему офицерскому составу. Взвесив все это, решили добираться на товарняке. Через полчаса мы уже сидели на товарном поезде, следовавшем в Киев. Удобно устроившись на бревнах открытой платформы, мы двигались в нужном направлении. Наши разгоряченные лица приятно обдувал теплый, встречный ветерок. По всему составу поезда на платформах сидели люди с чемоданами и узлами. Военные, такие же, как мы, отпускники и гражданские, которые были угнаны в Германию и теперь возвращались домой. Я задремал под стук колес. Со мной рядом сидел, как и я в конце платформы, свесив ноги с бревен, один гражданский лет шестидесяти. Вдруг он забеспокоился, стал дергать меня за рукав, указывая на открытый тамбур соседнего вагона. В тамбуре стоял человек в военной форме без погон. «Смотрите! Сейчас он стащит чемодан!» Я ему не поверил и сказал, что военные не воры и не грабители. Но на всякий случай вытащил пистолет, взвел курок и, поставив на предохранитель, сунул его за пазуху. Снова задремал. Опять толчок в бок. Открываю глаза и вижу, как «военный», схватив чемодан из соседнего вагона, на ходу прыгает с поезда. Выхватив пистолет, стреляю … «Военный» с чемоданом кубарем скатился под откос …
Километров через десять подъехали к Фастову, большому железнодорожному узлу перед Киевом. Поезд остановился. Обходчик сказал, что простоим с полчаса. Сошел с платформы размять затекшие ноги. Вдоль состава не спеша двигался военный патруль. Я рассказал о недавнем происшествии. Лейтенант, начальник патруля, заметил, что все это пустяки.
— В этом районе нередки случаи, когда банды нападают на пассажирские поезда и грабят пассажиров…
Для нас, фронтовиков, все это звучало неправдоподобно и дико. Мы не могли себе представить, что здесь, в глубоком тылу, когда все мужчины воевали на фронте, находились гады, которые грабили беззащитных людей…
Еще немного, и мы на киевском вокзале. Сойдя с товарняка, я поспешил к билетной кассе. В отличие от львовского, который сохранился, половина киевского вокзала была в развалинах. У билетной кассы толпился народ, но результат тот же, что и во Львове, — билетов нет. А дни отпуска сокращались независимо от задержек на транспорте. Заняв бесполезную очередь, я направился в город. Пообедав в столовой и побродив по городу, я к вечеру вернулся на вокзал. Изменений никаких. На переполненные транзитные поезда билетов не было. Еще одна ночь на вокзале. Утром радио вокзала объявило: формируется поезд Киев — Москва. Так называемый «500–веселый».
Веселый так веселый, лишь бы двигаться в нужном направлении! Для военных билетов не требовалось. Поезд состоял из товарных вагонов, наскоро оборудованных деревянными нарами. Двигался малой скоростью, подолгу стоял на станциях, пропуская скорые, да и некоторые пассажирские поезда. В вагоне, в котором я устроился, было довольно свободно. Народ попался степенный. Хорошо было ехать и спать на верхних нарах. Двери были открыты настежь, и вагон обдувался теплым, чистым ветерком, наполненным ароматом родных полей и лесов. Одно беспокоило, надо спешить, дни идут, а на отпуск отпущено всего 15 дней с дорогой. Через двое суток поезд прибыл в Москву. С вокзала на метро, с метро на Ленинградский вокзал, и я у билетной кассы. Странно, но у кассы никого. С волнением подаю проездные документы. Жду отказа. Но кассирша взяла мой проездной, воинское требование, проворно Оформила билет и доброжелательно предупредила, чтобы я не опаздывал, так как поезд на Ленинград отправляется через 15 минут. Бегу к поезду. Мои мучения кончились, и я, С удобством устроившись на нижней полке, двигаюсь по финишной прямой.
Сойдя с поезда на Московском вокзале в Ленинграде, я долго раздумывал, как мне добраться до дома. Прошло три с половиной года, как я покинул Ленинград. Но это были не годы, а целая вечность. Война внесла свои поправки в измерение времени. Я уехал мальчишкой, школьником, а вернулся солидным офицером–фронтовиком, с тремя боевыми орденами на груди.
Спросив для верности, как проехать на Покровскую площадь, у первого встречного, я сел на трамвай и поехал по родному городу. Признав во мне фронтовика, почти половина пассажиров поспешили ко мне с расспросами. Каждый пытался узнать хоть что–нибудь о своих родных и близких, об отцах, сыновьях, братьях. «Возможно, вы воевали с ними в одной части или прослышали что–нибудь о них или об их воинских частях?» Спрашивали, когда можно ждать родных мужчин домой. И еще целый град вопросов задавали женщины мне, перебивая друг друга. Ведь я был один из первых отпускников, прибывших с войны. Что мог я сказать им, этим истосковавшимся по своим родным ленинградкам, чем их обрадовать? Сколько в той войне было фронтов, армий, корпусов, дивизий, полков…
в июне 1945 года в Ленинграде среди военных почти не было фронтовиков. Ленинградцы ждали своих родных. От многих не было вестей. Отпуска только начинались, и естественно, что женщины жадно набрасывались с расспросами на каждого фронтовика. Даже тогда, когда я сошел с трамвая на Покровке, многие последовали за мной, сойдя с трамвая раньше своей остановки, и не отпускали меня, пока не расспросили о самом важном для них. Они искренне завидовали моим родителям, к которым я явлюсь живым и невредимым. А мои родные: мать, отец и младший брат — ничего не знали о моем отпуске. Оповестить я их не мог, ведь об отпуске сам узнал неожиданно. Из моих последних писем они знали, что я жив, что был ранен в последнем бою, был в госпитале и нахожусь в Польше.
Подхожу к дому, поднимаюсь по лестнице, звоню в квартиру. Дверь открыла незнакомая мне соседка. Спрашивает: «Вам к кому?» Соседи новые и меня не знают. За ее спиной слышу знакомые шаги мамы, за ней и брата … Неописуемая встреча. Слезы радости. Объятия и поцелуи. Сбежались все соседи посмотреть на живого фронтовика. Расспросы. На радостях нашлось что выпить и чем закусить. Проговорили почти всю ночь. Утром, так и не выспавшись, отец ушел на работу, а я, позавтракав, отправился искать своих однокашников, с которыми расстался в 1941 году. Приятно было идти по знакомым с детства улицам Союза печатников, Лермонтовскому проспекту, проспекту Декабристов, по которым еще до школы маршировал строем под звуки горна и барабана с любимой пионерской песней о «Юном барабанщике»
Город еще не оправился от блокады. Разрушенные дома были заделаны большими щитами из фанеры. Вовсю торговали рынки и барахолки. На всю длину Сенная площадь (от церкви до кинотеатра «Смена») была запружена продающими и покупающими. Торговали даже на трамвайном пути. Вагоновожатые все время звонили, пробираясь через площадь. Трамваи были основным видом транспорта, но всегда переполненные. В часы пик люди висели на подножках и на «колбасе». Вот в такое время я рискнул, получив деньги по сберкнижке из сбербанка на Площади труда (10 пачек на 17 000 рублей), рассовал их по карманам галифе, а остальные завернул в газетку. Втиснулся в вагон трамвая. И только сойдя на своей остановке (Аларчин мост) начал проверять, все ли деньги целы. Пачки торчали у меня из карманов, но все были на месте. Это был большой риск. То ли воришек не было в вагоне, то ли они боялись военных, но мне повезло, деньги были целы.
Результаты поисков одноклассников были нерадостными. Многие умерли в блокаду от голода, кто–то погиб на фронте. Те, кто остался жив, еще не вернулись домой. На фронте погибли мои лучшие друзья детства, Павел Петров и Сергей Зорин. Из школьных товарищей разыскал только Михайлова. И в трамвае случайно встретил сержанта Сергея Смирнова. Михайлов пришел с фронта после тяжелого ранения и ампутации ноги еще в 1943 году. Воевал на Ленинградском фронте. Как инвалид войны поступил на льготных условиях в Ленинградский университет на юридический факультет. Студент 2–го курса. Встречу отметили в небольшом ресторанчике на Невском проспекте. Михайлов и рассказал мне все, что знал о наших одноклассниках, кто где и чем занимается.
В Ленинграде, кроме Михайлова, оказались еще трое наших девчат: Мазо, Маринина и Никитина. Мазо поступила в институт (в дальнейшим пошла в аспирантуру и защитила кандидатскую). В блокаду от голода умер Шулькин и еще восемь ребят, которые остались в городе. Помянули всех погибших… Побывали и у бывшей нашей учительницы. Она нам очень обрадовалась и пригласила к себе на вечер по случаю возвращения с фронта ее мужа.
Вечером, раздобыв заветную бутылочку, я поспешил на званый ужин. Супруг нашей учительницы был, видно, из тех «фронтовиков», которые отлично воевали на фронтовых продуктовых складах. Несмотря на тяжелый послевоенный год, стол был накрыт, как в лучшем ресторане довоенных лет. Моя бутылочка не пригодилась — стол ломился от шампанского. Держался «фронтовик» молодцом, много шутил, острил и рассказывал анекдоты, но от вопросов, кем был в армии, где и на каком фронте приходилось воевать, уклонялся. Мне уделяли должное внимание, но, несмотря на это, хотелось найти подходящий предлог и корректно ретироваться. Выручила моя одноклассница Маринина Таня, которая зашла к своей бывшей классной воспитательнице справиться насчет справки об окончании 9–го класса. 10–й класс она не окончила, так как началась война. Пользуясь случаем, я вызвался проводить ее домой в это позднее время. Поблагодарив хозяев, я с удовольствием выскочил на улицу, на свежий воздух. Маринина жила у сестры на другом конце города. Всю дорогу мы шли пешком, вспоминая прошлые и военные годы. Она рассказала, как она попала в армию и на фронт, и все свои приключения. Ночевал у нее, идти обратно было уже слишком поздно. Домой вернулся утром.
Дня через два встретил Смирнова Сережу. Я ехал на трамвае. На задней площадке стоял щеголевато одетый, в офицерском обмундировании, сержант. На груди его висел фотоаппарат «лейка». Сержант внимательно разглядывал меня.
— Якушин, ты? Что, не узнаешь меня? Ведь я Сергей Смирнов!
Только после этого узнал я своего одноклассника. Мы все сильно изменились за годы войны, особенно облачившись в военную форму. Смирнов похвастал, что всю войну служил и служит сейчас фотокорреспондентом в армии. Служба легкая, безопасная и интересная. Он всем обеспечен. Вращается в офицерском кругу, свидетель многих интересных событий и встреч на уровне армии и даже фронта. Расспросив про мою службу, за что я получил награды, он через две остановки распрощался со мной и, спрыгнув с трамвая, заспешил на какое–то совещание в штабе армии… Забегая вперед, расскажу и о другой мимолетной встрече с этим интересным, на мой взгляд, человеком. Вторая встреча была в 1946 году, в Ленинграде, на Покровской площади. Мы были уже на гражданке. Я учился в Ленинградском судостроительном техникуме. Оба мы торопились по своим делам, но встрече были рады. На ходу делились новостями. На мой вопрос: «Где ты учишься?» Смирнов ответил: «Нигде! Зачем мне учиться? Я работаю фотокорреспондентом ТАСС, хороший заработок, частые и полезные командировки. Оттуда я привожу все хорошее. У меня есть все. Работа интересная. Что еще надо? Фотоаппарат меня кормит, одевает и обувает!»
Одет Сергей был с иголочки, по самой новейшей моде … Больше я его не видел, но был много наслышан о нем от однокашников и от его коллег по агентству ТАСС. Сергей вращался в гуще событий, продолжал стремительный рост по службе. Переехал в Москву. Фотографировал членов правительства страны, Леонида Брежнева. После Брежнева продолжил свою деятельность в газете «Известия». Увлечение фотографией, талант, общительность, ну и, конечно, Госпожа Удача всегда сопутствовали Сергею.
Интересной была во время моего отпуска еще одна встреча — с товарищем детства по двору Редкоусовым. Иду я вдоль канала Грибоедова к своему дому. Навстречу мне идет курсант артиллерийского училища. Подходит ко мне, отдает честь.
— Ба, да это Редкоусов Вовка! Редкоусов, ты?
— Я, товарищ лейтенант!
— Где воевал?
Ответы были сбивчивые, невразумительные. С Редкоусовым мы жили в одном доме, в одном парадном, гуляли в одном дворе. Отец его был кадровый военный, носил одну шпалу капитана. Держался Вовка от нас, дворовых мальчишек, особняком. Гордился своим отцом и видел себя только на военном поприще. Перед нами всегда подчеркивал, что все в роду Редкоусовых были военные и у него тоже военная косточка. Как только открылись специальные военные школы, Вовка сразу поступил в 9–ю Специальную артиллерийскую школу Ленинграда (9–ю САШ) и стал щеголять в новенькой военной форме, на зависть всем мальчишкам. Форма была красивая. Китель и синие брюки с красным кантом, на голове не пилотка, а фуражка с козырьком, командирская шинель и курсантский ремень со звездой на бляхе. Любой лейтенант того времени мог позавидовать форме спецшкольника. Вовка неплохо знал военное дело и воинские уставы. То ли это, то ли влияние его отца на начальство спецшколы, но уже перед войной Володька получил звание «Комод», то есть командир отделения, и стал носить в петлицах по два треугольника. В сентябре 1941 года по совету своего лучшего друга, Егорова Сергея я тоже поступил в ту же 9–ю САШ. Шла война, и надо было готовить себя к военной службе. Зачислен я был в 1–ю батарею (10–й класс). Редкоусов и Сережа Егоров были во 2–й батарее (9–й класс средней школы). После эвакуации из Ленинграда, в феврале 1942 года, спецшкола разместилась в городе Мунды–Баш Алтайского края, там я и окончил 1 О–Й класс. Вся наша 1–я батарея в августе 1942 г. была направлена в город Томск, в 1–е Томское артиллерийское училище, а 2–я батарея в тот же год направлена в Днепропетровское артучилище, которое в то время находилось тоже в Томске. С Сережей Егоровым мы изредка встречались, так как наши училища размещались на одной улице. А Редкоусов куда–то пропал. Всю войну он где–то кантовался под покровительством своего папы в теплом местечке глубокого тыла. Вот тебе и военная косточка! Для кого война, а для кого и мать родна!
Забегая вперед, замечу, что Вовка Редкоусов благополучно в 1948 году окончил Ленинградское артиллерийское училище. Он не был направлен по специальности в воинскую строевую часть на Курилы или в Германию, а пристроился в райвоенкомате Ленинграда. (Видно, и тут папочка помог.) Хорошо быть военным подальше от фронта и от всех забот строевого офицера, жить и спать дома, в родном Ленинграде, пользоваться полным довольствием офицера, а о горячих точках и полевых учениях читать из газет, сидя на теплом диване!
Быстро пролетели дни отпуска. Встретился с двоюродными сестрами, Катей и Марией. Катя всю блокаду была на казарменном положении в отряде МПВО, Мария приехала из эвакуации, жила и работала в Казахстане вместе с моим братом Николаем. Их отец, мой родной дядя, Тимофей Иванович Якушин, умер в блокаду от голода, мать их скончалась после войны.
Потратив на встречи и угощения все свои сбережения (14 000 рублей), я купил на прощание своим старикам на Сенном рынке патефон с пластинками за 1200 руб. Сфотографировался на память с отцом, матерью и братом и стал собираться в дорогу, в обратный путь.
Надо ехать на Львов и дальше в Польшу. Прямого поезда не было, и пришлось опять ехать с пересадками в Москве и Киеве. До Киева добрался без приключений, а в Киеве опять пробка. Билеты не закомпостировать. Люди в кассу стоят сутками, и безрезультатно. Пришлось мне с такими же, как я, отпускниками брать поезд на Львов штурмом. С другой стороны платформы через окно туалета забрались в вагон и только тогда, когда поезд отъехал от Киева на приличное расстояние, я сумел договориться с проводницей из соседнего вагона за всю мою компанию. Ребят устроил в вагоне, а сам — в купе проводницы, разбитной молодой женщины из Киева. Утром на следующий день, выглянув в окно на одной из станций, среди военных я заметил кавалеристов в кубанках. Выйдя из вагона, узнал у них, что они из нашего корпуса и что корпус идет из Польши к своим довоенным квартирам, в район Шепитовки, в Изяслав.
Времени стоянки поезда хватило мне, чтобы вернуться в вагон, собраться, попрощаться с попутчиками и проводницей, удивленной и огорченной, что я не поеду с ней до Львова, и спрыгнуть уже на ходу с поезда.
СНОВА В РОДНОМ ПОЛКУ. ОКОНЧАНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
И вот я уже на машине начпрода нашей дивизии, а спустя два часа в родном полку. Полк был на дневке. Теплая встреча на батарее … Из штаба вернулся писарь и сообщил, что в штабе можно обменять марки и злотые на советские рубли. Один злотый или две марки за один рубль. У меня было 800 злотых. Обменяв их, я организовал стол в честь моего прибытия из отпуска.
Через несколько дней мы пришли в Белогорье (Белгородку), небольшой железнодорожный населенный пункт, в 30 километрах от Изяслава. В Изяславе в 1924 году жил и работал Н.А. Островский. Знаменит город и архитектурными памятниками XVIXIII веков. В Белгородке мы разместились у местных жителей, так как казармам и конюшням в Изяславе требовался ремонт. Для благоустройства наших зимних квартир приказом ком корпуса все заместители командиров дивизий, полков и подразделений направились на работы для подготовки к приему личного состава, коней и боевой техники. В строительно–ремонтную команду полка вошел и я. Назначенный до моего приезда из отпуска, старший лейтенант Стариков не поладил с Агафоновым и вместо его в Изяслав послали меня. Стариков, пожилой офицер, прибыл к нам из запаса. Его попытки наладить в батарее дисциплину на уровне мирного времени, получали ожесточенный отпор от старшин и сержантов, отличившихся в боях и имевших не один боевой орден. Был у нас, в батарее и свой Герой Советского Союза (направленный к нам из 6–й гвардейской кавдивизии), и полный кавалер орденов Славы, гвардии старший сержант Сухоловский В.И. С горя Стариков запил и застрелился у себя на квартире. Командир полка Ткаленко был сильно разгневан и приказал похоронить самоубийцу за пределами кладбища без всяких похоронных почестей и церемоний. Обо всем этом я узнал уже позже, на работах в Изяславе. Работы было много. Нужно было привести в порядок и восстановить казармы в трехэтажном кирпичном корпусе, и конюшни, и плац для боевой техники, и все остальное, что было оставлено дивизией в начале войны.
Кроме того, мы, замкомандиры подразделений, должны были ежедневно выделять по 10–15 человек в распоряжение замкомандира полка для работ по оборудованию помещений штаба и управления полка. График продвижения работ ежедневно проверялся в штабе. Срок окончания работ неумолимо приближался, а работ еще было много. Однажды вечером я занимался с людьми в конюшне, когда из соседнего эскадрона сообщили, что по конюшням ходит генерал Осликовский. Появление генерала в нашем расположении для меня было неожиданностью. Осликовского все уважали, но и боялись за его крутой нрав. Отрапортовав о проведении работ и проводив генерала по своему заведованию, я на его вопрос, когда закончу работы, ответил:
— Если у меня не будут отвлекать людей на работы в штаб, я закончу работы через неделю!
Видимо, мой ответ удовлетворил генерала. На прощание он подал мне руку, что с ним случалось крайне редко, и отбыл в расположение 17–го полка. Через минут пятнадцать в конюшню вбежал зам командира нашего полка с вопросами:
— Был здесь Осликовский? Что спрашивал? Когда и куда направился?
Я ответил, что генерал интересовался, когда я закончу работы. И добавил, от себя, что он сказал, чтобы людей от меня на другие работы не отвлекали. Это помогло мне, людей больше не забирали, и неделю спустя я готов был принять батарею. Последний марш из Белогорья в Изяслав — и полк на своих зимних квартирах. Старшие офицеры разместились на частных квартирах в городе Изяслав. Комбат Агафонов устроился в домике рядом с железнодорожной станцией, а мы, младшие офицеры, облюбовали дома местных жителей в поселке за речкой Горынь, в трех километрах от наших казарм. Утром и вечером коноводы подавали нам коней для поездок из поселка в поселок. Зимой речка замерзала, и мы добирались домой пешком по льду минут за 15. Отдельные офицеры устроились в поселке основательно, по–домашнему, женившись на местных девчатах.
Я устроился у молодой хозяйки, мужа которой только что призвали в армию. Жила она одна с двухлетней дочуркой. Отношения наши были сугубо официальные. Мне была предоставлена кровать и часть комнаты. За квартиру в тот период с нас еще не брали. Да и проживал я мало, так как больше находился в командировке. Дом был ухожен, хозяйка строгая, но чистоплотная и работящая, так что с жильем было все в порядке. Началась повседневная военная служба мирного времени, с боевой и политической подготовкой.
Приближались выборы в Верховный Совет страны. По Шепитовскому избирательному округу баллотировался СМ. Буденный. В одну из ночей, когда я был дежурным по полку, меня пригласил дежурный по гарнизону присутствовать при встрече правительственного поезда с СМ. Буденным. Перед рассветом поезд из четырех вагонов медленно подошел к нашей станции. Из вагона вышел Семен Михайлович, принял рапорт дежурного по гарнизону, поздоровался с нами, справился, где генерал Осликовский, и вернулся в вагон …
В день 28–й годовщины Великой Октябрьской революции на поле, возле казарм, проводились скачки, джигитовка, рубка лозы и праздничные представления с участием традиционного верблюда Яшки. В большом зале 1–го этажа казармы были накрыты праздничные столы. Приглашен и командир. дивизии генерал Чепуркин (правда, при условии, что за столом не будет капитана Дрыгалкина — зачинщика пьяных скандалов и драк). Праздник прошел организованно, без происшествиЙ. Шли дни … Из штаба Прикарпатского военного округа прибыла медицинская комиссия для определения годности военнослужащих к дальнейшему прохождению воинской службы у тех, кто имел ранения и контузии. Меня комиссия признала ограниченно годным к строевой службе. Это давало мне право подать рапорт об увольнении в запас. В мирное время у меня не было никакого желания служить в армии.
Пока я молод, надо учиться и осваивать гражданскую специальность. А учиться лучше у себя, в Ленинграде. И я немедля направил свой рапорт с просьбой об увольнении меня в запас в штаб Прикарпатского военного округа. Но получилось так, что в первую очередь стали увольнять офицеров–практиков, не окончивших военных училищ. К ним относились И Зозуля Ефим Кондратьевич, и Агафонов Николай Михайлович, и ряд других офицеров.
Меня вызвал комполка Ткаленко на предмет направления меня на учебу в военную академию, а до поступления в академию я должен исполнять обязанности замкомандира батареи по строевой службе. От первого и второго предложения я отказался, ссылаясь на то, что медкомиссией я определен как ограниченно годный к строевой службе и что я подал рапорт об увольнении меня в запас. Мой отказ пришелся не по душе Ткаленко, и он пообещал устроить мне веселую жизнь за неповиновение старшему по званию, по должности и по возрасту. Свое обещание он сдержал. Через несколько дней ночью я был вызван в штаб полка, где получил предписание явиться к замкомандира дивизии по тылу для выполнения его указаний. Замкомдив, коротко обрисовав обстановку, направил меня в Волочиский район на заготовку сена для дивизии. В этом районе орудовали банды бандеровцев, и поэтому мне необходимо было быть осторожным. Ходить только в сопровождении двоих–троих вооруженных солдат (особенно ночью) и так далее.
В мое распоряжение выделили 30 конногвардейцев, 8 бричек и оружие. Солдаты отправились на бричках, а я, получив все необходимые документы, выехал на поезде, чтобы заранее ознакомиться с обстановкой на месте. Моя задача: принять 900 тонн сена на сенпункте железнодорожной станции Войтовцы, спрессовать его в тюки и отправить по железной дороге в дивизию — в Изяслав!
Приехав на место, я сразу же стал заниматься организационными и хозяйственными вопросами. Размещал людей по домам в ближайшем поселке, принимал сено в скирдах, готовил производство для его прессования. Начальник сенпункта Кошонько помогал мне советами, так как своей техники у него не имелось. Утром на следующий день после моего приезда я выехал в Проскуров, где размещалось областное управление Каменец–Подольской области. Несмотря на свой мандат военного представителя, в областном управлении ничего добиться я не смог. Вышел расстроенный. В коридоре приемной меня догнал невзрачный, небольшого роста мужичок и скороговоркой стал предлагать мне свои услуги:
— Я был свидетелем вашего разговора с управляющим и готов помочь вам советом.
Время было обеденное, и я пригласил его пообедать со мной в ресторане. Он охотно согласился. В ресторане за обедом и стаканом водки он изложил мне свои дельные советы, которые оказали мне неоценимую услугу в моей работе. Вот что он мне предложил:
— На железнодорожной станции Волочиск стоит бесхозный трофейный пресс «бульдог». Он может прессовать сено на тюки весом до 100 кг. Отечественные прессы дают тюк не свыше 40 кг. Пресс имеет небольшую поломку, которую легко устранить, договорившись с рабочими депо на той же станции.
Довольные встречей, мы, поблагодарив друг друга — он за обед, я за дельные советы, — расстались. Не мешкая, я поехал в Волочиск и после недолгих поисков разыскал пресс. Пресс представлял собой агрегат раза в полтора больше отечественных зерноуборочных комбайнов. Внешне пресс был исправен, если не считать сломанного штока прессовой бабки. Справился у путевого обходчика:
— Это трофей? Откуда его привезли? Кто его хозяин?
Получил не точный, но вполне устраивающий меня ответ:
— Да! Это трофей. Привезли военные и свалили сюда месяца два назад. Наверно, металлолом …
И я направился в депо. У ворот депо отдыхали рабочие–ремонтники и курили. Спросил у них:
— Где можно увидеть начальника депо?
— А что вам нужно от начальника? Он уехал и будет дня через два.
Я сказал, что мне надо отремонтировать пресс «бульдог», который вот уже два месяца как находится на территории их станции.
— Этот вопрос мы могли бы решить и без начальника.
— Чем платить будешь, лейтенант? Как скоро надо выполнить работу?
— Платить буду сеном. Два воза хватит? А срок чем раньше, тем лучше.
Еще раз осмотрев пресс, теперь уже с бригадиром ремонтников договорились, что за срочную работу они получат еще один воз сена. Шток пообещали сварить и обработать на следующий день и еще через день опробуют его ходовую часть. Три воза сена в 1945 году на Украине стоили больших денег, и мы ударили по рукам.
— Подгоняй платформу, лейтенант, а за нами дело не станет. Проверим и погрузим агрегат в лучшем виде! Вези сено!
Свою работу ремонтники выполнили качественно и в срок. Получив обещанное сено, погрузили пресс на заказанную мной платформу. Через три дня пресс уже был на нашей станции. Начальник сенпункта Кошонько был в восторге. Но, осмотрев его и похлопав по нему ладошкой, изрек:
— Одно дело сделано! Теперь дело за трактором! Но наш трактор его не потянет, ему нужен трактор тоже «бульдог». Трактор буду доставать я, а ты, лейтенант, доставай проволоку для обвязки тюков. Поезжай опять в Волочиск, там есть склады проволоки Управления связи Прикарпатского военного округа. С их начальством и договаривайся!
Пока я был в разъездах, сержанты и солдаты обживались в поселке. Размещение их по домам произошло без особого труда. Хозяйки радушно принимали солдат–постояльцев. В поселке почти не было мужиков, а солдат в доме — хорошее подспорье в хозяйстве, если не говорить еще и о другом. Была только одна заминка: ко мне пришел, чуть не плача, молодой солдатик из нового набора и поведал мне, что его прогнала хозяйка.
— За что? Почему?
— Не знаю!
Пришлось разбираться на месте. Возмущенный, я пришел с ним к хозяйке, молодой, дородной украинке.
— Все хозяйки приняли солдат без претензий! А ты почему не принимаешь солдата, защитника Родины?!
— Да! Им ты поставил солдат. А мне подсунул ребенка! Какой он защитник? Что я ему, нянька?
Возмущенная, не менее чем я, она наотрез отказалась принять солдатика.
— Небось, сам ко мне не стал! Чем я хуже Аделькиной соседки, чем нехороша?
И пошло, и поехало … Сарафанное радио работало исправно. Прекратив бесполезный разговор, я забрал солдата и сказал ему — что–нибудь придумаю. Так как у других хозяек мог быть тот же результат, я решил поселить его к сироткам. Они жили недалеко от моего дома. Сироты — девочка лет четырнадцати и братик лет семи. Жили бедно. Из всей живности у них была козочка, поросенок и несколько кур. Вот к ним–то Я И решил поселить моего солдатика. Посоветовавшись со своими сержантами и солдатами, мы решили часть наших продуктов передавать этому дому, ведь всех солдат довольно хорошо кормили их хозяйки. Привезли мы им и дров, и сена … Через месяц я побывал у них в доме. Все трое в хорошем настроении играли в карты. Они были рады моему посещению, усадили меня за стол, напоили чаем, благодарили за заботу о них. Я был рад за них, что все у них хорошо, что живут они дружно, как одна семья, что удачно пристроил солдатика и помог сироткам.
Но не все просто было с обеспечением работ на сенпункте. По совету Кошонько пришлось договариваться с начальством складов связи в Волочиске для получения необходимой проволоки. Сено им было нужно, но за проволоку хотели получить как можно больше. Пришлось поторговаться, пока подполковник (начскладов) не сдался. Потом проволоку я добыл в достаточном количестве, проявив при этом гвардии находчивость, изъяв ее из–под носа начальства этих складов. Кошонько пригнал к этому времени из МТС трофейный трактор «бульдог». Не прошло и недели, как заработал наш пресс, выдавая небывалые по тем временам тюки сена весом в центнер. Отдохнувшие, за время моей организационной работы и моих поездок, ребята работали как застоявшиеся кони. Пора было подумать и о вагонах для доставки сена в часть. Безрезультатно проездив в областной железнодорожный центр, усталый и голодный возвращался я на станцию. Пассажирские поезда днем на станции Войтовцы не останавливались, и мне приходилось спрыгивать из вагона на ходу, при подъеме, когда поезд замедлял свой ход. Если не рассчитаешь и запоздаешь спрыгнуть, поезд быстро наберет скорость и провезет тебя без остановки до самого Волочиска.
Не без улыбки наблюдал я, как местные бабы прыгали с поезда, словно одуванчики. Сначала они выбрасывали свои «лантухи», потом прыгали сами. Юбки их поднимались, как парашюты, а сами они, как мячики, потешно кувыркались вдоль насыпи. На станции повстречался с начальником станции Войтовцы. Узнав, что я безрезультатно ездил в область, сказал, что зря. Он сам может все устроить.
— Сколько тебе надо вагонов? — спросил он. Я говорю:
— Хотя бы десять.
— А пять пульманов по 60 тонн устроит?
— Конечно, устроит!
— Завтра подгоню! За труды два тюка сена! Сделка была заключена. Вагоны подали поздним
вечером. Во избежание простоя вагонов в ночное время пришлось срочно организовать погрузку тюков всем личным составом. Интересно то, что штраф за простой вагонов в ночное время взимается в два раза дороже, чем в дневное. Работа была не из легких. Ночью, в темноте, на ощупь, ребята дружно грузили 100–килограммовые тюки, плотно укладывая их в вагоны, под самую крышу. Под конец работы усталые ребята подшучивали друг над другом, говоря, что они как Грекова гусыня: «Травку щиплет и на задницу падает!» До рассвета работа была закончена. Погружены все пять пульманов. Поблагодарив за работу и пообещав ребятам два дня отдыха, отпустил их домой. Сам отправился на станцию оформлять путевые платежные документы. Простой вагонов оказался минимальным. На обратном пути меня остановил сцепщик и попросил собрать для себя сено, что натрусилось возле рельс при погрузке. Он очень обрадовался, когда я ему разрешил, и пригласил меня к себе домой. Жил он тут же, у станции. Жена его угостила нас отличным ужином, а точнее завтраком, так как уже светало. За завтраком сцепщик подробно объяснял мне, как можно сократить время под погрузку, не перекатывая вручную вагоны из–под навеса придорожного склада, куда не подлезал паровоз. В следующий раз он у площадки погрузки поставит «башмаки» на рельсы и вагоны, которые сильно толкнет паровоз, остановятся точно у тюков С сеном.
Так шел день за днем …
Бандеровцы, УВО и УПА, боролись против воссоединения Западной Украины с Советской Украиной, имели военно–террористические формирования, так называемой Украинской повстанческой армии (УПА). Названы по имени руководителя Г.А. Бандеры (19081959). В поселке, где мы мы жили, сельрада (сельсовет) готовилась к выборам в Верховный Совет СССР. Оборудовали помещение для голосования. Но тревожно было в районе и области. Бандеровцы убивали офицеров и советских активистов, разоружали солдат, громили избирательные участки. В Изяславе весь наш полк был переброшен на охрану избирательных участков. По просьбе головы сельрады и я выделил наряд на охрану избирательного участка в нашем поселке. Хотя активных действий в нашем поселке со стороны бандеровцев не наблюдалось, но береженого бог бережет, и мы не теряли бдительности. Нам посчастливилось, так как до нашего приезда основные силы бандеровцев передислоцировались в Прикарпатье. Но все же один раз в меня стреляли. Было это в три часа ночи, когда я возвращался домой из очередной поездки в Проскуров. В открытом поле, когда я шел по тропинке, прозвучал выстрел, и возле моего уха просвистела пуля. Я был освещен лунным светом и стрелку был хорошо виден. Спрыгнув в канаву, которая шла вдоль тропинки, я дал два ответных выстрела из пистолета. Больше выстрелов не последовало. Пригнувшись, по канаве, в темноте, я добрался до своего дома. У самого дома, не узнав меня, залаял соседский пес. Не целясь, я выстрелил на лай, Пес завизжал и умолк. Бесшумно я вошел в дом и по–фронтовому, не раздеваясь, улегся спать. Утром разбудил меня бойкий разговор моей хозяйки с соседкой Аделькой. Из кухни было слышно, как Аделька жаловалась на то, что солдаты ее постояльца (то есть мои) прострелили лапу ее псу, и он теперь прыгает на трех ногах, все время зализывая четвертую …
Хозяйка убеждала Адельку, что мои солдаты спокойные и подстрелили ее пса, наверно, моряки или пехотинцы. Кроме нас, в поселке квартировали еще моряки и пехотинцы, которые заготовляли продукты для своих частей. Но негласным начальником гарнизона был я, как строевой командир и как офицер, имеющий наибольшее количество солдат и вооружения. Как угораздило меня, не целясь, только по лаю, в темноте, подстрелить Аделькиного пса? Жаль, конечно, пса, я хотел его только припугнуть. Но, ничего, на собаке все быстро заживает. Возможно, и того, в поле, бандеровца, я «царапнул», недаром после моих выстрелов он замолчал!
Еще одна встреча с бандеровцами произошла в соседнем селе. А было это так: во время работы на сенпункте к нам подъехали два грузовика с вооруженными штатскими лицами. Капитан НКВД, вышедший из кабины, представился начальником госбезопасности Волочиского района, показал удостоверение. Поздоровавшись со мной, он сообщил, что в соседнем селе бандеровцы разгромили избирательный участок и убили женщину, голову сельрады. Мне он предложил со всеми моими солдатами помочь ему обезоружить и арестовать бандитов. Был самый разгар работы, дивизия ждала сено, и меня не устраивала остановка работ. Уточнив, сколько там этих бандеровцев и выяснив, что в основном там командует один, переодетый в форму майора Красной армии, бандеровец, к которому примкнул голова колхоза и два–три селянина, я отказался направить туда моих солдат. У капитана было с полсотни «ястребков» с автоматами, и он мог справиться с этим «майором» И без моей помощи. Мой ответ капитана не устраивал, он начал объяснять мне, что «ястребки» еще молодые и необученные, да и стрелять еще не научились. А если я откажусь, то он вынужден будет пожаловаться моему командованию за срыв операции. Такой оборот нашего разговора меня не устраивал. Портить отношения с госбезопасностью я не хотел и пошел на компромисс:
— Своих солдат с работы я не сниму, но с вами поеду сам и возьму с собой двух сержантов, бывших фронтовиков, с автоматами.
Капитана это устраивало, и он согласился. Операцию осуществили довольно быстро. Мои сержанты арестовали и по моему приказу обезоружили самозваного майора. Голову колхоза и его сообщников отыскать не удалось, они сбежали до нашего приезда. Капитан был доволен, что изловили «майора». Благодарил меня и сержантов за помощь, подвез к сенпункту и пригласил меня заходить к нему, в Волочиск. В одной из моих поездок в Волочиск я встретился с капитаном. Он пригласил меня отобедать с ним в небольшом, уютном ресторанчике. С ним был еще один его знакомый, в штатском. За столиком капитан рассказал, что «майор» оказался крупной шишкой в бандеровском движении и что его сразу забрали в областной центр и, наверно, направят в Москву. Подвыпив, штатский приятель капитана перевел разговор на религиозную тему. Я заспорил с ним о существовании бога, но он довольно аргументированными примерами припер меня к стенке.
— Бог есть, и это бесспорно! — говорил он. Мне было обидно, что моих знаний не хватает, чтобы продолжить спор и доказать обратное. Капи–ан, не принимавший участия в нашем споре, лукаво улыбаясь, спросил меня:
— Знаешь, с кем ты споришь?
— С твоим другом, а с кем еще?!
— Друг–то он друг, да ведь он ксендз.
— Если он ксендз, то почему водку хлещет, как и мы? По окончании застолья ксендз, похлопав меня поплечу, изрек:
— Не унывай, лейтенант, возможно, ты и прав, но ведь я ксендз, и плохой я буду ксендз, если не смогу убедить прихожан, свою паству. Пить дозволено всем, конечно, по способности, даже священнику. Для того, кто верит, — Бог есть! А у того, кто не верит, Бога нет!
Узнав, что я собираюсь в запас, капитан стал уговаривать меня пойти к нему в помощники. Обещал хороший оклад и жилье. Я наотрез отказался. Я хотел только одного — вернуться в Ленинград, жить и учиться. Надо было приобрести гражданскую специальность.
Наступил для местного населения большой праздник Пасхи, как для православных, так и для католиков. Ребята попросили меня сделать на Пасху выходной день с отработкой его в другие дни. Они хотели погулять вместе с сельчанами. Я согласился. Жители села, несмотря на отсутствие мужиков и голод в центральных районах Украины, жили в достатке. Вдоволь было сала и масла, яиц, молока и крупы, хлеба и овощей. Почти в каждой избе гнали самогон из буря ка и миляса. Пили сами и использовали самогон как оплату за разные услуги по хозяйству. Милиция навещала редко, так как в селе были военные, а она не хотела портить с нами отношения. Колхозники хорошо зарабатывали на сахарной свекле (буряках). Моя хозяйка была ланковая (звеньевая). В периоды посевной и уборочной она целыми днями пропадала в поле со своим звеном. Работа была выгодной. В отличие от многих колхозов в России бригадир здесь не ходил утром по хатам собирать колхозников. Здесь они сами спешили на поля, порой в ущерб своему личному подворью. За работу хорошо платили натурой и сахарным песком. На Пасху колхозники, все сельчане, не работали — праздновали. Гуляли с сельчанами и мои солдаты, поздравляя хозяек словами: «Христос Воскресе!», а у полячек: «Пан Езус с мертвых встал!» В знак внимания хозяйки подносили солдатам стаканчик горилки и хорошую закуску.
После праздника ребята смеялись над тучным, неповоротливым, молчаливым, но большим любителем поесть, рядовым Цибулей. Цибуля так «напоздравлялся», ходя по хатам, что под конец, входя в очередной дом, изрекал: «Пан Езус с мертвым спал!» Хозяйки, католички, вежливо поправляли: «Не с мертвым, а с мертвых, встал, а не спал». Выпив очередной стаканчик, Цибуля крякал, закусывал и добавлял: «Что спал, что встал, для меня все едино!» Несмотря на отсутствие мужиков, сельчане играли свадьбы, правда, с зеленой, допризывной, молодежью. На одной из таких свадеб в соседнем селе побывал и я. Меня пригласили на свадьбу с моим гармонистом. Свадьбу гуляли трое суток всем селом. Поочередно меняли участников застолья из–за отсутствия места. Откуда только бралась горилка и закуска в этот трудный послевоенный год? Свадьба пела и плясала, и горилка лилась рекой.
А я панского роду, пью горилку як воду! — напевали молодые и пожилые сельчане в кругу танцующих.
Полюбилась одному из моих хлопцев, рядовому Зодичу, инженеру–архитектору по гражданской профессии, здешняя дивчина. Недолго думая, получив из дома писменное согласие родителей и мое согласие, они расписались в местной сельраде. Стали готовиться к свадьбе. Но не тут–то было, из части пришла депеша: срочно откомандировать рядового 3одича в Изяслав для строительства в доме офицеров. Спустя неделю молодая нареченная начала уговаривать меня отвезти ее на побывку к мужу. Гражданским в то время было трудно, а точнее невозможно, приобрести билеты на поезд. Выдав ее за свою жену, я, в очередной поездке, отвез со всеми ее угощениями в Изяслав. В Изяслав приехали поздно вечером. Было уже темно. Дул сильный ветер, встречный и холодный, со снегом. Мокрый снег шел стеной и слепил глаза. Я шел с ее чемоданами впереди, моя спутница еле поспевала за мной, идя след в след, прячась за моей спиной от встречного ветра. Каким–то чутьем я не сбился с дороги (точнее с курса), пройдя через оба рукава замерзшей речки Горынь, и вышел к поселку прямо к своему дому, где я квартировал до командировки. Утром разыскал 30дича, договорился с его командиром, чтобы он отпустил его на побывку к же,е, которую я устроил на своей квартире, за рекой. В дивизии моей работой были довольны. Они не ожидали, что я так быстро организуюсь и направлю им вагоны с сеном. На других сенпунктах, куда группы были направлены намного раньше моей, работы только начинались. Через три дня я, захватив молодую, вернулся в Войтовцы.
Дома застал хозяйку в расстройстве. Она получила письмо из Донбасса, где на шахте работал ее сын, в котором сообщалось, что сын тяжело болен и просит приехать. Я помог ей с билетом и продуктами из нашего сухого пайка. Особенно ей пригодились консервы в банках. В доме остались мы одни с Галей, 14летней дочкой хозяйки. Ей были поручены корова и все хозяйство, а я в шутку сказал, что буду смотреть за курами. Куры неслись у меня под окном, на завалинке. Хозяйка, да и дочка, яйца не любили, прием яиц в колхозе не организован, так что главным и основным потребителем их в доме был только я. Я их ел и сырыми, и вареными, и в яичнице с салом. В отсутствие хозяйки подстраховывала нас по хозяйству соседка Аделька. В один из весенних дней, когда хозяйка еще не вернулась из Донбасса, мы, я и мой помощник, решили к хорошей горилке приготовить и хорошую закуску из сала и полутора десятка яиц. Яичницу приготовили в большой сковороде, растопив мелко нарезанное сало. Нарезали и лучок, и чесночок, и соленые огурчики. Гали дома не было, и мы уселись за столом, у окна. Приняв по стаканчику «гвардейской», стали не спеша отдавать должное и нашей закуске … Внезапно за окном поднялся сильный ветер. Ураган сбрасывал с крыши снопы соломы … Откуда–то появилась Галя и начала гоняться за соломой, которую ветер крутил по двору. Не справившись с ветром, она ворвалась в хату и, застав нас за спокойной трапезой, набросилась на нас, как тигрица:
— Сидите! Пьете! Им хоть бы что!
— Что ж, и мы должны, как и ты, гоняться за каждой соломинкой. Мы же не сумасшедшие! Вот утихнет ураган, и мы заново накроем твою кровлю. Будет лучше прежней!
Галю больше всего раздражало наше спокойствие. Побегав из дома во двор и обратно, она высказала все, что думает о нас, и успокоилась. Получив заверение, что завтра, как утихнет ветер, солдаты накроют кровлю заново, она даже согласилась отведать нашей яичницы. Мир был восстановлен. Этот ураган весной 1946 года пронесся по всей Украине. Раскрывая кровли, ломая опоры электропередачи и другие сооружения, ураган нанес большой ущерб народному хозяйству. Повреждено было немало жилых домов и хозяйственных построек. Время шло своим чередом… Маленькая хозяйка, Галя, усердно занималась по дому. Я работал на сенпункте. Бандеровцы в нашем районе успокоились. Неожиданно из части прислали ко мне старшего лейтенанта с приказом по дивизии об отзыве меня в полк.
Я должен передать ему все свои дела по продолжению работ, а сам прибыть в полк для участия в окружных боевых стрельбах из всех видов боевого оружия. Подготовку к ведению огня 57–мм противотанковым орудием хотят поручить мне. Недолгие сборы, передача работ и солдат, прощание, и я в поезде. Впереди Шепитовка и Изяслав… О своем прибытии я доложил начальнику штаба и командиру полка.
С гвардии полковником Ткаленко разговор был краткий:
— Как, ты еще жив и тебя не подстрелили бандеровцы?! — спросил он.
— Как видите, живой, а мертвого нечего было отзывать меня в полк!
— Я пошутил … Пока отдыхай. Обстановка изменилась. Стрельбы отменили. Началось расформирование корпуса.
3–й гвардейский кавкорпус стал дивизией. Дивизия стала полком. Командир нашей 5–й гвардейской кавдивизии,генерал Чепуркин, назначен командиром механизированного корпуса. Все офицеры, подлежащие увольнению в запас, в том числе и я с комбатом Агафоновым, были освобождены от занимаемых должностей и отчислены в резерв полка. Мы стали ждать приказ о увольнении … Я рассчитывал уволиться раньше Агафонова, как ограниченно годный к строевой службе и подавший рапорт, но Агафонов опередил меня. Приказ на него пришел раньше.
Проводы друзей, грандиозные отвальные. Комбата Агафонова с почетом разместили на нижней полке вагона. В Шепитовке пересадка в дальний путь до Урала … На прощание я подарил ему браунинг, шутливо сказав, что с ним можно ходить на медведя. К сожалению, после войны я потерял с Агафоновым связь, хотя и пытался найти его через однополчан.
Через несколько дней провожали и меня. Пришел приказ об увольнении меня в запас. Получив обходной лист (бегунок), я пошел по указанному списку. Как–то не подумав, я направился было в военторговскую столовую, чтобы получить отметку против строки «Ларек военторга», но вовремя был остановлен офицерской братией:
— Разве столовая кормила и поила тебя в долг, без денег?
— Нет, в столовой можно пообедать только за наличные, за деньги!
— Ну, раз так, то топай к Шлеме.
— На «бегунке» должна стоять его подпись! Шлема был широко известен среди офицеров гарнизона. Появился он в Изяславе еще до войны, жил с женой, имел свой буфетик, торговал спиртным и дешевой закуской. Многие офицеры знали его еще с довоенного времени. Дело его процветало. Денежный оборот у Шлемы не уступал военторговской столовой, где работало не менее десятка человек обслуживающего персонала. У Шлемы штат из двух человек — он и его супруга. Успех Шлемы заключался в свободной, продуманной организации торговли по обслуживанию офицеров: в любое время суток, за наличные и в кредит. Жил он и работал в небольшом собственном доме. Для посетителей был отведен небольшой зал с буфетной стойкой и столиками. Посетителям он и его жена всегда были рады, принимали радушно в любое время дня и ночи, с деньгами и без них. Кредит записывался в специальный гроссбух. Работали они без выходных. Если Шлема уезжал за товаром, клиентов обслуживала его супруга. Из спиртного подавались разбавленный спирт в стаканах (рюмок после войны не было) и бутерброды. По мере того как клиент хмелел, Шлема уменьшал крепость спиртного. Столовая же военторга работала в строго определенное время, с 10 до 18 часов, с перерывом на обед и ни минуты дольше. Обслуживание не на высоте, где уж тут пообедать в кредит. Шлема же ненадоедливо старался занять клиента разговорами, новичку показывал с гордостью свой патент, висевший на стене, в рамке, на видном месте… Вот к нему, Шлеме, я направился со своим «бегунком». Шлема как всегда с любезной улыбкой приветствовал вошедших:
— Проходите, садитесь, устраивайтесь поудобнее. Я вашу нормочку знаю!
Узнав, что я с «бегунком» и не намерен засиживаться, достал свой гроссбух, полистал его и, удостоверившись, что я ему не должен, не торопясь подписал обходной лист. Затем налил стаканчик, положил на тарелочку пару бутербродов и изрек:
— Это вам от моей фирмы презент, на добрую память.
А узнав, что я больше служить не буду, ухожу в запас и еду в Ленинград, пожелал мне доброго пути и благополучного устройства на новом месте.
— Передайте мой привет Ленинграду! От Шлемы! — добавил он на пороге.
Получив выходное пособие в размере трех окладов, я пригласил своих боевых друзей на традиционную отвальную. Прощание с боевыми друзьями … За чаркой вспоминали свои бои и походы. В боях мне, взводному противотанковых орудий, частенько приходилось бок о бок сражаться вместе с командирами сабельных и пулеметных взводов, выполнять одну боевую задачу. Дружба наша скреплена была порохом и кровью былых сражений. Обменивались фотокарточками и адресами …
Потом проводы. Друзья гурьбой провожали до станции. На билетной кассе прикреплена бумажка: «Билетов нет!» Поезд на Шепитовку пришел переполненным. Двери вагонов не открывались. А нам море по колено! Недолго думая, друзья подхватили меня на руки и с моими пожитками буквально внесли меня в открытое окно вагона, передав с рук на руки офицерам, сидящим в купе. До Шепитовки я ехал в доброжелательном окружении, таких же, как и я, офицеров–фронтовиков, уволенных в запас.
Прощай, армия! Прощайте, боевые друзья! Прощай, Изяслав! Впереди новая, совсем другая, гражданская жизнь!
В послевоенном письме гвардии капитан Грибанов М.Ф. описал мне последние дни нашего З–го гвардейского кавкорпуса:
«В 1946 году З–й гвардии кавкорпус был расформирован и преобразован. Из 5–й и 6–й кавдивизий образовали одну кавдивизию под командованием генерала Осликовского. В нее вошли: 5–й полк им. Котовского, 6–й полк им. Пархоменко и 25–й полк им. Чапаева. В 1948 году и эту дивизию расформировали, личный состав отправили служить в Ташкент. Лучших наших коней, 250 голов, я эшелоном отвез в Мукачево, где стояла горно–вьючная дивизия, а остальные раздал по всем областям Союза.
По возвращении из Мукачева я, майор Гребенников, и восемь сержантов отвезли в Москву знамена всего корпуса. Знамена сдали в Центральный музей Советской Армии, а грамоты к гвардейским знаменам сдали в Президиум Верховного Совета, товарищу Швернику.
Наши казармы в 1948 году принимал в Изяславе наш бывший комдив, генерал Чепуркин. Тогда он командовал механизированной дивизией».
Послесловие
Для кого и для чего я написал это?
Для памяти. Для анализа своих поступков в жизни и событий моего военного времени. Для того, что когда–нибудь и кому–нибудь мои воспоминания пригодятся. А может быть и так, чтобы занять работой мое свободное время. Всегда быть при деле.
В любом случае, пусть это будет мой полный отчет за все годы Великой Отечественной войны 1941 1945 годов. Моя военная биография и счастье солдатское мое: « … что в двадцати сражениях я был, а не убит!» (Некрасов Н.А.).