
Иоганн Вольфганг Гете
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ
Том девятый
ВОСПОМИНАНИЯ И ВСТРЕЧИ
ИЗ «ИТАЛЬЯНСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ»
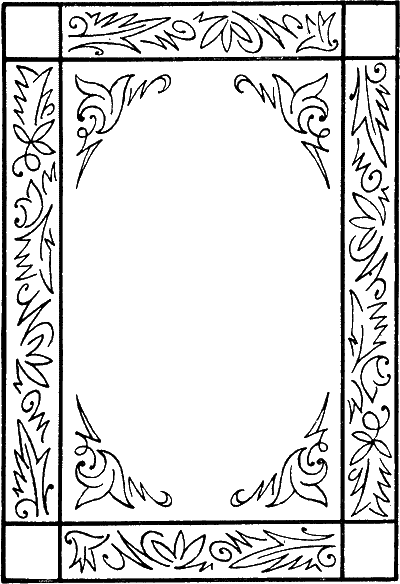
ПЕРВОЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

И я в Аркадии!
ОТ КАРЛСБАДА ДО БРЕННЕРА
3 сентября 1786 г.
В три часа поутру я украдкой выбрался из Карлсбада, иначе меня бы не отпустили. Здешнее общество пожелало дружелюбно и радостно отпраздновать двадцать восьмое августа, день моего рождения, тем самым оно приобрело право, несколько задержать меня, но больше мне здесь мешкать было нельзя. В полном одиночестве я сел в почтовую карету, имея при себе только чемодан да баул на крыше, и к половине восьмого прекрасного тихого и туманного утра добрался до Цводы. Верхние перистые облака плыли быстро, нижние медленно и тяжело. Я решил, что это доброе предзнаменование, и понадеялся после дурного лета на погожую осень. В жаркий солнечный полдень я был уже в Эгере и вдруг вспомнил, что этот городок расположен на одной широте с моим родным городом, и обрадовался, что в ясный день пообедаю на воздухе под пятидесятым градусом.
Первое, чем встречает тебя Бавария, — это монастырь Вальдзассен — прекрасные владения лиц духовного звания, набравшихся ума-разума ранее всех прочих. Монастырь расположен в неглубокой горной впадине, вернее в зеленой долине, меж пологих, богатых растительностью возвышенностей. Владения этого монастыря простираются по всей округе. Почва здесь — выветрившийся глинистый сланец. Кварц, которым изобилуют горные породы в этих краях, не растворяется и не выветривается, оттого земля на полях рыхлая и необычайно плодородная. До Тиршенрейта дорога идет вверх. Воды текут навстречу путнику, устремляясь к Этеру и Эльбе. От Тиршенрейта начинается спуск к югу, и реки спешат в Дунай. Я обычно быстро составляю себе представление о местности, стоит только мне понаблюдать за самым малым ручейком, — куда он течет, к какому речному бассейну относится. Так даже в краю, никогда не виданном, можно мысленно установить связь между горами и долинами.
Перед упомянутым городком начинается превосходное шоссе из гранитного песка, лучшего себе и вообразить невозможно, — дело в том, что измельченный гранит состоит из кремня и полевых шпатов, которые одновременно образуют и твердый грунт, и отличное связующее средство, для того чтобы сделать дорогу гладкой, как гумно. Окружающая местность, правда, кажется от этого еще непригляднее: все тот же гранитный песок, низменность, топи, зато тем желаннее прекрасная дорога. Вдобавок она идет под уклон, так что едешь по ней с невероятной быстротой, а не ползешь как черепаха, — приятнейший контраст с передвижением по Богемии. Но хватит, на следующее утро в десять часов я уже был в Регенсбурге, за тридцать девять часов оставив позади двадцать четыре с половиной мили. Когда начало рассветать, я находился меж двух деревушек — Швандорф и Регенштауф — и заметил, что почва на полях становится все лучше. Это была уже наносная, смешанная земля, а не продукт выветриванья гор. С незапамятных времен на всех долинах вверх по течению Регена сказывались приливы и отливы в долине Дуная, так мало-помалу эти низины стали пригодными для земледелия. То же самое происходит на всех землях, соседствующих с большими и малыми реками, и эта путеводная нить помогает быстро заключить, насколько пригодна для возделыванья почва тех или иных местностей.
Регенсбург прекрасно расположен. Подобное место, конечно же, должно было привлечь к себе город, и духовенство сумело это учесть. Ему теперь принадлежат все окрестные поля, в самом же городе — церковь теснится к церкви, монастырь к монастырю. Дунай напомнил мне добрый старый Майн. Правда, во Франкфурте река и мосты выглядят красивее, зато с противоположного берега очень уж хорошо смотрятся город и дворец. Я без промедления отправился и иезуитскую коллегию, где ученики ежегодно давали представление, и успел посмотреть конец онеры и начало трагедии. Они играли не хуже начинающей любительской труппы, а одеты были очень хорошо, даже чрезмерно роскошно. Этот публичный спектакль сызнова убедил меня в мудрой расчетливости иезуитов. Они не брезгуют никакими средствами воздействия и ко всему подходят с любовью и вниманием. И это не ум in abstracto, а радость от со-действия, со-наслаждения, иными словами — от уменья пользоваться благами жизни. И если в составе этого широко разветвленного ордена имеются свои органные мастера, резчики по дереву и позолотчики, то, надо думать, есть среди них и такие, что с любовью и знанием дела отдают себя театру. Церкви иезуитов примечательны своей изящной роскошью, а благодаря неплохому театру эти разумные люди приобщаются еще и к мирской чувственности.
Сегодня я пишу под сорок девятым градусом, что уже дает знать о себе. Утро было прохладное, — здесь тоже все жалуются на сырое и холодное лето, — но день наступил погожий и мягкий. В теплом ветерке, веющем от большой реки, есть что-то неизъяснимо приятное. Фрукты здесь неважные. Хорошие груши я уже ел, но меня разбирает тоска по винограду и винным ягодам.
Я поневоле все время возвращаюсь к образу мыслей и действий иезуитов. Их церкви, башни, строения задуманы и возведены как нечто величественное и совершенное, поневоле внушающее людям должное благоговение. Они украшены золотом, серебром, цветными металлами и превосходно отшлифованными камнями в изобилии, предназначенном ослеплять обездоленных всех сословий. Кое-где проглядывает и безвкусица, — как видно, она привлекает человечество и действует на него примиряюще. Таков вообще дух внешней католической обрядности, но никогда мне не доводилось видеть его претворенным столь разумно, умело и последовательно, как у иезуитов. Одно у них вытекает из другого, вероятно, потому, что они не стали отправлять богослужение на старый, уже отживший лад, наподобие монахов других орденов, но в угоду духу времени оживили его роскошью и великолепием.
Для всевозможных поделок они пустили в ход необычный камень, — с виду он похож на мертвый красный лежень, но может и должен сойти здесь за более древний, первичный, порфирообразный. Он зеленоватого цвета, с примесью кварца, пористый, с крупными пятнами яшмы, в свою очередь испещренной круглыми пятнышками брекчии. Один кусок его показался мне весьма поучительным и примечательным, но уж очень он был тяжел, а я поклялся не таскать с собою камней в этом путешествии.
Мюнхен, 6 сентября.
Пятого сентября в половине первого пополудни я выехал из Регенсбурга. Места под Абахом, где Дунай бьется об известковые скалы, тянущиеся до Заале, очень красивы. Известняк здесь, как в Остерода около Гарца, плотный, но пористый. К шести утра я добрался до Мюнхена, двенадцать часов посвятил осмотру его достопримечательностей, но о них упомяну лишь бегло. В картинной галерее мне было как-то не по себе, — необходимо снова приучить свой взор к живописи. А вещи там есть превосходные. Наброски Рубенса из галереи Люксембургского дворца привели меня в восхищенье…
В зале антиков я отметил, что мои глаза не приучены к таким произведениям, посему мне не захотелось дольше оставаться там и понапрасну терять время. Многое ровно ничего не говорило мне, а почему — я и сам не знаю. Мое вниманье привлекла статуя Друза, понравились мне два Антонина и еще кое-что… В естественноисторическом кабинете я видел красивые экспонаты из Тироля, уже знакомые мне по небольшим образцам, являвшимся моею собственностью.
На обратном пути мне встретилась торговка винными ягодами, которые пришлись мне по вкусу, наверно, потому, что были первыми… Все здесь жалуются на холод и сырость. Туман, — он мог бы сойти и за дождь, — застал меня утром уже почти под Мюнхеном. Весь день с Тирольских гор дул ледяной ветер. Когда я посмотрел в их сторону с башни, они тонули в тучах, сплошь затянувших небо. Сейчас заходящее солнце еще освещает старую башню перед моим окном. Прошу прощенья за то, что так много говорю о ветре и погоде; но сухопутный странник зависит от них едва ли меньше, чем мореход, и горе мне, окажись осень в чужих краях так же неблагоприятна, как лето на родине.
Ну, а теперь на Инсбрук. Чем только я не пренебрег, чтобы осуществить мечту, почти уже устаревшую в моей душе…
Миттенвальд, 7 сентября, вечером.
Похоже, что мой ангел-хранитель скрепил аминем мою молитву, и я воздаю ему благодарение за то, что он привел меня сюда в такой чудный день. Последний почтальон, удовлетворенно крякнув, заметил, что это первый за все лето. Втихомолку я лелею суеверную надежду, что так оно будет и впредь, но да простят мне друзья, если я снова заведу речь о воздухе и тучах.
Когда в пять часов я выехал из Мюнхена, небо прояснилось. На Тирольских горах неподвижно покоились гигантские массы облаков. Полосы в нижних слоях атмосферы тоже не шелохнулись. Дорога идет верхом, внизу среди холмов наносного гравия вьется Изар. Здесь мы воочию видим работу течений доисторического моря. В гранитном щебне я нашел братьев и родичей тех экземпляров из моей коллекции, которыми меня одарил Кнебель.
Туман над рекой и лугами еще держался, наконец и он развеялся. Меж упомянутых холмов, которые, надо думать, тянутся вдаль и вширь по меньшей мере на несколько часов езды, почва не менее плодородная, чем в долине Регена. Дорога опять спустилась к Изару, и я увидел как бы в разрезе крутые склоны все тех же холмов высотою эдак футов в сто пятьдесят. Приехав в Вольфратсгаузен, я достиг сорок восьмого градуса. Солнце пекло что есть мочи, но в хорошую погоду никто здесь не верит, все злятся на уходящий год и ропщут на господа бога.
Передо мною открылся новый мир. Я приближался к горам, и цепь их уходила все дальше и дальше.
Бенедиктбейерн чудо как красиво расположен и поражает путника с первого взгляда. На плодородной равнине — широкое белое здание, позади него высокий скалистый хребет. А теперь выше — к озеру Кохельзее; и еще выше — в горы, к Вальхензее. Здесь я приветствовал первые снежные вершины, а когда удивился, что заснеженные горы так близки, мне объяснили: вчера здесь гремел гром, сверкали молнии, и в горах выпал снег. В этом явлении местные жители усматривают надежду на хорошую погоду: первый снег представляется им провозвестником изменений в атмосфере. Утесы, меня обступавшие, — сплошь первичный известняк, в котором еще не встречаются окаменелости. Эти известковые горы грандиозной непрерывной цепью тянутся от Далмации до Сен-Готарда. Хакет объездил большую часть их цепи. Они смыкаются тоже с первичными горами, изобилующими кварцем и глиноземом.
До Вальхензее я добрался в половине пятого. Приблизительно за час до этого меня ожидало премилое приключение: ко мне приблизился арфист с дочерью, девочкой лет одиннадцати, и попросил меня подвезти ребенка. Сам он с инструментом пошел дальше, девочку же я усадил рядом с собой, она бережно поставила себе в ноги большую новую коробку. Прелестное, благовоспитанное создание, много уже чего повидавшее на белом свете. Она пешком ходила с матерью на богомолье в монастырь Эйнзидель, потом обе они собрались в еще более далекий путь — в Сант-Яго-де-Компостелло, но мать скоропостижно скончалась, не успев выполнить свой обет. Почести богоматери надобно воздавать без устали, произнесла девочка. Однажды, после большого пожара, она своими глазами видела в доме, сгоревшем почти до основания, над случайно уцелевшей дверью образ богоматери под стеклом — ни стекло, ни самый образ не были затронуты огнем, — ну разве же это не истинное чудо, — сказала она. Все свои странствия она проделала пешком, в последний раз играла в Мюнхене перед курфюрстом, вообще же ее слушали больше двадцати августейших особ. Она очень меня забавляла. Прекрасные карие глаза, упрямый лоб, на который нет-нет и набегали маленькие вертикальные морщинки. В разговоре она была мила и естественна, особенно когда по-детски громко смеялась; когда же молчала и выпячивала нижнюю губку, казалось, что она что-то строит из себя. Об чем только мы с нею не переговорили, — везде она чувствовала себя как дома и все вокруг замечала. Так она вдруг спросила: что это за дерево? А был это высокий красивый клен, первый увиденный мною за всю дорогу. Она мигом его заметила, а когда клены стали попадаться чаще и чаще, радовалась, что вот теперь знает и это дерево. Она отправляется в Боуен на ярмарку, куда, вероятно, еду и я. Если мы там с нею встретимся, сказала девочка, придется мне купить ей гостинец, что я и пообещал. Там она наденет новый чепчик, который на свои деньги заказала себе в Мюнхене. Нет, лучше она уже сейчас мне его покажет. Она открыла коробку, и я вместе с нею полюбовался богато расшитым и украшенным лентами чепчиком.
Вместе же мы порадовались и другому обстоятельству. Девочка утверждала, что теперь настанет хорошая погода. У них всегда при себе барометр — арфа. Когда дискант звучит выше, чем обычно, — это к хорошей погоде, а сегодня так оно и было… Я ухватился за сие доброе предзнаменование, и мы расстались в наилучшем расположении духа и в чаянии скорой встречи.
На Бреннере, 8 сентября, вечером.
Приехав сюда, можно сказать, в силу необходимости, я наконец-то оказался в тихом, спокойном уголке. Ни о чем подобном я и мечтать не смел. День выдался такой, о каком годами не позабудешь. В шесть часов я выехал из Миттенвальда, резкий ветер согнал последние тучки с уже прояснившегося неба. Холод стоял, мыслимый разве что в феврале. Вскоре в лучах восходящего солнца передо мной возникли дивные, все время меняющиеся картины, — на переднем плане темнеют сосны, меж них серые известковые скалы, на заднем — высочайшие заснеженные вершины на фоне глубокой синевы небес.
Под Шарницем въезжаешь в Тироль. Граница огорожена валом, он как бы запирает долину и смыкается с горами. Выглядит это очень красиво: с одной стороны вал укреплен скалою, с другой он вертикально взмывает ввысь. От Зеефельда дорога становится все необычнее: если, начиная от Бенедиктбейерна она шла с вершины на вершину и все воды этих мест устремлялись к Изару, то теперь за горным хребтом мы видим долину Инна, и вот Инцинген уже лежит перед нами. Солнце стояло высоко и пекло невыносимо, пришлось мне одеться полегче, — впрочем, из-за постоянно меняющейся температуры я и так переодеваюсь несколько раз на дню.
Под Цирлем начинаем спускаться в долину Инна. Вид — неописуемо прекрасный, а высокое солнечное марево придает ему небывалое великолепие. Почтальон торопился больше, чем мне хотелось. Он еще не был у обедни и тем более рвался благоговейно отстоять ее в Инсбруке, что сегодня был день пресвятой богородицы. Почтовая карета, громыхая, катила вдоль Инна, мимо Мартинсванд — гигантской известняковой кручи. К той точке, на которую, по преданию, взбирался император Максимилиан, я бы отважился подняться, потом спуститься, потом проделать это снова и снова без всякого ангела, даже понимая кощунственность такой затеи.
Инсбрук расположен в на диво широкой, изобильной долине, меж высоких скал и лесистых гор. Поначалу я хотел там задержаться подольше, но мною владело беспокойство. Немножко меня позабавил сын трактирщика, вылитый Зёллером. Так мне, нет-нет да и встречаются мои «сочиненные» люди. Для празднованья рождества пресвятой богородицы все здесь принарядились. Здоровые, довольные жизнью, они толпами идут на богослуженье в Вильтен, что в четверти часа ходьбы от города по направленью к горной цепи. В два часа, когда моя карета разделила оживленную пеструю толпу, праздник был уже в разгаре.
Выше Инсбрука все окрест становится еще прекраснее, описанье тут бессильно. Превосходная дорога идет вверх по ущелью, из которого воды катятся к Инну; само оно бесконечно разнообразно. Там, где дорога проходит вблизи от крутого утеса, — частично она даже прорублена в нем, — нашему взору открывается другая, пологая его сторона, вполне пригодная для земледелия. На покатой и широкой плоскости деревни — сплошь побеленные дома, домишки и хижины между полей и живых изгородей. Вскоре все видоизменяется. Возделанные земли переходят в луга, а подальше снова в крутой склон.
Для моего представления о мироздании я приобрел уже немало, но и не слишком много нового или неожиданного. Я долго мечтал и давно уже говорю о модели, на которой сумел бы показать, что происходит в моей душе и что не каждому я могу наглядно показать в природе.
Тем временем мрак сгущался и сгущался, единичное утопало в нем, массы становились огромнее, величественнее, и, наконец, когда все уже двигалось передо мною наподобие темных, таинственных образов, я вдруг снова увидел освещенные луной, заснеженные вершины и теперь жду, чтобы утро озарило скалистое ущелье, в котором я зажат на рубеже севера и юга.
Добавлю еще несколько слов о погоде, которая, может быть, так милостива ко мне именно потому, что я уделяю ей много вниманья. На равнине хорошую или плохую погоду принимаешь, так сказать, в готовом виде, в горах присутствуешь при ее становлении. Мне часто доводилось в странствиях, на прогулках, на охоте дни и ночи проводить в лесистых горах, среди скал, и там-то и нашла на меня блажь, которую я ни за что другое выдавать не собираюсь, но и отделаться от нее не могу, ибо всего труднее отделываться от блажи. Она повсюду предстоит мне, словно это не блажь, а истина, и сейчас я хочу сказать о ней, — мне ведь все равно частенько приходится подвергать испытаниям снисходительность моих друзей.
Смотрим ли мы на горы вблизи или издалека, видим ли их вершины блистающими в солнечном свете, окутанными туманом, в буйном вихре грозовых туч, бичуемые дождем или покрытые снегом, — все это мы приписываем атмосфере, так как ее движения и перемены видим собственными глазами, а значит, постигаем их. Горы же, для нашего внешнего зрения, искони неподвижны. Мы считаем их мертвыми потому, что они застыли, полагаем бездействующими потому, что они пребывают в состоянии покоя. Но меня уже давно точит мысль, что как раз их внутренним, тайным, неприметным воздействием объясняются в большинстве случаев изменения, происходящие в атмосфере. Я уверен, что земной коре вообще, а следовательно, в первую очередь ее высоко вздымающимся твердыням, присуща сила притяжения; не постоянная, не всегда одинаковая, она выражается в своего рода пульсации и по внутренним необходимым, а возможно, и внешним случайным причинам то увеличивается, то спадает. Пусть все иные попытки изобразить эту вибрацию будут неудовлетворительны и примитивны, — атмосфера достаточно чувствительна, она дает нам знать об этих неприметных воздействиях. Стоит силе притяжения хоть чуть-чуть ослабеть, как нас об этом извещает уменьшившаяся тяжесть и упругость воздуха. Атмосфера уже не удерживает влагу, химически и механически распределявшуюся в ней. Вот тучи опустились ниже, дожди низверглись на землю, и потоки дождевой воды устремились на равнины. Но если в горах увеличится сила притяжения — упругость воздуха восстановлена, и возникают два весьма существенных феномена. Первый — горы, скопив вокруг себя гигантские массы туч, упорно и цепко держат их над собой, как вторые вершины, покуда скрытая борьба электрических сил не низринет их в виде грозы, тумана, дождя. И второй — на остатки туч начинает воздействовать упругий воздух, уже способный принять в себя больше влаги, растворить и переработать ее. Я своими глазами видел, как была уничтожена такая туча: она висела над отвесной вершиной, освещенная вечерней зарей. Медленно, очень медленно отделились оба ее конца, несколько хлопьев куда-то уплыли и поднялись ввысь; потом они исчезли, за ними мало-помалу исчезла и вся масса, словно невидимая рука остановила прялку.
Если друзья и улыбались, узнав о странных теориях бродячего метеоролога, то другие мои наблюдения, быть может, заставят их расхохотаться, ибо не скрою, что мое путешествие, собственно, было бегством от тех невзгод, которые я претерпел на пятьдесят первой параллели, и, не скрою, на сорок восьмой я надеялся попасть в истинный Гозан. Увы, меня ждало разочарование, о чем мне следовало бы знать заранее, — ведь не только географическая широта создает климат и погоду, но горные хребты, в первую очередь те, что тянутся с востока на запад. В них постоянно происходят значительные перемены, от которых всего больше страдают расположенные к северу земли. Так этим летом погоду на севере, по-видимому, определил большой Альпийский хребет, где я все это пишу. В последние месяцы здесь непрерывно шли дожди, а юго-западный и юго-восточный ветры упорно перегоняли их на север. В Италии, говорят, стояла жаркая, даже засушливая погода.
А сейчас несколько слов о растительном мире, зависимом от климата, высоты гор и степени влажности. Я и здесь ничего особенно нового не обнаружил, но знания мои обогатились. В долине, не доезжая Инсбрука, много плодоносящих яблонь и груш, персики же и виноград сюда завозят из Италии, вернее, из Южного Тироля. Под самым Инсбруком в изобилии сеют кукурузу и гречиху. Повыше, возле Бреннера, мне встретились первые лиственницы, под Шёнебергом — европейский кедр. Интересно, стала бы дочка арфиста и здесь спрашивать меня о названии деревьев?
В ботанике я еще не оставил позади поры школярства. До Мюнхена я думал, что встречу здесь лишь обыкновеннейшие растения. Разумеется, моя торопливая езда днем и ночью не способствовала наблюдениям более точным и тонким. Правда, у меня с собой Линней, к тому же я затвердил его терминологию, но откуда у меня возьмется досуг и покой для вдумчивого анализа, который, насколько я себя знаю, никогда не был и не будет моей сильной стороной? Посему я изощряю свое зрение на обычном, и когда у Вальхензее я увидел первую горечавку, меня осенило, что до сих пор новые растения я всегда находил у воды.
И еще я насторожился, заметив, что высота гор явно влияет на растительность. Я не только нашел здесь виды мне незнакомые, но заметил, что и давно мне известные изменились в своем развитии. В местах более низменных ветки и стебли были сочнее, листья шире, глазки располагались теснее; выше, в горах, ветки и стебли становились более нежными, гладкими, а следовательно, и узлы дальше отстояли один от другого, листья принимали остроконечную форму. Заметив это по иве и горечавке, я убедился, что дело тут не в различии пород. На Вальхензее я тоже обратил вниманье на камыш, более тонкий и длинный, чем у озер пониже.
Известковые Альпы, по которым до сих пор пролегал мой путь, — серого цвета, формы их причудливы, неправильны и прекрасны, хотя основания резко отличаются от позднейших напластований. Но так как здесь встречаются и неравномерные слои, а скалы и вообще-то выветриваются по-разному, то склоны и вершины выглядят весьма своеобразно. Эти породы прослеживаются вдоль перевала Бреннера. Вблизи верхнего озера я обнаружил другую разновидность. С темно-зеленым и темно-серым слюдяным сланцем с многочисленными прослоями кварцесодержащей породы контактируют белые плотные известняки, слюдистые по краям и залегающие в виде крупных, хотя и сильно нарушенных выходов. Выше них опять встречаются слюдяные сланцы, показавшиеся мне менее плотными, еще выше обнажаются своеобразные гнейсы, точнее гранито-гнейсы, сходные с теми, которые развиты в окрестностях Эльбогена. Здесь, наверху, высится скала из слюдяных сланцев. Воды, текущие с гор, выносят эти породы и обломки серых известняков.
Видимо, невдалеке располагается гранитный массив, являющийся источником выноса этих пород. Судя по карте мы находимся на склоне Большого Бреннера, с которого во все стороны устремляются водостоки.
Во внешнем облике здешних жителей я успел подметить следующее. Это бравые, рослые люди. Они все до известной степени похожи друг на друга: карие, широко открытые глаза и красиво изогнутые брови у женщин, у мужчин брови светлые и широкие. Зеленые шляпы, которые они носят, на фоне серых скал выглядят радостно и весело. Они украшают их лентами или широкими тафтяными шарфами с бахромою, которые изящно и умело прикалывают булавками. Вдобавок у каждого на шляпе цветок или перо. Женщины, напротив, портят себя белыми мохнатыми шапками из бумажной материи, такими широкими, что они смахивают на мужские ночные колпаки. Вид у них в этом уборе весьма странный; удивительно, что за пределами своей страны они носят зеленые мужские шляпы, которые им очень даже к лицу.
Я не раз имел случай убедиться, как ценит здесь простонародье павлиньи перья, да и вообще любое пестрое перо. Всякому, кто захочет поездить по этим горам, следовало бы припасти их на дорогу. Такое перо, подаренное в подходящую минуту, будет желаннее самых щедрых чаевых.
В то время как я раскладываю, подбираю и скрепляю эти листки, дабы моим друзьям легче было проследить за всем происходившим со мною до сего дня, а заодно сваливаю с сердца тяжесть благоприобретенных познаний и новых дум, ужас охватывает меня при взгляде на некоторые тетрадки. О них я должен откровенно и кратко сказать: ведь это мои спутники, не окажут ли они на меня чрезмерного влияния в ближайшем будущем?
Я захватил с собою в Карлсбад все свои сочинения, чтобы наконец передать их Гёшену для намеченного им издания. Непечатавшиеся вещи хранились у меня в превосходных списках, сделанных умелой рукою секретаря Фогеля. Этот славный человек, желая быть мне полезным своим уменьем и расторопностью, и ныне сопровождал меня. Благодаря ему, равно как и дружескому содействию Гердера, я уже послал издателю первые четыре тома и теперь намеревался проделать то же самое с четырьмя последними. В них частично были помещены черновые наброски работ, даже фрагменты, ибо дурная привычка многое начинать и бросать, когда ослабеет интерес, изрядно возросла у меня с годами, всевозможными занятиями и развлечениями.
Поскольку эти рукописи были при мне, я охотно пошел навстречу желанию просвещенного карлсбадского общества и прочитал им все, что доселе оставалось неизвестным, каждый раз выслушивая горькие сетования по поводу незавершенности того, что им хотелось бы дослушать до конца.
Празднованье моего дня рожденья в основном свелось к тому, что я получал стихотворения от имени моих начатых было, но потом заброшенных произведений; эти стихотворные послания, каждое на свой лад, упрекали меня за мою нерадивость. Среди них выделялось стихотворение от имени «Птиц», в нем депутация от этих резвых созданий, присланная к Трейфрейнду, настойчиво просила его наконец основать и устроить для них обещанное царство. Пожалуй, не менее вкрадчивы и милы были отзывы о других моих отрывках и обрывках, так что они вдруг ожили передо мной, и я охотно поделился с друзьями былыми намерениями и завершенными планами. Тут на меня посыпались требования и пожелания, так что в выигрыше оказался Гердер, — ведь это он уговорил меня вторично захватить с собою эти бумаги, а главное — уделить еще немного вниманья «Ифигении», считая, что она, право же, его заслуживает. В том виде, в каком она сейчас лежит передо мной, это скорее набросок, чем законченное произведение; написана она поэтической прозой, местами переходящей в ямбический ритм, впрочем, схожий и с другими размерами. Разумеется, это изрядно вредит впечатлению, разве что уж очень искусно читать ее, скрадывая недостатки. Он с горячностью внушал мне это, а так как я скрыл от него, как и от всех прочих, расширенный план своего путешествия, то Гердер полагал, что речь опять идет о краткой поездке в горы; посему, насмешливо относясь к минералогии и геологии, он высказал пожелание, чтобы я не дубасил молотком по мертвому камню, а сосредоточил бы свои силы на «Ифигении». Я всегда уступал благожелательным настояниям, но пока что не выбрал времени сосредоточить на ней свое внимание. Сейчас я вынимаю ее из пакета и беру с собой в прекрасную теплую страну — пусть руководит мною в моем странствии по горам. День так долог, — размышляй сколько угодно, дивные картины окружающего мира не только не оттесняют поэтической взволнованности, напротив, в сочетании с движением и вольным воздухом усиливают ее.
ОТ БРЕННЕРА ДО ВЕРОНЫ
Триент, 11 сентября, утром.
Прободрствовав пятьдесят часов кряду в непрерывных трудах, вчера около восьми вечера я прибыл сюда, вскоре улегся спать и теперь уже снова в состоянии продолжить свой рассказ. Девятого вечером, закончив первую тетрадь дневника, я хотел еще зарисовать постоялый двор и почтовую станцию на Бреннере, но из этого ничего не вышло, все характерное от меня ускользнуло, и я, недовольный и раздосадованный, возвратился домой. Трактирщик спросил, не хочу ли я ехать дальше, ночь-де будет лунная и дорога хорошая. Хоть я и отлично знал, что лошади утром понадобятся ему для привоза отавы и совет его достаточно корыстен, я все же с ним согласился, поскольку он совпадал с моими намерениями. Солнце опять проглянуло, дышалось легко, я уложил вещи и в семь часов тронулся в путь. Атмосфера взяла верх над сгущавшимися тучами, — словом, вечер выдался прекрасный.
Почтальон уснул, и лошади рысью бежали под гору по знакомой дороге. На ровном месте они, правда, замедляли шаг, но тут возница просыпался и взбадривал их, так что я очень быстро ехал меж высоких скал вниз по течению бурного Эча. Взошедшая луна осветила грандиозную картину. Мельницы среди старых-престарых сосен над пенящимся потоком, Эвердинген да и только.
Когда в девять часов я приехал в Штерцинг, мне намекнули, чтобы я немедленно отправлялся дальше. В Миттенвальде ровно в полночь все уже спали крепким сном, кроме почтальона; итак — дальше, в Бриксен, откуда меня снова спровадили, и на рассвете я был уже в Кольмане. Почтальоны так гнали, что у меня голова шла кругом, и хоть досадно мне было с ужасающей быстротою мчаться по этим дивным местам, да еще ночью, но в глубине души я был рад, что попутный ветер гнал меня навстречу моим желаниям. На рассвете я увидел первые виноградники. Женщина с корзиной персиков и груш попалась мне навстречу. В семь мы уже были в Гейгене и сразу же двинулись дальше…
Солнце весело и ярко светило, когда я прибыл в Боцен. Торговцы, встречавшиеся на каждом шагу, меня порадовали. Здесь во всем сказывается осмысленное благополучие существования. На рыночной площади сидели торговки с фруктами в больших плоских корзинах, фута эдак четыре в диаметре, в них были рядами положены персики, чтобы не помялись, точно так же и груши. Мне вспомнилось изречение, красовавшееся над окном гостиницы в Регенсбурге:
Comme les pêches et les mélons
Sont pour la bouche d’un baron,
Ainsi les verges et les bâtons
Sont pour les fous, dit Salomon.
He подлежит сомнению, что это написано северным бароном, а также очевидно, что в этих краях ему пришлось поступиться своими взглядами.
Боценская ярмарка ведет крупную торговлю шелками, привозят сюда и сукна, да еще кожи, собранные в горных поселениях. Впрочем, многие купцы съезжаются на ярмарку для того, чтобы взыскать долги, принять заказы и открыть новые кредиты. Я испытывал большой соблазн хорошенько рассмотреть все товары, сюда привезенные, но беспокойство и охота к перемене мест не дают мне роздыха, и я спешу вперед. Утешением мне служит разве то, что при нынешнем процветании статистики все это, вероятно, уже черным по белому стоит в книгах, и, по мере надобности, у них можно почерпнуть любые сведения. Впрочем, до поры до времени мне важны только чувственные впечатления, которых не дает никакая книга, никакая картина. Дело в том, что я вновь ощущаю интерес к окружающему меня миру, испытываю свою способность наблюдать, проверяю, достаточно ли велики мой опыт и знания, довольно ли ясен, чист и проницателен мой глаз, многое ли он может схватить при такой быстроте передвижения и есть ли надежда, что изгладятся морщины, глубоко избороздившие мою душу. Уже сейчас, наверно, от того, что мне приходится все делать самому, а значит, постоянно быть сосредоточенным и настороженным, даже эти немногие дни сделали мой разум более гибким. Я вынужден интересоваться денежным курсом, менять, расплачиваться, все это записывать, делать себе пометки, тогда как раньше я только размышлял, пестовал свои желанья, что-то задумывал, приказывал и диктовал.
От Боцена до Триента девять миль по плодородной долине, которая с каждой милей становится еще плодороднее. Все, что в горах кое-как прозябает, здесь полнится жизненными силами, солнце печет вовсю, и снова начинаешь верить в бога.
Какая-то бедная женщина окликнула меня, прося взять в карету ее ребенка, — раскаленная почва жгла ему подошвы. Я сделал сие доброе дело во славу могучего светила. Ребенок был как-то чудно́ наряжен, но я ни на одном языке даже слова от него не добился.
Эч течет здесь тише и во многих местах образует широкие отмели. У реки, вверх по холмам, все уж до того тесно посажено, что, кажется, одно должно задушить другое. Виноградники, кукуруза, шелковина, яблони, грушевые и айвовые деревья, орешник. Стены весело увиты бузиной. Плющ, — плети у него здесь толстые, — лезет вверх по скалам и широко расстилается на них; в прогалах снуют ящерицы. Все, что здесь обитает и движется, напомнило мне мои любимые картины. Подвязанные на голове косы женщин, открытая грудь и легкие курточки мужчин, раскормленные волы, которых они гонят с базара домой, навьюченные ослики, — это ожившие картины Генриха Рооса. А когда наступает теплый вечер и редкие облака отдыхают на горах или, скорее, стоят, чем плывут, по небу и, едва зайдет солнце, начинается стрекотанье кузнечиков, тогда наконец чувствуешь себя в этом мире как дома, а не в гостях или в изгнании. Мне все это до того по душе, словно я здесь родился и вырос, а сейчас только-только вернулся домой из Гренландии, с охоты на китов. Я радуюсь даже родимой, давно не виданной пыли, что вдруг начинает клубами виться вкруг моей кареты. Бубенцы и колокольчики кузнечиков трогают, а не раздражают меня. Весело слушать, когда озорники-мальчишки свистят взапуски с целыми когортами этих певцов, усыпавших поле; кажется, что они и вправду подзадоривают друг друга. Теплый вечер, пожалуй, еще прелестнее дня.
Если бы о моих восторгах узнал житель и уроженец юга, он счел бы меня ребячливым. Ах, все, что я сейчас говорю, давным-давно мне известно, с первого дня моих страданий под серым, недобрым небом. И радость, ниспосланная мне здесь, не становится меньше от того, что она преходяща, тогда как должна была бы быть вечно неизбежной в природе.
Триент, 11 сентября, вечером.
Бродил по древнему городу, впрочем, на некоторых его улицах высятся новые, добротно построенные дома. В церкви висела картина, изображающая, как церковный собор слушает проповедь генерала иезуитского ордена. Хотел бы я знать, что он такое им навязывает. Церковь этого ордена бросается в глаза красными мраморными пилястрами на фасаде; тяжелый занавес висит на входной двери, преграждая доступ пыли. Приподняв его, я вошел в тесный притвор, сама церковь заперта железной решеткой, но видно ее всю. Мертвая тишина царила в ней, ибо богослужение там более не совершается. Распахнута была лишь передняя дверь, так как в часы вечерни все церкви должны быть открыты.
Покуда я стоял в раздумьях о стиле этого строения, — по-моему, оно походило на все храмы этого ордена, — вышел какой-то старик, сняв с головы камилавку. Его поношенное и посеревшее черное одеяние красноречиво свидетельствовало, что это впавший в бедность священнослужитель. Он преклонил колена перед решеткой, прочитав короткую молитву, поднялся и, повернувшись к двери, пробормотал себе под нос: «Они выгнали иезуитов, могли бы хоть выплатить им стоимость церкви. Я-то знаю, во что она обошлась и семинария тоже, — во многие, многие тысячи». С этими словами он вышел, занавес за ним закрылся, я его приподнял, но не двинулся с места. Задержавшись на верхней ступени, он проговорил: «Император здесь ни при чем, это сделал папа». Потом, уже стоя спиной к церкви и не замечая меня, он продолжал: «Сначала испанцы, потом мы, потом французы. Кровь Авеля вопиет против его брата Каина!» Он сошел с паперти и, продолжая что-то бормотать, зашагал по улице. Вероятно, этого человека в свое время содержали иезуиты, при страшном падении ордена он лишился рассудка и теперь ежедневно приходит сюда, ищет в опустелой обители прежних братьев и после краткой молитвы предает проклятию их врагов…
11 сентября, вечером.
Вот я и в Ровередо, где проходит языковая граница. Повыше язык все еще колеблется между немецким и итальянским, Впервые меня привез сюда почтальон — коренной итальянец… Трактирщик ни слова не говорит по-немецки, пришлось мне подвергнуть испытанию свои лингвистические таланты. Как я рад, что любимый язык стал для меня живым и обиходным!
Торболе, 12 сентября, после обеда.
Мне страстно хотелось, чтобы мои друзья хоть на миг очутились рядом со мной и тоже насладились бы видом, который открывается мне.
Сегодня к вечеру я бы уже мог быть в Вероне, но в стороне от моей дороги находилось дивное творение природы, поразительное зрелище — озеро Гарда, я не хотел его миновать и был с великой щедростью вознагражден за кружной путь, мною проделанный. В пять я покинул Ровередо и поехал по долине, воды которой еще изливаются в Эч. Когда подымаешься, путь тебе перегораживает гигантская скалистая гряда, которую надо перевалить, чтобы спуститься к озеру. Там я увидел прекраснейшие известняковые скалы, как нельзя более пригодные для живописных этюдов, — ничего лучше, пожалуй, и не придумаешь. В начале спуска на северном конце озера видишь деревушку и возле нее маленькую гавань, вернее пристань, называется этот уголок Торболе. Фиговые деревья встречались мне уже на подъеме; когда же начался спуск по скалистому амфитеатру, стали попадаться первые оливки, отяжелевшие от плодов. Тут я, кстати сказать, впервые отведал влажных ягод, белых и мелких, которые едят все местные жители, — мне о них говорила графиня Лантиери.
Из комнаты, в которой я сейчас сижу, одна дверь ведет во двор. Я придвинул к ней стол и несколькими штрихами набросал вид, отсюда открывающийся. Взор охватывает озеро почти во всю длину, не виден только левый его край. Берега, по обеим сторонам обрамленные горами, пестреют бесчисленными деревушками.
После полуночи ветер дует с севера на юг, так что тот, кто собирается плыть в южном направлении, должен выбирать именно это время; уже через час-другой после восхода солнца воздушный поток движется в обратную сторону. Сейчас, в полдень, ветер бьет мне прямо в лицо и приятно охлаждает палящие солнечные лучи. Заглянул в Фолькмана, там говорится, что некогда это озеро называлось Бенако, и приводит следующий стих из Вергилия:
Fluctibus et fremitu resonans Benace marino.
Впервые то, что гласит этот латинский стих, воочию стоит передо мной, а сейчас, когда ветер крепчает и непрестанно растущие волны бьются о пристань, все выглядит точно так же, как и много веков тому назад. Кое-что, правда, стало иным, но озеро по-прежнему вскипает под порывами ветра, и вид его на веки веков облагорожен строкою Вергилия.
Написано под сорока пятью градусами, пятьюдесятью минутами.
Прохладным вечером я пошел гулять и вот взаправду очутился в новой стране, в никогда не ведомом мне окружении. Люди здесь живут в блаженной беспечности, — во-первых, ни одна дверь не имеет замка, однако трактирщик заверил меня, что мне нечего беспокоиться, даже если бы мои чемоданы были набиты бриллиантами. Во-вторых, в окнах здесь вместо стекла промасленная бумага. В-третьих, отсутствует весьма необходимое удобство, так что живешь почти в первобытных условиях. Когда я спросил коридорного, где же все-таки это удобство находится, он показал рукою вниз, на двор. «Qui abbasso può servirsi!» Я удивился. «Dove?» — «Da per tutto, dove vuol!» — гостеприимно отвечал он. Беззаботность во всем царит чрезвычайная, но оживления и суеты — хоть отбавляй. Весь день соседки чешут языками и громко перекликаются, при этом каждая чем-то занята, о чем-то хлопочет. Я не видал ни одной праздной женщины.
Трактирщик с итальянской напыщенностью объявил, что счастлив будет попотчевать меня отменнейшей форелью. Ловят ее вблизи от Торболы, где ручей сбегает с гор, рыба же ищет по нему дорогу наверх. С этой ловли император получает десять тысяч гульденов арендной платы. Собственно, это не форель, а крупные рыбины, иной раз до пятидесяти фунтов весу, чешуя их, от хвоста до головы, испещрена точками, вкус нежный и приятный — нечто среднее между форелью и лососиной.
Но наибольшее удовольствие мне доставляют фрукты, винные ягоды и груши, — им и положено быть вкусными в краю, где уже растут лимоны.
14 сентября.
Встречный ветер, что вчера занес нашу лодку в гавань Мальчезине, сыграл со мной недобрую шутку, которую я, впрочем, перенес благодушно, а в воспоминаниях она даже кажется мне забавной. Рано утром, как то и входило в мои намерения, я отправился в старый замок, каждому доступный, ибо там нет ни ворот, ни стражи, ни охраны. В замковом дворе я уселся насупротив башни, высящейся на скале и частично в ней высеченной. Весьма удобный уголок для зарисовок — рядом с запертой дверью, к которой вели три или четыре ступеньки, резная каменная скамеечка, вделанная в дверной косяк, какие и по сей день еще встречаются у нас в старинных зданиях.
Я недолго просидел на этом месте, так как во дворе стали появляться люди; они разглядывали меня, уходили и приходили вновь. Толпа увеличивалась, наконец движенье прекратилось, и все они сгрудились вокруг меня. Я заметил, что мои зарисовки привлекают к себе внимание, но не смутился и продолжал спокойно делать свое дело. Наконец ко мне протиснулся человек не слишком привлекательной наружности и спросил, чем это я занимаюсь. Я отвечал, что зарисовываю старую башню, на память о Мальчезине. Он заявил, что это не разрешается и я должен прекратить свое занятие. Так как он говорил на языке венецианского простолюдина и я, действительно, с трудом понимал его, то и ответил, что ничего не понимаю. Тогда он, с истинно итальянской безмятежностью, схватил мой листок и разорвал его, оставив, однако, клочки лежать на папке. Тут до меня донесся шепоток неудовольствия, пробежавший по толпе: какая-то пожилая женщина громко сказала, что так, мол, не годится, надо кликнуть подесту, он уж разберется в этом деле. Я стоял на ступеньках, спиною прислонившись к двери, и смотрел на непрерывно увеличивающуюся толпу. Любопытные, пристальные взгляды, добродушное выражение на большинстве лиц и все прочее, что казалось мне характерным для этой иноплеменной толпы, производило на меня достаточно комическое впечатление. Я словно бы видел перед собою хор птиц на сцене Эттерсбургского театра, так часто потешавший меня, когда я исполнял роль Трейфрейнда. Это привело меня в самое радужное настроение, так что когда явился подеста со своим актуарием, я чистосердечно его приветствовал и на вопрос, почему я рисую крепость, скромно ответил, что эти стены крепостью не считаю. Потом постарался обратить внимание толпы на ветхость стен и башен, на отсутствие ворот, — словом, на полнейшую беззащитность так называемой крепости, — и заверил подесту, что видел перед собой и рисовал только руину.
Мне возразили: ежели это руина, так что же я нашел в ней интересного? Я отвечал весьма обстоятельно, намереваясь выиграть время и завоевать расположение толпы, что им ведь известно, сколь многих путешественников именно руины влекут в Италию, что Рим, столица мира, разрушенная варварами, полон руин, которые были зарисованы сотни и сотни раз, что далеко не все древние строения сохранились так, как амфитеатр в Вероне, который я, кстати сказать, надеюсь вскоре увидеть.
У подесты, стоявшего передо мною, только немного пониже, долговязого, но не слишком тощего мужчины, туповатые черты скучного лица вполне соответствовали медлительной, меланхолической манере, с какою он задавал свои вопросы. Актуарий, поменьше ростом и порасторопнее, тоже не сразу нашелся в столь новом и необычном случае. Я еще долго говорил в том же духе, меня, кажется, охотно слушали, на некоторых женских лицах я даже читал сочувствие и благосклонное одобрение.
Стоило мне, однако, упомянуть о веронском амфитеатре, известном здесь под названием «арены», как актуарий, уже успевший собраться с мыслями, заметил, что все это, возможно, и так, что «арена» всемирно известная римская постройка, в этих же башнях ничего примечательного нет, тем не менее они являются границей между Венецианской республикой и Австрийской империей, а посему шпионить здесь не положено. Я пустился в пространные объяснения: не одни-де греческие и римские древности заслуживают внимания, но также и памятники средневековья. Местным жителям, конечно, нельзя поставить в упрек, что они, в противоположность мне, не воспринимают живописной красоты с детства им знакомых строений. На мое счастье, в эту минуту утреннее солнце озарило башню, скалы и стены, и я принялся восторженно расписывать им эту картину. Но так как мои слушатели стояли спиной к упомянутым красотам, не желая терять меня из виду, то они разом, наподобие птиц, называемых вертишейками, повернули головы, чтобы зрительно насладиться тем, чем я услаждал их слух. Даже подеста повернулся, не без важности, конечно, к описываемой мною картине. Эта сцена так меня рассмешила, что я еще больше вошел во вкус и не позабыл упомянуть даже о плюще, который за долгие столетия так пышно разукрасил скалы и стены.
Актуарий поспешил заметить, что так-то оно так, но император Иосиф — государь зело беспокойный и, конечно, лелеет злые умыслы против Венецианской республики, я же, вероятно, его подданный, и он послал меня разведать, как там все обстоит на границе.
«Ничуть не бывало, — воскликнул я, — как и вы, я горжусь тем, что я гражданин республики, пусть не столь большой и могущественной, как достославная Венеция, но все же самостоятельной и по торговым связям, богатству и мудрости своих правителей не уступающей ни одному вольному городу Германии. Я родом из Франкфурта-на-Майне; думается, что доброе имя этого города и вам хорошо известно».
«Из Франкфурта-на-Майне! — воскликнула какая-то хорошенькая молодая женщина. — Вот видите, господин подеста, у вас есть возможность тотчас узнать, что собой представляет этот чужестранец, который мне кажется добропорядочным человеком. Прикажите позвать Грегорио, он долго служил там и лучше всех нас разберется в этом деле».
Благожелательных лиц стало больше, первый из моих хулителей скрылся, и когда пришел Грегорио, дело уже явно обернулось в мою пользу.
Это был человек лет за пятьдесят, с обычным смуглым итальянским лицом. Он говорил и держал себя так, словно ничто чужое ему не чуждо, и тотчас же сообщил мне, что служил у Болонгаро и рад будет услышать об этом семействе и о городе, о котором вспоминает с неизменным удовольствием. Мне повезло, — его пребыванье во Франкфурте пришлось на мои детские годы, из чего я извлек двойную выгоду, сумев рассказать ему, как все было в ту пору и что изменилось в дальнейшем. Рассказал я и об итальянских семьях, все они были мне знакомы. Он был очень доволен, услыхав разные подробности, — к примеру, что господин Аллезина в 1774 году справил свою золотую свадьбу и что в честь этого события была отчеканена медаль, которая имеется и у меня. Грегорио отлично помнил, что супруга сего негоцианта была урожденная Брентано. Я рассказал ему даже о детях и внуках этих семейств, о том, как они подросли, переженились, уже в внуках приумножили свой род и какую жизнь для себя избрали.
Покуда он слушал подробнейшие сведения, которые я давал обо всем, что бы он ни спрашивал, лицо его принимало то серьезное, то радостное выражение. Он был взволнован и растроган, народ, столпившийся вокруг нас, не мог досыта наслушаться, и Грегорио приходилось часть нашей беседы переводить на местный диалект.
Под конец он сказал: «Господин подеста, я уверен, что это честный, просвещенный и хорошо воспитанный человек, который путешествует, чтобы пополнить свое образование. Отпустим его по-хорошему, пусть он так расскажет о нас своим землякам, чтобы им захотелось посетить Мальчезине; право, наш живописный уголок заслуживает того, чтобы им восхищались чужеземцы». Я еще поддал жару его словам, воздав хвалу всему краю, местоположению Мальчезине и его жителям, не забыв, конечно, мудрых и предусмотрительных представителей власти.
Мои слова произвели наилучшее впечатление, и мне было разрешено в сопровождении мастера Грегорио свободно осматривать Мальчезине и его окрестности; хозяин гостиницы, в которой я остановился, заранее радуясь притоку чужеземных постояльцев, когда те прослышат о достопримечательностях Мальчезине, тоже вызвался сопровождать нас. С живейшим любопытством рассматривал он предметы моей одежды. Но зависть в нем возбудил лишь мой маленький пистолет, легко умещавшийся в кармане. Он назвал счастливцами тех, кто вправе носить такое прекрасное оружие, тогда как у них это запрещено под страхом сурового наказания. Я несколько раз пытался прервать его дружески-назойливые речи, чтобы высказать благодарность своему избавителю. «Не благодарите меня, — отвечал этот славный человек, — мне вы ничем не обязаны. Если бы подеста лучше разбирался в своем деле, а его помощник не был отчаянным корыстолюбцем, вы бы так дешево не отделались. Первый растерялся больше, чем вы, второму ваш арест, донесения и отправка вас в Верону не принесли бы ни гроша; он это живо смекнул, и вы были свободны еще до того, как закончилась наша беседа».
Вечером хозяин гостиницы повел меня в свой виноградник, красиво расположенный на склоне холма, спускавшегося к озеру. С нами был и его пятнадцатилетий сын, которому вменялось в обязанность влезать на деревья и выискивать для меня лучшие плоды, в то время как отец выбирал самые спелые гроздья.
Меж этих двоих простодушных, благожелательных людей в одиноком, заброшенном, отдаленном уголке, размышляя о сегодняшних моих приключениях, я живо почувствовал, какое удивительное существо человек: вместо того чтобы спокойно вкушать радость жизни в добропорядочном обществе, он идет навстречу опасностям и тревогам единственно из-за своей причуды — познать этот мир, познать и то, что он объемлет.
Около полуночи хозяин проводил меня к баркасу, неся корзинку, полную фруктов, которые мне презентовал Грегорио. Так, при попутном ветре, я простился с берегом, грозившим превратить меня в листригона.
…Замечу еще, что красота, открывающаяся нашему взору, когда едешь вниз, — неописуема. Это сплошной ухоженный сад, раскинувшийся на много миль в длину и в ширину у подножия высоких гор и круто вздымающихся скал. Десятого сентября около часу дня я прибыл в Верону, где хочу сначала дописать еще несколько строк, закончить и скрепить в тетрадь вторую часть дневника, а вечером надеюсь, уже с легким сердцем, увидеть амфитеатр.
Касательно погоды в эти дни сообщу следующее. Ночь с девятого на десятое была то ясной, то облачной, вокруг луны все время стоял ореол. Поутру небо затянуло серыми, но легкими тучками, которые рассеялись по мере приближения дня. Чем ниже я спускался, тем лучше становилась погода. Хотя горный кряж в Боцене оставался по-ночному темным, но состояние воздуха резко изменилось. По различным ландшафтным фонам, очаровательно разделенным просветами где более, где менее яркой синевы, видно было, что атмосфера наполнена равномерно распределившимися парами, которые она в состоянии удержать, почему они и не надают росой или дождем и не скапливаются в тучи. Постепенно спускаясь ниже, я отчетливо видел, что все пары, подымающиеся из Боценской долины, все штрапсы, тянущиеся с южных гор к полунощным краям, не закрывали их, но окутывали своего рода маревом. В дальней дали, над горами, я разглядел так называемую «промоину». Южнее Боцена все лето стояла прекрасная погода, только время от времени выпадало немного водицы (теплый дождик здесь называют «водицей»), а вскоре уже сияло солнце. Вчера тоже чуть-чуть покапало, и то при солнечном свете. Давно не выдавалось у них такого хорошего года: все уродилось прекрасно, а дурное они переправили к нам.
О горах и горных породах скажу лишь несколько слов, ибо путешествие Фербера в Италию и Хакета по Альпам достаточно сообщают нам об этом отрезке пути. В четверти часа езды от Бреннера находится мраморная каменоломня; я проезжал мимо нее в сумерках. Не подлежит сомнению, что под нею, как и под другой, по ту сторону хребта, залегает слюдяной сланец. Последний встретился мне и под Колманом, когда уже развиднелось. Пониже я увидел порфиры. Скалы были великолепны, а камень в кучах вдоль шоссе так мелко раздроблен — хоть сейчас составляй из него кабинетные коллекции. Я мог без труда взять с собой по образцу от каждой породы, надо было только приучить свой глаз к меньшим масштабам и не жадничать. Ниже Колмана я обнаружил порфир, расщепляющийся на равномерные пластины, между Бранчолем и Неймарктом — схожий, пластины коего, в свою очередь, расщепляются на столбчатые кристаллы. Фербер принял его за вулканический продукт, но это было четырнадцать лет тому назад, когда весь мир пылал в головах людей; Хакет уже смеется над этим.
О людях могу сказать лишь немногое, да и то не слишком лестное. Когда я спускался с Бреннера и передо мной забрезжил день, я заметил разительную перемену в их обличии. Мне очень не понравилась смуглая бледность женщин. Их лица свидетельствуют об убогой жизни, на детей смотреть больно, мужчины выглядят несколько лучше, телосложение у них статное и правильное. Мне думается, что причина болезненных отклонений заложена в излишнем употреблении кукурузы и гречихи. Первую они называют желтой гречихой, вторую — черной. Ту и другую сначала размалывают, из муки варят густую кашу и в таком виде едят. Немцы, по ту сторону гор, делят это тесто на кусочки и поджаривают в масле. Итальянские тирольцы поедают его просто так, иногда присыпая сыром, и весь год обходятся без мяса. Такая пища неизбежно склеивает и засоряет кишки, в особенности у женщин и детей, о чем свидетельствует их нездоровый цвет лица. Кроме того, они едят фрукты и зеленые бобы, которые отваривают в воде, приправляя постным маслом и чесноком. Я удивился: неужто здесь нет богатых крестьян? «Конечно, есть», — отвечала мне дочка боценского трактирщика.
«И они тоже питаются не лучше?» — «Нет, они уже привыкли». — «Что ж они делают с деньгами? На что их тратят?» — «Над ними тоже есть господа, которые отбирают деньги».
Далее я узнал от нее, что крестьянам-виноделам, казалось бы самым зажиточным, всего туже приходится, поскольку их держат в руках городские купцы. В неурожайные годы они дают им деньги авансом, а в урожайные скупают вино за бесценок. Впрочем, это ведь повсюду так…
ОТ ВЕРОНЫ ДО ВЕНЕЦИИ
Верона, 16 сентября.
Итак, амфитеатр, первый значительные памятник древности, который я увидел, и в какой сохранности! Когда я вошел, но особенно когда стал ходить по верхней его кромке, странное чувство охватило меня: подо мной было нечто грандиозное, а в то же время, словно бы и не было ничего. Разумеется, его надо видеть не пустым, а до отказа забитым народом, как то было уже в наше время, на корриде, устроенной в честь императора Иосифа и папы Пия VI. Говорят, что даже император, привыкший видеть перед собою толпы, был поражен. Но в древности, когда народ был более народом, чем нынче, амфитеатр, по-настоящему выполнял свое предназначение. Ибо такая арена должна, собственно, сама по себе импонировать народу, уже одним своим видом дурачить его.
Когда волнующее зрелище разыгрывается на ровном месте, когда вся и все туда устремляются, те, что оказались сзади, непременно хотят быть выше передних: влезают на скамейки, подкатывают бочки, подъезжают в повозках, кладут доски и так и эдак, толпы усыпают соседний холм — вследствие чего быстро образуется кратер.
Ежели зрелище неоднократно повторяется на том же месте, то для тех, кто в состоянии заплатить, строят легкие помосты, остальные устраиваются как попало. Удовлетворить всеобщую потребность — к этому и сводится задача архитектора. Он строит простейший искусственный кратер в расчете, что украшением ему послужит народ. Народ же в таком скоплении не может сам себе не дивиться, ибо люди привыкли видеть себя и себе подобных в сутолоке, в давке и в суете, — здесь же многоголовый, разномыслящий, мятущийся зверь вдруг оказался сплоченным в единое благородное целое, к единению предназначенный, слитый, скрепленный в общую массу, в единый облик, одухотворенный единым духом. Простоту овала с приятностью чувствует любой глаз, любая голова является мерилом гигантского целого. Сейчас, когда я вижу его пустым, у меня нет масштаба, не знаешь, велик он или мал.
Нельзя не воздать хвалы веронцам за то, как они поддерживают свой амфитеатр. Он построен из красноватого мрамора, поддающегося выветриванию, поэтому они, ряд за рядом, восстанавливают разрушенные ступени, так что теперь почти все выглядят новыми. Кстати, там имеется надпись, прославляющая некоего Иеронима Мавригено за невероятное рвение, затраченное им на этот памятник древности. От наружной стены осталась лишь самая малая часть, и я сомневаюсь, была ли она вообще закончена. Нижние своды, примыкающие к большой площади Il Brà, сданы в нем ремесленникам, и, право же, весело смотреть на эти выемки, вновь наполнившиеся жизнью…
Верона, 16 сентября.
…Ветер, веющий с древних гробниц, напоен благоуханием, словно он пронесся над холмом, усаженным розами. Надгробия прелестны, трогательны и всегда изображают жизнь. Вот муж и жена выглядывают из ниши, как из окошка. Подальше отец, мать и сын между ними смотрят друг на друга с непередаваемо естественным выражением. Там юноша и девушка протягивают друг другу руки. Здесь лежит отец, а семейные, столпясь вокруг, словно занимают его беседой. Меня до глубины души растрогала непосредственная связь изображений с нынешней жизнью. Это позднейшее искусство, но простое, естественное и всем понятное. Нет здесь закованных в латы коленопреклоненных мужей, ожидающих радостного воскресения. Художник, с бо́льшим или меньшим искусством, изобразил лишь обыденную жизнь, тем самым продлив и увековечив существование людей. Они не простирают руки с мольбою, не подымают взор горе, они остались здесь, на земле, такие, какими были. Стоят группами, участливо относятся друг к другу, друг друга любят, и все этопрелестно выражено в камне, хотя и не без некоторой ремесленнической примитивности. Многое я понял по-новому и благодаря великолепно изукрашенной мраморной колонне.
Как ни похвально такое обыкновение, все же мы видим, что благородный дух почитания прошлого, положивший ему начало, теперь его покинул. Драгоценный треножник вскоре рухнет, ибо стоит открыто и не защищен от непогоды, налетающей с запада, тогда как деревянный футляр запросто уберег бы это сокровище.
Будь дворец проведиторе достроен, мы увидели бы прекрасный образец зодческого искусства. Правда, знать все еще строит много, но, увы, каждое семейство — на том месте, где стояло прежнее его жилище, а значит, частенько на узких улочках. Так, сейчас возводится роскошный фасад семинарии на захудалой улице отдаленного предместья.
Когда я, со случайно повстречавшимся мне путником, проходил мимо больших величественных ворот какого-то удивительного строения, он добродушно осведомился, не хочу ли я на минуту заглянуть во двор. Это был Дворец правосудия. Из-за высоты зданий двор казался глубочайшим колодцем. «Здесь, — сказал он, — содержатся все преступники и подозреваемые». Я огляделся. По всем этажам мимо множества дверей шли открытые галереи с железными перилами. Узник, которого вели на допрос, прямо из своей камеры оказывался на открытом воздухе, но и у всех на глазах. А так как комнат для допроса здесь, вероятно, было немало, то цепи гремели на всех этажах и на всех галереях. Очень тяжкое впечатление!..
Верона, 17 сентября.
Произведений живописи, увиденных мною, я коснусь лишь бегло и присовокуплю здесь несколько замечаний. Я пустился в это замечательное путешествие не затем, чтобы обманывать себя, а чтобы себя познать среди того нового, что мне откроется, и теперь могу откровенно признаться: в искусстве, в ремесле живописца я мало что смыслю. Мое вниманье и мои наблюдения в общем-то сосредоточены лишь на практической стороне предмета и на его трактовке.
Сан-Джорджио — галерея, полная превосходных картин, алтарные образы, конечно, не одинаково хороши, но, безусловно, примечательны. Несчастные художники, — что только им не приходилось писать! И для кого! Дождь манны небесной футов эдак тридцать длины и двадцать высоты! На противоположной стене чудо с пятью хлебами. Ну, что тут писать? Голодные люди, набросившиеся на мелкие зерна, огромная толпа, которую одаривают хлебом. Живописцы не пожалели сил, стараясь придать значительность этому убожеству. И все-таки даже подневольный труд дал гению возможность создать и прекрасное. Художник, которому надлежало изобразить святую Урсулу с одиннадцатью тысячами девственниц, весьма хитроумно вышел из положения. Святая стоит на переднем плане с победоносным видом амазонки, покорившей страну. Благородная девственница, лишенная чувственной прелести. В дальней, все уменьшающей перспективе, мы видим шествие ее воинства, сходящего с кораблей. Тицианово «Вознесение Марии» в соборе изрядно почернело. Мысль заставить возносящуюся богоматерь смотреть не на небо, а долу, на своих друзей, достойна всяческих похвал.
В галерее я обнаружил превосходные вещи Орбетто и как-то разом ознакомился с этим достойным художником. В отдалении узнаешь только о мастерах наивысшего класса, причем нередко довольствуешься их именами, но стоит приблизиться к звездному небу, и для тебя уже мерцают звезды второй и третьей величины, и каждая из них является частью всей картины мироздания, — о, тогда мир огромен, а искусство неимоверно богато.
В Палаццо Бевилаква имеются прекрасные произведения живописи. Так называемый «Рай» Тинторетто, — собственно, венчание Марии царицей небесной перед лицом патриархов, пророков, апостолов, святых, ангелов и т. д., — удобный случай показать все многообразие гениально одаренного художника. Легкость кисти, ум, множество выразительных средств, собственно, чтобы это оценить, чтобы вдосталь нарадоваться этой картине, надо было бы всю жизнь иметь ее перед глазами. Работа художника уходит в бесконечность, — даже из последних, исчезающих в сиянии нимбов головок ангелов каждая имеет свой характер. Наиболее крупные фигуры, — величиной, наверно, с фут, — Мария и Христос, возлагающий на нее корону, дюйма эдак четыре. Ева, пожалуй, самая красивая женщина на картине; и, как издревле, несколько похотливая.
Несколько портретов работы Паоло Веронезе лишь приумножили мое к нему уважение. Собрание антиков — великолепно; распростертый сын Ниобеи — восхитителен, бюсты, несмотря на реставрированные носы, в большинстве своем очень интересны, так же как Август в гражданской короне, Калигула и прочие.
Радостное преклонение перед великим и прекрасным свойственно мне с младых ногтей, и сознание, что я день ото дня, час от часу ращу и воспитываю в себе это свойство, — поистине блаженное сознание.
В краях, где день услаждает тебя, вечер радует и того больше, наступление ночи — значительное событие. Окончена работа, вернулись с прогулки гуляющие, отец нетерпеливо поджидает дома свою дочь: день окончен. Но мы, киммерийцы, едва знаем, что такое день. В вечном тумане и сумраке, — что день, что ночь, нам все равно. Ибо долго ли мы радуемся и веселим свою душу под открытым небом? Здесь наступление ночи означает, что прошел день, состоявший из вечера и утра, прожиты двадцать четыре часа, начинается новый отсчет времени: гудят колокола, люди творят вечернюю молитву, служанка вносит в комнату зажженную лампу и говорит: «Felicissima notte!» Этот миг наступает раньше или позже в зависимости от времени года, и тот, кто живет здесь полной жизнью, с толку не собьется, — ведь любая радость приурочена не к какому-то часу, а ко времени дня. Навяжите этому народу немецкое время, и вы сведете его с ума, ибо здешнее тесно связано с натурой итальянцев. За час-полтора до наступления ночи местная знать выезжает кататься по Бра, широкой и длинной улице, к новым воротам Nuova, потом за ворота, вокруг города, и, когда пробьет полночь, все экипажи поворачивают обратно. Кто едет в церковь послушать «Ave Maria della sera», кто задерживается на Бра, кавалеры подходят к каретам, беседуют с дамами; это продолжается довольно долго, я ни разу не дождался конца. Пешеходы прогуливаются до глубокой ночи. Сегодня шел дождь, он только-только прибил пыль, — весело и радостно было на все это смотреть…
Виченца, 19 сентября.
Я приехал сюда несколько часов тому назад, успел уже обежать город, видел Олимпийский театр и строения Палладио. Для удобства приезжих здесь издана премилая книжечка, иллюстрированная гравюрами на меди; автор ее хорошо разбирается в вопросах искусства. Только увидев эти творения собственными глазами, познаешь всю их значимость, ибо подлинной своей величиной и материальностью они дают пищу зрению, а прекрасной пространственной гармонией доставляют удовлетворение духу, и притом не на абстрактном чертеже, но в согласии со всеми законами перспективы, то приближающей их к нам, то от нас отдаляющей, так что я теперь смело могу сказать о Палладио — это человек огромной внутренней силы, сумевший обратить ее вовне. Основная трудность, с которой ему приходилось бороться, как и всем зодчим новейшего времени, — это распределение колонн в гражданском зодчестве, так как сочетание стены и колонн — извечное противоречие. Но как же он с ним справился, как он умеет произвести впечатление и заставить нас позабыть, что это всего лишь уловка! Право, есть нечто божественное в его строениях, они — как чудодейственная сила великого поэта, который из правды и вымысла создает нечто третье, завораживающее нас своим заимствованным бытием.
Олимпийский театр — театр древних в миниатюре. Несказанно прекрасный, он в сравнении с нынешними театрами все же представляется мне знатным, богатым, хорошо воспитанным ребенком рядом с умным, многоопытным человеком, пусть не столь знатным, богатым и воспитанным, но зато знающим, как распорядиться средствами, у него имеющимися.
Когда здесь, на месте, рассматриваешь величественные здания, возведенные этим человеком, и видишь, как они изуродованы мелкими, грязными людскими потребностями, когда понимаешь, что планы по большей части превосходили возможности исполнителей, и еще: сколь мало эти бесценные памятники высокого духа соответствовали жизни всего прочего человечества, то поневоле начинаешь думать, что везде происходит одно и то же. Люди не поблагодарят тебя за стремление возвысить их внутренние потребности, внушить им более высокое представление о самих себе, заставить их почувствовать величие доподлинно благородного существования. Но ежели ты обманешь «птиц», начнешь рассказывать им небылицы, изо дня в день будешь портить их, тогда ты для них «свой человек», — наверно, поэтому новейшее время так пристрастно к безвкусице. Я говорю это не затем, чтобы принизить моих друзей, а просто чтобы сказать — они таковы, а следовательно, не стоит удивляться, что все идет так, как идет.
Как выглядит базилика Палладио рядом со старым зданием, смахивающим на замок и усеянным разнокалиберными окнами, которое архитектор, конечно же, намеревался снести вместе с башней, трудно передать словами, и мне приходится гнать от себя странно неприятное чувство, ибо здесь я, увы, нахожу рядом то, от чего бегу, и то, чего ищу.
20 сентября.
Вчера давали оперу, она затянулась до полуночи, а мне до смерти хотелось спать.
Отрывки из «Трех султанш» и «Похищения из сераля» — вот материал, из которого неумело сварганили это произведение. Музыка, довольно приятная, видимо, была состряпана любителем, — ни одной новой мысли, которая бы меня взволновала. Зато балетные номера прелестны. Главные солисты протанцевали аллеманту с изяществом необыкновенным.
Театр новый, уютный, роскошный, но и скромный в то же время; все одно к одному, как то и подобает провинциальному театру; на барьере каждой ложи — одноцветный ковер, ложу капитана Гранде отличает от прочих только более длинный занавес.
Примадонну, видимо, любимицу здешней публики, каждый раз встречают громом аплодисментов, от восторга «птицы» ведут себя достаточно буйно, когда она особенно отличается, что бывает в общем-то часто. Примадонна держится очень естественно, у нее красивая фигура, прекрасный голос, милое лицо и хорошие манеры. Жесты ее могли бы быть грациознее. И все-таки второй раз в этот театр я не пойду, — видно, уже не гожусь в «птицы».
21 сентября.
…Сегодня я посетил так называемую «Ротонду» — великолепный дом на живописном холме в получасе ходьбы от города. Это четырехугольное здание заключает в себе круглую залу с верхним светом. Со всех четырех сторон к нему поднимаешься по широким лестницам и всякий раз попадаешь в портик, образуемый шестью колоннами. Думается, что зодчество никогда еще не позволяло себе подобной роскоши. Пространство, занимаемое лестницами и портиками, много больше того, что занимает самый дом, ибо каждая его сторона в отдельности может сойти за храм. Внутри это строение я бы назвал уютным, хотя оно и не приспособлено для жилья. Пропорции залы поистине прекрасны, комнат — тоже. Но для летнего пребывания знатного семейства здесь, пожалуй, тесновато. Зато дом царит над всей округой, и откуда ни глянь — он прекрасен. А в каком разнообразии предстает перед путником весь массив здания вкупе с выступающими колоннами! Владелец полностью осуществил свое намерение — оставить потомкам майорат и в то же время чувственный памятник своего богатства. И если это здание, во всем своем великолепии, видно с любой точки окружающей местности, то вид из его окон тоже утеха зрению.
Падуя, 26 сентября, вечером.
За четыре часа я добрался до Падуи в маленькой одноместной карете, так называемой седиоле, куда втиснулся вместе со всем своим добром. Обычно такое расстояние спокойно проезжают за два часа, но так как мне было приятно провести этот чарующий день под открытым небом, то я не сердился на веттурино, небрежно отнесшегося к своим обязанностям. Мы ехали по богатой, плодородной долине все время на юго-восток, ничего не видя, кроме изгородей и деревьев, покуда справа не показалась живописная горная цепь, тянувшаяся с севера на юг. Изобилие плодов и растений, свешивавшихся с деревьев на изгороди и стены, не поддается описанию. Крыши завалены тыквами, с подпорок и шпалер свешиваются какие-то немыслимые огурцы.
Из обсерватории мне как на ладони видно было великолепное расположение города. С севера заснеженные Тирольские горы, наполовину скрытые облаками, на северо-западе примыкают Вичентинские и, наконец, поближе на западе — горы Эсте, очертания и впадины которых тоже видишь совершенно отчетливо. На юго-востоке — зеленое море растительности, без малейшего возвышения, дерево к дереву, куст к кусту, бесчисленные насаждения и несметное количество белых домиков, вилл и церквей, выглядывающих из зелени. На горизонте я ясно различал колокольню св. Марка в Венеции и другие башни — поменьше…
ВЕНЕЦИЯ
Венеция, 28 сентября 1786 г.
Итак, в книге судеб на моей странице стояло, что в 1786 году двадцать восьмого сентября под вечер, по нашему времени в пять часов, мне суждено, въезжая из Бренты в лагуны, впервые увидеть Венецию и вскоре затем вступить в этот дивный город-остров, в эту республику бобров. И вот, благодарение богу, Венеция для меня уже не только звук, не пустое слово, так часто отпугивавшее меня, заклятого врага пустых слов и звуков.
Когда к нашему кораблю подошла первая гондола (это делается для того, чтобы поскорее доставить в Венецию торопливых пассажиров), мне вспомнилась игрушка из моего раннего детства, о которой я уже лет двадцать не вспоминал. Отец привез из своего итальянского путешествия прекрасную модель гондолы. Он очень ею дорожил, и мне, лишь в виде особой милости, позволялось играть ею. Первые остроконечные клювы из блестящего листового железа и черные клетки гондол приветствовали меня, как добрые старые знакомцы, я упивался уже позабытыми было впечатлениями детства.
Поселился я в «Королеве Англии», неподалеку от площади Св. Марка, что составляло основное преимущество и вообще-то удобной гостиницы. Окна мои выходят на узкий канал, зажатый высокими домами, прямо подо мною горбатый мостик, а напротив — узкая оживленная улочка. Так вот я живу, и проживу еще некоторое время, покуда не будет готов мой пакет для Германии и покуда я досыта не нагляжусь на этот город. Одиночеством, по которому я так тосковал, мне наконец-то дано насладиться, — ведь нигде не бываешь более одинок, чем в толчее, через которую ты протискиваешься, никем не знаемый. В Венеции меня знает разве что один человек, да и тот не сразу встретится мне.
29, в день святого Михаила, вечером.
О Венеции столько уже написано и напечатано, что я не стану вдаваться в подробные описания, скажу только, какою она открывалась мне. Как всегда, мое внимание прежде всего привлек народ — большие массы людей, их вынужденная, а не избранная жизнь здесь.
Не для забавы бежали эти люди на острова, не произвол погнал других последовать за ними. Нужда принудила их искать безопасного укрытия в этом, казалось бы, неблагоприятном месте, впоследствии столь им благоприятствовавшем и научившем их уму-разуму, в то время, когда весь северный мир еще пребывал во мраке. А их размножение, их богатство было уже неизбежным следствием. Жилища теснились друг к другу, песок и трясина заменялись скалистым основанием, дома искали воздуха, — как деревья, стесненные в густой чащобе, они стремились в высоту, наверстывая то, что теряли в ширину. Скупясь на каждую пядь земли и с самого начала теснясь на малом пространстве, они оставляли улице не больше ширины, чем требовалось для того, чтобы один ряд домов отделить от противоположного и оставить жителям лишь необходимейшие проходы. Вообще же вода служила им улицей, площадью, местом для прогулок. Венецианец волей-неволей должен был стать человеком совсем новой породы, ибо и Венецию можно сравнивать только с Венецией же. Большой, извивающийся змеею канал не уступает ни одной улице на свете, так же как пространство перед площадью Св. Марка не знает равных себе на свете. Я говорю о большом водном зеркале, которое, как полумесяц, с одной стороны охвачено городом Венецией. По другую сторону водной глади слева виден Сан-Джорджио-Маджори, чуть правее — Джудекка с ее каналом, немного подальше — Догана и въезд в Большой канал, где нас встречают своим сиянием два гигантских мраморных храма. Вот краткий перечень того, что сразу бросается нам в глаза, когда мы стоим меж двух колонн площади Св. Марка. Все эти виды так часто гравировались на меди, что мои друзья без труда составят себе наглядное представление о них.
После обеда, в жажде поскорее составить себе впечатление от целого, я без провожатого, ориентируясь только по странам света, ринулся в лабиринт этого города. Весь изрезанный каналами и канальчиками, он тем не менее воссоединен мостиками и мостами. Здешнюю тесноту и скученность трудно себе представить, не видя ее. Как правило, ширину улочки можно измерить распростертыми руками, а на самых узких, подбоченясь, локтями уже касаешься стен. Есть, правда, улочки пошире, кое-где даже маленькие площади, но в общем-то — повсюду теснота.
Я без труда нашел Большой канал и главный мост Венеции — Риальто. Собственно, этот мост — одна беломраморная арка. С нее открывается широкий вид — канал, изборожденный судами, которые доставляют сюда с материка все, что нужно людям, здесь причаливают и разгружаются, между ними снуют гондолы. Сегодня по случаю праздника святого Михаила, все оживлено еще более чем обычно, но, чтобы дать представление об этой картине, я должен предварить ее несколькими словами.
Две главные части Венеции, разделенные Большим каналом, соединяет только мост Риальто, однако здесь предусмотрены и другие коммуникации, а именно — баржи, которые в определенных местах перевозят людей и грузы. Сегодня они выглядели особенно живописно, заполненные нарядными женщинами, — правда, в черных вуалях, — спешивших в церковь на престольный праздник. Я ушел с Риальто и отправился к перевозу, поближе посмотреть на них. И сколько же я увидел красивых лиц и стройных фигур!
Уставши, я покинул тесные улочки, сел в гондолу и, чтобы уготовить себе прямо противоположное зрелище, обогнув остров Св. Клары, через лагуны въехал в канал Джудекки и так добрался до площади Св. Марка, чувствуя себя властителем Адриатического моря, как любой венецианец, усевшийся в свою гондолу. При этом я с глубоким уважением думал о славном своем отце, которому ничто не доставляло большей радости, чем подобные воспоминания. Будет ли и со мною так же? Все, что сейчас меня окружает, — это грандиозное и достойное творение объединенных человеческих усилий, величественный памятник, памятник не властелину, а народу. И если лагуны Венеции мало-помалу заполняются илом, если зловредные испарения подымаются над болотами, торговля чахнет, могущество республики ослабевает, то все же самый ее строй и ее сущность ни на мгновенье не покажутся наблюдателю менее достойными почитания. Она подвластна времени, как и все сущее в мире явлений.
3 октября.
Церковь Il Redentore[1] — прекрасное, величавое творение Палладио. Фасад ее примечательнее фасада Сан-Джорджио. Надо воочию увидеть эти здания, многожды гравированные на меди, чтобы сказанное мною стало наглядным. Я же ограничусь несколькими словами.
Палладио, до мозга костей проникнутый жизнью древних, ощущал мелкость и узость своего времени, как истинно великий человек, который не желает уступать, но, напротив, стремится по мере возможности все преобразить в соответствии со своими высокими и благородными представлениями. Он был недоволен, — я это заключаю из одного, достаточно, впрочем, мягкого, оборота в его книге, — что христианские церкви продолжают воздвигать в форме старинных базилик, и потому тщился приблизить свои священные здания к формам древних храмов. Отсюда возникли известные несообразности, которые он, как мне думается, удачно устранил в Il Redentore, тогда как в Сан-Джорджио они очень заметны. Фолькман высказывается по этому поводу, но в точку, собственно, не попадает.
Внутри Il Redentore тоже все очаровательно, вплоть до росписи алтарей, собственноручной работы Палладио. К сожалению, ниши, предназначавшиеся для статуй, заполнены плоскими размалеванными дощатыми фигурами.
3 октября.
Вчера вечером был в опере у св. Моисея (здесь театры называются по ближайшей церкви). Особого удовольствия не получил! Либретто, музыке и певцам недостает внутренней энергии, которая только и может довести до совершенства подобный спектакль. Ни одну его часть плохой не назовешь, но только две женщины прилагали усилия, не для того, чтобы хорошо играть, но чтобы повыгоднее подать себя и понравиться публике. А это уже нечто. У обеих хорошая внешность, превосходные голоса, и вообще они изящные, веселые и бойкие создания. У мужчин, напротив, ни малейшего признака внутренней силы и желания что-то внушить публике, да и голоса не сказать, чтобы блестящие.
Балет, убогая придумка, в целом был освистан, хотя нескольким отличным прыгунам и прыгуньям порядком аплодировали, возможно, потому, что последние считали своим долгом знакомить зрителей с каждой красивой частью своего тела.
3 октября.
Сегодня мне довелось побывать на другой комедии, больше меня порадовавшей. Во Дворце дожей публично разбиралось гражданское дело, весьма важное. К моей радости, слушанье его пришлось на каникулярное время. Один из адвокатов соединял в себе все утрированные качества классического буффо. Толстый, приземистый, при этом необыкновенно подвижный, с резким профилем, с голосом, точно медная труба, и таким пылом, словно то, что он говорит, до глубины души волнует его. Я называю происходившее комедией, ибо весь этот публичный спектакль, видимо, разыгрывается как по нотам. Судьи знают, что им надо будет сказать, стороны — чего им ждать. И все же эта процедура мне больше по душе, чем наше нескончаемое сидение в душных канцеляриях. А сейчас я попытаюсь описать, как естественно и чинно, без всякой театральности все это совершается.
В просторной зале Дворца дожей по одну ее сторону полукругом сидят судьи. Напротив них, за кафедрой, за которой могли бы в ряд поместиться несколько человек, сидят адвокаты обеих сторон, перед ними на скамейке истцы и ответчица собственной персоной. Адвокат истца сошел с возвышения, поскольку в сегодняшнем заседании прений не предполагалось, а должны были зачитываться все документы pro и contra, впрочем, имевшиеся уже в печатном виде.
Тощий писарь в черном потрепанном сюртуке, с толстой подшивкой в руках готовился приступить к своим обязанностям чтеца. Зала была битком набита пришедшими послушать и поглядеть. Правовой вопрос сам по себе, равно как и лица, которых он затрагивал, видимо, представлялись венецианцам весьма важными.
Наследники майоратов пользуются в этой республике немалыми привилегиями, недвижимость, однажды объявленная майоратом, навечно сохраняет свои права; если в силу каких-нибудь обстоятельств она и подвергалась отчуждению даже несколько столетий тому назад, то, когда дело дойдет до открытого судебного разбирательства, оказывается, что права потомков первого семейства неприкосновенны и земельная собственность должна быть возвращена им.
На сей раз вопрос стоял очень остро, так как иск был вчинен самому дожу, вернее, его супруге, которая, закутанная в свою накидку, самолично восседала на скамеечке, отделенной лишь малым расстоянием от места истца. Дама почтенного возраста, благородного телосложения, с красивым лицом, которое хранило суровое, даже угрюмое выражение. Венецианцы горды тем, что догаресса в собственном дворце была вынуждена предстать перед судом и перед ними.
Писарь начал читать, и тут только мне уяснилась роль человечка, сидевшего на низкой скамеечке за маленьким столиком напротив адвокатской кафедры, и, прежде всего, что значили песочные часы, которые он поставил перед собой. Покуда писарь читает, время остановлено, адвокату же, если он пожелает говорить, дается только ограниченное время. Писарь читает, часы лежат, человечек держит на них руку. Но стоит адвокату открыть рот, и часы уже принимают вертикальное положение; не успеет он замолкнуть, как они опять лежат. И это большое искусство — прервав поток чтения, вставлять беглые замечания, неукоснительно возбуждать вниманье слушателей. Но маленький Сатурн испытывает тут немалую трудность — он вынужден то и дело менять вертикальное положение часов на горизонтальное, иными словами, он оказывается чем-то вроде злого духа в кукольном театре, который в ответ на быстрые восклицания озорника Гансвурста: «Берлике! Берлике!» — не знает, уходить ему или оставаться.
Тот, кто наслышался в канцеляриях, как последующие документы сверяют с оригиналом, может без труда представить себе это чтение — быстрое, монотонное, но хорошо артикулированное и удобопонятное. Искусный адвокат умеет шутками разгонять скуку, и публика покатывается со смеху над его остротами. Не могу не вспомнить одну его шутку, пожалуй, самую необычную из тех, которые я понял. Писарь как раз зачитал документ, согласно коему один из владельцев, признанный неправомочным, распорядился спорным имуществом. Адвокат попросил его читать помедленнее, и, когда тот отчетливо произнес: «Я дарю, я завещаю», — он яростно напустился на чтеца, восклицая: «Что это ты собрался дарить? Что завещать, несчастный голодранец. Нет ведь ничего на свете, что бы тебе принадлежало. Впрочем, — он, сделал вид, что одумался, — тот сиятельный владелец был точно в таком же положении и намеревался подарить, намеревался завещать то, что также не принадлежало ему, как не принадлежит и тебе».
Хохот разразился в зале, но песочные часы тотчас же приняли горизонтальное положение. Писарь продолжал свое назойливое чтение, бросая на адвоката злобные взгляды. Но это была заранее обусловленная потеха.
5 октября, поздним вечером.
Я вернулся с трагедии, покатываясь со смеху, и решил тотчас закрепить на бумаге эту забавнейшую историю. Пьеса была недурна, автор выложил все свои трагические козыри, и актерам было легко играть. Некоторые положения были общеизвестны, другие новы и даже удачны. Два отца, исполненных ненависти друг к другу, сыновья и дочери этих разделенных враждою семейств, страстно влюбленные вопреки родовой вражде, более того, одна пара даже тайно обвенчана. Вокруг молодых людей разыгрывались свирепые, дикие страсти, и под конец автору, чтобы устроить их счастье, пришлось заставить заколоться обоих отцов, после чего занавес опустился под бурные аплодисменты. Овация становилась все громче, публика кричала: «Fuora!»[2] — до тех пор, покуда две главные пары не выбрались из-под занавеса, чтобы отвесить несколько поклонов и уйти в другую кулису.
Но публика этим не удовлетворилась, под неумолчные аплодисменты она вопила: «I morti»[3] Длилось это, покуда оба мертвеца не вышли, чтобы, в свою очередь, раскланяться, а так как многие все еще кричали: «Bravi i morti!»[4] — то их еще долго задерживали на просцениуме, прежде чем отпустить. Все эти выходки имеют особую прелесть для тех, кто видел их своими глазами и у кого крики «браво! браво!», ежеминутно готовые сорваться с языка у итальянцев, все еще звенят в ушах, как у меня, а тут он еще слышит, как и мертвых почтили этим восторженным возгласом.
«Доброй ночи!» Мы, северяне, говорим это всякий раз, расставаясь, когда уже стемнело, итальянец желает другим: «Felicissima notte!»— лишь однажды, когда в комнату, на рубеже дня и ночи, вносят зажженные свечи, и значит это нечто совсем другое. Дело в том, что особенности языка всегда непереводимы; от самого высокого и до самого низкого слова все зависит от своеобразия нации, будь то ее характер, убеждения или жизненные обстоятельства.
6 октября.
Вчерашняя трагедия многому меня научила. Во-первых, я услышал, как итальянцы, декламируя, управляются со своими одиннадцатисложными ямбами, и к тому же понял, как умно Гоцци соединял свои маски с трагическими образами. Таков доподлинный театр этого народа; итальянцы жаждут примитивной растроганности, глубокого, нежного сочувствия к несчастному они не испытывают, их радует лишь красноречие героя, ораторские способности они умеют ценить, но «на закуску» хотят посмеяться или принять участие в какой-нибудь вздорной истории.
Театральное представление они воспринимают как действительную жизнь. Когда тиран протянул меч сыну и потребовал, чтобы тот заколол им свою собственную жену, стоявшую рядом, публика стала громко выражать свое неудовольствие этой коллизией; еще немножко, и спектакль был бы сорван. Публика требовала, чтобы старик взял свой меч обратно, что, разумеется, сделало бы последующие сцены невозможными. Наконец злополучный сын решился, вышел на просцениум и смиренно попросил сидящих в зале еще хоть на минутку набраться терпения, — дальше, мол, все пойдет, как им того хочется. С точки зрения искусства сцена убийства и вправду была нелепа и противоестественна, и я воздал народу хвалу за его чуткость.
Теперь мне сделались понятнее длинноты и нескончаемые рассуждения в греческих трагедиях. Афиняне еще охотнее, чем итальянцы, слушали речи и знали в них толк; недаром же они целыми днями возлежали в судилищах, кое-чему они там научились.
6 октября.
Сегодня утром был на литургии в церкви св. Юстина, где в этот день, в память давней победы над турками, непременно присутствует дож. Когда к маленькой площади подходят позолоченные барки, на которых прибывает дож и многие знатные семейства, корабельщики в оригинальных костюмах орудуют ярко-красными веслами, а на берегу духовенство и монашеские ордена с зажженными свечами на шестах или в переносных серебряных светильниках стоят, теснятся, волнуются и ждут, когда наконец с судов на землю перебросят обитые коврами мостки и по мостовой начнут расстилаться сперва лиловые одежды шестнадцати министров республики, затем красные — сенаторов и под конец сойдет старец в золотом фригийском колпаке, длиннейшем золотом таларе и горностаевой мантии, трое слуг несут его шлейф, — и все это происходит на маленькой площади перед порталом церкви, а у ее дверей — развернутые турецкие знамена, так что вдруг начинает казаться, что ты видишь старинные тканые шпалеры с ярким и прекрасным рисунком. Мне, беглецу с севера, эта церемония доставила много радости. У нас, где на празднествах щеголяют в куцых камзолах, а в самых торжественных случаях еще и с оружием за плечами, такого, конечно, быть не может. Здесь же эти одеяния со шлейфами, эти мирные процессии естественны и уместны.
Дож — рослый, красивый мужчина, возможно, нездоровый, но сейчас, дабы не уронить своего достоинства, он держится очень прямо под тяжелыми своими одеждами. Благосклонный и приветливый, он выглядит дедушкой всего своего народа. Торжественный наряд очень идет к нему, шапочка под колпаком не режет глаз, — тонкая и прозрачная, она прикрывает самые белые, самые светлые волосы, какие только есть на свете.
Человек пятьдесят нобилей в длинных темно-красных одеждах сопровождают его. Почти все — ладные, видные мужи, рослые и большеголовые; им очень идут завитые белокурые парики. Черты у них резкие, хотя лица белые, мягкие, впрочем, лишенные непривлекательной дряблости; они выглядят умными и спокойными. Эти мужи явно уверены в себе, они легко и, без сомнения, радостно приемлют жизнь.
Когда все уже заняли в церкви положенные им места и литургия началась, в главную дверь стали входить монахи; окропив себя святой водою и склонив колена перед главным алтарем, перед дожем и перед знатью, они выходили в правую боковую дверь.
6 октября.
На сегодняшний вечер я заказал для себя прославленное пение гондольеров, которые поют Тассо и Ариосто на собственные мелодии. Это пение поневоле приходится заказывать, ибо оно стало редкостью, сродни наполовину отзвучавшим преданиям старины. При лунном свете я сел в гондолу, один певец встал впереди, другой сзади. Они затянули свою песню и пели поочередно, строфу за строфой. Мелодия, которую мы знаем из Руссо, — нечто среднее между хоралом и речитативом, ход ее остается неизменным, но такт в ней отсутствует; да и модуляция одна и та же, только что гондольеры, в зависимости от содержания строфы, как бы декламируя, меняют интонацию и размер. Но дух их пения, его жизнь мне понятны, о чем я и скажу сейчас.
Как создавалась эта мелодия, я вникать не стану, знаю только, что она как нельзя лучше подходит для праздного человека, который что-то напевает себе под нос, подгоняя под нее стихи, которые помнит наизусть.
Он сидит на острове, на берегу канала или на барке и всепроникающим голосом, — народ здесь превыше всего ценит силу голоса, — что есть мочи поет свою песню. Она разносится над тихим зеркалом вод. Где-то вдали ее слышит другой, мелодия ему знакома, слова он разобрал и отвечает уже следующей строфой, — так один гондольер становится эхом другого. Песня длится ночи напролет и, не утомляя, забавляет их. Чем дальше они друг от друга, тем обворожительнее их пение. Если слушатель находится посередине — значит, он выбрал себе наилучшее место.
Чтобы дать мне возможность это услышать, они высадились на берегу канала Джудекки и пошли в разные стороны, я же ходил взад и вперед между ними, всякий раз удаляясь от того, кто сейчас должен был запеть, и торопясь к тому, кто только что замолк. Тут-то мне и открылся смысл этого пения. Издалека песня звучит очень странно, как жалоба без печали. Есть в ней что-то невероятное и трогательное до слез. Я приписал это своему настроению, но старик, меня сопровождавший, сказал: «È singolare, come quel canto intenerisce, e molto più, quando è più ben cantato»[5]. Он рекомендовал мне послушать женщин с Лидо, в первую очередь с Маламокко и Палестрины, они тоже поют Тассо на эти или похожие мелодии. И еще добавил: «У них вошло в привычку, когда рыбаки, их мужья, уходят в море, вечерами садиться на берегу и что есть силы петь эти песни, покуда издалека до них не донесутся голоса мужей, — таким манером, они переговариваются с ними». Разве это не замечательно? И все же думается, что вблизи не порадуешься голосам, вступившим в спор с волнами морскими. Однако человечным и правдивым становится смысл этой песни, живой — мелодия, над мертвыми вокабулами которой мы прежде ломали себе голову. Это песнь одинокого человека, несущаяся вдаль и вширь, дабы другой, тоже одинокий, услышал ее и на нее ответил.
8 октября.
В доме Фарсетти имеется ценнейшая коллекция слепков с античных статуй… Не буду говорить о тех, что известны мне еще по Мангейму или по другим собраниям, упомяну лишь о новых знакомых. Клеопатра в ужасающем спокойствии, с аспидом, обвившим ее руку, она уже объята сном, переходящим в смерть; далее, мать Ниобея: стремясь защитить свою младшую дочь от стрел Аполлона, она прикрыла ее плащом; несколько гладиаторов; гений, покоящийся на сложенных крылах; философы — одни из них сидят, другие ходят.
Этим творениям человечество может радоваться, тысячелетиями учиться на них, не в силах исчерпать мыслью достоинств их создателей.
Множество замечательных бюстов переносят меня в прекрасные античные времена. Увы, мне ясно, как сильно я отстал в этой области знаний, но я все наверстаю, путь мне уже открылся. Палладио показал мне его, так же как путь ко всем искусствам и к самой жизни. Это, пожалуй, звучит странновато, но все же менее парадоксально, чем история с Якобом Бёме, которому Юпитер ниспослал озарение, и тот, при виде оловянной миски, познал Вселенную. В собрании находится также обломок перекрытия храма Антонина и Фаустины в Риме. Это произведение, тотчас поражающее наш взор, напоминало мне капитель Пантеона, которую я видел в Мангейме. Скажу без обиняков; это, конечно, ничего общего не имеет с нашими готическими украшениями — нахохленными святыми на консолях, взгроможденных одна над другой, с нашими колоннами, смахивающими на курительные трубки, с остроконечными башенками и зубчатыми цветочными гирляндами, — от них я, слава богу, избавился на веки вечные!
Хочу упомянуть еще о нескольких скульптурах, которые я видел в эти дни, пусть мимоходом, но созерцал я их с благоговейным изумлением: два гигантских льва из белого мрамора перед воротами арсенала. Один сидит, упираясь передними лапами, другой — лежит, — величественные противоположности в живом своем многообразии. Они так огромны, что все вокруг них выглядит мелким, да и ты сам превратился бы в ничто, если бы твою душу не возвышали величественные произведения искусства. Говорят, что эти львы были созданы в лучшие времена Эллады и доставлены сюда из Пирея, когда республика переживала свою блистательнейшую пору.
Барельефы, вделанные в стены храма св. Юстины, видимо, афинского происхождения, — жаль, что их несколько затемняют церковные стулья. Служитель обратил на них мое внимание, так как, по преданью, они послужили Тициану прообразом его бесконечно прекрасных ангелов в картине «Убиение Петра-мученика». Эти гении резвятся, карают атрибутами богов, и это тем прекрасно, что превосходит все наши представления.
Смотрел я еще, с совсем особым чувством, колоссальную обнаженную статую Маркуса Агриппы во дворе одного палаццо; дельфин возле него, как бы вынырнувший из морских глубин, указует на то, что Маркус — герой-мореход. Подумать только, что такое героическое изобретение делает человека богоравным!
Коней на соборе св. Марка я рассматривал на близком расстоянии. Снизу тотчас не замечаешь, что все они пятнистые: местами с красивым желтоватым металлическим блеском, а местами уже тронуты медной зеленью. Отсюда видишь и догадываешься, что в свое время они были целиком позолочены. По тому, как они исполосованы, становится ясно, что варвары не спиливали позолоту, а силились сколоть ее. Ну что же, по крайней мере, хоть фигуры коней сохранились.
Великолепная упряжка! Хотел бы я услышать, что скажет о ней истинный знаток лошадей. Удивительно и то, что вблизи эти кони выглядят тяжелыми, а снизу, с площади, — легкими, точно олени.
8 октября.
Сегодня поутру я поехал с моим ангелом-хранителем на Лидо, то есть на косу, которая замыкает лагуны и отделяет их от моря. Мы вышли из гондолы и зашагали поперек косы. До меня донесся громкий гул, — это было море, вскоре я его увидел: отступая, волны высоко вздымались у берега. Уже настал полдень — время отлива.
Итак, мне довелось своими глазами увидеть море, довелось пройти по гладкой, как гумно, поверхности, которую оно, откатываясь, оставляет после себя. Мне захотелось, чтобы здесь были дети, — из-за раковин. Я и сам, как ребенок, набрал их немалую толику, правда, для определенной цели — засушить хоть немного жидкости каракатиц, которую те щедро выпускают здесь.
На Лидо невдалеке от моря хоронят англичан, подальше — евреев: и тем и другим не положено покоиться в освященной земле. Я разыскал могилу благородного консула Смита и его первой жены. Обязанный ему своим экземпляром Палладио, я возблагодарил его за таковой на этой неосвященной могиле.
Если бы только неосвященной, но она еще и наполовину засыпана песком. Лидо ведь не более как дюна, море наносит песок, ветер гонит его во все стороны; целые горы песка местами скапливаются, и он проникает повсюду. В скором времени трудно будет отыскать даже достаточно высокий памятник на могиле консула.
И все-таки море — величественное зрелище! Я хочу проплыть по нему в рыбачьей лодке, — гондолы в море выходить не отваживаются.
8 октября.
На берегу я нашел всевозможные растения, общность характера позволила мне ближе узнать их свойства. Все они тучные и в то же время жесткие, сочные, но и стойкие, — ясно, что исконная соль песчаной почвы, но еще больше соленый воздух придали им эти свойства. Они изобилуют соками, как водоросли, они крепки и устойчивы, как горные растения; ежели кончики их листьев снабжены чем-то вроде колючек, наподобие осота, то эти колючки острые и крепкие. Я наткнулся на клубок таких листьев, поначалу я принял его за нашу невиннейшую мать и мачеху, только что вооруженную грозным оружием; листья у нее точно кожа, так же как семенные коробочки, и стебли — мясистые, жирные. Я решил взять с собою немного семян и засушенных листьев (eryngium maritimum).
Рыбный рынок и бесчисленные «плоды моря» доставляют мне большое удовольствие, я часто захожу туда получше рассмотреть злополучных обитателей пучин, попавшихся в сети.
9 октября.
Чудный день, с утра и до вечера! Я побывал напротив Киоццы на Палестрине, где республика, спасаясь от натиска моря, возводит огромные сооружения, так называемые мурацци. Они сделаны из обтесанных камней и, собственно, предназначены для того, чтобы оградить от свирепой стихии длинную косу, — прославленное Лидо, — отделяющую лагуны от моря.
Лагуны — следствие извечной работы природы. Прилив, отлив и земля противоборствовали друг другу, затем началось постепенное понижение первозданных вод, все это вместе и стало причиной того, что на верхнем конце Адриатического моря образовалась большая полоса болот. Прилив набегает на нее, а отлив лишь частично ее затрагивает. Искусство завладело всеми возвышенностями, и так вот простирается Венеция, составившаяся из сотен островов и сотнями же островов окруженная. В то же самое время, с невероятными усилиями и расходами, в болотах прорыли каналы, дабы военные корабли и во время отлива могли входить в важнейшие гавани. То, что людское усердие и хитроумие придумали и создали в давние времена, ныне должно поддерживаться умом и трудоспособностью потомков. Лидо — длинная коса, отделяет лагуны от моря, которое проникает в них лишь в двух местах — неподалеку от Кастелло и на противоположном краю, у Киоццы. Во время прилива, обычно дважды в день, морская вода заливается в лагуны, отлив дважды выносит ее, всегда тем же путем и в том же направлении. Прилив покрывает болотистые места внутри лагун, более же высокие остаются если не сухими, то все же видимыми.
Все было бы по-другому, если бы море в поисках новых путей хлынуло на косу и воды его свободно устремились бы туда и обратно. Не говоря уж о том, что поселки на Лидо, Палестрине, Сан-Пьетро и прочих были бы затоплены, но разлились бы и проезжие каналы. Такой водяной разгул все бы перемешал и перепутал, Лидо превратилось бы в острова, острова, лежащие за ним, — в песчаные отмели. Стремясь избегнуть этой беды, венецианцы всеми силами сберегают Лидо, чтобы стихии неповадно было сметать и рушить то, чем уже сумел завладеть человек, то, чему он придал форму и обличье для определенных целей.
В исключительных случаях, когда море разливается сверх всякой меры, счастьем следует почитать, что доступ ему открыт лишь в двух точках, все же остальное наглухо заперто от него; это уменьшает ярость его натиска, а через несколько часов оно все равно неизбежно подчинится закону отлива.
Вообще же Венеции нечего тревожиться, медлительность, с которой отступает море, подарит ей еще тысячелетье спокойствия; разумно поддерживая каналы, она сумеет сохранить все, чем владеет.
Если бы только венецианцы почище содержали свой город, — это необходимо, нетрудно и крайне важно для будущего. Правда, сейчас уже под угрозой крупного штрафа запрещено выбрасывать или сметать мусор в каналы, но ведь внезапно налетевшему дождю не запретишь ворошить мусор, рассованный по углам, и сыпать его в каналы или, что еще хуже, забивать им трубы для стока воды и засорять их до такой степени, что главным площадям грозит опасность быть постоянно залитыми водой. Даже некоторые стоки на малой площади Св. Марка, проложенные, как и на большой, весьма искусно, я видел забитыми сором и полными воды.
Когда выдастся дождливый день, грязь в городе — непролазная, прохожие ругаются и клянут все на свете; всходя на мостики и спускаясь с них, обязательно измараешь пальто и табарро, с которыми здесь не расстаются, вдобавок венецианцы всегда носят чулки и башмаки; то и другое забрызгано грязью, кстати, грязью липкой и едкой. Но вот опять распогодилось, и ни один человек уже не думает о чистоте. Верно говорят, что люди вечно жалуются на плохую обслугу, но как сделать ее лучше, никто ума не приложит. В Венеции, если бы верховный правитель этого пожелал, все бы мигом устроилось.
10 октября.
Наконец-то и мне можно сказать: я видел комедию! Сегодня в театре св. Луки давали «Le Baruffe Chiozzotte», что приблизительно можно перевести как «Ссоры и свары в Киоцце». Действующие лица — моряки, жители Киоццы, их жены, сестры и дочери. Крикливые голоса этих персонажей в разговоре как добродушном, так и сердитом, их ссоры, их запальчивость, добродушие, пошлость, остроты, юмор и полная непринужденность манер воспроизведены превосходно. Пьеса принадлежит еще перу Гольдони, а так как я только вчера побывал в Киоцце, а голоса и повадки моряков и рабочих гавани еще звучали у меня в ушах и стояли перед глазами, то я, естественно, получил большое удовольствие, и хотя кое-какие подробности и ускользали от меня, целое я все же понимал довольно хорошо. Сюжет пьесы заключается в следующем: жительницы Киоццы сидят на берегу перед своими домами и, как обычно, прядут, вяжут, шьют, плетут кружева. Мимо проходит молодой человек и с одной из них здоровается приветливее, чем с другими. Тотчас же начинают сыпаться шпильки, они быстро перерастают в насмешки, в злые укоры, в отчаянное озорство, одна бесцеремонная соседка выпаливает всю правду, дело доходит до серьезных оскорблений, в конце концов появляются судебные власти.
Второй акт происходит в зале суда; вместо отсутствующего подесты действует актуарий, подеста как нобиле не должен появляться на сцене театра; итак, актуарий поодиночке вызывает женщин. Положение довольно щекотливое, так как сам он влюблен в первую любовницу, счастлив, что наконец-то оказался с нею наедине, и вместо того, чтобы ее допрашивать, объясняется ей в любви. Другая, влюбленная в актуария, в приступе ревности врывается к ним, следом за нею — взволнованный любовник первой, а за ним и остальные; новые попреки, перебранка, и в зале суда разыгрывается та же чертовщина, что и в гавани.
В третьем акте все еще смешнее, но развязка — торопливая и довольно бесцветная. Зато очень удачно воплощена идея пьесы в одном персонаже, а именно — в старом моряке, вся стать которого, равно как и органы речи, из-за тяжелой юности утратили быстроту и подвижность.
Он как бы являет собою противоположность вертлявому, болтливому и крикливому народу. Прежде чем облечь в слова свою мысль, он словно берет разбег — шевелит губами, жестикулирует и наконец выпаливает ее. Но поскольку ему все равно удаются лишь короткие фразы, то у него выработалась привычка к лаконической суровости, отчего все его речи звучат как сентенции или пословицы, что прекрасно уравновешивает дикое, необузданное поведение остальных.
Однако такого буйного веселья, какое охватило публику, узнавшую себя и себе подобных в столь правдивом изображении, я сроду не видывал. Хохот и восторженные восклицания не умолкали в зале. Надо сказать, что и актеры играли великолепно. В зависимости от воплощаемых персонажей, они усвоили голоса и повадки, часто встречающиеся в народе. Примадонна была обворожительна, — куда лучше, чем объятая страстью, в одеждах героини на прошлом представлении. Всяческих похвал заслуживает автор, из сущего пустяка создавший приятнейшее вечернее времяпрепровождение. Но такое, конечно, возможно, только среди собственного жизнерадостного народа. Пьеса, несомненно, написана рукой большого мастера.
Из труппы Сакки, для которой писал Гоцци и которой более, собственно, не существует, я видел Смеральдину — маленькую толстушку, полную жизни, проворства и веселья. Вместе с нею играл Бригелла — худощавый, хорошо сложенный актер, с прекрасной мимикой и выразительной жестикуляцией. Маски эти для нас нечто вроде мумий, безжизненные и ничего не значащие, здесь же они отлично вписываются в общую картину жизни. Возраст, характеры людей, сословная принадлежность находят свое выражение в причудливых костюмах, и ежели ты сам большую часть года носишь такую личину, то тебя ничуть не удивляют и черные лица на подмостках.
Венеция, 14 октября, 2 часа ночи.
Последние минуты моего здешнего пребывания; ибо сейчас на почтовом судне я отправляюсь в Феррару. Венецию я покидаю охотно. Чтобы с удовольствием и пользой остаться здесь, мне пришлось бы предпринять кое-какие новые шаги, а они не входят в мои планы. К тому же вся и всё покидает сейчас этот город, спеша в свои сады и владения на твердой земле. Мой багаж и так уже основательно пополнен, вдобавок я увожу с собой богатейшую, удивительнейшую, ни с чем не сравнимую картину.
ОТ ФЕРРАРЫ ДО РИМА
16 октября, утром, на корабле.
Мои попутчики, мужчины и женщины, вполне сносные и непритязательные люди, еще спят в каюте, я же, кутаясь в плащ, провел обе ночи на палубе. Холодновато было только под утро. Теперь я, действительно, нахожусь под сорок пятым градусом и повторяю свою старую песню: все бы я оставил здешним жителям, если бы мне можно было, подобно Дидоне, захватить отсюда воздуха столько, сколько стянут мои ремни, и окружить им наши жилища. Это было бы иное бытие. Плаванье при великолепной погоде очень приятно, виды просты, но восхитительны. По, веселая, приветливая река, течет меж плоских берегов, поросших лесом и кустарником, никакие дали глазу не открываются. Здесь, впрочем и на Эче, я видел нелепейшие гидротехнические сооружения, ребяческие и никому не нужные, как на Заале.
Феррара, 10-го, ночью.
Прибыл сюда в семь утра по немецкому времени и собираюсь завтра же ехать дальше. Впервые я ощутил своего рода уныние в большом и прекрасном, равнинном, обезлюдевшем городе. Блестящий двор некогда оживлял эти улицы, здесь жил Ариосто — неудовлетворенным, Тассо — несчастным, а мы-то надеемся усладить свою душу посещением этих мест. Гробница Ариосто — это груды неудачно распределенного мрамора. Вместо узилища Тассо здесь показывают то ли дровяной сарай, то ли угольную яму, где он, конечно, не был заточен. Соседи давно уже не знают, зачем сюда ходят чужестранцы. Наконец, получив солидные чаевые, они начинают что-то припоминать. Это как с Лютеровым чернильным пятном, которое время от времени подновляет кастелян. Многие путешественники, одержимые своего рода охотничьей страстью, жаждут взглянуть на такие памятки. Я впал в столь мрачное настроение, что почти не обратил внимания на прекрасный научный институт, выстроенный и богато оснащенный одним из кардиналов, уроженцев Феррары; подбодрили меня только некоторые старинные памятники в институтском дворе.
Затем меня позабавила удачная мысль одного художника изобразить Иоанна Крестителя перед лицом Ирода и Иродиады. Пророк, облаченный в лохмотья пустынника, гневно указывает на упомянутую даму. Она спокойно смотрит на сидящего рядом с нею правителя, а тот тоже спокойно и проницательно — на восторженного пророка. Перед правителем стоит довольно большая белая собака, а из-под юбки Иродиады вылезает маленькая болонка, и обе лают на Иоанна Крестителя. По-моему — весьма остроумная выдумка.
Болонья, 18 октября, ночью.
…Приехал в Болонью. Расторопный и сведущий гид, узнав, что я не намереваюсь долго оставаться здесь, прогонял меня по всем улицам и по такому количеству дворцов и храмов, что я едва успевал отмечать в своем Фолькмане, где я побывал, и вряд ли впоследствии сумею по этим отметкам вспомнить все, что я видел. А сейчас скажу только о том, что врезалось светлым пятном мне в память.
Начну с Цецилии Рафаэля! Я многое знал о ней, но сейчас увидел ее своими глазами. Рафаэль всегда делал то, что хотели сделать другие, но я могу сказать лишь одно: это мадонна Рафаэля. Пятеро святых рядом друг с дружкой, ни до одного из них нам, собственно, дела нет, но их земное бытие воссоздано так совершенно и несомненно, что этой картине желаешь вечной жизни, примиряясь даже с мыслью, что сам ты обратишься в прах. Но чтобы по-настоящему узнать Рафаэля, оценить и все же не восславить как бога, который, подобно Мелхизедеку, явился на свет без отца и без матери, надо доискаться, кто его предшественники, кто учителя. Утвердившись на надежном грунте истины, они усердно, даже с опаской, стали закладывать мощные фундаменты и, соревнуясь друг с другом, камень за камнем возводить пирамиду, покуда он, ободренный уже содеянным, озаренный горним светом, не увенчал ее последним камнем, на который или рядом с ним уже нельзя было положить другого.
Интерес к истории охватывает тебя все сильнее, когда рассматриваешь картины старых мастеров. Франческо Франчиа заслуживает безусловного уважения, Пьетро из Перуджи такой славный парень, что, право, хочется сказать: вот истинно немецкая душа. О, если бы счастливый случай поглубже завел Альбрехта Дюрера в Италию!.. В Мюнхене я видел несколько его вещей, доподлинно великих. Бедняга здорово просчитался в Венеции, заключив договор с попами, на выполнение коего потерял долгие месяцы! А если вспомнить, что во время путешествия по Нидерландам он выменивал на попугаев свои дивные творения, которые, как он надеялся, должны были принести ему счастье, и, чтобы не тратиться на чаевые, писал портреты с прислуги, приносившей ему тарелку фруктов! Меня всегда до глубины души трогает простофиля-художник, потому что, по сути дела, и я таков же, только иной раз удачнее устраиваю свою жизнь.
Под вечер я наконец сбежал из этого почтенного, старого, ученого города, сбежал от толпы, что снует по сводчатым галереям, построенным почти на всех улицах и дающим ей возможность в жару и в непогоду бродить взад и вперед, глазеть, покупать, — словом, делать что вздумается. Поднявшись на башню, я наслаждался свежим воздухом и видом, открывавшимся с нее.
Наклонная башня — препротивная штука, но я считаю вполне вероятным, что ее старательно строили именно такой. Нелепость же эту объясняю себе следующим образом: во время городских беспорядков любое солидное здание служило крепостью, а в этой крепости любая могущественная семья возводила башню. Мало-помалу это превратилось в удовольствие или в дело чести, каждый хотел блеснуть своей башней, а когда прямые башни стали уже будничными, решили построить наклонную. Архитектор и владелец в общем-то достигли своей цели, — взор наш, привыкший к множеству прямых и стройных башен, невольно ищет наклонную. Потом я побывал и на такой. Кирпич уложен горизонтальными рядами. С хорошим цементом и железными скрепами можно, как видно, соорудить какую хочешь нелепость.
19 октября, вечером.
Сегодняшний день я использовал на то, чтобы смотреть и опять смотреть, но с искусством обстоит так же, как с жизнью: чем глубже в нее вникаешь, тем она становится необъятнее. На небе искусства возникают новые звезды; я не могу их исчислить, и они сбивают меня с толку; оба Караччи, Гвидо, Доминико появились уже в более позднюю и более счастливую для искусства пору. Но чтобы по-настоящему насладиться ими, нужно знание и уменье судить. Мне же недостает того и другого, а приобретается это лишь постепенно. К тому же чистоте созерцания и непосредственному впечатлению очень мешают нелепые в большинстве случаев сюжеты картин, которые бесят тебя, хотя должны были бы вызывать преклонение и восторг.
Кажется, что сыны божии, вступив в брак с дочерьми человеческими, наплодили ублюдков. Если божественный дух Гвидо, его кисть, словно бы созданная запечатлевать лишь совершеннейшее из того, что нам дано видеть, влечет нас, то все же спешишь, браня его на чем свет стоит, отвести глаза от этих омерзительно глупых сюжетов, унижающих человеческое достоинство; анатомический театр, эшафот, живодерня, герой вечно страдает, но никогда не действует, ни малейшего интереса к современной жизни, всегда что-то фантастическое, приходящее извне. Злодеи или сумасшедшие, преступники или идиоты, — чтобы спасти положение, художник вписывает в картину голого парня, хорошенькую зрительницу, а не то обходится со своими духовными героями, как с манекенами, обряжая их в плащи с живописными складками. И ничего характерного для человека! Из десяти сюжетов — ни одного, который стоило бы писать, а единственный, этого заслуживающий, художник не осмелился дать в правильной трактовке.
Большая фреска Гвидо в церкви Мендиканти написана по заказу; в ней есть все, что должно быть запечатлено великим мастером, но также и вся чепуха, которой только можно от него потребовать. По-видимому сенат одобрял фреску, а возможно, и давал указания, что должно быть на ней изображено. Оба ангела, достойные утешать Психею, здесь вынужденны…
Святой Прокл написан великолепно, но остальные — сущие попы и епископы! Внизу божественные младенцы, играющие традиционными атрибутами. Художник, зная, что к горлу его приставлен нож, старался выйти из положения, но, видимо, только доказал, что не он варвар. Есть там и две нагих фигуры, давно написанные, — святой Иоанн в пустыне и святой Себастиан, но что вы скажете? Один разинул рот, другой скорчился в три погибели.
В дурнейшем расположении духа, задумываясь над историей, я прихожу к выводу, что вера возродила искусство, но суеверие, заполучив власть над ним, снова сгубило.
После обеда, несколько утихомирившись и придя в менее задиристое настроение, чем сегодня утром, я записал в свою книжицу следующее: в палаццо Танари имеется знаменитая картина Гвидо — Мария, больше натуральной величины, кормящая грудью младенца. Кажется, что бог написал ее голову; невозможно передать выражение, с которым мать смотрит на сосущего младенца. Мне видится в ней тихая, глубокая покорность, словно бы на руках у нее не дитя любви и радости, но подкинутый ей небесами младенец, и она кормит его — ибо так уж случилось — в глубочайшем своем смирении, даже не понимая, как все это произошло. Остальное пространство заполнено гигантским занавесом, который очень высоко ценят знатоки; я же не знал, как к нему отнестись. Правда, краски его потемнели, но, кстати сказать, день и комната тоже были не из светлых…
Вот я и уподобился Валааму, растерявшемуся пророку, который благословил тех, кого собирался проклясть, и так повторялось бы еще не раз, останься я здесь подольше.
Но если вновь наткнешься на картину работы Рафаэля, или хотя бы с некоторой достоверностью ему приписываемую, то ты исцелен и счастлив. Так я набрел на «Святую Агату», бесценную, но, увы, не очень хорошо сохранившуюся. Художник изобразил святую здоровой, уверенной в себе девственницей, но не грубоватой и не холодной. Мне врезался в память этот образ, я буду мысленно читать ей «Ифигению» и не позволю своей героине выговорить ни слова, которого не могла бы сказать эта святая.
Раз уж я снова вспомнил о сладостной ноше, с которой не расстаюсь в своем странствии, то не могу умолчать и о том, что, помимо великих явлений искусства и природы, которые я обязан усвоить, мне не дает покоя еще и удивительная вереница поэтических образов. Едучи сюда из Ченто, я намеревался продолжить работу над «Ифигенией», но что же произошло? Перед моим внутренним взором предстал сюжет «Ифигении Дельфийской», и я должен был его разработать. Скажу о нем по возможности кратко.
Электра, в надежде, что Орест доставит в Дельфы изображение Дианы Таврической, является в храм Аполлона и, как последнюю искупительную жертву, посвящает божеству грозный топор, учинивший столько бед в доме Пелопса. Но, увы, к ней приближается некий грек и говорит, что он, сопровождая Ореста и Пилада в Тавриду, своими глазами видел, как обоих друзей повели на казнь, сам он спасся благодаря счастливой случайности. Одержимая страстью Электра, вне себя и не знает, обратить ей свою ярость на богов или на людей.
Меж тем Ифигения, Орест и Пилад тоже прибывают в Дельфы. Священное спокойствие Ифигении странно контрастирует с земной страстью Электры, когда обе они встречаются, не зная друг друга. Спасшийся бегством грек узнает жрицу, принесшую в жертву его друзей, и открывает это Электре. Та уже готова, схватив с алтаря злополучный топор, убить Ифигению, когда счастливый оборот событий отвращает от сестер последнее ужаснейшее зло. Ежели эта сцена мне удастся, то вряд ли на театре было когда-либо нечто более высокое и трогательное. Но где взять сил и времени, даже если дух твой готов совершить?
И вот, испытывая своего рода страх, под напором такого избытка добрых и удачных замыслов, я хочу напомнить друзьям сон, привидевшийся мне около года тому назад, который я принял за предзнаменование. Мне приснилось, что я в довольно большой лодке подплыл к плодородному и богатому растительностью острову, на котором, мне это было известно, водились отличнейшие фазаны. Я живо столковался с тамошними жителями относительно покупки дичи, они живо ее забили и приволокли мне целую груду. Это и вправду оказались фазаны, но так как во сне все преображается, у них были длинные хвосты с пестрыми глазками, как у павлинов или столь редких райских птиц. Их складывали связками головами вовнутрь лодки, так что пестрые хвосты, свисая через борта, в лучах солнца образовали прекраснейший сноп, какой только можно себе представить, и до того пышный, что для рулевого и гребцов оставалось очень мало места и на носу и на корме. Так рассекали мы водную гладь, и я уже мысленно перечислял друзей, с которыми поделюсь своими пестрыми сокровищами. Потом, когда мы зашли в большую гавань, я стал блуждать среди кораблей с гигантскими мачтами, переходя с палубы на палубу, в поисках подходящей стоянки для моего суденышка.
Мы тешим себя такими фантасмагориями, и они, возникнув из нас самих, становятся аналогией нашей жизни и наших судеб.
Лойяно на Апеннинах, 21 октября, вечером.
Добровольно ли я покинул Болонью или меня оттуда прогнали, сказать трудно. Как бы там ни было, я жадно ухватился за возможность поскорее уехать. Тут я стою в убогой гостинице, в компании папского офицера, направляющегося в свою родную Перуджу. Подсев в его двуколку и желая сказать ему что-нибудь приятное, я заметил, что мне, как немцу, привыкшему иметь дело с солдатами, доставляет удовольствие ехать в обществе папского офицера.
«Не прогневайтесь, — отвечал он, — вы, может быть, и питаете склонность к военным, — я слышал, в Германии все военные, — но что касается меня, то хотя наша служба и не очень затруднительна в Болонье, где размещен наш гарнизон, я живу очень сносно, но мне все же хотелось бы, скинув этот мундир, управлять небольшим имением отца. К сожалению, я младший сын, и тут уж ничего не поделаешь».
25-го вечером, Перуджа.
Два вечера я ничего не писал. Постоялые дворы настолько убоги, что и листа бумаги положить негде. Вообще во всем какая-то путаница. После моего отъезда из Венеции веретено путешествия крутится уже не так ровно и безостановочно.
Двадцать третьего утром, в десять по нашему времени, мы оставили позади Апеннины и увидели Флоренцию на широкой равнине, необычайно густо застроенной и усеянной бесконечными виллами и домами.
Я быстро обошел город, осмотрел собор и баптистерий. Здесь мне опять открывается новый, доселе неведомый мир, но задерживаться на нем я не хочу. Сад Боболи восхитителен, однако я вышел из него так же торопливо, как и вошел.
По этому городу можно судить о богатстве народа, его построившего, и также ясно становится, что целая чреда правительств ему благоприятствовала. В Тоскане сразу бросаются в глаза красивые и грандиозные общественные сооружения, дороги, мосты. Все здесь и основательно и опрятно, помимо практической полезности предусмотрена и внешняя привлекательность, во всем заметна деятельная заботливость. Папская область, напротив, кажется, только потому еще и существует, что земля не пожелала ее поглотить. Выше я говорил, какими могли бы стать Апеннины, но такою стала Тоскана. Поскольку она расположена много ниже, то древнее море выполнило свое предназначение и нанесло на эти земли толстый слой глины. Она светло-желтая и легко поддается обработке. Вспашка здесь ведется глубокая, но, можно сказать, первобытная, — плуг не имеет колес, и лемех у него неподвижный. Крестьянин, согнувшись, тащит его за своими волами, вороша землю. Пашут они до пяти раз, а легкий навоз разбрасывают руками. Наконец, сеют пшеницу, потом делают нечто вроде узких грядок, между которыми образуются глубокие борозды, устроенные так, что по ним стекает дождевая вода. Хлеб всходит на этих грядках, крестьяне при прополке ступают по бороздам. Подобный образ действий уместен там, где приходится опасаться излишней влаги, но почему они проделывают это на своих превосходных полях — мне непонятно. Такой же способ я наблюдал и под Ареццо, на плодороднейшей долине. Невозможно представить себе лучше возделанных полей — ни комочка, земля чистая и гладкая, как будто просеянная сквозь сито. Пшеница дает обильный урожай, — видимо, здесь налицо все нужные ей условия. На следующий год сажают бобы для лошадей, овсом их здесь не кормят. Сеют еще и люпин, который уже теперь зазеленел, а в марте принесет плоды. Лен здесь озимый, он уже взошел, а морозы пойдут ему на пользу.
Оливы — удивительнейшие деревья. Они очень похожи на ивы, у них тоже высыхает сердцевина и лопается кора. Но с виду они крепче. Судя по древесине, можно сказать, что растут они медленно и организованы необычайно тонко. Листья похожи на ивовые, но на ветвях их очень мало. Горы вокруг Флоренции засажены оливами и виноградом, свободная земля между ними используется под посев различных злаков. Под Ареццо и во многих других местах эту землю оставляют свободной. Я считаю, что здесь недостаточно борются с плющом, который вредит оливам и другим растениям, тогда как уничтожить его — сущий пустяк. Луга в этих местах отсутствуют. И еще: говорят, что кукуруза истощает почву; с тех пор как ее стали сеять, в Италии земледелие заметно пострадало. При малом количестве удобрений мне это кажется естественным.
Сегодня вечером я распрощался со своим капитаном, клятвенно заверив, что на обратном пути навещу его в Болонье. Он — истинный представитель многих своих соплеменников. Несколько слов, его характеризующих. Так как я часто бывал молчалив и задумчив, он однажды сказал: «Che pensa! Non deve mai pensar l’uomo, pensando s’invecchia». Что в переводе означает: «Что вы так много думаете! Человеку не следует думать, от дум только старишься». И после одного разговора: «Non deve fermarsi l’uomo in una sola cosa, perchè allora divien matto; bisogna aver mille cose, una confusione nella testa». — «Нельзя человеку сосредоточиваться на одном предмете, а то он сойдет с ума; в голове должна быть тысяча предметов, целая сумятица».
Славный этот человек не мог, конечно, знать, что именно потому я бываю молчалив и задумчив, что в голове у меня сумятица от старых и новых предметов. Образованность этого итальянца станет еще яснее из следующего. Прознав, видимо, что я протестант, он, правда, не без околичностей, попросил разрешения задать мне ряд вопросов, так как слышал много удивительного о нас, протестантах, и хочет наконец убедиться в достоверности слышанного. «Вправе ли вы, — спросил он, — быть в близких отношениях с хорошенькой девушкой, если вы не состоите с нею в браке? Разрешают ли вам это ваши священники?» На что я отвечал: «Наши священники умные люди и не обращают внимания на такие пустяки. Конечно, если бы мы у них спрашивались, они бы не разрешили». — «Так вы не обязаны их спрашивать? — воскликнул он. — Вот счастливцы! А раз у вас нет исповеди, то они ничего не узнают». Тут он принялся на чем свет стоит честить своих попов и превозносить нашу благословенную свободу. «А как, собственно, — продолжал он, — обстоит у вас с исповедью? Нам говорят, что все люди, даже не христиане, должны исповедоваться, а так как, закоснев в невежестве, они не могут понять, в чем здесь суть, то исповедуются даже старому дереву, что, конечно, смешно и богохульно, но все же доказывает, что они признают необходимость исповеди». Я счел своим долгом объяснить ему наши представления об исповеди и то, как она происходит. Мои объяснения пришлись ему по вкусу, но он тут же заметил, что это мало чем отличается от исповеди дереву. Немного помявшись, он попросил меня честно ему ответить еще на один вопрос; дело в том, что он слышал от одного из патеров, человека вполне правдивого, будто нам позволено жениться на своих сестрах, но ему кажется, что это, пожалуй, излишне. Когда я стал его опровергать и попытался внушить ему разумное понятие о нашем вероучении, он слушал меня в пол-уха, так как все это показалось ему очень уж будничным, и задал мне новый вопрос.
«Нас уверяют, — сказал капитан, — что Фридрих Великий, одержавший так много побед, в том числе и над верующими, и прославившийся на весь мир, что он, которого считали еретиком, на самом деле был католиком, но папа дозволил ему это обстоятельство скрывать. Как известно, он ни в одну вашу церковь не ходил и отправлял богослужение в подземной часовне, причем сердце у него разрывалось от невозможности открыто исповедовать истинную веру; сделай он это, его пруссаки — народ злой, ярые еретики — прикончили бы своего короля на месте, отчего ничто бы не изменилось к лучшему. Святой отец и дал королю это разрешение, с условием, что он по мере сил будет втайне поддерживать и распространять учение единославной церкви». Дальнейшая наша беседа продолжалась в том же духе, и я поневоле дивился мудрости их духовенства, пытающегося отрицать или искажать то, что могло бы прорвать темный круг традиционного учения и сбить с толку верующих.
Читта-Кастеллана, 28 октября.
Не хочу упустить последний вечер. Еще нет и восьми часов, а все уже улеглись спать. Так что мне можно напоследок вспомянуть прошлое и порадоваться ближайшему будущему. День сегодня был великолепный, — с утра холодный, потом ясный и теплый, вечер несколько ветреный, но прекрасный.
Из Терни мы выехали спозаранку; в Нарви поднялись, когда еще не рассвело, так что моста я не видел. Долы и ущелья, близи и дали, прелестные места, повсюду известняковые горы, ни следа иной горной породы.
Едва переехав мост, оказываешься на вулканической почве, покрытой либо доподлинной лавой, либо изверженной породой, видоизменившейся из-за жара и частично расплавившейся. Шоссе, идущее вниз к Читта-Кастеллана, из того же камня, оно уже достаточно накатано, и ехать по нему удобно; город стоит на вулканическом туфе, в котором я, или мне это только показалось, заметил золу, пемзу и куски лавы. Очень хорош вид из дворца, гора Соракте высится одиноко и весьма живописно, вероятно, это отрог Апеннинских известняковых гор. Вулканические пространства значительно ниже Апеннин, и лишь пробив себе путь, вода сделала из них горы и скалы; таким образом возникли потрясающе живописные детали, нависшие утесы и прочие случайности пейзажа.
Итак, завтра вечером — Рим. Я еще и сейчас с трудом в это верю, а когда и это мое желание сбудется, что же еще я смогу себе пожелать? Разве только благополучно вернуться домой, в лодке, полной фазанов, и застать своих друзей здоровыми, веселыми и благожелательными.
РИМ
Рим, 1 ноября 1786 г.
Наконец-то я вправе нарушить молчанье и радостно приветствовать своих друзей. Да простится мне моя скрытность и мое словно бы подземное путешествие. Я едва отваживался сам себе признаться, куда я направляюсь, и только под Porta del Popolo уверился — я в Риме.
И еще я хочу сказать вам, что тысячекратно, нет, непрерывно, вспоминаю вас вблизи от того, что я никогда не думал увидеть в одиночестве. Только убедившись, что вы душой и телом прикованы к северу, что вас более не манят эти края, я решился пуститься в дальний, одинокий путь и отыскать его средоточие, к которому меня влекло неодолимо. В последние годы это уже превратилось в своего рода болезнь, излечить от которой меня могло лишь непосредственное лицезренье. Нынче я могу признаться: под конец мне уже было нестерпимо смотреть на книгу, напечатанную латинским шрифтом, на любую зарисовку итальянского пейзажа. Жажда увидеть эту страну полностью созрела. Теперь, когда я утолил ее, друзья и отечество снова дороги мне, возвращенье — желанно, тем более что я убежден: сокровища, которые я привезу с собой, не могут, не должны оставаться моей собственностью, надеюсь, что они навеки пребудут для всех нас поощрением и путеводной нитью.
Рим, 1 ноября 1786 г.
Вот я и добрался до сей столицы мира! Если бы я, в сопровождении достойного и сведущего человека, увидел ее лет пятнадцать тому назад, я счел бы себя счастливцем. Но раз уж мне было суждено в одиночестве посетить ее и увидеть своими глазами, то хорошо, что эта радость так поздно выпала мне на долю.
Через Тирольские горы я словно бы перелетел. Верону, Виченцу, Падую, Венецию осмотрел добросовестно, Феррару, Ченто, Болонью — бегло, а Флоренцию разве что увидел краем глаза. Страстное желанье скорее попасть в Рим было так велико, так вырастало с каждым мгновением, что о задержке в пути не могло быть и речи, и я всего три часа пробыл во Флоренции. Но вот я здесь, я успокоился, и, как мне кажется, успокоился до конца своих дней. Ибо смело можно сказать — жизнь начинается сызнова, когда твой взор объемлет целое, доселе известное тебе лишь по частям. Все мечтания юности воочию стоят передо мной. Первые гравюры, которые мне запомнились (мой отец развесил виды Рима в приемных комнатах), я вижу теперь в действительности, и все, что я давно знал по картинам и рисункам, по гравюрам на меди и на дереве, по гипсовым и корковым слепкам, теперь сгрудилось вокруг меня; куда бы я ни пошел, я встречаю знакомцев в этом новом мире. Все так, как мне представлялось, и все ново. То же самое я могу сказать о своих наблюдениях и своих мыслях. Ни одна совсем новая мысль не посетила меня, ничто не показалось мне вовсе чужим, но все старье стало таким определенным, живым, таким связным, что вполне может сойти за новое.
Когда Пигмалионова Элиза, которую он создал согласно своим представлениям и желаниям, придав ей столько жизненной правды, сколько может придать художник, в конце концов приблизилась к нему и сказала: «Вот я», — как же разнилась она, живая, от каменного изваяния!
Как благотворно, в нравственном отношении, сказывается на мне жизнь среди этого насквозь чувственного народа, о котором говорят и пишут столько, что каждый иностранец судит о нем по привезенной с собою мерке. Я не сержусь на тех, кто осуждает и бранит итальянцев; очень уж они далеки от нас, и чужестранцу общаться с ними трудно, да и накладно.
Рим, 3 ноября.
Одной из основных причин, побуждавших меня спешить в Рим, был дразнивший мое воображение Праздник всех святых первого ноября. Я рассуждал так: если одному святому воздаются превеликие почести, то каков же будет праздник всех святых! Но как я обманулся! Римской церкви неудобно было всеобщее торжество, и каждому ордену в отдельности предоставлялось чтить память своего патрона, ибо в торжественный день именин каждый святой является народу в сиянии своей славы.
Но вчера, в День поминовения усопших, мне больше повезло. Папа празднует его в своей домашней часовые на Квиринале. Доступ открыт для всех. Мы с Тишбейном поспешили на Монте-Кавалло. Площадь перед дворцом — нечто совершенно единственное: неправильной формы, грандиозная, но при этом очаровательная. Вот наконец и я увидел обоих колоссов! Ни взглядом, ни мыслью охватить их невозможно. Вместе с толпой мы устремились через великолепный просторный двор вверх по более чем просторной лестнице. В покоях напротив часовни, где перед тобой открывается анфилада комнат, испытываешь странное чувство — ты под одной крышей с наместником Христа.
Богослужение началось, папа и кардиналы, уже были в церкви. Святой отец — прекрасный, достойнейший, с мужественной осанкой, кардиналы разного возраста, разного обличья.
Непостижимое томление овладело мною, — о, если бы глава церкви отверз свои златые уста и, с восторгом говоря о несказанном блаженстве праведных душ, поверг бы в восторг и нас! Но он только расхаживал перед алтарем, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, жестикулируя и бормоча что-то, как обыкновеннейший поп. Тут во мне пробудился протестантский первородный грех, и знакомый, привычный обряд литургии на сей раз был мне не по душе. Ведь Христос еще отроком устно излагал Святое писанье и юношей, уж конечно, не молча поучал и воздействовал; из Евангелий мы знаем, что он говорил охотно, метко и красноречиво. Что бы он сказал, думал я, если бы вдруг вошел и увидел своего наместника на земле, который что-то бормочет и раскачивается на ходу. «Venio iterum crucifigi!» — вспомнилось мне, и я потянул своего спутника в простор сводчатых, расписанных зал.
Там множество народу рассматривало прекрасные картины; дело в том, что Праздник всех усопших одновременно является и праздником всех римских художников. В этот день не только часовня, но весь дворец и все его комнаты доступны каждому, двери их распахнуты на долгие часы, здесь не приходится раздавать чаевые, и кастелян никого не поторапливает.
С наибольшим вниманием я отнесся к фрескам и ознакомился с новыми для меня крупнейшими художниками, которых раньше едва знал по именам, — так, например, я высоко оценил сразу полюбившегося мне Карло Маратти…
Пожалуй, еще больше поразила меня одна картина Тициана. Она превосходит все, ранее виденные мною. Развился ли у меня вкус или она и в самом деле наилучшая, я в толк не возьму. Пышная риза, которая стоит колом от обилия золотой вышивки и облекает массивную фигуру епископа. С тяжелым пастырским посохом в левой руке, он подъемлет восторженный взор к небесам, в правой — держит книгу, видимо, сейчас только осенившую его божественной благодатью. Позади него прекрасная девушка с пальмовой ветвью с милым и участливым любопытством заглядывает в эту раскрытую книгу. Суровый старец справа, стоя почти рядом с книгой, на нее и не смотрит; держа в руке ключи, он, надо думать, доверяет лишь собственному восприятию. Насупротив этой группы обнаженный, стройный юноша, связанный по рукам и ногам и пронзенный стрелами, смотрит прямо перед собой, смиренно покорствуя судьбе. В промежутке между ними два монаха с крестом и с лилией, благоговейно подняли очи горе. Ибо полукруглая стена, которою все они замкнуты, открыта вверху. Оттуда, окруженная сиянием, смотрит вниз сострадающая матерь. Живой, резвый младенец, улыбаясь, то ли протягивает им венок, то ли намеревается сбросить его вниз. По обе стороны младенца парят ангелы, держа уже припасенные венки. Надо всеми и над тройным кругом сияния — голубь как средоточие картины и одновременно как ключ свода.
Думается, что в основе здесь лежит старая священная традиция, позволившая столь искусно и значительно объединить эти различные, неподходящие друг другу образы. Мы не задаемся вопросом, как и почему, а принимаем все так, как оно есть, и преклоняемся перед непостижимостью искусства.
Но для смягчения искусствоведческого глубокомыслия расскажу о некоем забавном приключении: я заметил, что многие немецкие художники, приветствуя Тишбейна как доброго знакомого, разглядывали меня, отходили подальше и приближались вновь. Тишбейн, оставивший меня на несколько минут, вернулся и сказал:
«Ну, и потеха доложу я вам! Слух о том, что вы здесь, распространился, и художники насторожились при виде незнакомого чужестранца. Среди нашей братии есть один художник, давно уже утверждающий, что он вам знаком и будто бы даже состоял с вами в дружеских отношениях, правда, мы ему не очень-то верили. Его позвали взглянуть на вас и рассеять наши сомнения, он тотчас же решительно заявил, что вы не вы и этот иностранец ничуть и ничем на вас не похож. Так что инкогнито, по крайней мере, на данный момент, сохранено, а дальше нам будет над чем посмеяться».
Теперь я уже без стеснения вмешался в толпу художников и стал их расспрашивать о мастерах, чья кисть мне была еще неведома. Всего больше, пожалуй, меня привлекла картина, изображавшая святого Георгия, победившего дракона и освободителя девы. Никто не мог назвать мне художника. Но вдруг из толпы выступил маленький, скромный человек, до этой минуты не проронивший ни слова, и сказал мне, что это одно из лучших произведений венецианца Порденоне, по которому можно судить о достоинствах его работ. Теперь я понял, что эта картина так привлекла меня потому, что с венецианской школой я был уже несколько знаком и до известной степени мог судить о достоинствах ее мастеров.
Художник, меня просветивший, был Генрих Мейер, швейцарец, уже несколько лет учившийся в Италии вместе со своим другом неким Цёлла. Он, как оказалось, прекрасно копировал в сепии античные бюсты и был хорошо осведомлен в истории искусства.
Рим, 5 ноября.
Вот уже неделя, как я здесь, и мало-помалу в моей душе складывается общее представление об этом городе. Мы ходим повсюду, я знакомлюсь с планами старого и нового Рима. Разглядываю руины, здания, захожу то в одну, то в другую виллу, самое примечательное изучаю очень неторопливо, вперяюсь глазами и ухожу, потом возвращаюсь потому, что только в Риме можно подготовиться к Риму.
Нельзя не признаться, что выковыривать старый Рим из нового огорчительное и печальное занятие, но все же это нужно делать, уповая в конце концов на несказанное удовлетворение. Мы находим следы великолепия и упадка, те и другие превосходят все наши представления. То, что пощадили варвары, стерли с лица земли строители нового Рима.
Здесь видишь жизнь, которая длится две тысячи лет, а то и больше, столь многообразную в силу смены эпох и в корне изменившуюся, но ведь почва-то осталась все та же, и горы все те же, а частенько та же колонна и стена, в народе — все тот же характер; ты становишься соучастником великих решений судьбы, и наблюдателю поначалу трудно разобраться, как Рим сменяется Римом, и не только старый Рим новым, но как различные эпохи наслаиваются одна на другую. Сначала я хочу самостоятельно прощупать и прочувствовать полустертые точки, лишь тогда может уясниться вся полезность предшествующих великих трудов; ибо начиная с XV столетия и до наших дней превосходные художники и ученые всю свою жизнь посвящали разрешению этих вопросов.
Грандиозность прошлого и настоящего успокаивающе действуют на нас, когда мы быстро проходим по Риму, торопясь увидеть наипрекраснейшее. В других местах значительные произведения искусства приходится отыскивать, — здесь они теснят и подавляют нас. Куда бы мы ни шли, где бы ни стояли, нашему взору открываются разнообразные пейзажи, дворцы и руины, сады и заросли, дали и теснины, домишки, сараи, триумфальные арки и колонны, иной раз в таком близком соседстве, что все это можно было бы набросать на одном листке бумаги. Нужно иметь тысячу грифелей, — разве справишься здесь одним пером! Но к вечеру ты уже утомлен и обессилен созерцанием и восхищеньем.
7 ноября 1786 г.
Да простят мне друзья, ежели в будущем им придется счесть меня скупым на слова, но в путешествии подбираешь все, что попадется под руку, каждый день приносит нам что-то новое, о чем тоже надобно поразмышлять, выработать свое суждение. Но в Риме попадаешь в школу, где каждый день говорит тебе так много, что ты о нем уже ничего не решаешься сказать. Надо было бы годами жить здесь, храня пифагорейское молчание.
В тот же день.
Чувствую себя прекрасно. Погода, как говорят римляне, brutto; дует полуденный ветер, сирокко, каждый день приносящий дождь то большой, то малый, но меня такая погода не раздражает, на дворе все равно тепло, чего у нас в дождливые дни не бывает.
7 ноября.
Талант Тишбейна, его намерения, его художественные планы я узнаю все лучше и все больше ценю их. Он показывал мне свои зарисовки и наброски, очень хорошие и многообещающие. Пребывание у Бодмера заставило его задуматься о первобытных временах рода человеческого, о временах, когда он оказался на земле и должен был решить задачу: как сделаться властелином мира.
В качестве остроумного предварения доисторических времен Тишбейн постарался чувственно изобразить древнейшую пору земли. Горы, поросшие густыми лесами, ущелья, прорытые бурными потоками, потухшие вулканы, еще только чуть-чуть дымящиеся. На переднем плане торчащий из земли обломок многолетнего дуба, полуобнаженные корни которого, пробуя силу своих рогов, пытается подрыть олень; удачно задумано и прелестно выполнено.
И далее: на весьма оригинальном рисунке он изобразил укрощающего коней человека, который если не силой, то хитроумием превосходит всех животных, обитающих землю, воды и воздух. Композиция продуманно-прекрасна; написанная маслом, такая картина производила бы огромное впечатление. Копию этого рисунка нам обязательно нужно иметь в Веймаре. Теперь Тишбейн замышляет изобразить собрание старцев, мудрых и многоопытных, причем это будут не вымышленные, а действительно существовавшие мужи. С упоением работает он и над эскизами к битве, где два отряда всадников бьются с одинаковой яростью, и все это происходит в горах, на краю гигантского каменистого ущелья, которое лишь с невероятным усилием может перепрыгнуть конь… О том, чтобы защищаться, здесь и речи нет. Отчаянный натиск, неистовая отвага, удача или паденье в бездну! Эта картина даст ему возможность использовать свое глубокое знание коней, их стати и движений.
Он хочет, чтобы эти картины, целый ряд последующих или дополнительных, были связаны между собой несколькими стихотворениями, которые будут им служить объяснением, он же, в свою очередь, благодаря отдельным образам и положениям сообщит этим стихам плоть и кровь, а также обаяние.
Мысль прекрасная, но для того, чтобы ее осуществить, нужно, конечно, несколько лет прожить вблизи друг от друга.
7 ноября.
Наконец-то я увидел Лоджии Рафаэля, большие картины его «Афинской школы» и etc.[6], но это все равно, что изучать Гомера по местами стертой, поврежденной рукописи. С первого взгляда особой радости не ощущаешь, только постепенно, все просмотрев и проштудировав, испытываешь истинное наслаждение. Лучше всего сохранились плафоны Лоджий. На библейские сюжеты, они словно вчера написаны, — правда, лишь немногие рукою Рафаэля, но все выполнены, и выполнены превосходно, по его рисункам и под его наблюдением.
7 ноября.
В былые времена меня одолевала нелепая причуда, страстное желание поехать в Италию с образованным, сведущим в истории и в искусствах англичанином. И вот все сложилось лучше, чем я мог предполагать. Тишбейн долго прожил здесь и, будучи, истинным моим другом, носился с желанием показать мне Рим. Наша дружба стара, если мерить по переписке, и нова в смысле личного общения, — где я мог бы сыскать лучшего гида? Пусть время мое ограничено, но я все же получу много наслаждения и многому научусь.
При всем том я предвижу, что, когда придет время уезжать, я уже захочу быть дома.
10 ноября 1786 г.
Я живу здесь в душевной ясности и в покое — чувства, мною почти забытые. Мое старанье, видеть и воспринимать вещи такими, каковы они есть, сохранить остроту зрения, полностью отобщиться от каких бы то ни было претензий, вновь приносит мне пользу и в тиши дарит меня великим счастьем. Всякий день — новая достопримечательность, всякий день — другие, поразительные, редкостные картины, и целое, о котором сколько ни думай и ни мечтай, все равно не может возникнуть в твоем воображении.
Сегодня был у пирамиды Цестия, а вечером на Палатине, на самом верху, возле руин императорских дворцов, которые высятся, как утесы. Рассказать об этом, увы, невозможно. Здесь нет ничего мелкого, хотя кое-где и встречается что-то достойное порицания и безвкусное; но все равно даже это — часть общего величия.
Когда я самоуглублен, — а мы любим самоуглубляться по любому поводу, — то открываю в себе чувство, так бесконечно радующее меня, что я даже решаюсь его высказать. Тот, кто всерьез всматривается здесь во все, что его окружает, и кому глаза даны, чтобы видеть, должен набраться солидных знаний, да и вообще солидности, даже если ранее она была вовсе чужда ему.
На ум наш накладывается печать деловитой восприимчивости, он обретает серьезность, лишенную сухости, некую радостную положительность. Мне, во всяком случае, кажется, что никогда я так верно не оценивал различные явления этого мира. И я радуюсь благодатным последствиям, которые будут на мне сказываться до конца моих дней.
Так дозвольте же мне собирать, что попадется под руку, все упорядочить — я успею. Я здесь не для того, чтобы наслаждаться на свой лад, а чтобы ревностно усваивать то великое, что мне открылось, учиться и совершенствоваться, покуда мне еще не минуло сорока.
11 ноября.
Сегодня навестил нимфу Эгерию, потом ристалище Каракаллы, разрушенные погребения вдоль Виа-Аппиа и гробницу Метеллы; при виде ее только и начинаешь понимать, что значит прочная каменная кладка. Эти люди работали для вечности, все было ими учтено, кроме безрассудного, дикого варварства, от которого нет спасения. Как страстно я хотел, чтобы ты была здесь со мной. Развалины гигантского водопровода достойны восхищения. Прекрасная и великая цель — напоить народ при посредстве сего грандиозного сооружения! Вечером, уже в сумерки, мы добрались до Колизея. Когда видишь его, все другое уже опять кажется малым, — он так огромен, что душа не в силах удержать его обличье, в воспоминаниях он становится меньше, а когда возвращаешься к нему, как бы вновь вырастает.
18 ноября.
Тут я должен сказать несколько слов об одной удивительной и загадочной картине, — она кажется привлекательной, даже после тех превосходных вещей, которые здесь видишь.
Уже много лет тому назад в Риме жил один француз, известный любитель искусства и коллекционер. Неожиданно он приобрел античную фреску на известняке, причем никто не знал, откуда она взялась; поручив Менгсу ее реставрировать, он ее приобщает к своей коллекции как ценнейшее произведение искусства. Винкельман, уже не помню где, восторженно отзывается о ней. Фреска изображает Ганимеда, подающего Юпитеру чашу, наполненную вином, за что Юпитер благодарно его целует. Француз, умирая, завещал античную фреску своей квартирной хозяйке. Менгс на смертном одре заявляет, что она не античная, это он ее написал. Разгораются горячие споры. Кто утверждает, что Менгс написал ее так, шутки ради, другие — что Менгс ничего подобного просто не мог сделать, фреска эта-де едва ли не превыше работ Рафаэля. Я смотрел ее вчера и должен признаться, что тоже не знаю ничего прекраснее этого Ганимеда, его головы, спины и всей фигуры, — остальное подверглось сильной реставрации. Между тем вся вещь была скомпрометирована, и бедняжку-хозяйку никто не хочет освободить от ее сокровища.
24 ноября.
Об итальянцах могу сказать только, что это — дети природы; среди роскоши и величия искусств и религии они ничуть не отличаются от того, чем были бы в пещерах и в лесах. То, что поражает всех приезжих и о чем сегодня опять говорит весь город, — но только говорит, — это убийства, ставшие здесь обычным делом. Неподалеку от нас за последние три недели произошли четыре убийства. Сегодня злодеи напали, в точности как на Винкельмана, на известного художника-модельера, швейцарца, ученика Гедлингера. Убийца, с которым он вступил в борьбу, нанес ему двадцать ножевых ран, а когда подоспела стража — закололся. Вообще-то это здесь не модно. Убийца вбегает в церковь — тем самым он спасен.
Итак, чтобы в моих картинах был не только свет, но и тень, я должен был бы поведать о преступлениях и несчастьях, о землетрясении и наводнениях, но нынешнее изверженье Везувия посеяло сумятицу среди большинства чужеземцев, и приходится делать над собою недюжинные усилия, чтобы не быть в нее вовлеченным. Это явление природы как гремучая змея, оно неодолимо притягивает человека. Сейчас кажется, что все художественные сокровища Рима мигом обратились в ничто; ни один приезжий ими больше не интересуется, все мчатся в Неаполь. Я решил проявить выдержку, надеюсь, гора что-нибудь прибережет и для меня.
1 декабря.
Здесь Мориц, обративший на себя вниманье своим «Антоном Рейзером» и «Путешествиями в Англию». Это превосходный, чистый человек, он доставляет нам много радости.
Рим, 2 декабря 1786 г.
Прекрасная, теплая, ровная погода в конце ноября, лишь изредка сменяющаяся дождливыми деньками, — для меня совершенная новость. Погожее время мы проводим на вольном воздухе, дождливое — в комнатах, и везде есть чему порадоваться, поучиться, над чем поработать.
Двадцать восьмого ноября мы вновь посетили Сикстинскую капеллу и попросили отпереть нам галерею, с которой лучше видна плафонная живопись. Правда, галерея очень узкая, приходится жаться к железным перилам, даже не без некоторой опасности, так что люди, подверженные головокружению, на эту галерею не идут. Но все искупается лицезрением величайшего творения. Сейчас я так захвачен Микеланджело, что после него охладел даже к самой природе, ибо мне недостает его всеобъемлющего зрения. Если бы имелось средство навеки запечатлеть в душе эти картины! Во всяком случае, я привезу с собой все гравюры и рисунки с его произведений, какие только сумею раздобыть.
Из Сикстинской капеллы мы пошли к Лоджиям Рафаэля, и я едва осмеливаюсь сказать, что на них и смотреть не хотелось. Зрение наше так расширилось, так избаловалось гигантскими формами и божественной завершенностью всех отдельных частей, что остроумная игра арабесок уже не производила впечатления, а библейские предания, как они ни прекрасны, не выдерживают сравнения с величием художника.
Оттуда под солнцем, пожалуй, не в меру палящим, мы побрели на виллу Памфили, где в парке имеются прекраснейшие уголки, и оставались там до вечера. Большая лужайка, окаймленная вечнозелеными дубами и стройными пиниями, вся была засеяна маргаритками, которые поворачивали головки к солнцу. Тут я снова предался своим ботаническим размышлениям и на следующий день продолжил их во время прогулки к Монте-Марио, на виллу Мелини и виллу Мадама. Очень интересно наблюдать, как протекает постоянная, не прерываемая сильными холодами вегетация. Почек здесь и в помине нет, отчего начинаешь понимать, что такое почка. Земляничное дерево (arbutus unedo) снова цветет, в то время как дозревают его последние плоды, а на апельсиновых деревьях цветы соседствуют с дозревающими и уже созревшими плодами (впрочем, последние, ежели они не растут между строениями, в это время года принято укрывать). Кипарис, это респектабельнейшее дерево, в особенности когда он стар и строен, тоже наводит на различные размышления. В ближайшие дни я побываю в ботаническом саду и надеюсь там многое узнать. Да и вообще ничего нельзя сравнить с той новой жизнью, которою мыслящего человека одаривает знакомство с новой страною. И хотя я остался тем же, кем был, но мне представляется, что я изменился до мозга костей.
На сей раз кончаю, но следующий листок заполню наконец рассказом о бедах, убийствах, землетрясении и несчастьях, дабы помимо света в моих картинах была и тень.
13 декабря.
Как я счастлив, что вы поняли мое исчезновение как должно. Примирите же со мною и тех, кого оно могло больно задеть. Я никого не хотел обидеть, но, увы, мне нечего сказать в свое оправдание. Боже меня упаси, если предпосылки для этого решения покажутся обидными кому-нибудь из моих друзей.
Постепенно я прихожу в себя после моего salto mortale и больше учусь, чем наслаждаюсь. Рим — это целый мир, и на то, чтобы узнать его, потребны годы. Я завидую тем путешественникам, которые глянут и пойдут дальше.
Сегодня утром мне попались под руку письма Винкельмана из Италии… С какой растроганностью начал я читать их! Тридцать один год тому назад, в то же самое время года, прибыл он сюда еще более блаженным глупцом, чем я, и с немецким усердием принялся изучать основное и непреложное в античности и в искусстве. Как рьяно и честно он трудился! И как много здесь значит для меня память об этом человеке.
Помимо созданий природы, правдивой и последовательной во всех своих проявлениях, ничто так внятно не взывает к нам, как наследие хорошего, разумного человека, как истинное искусство, не менее последовательное, чем сама природа.
Одно место в письме Винкельмана к Франкену очень порадовало меня: «В Риме надо ко всему подходить спокойно и с некоторой флегмой, иначе вас примут за француза. Рим, думается мне, высшая школа для всего человечества, меня она тоже просветила и подвергла испытаниям».
Вышесказанное могло бы относиться ко мне, и я не иначе подхожу к тому, что здесь вижу, и, конечно, вне Рима нельзя понять, какую школу здесь проходишь. В Риме ты перерождаешься, прежние понятия делаются тесны тебе, как детские башмачки. Зауряднейший человек здесь становится чем-то или, по крайней мере, приобретает незаурядные понятия, даже если они не входят в его плоть и кровь.
Это письмо вы получите к Новому году, желаю вам всего самого доброго к его началу, а в конце его мы уже свидимся, и какая же это будет радость… Прошлое — самое важное в моей жизни; суждено ли мне умереть в скором времени или нет, его у меня все равно не отнимешь. Еще словечко — для малышей.
Прочитайте или расскажите детям следующее: зимы здесь словно и не бывает, в садах — вечнозеленые деревья, светит и греет солнце, снег виден только на дальних горах к северу от нас. Лимонные деревья, — их здесь сажают под стенами и мало-помалу накрывают тростниковыми циновками, апельсиновые стоят неприкрытые. Сотнями висят на каждом из этих деревьев прекраснейшие плоды, а само дерево не подстрижено и не посажено в кадку, как у нас, оно вольно и радостно стоит в земле среди своих собратьев. Более веселого зрелища, пожалуй, не придумаешь. За скромные чаевые — ешь сколько влезет. Апельсины и сейчас очень вкусные, а в марте будут еще вкуснее.
На днях ездили к морю и попросили рыбаков закинуть невод. Каких только диковин в нем не оказалось: странно-уродливые рыбы, крабы и вдобавок рыбина, которая бьет электрическим током того, кто к ней прикоснется.
20 декабря.
Но что ни говори, все это скорее труд и забота, чем услада. Второе рождение, которое изнутри пересоздает меня, еще не завершилось. Я думал, что кое-чему научусь здесь. Но не предполагал, что должен буду вернуться к своей школьной поре, что мне надо будет от многого отучаться и уж безусловно переучиваться. Теперь, убедившись в этом, я целиком предался занятиям, и чем больше мне приходится себя отрицать, тем больше я радуюсь. Я уподобляюсь зодчему, который, намереваясь, построить башню, заложил негодный фундамент, но вовремя спохватился и охотно крушит то, что уж высится над землей, стараясь расширить свой план, облагородить его, укрепить фундамент, и заранее радуется прочности своего будущего строения. Дай-то бог, чтобы по моем возвращении домой люди ощутили и то нравственное воздействие, которое оказала на меня жизнь в широком мире. Ибо заодно с обновлением восприятия искусства значительнейшее обновление претерпевает и нравственное начало человека.
Здесь доктор Мюнтер, вернувшийся из поездки по Сицилии; это энергичный, пылкий человек, цель его пребывания в Риме мне неизвестна. В мае он будет у вас и многое вам расскажет. Два года он странствовал по Италии и остался недоволен итальянцами за то, что они не очень-то обращали внимание на привезенные им с собой весьма солидные рекомендации, которые должны были открыть ему доступ ко многим архивам и частным библиотекам, так что далеко не все его желания исполнились.
Ему удалось собрать много прекрасных монет, и сверх того он еще является обладателем рукописи, в которой нумизматические сведения систематизированы по образцу Линнеевых. Гердера это, вероятно, заинтересует, может быть, он даже добьется разрешения снять копию. Такая возможность не исключена, и хорошо, если это удастся, — рано или поздно нам все равно придется обратить более серьезное внимание на нумизматику.
25 декабря.
Я уже начинаю вторично осматривать лучшее из того, что видел, ибо прошла пора, когда первые восторги превращаются в радостное созерцание, и высвобождается из пут чистое осознание ценности произведения искусства. Чтобы воспринять наивысшее понятие о человеческих деяниях, душа должна обрести совершенную свободу.
Мрамор удивительный материал, поэтому Аполлон Бельведерский так бесконечно радостен в подлиннике, тогда как высокое дыханье живого, свободного, вечно юного создания тотчас же исчезает даже в наилучшем гипсовом слепке.
Напротив нас, в палаццо Ронданини, имеется маска Медузы, на возвышенно-прекрасном лице которой, больше натуральной величины, поразительно удачно воссоздан предсмертный ужас. Я уже обзавелся хорошим слепком с нее, но от волшебства мрамора в нем ничего не осталось. Благородная полупрозрачность желтоватого, как бы телесного цвета камня исчезла. Гипс ведь всегда походит на мел и кажется мертвым.
И все же какая радость, войдя в мастерскую отливщика, увидеть, как он вынимает из формы отдельные дивные члены статуй, и таким образом получить совсем новые представления о фигурах в целом. Вдобавок здесь видишь вместе все, что разбросано по Риму, и это дает неоценимые возможности сравнения. Я не удержался и приобрел колоссальную голову Юпитера. Удачно освещенный, он стоит насупротив моей кровати, дабы, едва проснувшись, я мог вознести ему свою утреннюю молитву, — впрочем, при всем своем величии и достоинстве, он стал поводом для одной забавной историйки.
Когда моя квартирная хозяйка, уже старая женщина, приходит застилать мою постель, за нею обычно прокрадывается ее любимая кошка. Я сидел в большой комнате и слышал, как старуха возится в спальне. Вдруг она, против обыкновения, стремительно распахнула дверь и крикнула, чтобы я скорее шел посмотреть на чудо. В ответ на мой вопрос, что там такое, она отвечала, что кошка молится господу богу. Она, правда, давно заметила, что разум у малой твари, как у доброго христианина, но все равно — это чудо. Я поспешил собственными глазами взглянуть, что там происходит, и вправду увидел нечто необычное. Бюст Юпитера, срезанный ниже грудной клетки, водружен на высокую подставку, голова кажется вскинутой. Кошка вскочила на стол, уперлась лапками в грудь божества и вытянулась так, что ее мордочка достала до священной бороды, которую она грациозно вылизывала, не обратив ни малейшего внимания ни на возглас хозяйки, ни на мой приход. Я оставил добрую женщину в ее заблуждении, себе же объяснил кошачью молитву тем, что острое обоняние зверька донесло до него запах жира, который из формы попал в завитки бороды и застрял в них.
29 декабря.
Здесь, в квартале художников, чувствуешь себя как в зеркальной комнате, где, хочешь не хочешь, видишь себя и других многократно повторенными. Я заметил, что Тишбейн частенько внимательно меня рассматривает, — оказалось, что он собирается писать мой портрет. Эскиз готов, холст уже натянут. Я буду изображен в натуральную величину, путешественником, который сидит на поверженном обелиске, завернувшись в белый плащ, и разглядывает руины Римской Кампаньи на заднем плане. Наверно, это будет превосходная картина, но слишком большая для наших северных жилищ, я-то уж как-нибудь заберусь туда, а вот найдется ли место для портрета — не знаю.
29 декабря.
Сколько бы ни делалось попыток вывести меня из тени на свет, сколько бы поэты ни читали мне стихов сами или прося об этом других, — так что лишь от меня зависит играть здесь роль или нет, — это не сбивает меня с толку, а разве что забавляет, так как я уже уразумел, к чему сводится жизнь в Риме. Множество разнородных кружков у ног владычицы мира то тут, то там свидетельствуют о провинциальных нравах.
Да, и здесь все как везде, и то, что могло бы случиться со мной или через меня, нагоняет на меня тоску раньше, чем случается. Необходимо примкнуть к какой-то партии, содействовать ей в ее страстях и в ее интригах, хвалить художников и дилетантов, принижать соперников, решительно все сносить от богатых и знатных. Неужто и мне петь в этом всеобщем хоре, от которого хочется сбежать, пусть даже на тот свет, и все без смысла и цели?
Нет, так далеко я заходить не стану, мне бы только вдосталь здесь всего насмотреться, чтобы по возвращении домой испытывать полное удовлетворение и отшибить у себя и у других тоску по этому далекому миру. Я хочу видеть Рим — вечный, а не изменяющийся через каждый десяток лет. Будь у меня время, я нашел бы ему лучшее применение. История читается здесь иначе, чем в любом уголке земного шара. В других местах ее читаешь извне, в Риме кажется, что читаешь изнутри, — все прошедшее теснится вокруг тебя и от тебя же исходит. И это относится не только к римской, но и ко всеобщей истории. Ведь отсюда я могу сопровождать завоевателей до Везера или до Евфрата, а не то, если придет охота, глазеть, стоя на Via Sacre, на возвращающихся триумфаторов; до сих пор я кормился подаянием, а теперь сопричастен всему этому великолепию.
6 января.
Сейчас вернулся от Морица, рука его зажила, и сегодня ему сняли повязку. Она правильно срослась, он может двигать ею. То, что я узнал и чему научился за эти сорок дней в качестве сиделки, исповедника, поверенного, казначея и секретаря у одра страдальца, впоследствии нам пригодится. Трудно переносимые страдания и благороднейшие наслаждения все это время шли бок о бок.
Вчера я потешил свою душу, поставив в зале слепок с колоссальной головы Юноны, оригинал коей находится в вилле Лудовизи. Она была моей первой любовью в Риме и теперь принадлежит мне. Никакие слова не дают представления о ней. Она — как песнь Гомера.
Правда, я и на будущее заслужил эту близость, ибо теперь могу известить вас, что «Ифигения» наконец закончена, иными словами: два ее почти тождественных экземпляра лежат передо мной на столе, и один из них вскоре отправится к вам. Встретьте же его радушно, ведь на бумаге, разумеется, не стоит, что́ я должен был сделать, но угадать, к чему я стремился, — можно.
Вы уже не раз сетовали на темные места в моих письмах, свидетельствующие о гнете, который я испытываю среди того прекрасного, что меня окружает. В этом немало виновата и моя греческая спутница; ибо она понуждала меня действовать, тогда как мне следовало только смотреть.
Мне вспомнился тот достойный друг, который собирался в большое путешествие, вернее было бы сказать: в погоню за открытиями. После того как он несколько лет учился и экономил деньги на эту затею, ему под конец еще вздумалось похитить дочь из некоего знатного семейства, ибо он решил: семь бед, один ответ.
Так же дерзко было с моей стороны взять «Ифигению» с собою в Карлсбад. Сейчас кратко перечислю, где я всего оживленнее с нею беседовал. Покидая Бреннер, я вынул ее из самого большого тюка и оставил при себе. На озере Гарда, когда неистовый южный ветер гнал волны к берегу и где я был ничуть не менее одинок, чем моя героиня на берегу Тавриды, я сделал первые наметки новой редакции и работу над нею продолжал в Вероне, в Виченце, в Падуе, но всего прилежнее — в Венеции. Потом моя работа застопорилась, так как я соблазнился новым замыслом, а именно: написать «Ифигению в Дельфах», за которую я бы и засел немедленно, если бы меня не отвлекали новые впечатления и чувство долга по отношению к первой пьесе.
Зато в Риме я продолжал работу с подобающим постоянством. Вечером, ложась спать, я готовился к своему завтрашнему заданию, а проснувшись, тотчас брался за него. Поступал я очень просто: спокойно переписывал пьесу и читал ее себе вслух — строку за строкой, период за периодом, добиваясь правильного звучания. А что из этого вышло — судите сами. К пьесе прилагаю еще несколько заметок.
10 января.
Итак, отправляю вам мое горемычное дитя, этого эпитета «Ифигения» заслуживает во многих отношениях. Читая ее нашим художникам, я подчеркивал некоторые строки, кое-какие из них исправил по собственному усмотрению, другие — не тронул. Может быть, Гердер захочет внести в них кое-какие поправки. Я уже доработался до полного отупения.
В течение многих лет я предпочитал прозу поэзии потому, что наша просодия витает в совершенной неопределенности, а мои проницательные, ученые, сочувствующие моим трудам друзья предоставляли решение многих вопросов чувству, вкусу, отчего утрачивалась путеводная нить.
Я бы в жизни не отважился переложить «Ифигению» ямбами, если бы «Просодия» Морица не явилась для меня путеводной звездою. Общение с автором, прежде всего во время его болезни, еще больше разъяснило мне ее, и я прошу моих друзей благосклонно все это обдумать.
Примечательно, что в немецком языке очень редко встречаются безусловно короткие или безусловно длинные слоги. В остальном мы обходимся либо в соответствии с нашим вкусом, либо совершенно произвольно. Мориц, однако, докопался до существования определенной иерархии слогов и утверждает, что слог, более значительный по смыслу, в сравнении с менее значительным как бы долог и последний делает кратким, но он может, в свою очередь, сделаться кратким, оказавшись поблизости от слога, наделенного большим смысловым весом. Тут уже есть за что ухватиться, и хотя этим не все исчерпывается, но уже имеется путеводная нить, по которой можно идти вперед. Я нередко руководствовался этой максимой и счел, что она совпадает с моим ощущением.
Поскольку выше я упомянул о чтении «Ифигении», то должен вкратце сказать и о том, чем оно кончилось. Молодые люди, привыкшие к моим прежним, пылким стремительным работам, и сейчас ожидали чего-то берлихингенского и не могли быстро освоиться со спокойной поступью «Ифигении», но все же наиболее благородные и чистьте места произвели на них впечатление. Тишбейн, которому тоже трудно было примириться с почти полным отсутствием страсти, запечатлел на бумаге хорошее сравнение, вернее — символ. Он уподобил эту пьесу жертвоприношению, когда дым из-за давления воздуха стелется по земле, пламя же рвется ввысь. Нарисовано это красиво и многозначительно. Рисунок прилагаю.
Итак, работа, которую я надеялся скоро закончить, на добрую четверть года приковала меня к себе, тешила меня и мучила. Я уже не впервые важнейшее делаю как бы между прочим, так не стоит больше об этом говорить и сокрушаться.
Посылаю вам еще красивый резной камешек — на нем львенок и овод, вьющийся вкруг его носа. Древним нравился этот сюжет, и они часто его повторяли. Мне хочется, чтобы вы впредь запечатывали им свои письма; благодаря этой безделке до меня будет доноситься от вас нечто вроде художественного эха.
19 января.
Итак, великий король, чья слава полнила мир, чьи деяния сделали его достойным даже католического рая, наконец-то приказал долго жить, дабы в царстве теней беседовать с ему подобными героями. Как хорошо бы молчать, когда навеки умолк столь доблестный муж.
Сегодня мы устроили себе прекрасный день, осмотрели часть Капитолия, которой я до сих пор почему-то пренебрегал, засим переправились через Тибр и пили испанское вино на только что причалившем судне. На этом берегу будто бы были найдены Ромул и Рем. Право же, мы вдвойне и втройне чувствовали себя как на троицын день, одновременно опьяненные священным духом искусства, удивительно мягким воздухом, памятью о древних временах и сладким вином.
Рим, 25 января 1787 г.
Мне все труднее давать отчет о своем пребывании в Риме; это как с морем: чем дальше ты входишь, тем глубже оно становится; то же самое испытываю я при осмотре этого города.
Нельзя познать настоящее, не познав прошлого, а для сравнения того и другого требуется много времени и спокойствия. Самое расположение сей столицы мира относит нас ко времени ее созидания. Вскоре мы убеждаемся, что не многолюдное кочующее, хорошо управляемое племя осело здесь, мудро избрав это место для средоточия государства. Не могущественный властитель пожелал тут поселиться. Нет, пастухи и разный сброд первыми уготовили себе здесь пристанище, двое юношей могучего телосложения заложили основания дворцов для повелителей мира на том самом холме, к подножию которого, между болотом и камышовыми зарослями, они были некогда положены ретивым исполнителем чужой воли. Итак, семь холмов Рима — не земляные валы, защищающие его от страны, расположенной за ними, они отгораживают город от Тибра, от древнего его русла, ставшего впоследствии Марсовым полем. Если весна будет способствовать дальним экскурсиям, то я подробнее опишу неудачное расположение столицы мира. Мое сердце доныне преисполнено сочувствия к воплям и отчаянью женщин Альбы, видевших, как сравнивают с землей прекрасное место, выбранное умным предводителем, вынужденных уйти в туманы Тибра, жить на убогом холме Целия и оттуда смотреть на свой потерянный рай. Я еще плохо знаю местность, но убежден, что ни одно поселение древних народов не было расположено хуже, чем Рим, а когда он поглотил все вокруг, римлянам пришлось строить для себя загородные дома на месте разрушенных городов, чтобы жить и наслаждаться жизнью…
28 января 1787 г.
Я непременно хочу сказать здесь несколько слов о двух своих наблюдениях, к которым поневоле ежеминутно приходится возвращаться, так как они многое разъясняют.
Первое: при виде грандиозного, хотя и полуразрушенного великолепия этого города, при виде любого произведения искусства в нем нас одолевает желание узнать, когда же оно возникло. Винкельман учил нас различать эпохи, распознавать стиль, выработанный народами с течением времени, а потом утраченный. Это очевидно каждому любителю искусства. И все мы признаем справедливость и важность такого подхода.
Но как до такого подхода дойти? Подготовки никакой, само понятие правильно и преподнесено отлично, но частности покрыты непроглядным мраком. Нужно долгие годы упражнять свое зрение, а для того, чтобы иметь право спрашивать, нужно немало учиться. Колебаниям, нерешительности тут места нет, вниманье, обращенное на этот важнейший пункт, пробуждено, и каждый, кто принимает его всерьез, видит, что и в этой сфере суждение невозможно, если оно не обосновано исторически.
Второе относится только к греческому искусству и пытается установить, как поступали эти несравненные художники, чтобы из человеческой фигуры создать круг божественных образов, круг вполне завершенный, в котором не забыт ни один из главных богов, равно как боги младшие и посредствующие. Я предполагаю, что греческие художники действовали по тем же законам, что и природа, на след этих законов я уже напал. Правда, есть тут и еще что-то другое, что я не умею передать.
2 февраля 1787 г.
Не пройдя по Риму в полнолуние, нельзя представить себе, как он прекрасен. Все детали поглощены огромными массами света и тени, только грандиозные, только общие картины открыты нашему взору. Вот уже третьи сутки мы здесь сполна наслаждаемся дивными светлыми ночами. Но, пожалуй, всего прекраснее — Колизей. На ночь его запирают, рядом в маленькой церквушке живет отшельник, и нищие ютятся под развалившимися сводами. Они развели костер на земле, и легкий ветерок сперва погнал дым на арену, так что он закрыл всю нижнюю часть развалин, над которыми мрачно вздымаются стены. Прильнув к решетке, мы смотрели на этот феномен, луна стояла высоко и ярко светила. Мало-помалу дым расползся по стенам, по проломам и отверстиям, в свете луны он походил на туман. Зрелище было незабываемо прекрасно. В таком освещении надо бы увидеть Пантеон, Капитолий, преддверие собора св. Петра, другие большие улицы и площади. Итак, у луны и солнца, как и у человеческого духа, здесь совсем иные задачи, чем в других местах, ибо им предстоят гигантские, но все же организованные массы.
16 февраля 1787 г.
О благополучном прибытии «Ифигении» я узнал самым неожиданным и приятным образом. На пути в оперу мне подали письмо, написанное хорошо знакомым почерком, на сей раз вдвойне желанным. Оно было запечатано львенком — предварительное доказательство, что пакет прибыл благополучно. Я протиснулся в залу и среди чужой толпы разыскал себе место под большой люстрой. Тут уж я почувствовал себя в такой близости от друзей, что, казалось, впору вскочить и обнять их. Большое вам спасибо за весть о прибытии «Ифигении», хорошо, если в следующем письме для меня найдутся еще и слова одобрения.
Прилагаю указание, как распределить среди моих друзей экземпляры, которых я жду от Гёшена; хотя сейчас мне и безразлично, как отнесется к моим вещам публика, но друзьям мне все же хотелось бы доставить радость.
Плохо, что я слишком многое предпринял. Как подумаю о четырех моих последних томах вкупе, у меня голова начинает кружиться, — надо подержать в руках каждый в отдельности, так, пожалуй, дело скорее пойдет на лад.
Наверно, было бы лучше, если б я, как хотел вначале, опубликовал все эти вещи в отрывках и бодро, с новыми силами взялся за другие темы, которые сейчас живее меня затрагивают. Ну разве не предпочтительнее было бы написать «Ифигению в Дельфах», чем возиться с причудами Тассо? Но я и в «Тассо» слишком много вложил своего, чтобы от него отступиться.
Я сижу в приемной перед камином, и щедрое тепло хорошо разгоревшегося пламени придает мне отваги начать новый листок. Ведь это же прекрасно, что новые твои мысли преодолевают столь дальнее расстояние, более того — что с помощью слов мне можно перенести к вам все меня окружающее. Погода прекраснейшая, дни заметно увеличиваются, цветет лавр и самшит, миндаль тоже. Сегодня утром меня поразило странное зрелище: издали я увидел деревья, похожие на жерди, но сплошь покрытые лиловыми цветами. При ближайшем рассмотрении это оказалось деревом, в наших теплицах известным как иудино дерево, ботаники называют его cercis siliquastrum. Лиловые его цветы, напоминающие мотыльков, растут прямо из ствола. Прошлой зимой эти жерди были обрублены, а сейчас из их коры тысячами лезут красивые ярко окрашенные цветы. Маргаритки, словно муравьи, усыпали лужайки, крокусы и адонис встречаются реже, но тем они здесь прелестнее и декоративнее.
Сколько же радостей и знаний подарит мне край, еще более южный, и какими выводами меня обогатит! Явления природы все равно, что искусство; сколько о них понаписано, но всякий может изобрести для них новые комбинации.
Когда вспоминаешь картины, изображающие Неаполь, даже Сицилию, или слышишь рассказы об этих краях, поражаешься, что в земном раю с такою силой разверзается вулканический ад, который тысячелетиями страшит и повергает в смятение тамошних жителей и приезжих.
Но я гоню от себя надежду увидеть эти контрастные картины, так как хочу успеть до отъезда наилучшим образом использовать пребывание в Риме.
Вот уже две недели я с утра до вечера на ногах, отыскиваю то, что еще не видел. Наиболее значительное осматриваю во второй и в третий раз, и все понемногу упорядочивается. А когда основное поставлено на свои места, находится местечко и для второстепенного. Мои пристрастия становятся чище, определеннее, и лишь теперь моя душа способна возвыситься до спокойного восприятия подлинно великого.
При этом невольно начинаешь завидовать художнику, которому великие замыслы старых мастеров, благодаря копированию и подражанию, становятся ближе и понятнее, чем тому, кто только созерцает и мыслит. Но в конце концов каждый делает лишь то, на что он способен; итак, я подымаю все паруса моего духа, чтобы обогнуть эти берега.
Сегодня камин хорошо разогрелся, превосходные угли я сгреб в кучку, чего у нас обычно не делают, так как редко у кого есть время и охота посвятить несколько часов внимания огню в камине; и сейчас я хочу, воспользовавшись приятным теплом, спасти несколько заметок из моей записной книжки, уже наполовину стершихся.
Второго февраля мы пошли в Сикстинскую капеллу на освящение свечей. У меня сразу стало тяжело на душе, и вместе с друзьями я поспешил оттуда уйти. Ибо мне подумалось: ведь это те самые свечи, что в продолжение трехсот лет коптят божественные картины, и тот самый ладан, что со святым бесстыдством не только обволакивает это солнце искусства, но год за годом затемняет его, чтобы в конце концов погрузить в кромешную тьму.
Мы долго гуляли на свежем воздухе и пришли к монастырю Сент-Онофрио, где в каком-то углу находится могила Тассо. В монастырской библиотеке стоит его бюст. Лицо — из воска, видимо, это маска, снятая с усопшего. Не очень четкая, местами попорченная, она все же больше, чем любое другое его изображение, передает, какой это был одаренный, тонкий, чувствительный и замкнутый в себе человек.
На сей раз хватит. Надо мне взяться за «Рим», вторую часть достопочтенного Фолькмана, — может, удастся напасть на то, чего я еще не видел. Прежде чем уехать в Неаполь, надо, по крайней мере, снять урожай, а чтобы связать его в снопы, хорошие деньки еще найдутся.
17 февраля.
Погода невероятно, несказанно прекрасна, весь февраль, за исключением четырех дождливых дней, — ясное небо, к полудню даже жарко. В такие дни тянет на свежий воздух, и если до сих пор хотелось заниматься лишь богами и героями, то теперь меня влечет в окрестности Рима, их к тому же красят эти изумительные дни. Иной раз я вспоминаю, как северный живописец тщится извлечь что-то из соломенных крыш и развалин замков, как суетятся художники вокруг какого-нибудь ручейка, кустарника или раскрошившегося камня, стремясь извлечь из них художественный эффект, и я сам кажусь себе чудаком, тем паче что из-за долгой привычки убогие северные представления словно бы прилипают к нам. Но вот уже две недели, как я, набравшись мужества, отправляюсь в путь по горам и долам, взяв с собою лишь маленькие листки бумаги, на которых я, долго не раздумывая, набрасываю небольшие, но истинно южные, истинно римские достопримечательности, и затем уже уповаю, что удастся внести в них свет и тени. Странное дело: можно отчетливо видеть и знать, что хорошо, а что лучше, но только захочешь практически это усвоить, как все словно бы тает у тебя под руками, и мы схватываем не то, что надо, а то, к чему привыкли. Продвинуться вперед можно лишь с помощью регулярного упражнения, но откуда мне, спрашивается, взять время и сосредоточенность. И все же я чувствую, что кое-чего достиг, благодаря страстным двухнедельным усилиям.
Художники охотно меня поучают, так как я быстро все усваиваю, но усваивать еще не значит воплощать. Быстрота понимания — свойство ума, но чтобы создавать как должно, потребно неустанное и непрерывное упражнение.
И все же любитель, как ни слабы его успехи, не должен отступать в испуге. Немногие линии, которые я провожу на бумаге, — часто слишком поспешно, редко правильно, — облегчают мне чувственное представление о виденном, ибо до всеобщего легче возвыситься, когда пристально и остро наблюдаешь вещи.
Нужно только не равняться с художником, а действовать по собственному разумению. Природа позаботилась о своих детищах, существованию самого ничтожного не может помешать даже существование величайшего. И «маленький человек — человек». Этим и будем руководствоваться.
Я дважды видел море, сначала Адриатическое, потом Средиземное, но только как гость. В Неаполе мы сведем с ним более близкое знакомство. Все чувства мои приходят в движение: почему не раньше, почему не столь дорогой ценою? О тысячах предметов совсем новых и по-новому я мог бы вам сообщить!
17 февраля 1787 г.
Вечером, после утихшего карнавального безумия.
Уезжая, я с неохотой оставляю Морица в одиночестве. Он на правильном пути, но без присмотра сразу же постарается нырнуть в свою излюбленную нору. Я уговорил его написать Гердеру, письмо прилагаю и очень хочу, чтобы на него пришел ответ, который сослужит Морицу добрую и полезную службу. На редкость хороший человек, но достиг бы большего, если бы время от времени ему встречались люди одаренные и способные по-доброму разъяснить ему его состояние. В настоящее время он не может завязать отношений более желательных, чем отношения с Гердером, если тот позволит изредка писать ему. Мориц предпринял сейчас весьма похвальное дело — собирание древностей, которое заслуживает поощрения. Наш друг Гердер вряд ли сможет уместнее применить свои усилия и вряд ли найдет почву, в которой его советы дадут лучшие всходы.
Большой портрет, который Тишбейн пишет с меня, уже выступил за пределы холста, — художник поручил умелому скульптору сделать маленькую модель из глины и, весьма изящно, задрапировать ее плащом. Он усердно пишет с нее, так как необходимо, чтобы до нашего отъезда в Неаполь портрет был доведен до известной законченности, а даже на то, чтобы покрыть красками столь большое полотно, потребуется немало времени.
21 февраля 1787 г.
В перерывах между укладкой вещей хочется кое-что добавить. Завтра мы едем в Неаполь. Я радуюсь новому, которое должно быть несказанно прекрасным, и надеюсь среди тамошней райской природы обрести новое ощущение свободы и желанье здесь, в суровом Риме, продолжить изучение искусства.
Укладываться мне нетрудно, ибо я делаю это с более легким сердцем, чем полгода тому назад, когда я расставался со всем, что мне было дорого и мило. Да, вот уже прошло полгода, и из четырех месяцев, прожитых в Риме, я не потерял ни одного мгновения, — это, пожалуй, сильно сказано, но отнюдь не преувеличено.
Что «Ифигения» прибыла, мне известно; хорошо бы, у подножия Везувия меня настигла весть, что встретили ее радушно.
Мне очень важно совершить эту поездку с Тишбейном, который одинаково зорко и проникновенно видит как искусство, так и природу. Впрочем, как истые немцы мы все равно не можем отделаться от планов и видов на работу. Уже закуплена превосходная бумага, на ней мы собираемся рисовать, хотя изобилие, красота и блеск того, что будет нас окружать скорее всего ограничит наши добрые намерения.
В одном я преодолел себя, — из всех поэтических работ беру с собой только «Тассо», с ним у меня связаны разумные надежды. Если бы мне знать, что вы скажете об «Ифигении», ваши слова послужили бы мне путеводной нитью, — это ведь схожие работы, только что тема «Тассо», пожалуй, еще ограниченнее и требует еще более детальной разработки. Не знаю, что из этой пьесы получится; уже написанное я должен уничтожить, слишком долго оно лежало, и ни действующие лица, ни экспозиция, ни самый тон не имеют ничего общего с моими нынешними воззрениями.
Я собираю вещи, и мне под руку попались кое-какие из ваших дружеских писем; перечитав их, я наткнулся на упрек: я-де в своих письмах сам себе противоречу. Я, правда, этого не заметил, потому что незамедлительно отсылал написанное, но вполне вероятно, что так оно и есть. Неведомые силы бросают меня из стороны в сторону, и вполне естественно, что я и сам не знаю, где сейчас нахожусь.
Существует рассказ о некоем лодочнике, застигнутом в море ночной бурей; он силился добраться до родного берега. Сынишка, прижавшийся к нему впотьмах, спросил: «Отец, что это там за смешной огонек, я его вижу то над нами, то вдруг под нами?» Отец пообещал завтра все объяснить ему, но вдруг выяснилось, что это свет маяка, мелькавший то тут, то там перед взором сидящего в лодке, качавшейся на вздыбленных волнах.
Я тоже плыву к гавани по бурному морю и, если сумею уследить за огнем маяка, сколько бы он ни менял положение, то под конец все-таки приду в себя на берегу.
Перед отъездом все былые прощанья, а также грядущее последнее прощанье невольно приходят на ум, и сейчас передо мной острее чем когда-либо встает вопрос: не слишком ли много приготовлений мы делаем для того, чтобы жить; так вот и мы с Тишбейном поворачиваемся спиной к своим сокровищам, даже к нашему малому музею. В нем рядом, для сравнения, уже стоят три Юноны, а мы их покидаем, словно нет у нас ни одной.
ВТОРОЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

НЕАПОЛЬ
Неаполь, 25 февраля 1787 г.
Наконец и сюда добрались благополучно, к тому же при хороших предзнаменованиях. О сегодняшней поездке скажу кратко: из Сент-Агаты выехали с восходом солнца, свирепый северо-восточный ветер все время дул нам в спину. Лишь после полудня он разогнал облака; мы страдали от холода.
Наша дорога опять шла по вулканическим холмам, среди них я как будто различил несколько известковых скал. Наконец мы въехали в долину Капуи, а вскоре и в самый город, где передохнули и пообедали. Под вечер мы увидели красивое плоское поле. Шоссе широко раскинулось меж зеленеющими полями пшеницы, ровной, как ковер, и притом высокой; на других полях рядами рассажены тополя, за их ветви цепляются виноградные лозы. И так до самого Неаполя. Почва, беспримесная и рыхлая, хорошо возделана. Лоза необычно крепкая и рослая, усики ее, как сетка, покачиваются меж тополей.
Везувий, из которого валил дым, все время был по левую руку от нас, я молча радовался, что наконец собственными глазами вижу это чудо. Небо постепенно прояснялось, и напоследок солнце уже вовсю припекало наше тесное жилье на колесах. К Неаполю мы подъезжали при совершенно ясной погоде; теперь мы и вправду очутились в совсем иных краях. Здания с плоскими крышами свидетельствуют, что это уже другая страна света, — внутри они, вероятно, выглядят неуютно. Все высыпали на улицу и греются на солнце, покуда оно светит. Неаполитанец считает себя владыкою рая и северные страны рисует себе весьма мрачно. «Sempre neve, case di legno, gran ignoranza, ma danari assai». Вот их представление о нас. В назидание всем немецким народностям переведу эту характеристику: «Вечный снег, деревянные дома, полное невежество, но денег вволю».
Неаполь — весел, свободен, оживлен, бесчисленное множество людей снует по улицам, король на охоте, королева — в интересном положении, словом — все прекрасно.
Неаполь, 27 февраля 1787 г.
Вчера весь день отдыхал, чтобы избавиться от легкого физического недомогания, зато сегодня наслаждался жизнью, без устали предаваясь созерцанию красоты. Сколько бы ни говорить, ни рассказывать, ни живописать, всего не передашь. Берега, бухты и заливы, Везувий, самый город, его предместья, крепости, увеселительные заведения! Вечером мы еще пошли в грот Позилипо, как раз когда заходящее солнце освещало его с противоположной стороны. Я простил всех, кто теряет голову в Неаполе, и растроганно вспомнил об отце, который до конца своих дней не забывал того, что я сегодня увидел впервые. И если говорят, будто человек, увидавший привидение, никогда уже не будет счастлив, то о моем отце можно сказать обратное, — никогда он не мог стать несчастным, так как мысленно постоянно видел себя в Неаполе. Я, по своему обыкновению, отмалчиваюсь, только пошире раскрываю глаза, когда все вокруг становится прекрасным до безумия.
Неаполь, 1 марта, вечером.
Трудно мне отчитаться в сегодняшнем дне. Кто не знает, что даже беглое чтение захватывающей книги может решительно воздействовать на всю последующую жизнь человека; первое впечатление таково, что повторное чтение и углубленный разбор вряд ли что к нему добавят позднее. Так было у меня в свое время с «Сакунталой», и разве не то же самое происходит при встрече со значительными людьми? Морская поездка до Поццуоли, небольшие прогулки за город, радующие душу странствия по местам, прекраснейшим на свете. Под ясным небом — самая ненадежная земля. Развалины немыслимого благоденствия, поруганные и мрачные. Кипучие воды; бездны; выдыхающие серу горы шлака, который противится всякой растительной жизни; голые, отталкивающие просторы — и в конце концов снова неизменно пышная вездесущая растительность. Она высится над всем омертвелым, густеет вдоль озер и ручейков и в виде великолепнейшего дубового леса взбирается по стенам старого кратера.
Так вот и мечешься между природой и событиями народной жизни. Хочется подумать, но чувствуешь, что думать ты не способен. А меж тем живые живут и веселятся, — впрочем, мы от них не отстаем. А ведь мы просвещенные люди, мы принадлежим к светскому обществу и соблюдаем его обычаи, хотя уже получали предупреждения от суровой судьбы, и вдобавок мы расположены к созерцанию. От безбрежных просторов земли, моря и неба наш взор возвращается к премилой молодой даме, привыкшей и склонной принимать поклонение.
2 марта.
Я поднимался на Везувий в пасмурную погоду, когда вершина его была окутана облаками. В экипаже я доехал до Резины, дальше — на муле между виноградниками, еще выше — пешком по лаве семьдесят первого года, уже покрывшейся тонким, но крепким слоем мха; потом шел вдоль лавы. Хижина отшельника осталась слева от меня. Дальше взбирался по целой горе золы, — пренеприятное занятие! Две трети ее вершины тоже затянуты облаками. Наконец мы дошли до уже заполнившегося водою кратера, обнаружили новую лаву, выброшенную вулканом два с половиной месяца тому назад, и рыхлую, пятидневной давности, но уже застывающую. По ней мы поднялись на только что образовавшийся вулканический холм, он дымился со всех сторон. Дым относило ветром, и мне захотелось подойти к кратеру. В дыму мы прошли шагов пятьдесят, и он так сгустился, что я едва видел свои башмаки. Носовой платок, которым я закрыл лицо, ничуть не помог мне, проводник мой куда-то исчез, ноги неуверенно ступали по раскрошившейся лаве; я счел за благо повернуть назад и отложить вожделенное зрелище до более погожего дня, когда и дыму будет меньше. Все-таки я успел убедиться, как же трудно дышать в такой атмосфере.
Вообще-то вулкан был тих и спокоен. Ни огня, ни гула, ни извержения камней, что имело место все последнее время. Я только произвел рекогносцировку, чтобы при лучшей погоде, по всем правилам, пойти на штурм вулкана.
Кусочки лавы, которые я подобрал, в большинстве были мне известны. Но среди них я открыл и некий феномен, по-моему, весьма примечательный, я хочу получше его исследовать и затем посоветоваться со знатоками и коллекционерами. Это сталактитоподобная оболочка вулканического очага, некогда бывшая сводом, ныне он рухнул, и обломок его торчит из старого, заполнившегося водою кратера. Эта твердая, сероватая, сталактитоподобная порода, думается мне, образовалась благодаря сублимации тончайших вулканических испарений, без воздействия влаги и без плавки. А сие наводит на размышления.
Сегодня, третьего марта, небо серое, дует сирокко, — самая подходящая погода для писания писем.
На смешанную публику, прекрасных лошадей и диковинных рыб я уже насмотрелся вдоволь.
О расположении города и его красотах, часто описываемых и прославляемых, ни слова. «Vedi Napoli e poi muori!»— говорят неаполитанцы. «Увидеть Неаполь и умереть!»
Неаполь, 3 марта.
Посылаю вам несколько густо исписанных страниц, — вести о моем пребывании в этом городе. И еще. Конверт с закоптелым уголком от вашего последнего письма, как свидетельство, что оно и на Везувии было при мне. Только прошу вас, ни во сне, ни наяву не воображайте, что я здесь окружен опасностями; заверяю вас — там, где я брожу, опасности не больше, чем на шоссе к Бельведеру. «Вся земля — господне достояние!» — уместно будет сказать по этому поводу. Я не ищу приключений из любопытства или оригинальничанья, но так как голова моя обычно ясна и я быстро улавливаю свойства того или иного явления, то могу отважиться на большее и больше предпринять, чем другой. Путь в Сицилию ничуть не опасен. На днях в Палермо отбыл фрегат при благоприятном северо-восточном ветре. Обогнув Капри справа, он наверняка дошел туда за тридцать шесть часов. Да и в Сицилии все не так опасно, как это любят изображать на расстоянии.
Землетрясение в Южной Италии здесь не чувствовалось, в Северной на днях пострадал Римини и его окрестности. Удивительно капризное явление природы. Здесь о нем говорят как о ветре, о погоде или, как в Тюрингии, о пожарах.
Я рад, что вы освоились с моей переработкой «Ифигении», но радовался бы еще больше, если бы вы живее почувствовали разницу. Я знаю, что я сделал, и считаю себя вправе говорить об этом, потому что мог бы сделать еще больше. Если радость — наслаждаться хорошим, то еще радостнее воспринимать лучшее, в искусстве же удовлетворяться можно лишь наилучшим.
Неаполь, 5 марта 1787 г.
Я должен, хотя бы кратко, в общих чертах, упомянуть о превосходном человеке, с которым на днях познакомился. Это кавалер Филанджиери, известный своим сочинением о законодательстве. Он принадлежит к тем редкостным молодым людям, которые всегда помнят о счастье человечества и о том, что оно достойно свободы. В повадках Филанджиери узнаешь рыцаря и светского человека, впрочем, все это смягчено тонким нравственным чувством, которое, проникая во все его существо и радуя нам душу, проглядывает во всех его словах и поступках. Он нелицеприятно предан королю и королевству, хотя и не может одобрить того, что там происходит, но, увы, и этого человека гнетет страх перед Иосифом II. Образ деспота, даже только витающий в атмосфере, повергает в трепет благородного человека. Он откровенно сказал мне, чего надо страшиться Неаполю. Любимые темы его разговоров — Монтескье, Беккариа, впрочем, он охотно говорит и о собственных сочинениях, проникнутых тем же духом доброй воли и искреннего молодого стремления ко благу людей. Ему, вероятно, лет тридцать.
Вскоре он ознакомил меня с творениями одного более давнего писателя, в их бездонной глубине новейшие итальянские друзья закона черпают силу и поучение, звать этого писателя Джованни Баттиста Вико, они ставят его выше Монтескье. При беглом знакомстве с книгой, которую они вручили мне как святыню, я отметил, что в ней содержатся сивилловы прорицания добра и справедливости, которые когда-нибудь свершатся или должны были бы свершиться, основанные на преданиях и житейском опыте. Хорошо, если у народа есть такой прародитель и наставник; для немцев подобным законоучителем со временем станет Гаманн.
Неаполь, 6 марта 1787 г.
Хотя и неохотно, а лишь из дружеской преданности, Тишбейн сегодня отправился вместе со мною на Везувий. Художнику, постоянно имеющему дело с прекрасными формами человека или животного, более того, благодаря своему разуму и вкусу умеющему очеловечить бесформенное, как, например, скалы или пейзаж, такое страшное нагромождение бесформенности, каковая вечно сама себя пожирает и воюет со всяким чувством прекрасного, должно показаться омерзительным.
Мы ехали в двух колясках, так как не надеялись самостоятельно выбраться из городской сутолоки. Возницы то и дело кричали: «Берегись! берегись!» — чтобы ослы, нагруженные вязанками дров или мешками с мусором, встречные экипажи, люди, переносящие тяжести или просто гуляющие, дети, старики поостереглись или посторонились и езда быстрой рысью могла бы продолжаться.
Уже дорога через дальние пригороды и сады напоминала царство Плутона. Дождя давно не было, и вечнозеленая листва покрылась толстым слоем пепельно-серой пыли, равно как крыша, междуэтажные карнизы, — словом, все, что являло собою какую-то плоскость, давно посерело, и только дивное синее небо и жаркое солнце свидетельствовали, что мы находимся в царстве живых.
У подножия крутого откоса нас встретили два проводника, один постарше, другой помоложе, оба — дельные люди. Один потащил в гору меня, другой — Тишбейна. «Потащил», говорю я, ибо такой проводник опоясывается кожаным ремнем, за который цепляется путешественник и, влекомый им да еще опираясь на палку, все же на собственных ногах подымается в гору.
Так мы добрались до площадки, над которой высится конус вулкана, а севернее — обломки Соммы.
Взгляд на местность в западном направлении, как целительное купанье, снимает все боли, все напряжение и усталость. Теперь мы уже шли вокруг вечно дымящейся, изрыгающей камни и пепел конусообразной вершины. Покуда было довольно пространства, чтобы оставаться от нее на подобающем расстоянии, это было величественное, возвышающее дух зрелище. Сперва из жерла кратера до нас доносился оглушительный грохот, затем высоко в воздух стали взлетать тысячи камней, больших и малых, окутанных тучами пепла. Большая их часть, падала обратно в жерло. Остальные, раскрошившиеся, относило на внешнюю сторону конуса; опускаясь, они производили странный и громкий шорох: сначала шлепались наиболее тяжелые и, подпрыгивая, с глухим грохотаньем скатывались по склону, за ними с дробным стуком следовали те, что поменьше, под конец же сыпался пепел. Все это происходило через равномерные промежутки, которые мы могли определить, спокойно отсчитывал время.
Однако проход между Соммой и вулканом заметно сузился. Вблизи от нас начался камнепад; обход, предпринятый нами, стал достаточно неприятен. Тишбейн на этой высоте изрядно помрачнел, — видимо, чудовищу показалось мало своего уродства, оно хотело стать еще и опасным.
Но в опасности есть своя прелесть, она пробуждает в человеке дух противоречия, желанье пойти ей наперекор; вот я решил, что в промежутке между двумя извержениями можно добраться до кратера и успеть сойти вниз. Я советовался об этом с проводниками под выступающим утесом Соммы, где мы, в безопасности, подкреплялись взятой с собою провизией. Младший решил пуститься вместе со мной в это рискованное предприятие; мы наполнили свои шляпы полотняными и шелковыми платками и стояли наготове с палками в руках, а я к тому же ухватившись за его пояс.
Мелкие камешки еще стучали вокруг, в воздухе еще носился пепел, но юный силач уже тащил меня по раскаленной осыпи. И вот мы стоим у чудовищной пасти, легкий ветерок отогнал от нас дым, но в то же время застлал жерло, так что дым повалил из тысяч щелей. Когда он на мгновение рассеивался, мы видели потрескавшиеся стенки кратера. Вид их не был ни поучительным, ни отрадным, но именно поэтому мы мешкали, стараясь хоть что-нибудь разглядеть. Об отсчете времени мы и думать позабыли, стоя на самом краю бездны. Вдруг снова раздался неистовый грохот, страшный заряд пролетел мимо; мы невольно пригнулись, словно это могло бы спасти нас от низвергающихся масс; уже застучали мелкие камешки, а мы, не подумав, что сейчас снова наступит перерыв, и радуясь, что избегли опасности, подошли к самому кратеру, хотя пепел еще не перестал засыпать наши шляпы и плечи.
Радостно встреченный Тишбейном, который, впрочем, разбранил меня и этим подкрепил мои силы, я смог уделить больше внимания старым и новым лавам. Пожилой проводник знал годы всех извержений. Старая лава была выровнена покрывавшей ее золой; та, что поновее, в особенности стекавшая медленно, выглядела весьма необычно. Сползая, она, некоторое время, тащила за собою застывшие на ее поверхности массы; заторы, разумеется, были неизбежны, но, приведенные в движение раскаленным потоком, эти массы громоздились друг на друга, застывали причудливыми зубцами, более причудливыми, чем сталкивающиеся льдины. В этой расплавленной дикой мешанине попадались крупные глыбы, которые, если сломать их, на свежем изломе удивительно сходствовали с первичной горной породой. Наши проводники утверждали, что это старейшая глубинная лава, которую изредка выбрасывает гора.
На обратном пути в Неаполь меня поразили одноэтажные домишки необычной постройки — без окон, комнаты освещались только выходящей на улицу дверью. С раннего утра и до поздней ночи обитатели сидят перед этой дверью, покуда не заберутся, наконец, в свои логова.
Вечерний город, суетливый, как днем, но в то же время и по-другому, пробудил во мне желанье побыть здесь еще некоторое время, дабы по мере сил запечатлеть на бумаге сию подвижную картину. Но это дастся мне нелегко.
Неаполь, среда, 7 марта 1787 г.
На днях Тишбейн добросовестно показал и при этом многое поведал мне о значительной части неаполитанских сокровищ. Знаток и отличный художник-анималист, он еще раньше много говорил мне о бронзовой конской голове во дворце Коломбрано. Сегодня мы туда отправились. Этот обломок, установленный прямо против въездных ворот в нише возле фонтана, повергает в изумление. Какое же впечатление должна была некогда производить эта голова в сочетании с туловищем! В целом конь был много больше коней на соборе св. Марка, к тому же здесь мы могли рассмотреть голову ближе, подробнее, а следовательно, лучше узнать и оценить ее силу и все характерное в ней. Прекраснейшая лобная кость, раздувающиеся ноздри, настороженные уши и замершая в неподвижности грива! Могучее существо в сильнейшем напряжении.
Мы повернулись, чтобы получше рассмотреть статую женщины в нише над воротами. Еще Винкельман считал ее изображением танцовщицы, ибо эти артистки умели разнообразнейшими движениями создавать то, что ваятели сберегли для нас в образах окаменелых нимф и богинь. Она легка и прекрасна. Голова была отломана, но потом удачно поставлена на плечи и не повреждена, — право, эта статуя заслуживала бы лучшего места.
Неаполь, пятница, 9 марта 1787 г.
В путешествиях радостно то, что даже самое обыденное, благодаря новизне и неожиданности, приобретает видимость приключения. Воротившись вечером с Капо-ди-Монте, я еще нанес визит Филанджиери. У них на канапе рядом с хозяйкою дома сидела женщина, чья внешность, как мне показалось, не соответствовала доверительно-вольному обхождению и непринужденности, с каковою она себя вела. В легком полосатом шелковом платьице, с мудреной прической, эта маленькая, изящная особа походила на модистку, которая, в заботе о клиентках, поневоле пренебрегает собственной наружностью. Эти девицы так привыкли работать за деньги, что им и в голову не приходит сделать что-нибудь бесплатно для себя. Мое появление не прервало ее болтовни, она продолжала рассказывать разные потешные историйки, случившиеся на днях, вернее, вызванные ее шалостями.
Хозяйка дома, желая и меня приобщить к разговору, сказала несколько слов о красоте Капо-ди-Монте и сокровищах, там имеющихся. Бойкая маленькая особа вскочила с канапе и стоя показалась мне еще милее. Она откланялась, помчалась к дверям и на ходу бросила мне: «Филанджиери на днях у меня обедают, надеюсь и вас увидеть у себя!» По ее уходе я узнал, что она принцесса, состоящая в близком родстве с этим домом. Филанджиери были небогаты и жили скромно. Наверно, и принцесса тоже, подумалось мне, ведь в Неаполе не редкость столь громкие титулы. Я заметил себе имя, день и час, решив непременно в положенное время быть у нее.
Неаполь, понедельник, вечером, 12 марта.
…Чтобы вовремя и не ошибившись домом явиться к удивительной маленькой принцессе, я нанял себе провожатого. Он привел меня к воротам большого дворца. Не предполагая, однако, что жилище ее так роскошно, я еще раз, по слогам, повторил имя принцессы. Провожатый заверил меня, что все правильно. Передо мною был просторный, тихий, чистый и пустой двор, окруженный строениями, не считая самого дворца. Архитектура уже знакомая мне — веселая, неаполитанская, равно как и окраска зданий. Далее: большой портал и широкая пологая лестница. По обе стороны ее стояли лакеи в дорогих ливреях, они низко кланялись, когда я проходил мимо. Я казался себе султаном из Виландовой волшебной сказки и по его примеру решил быть храбрым. Затем меня встретили слуги более высокого ранга, и, наконец, самый почтенный из них распахнул передо мной двери большой залы, и я увидел еще одно помещение, светлое и безлюдное. Спускаясь и поднимаясь по лестницам, я заметил в одной из боковых галерей стол, сервированный человек на сорок, с роскошью, свойственной этому дворцу. Тут вошел священник, принадлежащий к белому духовенству, не спрашивая, кто я и откуда явился, он вступил со мной в непринужденный разговор, словно мы были давно знакомы.
Двустворчатые двери распахнулись, пропуская пожилого господина, и тотчас захлопнулись. Священник поспешил ему навстречу, я тоже, мы приветствовали его несколькими учтивыми словами, на которые он отвечал отрывистыми, лающими звуками, я ни словечка не разобрал из его готтентотского диалекта. Когда он встал у камина, священник отошел в сторонку, я — за ним. В комнате появился статный бенедиктинец, сопровождаемый другим — помоложе; он также приветствовал хозяина, который и его облаял, после чего тот, в свою очередь, ретировался поближе к нам и к окну. Монахи, одетые элегантнее других, пользуются в обществе немалыми преимуществами, — их одежда свидетельствует о смиренном отречении от мира и в то же время сообщает им особое достоинство. Не принижая себя, они умеют казаться раболепными, когда же опять крепко стоят на ногах, им даже к лицу известное самодовольство, вряд ли приемлемое в любом другом сословии. Таков был и этот бенедиктинец. Я поинтересовался Монте-Кассино, он пригласил меня туда, посулив мне наилучший прием. Тем временем зала заполнилась: появились офицеры, придворные, представители белого духовенства, даже несколько капуцинов. Тщетно оглядывался я в поисках хоть одной дамы, но и за таковой дело не стало. Опять открылись и захлопнулись двустворчатые двери. Вошла старая дама, еще постарше хозяина дома; присутствие хозяйки исполнило меня уверенности, что я забрел в чужой дворец и совершенно неизвестен его обитателям. Лакеи уже начали подавать кушанья, я держался поближе к духовным лицам, чтобы заодно с ними проскользнуть в рай великолепной столовой, как вдруг появился Филанджиери с супругой, прося извинить его за опоздание. Почти что вслед за ними впорхнула маленькая принцесса, с реверансами, поклонами, кивками она пролетела мимо всех — прямо ко мне. «Как хорошо, — воскликнула она, — что вы сдержали слово! Садитесь за стол рядом со мной, вам достанутся лучшие кусочки. Погодите минутку, я сейчас сыщу себе хорошее место, и сразу же подсаживайтесь ко мне». Получив такое приглашение, я пошел следом за принцессой, пробиравшейся через толпу гостей, и мы наконец уселись, бенедиктинцы — напротив нас, рядом со мною, с другой стороны, — Филанджиери. «Обед сегодня очень хорош, — сказала принцесса, — кушанья, правда, постные, но изысканные, лучшие я вам укажу: сейчас мне только надо подразнить попов. Я их терпеть не могу; нету дня, чтобы они чего-нибудь не сорвали с нас. Лучше бы мы проели с друзьями то, что имеем!» Разнесли суп, бенедиктинец ел с большим достоинством. «Прошу вас, не стесняйтесь, ваше преподобие, — воскликнула она, — может быть, ложка мала? Я велю принести другую, ведь вы, господа, привыкли к большим порциям». Патер возразил, что в ее доме все всегда великолепно и любые гости — не чета ему — остаются довольны.
Пирожок он взял только один, она через стол крикнула: «Возьмите полдюжины! Ведь слоеное тесто, да будет вам известно, легко переваривается!» Понятливый бенедиктинец, пропустив мимо ушей обидную шутку, взял еще один и поблагодарил хозяйку за милостивое вниманье. Другие, более жесткие изделия из теста снова послужили ей поводом для злой выходки, когда патер подцепил на вилку один кусок, а за ним скатился второй. «Возьмите третий, господин патер, — сказала она, — вы, видно, собрались заложить хороший фундамент!» — «Когда в наличии такие превосходные материалы, — возразил тот, — строить не мудрено». И так все время, паузы она использовала лишь затем, чтобы добросовестно положить мне на тарелку кусочек полакомее.
Между тем я вступил в серьезный разговор с моим соседом. Вообще я ни разу не слышал, чтобы Филанджиери обронил хоть одно пустое слово. В этом смысле, впрочем, и во многих других, он напоминает мне нашего друга Георга Шлоссера, лишь с той разницей, что, будучи неаполитанцем и светским человеком, он по натуре мягче и в обхождении вольнее.
Все это время наша озорная хозяйка не оставляла в покое бенедиктинцев; неисчерпаемым поводом для ее кощунственных и даже безнравственных замечаний явились рыбные блюда, которым по случаю поста был придан вид мясных; больше всего ей нравилось подчеркивать страсть святых отцов к мясному и радоваться, что они могут насладиться хоть формой, если уж сущность запрещена законом.
Я запомнил несколько подобных шуток, но мне недостает мужества воспроизвести их здесь. В жизни, да еще когда такие шуточки произносятся прелестным ротиком, это еще куда ни шло, но написанные черным по белому они, пожалуй, мне бы не понравились. У отчаянной дерзости есть то свойство, что, сказанная в твоем присутствии, она может даже прийтись по душе, так как повергает в изумление, но в пересказе звучит оскорбительно и противно.
Когда подали десерт, я опасался, что так будет продолжаться и дальше; но моя соседка, вполне успокоившись, обернулась ко мне и сказала: «Пускай попы спокойно едят пирожное, все равно до смерти задразнить мне никого еще не удалось, даже испортить им аппетит я не сумела. Ну, а теперь давайте хоть разумным словом перекинемся! Что это за разговор у вас был с Филанджиери? Славный человек, но сколько хлопот он себе доставляет. Я не раз ему говорила: «Вот вы издаете новые законы, а нам приходится прилагать новые усилия, чтобы поскорей научиться их обходить; к старым мы уже привыкли». Посмотрите, как хорош Неаполь. Сколько уж лет люди живут в нем беззаботно и весело, а если изредка кого-нибудь и повесят, то все остальное продолжает идти великолепно». Засим она предложила мне поехать в Сорренто, где у нее большое имение, ее дворецкий будет кормить меня вкуснейшей рыбой и отличной молочной телятиной (типдапа). Горный воздух и божественные виды излечат меня от философствования, а потом она приедет сама, и от многочисленных морщин, которыми я слишком рано обзавелся, не останется и следа. Вместе мы заживем превесело.
Неаполь, 13 марта 1787 г.
Сегодня опять пишу несколько слов, дабы одно письмо подгоняло другое. Мне хорошо, но вижу я меньше, чем должен был бы видеть. Этот город располагает к нерадивости и безмятежной жизни, меж тем общая картина его постепенно для меня завершается.
В воскресенье мы были в Помпеях. Много зла свершилось в мире, но мало такого, что доставило бы великую радость потомкам. Я не припомню ничего более интересного. Дома там маленькие, тесные, но внутри изящно расписанные. Примечательны городские ворота с гробницами возле них. Та, в которой покоится жрица, сделана в виде полукруглой скамьи с каменной спинкой, на ней крупными буквами высечена надпись. За спинкой виднеется море и заходящее солнце. Дивный уголок, достойный прекрасного замысла.
Там нам встретилась веселая и шумная компания неаполитанцев. Народ здесь вообще жизнерадостный и беззаботный. Мы обедали в Torre dell’ Annunziata у самого моря. День был прекрасный, вид на Кастелламаре и Сорренто — близкий и восхитительный. Вся компания превосходно себя чувствовала в родных местах, кто-то заметил, что без вида на море и жить-то невозможно. С меня же хватит того, что запечатлелось в моей душе, и я уже не без удовольствия вернусь в горную местность.
По счастью, здесь живет некий добросовестный пейзажист, который умеет прочувствованно отражать в своих работах изобилие всего, что его окружает. Он уже кое-что сделал по моему заказу.
Продукцию Везувия я тоже основательно изучил; любое явление преображается, когда рассматриваешь его в связи с другими. Собственно, мне следовало бы остаток своей жизни посвятить наблюдениям, я бы сумел разобраться в некоторых явлениях, которые приумножили бы людские знания. Гердеру прошу сообщить, что мои ботанические изыскания идут все дальше и дальше. Принцип остается тем же, но, чтобы его воплотить, требуется целая жизнь. Может быть, мне еще удастся наметить основные линии.
Сейчас предвкушаю радость от музея Портичи. Обычно его осматривают сначала, мы же его осмотрели напоследок. Еще не знаю, что со мною будет дальше: все призывает меня в Рим на пасху. Ну, да будь, что будет. Анжелика начала картину на тему моей «Ифигении»; очень удачная мысль, и она прекрасно с нею справится, изобразив момент, когда Орест приходит в себя рядом с сестрою и другом. То, что эти три действующих лица говорят поочередно, она соединила единовременно в группе, а слова их превратила в жесты. Из этого видно, сколь тонко она чувствует и как умеет использовать то, что относится к ее искусству. Этот момент и вправду стержень всей пьесы.
Будьте здоровы и любите меня! Здесь все добры ко мне, хотя и не знают, как ко мне относиться. Тишбейн больше их удовлетворяет, за вечер он им пишет несколько голов в натуральную величину, они же по этому случаю ведут себя как новозеландцы, вдруг увидевшие военный корабль. Вот вам для примера забавная историйка.
Дело в том, что Тишбейн обладает замечательным даром делать пером наброски богов и героев в натуральную величину или и того больше. Он скупо штрихует контур, а потом широкой кистью умело кладет тени, так что голова мигом становится круглой и выпуклой. Те, кто впервые это видел, изумлялись, до чего же легко у него все получается, и от души радовались. На беду, им до смерти захотелось попробовать самим; они схватили кисть, пририсовали друг другу бороды да еще и лица перепачкали. Разве не сквозит тут первобытное свойство рода человеческого? А ведь это было просвещенное общество в доме хорошего живописца и рисовальщика. Составить себе представление об этих людях невозможно, не видя их.
Казерта, среда, 14 марта.
У Хаккерта в его необыкновенно уютной квартире, предоставленной ему в помещении старого замка. Новый и, уж конечно, грандиозный дворец, наподобие Эскуриала, построен четырехугольником, со множеством дворов, — вид истинно королевский. Расположен он необыкновенно красиво в долине, плодороднее которой, кажется, нет на свете, сады ее тянутся до подножия гор. По акведуку сюда льются целые потоки воды, которая поит дворец и всю округу. Если эту массу воды перебросить на искусственные скалы, образовался бы роскошнейший водопад. Садовые насаждения здесь прекрасны и отлично гармонируют с местностью, которая и сама-то сплошной сад.
Поистине королевский дворец показался мне недостаточно обжитым, а нашему брату гигантские пустынные покои не могут прийтись по душе. Как видно, и королем владеет такое же чувство, ибо в горах строится дом, теснее соседствующий с человеческим жильем и приспособленный для охоты и развлечений.
Казерта, четверг, 15 марта.
Хаккерт живет в старом замке очень домовито, его апартаменты достаточно просторны как для него, так и для гостей. Постоянно занятый рисунком или живописью, он остается общительным, умеет привлекать к себе людей и каждого сделать своим учеником. Меня он тоже покорил терпением к моей беспомощности в его искусстве, в первую очередь настаивая на определенности рисунка и затем уже на его ясности и четкости. Три вида туши стоят наготове, когда Хаккерт работает; он начинает с последнего флакона, потом уже пользуется двумя другими, и вот возникает картина, хотя никому не понятно, откуда она взялась. Если бы так легко было это сделать, как кажется! Мне он со своей обычной решительной откровенностью сказал: «Задатки у вас есть, но применить их вы не умеете. Останьтесь у меня на полтора года, и вы достигнете того, что доставит радость и вам и другим». Разве же это не канонический текст для проповеди всем дилетантам? Посмотрим, будет ли и мне от нее какой-нибудь прок.
Казерта, 16 марта 1787 г.
Неаполь — рай, каждый здесь живет в своего рода хмельном самозабвении. Со мной происходит то же самое, я, кажется, стал совсем другим человеком. Вчера я подумал: либо ты всю жизнь был сумасшедшим, либо стал им нынче. Ездил отсюда на развалины старой Капуи, осмотрел и ее окрестности.
В этих краях только и начинаешь понимать, что такое вегетация и для чего возделывают поля. Лен уже скоро зацветет, а пшеница вымахала в полторы пяди вышиной. Вокруг Казерты — сплошная равнина, поля обработаны чисто и аккуратно, как цветочные грядки. Все засажено тополями, их обвивают виноградные лозы, но, даже несмотря на затенение, земля здесь родит превосходно. Если бы только весна была дружная! До сих пор, хоть солнце и светило вовсю, но дули холодные ветры, — это, видимо, из-за снега на горах.
Через две недели я должен решить — ехать ли мне в Сицилию. Никогда еще я не пребывал в таких сомнениях. Сегодня случается что-то, говорящее мне «поезжай», завтра обстоятельства как бы советуют от поездки воздержаться. Два духа вступили в борьбу за меня.
По секрету моим подругам, друзья этого знать не должны! Странная участь постигла мою «Ифигению»; все привыкли к ее первоначальной форме, всем запали в память выражения, часто слышанные или читанные. Сейчас все звучит по-другому, и я отлично понимаю, что никто не поблагодарит меня за мои нескончаемые усилия. Такая работа, собственно, никогда не бывает завершена, ее можно только объявить завершенной, когда сделано все, что позволило сделать время и житейские обстоятельства.
И все-таки я не побоюсь произвести подобную же операцию над «Тассо». Лучше мне бросить его в огонь, чем отступиться от своего решения, а раз так, то быть ему диковинной пьесой. Поэтому я доволен, что печатанье моих произведений подвигается медленно. Но, с другой стороны, весьма полезно знать, что издалека тебе угрожает наборщик. Странно, конечно, что самое свободное действие нуждается в известном принуждении, даже требует его.
Неаполь 19 марта.
Здесь достаточно просто бродить по улицам, да еще иметь глаза, чтобы увидать неподражаемые картины.
На Моло, самом шумном перекрестке города, я видел вчера Пульчинеллу. На дощатом помосте он ссорился с маленькой обезьянкой, выше, на балконе, прехорошенькая девушка выставляла напоказ свои прелести. Рядом с обезьянкиным помостом какой-то доктор-шарлатан навязывал удрученной и легковерной толпе свою панацею от всех болезней. Напиши такую картину Джерард Доу, она восхищала бы не только современников, но и потомков.
Сегодня праздник святого Иосифа, патрона всех пекарей — пекарей в самом примитивном смысле этого слова. Так как из-под черного кипящего масла все время рвется пламя, в их профессии есть что-то от геенны огненной; поэтому еще вчера вечером они изукрасили дома картинами: душа в огне чистилища, страшные суды тлели и пылали, куда ни глянь. Громадные сковороды стояли перед дверями на наспех сложенных плитах. Один подмастерье замешивал тесто, другой придавал ему форму, вытягивал, лепил из него кренделя и бросал их в кипящий жир. Возле сковороды стоял третий, с небольшим вертелом, он доставал готовые крендели и нанизывал на другой вертел, который держал четвертый, тут же предлагая их столпившимся вокруг. Два последних парня были в белокурых, курчавых париках, здесь это значило — ангелы. Еще несколько парней, дополняя группу, подносили вино работающим, пили сами, кричали, выхваляя товар, впрочем, ангелы и повара тоже кричали что есть мочи. Народ сбегался со всех сторон, — в этот вечер все тестяные изделия продаются со скидкой, а часть выручки даже отдается беднякам.
О таких и подобных сценах можно рассказывать без конца; каждый день какая-нибудь новая выдумка, одна сумасброднее другой, а разнообразие платья на гуляющих и прохожих, а толчея на улице Толедо!
Сколько же оригинальных развлечений, когда живешь в непосредственной близости с народом, а народ здесь до того простой и естественный, что ты и сам становишься таким же. Здесь, например, главная маска — Пульчинелла, Арлекин — тот, можно сказать, родом из Бергамо, так же как Ганс Вурст из Тироля. Местный Пульчинелла, спокойный, неторопливый, как будто бы ко всему равнодушный, довольно ленивый, но тем не менее юмористически настроенный слуга. В Неаполе такие слуги встречаются на каждом шагу. Сегодня меня не хуже Пульчинеллы насмешил наш лакей, а я всего-навсего послал его купить бумаги и перьев. Сначала он не понимал, чего я от него хочу, уразумев наконец, он заколебался, — прелесть, что за сцена получилась из его желанья услужить и его лукавства, такую с успехом можно было бы сыграть на театре.
Неаполь, вторник, 20 марта 1787 г.
Весть о только что начавшемся извержении лавы, которая изливается на Оттаяно, оставаясь невидимой в Неаполе, подстрекнула меня в третий раз подняться на Везувий. Не успел я выскочить из одноколки, как уже показались оба проводника, которые в прошлый раз сопровождали нас на гору. Я ни от одного не хотел отказываться и взял первого по привычке, второго из благодарности, потому что он внушал мне доверие, а обоих вместе — для большего удобства.
Когда мы достигли вершины, один остался стеречь плащи и съестные припасы, младший пошел со мною, и мы храбро зашагали прямо на густой дым, валивший из горы, пониже кратера. Затем мы стали неторопливо спускаться по склону и под ясным небом отчетливо увидали, как из густых клубов дыма изливается лава.
Можно тысячи раз слышать о каком-либо явлении, но своеобразие такового доходит до нас, только когда видишь его воочию. Лава текла узким потоком, футов десять, не шире, но как она текла по сравнительно мягкой и ровной поверхности, выглядело необычно. Сверху и по краям она застывала, отчего образовывался канал, который все время углублялся, лава застывала даже под огненным потоком, который равномерно отбрасывал направо и налево плывущие по нему шлаки, отчего непрерывно росла дамба, и огненный поток устремлялся по ней спокойно, как мельничный ручей. Мы шли вдоль уже изрядно выросшей дамбы, шлаки скатывались по ее стенкам нам под ноги. Через отверстия в канале мы снизу видели, как течет этот поток, а потом наблюдали его сверху.
На ярком солнце раскаленная лава выглядела тусклой, только дым, кстати, не очень густой, подымался в прозрачный воздух. Я очень хотел подойти к тому месту, где лава выбивается из горы; там, по уверениям моего проводника, она тотчас же образует над собою свод и крышу, на которой он не раз стоял. Чтобы увидеть еще и это, мы снова полезли вверх, стремясь сзади подойти к указанной точке. По счастью, сильный порыв ветра все вокруг нее очистил от дыма, — не совсем, конечно, ибо дым валил из тысяч трещин, — и мы стояли сейчас на некоем подобии навеса из взъерошенной, да так и застывшей лавы, далеко выдававшемся вперед, отчего истока лавы нам было не видно.
Мы попытались ступить еще шагов десять — пятнадцать, но почва становилась все более раскаленной; сплошной удушающий дым затемнял солнце. Ушедший было вперед проводник вскоре вернулся, подхватил меня, и мы выбрались из этого адского варева.
Потешив взор вновь открывшимися нам видами и смягчив глотку вином, мы немного покружили, желая посмотреть, какие еще сюрпризы может уготовить эта адская вершина, вздымающаяся над раем. К отдельным жерлам вулкана, которые с силой выбрасывали не дым, а раскаленный воздух, я вновь присматривался с сугубым вниманием. Стенки этих жерл сверху донизу словно бы обиты сталактитоподобным материалом, свисающим в виде сосков или сосулек. Благодаря неровности кратеров, многие из этих продуктов лёсовой пылевой дымки оказались более или менее доступными нам. С помощью своих палок и крюков, которые мы наскоро смастерили, нам удалось выудить некоторые из них.
Великолепный закат и божественный вечер усладили мне обратную дорогу; но при этом я явственно ощутил, какое странное действие оказывают на людей разительные контрасты. От ужасающего к прекрасному, от прекрасного к ужасающему — это взаимное уничтожение, которое в конце концов делает нас безразличными. Конечно, неаполитанцы были бы совсем другими, если бы не чувствовали себя затиснутыми между богом и сатаной.
Неаполь, 22 марта 1787 г.
Не подстегивай меня, немецкий склад ума, потребность в первую очередь учиться и действовать, а потом уже наслаждаться, я бы должен был подольше пробыть в этой школе веселой и легкой жизни и поприлежнее в ней учиться. Жизнью в Неаполе не нахвалишься, но и приспособиться к ней не так-то легко. Местоположение города, мягкость климата — лучше не сыщешь, но это, пожалуй, и все, что здесь предоставляют чужестранцу.
Конечно, тот, у кого много времени, много денег, да есть еще и житейская сноровка, может здесь жить в свое удовольствие. Так, лорд Гамильтон отлично обосновался в Неаполе и на закате своих дней наслаждается жизнью. Комнаты, которые он обставил в английском вкусе, — прелестны, а из угловой открывается вид, поистине неповторимый. Под окном море, напротив — Капри, справа Позилипо и справа же, чуть поближе, аллея Виллы Реале, слева старинное здание иезуитской коллегии, за ним — берег Сорренто вплоть до мыса Минервы. Такого места, пожалуй, во всей Европе не сыщешь, во всяком случае, в центре большого города.
Гамильтон — человек тонкого всеобъемлющего вкуса; познав все царствия подлунного мира, он, наконец, удовлетворился прекрасной женщиной — лучшим творением величайшего из художников.
И вот после всего мною виденного, после стократных наслаждений сирены вновь манят меня за море, и, если ветер будет благоприятный, я покину эти края одновременно с письмом, — оно пойдет на север, я двинусь на юг. Дух человеческий не обуздаешь, мне же просто необходимы дальние странствия. Отныне не столько упорное изучение, сколько быстрое проникновение в предмет должно стать моей целью. Так, чтобы мне только прикоснуться к кончику пальца, а уж всю руку я схвачу с помощью слуха и размышления.
Странным образом на днях один из моих друзей напомнил мне о «Вильгельме Мейстере», требуя от меня продолжения романа; под здешним небом это сделать невозможно, но не исключено, что божественный воздух, который я сейчас вдыхаю, скажется на последних книгах «Мейстера». Может быть, стебель моего бытия вытянется в длину, а цветы распустятся пышнее и прекраснее. И, право же, лучше мне не вернуться вовсе, чем вернуться не возродившимся.
Неаполь, пятница, 23 марта 1787 г.
Отношения мои с Книпом определились и укрепились на вполне практических основаниях. Мы вместе ездили в Пестум, там, как, впрочем, и по дороге туда и обратно, он непрестанно рисовал…
С сегодняшнего дня мы решили жить и путешествовать вместе, так, чтобы он не заботился ни о чем, кроме своего рисования. По очереди правя легкой двуколкой, с простодушным и славным малым на запятках, мы катили по прекраснейшей местности, в которую Книп вглядывался радостным взглядом художника. Наконец мы достигли горного ущелья, промчались через него по отлично накатанной дороге мимо суровых скал и очаровательных, поросших лесом гор. Тут уж Книп не мог удержаться и под Ла-Кава стал решительными, характерными штрихами набрасывать на бумаге склоны, подножия и общие очертания величественной горы, что прямо напротив нас четко вырисовывалась на фоне неба. Мы оба радовались этому рисунку, как свидетельству нашего единения.
Подобный же набросок он сделал вечером из окон в Салерно, тем самым избавив меня от необходимости описывать эту чарующую и плодородную местность. Кто отказался бы здесь учиться в прекрасные времена расцвета Салернской высшей школы? Ранним утром мы поехали по луговым, частенько топким дорогам туда, где виднелись две горы необычно красивой формы. Путь наш лежал через ручьи и реки, нам удавалось заглянуть в кроваво-красные дикие глаза буйволов, похожих на гиппопотамов.
Пейзаж становился все более пустынным и плоским, редкие строения свидетельствовали о скудости сельского хозяйства. Не понимая толком, проезжаем мы мимо отдельных скал или развалин, мы наконец уразумели, что замеченные нами еще издалека продолговатые четырехугольные массивы — руины храмов и памятников некогда пышного города. Книп, еще в дороге сделавший наброски двух известковых кряжей, живо отыскал точку, с которой можно было окинуть взглядом и зарисовать наиболее своеобразное этой отнюдь не живописной местности.
Между тем один из местных жителей, которого я об этом попросил, водил меня по различным зданиям, на первый взгляд вызывавшим только удивление. Я находился в совершенно чуждом мне мире. Ибо столетия, из суровых преобразуясь в изящные, также преобразуют и человека, более того — создают его по своему образу и подобию. В нынешнее время наше зрение, а следовательно, и наша внутренняя сущность привыкли и приспособились к гармонической и стройной архитектуре, так что эти обрубленные конусы тесно сдавленных колонн нам представляются докучными, даже устрашающими. Но я быстро взял себя в руки, вспомнил историю искусства, подумал о духе времени, коему соответствовало такое зодчество, представил себе строгий стиль тогдашнего ваяния и меньше чем через час со всем этим освоился, и даже воздал хвалу гению, позволившему мне воочию увидеть эти так хорошо сохранившиеся останки, о которых по изображениям никакого понятия себе составить нельзя, ибо в архитектоническом разрезе они выглядят более элегантными, в перспективном отдалении более неуклюжими, чем на самом деле. Только бродя вокруг них и среди них, ты сообщаешь им подлинную жизнь; а потом уже чувствуешь ее такой, какую задумал и вложил в них зодчий. В этом созерцании я провел весь день, покуда Книп, не теряя времени, делал точнейшие зарисовки. Как я радовался, что в этом отношении у меня больше не оставалось забот и что у меня будет что вспомнить при наличии стольких зарисовок. К сожалению, нам не представилось возможности здесь переночевать. Мы вернулись в Салерно и на следующее утро своевременно отбыли в Неаполь. Везувий мы увидели с тыльной стороны, высящимся среди плодороднейшей местности; на переднем плане вдоль дороги — гигантские пирамидальные тополя, — ласкающая взгляд картина, которую мы запечатлели, сделав недолгую остановку.
Но вот мы поднялись на небольшую высоту, и величественный вид открылся нам. Неаполь во всей своей красе, ряд домов, на мили растянувшийся по плоскому берегу залива, предгорья, перешейки, скалы, далее острова, за ними море, — прекраснейшее зрелище.
Омерзительное пение, — скорее крик восторга или радостный вой, — стоявшего на запятках паренька меня испугало, прервав течение моих мыслей. Я на него напустился; до сих пор этот добродушнейший малец не слышал от нас ни единого грубого слова.
На несколько мгновений он оцепенел, потом слегка похлопал меня по плечу, просунул между нами правую руку с поднятым указательным пальцем и сказал: «Signor, perdonate! questa è la mia patria!» В переводе это значит: «Простите, синьор! Ведь это моя родина!» Я вторично был повергнут в изумление. И, бедный северянин, почувствовал, как глаза мои увлажнились.
Неаполь, 26 марта 1787 г.
Завтра это письмо из Неаполя отправится к вам. В четверг, двадцать девятого, на корвете, который, по незнанию мореходной науки, в прошлом письме я возвел в ранг фрегата, я отплыву в Палермо. Сомнения, ехать мне туда или не ехать, внесли тревогу в мое пребыванье здесь; теперь, когда я окончательно решился, мне стало легче. Для моего мировоззрения это путешествие целительно, более того — необходимо. Сицилия — предвестник Азии и Африки, шутка ли оказаться в той удивительной точке, где сходятся столько радиусов мировой истории.
С Неаполем я обошелся на его манер; нисколько я там не усердствовал и все-таки многое видел, составил себе общее понятие о стране, ее жителях и условиях жизни в ней. По возвращении мне надо будет кое-что наверстать, увы, только кое-что, ибо еще до двадцать девятого июня я должен снова быть в Риме. Раз уж мне пришлось поступиться святой неделей, я хочу, по крайней мере, отпраздновать там день святого Петра. Поездка в Сицилию не должна очень уж далеко увести меня от моих первоначальных намерений.
Третьего дня у нас была страшная буря с громом, молнией и проливным дождем; сейчас небо опять ясно, дует чудесная трамонтана, если она не утихнет, мы быстро доберемся до Сицилии.
Вчера мой спутник и я осматривали судно, которое повезет нас, и маленькую каюту — наш временный приют. Что такое морское путешествие, я себе даже не представлял. Этот малый переезд, — возможно, мы только обогнем берег, — возбудит мое воображенье, расширит для меня мир. Капитан — человек молодой, жизнерадостный, парусное наше судно, построенное в Америке, выглядит стройным, изящным и надежным.
Неаполь, 29 марта 1787 г.
Несколько дней погода стояла какая-то неровная, сегодня, в день отплытия, ее иначе как прекрасной не назовешь. Благоприятный ветер, ясное небо, манящее вдаль. Еще раз желаю друзьям в Веймаре и в Готе всего самого лучшего! Да сопровождает меня ваша любовь, ибо она везде и всюду нужна мне. Нынешней ночью я видел себя во сне погруженным в обычные дела. Кажется, что свою ладью с фазанами я могу разгрузить только у вас. Лишь бы она была как следует нагружена.
СИЦИЛИЯ
В море, четверг, 29 марта.
На сей раз, увы, дул не свежий и попутный северо-восточный ветер, как при последнем рейсе пакетбота, но тепловатый юго-западный, всего более мешавший нашему отплытию. Так мы узнали, до какой степени мореплаватель зависит от своенравия погоды и ветра. Утро мы в нетерпении провели то на берегу, то в кофейне. В полдень наконец взошли на корабль и при прекрасной погоде насладились великолепнейшим видом. Корвет стоял на якоре неподалеку от Молю. При ярком солнце в воздухе висела дымка, отчего затененные скалы Сорренто казались на диво синими. Освещенный солнцем, весь в движении, Неаполь отливал всеми цветами радуги. Корвет тронулся в путь лишь на закате, да и то очень медленно, встречный ветер относил нас к Позилипо, к самой его оконечности. Ночь напролет наше судно спокойно двигалось своим курсом. Построенное в Америке, оно было быстроходно, внутри имелись удобные каюты и отдельные койки. Общество на нем собралось благоприличное и веселое: оперные певцы и танцоры, подписавшие ангажемент в Палермо.
Пятница, 30 марта.
На рассвете мы находились между Искьей и Капри, приблизительно в миле от последнего. Солнце величественно всходило за горами Капри и Капо-Минерва. Книп усердно зарисовывал очертания берегов и острова в разных ракурсах; медленное продвижение корвета было ему на руку. Судно продолжало свой путь при слабом, почти неприметном ветре. Часов около четырех Везувий скрылся из наших глаз, когда Искья и Капо-Минерва все еще были видны. Но и они под вечер исчезли. Солнце ушло в море, провожаемое пурпурными облаками и сияющей пурпуром длинной-предлинной полосой. Книп и это явление запечатлел на бумаге. Земли тоже не стало видно, горизонт со всех сторон — сплошная водная окружность, а ночь светлая, и все залито лунным светом.
Но я недолго наслаждался этой красотой, так как вскоре почувствовал приступ морской болезни. Спустившись в свою каюту, я принял горизонтальное положение, не ел ничего, кроме белого хлеба, пил только красное вино и в общем чувствовал себя совсем недурно. Оторванный от внешнего мира, я позволил возобладать над собою внутреннему и, в предвиденье долгого плаванья, чтобы заняться чем-то дельным, задал себе достаточно серьезный урок. Из всех бумаг я захватил с собою в плаванье только два первых действия «Тассо», написанных ритмической прозой. Оба эти действия, в смысле плана и развития сюжета, сходны с нынешними, но они были созданы десять лет тому назад и хранили следы какой-то вялости, тумана, которые, впрочем, исчезли, когда я, согласно новым своим воззрениям, во главу угла поставил форму и ритм.
Суббота, 31 марта.
Неомраченное солнце вынырнуло из моря. В семь часов мы поравнялись с французским судном, которое на два дня раньше вышло из Неаполя, — настолько лучше был ход нашего, — и все-таки конца плаванью еще не было видно. Некоторым утешением явился для нас остров Устика, к сожалению, открывшийся нам слева, тогда, как и Капри, он должен был бы остаться справа. Около полудня задул встречный ветер, и мы уже не двигались с места. Море волновалось сильней и сильней, на борту почти все лежали в лежку.
Я тоже не изменил своего ставшего уже привычным положения, вся пьеса была мною продумана вдоль и поперек, от начала и до конца. Часы текли, и я бы даже не замечал их, если бы лукавец Книп, на чей аппетит нимало не влияло бурное море, время от времени принося мне хлеб и вино, злорадно не сообщал, как вкусно они ели и как веселый и бывалый молодой капитан сожалел, что я не участвую в трапезе. Переход от шуток и веселья к дурному самочувствию, а затем и к болезни и то, как это выражалось у того или иного из спутников, тоже давали ему богатый материал для озорных рассказов.
В четыре часа пополудни капитан приказал изменить курс. Подняты были большие паруса, и мы прямиком пошли на остров Устику, за которым с великой радостью увидали наконец горы Сицилии. Ветер переменился, теперь мы быстро приближались к цели. Прошли еще мимо нескольких островов. Закат был хмурый, солнце едва светило сквозь туман. Весь вечер дул попутный ветер. Ближе к полуночи море снова стало беспокойным.
Воскресенье, 1 апреля.
В три часа утра разыгрался шторм. Во сне и в полудремоте я продолжал разрабатывать план своей драмы, а на палубе шла суета. Надо было спускать паруса, судно, казалось, парило на высоких волнах. Перед рассветом буря улеглась, небо прояснилось. Теперь остров Устика находился слева от нас. Нам показали огромную черепаху, плывшую вдалеке, в подзорную трубу мы различили эту живую точку. Около полудня стал ясно виден берег Сицилии с его предгорьями и бухтами, но нас относило ветром, и мы лавировали из стороны в сторону. После полудня мы все-таки приблизились к Сицилии и теперь отчетливо видели западное побережье от Лилибейских предгорий до Капо-Галло при ясном небе и ярко светившем солнце.
Стая дельфинов сопровождала корабль, держась по обе стороны носовой части и обгоняя его. Весело было смотреть, как они то плыли под незамутненными прозрачными волнами, то, выпрыгнув из них, скачками неслись над водой, причем их плавники и бока отливали золотом и зеленью.
Так как попутного ветра все не было, капитану пришлось взять прямой курс на бухту, непосредственно за Капо-Галло. Книп не упустил удобного случая зарисовать, и довольно детально, разнообразные виды. На закате капитан снова направил судно в открытое море и взял курс на северо-восток, чтобы достигнуть широты Палермо. Время от времени я отваживался выходить на палубу, продолжая обдумывать свой замысел, хотя в общем-то уже овладел материалом. Небо, затянутое облаками, и яркий свет луны, отражающийся в море, были незабываемо прекрасны. Художники стараются убедить нас, — вероятно, чтобы усилить впечатление, — будто бы отражение небесных светил в воде всего полнее воздействует на зрителя вблизи, но здесь оно куда ярче было на горизонте, тогда как вблизи от судна кончалось в виде острой пирамиды и утопало в мерцающих волнах. За ночь капитан произвел еще ряд маневров.
Палермо, 3 апреля 1787 г.
…В четверг, двадцать девятого марта, на вечерней заре мы выехали из Неаполя и лишь через четверо суток в три часа дня вошли в гавань Палермо. Прилагаемый маленький дневник в общих чертах поведает вам о наших судьбах. Никогда ни в одно путешествие я не пускался со столь легким сердцем, как в это, и никогда у меня не было так много времени, как в этом удлиненном непрестанным встречным ветром плаванье, хотя первые дни, из-за сильных приступов морской болезни, я вынужден был лежать в тесной своей каютке. Теперь я спокойно переношусь мыслями к вам: ибо если что и имело для меня решающее значение, то именно это путешествие.
Человек, которого не окружало безбрежное море, не имеет понятия ни о мире, ни о своем отношении к нему. Мне как пейзажисту великая и простейшая линия горизонта внушила совсем новые мысли. Во время плаванья мы испытали много интересного и, в малом, разделили участь мореплавателей. Впрочем, устойчивость и удобство судна были выше всяких похвал. Капитан — бравый и очень приятный. Общество — целая театральная труппа — люди воспитанные, терпимые и обаятельные. Художник, который меня сопровождает, — жизнерадостный, преданный, добродушный человек, рисующий с превеликой тщательностью; он набросал контуры всех островов и побережий, по мере того как они попадали в поле нашего зрения; вы, конечно же, порадуетесь, если я привезу все это с собой. К тому же, чтобы сократить долгие часы пребыванья на корабле, он записал для меня технику работы с водными красками (акварелью), в Италии доведенную до очень высокого уровня, вернее, технику их смешения, для того, чтобы получить тот или иной оттенок, — без знания секрета над этим мне пришлось бы биться до конца своих дней. В Риме я, правда, кое-что слышал об акварели, но бессвязно. Художники усвоили это искусство в Италии, в краях, где я сейчас нахожусь.
Словами не опишешь прозрачную дымку, парившую над побережьем, когда мы в прекрасный полуденный час подходили к Палермо. Чистота очертаний, мягкость целого, переходы тонов, гармония неба, моря и земли. Тот, кто это видел, всю жизнь не позабудет. Только сейчас я понял Клода Лоррена и надеюсь, что когда-нибудь на севере мне удастся вызвать в душе тени сей счастливой обители. Лишь все мелкое смылось с нее, как смылась с моих представлений о живописи мелкость соломенных крыш. Посмотрим, на что способна сия царица островов!
Как она встретила нас, словами не скажешь; зеленеющей свежестью тутовых деревьев, вечнозелеными олеандрами, живыми изгородями лимонов. Обширные клумбы лютиков и анемонов пестрели в городском саду. Воздух мягкий, теплый, благоуханный, ветер несет легкую прохладу. А тут еще полная луна вышла из-за мыса и осветила море. Такое наслаждение, после того как нас четыре дня и четыре ночи носило по волнам! Простите за то, что я пишу эти каракули, макая тупое перо в раковину с тушью, из которой мой спутник черпает свои наброски. До вас они дойдут как слабый шепот, а между тем для всех, кто любит меня, я готовлю другой памятник моим счастливым часам. Что это будет — не скажу, когда он до вас дойдет, тоже не могу сказать.
Палермо, четверг, 5 апреля 1787 г.
Мы отправились бродить по городу. Архитектура здесь похожа на неаполитанскую, но общественные строения, к примеру, фонтаны, еще более далеки от хорошего вкуса. Здесь дух искусства не упорядочивает работу, как в Риме, только случайности определяют облик и самое существование творений зодчего. Так фонтан, которым восхищаются все жители острова, вряд ли бы возник, если бы в Сицилии не добывали красивого, пестрого мрамора и скульптор, понаторевший в изображении животного мира, не был бы тогда в фаворе. Нелегкое дело описать этот фонтан. На довольно тесной площади воздвигнуто круглое сооружение, вышиной едва ли не с целый этаж, цоколь, стены и выступы — из нестрого мрамора; в стенах часто-часто пробиты ниши, из которых на длинных шеях высовываются вперемежку беломраморные головы всевозможных животных: лошади, льва, верблюда и слона; трудно догадаться, что за кру́гом этого зверинца находится фонтан, к которому с четырех сторон, через нарочно оставленные отверстия, ведут мраморные ступени, дабы жители Палермо могли брать воду, в изобилии им источаемую.
Нечто похожее происходит и с церквами, которые роскошью превосходят даже великолепные храмы иезуитов, но не преднамеренно и не в силу какого-то принципа, а по чистой случайности, просто потому, что под рукой оказался ремесленник, искусный резчик фигур или гирлянд, позолотчик, лакировщик или мраморщик, который по мере своих способностей и желанья украшал тот или иной уголок церкви — без всякого вкуса и, уж конечно, без какого бы то ни было руководства.
Надо сказать, что такие ремесленники часто выказывали способности к подражанию природе; так, например, головы зверей сработаны очень неплохо. А это всегда вызывает восторг толпы, ибо радость, которую ей дарит искусство, состоит лишь в сравнении копии с оригиналом.
Под вечер у меня завязалось забавное знакомство. Идя по длинной улице, я зашел в одну лавчонку купить кое-какие мелочи. Когда, стоя у прилавка, я разглядывал товар, порыв ветра, довольно умеренный, пронесся вдоль улицы, взметая пыль, засыпавшую все окна и лавки.
«Скажите мне, бога ради, — воскликнул я, — почему ваш город так нечист и почему этой беде нельзя помочь? Ваша улица ни длиной, ни красотой не уступает римскому Корсо. Тротуары на ней из каменных плит, и каждый владелец лавки или мастерской, стараясь содержать свой участок в чистоте, без устали их метет, при этом сметая весь мусор на мостовую, а она с каждым днем становится грязнее и даже при легком ветерке возвращает вам сор, которым вы изукрасили вашу главную улицу. В Неаполе усердные ослики ежедневно свозят мусор в сады и поля, неужто же у вас нельзя придумать чего-либо в этом роде?»
«У нас как заведено, так и остается, — отвечал хозяин, — все, что мы выбрасываем из дому, гниет в одной куче у дверей. Вот поглядите: тут и солома и тростник, кухонные отбросы, словом, любой мусор, все это, ссохшись, возвращается к нам в виде пыли, с которой мы боремся с утра до ночи. Но дело в том, что наши красивые, изящные и прилежные метелки притупляются и в конце концов только увеличивают груды мусора перед домами».
В этой шутке была большая доля правды. Метелочки у них прелестные, сделанные из карликовой пальмы; они, несколько по-другому связанные, могли бы служить веерами, но, увы, очень ломкие, и огрызки их тысячами валяются на улице. На мой повторный вопрос, неужто же нельзя какими-нибудь мерами обороть это бедствие, он отвечал, что в народе поговаривают, будто лица, коим надлежит ведать чистотою города, из-за их высокого положения невозможно принудить расходовать по назначению деньги, положенные на благоустройство. К этому присоединяется еще одно странное обстоятельство: страх, что, когда будут убраны все кучи мусора, обнажится плачевное состояние скрытой под ними мостовой и ответ за нечестное использование денег придется держать уже другим членам магистрата. Впрочем, добавил он с препотешным выражением, это все толки людей неблагонамеренных, он же сам скорее придерживается мнения тех, кто утверждает, будто знать стремится сохранить эту эластичную подстилку для своих карет, чтобы с приятностью совершать традиционные вечерние прогулки. Войдя во вкус, он стал вышучивать еще многие полицейские злоупотребления, утешая меня сознанием, что у людей еще хватает юмора смеяться над тем, что неотвратимо.
Палермо, 6 апреля 1787 г.
Святая Розалия, покровительница Палермо, благодаря описанию ее праздника, сделанного Брайданом, прославилась на весь мир, и я думаю, что моим друзьям будет приятно узнать кое-что о том месте, где ее всего более почитают.
Монте-Пеллегрино — огромная груда скал, не столько высоких, сколько раскинувшихся вширь, — находится на северо-западной оконечности Палермского залива. Он так прекрасен, что словами не скажешь; его изображение, впрочем, далекое от совершенства, имеется в «Voyage pittoresque de la Sicile». Скалы же эти — серые, известняковые остатки далеких времен. Они совершенно нагие — ни деревца, ни кустика, только плоские их части кое-где поросли редкой травой да мхом.
В одной из тамошних пещер в начале прошлого столетия нашли останки святой и перенесли их в Палермо. Они спасли город от свирепствовавшей в нем чумы, и с этого дня Розалия сделалась покровительницей города; в ее честь были воздвигнуты часовни и стали устраиваться блистательные празднества.
Верующие толпами потянулись на Монте-Пеллегрино, для них с огромными затратами была построена дорога, которая, подобно акведуку, покоилась на столбах и арках и шла сверху между двух утесов.
Место поклонения святой — пещера, в которой она некогда укрылась, — куда больше подобает ее смирению, нежели пышные празднества, устраиваемые в память полного отречения святой Розалии от мира. Возможно, что все христианство, которое вот уже восемнадцать столетий зиждет свою власть, свою пышность, торжественные зрелища на нищете своих основателей и ревностных приверженцев, не знает другого святого места, украшенного так простосердечно и так трогательно почитаемого, как это.
Поднявшись на вершину, пилигримы обходят крутой утес, который как бы продолжен монастырем и церковью.
Во внешнем виде церкви нет ни особой привлекательности, ни чего-то многообещающего; дверь вы открываете, многого, собственно, не ожидая, но войдя — замираете в изумлении. Вы попадаете в предхрамие, которое тянется во всю ширину церкви, открытое в сторону главного нефа. Там, как обычно, стоят сосуды со святой водою и несколько исповедален. Неф же представляет собою открытый двор, справа замкнутый обнаженными скалами, слева являющийся продолжением предхрамья. Он вымощен каменными плитами, положенными чуть наклонно для стока воды; более или менее посередине его находится небольшой фонтан.
Сама пещера преобразована в хоры, причем сохранен и ее естественный суровый вид. Туда ведут несколько ступенек: у самого входа стоит аналой с раскрытым служебником, по обе его стороны седалища для клирошан. Свет падает в пещеру со двора и из нефа. В глубине, во мраке, точно посередине, находится главный алтарь.
Как я уже говорил, пещеру оставили без перемен, но со скал капала вода, а священное место должно было оставаться сухим. Это было достигнуто с помощью свинцовых желобов, укрепленных по краям скал и по-разному связанных между собой. Поскольку вверху они широкие, а книзу сужаются и к тому же выкрашены грязновато-зеленой краской, создается впечатление, что пещера изнутри заросла кактусами. Часть воды стекает вбок, часть назад, в большой прозрачный сосуд, откуда верующие черпают ее и пьют от всех недугов.
Так как я пристально все это рассматривал, ко мне подошел священник и спросил, не генуэзец ли я и не желаю ли заказать обедню. Я отвечал, что приехал в Палермо с генуэзцем, который завтра, по случаю праздника, придет сюда. Один из нас всегда должен оставаться дома, поэтому сегодня пришел я, чтобы все хорошенько посмотреть. Он отвечал, что мне предоставляется полная свобода все осматривать и очистить свою душу в молитве. При этом он указал мне на алтарь слева как на святыню наибольшего значения.
Сквозь просветы массивной, отлитой из меди листвы я увидел мерцающие у алтаря лампады и опустился на колени, продолжая смотреть на их колеблющиеся огоньки. За этой оградой имелась еще решетка, сплетенная из тончайшей медной проволоки, так что все, что было за ней, казалось затянутым флером.
Прекрасную женщину увидел я в кротком свете лампад.
Она лежала, как бы в экстазе, с полузакрытыми глазами, уронив голову на правую руку, унизанную кольцами. Я не мог вдосталь на нее наглядеться. Ее одежды из позолоченной жести великолепно воспроизводили золотую ткань. Голова и руки, сделанные из белого мрамора, я не хочу говорить высоким стилем, все же были так естественны и обворожительны, что поневоле верилось, сейчас она вздохнет и пошевелится.
Маленький ангел стоит подле нее с лилией в руках, словно бы навевая на нее прохладу.
Тем временем в пещеру вошли клирошане, расселись по своим стульям и запели вечернюю молитву.
Я сел на скамью насупротив алтаря и несколько минут слушал их пенье; затем снова подошел к алтарю, преклонил колена, пытаясь получше разглядеть прекрасное изображение святой, и предался обворожительной иллюзии этого образа и места.
Пение священнослужителей смолкло в пещере, вода журчала, стекая в сосуд у алтаря, нависшие скалы внутреннего двора и одновременно нефа церкви, казалось, плотно замкнули всю сцену. Великая тишь царила в этой как бы снова вымершей пустыне, великая чистота в дикой пещере, мишура католического, и в первую очередь сицилийского, богослужения, здесь еще более близкая своей первозданной чистоте, иллюзия, которую создавал образ уснувшей прекрасной женщины, чарующая даже для опытного глаза, — словом, я едва заставил себя уйти отсюда и лишь поздней ночью вернулся в Палермо.
Палермо, суббота, 7 апрели 1787 г.
В городском саду возле рейда я проводил в тиши самые радостные часы. Этот сад — удивительнейшее место на свете. Планомерно разбитый, он кажется заколдованным; недавно засаженный — он переносит нас в далекие времена. Зеленые бордюры клумб окружают заморские растения; шпалеры клонящихся лимонников образуют прелестные сводчатые аллеи, ласкают глаз высокие стены олеандров, украшенные тысячами алых, похожих на гвоздики цветов. Неведомые мне деревья, наверно, из более теплых краев, еще лишенные листвы, раскинули причудливые ветви. Скамья, возвышающаяся над ровным пространством, позволяет окинуть взором мудрено переплетающиеся растения и тотчас же влечет его к большим бассейнам; в них грациозно плавают золотые и серебряные рыбки, они то прячутся под поросшими мхом трубами, то собираются в стайки, привлеченные хлебными крошками. Зелень растений — и та непривычна, она либо желтее, либо синее нашей. Самое же несказанное очарованье придает всему плотная дымка, равномерно повсюду распространяющаяся, настолько плотная, что растения или предметы, разделенные лишь несколькими шагами, отличаются друг от друга разве что оттенками голубизны, собственную же свою окраску утрачивают, и все они представляются нашему взору в лучшем случае голубовато-синими.
А какой диковинный вид придавала эта дымка тому, что находилось в отдалении, — кораблям, предгорьям; для глаза художника она была примечательна еще и тем, что позволяла точно различать расстояния, более того, определять их; посему прогулка по возвышенным местам становилась поистине восхитительной. Оттуда уже видишь не природу, а картины, которые искусный художник словно бы покрыл глазурью одного цвета, только что разных оттенков.
Вид этого заколдованного сада глубоко проник в мою душу: волны, чернеющие на северном горизонте, их натиск на извилины бухты, даже своеобразный запах морских испарений — все это оживило в моих чувствах, в моей памяти остров блаженных феакийцев. Я поспешил купить Гомера, перечитал с немалой для себя пользой эту песнь и затем с листа стал читать перевод Книпу, который, право же, заслужил после сегодняшних неустанных трудов хороший отдых за стаканом доброго вина.
Палермо, 8 апреля 1787 г. Пасхальное воскресенье.
Но вот уже рассвет и шумное ликованье по случаю воскресения Христова. Целые ящики петард, ракет, шутих и тому подобного взрываются на папертях, в то время как народ валом валит в распахнутые двери церквей. Колокольный звон, звуки органа, хоровое пение крестного хода и несущиеся ему навстречу из церкви духовные песнопенья могли и вправду оглушить всякого, кто не привык к столь шумному благочестию.
Едва окончилась заутреня, как два разряженных скорохода вице-короля явились в нашу гостиницу с двоякой целью: во-первых, поздравить всех чужеземных постояльцев с праздником и получить на чай, засим пригласить меня отобедать у вице-короля, что, конечно, должно было несколько увеличить размеры моего дара.
После того как я все утро ходил по церквам, вглядываясь в лица и облик людей из народа, мне пришлось еще поехать в палаццо вице-короля, на другой конец города. Так как я явился рановато, большие залы были еще пусты; ко мне подошел только маленький бойкий человечек, в котором я сразу признал мальтийца.
Узнав, что я немец, он осведомился, не могу ли я рассказать ему что-нибудь об Эрфурте, где он с большой приятностью прожил некоторое время. В ответ на его расспросы о семействе фон Дахероде и о коадъюторе фон Дальберге я сообщил ему достаточно подробные сведения; очень довольный, он стал расспрашивать меня и о других тюрингцах, далее поинтересовался Веймаром. «А как поживает тот человек, который в мое время, сам молодой и жизнерадостный, уже задавал тон в этом городе? Я позабыл его имя, но хватит, вероятно, если я скажу, что он автор «Вертера».
После недолгого молчания, когда я вроде бы обдумывал ответ, я сказал: «Человек, которым вы так любезно интересуетесь, это я!» Отпрянув, в явном изумлении, он воскликнул: «О, сколько же перемен произошло с тех пор!» — «Да, — отвечал я, — между Веймаром и Палермо мне довелось претерпеть различные перемены».
В это мгновение вошел вице-король, сопровождаемый своей свитой. Он держал себя с достойной простотою, как и подобает высоким особам. Однако не мог не улыбнуться, слыша, как мальтиец продолжает выражать изумление по поводу встречи со мной. За обедом вице-король, рядом с которым я сидел, расспрашивал меня о целях моего приезда, заверяя, что прикажет ознакомить меня со всеми достопримечательностями Палермо и всячески, мне содействовать во время путешествия по Сицилии.
Палермо, понедельник, 9 апреля 1787 г.
Сегодня весь день наши мысли были заняты сумасбродством князя Паллагониа, но эти его дурачества были совсем другими, чем те, о которых мы читали и слышали. Ведь и при величайшем правдолюбии человек, который пытается рассказать другим о каком-нибудь абсурде, оказывается в затруднительном положении: он силится дать понятие о нем, тем самым придавая абсурду определенное значение, тогда как на самом деле абсурд — пустельга с претензией выдать себя за что-то. Тут я должен предпослать еще одно соображение, а именно: ни самое пошлое, ни самое прекрасное не может непосредственно восходить к одному-единственному человеку, к одной-единственной эпохе, при внимательном отношении и в том и в другом можно проследить родословную.
Пресловутый фонтан в Палермо является одним из предков Паллагониевых неистовств, только что здесь, на родимой почве, все это обрело размеры почти уже чудовищные. Постараюсь проследить, как могло такое возникнуть.
Загородные дворцы в Сицилии стоят обычно посередине имения; подъезжая к ним, едешь мимо возделанных полей, огородов и тому подобных хозяйственных угодий, убеждаясь, что здешние землевладельцы куда более рачительные хозяева, чем северяне, которые на больших участках плодородной земли нередко разбивают парки, стремясь потешить глаз бесполезными насаждениями. Южане — те, напротив, возводят две стены, меж которых гости и едут ко дворцу, не видя, что делается слева и справа. На эту дорогу въезжают через массивные ворота или через большой сводчатый павильон, кончается же она у самого дворца. Но чтобы глаз мог на чем-нибудь отдохнуть, стены эти делаются зубчатыми, а не то кое-где украшаются завитушками или консолями, на которых стоят вазы. Стены оштукатурены, разбиты на поля и покрашены. Дворцовый двор — круг, образуемый одноэтажными домами, где живут челядинцы и работники; четырехугольный дворец возвышается надо всем этим.
Такова традиционная планировка усадеб, вероятно, сохранявшаяся до той поры, когда отец князя построил дворец, проявив хоть и не лучший вкус, но еще сносный. Нынешний же владелец, не пренебрегая основными чертами старого зодчества, дал полнейшую свободу своей тяге к безобразному и пошлому, и, право же, это чрезмерная честь — приписывать ему хоть искорку фантазии.
Итак, мы вступаем в обширный павильон на границе имения и обнаруживаем, что он представляет собою восьмиугольник, непомерно высокий по сравнению с шириной. Четыре чудовищных великана в модных гетрах несут на себе выступ, а на выступе, точно против входа, парит святая Троица.
Дорога к дворцу здесь шире других подобных дорог. Стены как бы превращены в длиннейший и высокий цоколь, который служит пьедесталом для весьма странных скульптурных групп, в промежутках между ними красуются вазы. Уродство этих групп, грубо высеченных простыми каменотесами, приумножено еще и тем, что они сработаны из рыхлого раковинного туфа, — правда, лучший материал, пожалуй бы, только подчеркнул безобразие форм. Выше я сказал «группы», но это выражение неправильное, в данном случае даже неподобающее, ибо такие сочетания фигур возникли не по замыслу и даже не по произволу скульптора, а чисто случайно — что под руку попалось. На четырехугольных пьедесталах, как правило, высятся по три фигуры, их постамент устроен так, что они, стоя в различных позах, занимают весь четырехугольник. Но всего чаще — это две фигуры, и в таком случае постамент занимает лишь переднюю часть пьедестала; в большинстве случаев это чудовища в зверином или человеческом обличье. Но ведь и другая часть не должна пустовать, следовательно, надо приткнуть еще две статуи: одну средней величины, — это обычно пастух или пастушка, кавалер или дама, а не то пляшущая обезьянка или собака. Но пустое место все еще остается: его заполняют карликами, ибо эти уродцы играют чуть ли не главную роль во всех плоских шутках.
Чтобы дать наиболее полное представление об элементах, из коих слагается сумасбродство князя Паллагониа, приведем следующий перечень. Люди: нищие и нищенки, испанцы и испанки, мавры, турки, горбуны, разные калеки и уроды, карлики, музыканты, Пульчинеллы, солдаты в старинных мундирах, боги и богини, мужчины и женщины в старофранцузских нарядах, солдаты с патронташами и в гетрах, мифология с карикатурным гарниром: Ахилл и Хирон с Пульчинеллой. Животные: вернее, отдельные части таковых, лошадь с человеческими руками, лошадиная голова на человеческом туловище, уродливые обезьяны, множество драконов и змей, лапы всех видов в самых нелепых сочетаниях с фигурами, двойники, люди, поменявшиеся головами. Вазы: всевозможные монстры и завитушки, которые в нижней своей части переходят в резервуар и подставку.
Попробуйте представить себе все эти штуки, изготовленные дюжинами, без толка и без смысла, собранные воедино без разбора и без цели, этих уродов на нескончаемо длинном цоколе — и вам неминуемо почудится, что вас прогоняют сквозь строй шпицрутенами сумасшествия.
Мы приближаемся к дворцу, и полукруглый двор простирает нам навстречу свои объятия…
Увы, в самом дворце, внешний вид которого дозволяет предположить и приличное внутреннее устройство, опять уже свирепствует горячечная фантазия князя. У стульев неровно спилены ножки, так что сесть на них — нечего и думать, от других предостерегает кастелян, так как под их бархатную обивку упрятаны колючки. Канделябры из китайского фарфора, стоящие по углам, при ближайшем рассмотрении оказываются склеенными из отдельных чаш, чашек, блюдец и тому подобного. Нигде не сыщется уголка без какого-нибудь нелепого чудачества. Даже несравненный вид поверх предгорья, открывающийся на море, испорчен разноцветными стеклами, которые своей неправдоподобной окраской либо замораживают, либо воспламеняют все кругом. И еще я должен упомянуть об одном кабинете: стены в нем обшиты панелями, нарезанными из старых позолоченных рам. Сотни образчиков резьбы, всевозможные оттенки позолоты старинной и совсем недавней, более или менее пропыленной и попорченной — все это, вместе взятое, производит впечатление кучи старого хлама.
Для того чтобы описать дворцовую часовню, понадобилась бы отдельная тетрадь. Здесь мы находим разгадку всего безумия, которое до такой степени могло разрастись только в ханжеской душе. Что здесь сыщется немало карикатур на ложное направление набожности, вы и сами догадаетесь, но о наиболее ярких я хочу рассказать вам. Вот один из примеров: на потолке укреплено довольно большое плоско прибитое резное распятие, натурально раскрашенное, но залакированное и местами позолоченное. В пуп распятого ввинчен крюк, цепь же, с него свисающая, прикреплена к голове коленопреклоненного молящегося; этот человек, парящий в воздухе, раскрашенный и лакированный, как все иконы в данной церкви, видимо, символизирует непрерывный молитвенный экстаз хозяина дворца.
Вообще-то дворец недостроен: большая зала, задуманная и начатая еще отцом князя и украшенная пестро и богато, но без всякой нарочитой безвкусицы, так и осталась недоделанной, поскольку нынешний владелец в своем безграничном безумии не в состоянии довести до конца свои дурачества.
Книпа, который впал в отчаяние, до такой степени этот сумасшедший дом оскорблял его эстетическое чувство, я впервые увидел нетерпеливым; он стал торопить меня, когда я пытался представить себе, из каких элементов составилось все это безобразие, и даже систематизировать их. Добродушный человек, он под конец еще зарисовал одну из скульптурных групп, единственную, которая создавала какое-то подобие искусства. Она изображает полуженщину-полулошадь, сидящую в кресле напротив кавалера с головой грифона, в пышном парике и в короне, с ногами, обутыми в туфли с пряжками, и играет с ним в карты, — конфигурация, напоминающая герб дома Паллагониа — безумный, но тем не менее примечательный: сатир держит зеркало перед женщиной с лошадиной головой.
Палермо, четверг, 12 апреля 1787 г.
Сегодня вечером сбылось еще одно мое желание, и сбылось весьма своеобразно. Я стоял на тротуаре, у дверей одной из лавок, и перебрасывался шутками с ее хозяином, как вдруг приблизился высокий, хорошо одетый скороход и поспешно протянул мне серебряную тарелку, на которой лежало множество медяков и несколько серебряных монет. Я не понял, что это значит, и пожал плечами, слегка наклонив голову, — движение, как бы говорящее либо: не могу взять в толк, с чем вы ко мне обращаетесь, либо — я не хочу вас слушать. Скороход исчез так же быстро, как появился, и тут я заметил на другой стороне улицы его коллегу за тем же занятием.
«Что все это значит?» — спросил я торговца, который нерешительно, как бы украдкой, указал мне на высокого сухопарого господина в придворном платье, который благоприлично и спокойно шагал по мостовой, скрытой под густым слоем мусора и грязи. Завитой, с напудренными волосами и шляпой под мышкой, в шелковом камзоле, со шпагой на боку, в изящных туфлях с драгоценными пряжками, этот пожилой человек шествовал важно и неторопливо, все взоры были устремлены на него.
«Это князь Паллагониа, — сказал торговец, — время от времени он ходит по городским улицам, собирая деньги на выкуп тех, кто попал в рабство к берберам. Правда, большого дохода уличные сборщики не приносят, но цель их остается в памяти людей, и те, что при жизни были достаточно прижимисты, завещают на благое дело немалые суммы. Князь уже много лет возглавляет это общество, и ему удалось сделать неимоверно много добра».
«Вместо того чтобы творить всевозможные нелепости в своем имении, — воскликнул я, — он бы лучше употребил эти огромные суммы на благо несчастных. Тогда можно было бы сказать: ни один князь на свете не сделал больше добра».
На это торговец отвечал: «Мы же все одинаковы. Щедро тратимся на свои дурачества, а на наши добрые дела предоставляем раскошеливаться другим».
Палермо, 13 августа 1787 г.
Италия без Сицилии оставляет в душе лишь расплывчатый образ: только здесь ключ к целому.
Климат такой, что не нарадуешься. Сейчас период дождей, но они идут с перерывами; сегодня гремит гром, блистают молнии и все вокруг разом зазеленело. На льне местами набухают почки, местами он уже цветет. Глядя вниз, на долины, кажется, что видишь маленькие озера, так прекрасны голубовато-зеленые поля. Сколько же здесь разных прелестей! Мой спутник превосходный человек, настоящий Гоффегут, я же честно продолжаю играть роль Трейфрейнда. Он сделал уже целый ряд отличных зарисовок и еще успеет взять с собой наилучшее. Какая прекрасная перспектива — возвратиться, когда придет время, домой со всеми этими сокровищами!
О еде и питье в Сицилии я еще ничего не сказал, а это тема немаловажная. Овощи здесь — изумительные, в особенности нежнейший салат, по вкусу похожий на молоко; тут начинаешь понимать, почему древние называли его Lactuca. Оливковое масло и вино очень хороши, но могли бы быть еще лучше, если бы их изготовлению уделяли больше внимания. Рыба — самая лучшая и нежная. Последнее время мы ели еще и очень хорошую говядину, хотя вообще-то здешнее мясо особых похвал не заслуживает.
Но хватит об обедах, теперь к окну или на улицу! Преступник получил помилованье по случаю святой недели. Монахи ведут его к бутафорской виселице; там, не всходя на лестницу, он должен сотворить молитву и эту лестницу облобызать, после чего его уводят. Это красивый человек, видимо, принадлежащий к среднему сословию, завитой, весь в белом — белый фрак, белая шляпа в руке, если бы еще украсить его пестрыми лентами, он в обличье пастушка был бы уместен на любом маскараде.
Палермо, 13 и 14 апреля 1787 г.
Итак, на прощанье, мне было суждено странное приключение, о котором я сейчас подробно расскажу вам.
Все время моего пребывания здесь я слышал за табльдотом разговоры о Калиостро, о его происхождении и его участи. Жители Палермо в один голос говорили, что некий Джузеппе Бальзамо, их земляк, из-за разных бесчестных проделок пользовался дурной славой и был изгнан из города. Но вот по поводу того, идентичен ли Бальзамо графу Калиостро, мнения расходились. Некоторые, в свое время видевшие его, утверждали, что не кто другой, как он, изображен на гравюре, у нас достаточно известной и дошедшей до Палермо.
За такими разговорами один из постояльцев сослался на некоего палермского правоведа, потратившего немало трудов на разъяснение этой истории. Французское министерство иностранных дел поручило ему установить происхождение человека, у которого достало дерзости перед лицом всей Франции, более того — всего мира, рассказывать сущие небылицы во время одного важного и чреватого серьезнейшими последствиями процесса.
Вышеупомянутый правовед, продолжал рассказчик, составил родословную Джузеппе Бальзамо, сопроводил ее объяснительной запиской, а также официально заверенными документами и отправил во Францию, где все это, вероятно, будет предано гласности.
Я сказал, что хотел бы познакомиться с ученым юристом, о котором и до этого разговора слышал много хорошего, и рассказчик пообещал свести меня к нему…
…Свидание состоялось, любезный юрист прочитал нам свою объяснительную записку и, по моей просьбе, дал мне ее с собой на несколько дней; она основывалась на свидетельствах о крещении, брачных контрактах и прочих документах, подобранных с величайшей тщательностью. В общем-то в ней содержались те же самые данные (я в этом убедился, перечитав извлечение, тогда же сделанное мною), которые впоследствии стали известны нам из актов римского процесса, а именно, что Джузеппе Бальзамо родился в начале июня 1743 года в Палермо, что восприемницей его была Винченца Мартелло, в замужестве Калиостро, что в юности он вступил в общину Милосердных братьев, монашеский орден, главным образом посвятивший себя уходу за больными, выказал недюжинные способности к медицине, но был исключен из ордена за неблаговидные поступки, а потом, в Палермо, разыгрывал из себя искателя кладов и чародея.
Не пренебрег он и своим исключительным даром воспроизводить любой почерк (гласит все та же записка). Он подделал, вернее, изготовил, документ, согласно которому возникла тяжба из-за нескольких землевладений. По делу началось следствие, он угодил в тюрьму, бежал, но был указом вытребован в суд. Он поехал через Калабрию в Рим, где женился на дочери поясника. Из Рима воротился в Неаполь под именем маркиза Пеллегрини. Потом рискнул вновь появиться в Палермо, был узнан, вторично брошен в тюрьму и выкарабкался оттуда таким способом, о котором, право же, стоит рассказать поподробнее.
Отпрыск одного из первых княжеских домов Сицилии, сын богатейшего землевладельца, занимавшего видные должности при неаполитанском дворе, подлинный маркиз Пеллегрини сочетал в себе физическую мощь с необузданным нравом и заносчивостью, которую позволяют себе люди богатые и знатные, но темные по самой своей сути.
Донна Лоренца сумела завлечь его, а самозванный маркиз Пеллегрини таким образом обеспечил себе безопасность. Князь, не скрываясь, оказывал покровительство приезжей чете, но в какую же он впал ярость, когда Джузеппе Бальзамо на основании апелляции стороны, пострадавшей от его обмана, снова очутился в тюрьме! Он пускал в ход любые средства, добиваясь его освобождения, но когда все оказалось тщетным, пригрозил в приемной председателя суда жестоко расправиться с адвокатом противной стороны, если тот не сумеет добиться немедленного освобождения Бальзамо. Адвокат отказался, князь схватил его, избил, потом бросил наземь и стал топтать ногами, он бы обошелся с ним еще жестче, если бы на шум не явился сам председатель суда, приказавший всем немедленно разойтись.
Однако последний, человек слабый и зависимый, не осмелился покарать обидчика; противная сторона и ее поверенный проявили малодушие, и Бальзамо опять оказался на свободе, причем в «Деле» вообще нет отметки ни о его освобождении, ни о том, по чьему приказу и как оно совершилось.
Вскоре он уехал из Палермо и пустился в путешествия, но о них составитель записки ничего, собственно, сообщить не мог.
В конце этого документа остроумно доказывалось, что Калиостро и Бальзамо одно и то же лицо, теза, которую в то время труднее было отстаивать, чем теперь, когда нам досконально известна связь всех событий.
Если бы я в ту пору не имел основания предполагать, что во Франции сия записка уже предана гласности, и более того, что по возвращении я увижу ее напечатанной, я бы, конечно, испросил дозволения снять с нее копию и раньше бы ознакомил моих друзей, а также широкую публику с разными интересными подробностями.
Между тем мы узнали очень многое, больше, чем могло бы содержаться в памятной записке, из источника, откуда обычно проистекают только неверные сведения или ошибки. Кто бы мог подумать, что Рим нежданно-негаданно столь многое сделает для того, чтобы просветить человечество и разоблачить обманщика, как это произошло благодаря опубликованию сего «Извлечения из «Дела»! Конечно, этот труд мог и должен был быть много интереснее, тем не менее он остается ценнейшим документом в руках любого разумного человека, который вынужден был с огорчением наблюдать, как обманутые, и лишь отчасти обманутые, и, наконец, обманщики, годами с почтением относившиеся к этому человеку и его шарлатанству, были уверены, что близость к нему возвышает их над прочими, и с мнимой высоты своего мракобесия жалели здравомыслящих людей, а не то и презирали их.
Узнав из родословной, что кое-кто из близких ему людей, а именно мать и сестра, еще живы, я сказал автору «Памятной записки», что очень хотел бы повидать родных этого странного человека. Он отвечал, что устроить эту встречу будет нелегко, ибо люди это бедные, но весьма порядочные, живут очень замкнуто, к визитерам не привыкли, и мое появление, с подозрительностью, свойственной итальянцам, могли бы истолковать неправильно. Но он все же пришлет мне своего писца, который бывает у них в доме, кстати сказать, через него-то он и получил сведения и документы, на основании которых ему и удалось составить родословную.
На следующий день писец явился ко мне и высказал некоторые сомнения относительно моего замысла. «До сих пор, — сказал он, — я старался не попадаться им на глаза, так как, чтобы заполучить их брачные контракты, свидетельства о крещении и прочие документы и снять с них официально заверенные копии, мне пришлось прибегнуть к хитроумной уловке. Улучив подходящий момент, я заговорил об освободившейся где-то так называемой «фамильной стипендии», намекнул, что юный Капитуммино вправе на нее рассчитывать, но прежде всего надобно составить родословное древо, чтобы выяснить, может ли мальчик на таковую претендовать. Дальше, конечно, придется весьма энергично вести переговоры, что я и буду делать, если мне обещают за мои труды вознаграждение, приличествующее той сумме, которая будет им причитаться. Добрые люди с радостью на это согласились и вручили мне нужные бумаги. Копии были сняты, генеалогическое древо разработано; с тех пор я не решаюсь показаться им на глаза. Некоторое время тому назад я столкнулся со стариком Капитуммино и в свое оправданье сослался на чрезвычайную медлительность, с каковою здесь вершатся подобные дела».
Так мне сказал писец. Я, однако, не отступался от своего намерения, и после некоторого раздумья мы решили, что, выдав себя за англичанина, я сообщу семейству вести о Калиостро, который, выйдя из Бастилии, сразу же уехал в Лондон.
В условленное время, — было около трех часов пополудни, — мы пустились в путь. Дом стоял в углу переулочка, неподалеку от главной улицы, так называемого Il Cassaro. Мы поднялись по шаткой лестнице и сразу оказались в кухне. Какая-то женщина среднего роста, крепкая и широкая, но не толстая, мыла кухонную посуду. Одета она была чисто и при нашем появлении завернула один конец передника, чтобы мы не видели его испачканной стороны. Радостно глянув на моего проводника, она сказала: «Синьор Джованни, надеюсь, вы к нам с добрыми вестями? Добились ли вы толку?»
Он отвечал: «В нашем деле мне, увы, еще ничего не удалось добиться, но вот чужестранец, который привез вам привет от вашего брата и может рассказать, как он сейчас живет».
Привет, который я будто бы должен ей передать, не входил в наш предварительный уговор, но так или иначе начало было положено. «Вы знаете моего брата?» — воскликнула она. «Его знает вся Европа», — ответил я. «Войдите, пожалуйста, — сказала она, — я сейчас последую за вами». И мы с писцом вошли в комнату.
Она была так велика и высока, что у нас считалась бы залой, но эта зала, видимо, являлась жилищем всей семьи. Одно-единственное окно освещало огромные выцветшие стены, увешанные почерневшими ликами святых в золоченых рамах. Две широкие кровати без пологов стояли вдоль одной стены, коричневый шкафчик, похожий на письменный стол, — у другой. Рядом с ним — старые стулья с плетеными камышовыми сиденьями и некогда позолоченными спинками. Выложенный кирпичами пол в ряде мест был так вытоптан, что в нем образовались углубления. Впрочем, все выглядело опрятно, и мы приблизились к семейству, собравшемуся у единственного окна.
Покуда мой проводник объяснял сидевшей в углу добродушной старухе Бальзамо причину нашего посещения, из-за ее глухоты многократно и громко повторяя каждое слово, я успел получше разглядеть и комнату, и других членов семьи. Высокая девушка лет шестнадцати стояла у окна, черты ее лица были как бы стерты следами оспы, рядом с нею молодой человек, чье неприятное да еще изуродованное оспой лицо сразу бросилось мне в глаза. В кресле у окна сидела, вернее, лежала больная и какая-то бесформенная особа, казалось, погруженная в спячку.
После того как мой проводник объяснил, кто мы такие, нас заставили сесть. Старуха задала мне ряд вопросов, но я вынужден был попросить перевести их, так как иначе не мог бы ей ответить, ибо недостаточно знал сицилианский диалект.
Меж тем я с удовольствием смотрел на эту старую женщину. Среднего роста, она была хорошо сложена, правильные черты ее лица, не искаженные старостью, дышали покоем, который обычно свойствен людям, лишившимся слуха; голос ее звучал мягко и приятно.
Я отвечал на ее вопросы, и мои ответы ей тоже переводили.
Медленность такой беседы позволяла мне взвешивать каждое свое слово. Я рассказывал, что ее сын, выпущенный из заточения во Франции, в настоящее время находится в Англии, где его встретили вполне гостеприимно. Радость, вызванная в ней этими вестями, сопровождалась набожными восклицаниями; говорила же она сейчас несколько громче и медленнее, так что я лучше ее понимал.
Немного погодя вошла ее дочь и подсела к моему провожатому, который точно повторил ей все, что я рассказал. Она подвязала чистый передник и аккуратно запрятала волосы под сетку. Чем больше я на нее смотрел, тем разительнее уяснялось мне ее несходство с матерью. Живость и здоровая чувственность проступали в обличье дочери; ей было лет под сорок. В умном и бодром взгляде ее синих глаз не было и следа подозрительности. Сидя она казалась выше ростом, чем поднявшись, при этом в самой ее позе выражалось смиренное достоинство; она склонилась вперед всем корпусом и сложила руки на коленях. Вообще же черты ее лица, скорее туповатые, чем заостренные, напоминали мне портрет ее брата, известный нам по гравюре на меди. Она расспрашивала меня о моем путешествии, о намерениях поближе ознакомиться с Сицилией, уверенная, что я вернусь и вместе с ними буду праздновать день святой Розалии.
Так как в это время старушка снова задала мне несколько вопросов, то, покуда я отвечал ей, дочь вполголоса говорила с моим спутником, но так, что я мог себе позволить осведомиться, о чем, собственно, идет речь. Синьора Капитуммино, отвечал он, говорит, что брат по сей день должен ей четырнадцать унций золота, — при его спешном отъезде из Палермо она выкупила из заклада его вещи. И с тех пор не имела от него ни вестей, ни денег, ни какой-либо поддержки, хотя до нее дошли слухи, что он сейчас очень богат и живет как вельможа. Так вот не возьму ли я на себя труд по возвращении учтиво напомнить ему о долге и исхлопотать для нее поддержку, — словом, не соглашусь ли я взять с собою письмо или хотя бы переслать таковое. Я сказал, что готов к услугам. Она спросила, где я живу и куда ей направить письмо. Мне не хотелось давать свой адрес, и я предложил завтра вечером зайти за ним.
Она не скрыла от меня трудности своего положения — вдова с тремя детьми: одна дочь воспитывается в монастыре, другую я видел, она сейчас дома, сын пошел на урок. Кроме троих детей, на ее иждивении мать, и еще она из чисто христианских побуждений взяла в дом несчастную больную женщину, чем увеличила свои тяготы; трудясь с утра до ночи, она едва-едва может обеспечить себе и своей семье самое необходимое. Конечно, она знает, что господь воздает человеку за его добрые дела, но все же задыхается под бременем, которое несет уже так долго.
Разговор оживился, когда в него вмешалась молодежь. Беседуя с ними, я услышал, как старуха спрашивает дочь, исповедую ли я их религию, и отметил, что та разумно старается уклониться от ответа, насколько я понял, объясняя матери, что приезжий, видимо, расположен к ним и негоже задавать такие вопросы малознакомому человеку.
Услыхав, что я намереваюсь вскоре покинуть Палермо, они стали настойчиво меня уговаривать снова сюда вернуться, на все лады восхваляя блаженные дни святой Розалии, празднества больше нигде в мире не виданного и не слыханного.
Спутник мой, давно уже стремившийся уйти, жестами дал мне понять, что пора прекратить болтовню. Мы поднялись, и я пообещал завтра под вечер зайти за письмом. Он откровенно радовался, что все сошло так гладко, и мы расстались довольные друг другом.
Нетрудно себе представить, какое впечатление произвела на меня эта бедная, благочестивая и симпатичная семья. Любопытство мое было удовлетворено, но их естественное и достойное поведение возбудило во мне участие, возраставшее по мере того, как я о них думал.
С другой стороны, меня тревожил завтрашний день. Естественно было предположить, что мой неожиданный приход, заставший врасплох всю семью, потом наведет их на некоторые размышления. Из родословной мне было известно, что живы еще многие родичи, и будет вполне понятно, если они созовут родню и друзей, чтобы в их присутствии заставить меня повторить то, что они с таким удивлением выслушали накануне. Свои намерения я осуществил, и мне оставалось только достойно завершить авантюру. Посему назавтра я, сразу же после обеда, один пошел к ним. Мое появление их удивило. Письмо еще не готово, сказали они, а кое-кто из родственников очень хочет со мной познакомиться. Они придут вечером.
Я отвечал, что завтра должен уехать с самого утра, а мне еще необходимо сделать несколько визитов и уложить вещи, поэтому-то я и пришел раньше времени.
Тут как раз появился сын, которого я не застал вчера, ростом и телосложением похожий на сестру. Он принес письмо, которое они хотели передать через меня, написанное, — здесь это очень принято, — уличным нотариусом. Юноша, выглядевший тихим, печальным и скромным, стал расспрашивать меня о дяде, о его богатстве, его расходах и грустно добавил: почему же он совсем забыл свою семью? «Для нас было бы величайшим счастьем, — сказал он еще, — если бы он приехал сюда и проявил к нам хоть немного участия, но как это, — продолжал юноша, — он не скрыл от вас, что у него есть родня в Палермо? Говорят, он повсюду от нас отрекается и выдает себя за отпрыска знатного рода». На этот вопрос, вызванный оплошностью моего проводника при первом нашем появлении, я отвечал, что даже если у его дядюшки в данное время имеются причины скрывать свое происхождение, то для друзей и близких знакомых он из этого тайны не делает…
Меж тем старуха читала и перечитывала письмо. Заметив, что я собираюсь откланяться, она поднялась и вручила мне сложенный листок. «Скажите моему сыну, — начала она с благородной живостью, я бы даже сказал вдохновенно, — какой счастливой сделала меня весть о нем, которую вы мне принесли! Скажите, что я прижимаю его к своему сердцу вот так, — она развела руки и снова соединила их на груди, — скажите, что я каждый день возношу за него молитвы Спасителю и пресвятой деве, что я благословляю его и его жену и хочу лишь одного — перед смертью увидеть сына, увидеть вот этими глазами, пролившими из-за него столько слез».
Природное изящество итальянского языка благоприятствовало выбору и расстановке этих слов, к тому же сопровождавшихся выразительными жестами, которые придают такую неизъяснимую прелесть итальянской речи.
Я простился с ними не без растроганности. Все они пожимали мне руки, дети проводили меня и, покуда я спускался по лестнице, выскочили на галерейку, которая из кухни вела на улицу, что-то кричали мне вслед, махали руками, просили не забыть их на обратном пути. Они еще стояли на галерее, когда я поворачивал за угол.
Стоит ли говорить, что участливое чувство к этой семье пробудило во мне живейшее желанье быть им полезным, прийти на помощь в их нужде. На сей раз я, однако, злоупотребил их доверием, и вот из-за любопытства северной Европы надежды этих несчастных людей на нежданную помощь обречены были рухнуть вторично.
Первым моим намерением было еще до отъезда возместить те четырнадцать унций золотом, которые задолжал им беглец, и прикрыть свой подарок словами, что я надеюсь получить с него эту сумму. Однако, придя домой, я подсчитал свою наличность, проверил все бумаги и понял, что в стране почти полного бездорожья расстояния вырастают до бесконечности, и я могу очутиться в весьма затруднительном положении, если попытаюсь своим благодушием исправить недостойный поступок наглеца.
Вечерком я зашел к своему торговцу и спросил: как, по его мнению, будет протекать завтрашний праздник, когда большая процессия растянется на весь город и сам вице-король пешком пойдет за святыней? Ведь даже малый порыв ветра окутает и бога и людей плотными тучами пыли.
Бойкий человечек отвечал, что жители Палермо привыкли уповать на чудо. Сколько уж раз в подобных случаях начинался проливной дождь и смывал грязь с улиц, большей частью наклонных, очищая дорогу процессии. Сегодня тоже надеются на такой оборот событий, тем паче что тучи заволакивают небо и сулят ночной дождь.
Палермо, воскресенье, 15 апреля 1787 г.
Так оно и случилось.
Ночью на город, казалось, обрушились хляби небесные. Утром, едва проснувшись, я ринулся на улицу, стремясь стать свидетелем чуда, и вправду увидел нечто странное. Дождевой поток, зажатый между каменными тротуарами, унес мелкий мусор вниз по наклонной улице к морю и к сточным ямам, которые еще не были им забиты, мусор более крупный ливнем смело с одного места на другое, отчего на мостовой образовались чистые извилистые прогалины. На улицы вышли сотни, а может, и тысячи людей с лопатами, метлами и вилами, чтобы расширить и продолжить чистые полосы, сгребая оставшийся мусор в кучи по обе стороны улицы. Следствием этого было то, что процессия сразу же двинулась по чистой дороге, змеившейся среди болота, так что духовенство в длинных одеждах, а также изящно обутая знать с вице-королем во главе уже шествовали спокойно, не боясь забрызгаться грязью. Мне казалось, что я вижу сынов Израиля, которым рука ангела уготовила сухую тропу среди трясин и топей, и эта притча облагородила для меня пренеприятный вид целой толпы благочестивых и благоприличных людей, празднично одетых и с молитвами на устах шествующих по аллее, образуемой грудами липкой грязи.
Тротуары по-прежнему оставались чистыми, но подальше, в самый город, куда нас именно сегодня повлекло желание посмотреть то, что мы упустили, пробраться было невозможно, хотя и здесь весь мусор был убран и сметен в кучи.
В связи с этим празднеством нам представился случай посетить главную церковь и ознакомиться с ее достопримечательностями, а раз уж мы пустились в путь, то бегло осмотрели и еще несколько зданий. Большое впечатление на нас произвел хорошо сохранившийся дом в мавританском стиле — небольшой, но с просторными, на редкость гармоническими и пропорциональными комнатами; в северном климате он вряд ли бы оказался пригодным для жилья, в южном — так и манил к отдохновению. Надеюсь, что те, кто сведущ в архитектуре, сделают для нас его чертеж в разрезе.
Вдобавок в каком-то мрачном углу мы обнаружили обломки античных мраморных статуй, но разобрать, что там и к чему, так и не удосужились.
Палермо, понедельник, 16 апреля 1787 г.
Так как мы теперь сами угрожаем себе предстоящим вскоре отъездом из этого рая, то я надеялся еще сегодня найти утеху в прогулке по городскому саду, где собирался прочитать урок, который задал себе, — отрывок из «Одиссеи», а затем в долине, у подножия горы Св. Розалии, хорошенько обдумать дальнейший план «Навзикаи» и решить, возможно ли выявить драматическую сторону этого сюжета. Все это я и проделал если не очень удачно, то, во всяком случае, с большим удовольствием. Я наметил план и не удержался от того, чтобы не набросать и не разработать некоторые места, показавшиеся мне наиболее привлекательными.
Палермо, вторник, 17 апреля 1787 г.
Беда, если человека преследуют и вводят в соблазн самые разные духи! Сегодня поутру, когда я отправился в городской сад с твердым намерением и дальше спокойно заняться воплощением моих поэтических замыслов, меня нагнал другой призрак, в последние дни кравшийся за мной. Множество растений, которые я всегда видел в кадках или горшках, а большую часть года даже за стеклами теплиц, здесь свежо и весело растут под открытым небом и, выполняя истинное свое предназначенье, становятся нам понятнее. Перед лицом стольких новых и обновленных формаций мне вспомнилась старая моя мечта: а вдруг мне удастся в этой пестрой толпе обнаружить прарастение? Должно же оно существовать! Иначе как узнать, что то́ или иное формирование — растение, если все они не сформированы по одному образцу?
Я тщился выяснить, в чем состоят отклонения от общей формы. И всякий раз находил больше сходства, чем различия, а когда я применял здесь свою ботаническую терминологию, это мне вроде бы и удавалось, но практических результатов я не видел; меня это раздражало, ведь вперед я все равно не двигался. Мои благие поэтические намерения рушились, сад Алкиноя исчез, передо мною открылся сад вселенной. Почему мы, люди новейшего времени, так не сосредоточенны, что заставляет нас ставить себе требования, которые мы не в силах выполнить?
Алькамо, четверг, 19 апреля 1787 г.
Уютная квартира в тихом горном городке привлекла нас, и мы приняли решение провести здесь весь день. Но поговорим сначала о вчерашних событиях. Я и раньше ставил под сомнение оригинальность князя Паллагониа; у него имелись предшественники, и образцы он тоже использовал. По пути в Монреале два чудища сторожат фонтан, а на балюстраде расставлены вазы, словно бы выполненные по заказу князя.
За Монреале, когда хорошая дорога остается позади и путники въезжают в скалистые горы, на хребте их, перегораживая дорогу, лежат огромные выветрившиеся камни, которые я принял было за железняк. Все равнинные места возделаны и более или менее плодородны. Известняк здесь имеет красноватый оттенок, так же как и выветрившаяся земля неподалеку от него. Эта красная глинистая почва тяжела, песка под нею нет, но пшеницу она родит отличную. Встречались нам и старые, очень еще крепкие, хотя и покореженные оливы.
Под сенью продуваемой ветерком галереи, пристроенной к весьма неважной гостинице, мы слегка закусили. Собаки жадно кидались на выбрасываемую нами кожицу колбасы, нищий мальчонка отогнал их и с аппетитом полакомился кожурой от съеденных нами яблок, но его, в свою очередь, прогнал старик-нищий. В своем изодранном балахоне он носился туда и сюда — то ли слуга, то ли кельнер. Я уже и раньше замечал, что если спросишь у хозяина то, чего в заведении нету, он посылает в ближайшую лавчонку первого попавшегося нищего.
Впрочем, как правило, нас избавляет от такой малоприятной обслуги наш великолепный веттурино — он конюх и чичероне, телохранитель и повар, он же еще и закупает продовольствие.
На более высоких горах все еще встречаются оливы, ясень и рожковое дерево. Здесь тоже в обычае трехполье: бобовые, хлеб, пар. Существует даже поговорка: «Навоз — чудодей, святым до него далеко». Виноград здесь дешев.
Алькамо великолепно расположен на возвышенности, довольно далеко от бухты, величие этой местности поразило нас. Высоко вздымающиеся скалы, глубокие долины, при этом — ширь и разнообразие. За Монреале попадаешь в прекрасную двойную долину, посредине пересеченную другим горным кряжем. Мирно зеленеют поля, вдоль широкой дороги как сумасшедший цветет кустарник: кустики чечевицы усыпаны желтыми цветами, похожими на мотыльков, так что ни единого зеленого листочка не видно, боярышник весь в маленьких букетах, алоэ тянутся ввысь, готовясь зацвести, тут же раскинуты богатые амарантовые ковры клевера, альпийские розочки, гиацинты с еще не раскрывшимися колокольцами, асфодели.
Вода, текущая из Сегесты, приносит сюда не только известняк, но и обломки очень твердого роговика; они темно-синие, красные, желтые и коричневые, самых разнообразных оттенков. В известковых скалах я также обнаружил жилы роговика или красного опала с зальбандом известняка. По дороге в Алькамо встречаются целые холмы такой гальки.
Кальтанисетта, суббота, 28 апреля 1787 г.
Сегодня мы вправе сказать, что получили наконец наглядное представление, чем заслужила Сицилия почетное наименование житницы Италии. После Джирдженти мы уже ехали по плодородной почве. Это небольшие пространства, но мягко сливающиеся воедино холмы и горные хребты сплошь засеяны пшеницей и ячменем, отчего глаз воспринимал их как единое и непрерывное житное поле. Почву, пригодную для этих злаков, так используют и щадят, что нигде не видно ни единого деревца, более того — все поселки и отдельные домики строятся только на вершинах холмов, за рядами тянущихся по ним известковых скал, все равно непригодных для земледелия. В них весь год живут женщины, занятые пряденьем и ткачеством, мужчины же в самую страду поднимаются к ним лишь на субботу и воскресенье, остальное время они проводят внизу, по ночам укрываясь в тростниковых хижинах. Итак, наше желание исполнилось, да еще с таким избытком, что мы готовы были пожелать себе крылатую колесницу Триптолема, чтобы вырваться из скуки этого однообразия.
Мы ехали верхом под жарким солнцем сквозь это буйное плодородие, радуясь, что вскоре окажемся в красиво расположенной и благоустроенной Кальтаничетте, где мы, впрочем, тщетно пытались разыскать сносное пристанище. Мулы там стоят в роскошных сводчатых конюшнях, работники спят на клевере, припасенном для корма, приезжие вынуждены устраиваться кто во что горазд. Прежде чем занять комнату, ее надо хорошенько убрать и вычистить. Стульев или скамеек тут и в помине нет, сидят на низких козлах из крепкого дерева, столы тоже отсутствуют.
Чтобы из козел сделать ножки кровати, приходится идти к столяру и, за известную мзду, брать у него на прокат доски — сколько понадобится. Большой кожаный мешок, которым нас снабдил Хаккерт, пришелся очень кстати, — мы его набили мелкой соломой.
Но прежде всего необходимо было позаботиться о еде. По дороге сюда мы приобрели курицу, наш веттурино пошел купить рис, соль и разные приправы, но он здесь раньше не бывал, и мы долго недоумевали, где же здесь положено стряпать: на постоялом дворе для этого никаких приспособлений не имелось. Наконец один пожилой человек согласился за умеренную плату предоставить нам свой очаг, дрова, кухонную и столовую посуду, а сам, покуда готовился обед, пошел показывать нам город и в конце концов привел нас на рынок, где, как бы продолжая античный обычай, сидели почтеннейшие жители города, беседуя и ожидая, что и мы примкнем к беседе.
Пришлось нам рассказывать им о Фридрихе Великом, причем они испытывали такой жгучий интерес к этому великому королю, что мы словом не обмолвились о его смерти, боясь, как бы наши хозяева не возненавидели нас за эту недобрую весть.
Катания, среда, 2 мая 1787 г.
И на этом постоялом дворе мы, конечно, чувствовали себя из рук вон плохо. Пища, приготовленная погонщиком мулов, была не из лучших. Правда, курица, сваренная с рисом, презрения не заслуживала, если бы непомерное количество шафрана не сделало ее столь же желтой, сколь и несъедобной. Неудобнейшая из кроватей едва не заставила нас снова достать Хаккертов мешок, об этом мы и поспешили заговорить утром с нашим любезным хозяином. Он очень сожалел, что лишен возможности лучше устроить нас: «Вон видите тот дом, — сказал он, — там хорошо принимают иностранных гостей. Они всегда остаются довольны». Он указал на большой угловой дом; та его сторона, что была обращена к нам, казалось, сулила много хорошего. Мы тотчас туда отправились; нас встретил какой-то юркий человек, отрекомендовавшийся временным слугой в этом доме, и в отсутствие хозяина провел нас в прекрасную комнату по соседству с залой, причем сразу же стал заверять, что нам все это обойдется недорого. Мы, как положено, тотчас же осведомились, сколько нам надо будет платить за комнату, стол, вино, завтрак и прочее. Все оказалось дешево, и мы живо принесли свои скромные пожитки и рассовали их по вместительным золоченым комодам. Книп впервые получил возможность раскрыть папку; он по порядку разложил свои рисунки, а я заметки. Потом, довольные прекрасным помещением, мы из залы вышли на балкон понаслаждаться видом, оттуда открывающимся. Вдосталь им налюбовавшись, мы решили вернуться к своим делам, — и что же мы увидели! Большого раззолоченного льва над своими головами. Мы взглянули друг на друга в недоумении, улыбнулись и расхохотались. Но с этого мгновения все озирались, не покажется ли еще одно из гомерических чудищ.
Ничего такого мы не увидели, а напротив, обнаружили в зале хорошенькую молодую женщину, которая весело играла с ребенком лет двух, но мгновенно прекратила эти забавы, когда наш то ли хозяин, то ли слуга грубо ее разбранил: пусть убирается, нечего ей здесь делать! «Как это жестоко, что ты меня прогоняешь, — сказала она. — Когда тебя нет дома, я не знаю, как и управиться с ребенком! Я уверена, что господа позволят мне успокоить малыша в твоем присутствии». Супруг, не поддаваясь на ее уговоры, старался ее спровадить, уже в дверях ребенок жалобно вскрикнул, и нам пришлось потребовать от мужа, чтобы его хорошенькая женушка здесь осталась.
После предупреждения англичанина нам уже не стоило труда разгадать эту комедию; мы разыгрывали из себя ничего не подозревающих новичков, он же выставлял напоказ свои пылкие отцовские чувства. Ребенок и вправду льнул к отцу, — похоже, что так называемая мать ущипнула его в дверях.
Итак, она, тоже ничего не подозревая, осталась с нами, когда ее муж ушел относить рекомендательное письмо к домовому священнику князя Бискари. Она продолжала кокетничать с нами, покуда не вернулся муж сообщить нам, что аббат пожалует сюда и ознакомит нас с дальнейшими планами.
Катания, пятница, 4 мая 1787 г.
После обеда явился аббат с каретой, ибо он намеревался показать нам отдаленную часть города. Пока мы рассаживались, возник своеобразный спор о рангах. Войдя в карету первым, я хотел было сесть слева от аббата, однако он, поднявшись на подножку, потребовал, чтобы я пересел и позволил ему сесть слева от меня; я просил его не разводить подобных церемоний. «Простите, — сказал он, — но давайте все же сядем именно так, ведь если я сяду справа, каждый решит, что я еду с вами, тогда как если я сяду слева, всем будет понятно, что это вы едете со мной, со мной, который показывает вам город от имени его светлости».
Против этого возразить было нечего; так мы и сели.
Мы ехали в гору, по улицам, где и по сей день еще оставалась лава, разрушившая в 1669 году большую часть города. Застывший огненный поток здесь использовали как любой другой грунт, на нем были проложены улицы и кое-где даже выстроены дома. Я отколол кусок, без сомнения, некогда жидкой лавы и вспомнил, как перед моим отъездом из Германии разгорелся спор о вулканическом происхождении базальта. Я откалывал куски еще в нескольких местах, дабы проследить различные изменения, которые претерпела лава.
Если бы местные жители не были патриотами своего края, не пытались бы во имя выгоды или во имя науки собирать все достопримечательности, путешественнику пришлось бы пережить немало напрасных мучений. Еще в Неаполе мне сослужил добрую службу торговец лавою, а здесь — в более высоком смысле — кавалер Джиоэнни. В его богатом, щегольски разложенном собрании я обнаружил лаву с Этны, базальт с ее подножия — преображенная порода, которую не сразу и узнаешь. Все это было любезно нам показано. Более всего я дивился цеолитам с крутых скал, стоящих в море под Иячи.
Когда мы спросили кавалера, как нам добраться до вершины Этны, он заявил, что даже слышать ничего не хочет о столь рискованном предприятии, тем более в это время года. «Вообще, — сказал он, предварительно извинившись, — приезжие слишком уж легко относятся к этому, а нам, живущим по соседству с горою, довольно, если мы за всю жизнь раз-другой улучим момент подняться на вершину. Брайдон, своим описанием впервые пробудивший интерес к огненной вершине, сам никогда на нее не взбирался. Граф Борх ничего читателю об этом не сообщает, однако и он не достиг вершины, то же самое я мог бы сказать о многих.
Сейчас снег еще покрывает почти всю гору донизу, создавая тем самым неодолимое препятствие. Если вы соблаговолите воспользоваться моим советом, то поезжайте завтра, в подходящее время, к подножию Монте-Россо и поднимитесь на вершину; там вы сможете насладиться прекраснейшим видом, а заодно увидите и старую лаву, которая в 1669 году вырвалась из кратера и, к несчастью, залила город. Вид оттуда открывается чудесный и видимость очень хорошая, все остальное лучше узнавать по рассказам».
Катания, суббота, 5 мая 1787 г.
Вняв благому совету, мы рано поутру пустились в путь верхом на мулах и, непрестанно оглядываясь назад, добрались до владений не усмиренной временем лавы. Навстречу нам попадались зубчатые глыбы, огромные камни, между которыми мулы находили случайные тропки. Достигнув значительной высоты, мы сделали привал. Книп с величайшей точностью зарисовывал все, что мы видели перед собою: на первом плане застывшая лава, слева — двойная вершина Монте-Россо, над нами — леса Николози, из которых выступает заснеженная, слегка курящаяся вершина вулкана. Мы подобрались ближе к Красной горе, а я поднялся к самой вершине; она представляет собою кучу красной вулканической мелочи, пепла и камней. Обойти вокруг жерла не составило бы труда, если бы страшнейшие порывы утреннего ветра не затрудняли каждый шаг; я хотел хоть немного пройти вперед, и мне пришлось снять плащ, но шляпу мою могло вот-вот унести в кратер, а за нею и меня. Дабы прийти в себя и оглядеться, я сел, но и это мало мне помогло: с востока на прелестную местность, простиравшуюся подо мною вплоть до самого моря, надвигалась буря. Перед моими глазами тянулся длинный, от Мессины до Сиракуз, песчаный берег с изгибами и бухтами, абсолютно пустой, лишь изредка на нем виднелись береговые скалы. Когда я, вконец оглушенный, вернулся вниз, оказалось, что Книп, несмотря на бушующие вихри, не терял времени даром и тонкими линиями запечатлел на бумаге то, что я из-за бури едва сумел увидеть, а тем паче — запомнить.
Очутившись снова в пасти «Золотого льва», мы застали там слугу-поденщика, которого утром едва отговорили сопровождать нас. Он похвалил нас за то, что мы не стали подниматься на вершину, но решительно предложил нам на следующее утро морем отправиться к скалам Иячи: это наилучшая прогулка, которую можно придумать в Катании! Надо взять с собою питье и съестные припасы, а заодно какое-нибудь приспособление, дабы разогреть еду. Его жена вызвалась обо всем позаботиться. Далее он пустился в воспоминания о празднестве, устроенном приезжими англичанами, которых, ко всеобщей радости, сопровождала еще и лодка с музыкантами.
Скалы Иячи манили меня, мне не терпелось раздобыть то великолепные цеолиты, что я видал у Джиоэнни. Конечно, можно было без долгих разговоров отказаться от участия этой женщины в прогулке. Но предостерегающий дух англичанина одержал верх, мы махнули рукой на цеолиты, немало хваля себя за такую воздержанность.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
Убедившись в том, что лучшего комментария к «Одиссее», чем все это живое окружение, и быть не может, я разыскал книгу и прочитал ее на свой манер, с живейшим проникновением в судьбы героев. Однако вскоре я ощутил потребность самому взяться за перо, что в первое мгновение показалось мне странным, но затем эта мысль становилась мне все милее и, наконец, целиком завладела мною. Я ухватился за идею превратить в трагедию историю Навзикаи.
Я и сам бы не мог сказать, что из этого выйдет, но вскоре, не терзаясь сомнениями, составил план. Главный смысл был: показать Навзикаю прекрасной, снискавшей любовь многих девушкой, которая, однако, никому не оказывает предпочтения, отклоняет все домогательства женихов, но, тронутая странным чужеземцем, изменяет своим обычаям и навлекает на себя позор, прежде времени обнаружив свою склонность к нему, отчего создается положение поистине трагическое. Сей простой сюжет я намеревался расцветить разными побочными мотивами, необычностью звучания и в особенности своеобразным колоритом моря и островов.
Первый акт начинается с игры в мяч. Неожиданное знакомство состоялось, и раздумья девушки, не проводить ли ей самой пришельца в город, уже предвестье любви.
Во втором акте был представлен дом Алкиноя, характеры женихов, завершался же он появлением Улисса.
В третьем я показывал человеческую значительность героя и надеялся в рассказе о его приключениях, построенном в разговорной форме, которую абсолютно по-разному воспринимают разные слушатели, добиться художественного, радующего душу эффекта.
Во время рассказа накаляются страсти, и в чередовании действий и противодействий становится ясным живейшее участие Навзикаи в судьбе чужеземца.
В четвертом акте Улисс за сценой доказывает свою доблесть, женщины на сцене говорят о нежных чувствах, о любви и надеждах. Убедившись в успехах чужеземца, Навзикая не в силах более сдерживаться и безнадежно роняет себя в глазах соотечественников. Улисс, лишь отчасти в том виновный, в конце концов объявляет о своем отъезде, и бедняжке ничего другого не остается, как в пятом акте искать смерти.
В этой композиции не было ничего, что я не мог бы почерпнуть из собственного опыта или списать с натуры. Я и сам путешествовал, и самому мне грозила опасность возбудить любовь, которая если и не приведет к трагической развязке, то может оказаться достаточно болезненной, опасной и вредоносной; и сам я вдалеке от родных мест, живописуя для развлечения общества чуждые мне предметы, дорожные приключения, случаи из жизни, рисковал прослыть среди юношей — полубогом, среди людей серьезных — вралем, снискать незаслуженное благоволение и встретить множество непредвиденных затруднений; все это так сроднило меня с моим планом, с моими намерениями, что я жил мечтами о нем во время моего пребывания в Палермо, да и потом, путешествуя по Сицилии. Я почти не обращал внимания на многие неполадки, ибо на этой сверхклассической почве впал в поэтическое настроение, когда все, что я видел, все, что узнавал, примечал, все, что попадалось мне в пути, я мог воспринять и сберечь в прекраснейшем из сосудов.
Следуя своей похвальной или, напротив, заслуживающей порицания привычке, я ничего из этого не записал или только самую малость, но проработал все до последних деталей в уме, где все так и осталось, вытесненное последующими впечатлениями, и теперь отзывается во мне лишь мимолетным воспоминанием.
Мессина, четверг, 10 мая 1787 г.
Итак, мы прибыли в Мессину и, сообразуясь с незнанием здешних условий, первую ночь решились провести в доме веттурино, дабы наутро оглядеться в поисках жилища получше. Такое решение дало нам возможность сразу же по приезде составить себе представление об ужасающих разрушениях, причиненных городу; ибо добрых четверть часа мы ехали вдоль развалин, покуда не добрались до гостиницы — единственного восстановленного здания в этой части города. Из окон верхнего этажа далеко вокруг видны были только зубчатые обломки стен. За оградой гостиничного двора — ни зверя, ни человека, ночью стояла мертвая тишина. Двери не запирались и не закрывались, для людей здесь все было так же мало приспособлено, как, например, в конюшне, и тем не менее мы спокойно уснули на матраце, который услужливый веттурино ухитрился вытащить из-под хозяина.
Мессина, суббота, 12 мая 1787 г.
Консул среди прочего сказал, что хотя необходимости в этом и нет, но все же желательно, чтобы мы нанесли визит губернатору, чудаковатому старцу, который, руководствуясь своими настроениями и предрассудками, может немало навредить нам или, напротив, очень помочь; консул всегда заслуживал похвалу, если представлял губернатору видных иностранцев, а кроме того, приезжий никогда не знает, не окажется ли губернатор ему так или иначе полезен. В угоду другу я тоже пошел с ним.
Едва переступив порог, мы услышали в доме страшный шум; скороход с гримасою Пульчинеллы шепнул на ухо консулу: «Плохой день! Опасный час!» Тем не менее мы вошли и застали старика губернатора сидящим за столом у окна, спиною к нам. Перед ним валялись кучи старых пожелтевших писем, от которых он с величайшим терпением отрезал неисписанные листы, тем самым показывая, как он экономен. В продолжение этого мирного занятия он распекал и на чем свет стоит клял весьма почтенного человека, судя по одежде принадлежавшего к Мальтийскому ордену, оборонявшегося хладнокровно и деловито, хотя ему едва удавалось вставить слово. Под брань и вопли он, не теряя самообладания, пытался отвести от себя напраслину, возводимую на него губернатором, очевидно, на основании его многократных въездов и выездов из города без должного разрешения; он ссылался на свои документы и широкие связи в Неаполе. Однако все это ничуть не помогало, губернатор по-прежнему резал старые письма, аккуратно откладывал в сторону чистую бумагу, ни на миг не прерывая брани.
Помимо нас обоих здесь стояло еще человек двенадцать свидетелей этого поединка, и все они явно завидовали нашей близости к двери — месту весьма удобному в случае, если взбешенный губернатор схватит свою клюку и вздумает драться. Лицо консула во время этой сцены заметно вытянулось, а я утешался близостью забавного скорохода, который, стоя за порогом, корчил уморительные рожи, успокаивая меня, когда я изредка оборачивался, — все, мол, это гроша ломаного не стоит.
И верно, отвратительная свара просто сошла на нет, губернатор кончил тем, что хотя ничто не мешает ему взять задержанного под стражу, — пусть себе мечется взаперти, — однако на сей раз ему будет позволено несколько дней пробыть в Мессине, но затем пусть убирается восвояси и никогда не возвращается сюда. С полным спокойствием, нимало не меняясь в лице, мальтийский рыцарь простился, почтительно поклонившись собравшимся, в особенности нам, ибо вынужден был пройти между нами, чтобы добраться до дверей. Губернатор, грозно обернувшийся, чтобы вслед ему бросить еще какое-то ругательство, вдруг заметил нас, тут же взял себя в руки, кивнул консулу, и мы подошли поближе.
Это был человек весьма преклонного возраста, согбенный годами, из-под седых кустистых бровей на нас смотрели черные, глубоко сидящие глаза; он разительно отличался от самого себя несколько минут назад. Он просил меня сесть с ним рядом и, продолжая резать письма, стал расспрашивать о разных разностях, я отвечал ему; под конец он заявил, что, покуда я в городе, он приглашает меня к своему столу. Консул, довольный не меньше моего, а пожалуй, даже больше, ибо ему было ведомо, какой опасности мы избегли, поспешно спустился вниз, а у меня пропала всякая охота даже близко подходить к этому львиному логову.
Мессина, воскресенье, 13 мая 1787 г.
Хотя мы проснулись при ярком свете солнца, в куда более уютной квартире, все-таки мы находились в злосчастной Мессине. На редкость неприятен был вид так называемой Палаццаты — целого ряда дворцов, расположенных в форме серпа, вдоль которого можно пройти за четверть часа и который как бы замыкает рейд, обозначая его границу. Прежде это были сплошь четырехэтажные каменные здания, теперь же от них остались лишь фасады, кое-где уцелевшие вплоть до верхнего карниза, а кое-где только до третьего, второго или даже первого этажа, так что этот некогда роскошный ряд казался теперь каким-то щербатым и дырявым, ибо почти за всеми окнами была видна лишь синева неба. Внутренние помещения оказались полностью разрушены.
…Вид Мессины ужасен, он наводит на мысль о первобытных временах, когда сиканы и сикулы бросили эту неспокойную землю и начали обживать западный берег Сицилии.
Так провели мы утро, а затем отправились в гостиницу съесть свой незатейливый обед. Мы еще сидели за столом, весьма довольные, когда к нам, едва переводя дух, ворвался слуга консула с сообщением, что губернатор велел разыскивать меня по всему городу, — ведь он пригласил меня разделить с ним трапезу, а я не явился. Консул убедительно просит поскорее пойти туда, невзирая на то, успел ли я пообедать или нет и пропустил ли я назначенный час по забывчивости или намеренно. Тут только до меня дошло, как же я оказался легкомыслен, позабыв о приглашении циклопа на радостях, что в первый раз мне удалось от него ускользнуть. Слуга не дал мне времени на размышления; его доводы были весьма красноречивы и убедительны: консул-де рискует, что этот деспот в приступе ярости и ему напортит, и весь народ перебаламутит.
Я привел в порядок волосы и платье и скрепя сердце бодро зашагал за слугою, взывая к Одиссею, моему патрону, и прося его о заступничестве перед Афиной-Палладой.
Добравшись до львиного логова, я был препровожден веселым скороходом в большую столовую, где за овальным столом в гробовом молчании сидело человек сорок. Место справа от губернатора пустовало, к нему-то меня и подвел скороход. Поклонившись хозяину дома и гостям, я сел рядом с ним, оправдав свое опоздание обширностью города и тем заблуждением, в которое уже не в впервые вводит меня разница во времени. Он с горящими глазами отвечал, что по приезде в чужую страну следует всякий раз осведомляться о местных обычаях и принимать их во внимание. Я заметил, что всегда стараюсь поступать именно так, однако нахожу, что даже при самых благих намерениях в первые дни в незнакомом городе, не зная местных обычаев, иной раз впадаешь в известные ошибки, кои можно было бы счесть непростительными, если бы не смягчающие обстоятельства — дорожная усталость, рассеянность из-за новых впечатлений, заботы о сносном пристанище и о дальнейшем путешествии.
Он спросил, как долго я собираюсь здесь пробыть. Я отвечал, что хотел бы пробыть как можно дольше, дабы точнейшим исполнением его приказов и распоряжений выразить ему мою признательность за любезный прием. Немного помолчав, он спросил, что я успел повидать в Мессине. Я коротко рассказал ему, как провел утро, какие сделал наблюдения, и присовокупил, что более всего удивили меня чистота и порядок на улицах разрушенного города. И вправду было достойно удивления, как удалось все улицы очистить от развалин, причем весь мусор свалили за разрушенные стены, а камни, наоборот, сложили вдоль домов, освободив тем самым мостовую для пешеходов и экипажей. Посему я мог, не кривя душой, польстить губернатору, заверив его, что все мессинцы с благодарностью признают, что этим благодеянием они обязаны лишь его попечениям. «Признавать-то они признают, — пробурчал он, — а сколько прежде было крику о жестокости, с которой их к этому принуждали, для их же пользы!»
Я заговорил о мудрых намерениях правительства, о высших целях, которые будут поняты и оценены лишь по прошествии времени, и тому подобное. Он спросил, видел ли я иезуитскую церковь, я отвечал отрицательно, тогда он заявил, что отдаст распоряжение показать мне эту церковь со всеми ее достопримечательностями.
В продолжение нашего, прерывавшегося редкими паузами разговора я заметил, что все остальные хранили полное молчание, да и шевелились лишь постольку, поскольку надо было поднести кусок ко рту. Едва убрали со стола и подали кофе, как они уже стояли вдоль стен, точно восковые фигуры. Я подошел к домовому священнику, который должен был показать мне церковь, дабы заранее поблагодарить его за труд; однако он уклонился от разговора, смиренно уверив меня, что приказ его превосходительства для него закон. Тогда я заговорил со стоявшим рядом со мной молодым иностранцем, французом, который тоже, видимо, чувствовал себя как на угольях, ибо он сразу же словно лишился дара речи и окаменел, подобно всем остальным, среди которых я приметил несколько человек, вчера с тревогою наблюдавших сцену с мальтийцем.
Губернатор удалился, и вскоре священник сказал мне, что нам пора идти. Я последовал за ним, остальные неслышно разбрелись. Он подвел меня к порталу иезуитской церкви; выстроенная в обычном для этого ордена стиле, она роскошно и величественно вздымалась к небесам. Навстречу вышел служитель и пригласил нас войти, но священник удержал меня, сказав, что следует дождаться прибытия губернатора. Вскоре тот приехал, остановился на площади неподалеку от церкви и знаком подозвал нас троих к своей карете. Он велел служителю не только показать мне церковь во всех подробностях, но и обстоятельно рассказать как историю алтарей, так и разных достопримечательностей. Затем пусть отопрет ризницы и порадует мой глаз всем, что там есть диковинного. Я человек, которому он хочет оказать должное уважение, дабы я имел все основания в своем отечестве славить Мессину. «Но не забудьте, — сказал он мне с улыбкой, какую только могло изобразить его лицо, — не забудьте, покуда вы тут, вовремя являться к столу, вам всегда будет оказан хороший прием». Я едва успел почтительнейшим образом ему ответить, и карета тронулась.
С этой минуты священник приободрился, и мы вошли в церковь. Кастелян — как хотелось бы его назвать в этом волшебном дворце, где более не совершаются богослужения — уже приступил к исполнению строжайшего приказа, когда в пустое святилище ворвались консул с Книпом и на радостях, что видят меня, коего уже почитали узником, бросились меня обнимать. Они были насмерть перепуганы, покуда оборотистый скороход, вероятно, щедро поощренный консулом, непрерывно гримасничая, не рассказал им о счастливом завершении всей этой истории, чему оба безмерно обрадовались и быстро меня разыскали, узнав о том, какую честь оказал мне губернатор, дав возможность осмотреть эту церковь.
Меж тем мы стояли перед главным алтарем, любуясь сокровищами старины. Колонны из ляпис-лазури, украшенные позолоченной бронзой, пилястры и филенки во флорентийском стиле, изобилие дивных сицилийских агатов; бронза и позолота, то и дело повторяясь, связывали все в единое целое.
Поразительная контрапунктическая фуга возникла из переплетения рассказов: консула и Книпа — о моих возможных затруднениях и кастеляна — об остатках былой роскоши; причем как первые, так и второй были одержимы предметом своего рассказа, а я получил двойное удовольствие, ощутив ценность моего избавления и увидев наконец архитектурное применение полезных ископаемых Сицилии, на которые я потратил немало сил.
Точное знание составных частей этой роскоши помогло мне обнаружить, что так называемая ляпис-лазурь этих колонн, собственно, всего лишь известняк, но такого красивого цвета, какого мне еще не доводилось видеть, и к тому же отлично подобранный. Но тем не менее колонны эти весьма примечательны; ведь чтобы выбрать куски столь красивой и ровной окраски, надо было иметь неимоверное количество материала и, кроме того, потратить немало усилий, чтобы разрезать, отшлифовать и отполировать камень. Но разве что-нибудь могло остановить отцов иезуитов?
Консул тем временем не умолкая говорил о том, что мне могло угрожать. То есть: губернатор, недовольный собой ввиду того, что я при первом же своем визите оказался свидетелем его жестокого обхождения с лжемальтийцем, собрался особо меня почтить и выработал определенный план, который из-за моего отсутствия сорвался в самом начале его осуществления. После долгого ожидания сев наконец за стол, деспот уже не в состоянии был скрывать свое нетерпение и неудовольствие, и все собравшиеся со страхом ждали новой сцены либо при моем появлении, либо после обеда.
Тем временем кастелян, снова и снова пытаясь продолжить рассказ, открыл потайные помещения, построенные в прекрасных пропорциях, с подобающим, пожалуй, даже роскошным, убранством; там сохранились еще кое-какие предметы церковной утвари, формой своей и нарядностью гармонирующие с целым.
Никаких благородных металлов я здесь не увидел, так же как и подлинных произведений старых или новых мастеров.
Наша итало-немецкая фуга, — ибо патер и служитель пели на первом из этих языков, а Книп и консул — на втором, — уже близилась к концу, когда к нам примкнул офицер, виденный мною за столом. Он был из свиты губернатора. Это снова могло оказаться небезопасным, тем более что он предложил отвезти меня в гавань, где намеревался показать мне многое, обычно для иностранцев недоступное. Друзья мои переглянулись, но я не дал им себя удержать и один пошел за ним. После нескольких ничего не значащих фраз я заговорил с ним доверительнее и признался, что за столом заметил, как кое-кто из моих молчаливых сотрапезников дружелюбными знаками давали мне понять, что я не одинок среди чужих, что, напротив, я нахожусь среди друзей и даже братьев, а значит, мне не стоит волноваться. Я считаю своим долгом поблагодарить его и также передать мою благодарность всем друзьям. На это он отвечал, что они тем паче старались меня успокоить, что, зная характер своего патрона, сами не очень-то за меня беспокоились; ибо такие взрывы, как в истории с мальтийским рыцарем, довольно редки, и достойный старец сам себя за них корит, долго следит за собою, некоторое время безмятежно и беспечно выполняет свои обязанности, покуда какая-нибудь неожиданная случайность не спровоцирует новую вспышку. К этому мой храбрый друг присовокупил, что ему и его товарищам больше всего хотелось бы поближе сойтись со мною, а потому они просили бы меня побольше рассказать о себе, для чего представится возможность нынче вечером. Я вежливо отклонил это предложение, прося его простить мне мою причуду: я хотел во время путешествия быть для всех просто человеком, и если я мог в этом качестве снискать доверие и участие, то мне это весьма приятно; завязывать же иные отношения я не могу по целому ряду причин.
Убеждать его я не хотел, ибо не мог же я сказать, что это за причины. Однако мне показалось весьма примечательным, что при этом деспотическом правлении люди вполне благомыслящие столь достойно объединились для защиты как самих себя, так и чужеземцев. Я не утаил от него, что хорошо знаю об их отношениях с другими немецкими путешественниками, и стал распространяться о достохвальных целях, коих можно добиться таким путем, с каждой минутой повергая его во все большее изумление своим доверительным упрямством. Он пытался любыми средствами раскрыть мое инкогнито, что ему не удалось, отчасти потому, что я, ускользнув от одной опасности, не хотел бессмысленно подвергаться другой, отчасти же потому, что я отлично заметил: воззрения этих почтенных островитян так разнятся от моих собственных, что более близкое знакомство со мною не принесет им ни радости, ни утешения.
Вечером я провел еще несколько часов с деятельным и доброжелательным консулом, который разъяснил мне, что же значила сцена с мальтийцем. Это был не авантюрист, но просто охотник до перемены мест. Губернатор, человек знатного рода, почитаемый и ценимый за его серьезность, дельность и большие заслуги, известен своей необузданной жестокостью, бесконечным своеволием и ослиным упрямством. Недоверчивый, как всякий старик и деспот, он подозревает, ничего точно не зная, что при дворе у него завелись враги, и люто ненавидит тех, кто все время ездит взад-вперед, считая таких непосед шпионами. На сей раз ему под руку попался этот красный кафтан, когда он, после долгой паузы, должен был на кого-то излить свою желчь.
Мессина и на море, понедельник, 14 мая 1787 г.
Оба мы проснулись с одинаково отвратительным чувством из-за того, что, взглянув первый раз на пустынную Мессину, мы, горя нетерпением, решились договориться о возвращении с капитаном французского купеческого судна. После благополучного завершения истории с губернатором, при добрых отношениях со здешними храбрецами, которым мне надо было лишь раскрыть свое инкогнито, и после визита к моему банкиру, жившему за городом, в прелестной местности, я мог и в дальнейшем рассчитывать на приятнейшее времяпрепровождение в Мессине. Книп, которого увлекли красивые девушки, больше всего хотел, чтобы не кончался обычно всеми ненавидимый встречный ветер. Между тем положение сложилось не из приятных, — вещи нельзя было распаковывать, ибо нам следовало в любую минуту быть готовыми к отплытию.
Сигнал раздался около полудня, мы поспешили подняться на борт, среди собравшейся на берегу толпы обнаружили нашего милейшего консула, с которым мы простились, горячо его поблагодарив. Протиснулся к нам и желтый скороход, ожидавший вознаграждения за свои веселые выходки. Вместе с деньгами он получил от нас поручение сообщить хозяину о нашем отъезде и просить его извинить мое отсутствие за столом. «Кто уехал, тот прощен!» — крикнул скороход, затем, как-то странно подпрыгнув, исчез.
На корабле все выглядело совсем иначе, нежели на неаполитанском корвете; однако по мере удаления от берега нас все более занимал великолепный вид расположенных полукругом дворцов, крепости и вздымающейся над городом горы. А по другому борту — Калабрия. С юга и с севера глазу открывался широкий пролив, вдоль которого тянулись берега удивительной красоты. Мы не могли налюбоваться всем этим, но тут нам показали, что слева, еще довольно далеко от нас, в воде происходит какое-то движение, а справа, несколько ближе к берегу, высилась скала, — это были Харибда и Сцилла. То обстоятельство, что в природе эти два чуда так далеки друг от друга, а поэт предельно сблизил их, послужило поводом для разговора о поэтических вольностях. Тысячи раз доводилось мне слышать сетования на то, что предметы, знакомые людям по рассказам, в действительности их не удовлетворяют; причина тут неизменно одна: воображение и действительность соотносятся друг с другом как поэзия и проза, — поэзия делает их могучими и устремленными ввысь, проза же распространяет вширь, как бы упрощает их. Ярчайший тому пример — пейзажисты XVI столетия в сравнении с нашими современниками. Рисунок Иодока Момпера рядом с наброском Книпа сделал бы зримым этот контраст.
Меня вновь охватило пренеприятное ощущение морской болезни, и здесь это состояние не скрашивалось уединением, как во время предыдущего переезда, тем не менее каюта оказалась достаточно просторной для нескольких человек; удобных матрацев тоже хватало. Опять я принял горизонтальное положение, а Книп заботливо подкармливал меня отличным хлебом и красным вином. В этом состоянии все наше сицилийское путешествие представлялось мне в черном свете. По сути, мы ничего не увидели, кроме напрасных усилий рода человеческого устоять против беспощадности природы, лукавых козней времени, против вражды и ненависти друг к другу. Карфагеняне, греки, римляне и другие позднейшие народы строили и разрушали. Селинунт подвергся методическому разрушению; чтобы уничтожить храмы Джирдженти, не хватило и двух тысячелетий, а чтобы стереть с лица земли Катанию и Мессину, достало несколько часов, если не минут. Этим мыслям, вызванным морскою болезнью у человека, которого уже не раз качало на житейских волнах, я не позволил взять верх надо мною.
Понедельник, 14 мая 1787 г.
Уже близился вечер, но, вопреки нашим желаниям, мы никак не могли войти в Неаполитанский залив. Нас продолжало относить к западу, и корабль, приближаясь к острову Капри, все более удалялся от мыса Минервы. Всех охватили нетерпение и досада, лишь мы с Книпом, смотревшие на мир глазами художников, могли быть этим довольны, ибо наслаждались закатом, прекраснейшим за все время нашей поездки. Сверкая всеми красками, открывался нашему взору мыс Минервы и подступающие к нему горы, меж тем как скалы, нисходящие к югу, уже окрасились в синеватые тона. Весь берег от мыса до Сорренто был залит светом. Мы видели Везувий с чудовищным облаком дыма над ним, от которого к востоку тянулась длинная полоса, так что казалось, сильное извержение неминуемо. Слева от нас был Капри, круто уходящий ввысь. Сквозь прозрачную синеватую дымку мы отчетливо видели очертания его скалистых берегов. Под чистым, без единого облачка, небом сверкало спокойное, почти недвижное море, при полном штиле оно теперь простиралось перед нами, точно светлый пруд. Мы восторгались этой картиною, Книп огорчался, что никакая живопись не может воссоздать эту гармонию, так же как тончайший английский карандаш, даже в самой искусной руке, не будет в состоянии передать эти линии. Я же, убежденный в том, что даже куда менее значительные памятки, нежели те, что способен создать этот умелый художник, со временем будут для меня в высшей степени желанными, подвиг его в последний раз напрячь глаза и руку; он позволил мне себя уговорить и сделал одну из самых точных зарисовок, которую потом раскрасил, тем самым доказав, что для художника и невозможное возможно. Столь же жадно следили мы, как вечер становится ночью. Капри был теперь совсем темным, и, к нашему изумлению, облако над Везувием и облачная гряда стали разгораться, чем дальше, тем сильнее, и, наконец, на горизонте мы увидели величественную светящуюся полосу — то полыхали зарницы.
Любуясь дивными видами, мы проглядели, что нам грозит беда; впрочем, волнение, начавшееся среди пассажиров, не позволило нам долго оставаться в неведении. Пассажиры, более искушенные в мореплавании, чем мы, горько упрекали капитана и штурмана за то, что те из-за своей неловкости не только прозевали пролив, но подвергли опасности доверившихся им людей, их имущество и так далее. Мы спросили, в чем причина этого беспокойства, ибо не понимали, чего можно опасаться при полном штиле. Но оказалось, что как раз из-за штиля эти люди и не находили себе места. «Сейчас, — сказали они, — мы уже попали в течение, которое огибает остров и благодаря определенному направлению волн тащит нас на острые скалы, где нет ни пяди земли, ни бухты, чтобы искать спасения».
После таких речей наша судьба представилась нам в весьма мрачном свете; хотя ночь и не позволяла нам видеть приближение опасности, мы все же заметили, что корабль, покачиваясь и кренясь, двигался к скалам, становившимся все мрачнее, хотя над морем еще был разлит слабый вечерний свет. В воздухе ни дуновения; каждый поднимал вверх носовой платок или легкую ленту, но не было даже намека на вожделенный ветерок. В толпе нарастал шум, нарастало и безумие. Женщины с детьми не молились, преклонив колена на палубе, так как двинуться невозможно было из-за тесноты, просто лежали, крепко прижавшись друг к другу. Они еще больше, нежели мужчины, хладнокровно размышлявшие о помощи и спасении, неистовствовали и бранили капитана. Теперь ему припомнили все, о чем молчали во время путешествия; большие деньги за дурные каюты, убогую пищу, не то чтобы неприветливое, но молчаливое обхождение. Он никому не отчитывался в своих действиях и даже в последний вечер продолжал упрямо умалчивать о предпринятых им маневрах. Его и штурмана называли теперь пришлыми торгашами, которые, не зная лоцманского искусства, руководствуясь лишь корыстью, получили во владение судно и теперь из-за своей бездарности и неумелости обрекли всех, кто им доверился, на гибель. Капитан молчал и, казалось, все еще раздумывал, как спасти корабль, но мне, с младых ногтей ненавидевшему анархию хуже смерти, было невыносимо дальнейшее молчание. Я вышел вперед и принялся убеждать пассажиров с таким же примерно хладнокровием, как если бы обращался к «птицам» Мальчезине. Я постарался разъяснить, что их шум и крики сбивают с толку тех, на кого еще можно возлагать надежды, так что они не в состоянии ни думать, ни даже понять друг друга. «Что же касается до вас, — воскликнул я, — то соберитесь с духом и обратите горячую молитву к божьей матери, ибо она одна может замолвить за вас слово перед сыном, чтобы он сделал для вас то, что сделал для своих апостолов, когда волны бушующего озера Тивериадского заливали лодку, а господь спал, но, разбуженный безутешными и беспомощными, тотчас же повелел ветру стихнуть; так и сейчас он может повелеть, чтобы задул ветер, коли будет на то его святая воля.
Эти слова подействовали как нельзя лучше. Женщина, с которой я раньше беседовал о предметах нравственных и духовных, воскликнула: «Ah! il Barlamé! benedetto il Barlamé!» Они и вправду затянули свои литании страстно, с неимоверным усердием, тем паче что и так уже стояли на коленях. Они могли предаться этому с тем большим спокойствием, что моряки, как видно, решили испробовать еще одно средство спасения: они спустили на воду шлюпку, которая могла вместить от силы человек шесть или восемь, и при помощи длинного каната скрепили ее с кораблем, матросы сильными ударами весел пытались тянуть его за собой. На мгновение все поверили, что они волокут его поперек течения, и тешили себя надеждой, что таким образом удастся вытащить корабль. Однако либо эти усилия только увеличили сопротивление течения, либо произошло что-то другое, но вдруг шлюпка со всеми гребцами, описав на долгом канате дугу, прибилась к кораблю с обратной стороны, словно кончик бича, которым хлопнул возница. И эта надежда рухнула!
Молитвы сменились стенаниями, положение становилось еще ужаснее, ибо пастухи, пасшие коз наверху, на скалах, чей костер мы уже давно приметили, глухо закричали: внизу гибнет корабль. Они кричали еще множество каких-то непонятных слов; люди, знающие язык, догадались, что они радуются добыче, которую надеются выловить завтра поутру. Даже утешительное сомнение, вправду ли корабль находится так угрожающе близко к скалам, вскоре, увы, рассеялось, ибо команда вооружилась длинными шестами, чтобы в крайнем случае хотя бы отталкиваться ими от скал, пока, наконец, и шесты не сломаются, — тогда все будет кончено. Корабль качало все больше, прибой, казалось, усиливался, и вследствие этого новый приступ морской болезни заставил меня спуститься в каюту. Оглушенный, я повалился на матрац, правда, даже с некоторой приятностию, вызванной, вероятно, мыслью об озере Тивериадском, ибо перед глазами у меня совершенно отчетливо стояла гравюра из Библии Мериана. Оказывается, сила чувственно-нравственных впечатлений всего ярче проявляется, когда человек предоставлен самому себе. Не знаю, долго ли я пролежал так, в полузабытьи, но проснулся я от страшного шума наверху. Я понял, что по палубе взад и вперед таскают длинные канаты, и это дало мне надежду, что удастся пустить в ход паруса. Немного погодя вниз примчался Книп и сказал, что мы спасены, поднялся слабый ветер и в тот же миг было сделано все, чтобы поднять паруса. Книп и сам не остался в стороне. Корабль уже заметно отошел от скал, и хотя мы еще не совсем выбрались из течения, есть надежда его одолеть. Наверху все было тихо; вскоре явилось еще несколько пассажиров, они сообщили о счастливом исходе и тоже улеглись.
На четвертый день нашего плавания я проснулся рано поутру здоровым и свежим, так же как во время предыдущей поездки; так что, вероятно, в более долгом путешествии я заплатил бы свою дань морской болезни всего лишь трехдневным недомоганием.
Стоя на палубе, я любовался островом Капри, что находился в стороне, довольно далеко от нас; корабль наш держался курса, позволявшего надеяться, что мы сможем войти в залив, что вскоре и свершилось. После столь тяжкой ночи мы радовались возможности в новом освещении увидеть красоты, коими восхищались минувшим вечером. Опасный скалистый остров остался позади. Накануне мы издали любовались правой стороной залива, а теперь замки и город были прямо перед нами, а слева — Позилипо и мысы, простершиеся до Прочиды и Искьи. Все высыпали на палубу, впереди других — греческий священник, одержимый своим Востоком; в ответ на вопрос местных жителей, восторженно приветствовавших свою прекрасную родину, как ему нравится Неаполь в сравнении с Константинополем, он весьма патетически произнес: «Anche questa è una città!» — «Это тоже город!» Мы вовремя достигли гавани, кишмя кишевшей людьми, было самое оживленное время дня. Едва выгрузили и поставили на землю наши чемоданы и прочие вещи, как их подхватили двое носильщиков, а стоило нам произнести, что мы намерены остановиться у Морикони, и они с этой поклажей, точно с добычей, бросились бежать так, что на людных улицах и на шумной площади мы то и дело теряли их из виду. Книп нес портфель под мышкой, и мы надеялись сохранить хотя бы рисунки, если эти носильщики, менее честные, чем неаполитанская беднота, лишат нас того, что пощадило море.
НЕАПОЛЬ
Гердеру
Неаполь, 17 мая 1787 г.
Вот я опять здесь, мои дорогие, здоровый и бодрый. Поездка по Сицилии прошла легко и быстро, по моем возвращении вы узнаете, как я смотрел. То, что я всегда прикипал душой к тем или иным предметам, дало мне невероятную сноровку все как бы «играть с листа», и я счастлив, что великая, прекрасная и несравненная мысль о Сицилии с такой ясностью воцарилась в моей душе. Теперь ничто уже не заставляет меня грезить о полуденных странах, ибо не далее как вчера я вернулся из Пестума. Море и острова одарили меня наслаждением и страданиями, и я умиротворенный приеду домой. Дозвольте мне приберечь подробности до моего возвращения. К тому же в Неаполе с мыслями не соберешься; этот город устно я опишу вам лучше, чем сумел описать в первых моих письмах. 1 июня уезжаю в Рим, если провидение мне не воспрепятствует, в начале же июля я намерен его покинуть. Я должен свидеться с вами как можно скорее, — о, это будут счастливые дни. Я несказанно много на себя нагрузил и нуждаюсь в покое, чтобы все это осознать и переработать.
За все то хорошее и доброе, что ты делаешь для моих произведений, тысячу раз благодарю тебя, мне всегда хотелось сделать что-нибудь тебе на радость. Где бы мне ни попалось что-нибудь твое, оно всегда будет для меня желанным, — ведь наши представления схожи, хоть мы и очень разнимся друг от друга, и схожи прежде всего в главном и основном. Ежели ты за истекшее время многое почерпнул в себе самом, то я многое узнал и уповаю на интересный обмен.
Ты прав, говоря, что я со своими представлениями привержен к настоящему, но чем больше я смотрю на мир, тем меньше у меня остается надежд, что человечество когда-нибудь станет единым, мудрым и счастливым. Может быть, среди миллионов миров и есть один, который вправе похвалиться таким преимуществом; при существующем устройстве нашего мира, думается мне, на это так же мало надежды, как мало надежды у Сицилии при ее конституционном устройстве.
В прилагаемом листке несколько слов о дороге на Салерно и о самом Пестуме. Пестум — последнее, я почти готов сказать — самое сильное, впечатление, которое я, во всей его полноте, увезу с собой на север. Средний храм, пожалуй, можно предпочесть всему, что я видел в Сицилии.
Что касается Гомера, то у меня словно пелена упала с глаз. Описания, сравнения, etc. представляющиеся нам столь поэтическими, несказанно естественны, но при всем том исполнены такой чистоты и задушевности, что повергают в страх. Даже самым странным выдуманным событиям свойственна поразительная натуральность, и я никогда не чувствовал ее в такой мере, как здесь, вблизи от описываемых деталей. Позволь мне вкратце выразить свою мысль: древние изображали жизнь, мы обычно изображаем эффект. Они описывали ужасное, мы ужасно описываем, они — приятное, мы приятно и т. д. Отсюда — вся преувеличенность, манерность, вся фальшивая грация, вся напыщенность. Ибо, стремясь к эффектной работе и работая на эффект, все время думаешь, что ты его не достиг. Если то, что я говорю, не ново, то новый повод помог мне особенно живо это почувствовать. Только теперь, когда я вновь вижу внутренним взором все эти берега и предгорья, заливы и бухты, острова и песчаные отмели, лесистые холмы, ласковые луга, хлебные поля, изящнейшие сады, тщательно ухоженные деревья, вьющиеся лозы, горы в облаках и радостные вечнозеленые равнины, скалы и косы, вдающиеся в море, все вечно меняющееся и вечно иное, только теперь «Одиссея» стала для меня живым словом.
Далее хочу сказать тебе, что я близок к разгадке тайны размножения и строения растений и что это очень просто — проще не придумаешь. Под здешним небом можно наблюдать правильно и тонко. Главное — начало всех начал — я знаю теперь отчетливо и бесспорно; остальное уже вижу в целом, только некоторые пункты еще надо сделать определеннее. Прарастение станет удивительнейшим созданием на свете, сама природа позавидует мне на него. С этой моделью и ключом к ней станет возможно до бесконечности придумывать растения, вполне последовательные, иными словами — которые если и не существуют то, безусловно, могли бы существовать и, не будучи поэтическими или живописными видениями и тенями, обладать внутренней правдой и необходимостью. Этот же закон сделается применимым ко всему живому.
Неаполь, пятница, 25 мая 1787 г.
Мою легкомысленную маленькую принцессу мне, верно, уже не придется увидеть. Она и вправду уехала в Сорренто и перед своим отъездом оказала мне честь, выбранив меня за то, что каменистую и дикую Сицилию я предпочел ей. Друзья кое-что порассказали мне об этом своеобразном существе. Из хорошей, но неимущей семьи, воспитанная в монастыре, она решилась выйти замуж за старого и богатого принца; убедить ее это сделать было тем легче, что природа создала ее хоть и доброй, но начисто неспособной к любви. В своей новой ипостаси богатой, но очень стесненной семейным положением дамы она пыталась помочь себе силою духа и, ограниченная в действиях и поступках, по крайней мере, давала волю своему языку. Меня уверяли, что, собственно говоря, поведенье ее безупречно, но она, видимо, решила необузданными речами бросить вызов всем условностям и шутя добавляла, что никакая цензура не пропустила бы ее речи в письменном изложении, так как любое ее слово порочит религию, государство или нравственность общества.
Мне также рассказывали истории о всевозможных милых ее чудачествах; одну из них я приведу здесь, хотя она и не очень пристойна.
Незадолго до землетрясения, случившегося в Калабрии, она поехала в тамошние имения своего супруга. Вблизи от ее дворца находился барак, вернее, одноэтажный деревянный дом без фундамента; впрочем, внутри он выглядел обжитым и даже уютным — красивые обои, хорошая мебель. При первом же подземном толчке она ушла туда. Сидя на софе, она что-то вязала, возле нее стоял столик для рукоделья, напротив сидел старик аббат, домовый священник. Вдруг пол вздыбился, здание с ее стороны просело, а с другой взмыло кверху, аббата и столик подняло на воздух. «Фу! — воскликнула она, прислонив голову к падающей стене. — Вы ведете себя так, словно хотите броситься на меня; столь почтенному человеку это не пристало! Не забывайте приличий, прошу вас!»
Между тем дом снова опустился, и она потешалась над нелепо похотливым видом, который будто бы имел бедный старик, начисто забывая за своими насмешками все беды и потери, понесенные ее семьей и тысячами других людей. Надо иметь на редкость счастливый характер, отпуская шутки, когда земля разверзается, чтобы тебя поглотить.
Неаполь, суббота, 26 мая 1787 г.
Если хорошенько вдуматься, то можно признать за благо наличие множества святых, — таким образом каждый верующий может выбрать себе святого по вкусу и с полнейшим доверием обращаться к своему избраннику. Сегодня был день моего святого, который я отметил не только в его честь, но и в его духе — благочестивым веселием.
Филиппо Нери здесь очень чтят и поминают с неизменной теплотою. Поучительно и приятно слушать рассказы о нем и его редкостной богобоязненности, а также о его неизменном благодушии. С ранних лет он ощутил в себе страстные религиозные порывы, с течением времени превратившиеся в наивысшие проявления религиозного экстаза, а именно — в дар непроизвольной молитвы, глубочайшего молчаливого богопочитания, дар слез и полного самозабвения; ему было дано отрываться от земли и парить над нею, что уже почитается наивысшим господним даром.
Со столь многими таинственными и редко встречающимися внутренними озарениями в нем сочетался ясный человеческий разум, уменье ценить, — правильнее будет, если я скажу, отрицать, — ценность благ земных, деятельная помощь ближним в их телесных и духовных нуждах. Он строго соблюдал обрядность, обязательную для верующего сына церкви в отношении праздников, присутствия на богослужениях, молитв, постов и т. п. И не менее рьяно занимался воспитанием юношества, обучением музыке, ораторскому искусству, упражняя разум молодых людей не только обсуждениями вопросов духовного порядка, но, по его собственному почину, и остроумными мирскими беседами и диспутами. Удивительно, что все это в течение долгих лет делалось в силу внутреннего влечения и призвания, хотя он не принадлежал ни к какому ордену или конгрегации и даже церковного сана не имел.
Но еще примечательнее, что его деятельность пришлась на лютеровские времена и что именно в Риме одаренного, богобоязненного, энергичного и настойчивого человека также осенила мысль воссоединить духовное начало с мирским, небесное ввести в Säkulum, в свою очередь, подготовить реформацию. Ибо только реформация — ключ, который может отпереть темницу папства и возвратить бога свободному миру.
Однако папский двор, вблизи коего, в окрестностях Рима, проживал человек столь незаурядный, не спускал с него бдительного ока и не угомонился, покуда тот, и всегда-то живший главным образом духовной жизнью, не нашел себе пристанища в монастыре, где он поучал и ободрял братию, намереваясь учредить если не новый орден, то хотя бы свободную общину и, наконец, дал себя уговорить принять постриг, а вместе с ним получить и те привилегии, о которых до сей поры он не ведал.
Если довольно естественно усомниться в чуде его телесного парения над землей, то дух его всегда был превыше земной юдоли, и ничто не отвращало его больше, чем тщеславие, притворство, высокомерие, — эти свойства он силился обороть, как труднейшие препятствия на пути истинно благочестивой жизни, и, как то говорится во многих преданиях, всегда с помощью добродушного юмора.
К примеру: однажды он находился в папских покоях, когда папе доложили, что в одном из монастырей, неподалеку от Рима, некая монахиня сподобилась чудесных духовных озарений. Папа поручил Нери проверить правдивость этих рассказов. Тот немедленно сел на мула и, несмотря на непогоду и плохие дороги, быстро добрался до монастыря. Его провели к настоятельнице, и та не только подтвердила все эти знаки милости божьей, но и подробно рассказала о них. Вызванная к Нери монахиня входит, и он после первого же приветствия протягивает ногу в грязном сапоге и предлагает ей снять его. Святая чистая дева, испугавшись, пятится к дверям и в гневных словах выражает свое возмущение. Нери спокойно встает, опять садится на мула и вскоре предстает перед папой, не ожидавшим столь быстрого возвращения своего посланного, ибо на предмет проверки таких милостей всевышнего у католических духовных отцов имеются обязательные предписания. Церковь не отрицает возможности подобного божьего дара, но истинность его признает лишь после строжайшего испытания. Нери кратко сообщил результат удивленному папе; «Она не святая, — воскликнул он, — и никаких чудес не совершает! Для этого ей недостает самого главного — смирения».
Эту максиму следует рассматривать как руководящий принцип всей его жизни. К сказанному еще один пример. Когда Нери основал конгрегацию Padri dell’ Oratorio, вскоре завоевавшую популярность и во многих возбудившую желанье в нее вступить, молодой римский князь явился однажды с просьбой о принятии его в члены конгрегации; ему было разрешено послушничество и выдана соответствующая одежда. Но так как через некоторое время он пожелал доподлинно вступить в братство, ему было сказано, что он должен подвергнуться еще некоторым испытаниям, на что тот выразил согласие. Тогда Нери принес длинный лисий хвост и потребовал, чтобы князь, прикрепив его сзади к своему одеянию и храня полную серьезность, прошелся по улицам Рима. Молодой человек ужаснулся не меньше, чем вышеупомянутая монахиня, и заявил, что пришел сюда не за стыдом, а за честью. Отец Нери заметил, что за этим ему не стоило приходить сюда, где первейший закон — самоотречение. После чего юноша с ним распрощался.
Своим девизом Нери избрал слова: «Spernere mundum, spernere te ipsum, spernere te sperni». Этим, собственно, все сказано. Ипохондрик может, конечно, внушать себе, что он в состоянии выполнить два первых пункта, но чтобы выполнить третий, надо уже быть на пути к святости.
Неаполь, 27 мая 1787 г.
Ваши милые письма от конца прошлого месяца я получил сразу из Рима через графа Фриза и радовался, читая и перечитывая их. Вместе с ними пришла и нетерпеливо ожидаемая шкатулочка. Тысячу раз благодарю вас за все.
К сожалению, вскоре наступит пора бежать отсюда. Я хоть и жажду напоследок еще раз хорошенько присмотреться к Неаполю и к его окрестностям, многое освежить в памяти и навсегда запомнить, вдобавок еще сделать кое-какие выводы, но течение времени увлекает меня за собой, а к этому еще присоединяются хорошие люди, новые и старые знакомые, с которыми я не могу вдруг порвать. Я встретил здесь одну премилую даму; прошлым летом в Карлсбаде мы с ней провели приятнейшие дни. И теперь не один час похитили у настоящего, предаваясь светлым воспоминаниям. Все, кто были нами любимы и любезны нашим сердцам, вновь чредою прошли перед нами, и первым делом мы вспомнили резвый юмор дорогого нашего герцога. У нее еще сохранилось стихотворение, которым девушки из Энгельхауза сумели удивить его перед самым отъездом. Оно воскресило все веселые сценки, смешные дразнилки и мистификации, остроумные попытки взаимного мщения. Мы опять почувствовали себя на немецкой почве, в лучшем немецком обществе, стесненными отвесными скалами, связанными друг с другом удивительным нашим местопребыванием, но еще теснее взаимным уважением, дружбой, нежной склонностью. Однако, стоило нам подойти к окну, как мимо нас уже помчался неаполитанский поток, снося все на своем пути, в том числе и эти мирные воспоминания.
От знакомства с герцогом и герцогиней фон Урсель я тоже не сумел уклониться. Это достойная чета, с прекрасными манерами, чистым отношением к людям и природе, исполненная любви к искусству, благожелательностью к тем, кто встречается на их пути. Частые беседы с ними были для меня весьма привлекательны.
Гамильтон и его красавица по-прежнему были любезны со мною. Я обедал у них, а под вечер мисс Гарт знакомила нас со своими музыкальными и вокальными талантами.
По настоянию Хаккерта, который становится все благосклонней ко мне и хочет, чтобы я не упустил ничего достойного внимания, Гамильтон свел нас в свое потайное хранилище произведений искусства и всякой всячины, к искусству относящейся. Там такое творится, что и вообразить невозможно: вещи всех эпох, размещенные в полном беспорядке: бюсты, торсы, вазы, бронза, безделушки из сицилийских агатов, даже часовенка, резные изделия, картины, — словом, все, что было им приобретено по чистой случайности. В продолговатом ящике на полу, — я отодвинул его поломанную крышку, — два великолепнейших бронзовых канделябра. Подозвав Хаккерта, я тихонько спросил, не находит ли он, что они до удивительности схожи с канделябрами в Портичи. Он знаком попросил меня молчать; они, мол, запросто могли попасть сюда с помпейских раскопок. Из-за таких и тому подобных счастливых приобретений лорд и показывает свои тайные сокровища только друзьям, которым полностью доверяет.
Мое внимание привлек вертикально поставленный ящик, спереди открытый, изнутри покрашенный в черный цвет и к тому же заключенный в роскошную золотую раму. Он был достаточно велик, чтобы вместить стоящего человека, это-то и помогло нам догадаться о его назначении. Большой любитель искусства и красивых женщин, лорд Гамильтон не желал довольствоваться живой красавицей, он хотел наслаждаться ею еще и как неподражаемой картиной, отчего ей и приходилось в этой золотой раме, пестро одетой, на черном фоне, изображать античные фрески Помпеи или даже современные шедевры. Но это время, видно, уже отошло, к тому же нелегко было переносить и ставить в надлежащее освещение всю эту декорацию, — итак, нам не суждено было полюбоваться сим спектаклем.
Здесь уместно будет вспомнить и о другом пристрастии неаполитанцев. Я имею в виду вертепы на рождество, стоящие во всех церквах, — собственно, поклонение пастухов, ангелов и царей, сгруппированных с большей или меньшей полнотой и одетых более или менее пышно и богато. Эта группа в веселом Неаполе взобралась даже на плоские крыши, где сколачивалось некое подобие хижины, украшенной ветками вечнозеленых деревьев и кустарника. Богоматерь, младенец и все, что стоят или парят вокруг, богато разряжены, причем хозяева дома тратят на их гардероб немалые деньги. Но поистине прекрасным все это делает фон — Везувий и то, что поблизости от него.
С некоторого времени меж кукол стали появляться и живые фигуры, и мало-помалу одним из любимейших вечерних развлечений в знатных и богатых домах сделались живые картины на исторические, а иной раз и поэтические сюжеты.
Если мне дозволено будет сделать замечание, от которого любезно и тепло встреченному гостю следовало бы воздержаться, то признаюсь, что наша очаровательная хозяйка все же представляется мне существом бездушным, она хоть и прельщает нас своим внешним обликом, но в звуке ее голоса, даже в ее речах нет ни значительности, ни задушевности. Оттого и в ее пении отсутствует волнующая полнота чувств.
Так же обстоит дело и с этими живыми картинами. Красивые люди встречаются повсюду, глубоко чувствующие, да еще одаренные хорошими голосами — куда реже, и уж совсем редко — сочетание красоты и хороших голосовых данных.
Гердерова третья часть очень меня радует. Сохраните ее для меня, а я напишу, куда мне ее направить. В ней, не сомневаюсь, прекрасно изложена заветная мечта человечества: наступит время, когда всем будет житься лучше. Признаться, я и сам верю, что в конце концов гуманность восторжествует, боюсь только, как бы в этом случае мир не превратился в гигантский госпиталь и каждый не стал бы для другого хлопотливой сиделкой.
Неаполь, 28 мая 1787 г.
Мой добрый и весьма полезный Фолькман принуждает меня иной раз пренебрегать его мнением. По его словам, в Неаполе проживает от тридцати до сорока тысяч тунеядцев, и кто только за ним этого не повторяет! Я же, получше ознакомившись с жизнью на юге, убедился, что это северная точка зрения, — у нас бездельником считается каждый, кто с утра до вечера не трудится в поте лица своего. Посему я стал присматриваться к здешним жителям и заметил, что независимо от того, находятся они в движении или в покое, многие очень плохо одеты, но ничего не делающих среди них я не видел.
Спросил у кое-кого из друзей о будто бы бесчисленных праздношатающихся, на которых мне тоже интересно было взглянуть, но и они не могли мне их указать, а так как моя затея была связана с повторным осмотром города, то я в одиночку отправился на охоту.
В немыслимой толчее я стал приглядываться к самым разным типам людей, пытаясь по облику, одежде, повадкам и занятиям определять и классифицировать их. Я считал, что здесь это сделать легче, чем где бы то ни было, так как человек здесь больше предоставлен самому себе, да и внешне обычно соответствует своему сословию.
Эти наблюдения я начал рано утром, и все люди, которые, казалось, спокойно стояли или присели отдохнуть, на самом деле профессионально чем-то занимались.
Носильщики, например, — у них на многих площадях имеются свои постоянные места, — только и ждут, чтобы кто-нибудь пожелал воспользоваться их услугами; так называемые «калессары», их работники и мальчишки-помощники, которые на больших площадях стоят возле одноконных колясок, кормят и чистят лошадей, готовые обслужить каждого, кому потребуются их услуги; мореходы, которые курят трубки на молу; рыбаки, лежащие на солнце, возможно, потому, что встречный ветер не позволяет им выйти в море. Многие, как я заметил, просто шагали туда и обратно, но едва ли не каждый имел при себе орудия своего труда. Попрошаек я вообще не встретил, за исключением нескольких стариков, уже совсем дряхлых и беспомощных. Я неусыпно смотрел по сторонам, стараясь никого и ничего не упускать, но доподлинных бездельников, все равно мужчин или женщин, не видел ни утром, ни в последующую часть дня, ни среди представителей низшего или среднего класса.
Я вдаюсь во все эти мелкие подробности, чтобы сделать свое утверждение как можно более наглядным и правдивым. Даже самые малые дети всегда при деле. Многие из них носят на продажу рыбу с Санта-Лючии в город; других я видел у Арсенала или вообще там, где что-то строят и где можно подобрать щепки, а также у моря, выбрасывающего на берег ветки или древесные обломки, которые они тщательно собирают в корзины. Даже малыши, еще только ползающие, заняты этим промыслом вместе с мальчиками постарше, лет эдак пяти-шести. Неся в руках полные корзины, дети отправляются в глубь города и со своими дровишками усаживаются на рынке. Ремесленники или мелкие торговцы покупают их и под своим треножником пережигают в угли, чтобы согреться, или используют для своей скромной стряпни.
Одни ребятишки торгуют вразнос водой из серных источников, которую здесь, особенно весной, пьют очень охотно. Другие, чтобы хоть немножко подзаработать, покупают овощи, непроцеженный мед, пирожные, сласти и, маленькие коммерсанты, продают их такой же детворе только для того, чтобы, задаром получить свою долю… Любо-дорого смотреть, как такой мальчонка, все торговое оборудование которого состоит из доски и ножа, ходит по рынку с арбузом или половиной печеной тыквы, как вокруг него собирается толпа ребятишек, а он, опустив свою доску, начинает делить плод на крохотные порции. Покупатели внимательно следят за тем, чтобы получить за свой медяк сколько положено, но и маленький торговец действует осторожно, не желая остаться внакладе. Не сомневаюсь, что, останься я в Неаполе подольше, мне бы удалось увидеть еще множество примеров такого детского приобретательства…
…Я бы слишком далеко уклонился в сторону, если бы пустился в разговор о разнообразной мелочной торговле, которую с удовольствием наблюдаешь в Неаполе, как, впрочем, и в любом большом городе, но о разносчиках, принадлежащих к низшему классу народонаселения, я все же должен сказать несколько слов. Одни носят при себе небольшой бочонок с ледяной водою, стаканы и лимоны, чтобы по первому требованию без промедления приготовить лимонад, в котором не отказывает себе даже последний бедняк; в руках у других подносы с разными ликерами и рюмки в деревянных кольцах, не дающих им упасть; третьи в корзинах разносят печенье, разные лакомства, лимоны и другие фрукты, — право, кажется, что каждый стремится не только внести свою лепту, но и разделить со своими согражданами тот нескончаемый праздник наслаждения, который ежедневно справляется в Неаполе.
Эти разносчики хлопочут без устали, но, кроме них, существует еще множество совсем мелких торговцев; они тоже шныряют по городу, таская свой товар на доске, на крышке от какого-нибудь ящика или же попросту раскладывая его на земле. Тут уж и речи нет о вещах, какие можно купить в больших магазинах, — это обыкновенный хлам. Нет такого кусочка железа, кожи, сукна, холста или войлока, который не вернулся бы на рынок и не был бы кем-то куплен уже из рук старьевщика. Кстати сказать, многие простолюдины зарабатывают свой хлеб в качестве посыльных или подручных при ремесленниках и мелких торговцах.
Правда, здесь на каждом шагу можно встретить человека, очень плохо одетого, проще говоря, оборванна, но из этого отнюдь не следует, что он лентяй или вор! Как ни парадоксально то, что я сейчас скажу, но, думается, в Неаполе едва ли не большая часть товарного производства сосредотачивается в низших классах. Разумеется, тут никакого сравнения с северными промыслами быть не может. Там необходимо предусматривать не только день и час, но в теплые и погожие дни заботиться о холодных и непогожих, летом — о зиме. Сама природа заставляет северянина быть заботливым и предусмотрительным, хозяйку — солить и коптить, чтобы обеспечить семью на весь год, хозяина — запасать дрова, зерно, не забыв о корме для скота и т. п., что, конечно, отнимает у него прекрасные часы наслаждения, заставляя посвящать их тяжкому труду. На долгие месяцы люди по доброй воле лишают себя свежего воздуха, прячась в домах от ненастья, дождя, снега и мороза. Времена года сменяются неотвратимо, и тот, кто не хочет погибнуть, должен быть рачительным хозяином. Здесь ведь не ставится вопрос, хочет ли он претерпевать лишения; он не вправе, вернее, он не имеет возможности этого хотеть, природа вынуждает его трудиться, работать впрок. И, конечно же, именно эти неукоснительные требования природы, одинаковые на протяжении тысячелетий, определили во многих отношениях достойный характер северных наций. Мы же судим о южных народах, с коими так мягко обошлись небеса, со своей точки зрения, то есть судим слишком строго. То, что господни Фон Пау в своих «Recherches sur les grecs» отваживается высказать по поводу философов-циников, полностью соответствует данной ситуации. Никто, полагает он, не имеет достаточно правильного представления о жалком положении этих людей; их принцип — не стремиться ни к каким жизненным благам — поощряется климатом, который дарует им все необходимое. Бедный, как будто бы несчастный человек в южных широтах может не только удовлетворить свои насущнейшие потребности, но еще и вовсю наслаждаться жизнью. А так называемому неаполитанскому нищему ничего не стоит пренебречь должностью вице-короля Норвегии или отказаться от чести быть губернатором Сибири, буде императрица Российская пожелала бы ему эту должность предоставить.
Разумеется, в наших краях философ-циник едва-едва сводил бы концы с концами, тогда как на юге ему на помощь приходит природа.
Вообще парадокс, который я отважился высказать выше, мог бы дать повод для разных наблюдений тому, кто захочет написать картину Неаполя, — для чего, конечно, требуется немалый талант и многие годы целеустремленного внимания. Тогда, пожалуй, удастся заметить, что так называемый лаццарони ни на волос не уступает в трудолюбии другим слоям народонаселения, которые, в свою очередь, работают не только, чтобы жить, но и чтобы наслаждаться жизнью, и даже в труде хотят радоваться ей. Этим объясняется, отчего итальянские ремесленники изрядно поотстали от северных; отчего здесь не прививаются фабрики, отчего, не считая адвокатов и врачей, на большое количество населения приходится мало людей с высшим образованием, сколько бы заслуженных мужей ни пеклись о том, чтобы изменить это положение; отчего ни один художник неаполитанской школы не знал упорного труда и не сделался подлинно великим, отчего духовные лица всему предпочитают праздность, аристократы же в своих загородных владениях проводят время главным образом в чувственных радостях, в роскоши и развлечениях.
Я отлично понимаю, что все мною сказанное носит очень уж общий характер, что определить черты, присущие тому или иному классу, можно, лишь хорошенько ознакомясь с ним, но в общих чертах мы все равно пришли бы к такому же выводу.
Я снова возвращаюсь к неаполитанским простолюдинам. С ними как с жизнерадостными ребятишками, — дашь им поручение — они таковое выполнят, но при этом постараются обратить его в забаву. Среди них много людей очень живых, со свободным и верным взглядом на вещи. Речь их, как утверждают старожилы, образна, шутят они охотно и едко. Старая Ателла расположена невдалеке от Неаполя, и если их любимец Пульчинелла все еще продолжает свои игры, то и простолюдины по-прежнему с живым интересом относятся к его забавам.
Неаполь, 29 мая 1787 г.
С великим удовольствием смотришь на буйное, заразительное веселье, которое царит повсюду. Многоцветные растения и плоды — любимые украшения природы — так и манят человека украсить себя и всю утварь, его окружающую, самыми яркими красками. Шелковые платки, ленты, цветы на шляпы нацепляет на себя каждый, кому это хоть как-то доступно. Стулья и комоды, даже в беднейших домах, расписаны цветами по золотому полю, одноколки — и те ярко-красные, резьба на них позолоченная, лошади убраны бумажными цветами, алыми кистями и сусальным золотом. У одних на голове покачиваются султаны из перьев, у других — флажки, на ходу они крутятся во все стороны. Пристрастие к ярким краскам мы обычно именуем варварством, безвкусицей; возможно, что так оно и есть, но под этим радостно-голубым небом ничто не выглядит слишком пестрым, ибо никакой пестроте не затмить блеска солнца и его отражения в море. Самую яркую краску приглушают могучие потоки света, а так как все цвета, вся зелень деревьев и растений, желтая, бурая, красная земля ослепляют взор, то самые пестрые цвета и платья сливаются в общую гармонию. Алые безрукавки и юбки женщин из Неттуно, с широкой золотой или серебряной каймою, другие красочные национальные костюмы, расписные корабли — все словно бы старается быть хоть как-то заметным в сиянии неба и моря.
Они как живут, так и хоронят своих усопших. Черная медленная процессия не должна нарушать гармонию радостного мира.
Я видел, как несли на кладбище ребенка. Пунцовый бархатный ковер, затканный золотом, покрывал широкие носилки, на них стоял ящичек, позолоченный и посеребренный, в котором лежал одетый в белое ребенок, почти весь закрытый розовыми лентами. По четырем углам ящичка стояли четыре ангела фута в два вышиной, державшие букеты цветов над усопшим. Снизу букеты были укреплены на проволоке и от движения носилок раскачивались, казалось, источая нежное и живительное благоухание. Ангелов тоже качало в одну и в другую сторону. Так процессия быстро двигалась вперед, священнослужители и факельщики во главе ее не столько шли, сколько бежали по улицам.
Нет такого времени года, когда бы мы не были со всех сторон окружены съестными припасами; неаполитанцы не просто радуются лакомым блюдам, но стараются покрасивее выложить товар, предназначенный к продаже.
На набережной Санта-Лючия рыба, как правило, разложена по породам в чистые и приятные на вид корзинки. Тщательно рассортированные крабы, устрицы, мелкие ракушки красуются на зеленых листьях. Лавки, торгующие сушеными фруктами и бобовыми, разукрашены, сколько хватает фантазии у их владельцев. Апельсины, лимоны всех сортов, переложенные зелеными ветками, радуют глаз. Но всего наряднее выглядят мясные лавки; народ с вожделением смотрит на этот товар, так как частые посты изрядно возбуждают аппетит.
У мясников вывешены большие куски говядины, телятины и баранины, причем жирный бок или кострец частично всегда позолочен. Есть в году дни, прежде всего рождественская неделя, которые славятся как праздник обжорства. Тогда же справляется неаполитанский карнавал, в котором, словно по сговору, участвуют пятьсот тысяч человек. И как же аппетитно украшена тогда улица Толедо, прилегающие к ней переулки и площади поблизости от нее! Радуют глаз зеленные лавки, в них прельстительно выставлены дыни, изюм, винные ягоды. Гирлянды съестных товаров висят поперек мостовой, словно гигантские четки из позолоченных, перевязанных красными лентами колбас, а рядом индюки, из-под гузок которых торчат красные флажки. Меня заверили, что их продается здесь не меньше тридцати тысяч, не считая откормленных дома. Вдобавок по городу и рынку гонят еще множество ослов, нагруженных зеленью, каплунами и ягнятами. Тут и там возвышаются горы яиц, — невозможно себе даже представить, что их скопили такую уйму. Мало того что все это съедается, всякий год полицейский в сопровождении трубача скачет по городу и на всех площадях и перекрестках возвещает, сколько быков, телят, барашков, свиней и т. д. съедено неаполитанцами. Народ внимательно прислушивается, безмерно радуется столь большим цифрам, и каждый с удовольствием вспоминает о своем участии в этих пиршествах.
Что касается мучных и молочных блюд, которые в таком разнообразии стряпают наши северные кухарки, то неаполитанцы, стараясь не тратить много времени на стряпню и к тому же не имея благоустроенных кухонь, все равно сумели, да еще как, о себе позаботиться. Макароны всех сортов из нежного, хотя и круто замешанного теста, — мука на них берется всегда самая лучшая, — сваренные в самых различных формах, можно задешево купить на каждом шагу. Обычно их бросают в кипящую воду, приправой же к ним служит тертый и слегка растопленный сыр. Почти на всех углах оживленных улиц, особенно в постные дни, стоят кухарки со своими сковородами, полными кипящего постного масла, которые живо приготовляют рыбу или тестяные изделия, смотря по требованию покупателя. Сбыт эти товары имеют почти невероятный, многие тысячи горожан несут домой свой обед или ужин, завернутый в клочок бумаги.
Неаполь, суббота, 1 июня 1787 г.
Прибытие маркиза Луччезини на несколько дней отодвинуло мой отъезд; знакомство с ним доставило мне много радости. Он кажется человеком со здоровым нравственным желудком, который неизменно наслаждается за всемирной трапезой, не то что мы, грешные, словно жвачные животные, временами переполняем себе желудок и уже ничего не можем в рот взять, покуда еще раз не прожуем свою жвачку и не покончим с пищеварением. Жена его мне тоже понравилась, — бравая и милая немка.
Теперь я уже охотно уеду из Неаполя, более того — я должен уехать. В последнее время меня разобрала охота встречаться с разными людьми, я завел много интересных знакомств и очень доволен часами, которые им посвятил, но еще две недели, и я бы стал уходить все дальше и дальше от своей цели. К тому же здесь тобой завладевает безделье. После возвращенья из Пестума я мало что видел, кроме сокровищ Портичи, многое бы еще надо было осмотреть, но я из-за этого и шагу не ступлю. Этот же музей действительно альфа и омега всех античных собраний. Там мы видим, насколько древние опережали нас в художественном чутье, хотя в чисто ремесленной сноровке изрядно от нас отставали.
Вечером.
Мои прощальные и благодарственные визиты были для меня отрадны и поучительны, мне показывали многое, с чем раньше не спешили или о чем просто забывали. Кавалер Венути даже позволил мне еще раз осмотреть его потайные сокровища. Я вторично с благоговением стоял перед его пусть искалеченным, но бесценным Улиссом. Под конец он повел меня на фарфоровый завод, где я постарался запечатлеть в памяти черты Геркулеса и вдосталь нагляделся на сосуды из Римской Кампаньи!
…Мой банкир, к которому я попал в обеденное время, ни за что не хотел отпускать меня; все было бы хорошо и приятно, если бы лава не притягивала моего воображения. За разными хлопотами, платежами, укладкой вещей подошла ночь, и я поспешил на мол.
Здесь я увидел все фонари, все огни, все их отражения, колеблющиеся оттого, что море было неспокойно; увидел полную луну во всем ее великолепии, — рядом со снопами искр, которые извергал вулкан, и, наконец, лаву, — в прошлый раз она еще отсутствовала, — на своем раскаленном суровом пути. Мне следовало бы поехать туда, но сейчас сложно было это устроить, я бы только к утру добрался до Везувия. Мне не хотелось, чтобы нетерпение прервало зрелище, которым я любовался, потому я остался на молу, покуда, несмотря на толпу то прибывавшую, то редевшую, несмотря на ее пересуды, толки, сравнения и споры — куда же потечет лава, несмотря на весь шум и гам, у меня не начали слипаться глаза.
Неаполь, суббота, 2 июня 1787 г.
Итак, хотя я и этот прекрасный день провел в обществе достойнейших людей, весело и с пользой, — но вразрез со своими намерениями, отчего на сердце у меня было тяжело. С тоскою смотрел я на дым, который валил из горы и, медленно спускаясь к морю, все более четко обозначал путь лавы. Вечер у меня тоже был занят, я обещал посетить герцогиню Джованни; в ее дворце меня заставили пройти по множеству коридоров в верхнем этаже, загроможденных ящиками и шкафами, словом, тем, что стесняет жизнь человека, вынужденного постоянно бывать при дворе. В большой и высокой комнате, откуда сколько-нибудь интересного вида не открывалось, меня встретила красивая молодая дама, владевшая искусством приятной светской беседы. Немка по рождению, она знала, какими путями шла немецкая литература к более свободной гуманности, к широким взглядам, и прежде всего ценила усилия Гердера и его последователей, равно как и чистый разум Гарве. Она пыталась не отставать от немецких писательниц, и, видимо, заветным ее желанием было владеть искусным и не бесталанным пером. К этому она сводила все свои разговоры, не в силах утаить намерения влиять на девушек из аристократических семейств. Но вообще-то такой разговор ни конца, ни края не знает. Сгустились сумерки, но свечей еще не вносили. Мы с ней ходили по комнате из угла в угол, и она, подойдя к окнам, закрытым ставнями, вдруг распахнула одну из них, и я увидел то, что можно увидеть лишь однажды в жизни. Если она сделала это нарочно, чтобы меня потрясти, то достигла своей цели. Мы стояли у окна верхнего этажа, прямо напротив Везувия. Лава текла вниз, и этот поток, когда солнце давно уже село, пылал, золотя дым, вившийся над ним. Вулкан неистовствовал, гигантская дымовая туча повисла над кратером, при каждом выбросе она молниеносно расчленялась, и, освещенная, становилась объемной. Оттуда вниз до самого моря тянулась рдеющая полоса огня и огненных паров, а дальше — море и твердь, скалы и заросли выступали в вечерних сумерках, отчетливо, мирно, в зачарованном спокойствии. Окинуть все это единым взглядом и, как завершение дивной картины, увидеть еще полную луну, выходящую из-за горного хребта, — право же, это повергало в трепет.
Глаз схватывал все разом с той точки, на которой мы стояли, и если ему и не было дано многое разглядеть в отдельности, то впечатление великого целого не утрачивалось ни на миг. Пусть это зрелище прервало наш разговор, зато он стал как-то теплее. Сейчас перед нами был текст, и чтобы прокомментировать его, недостало бы тысячелетий. Чем больше темнела ночь, тем яснее становилось все кругом. Луна светила, как второе солнце. Столбы дыма, его полосы и массивы просвечивались насквозь, казалось даже, что и слабо вооруженным глазом можно разглядеть вулканические бомбы над черным конусом горы. Моя хозяйка, — я так ее назову, потому, что мне не часто доводилось есть такой ужин, — велела переставить свечи к противоположной стене. Прекрасная женщина, озаренная лунным светом, на переднем плане этой, можно сказать, невероятной картины, казалось, с минуты на минуту хорошела, а прелесть ее для меня увеличивалась еще и тем, что в этом южном раю слух мой ласкала немецкая речь. Я забыл о времени, и ей пришлось мне напомнить, с большой неохотой, как она сказала, что мне пора уходить, — в этот час галереи ее дома запираются, как в монастыре. Итак, я, слегка помедлив, простился с тем, что было уже далеко, и с тем, что еще оставалось близко, благословляя судьбу, вознаградившую меня за невольную добродетель этого дня столь прекрасным вечером. Уже под открытым небом я сказал себе, что вблизи этот великий поток лавы вряд ли бы сильно отличался от малого, уже виденного мною, и что последний взгляд на Неаполь, прощанье с ним должно было произойти именно так, как произошло. Вместо того чтобы пойти домой, я зашагал к молу — еще раз насладиться дивным зрелищем, имея перед глазами другой передний план; но уж не знаю, усталость ли от изобиловавшего впечатлениями дня или боязнь, что в памяти моей изгладится последняя прекрасная картина, но я поспешил на Марикони, где застал Книпа, пришедшего со своей новой квартиры меня проведать. За бутылкой вина мы поговорили о будущих наших делах. Я пообещал ему, что, как только смогу показать в Германии несколько его работ, ему будут даны рекомендации к герцогу Готскому и, конечно же, он станет получать от него заказы. Так мы распрощались, радуясь нашему знакомству и уповая на будущую взаимополезную совместную работу.
Неаполь, воскресенье, 3 июня 1787 г.
Троицын день.
Так я покидал этот несравненный город, который мне, вероятно, не суждено будет увидеть вновь, среди его нескончаемого оживления, довольный уже и тем, что не оставлял за собой ни раскаяния, ни боли. Я думал о добром нашем Книпе, давая себе слово всем сердцем печься о нем даже издалека.
Уже за городом, у последней заставы ко мне на мгновенье подошел таможенный чиновник, приветливо глянул мне в лицо и тут же отскочил. Другие таможенники еще продолжали досматривать экипажи, когда из дверей кофейни вышел Книп с подносом, на котором стояла огромная китайская чашка с черным кофе. Он приблизился к спущенной подножке неторопливо, даже с некоторой важностью от сердечного волнения, что очень его красило. Я был поражен и растроган, — такое благодарное внимание, право же, не имеет себе равных. «Вы столько сделали добра для меня, добра, которое скажется на всей моей жизни, так пусть же это будет символом того, чем я вам обязан», — сказал он.
Я вообще-то немею при подобных оказиях, и тут, уж конечно, ограничился лаконическим замечанием, что он своими трудами сделал меня своим должником, а использование и обработка наших общих сокровищ еще больше обяжут меня.
Мы расстались, как редко расстаются люди, встретившиеся случайно и лишь на краткий срок. Наверно, мы видели бы от жизни больше благодарности и пользы, если бы сразу высказывали, чего мы ждем друг от друга. Выполнив таким образом свой долг, обе стороны оставались бы довольны; а правдивость — начало и конец всего сущего — обернулась бы уже чистой прибылью.
ВТОРОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В РИМЕ С ИЮНЯ 1787 г. ДО АПРЕЛЯ 1788 г.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ
Рим, 8 июня 1787 г.
Третьего дня я снова благополучно прибыл сюда, а вчера великий праздник тела Христова мгновенно посвятил меня в римляне. Не могу не признаться, что отъезд из Неаполя причинил мне некоторую боль, и не столько из-за дивных его окрестностей, которые я покидал, сколько из-за мощного потока лавы, прокладывавшего себе путь от вершины вулкана к морю; мне ведь следовало рассмотреть этот поток вблизи, вникнуть в его природу, приобщить к своему опыту, ко всему, что я слышал и читал о лаве.
Сегодня моя тоска по величественнейшей из картин природы уже улеглась. И не то чтобы этому способствовала благочестивая праздничная суета, которая, несмотря на известную импозантность целого, все же уязвляет наши чувства отдельными безвкусными подробностями, нет, я вновь был вовлечен в круг высоких представлений созерцанием ковров по картонам Рафаэля. Наилучшие, безусловно, сотканные по его подлинникам, разостланы все вместе, другие, вероятно, сработанные его учениками, современниками и товарищами по искусству, достойно смыкаются с ними и покрывают огромную анфиладу зал.
Рим, 20 июня.
Я снова вижу здесь превосходные произведения искусства, отчего дух мой очищается и крепнет. И все-таки мне бы надо было еще не менее года пробыть одному в Риме, чтобы на свой манер использовать это пребывание, а вы знаете, по-другому у меня не получается. Лишь теперь, покидая Рим, я понимаю, что́ еще не открылось мне, но пусть так, на время с меня хватит.
Геркулес из дома Фарнези увезен, но я еще успел его посмотреть на собственных его ногах, которые были ему возвращены по прошествии столь долгого времени. Загадкой осталось, как можно было удовлетворяться первыми, сделанными Порта. Теперь Геркулес — одно из совершеннейших творений античных времен. В Неаполе король намеревается построить музей, где, под одной крышей, будет находиться все, что у него имеется из произведений искусства: Геркуланумский музей, картины из Помпей, картина с Капо-ди-Монте, все наследие Фарнези. Это великое и прекрасное начинание. Наш земляк Хаккерт привел в действие весь этот механизм. Даже Фарнезскому быку предстоит перекочевать в Неаполь, где он будет водружен на променаде. Если бы они могли прихватить из дворца галерею Караччи, они бы и перед этим не остановились.
Рим, конец июня.
Я поступил в великую, даже слишком великую школу, и скоро мне здесь ученья не закончить. Мои познания в искусстве, мои скромные таланты должны быть здесь основательнейшим образом отработаны, должны окончательно созреть, иначе к вам вернется лишь половина вашего друга, и томление, усилия, кропотливый, изнурительный труд — все начнется сызнова. Возьмись я рассказывать, как в этом месяце мне везло здесь, как все, словно на подносе, мне преподносилось, и мой рассказ станет нескончаемым. У меня хорошая квартира, милые хозяева. Тишбейн уезжает в Неаполь, а я перебираюсь в его мастерскую — большую прохладную залу. Если будете думать обо мне — думайте о счастливце. Писать я буду часто, а это значит, что мы всегда будем вместе.
Новых идей и замыслов у меня хоть отбавляй. Когда я остаюсь наедине с собой, передо мной снова встает моя ранняя юность, вплоть до мельчайших подробностей, а потом величие и высокое достоинство того, что я вижу, опять уносит меня в такие дали и выси, что, кажется, на все это и жизни не хватит. Глаза мои приобретают зоркость почти невероятную, но и руке ведь нельзя очень уж сильно отставать. На свете есть только один Рим, в нем я чувствую себя, как рыба в воде, и плаваю поверху, как пушечное ядро в ртути, которое идет ко дну в любой другой жидкости. Единственное, что омрачает атмосферу моей душевной жизни, это невозможность разделить свое счастье с вами, мои любимые. Небо все время упоительно ясное, туманная дымка повисает над Римом лишь утром и вечером. В горах, — в Альбано, Кастелло, Фраскати, я там провел три дня на прошлой неделе, — воздух всегда радостно-прозрачен. Вот где надо бы изучать природу!
ИЗ ПЕРЕПИСКИ
Рим, 20 июля.
За это время мне удалось обнаружить два основных моих недостатка, которые всю жизнь изводили и терзали меня. Один — это то, что мне никогда не удавалось усвоить ремесло, неотъемлемое от той области искусства, которой я хотел или должен был заняться. Оттого-то я, несмотря на врожденную и разнообразную одаренность, так мало создал и так мало совершил. Иной раз сила духа понуждала меня приступить к тому или другому сочинению, а удавалось оно или нет, это уж зависело от случая и везенья, но если я хотел сделать что-то продуманно и на совесть, то робел и никак не мог справиться с поставленной себе задачей. Второй недостаток, родственный первому, это то, что времени на работу или дело у меня всегда было меньше, чем требовалось. Так как мне дано великое счастье, вернее, способность, быстро многое обдумывать и сопоставлять, то кропотливо-последовательное исполнение мне непереносимо скучно. Теперь, подумал я, самая пора этот недостаток исправить. Я живу в стране искусства, так будет же мне позволено основательно проработать этот предмет, дабы обеспечить себе покой и радость на все оставшиеся мне годы, и перейти к чему-то другому.
Лучшего места, чем Рим, для этого не найти. Мы видим здесь не только самые различные произведения искусства, но и самых разных людей, которые серьезно работают, идут по правильному пути; в беседе с ними можно без труда и, к тому же быстро, продвинуться вперед. Слава тебе, господи, я начинаю учиться у других и многое перенимать.
Итак, душевно и физически я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Надеюсь, вы в этом убедитесь по продукции, которую я вам пришлю, и примиритесь с моим отсутствием. В том, что я делаю и думаю, я с вами неразлучен, вообще же я здесь очень одинок и вынужден видоизменять разговоры. Впрочем, здесь это легче, чем где бы то ни было, так как с каждым находится интересная тема для беседы.
ИЗ ПЕРЕПИСКИ
Рим, 11 августа.
Я остаюсь в Италии до следующей пасхи. Негоже мне сейчас забросить учение. Если продержусь, то достигну многого и, надеюсь, порадую друзей. Писать вам буду регулярно, произведения же свои посылать время от времени, таким образом у вас составится представление обо мне как о живом, хотя и отсутствующем, а то ведь вы уже частенько жалели меня как присутствующего среди вас мертвеца.
«Эгмонт» закончен и в конце этого месяца уедет к вам. Я же буду с болью и тревогой ожидать вашего суждения.
Дня не проходит, чтобы я не приобрел новых познаний в искусстве и в практическом его осуществлении. Как бутылка быстро наполняется, если ее с открытым горлышком опустить в воду, так и человек, мало-мальски подготовленный и восприимчивый, полнится здесь новыми знаниями, ибо стихия искусства со всех сторон теснит его.
Хорошее лето, что стоит у вас, я мог бы заранее предсказать, живя здесь. У нас небо все время одинаково ясное, а в полдень — ужасающая жара, от которой меня до известной степени спасает моя прохладная зала. Сентябрь и октябрь я собираюсь провести на лоне природы и писать с натуры. Возможно, я опять отправлюсь в Неаполь и еще поучусь там у Хаккерта. За две недели, проведенные с ним за городом, он помог мне продвинуться вперед больше, чем сам я продвинулся бы за годы. Сейчас еще ничего тебе не посылаю, но прикопил, наверно, с дюжину, маленьких набросков, чтобы сразу прислать что-нибудь хорошее.
Эту неделю провел тихо, в усердном труде. Многому научился, главным образом в смысле перспективы. Фершаффельт, сын мангеймского директора, хорошо продумал это учение и поделился со мной своими художественными приемами. Несколько пейзажей в лунном свете уже были перенесены на доску и растушеваны, и тут же, наряду с другими, возникло еще несколько идей, пожалуй, слишком сумасбродных, чтобы упоминать о них.
Рим, 23 августа 1787 г.
Ваше милое письмо за номером 24 получил вчера, уходя в Ватикан. Я читал его и перечитывал по дороге туда, а потом в Сикстинской капелле, в минуты роздыха от пристального разглядыванья и запоминанья. Трудно даже сказать, как я жаждал, чтобы вы были здесь со мной и могли хотя бы составить себе представление о том, что в состоянии придумать и сотворить один-единственный великий человек. Тот, кто не видел Сикстинский капеллы, не в силах наглядно себе представить, на что человек способен. Мы читаем и слышим о множестве великих и достойных людей, но здесь его творения — живые, они у тебя над головой, перед глазами. Я мысленно беседовал с вами и хотел бы видеть эту беседу на бумаге. Вы желаете знать обо мне! Как много мог бы я сказать вам, — я ведь полностью переродился, стал другим человеком, мой внутренний мир теперь наполнен до краев. Я чувствую, как сосредоточиваются все мои силы, и надеюсь еще кое-что сделать. Последнее время серьезно думал о ландшафте и архитектуре, кое-что испробовал и уже ясно вижу, куда это ведет и что мне тут по плечу.
Под конец меня еще захватила альфа и омега всего сущего, то есть человеческое тело, и я к нему приступил, шепча: «Господи, не отстану я от тебя, покуда не дашь мне своего благословения, хотя бы и пришлось мне охрометь в единоборстве с тобою». С рисунками ничего у меня не получается, я решил заняться скульптурой, и похоже, что тут я сдвинусь с места. Меня осенила мысль, которая многое мне облегчит. Говорить о ней подробно — не стоит, да и вообще лучше творить, чем говорить. Но хватит, все дело в том, что упорное изучение природы и кропотливые занятия сравнительной анатомией дали мне возможность и в природе и в древностях видеть в целом, то, что художники с трудом обнаруживают по частям, а наконец обнаружив, таят про себя, не умея сообщить это другим.
Я разыскал все свои физиономические пустячки, которые, со зла на пророка, забросил было в дальний угол, и они очень мне пригодились. Начал работу над головой Геркулеса; если дело пойдет, двинемся дальше.
ИЗ ПЕРЕПИСКИ
Рим, 3 сентября.
Сегодня год, как я выехал из Карлсбада. Что за год! И какая странная эра началась в этот день, день рождения герцога и мой день рождения для обновленной жизни! Как я этот год использовал, мне пока еще трудно поведать и себе и другим. Но, надеюсь, придет пора, настанет прекрасный час, когда я вместе с вами, сумею подвести ему итог.
Только теперь начинается мое учение здесь, и я, можно сказать, не знал бы Рима, если бы уехал раньше. Нельзя даже вообразить, что здесь видишь, что изучаешь; вовне об этом невозможно составить себе представление.
Я опять увлекся памятниками Древнего Египта. В эти дни несколько раз ходил смотреть на Большой обелиск; он валяется в каком-то дворе среди мусора и грязи. Некогда это был обелиск Сезостриса, позднее его воздвигли в Риме уже в честь Августа, он служил еще и стрелкой солнечных часов, начертанных на Марсовом поле. Этот едва ли не древнейший и великолепнейший из монументов теперь разбит, отдельные его поверхности обезображены (скорей всего, огнем). И все же он еще существует, и его неповрежденные стены свежи, словно вчера расписанные, — это прекраснейшая работа (конечно, в египетском духе). Я заказал гипсовые слепки со сфинкса, венчающего его верхушку, а также с других сфинксов, людей и птиц. Эти бесценные детали иметь просто необходимо, тем более что, по слухам, папа намерен вновь установить обелиск, а тогда уж до иероглифов и не доберешься. Я хочу также иметь слепки с лучших этрусских памятников. Я моделирую из глины эти изображения, чтобы получше усвоить это искусство.
5 сентября.
Не могу не написать вам в утро, ставшее для меня праздничным утром. Ибо сегодня «Эгмонт» наконец-то полностью завершен. Сделан титульный лист и перечень действующих лиц, кое-какие пропущенные места заполнены, и я заранее радуюсь тому времени, когда вы его получите и прочитаете. Приложу еще и несколько рисунков.
Кастель-Гандольфо, 12 октября 1787 г.
Гердеру
Только несколько беглых слов, но прежде всего — горячая благодарность за «Идеи»! Они для меня как бесценнейшее Евангелие, в котором соединено все самое интересное из того, что мне довелось познать в жизни. То, над чем мы так долго бились, здесь представлено с исчерпывающей полнотой. Сколько стремлений к хорошему и доброму пробудила во мне твоя книга! Пока что я успел прочитать лишь первую ее половину. Прошу тебя, вели полностью переписать то место из Кампера, которое ты приводишь на странице 159, очень хочу знать, какие именно законы он разыскал для греческого художественного идеала. Мне хорошо помнится его показ и объяснения профиля с гравюры на меди. Напиши мне об этом и прибавь все, что сочтешь для меня полезным, чтобы я был в курсе последнего, к чему в данной области привели умозрительные рассуждения, ибо я все еще остаюсь новорожденным младенцем. Сказано ли в Лафатеровой «Физиогномике» что-нибудь разумное по этому поводу? Твоему призыву касательно Форстера я охотно последую, хотя сейчас еще не понимаю, как это сделать; отдельных вопросов мне, недостаточно, я должен полностью высказать свои гипотезы и разъяснить их. А ты знаешь, как мне трудно сделать это письменно. Извести меня, когда последний срок и куда надо это отослать. Я сижу в тростнике и вырезаю дудки так усердно, что играть на них уже не успеваю. Если я последую твоему призыву, мне придется прибегнуть к диктовке, — собственно говоря, я считаю твои слова за указание свыше. Мне кажется, что я обязан привести в порядок свой дом и закончить свои книги.
Самое трудное, что я все должен буду брать из головы, у меня при себе не имеется ни одной выписки, ни одного рисунка — ровно ничего, а новейших книг здесь и в помине нет.
В Кастелло пробуду еще недели две, я здесь живу как на курорте. Утром рисую, потом люди и люди без конца. Я рад, что вижу их всех вместе, иначе была бы сплошная докука. Здесь Анжелика, она помогает мне все переносить.
Говорят, папа получил известие, что Амстердам заняли пруссаки. В ближайшие дни газеты сообщат нам достоверные сведения. Это была бы первая военная операция, в которой наш век явил бы все свое величие. Я называю это sodezza. Без кровопролития, несколько бомб, и точка — никто больше не станет интересоваться этим делом! Будьте здоровы. Я — дитя мира и хочу вечно жить в мире со всем миром, поскольку я уже заключил его с самим собой.
ИЗ РАССКАЗА
Октябрь.
В начале этого месяца при мягкой и ясной, словом, великолепной, погоде мы наслаждались жизнью в Кастель-Гандольфо и чувствовали себя не только приобщенными к этой прекрасной местности, но как бы и ее уроженцами. Господин Дженкинс, английский торговец предметами искусств, проживал там в роскошном доме, некогда резиденции иезуитского генерала, где было достаточно комнат для целой компании друзей, достаточно зал для совместных увеселений и аркад для приятнейших прогулок.
Лучше всего сравнить это осеннее отдохновение с пребыванием на водах. Случай мгновенно сводит людей, до того не имевших понятия друг о друге. Завтраки и обеды, прогулки, пикники, серьезные и шутливые беседы способствуют быстрому знакомству и доверительности. Да и странно было бы, если бы здесь, в полнейшей праздности, когда даже болезнь и лечение никого ни от чего не отвлекают, вскоре не обнаруживалось бы своего рода избирательное сродство. Надворный советник Рейфенштейн счел за благо, и вполне справедливо, пораньше выпроваживать нас из дому, чтобы мы успевали вдосталь налюбоваться горными видами, прежде чем нагрянувшее общество соблазнит нас занимательными разговорами и развлечениями. Мы были первыми и потому успели оглядеться в окрестностях и вынести немало пользы и наслаждения из таких прогулок под руководством опытного проводника.
Спустя некоторое время я встретил здесь красивую римлянку, мою соседку по Корсо, — она приехала вместе с матерью. С тех пор как меня стали величать «милордом», они обе отвечали на мои поклоны гораздо любезнее, но я ни разу не заговорил с ними, когда вечерами они сидели перед домом, оставаясь верным своему обету избегать знакомств, которые могли бы отвлечь меня от моей основной цели. Но тут мы встретились как старые знакомые. Пресловутый концерт послужил поводом для первой беседы, а есть ли что-нибудь приятнее римлянки, когда она, увлекшись разговором, дает себе волю, подмечает все окружающее и, не отделяя себя от него, быстро и беспечно болтает на отчетливом и благозвучном римском наречии, которое возвышает средний класс, а простолюдинам, даже самым вульгарным, придает благородство. Эти его свойства были мне известны, но никогда еще я с такой приятной наглядностью не убеждался в них.
Одновременно они представили меня молоденькой миланке, которую привезли с собою, — сестре одного из служащих господина Дженкинса. Этот молодой человек, благодаря сноровке и честности, пользовался любовью и уважением своего принципала. Обе девушки, видимо, были близкими подругами.
Между обеими красавицами, — иначе их нельзя было назвать, — существовало пусть не резкое, но весьма приметное различие. У римлянки были темно-каштановые волосы, у миланки — белокурые, кожа у одной смуглая, у другой — светлая и нежная, сочетавшаяся с глазами почти синими, у первой же глаза были темно-карие. Римлянке были присущи известная серьезность и сдержанность, миланку отличал характер открытый и завлекательный, но в то же время она, казалось, безмолвно спрашивала о чем-то. Я сидел между ними во время игры, напоминавшей наше лото; касса у меня была общая с римлянкой, в ходе игры вышло как-то так, что я стал испытывать свое счастье и с миланкой, заключал пари и т. п., другими словами, мы с ней тоже стали как бы партнерами, причем я, в своей невинности, не замечал, что не всем это по душе, покуда по окончании партии, когда я уже стоял несколько поодаль, ко мне не подошла мать темноволосой римлянки и не сказала «уважаемому иностранцу», — правда, вполне учтиво, но важно и серьезно, как то и подобает матроне, — что если уж он, играя, вошел в долю с ее дочерью, ему не следовало брать на себя такие же обязательства в отношении другой. У них принято, и особенно в такой загородной обстановке, чтобы лица, до известной степени сблизившиеся, продолжали бы и в обществе оказывать друг другу невинные знаки внимания. Я извинился, как умел, добавив, впрочем, что чужестранцу нелегко взять на себя выполнение этого долга, ибо наш обычай требует учтивости и предупредительности ко всем дамам данного общества и что здесь мне это показалось тем более уместным, поскольку речь шла о двух близких подругах.
Но увы! Покуда я подыскивал оправдания, я вдруг ощутил, что мой выбор сделан. С молниеносной быстротой я проникся страстным чувством к миланке, как то нередко случается с праздным сердцем, что в спокойной и самодовольной уверенности ничего не страшится, ничего не желает и вдруг оказывается в непосредственной близости к наиболее желанному. В такие мгновения мы не чуем опасности, притаившемся под прелестными чертами.
На следующее утро мы встретились втроем, и чаша весов вновь склонилась в сторону миланки. У нее было еще и то преимущество перед подругой, что в ее высказываниях проскальзывала известная целеустремленность. Она не жаловалась на небрежное и к тому же очень опасливое воспитание, но говорила: «Нас не учат писать, опасаясь, что мы начнем строчить любовные письма, нас бы и читать не учили, если бы не требовалось, чтобы мы читали молитвенники; учить нас иностранным языкам — это никому и в голову не приходит, а я бы все отдала, чтобы знать английский. Я часто слышу, как мой брат и господин Дженкинс, мадам Анжелика с господином Цукки, господа Вольпато и Камуччини говорят между собою по-английски, и всегда испытываю нечто вроде зависти. Передо мной часто лежат газеты длиною в локоть, в них новостисо всего света, а я ничего узнать не могу».
«Тем более досадно, — отвечал я, — что изучить английский можно запросто. Я уверен, что вы за короткий срок его усвоите. Давайте-ка попробуем сейчас же…» И я взял одну из бесчисленных английских газет, лежавших на столе.
Бегло ее просмотрев, я остановился на одной статье, где рассказывалось, что какая-то девица упала в реку, но ее спасли и возвратили близким. Этот случай из-за разных привходящих обстоятельств оказался запутанным и даже интересным, ибо невыясненным оставалось, упала эта особа или намеренно бросилась в реку, чтобы утопиться, и еще: кто из двух ее поклонников прыгнул за нею, любимый или отвергнутый? Я показал миланке это место и предложил ей внимательно в него вглядеться. Засим я перевел ей все имена существительные и проэкзаменовал ее, чтобы узнать, хорошо ли она запомнила их значение. Она очень скоро приметила, как они располагаются в предложении и какое именно место в нем занимают. Далее я перешел к словам, характеризующим действие, определяющим его, и т. д., шутливо разъяснил ей, каким образом они одухотворяют предложение, и так долго все это твердил, покуда она, наконец, даже без моей просьбы не прочитала весь отрывок так, словно он был написан по-итальянски, впрочем, далось это милому созданию не без трогательного волнения. Мне редко случалось видеть такую искреннюю и глубокую радость, с какою она благодарила меня за то, что с моей помощью ей удалось заглянуть в эту совсем новую для нее сферу. Она долго не могла прийти в себя, убедившись, что вскоре, вероятно, сможет осуществить свое заветное желание.
Общество стало многолюднее, пришла и Анжелика. За большим накрытым столом ее усадили справа от меня, моя ученица стояла по другую сторону стола, но когда все стали рассаживаться, не долго думая, подошла и села возле меня. Строгая моя соседка не без удивления на нее взглянула, — впрочем, и без взгляда этой умной женщине было понятно, что здесь что-то произошло и ее друг, сухо, почти невежливо обходившийся с женщинами, наконец-то стал ручным, более того — попал в плен.
Внешне я еще кое-как держался и внутренняя моя взволнованность сказывалась разве что в смущении, окрашивавшем мой разговор с обеими соседками; я старался развлечь старшую, добрую мою приятельницу, на сей раз очень молчаливую, другую же, казалось, зачарованную незнакомым языком и все еще находившуюся в состоянии человека нежданно-негаданно ослепленного вожделенным светом и потому несколько растерянную, стремился успокоить дружеским, но сдержанным участием.
Впрочем, в этом моем взбудораженном настроении внезапно наступил перелом. Под вечер, разыскивая обеих молодых девушек, я наткнулся на пожилых дам, сидевших в одном из павильонов, откуда открывался поистине прекрасный вид. Я огляделся кругом, но моему взору открылась не просто живописность пейзажа; вся местность была залита каким-то необычайным светом; приписать его только закату и вечернему ветерку было невозможно. Багряную окраску холмов, прохладную синюю тень низменностей я доселе не видел ни на одной картине, будь то масло или акварель. Я не мог вдосталь на все это наглядеться, однако понимал, что меня тянет уйти отсюда, дабы в тесном и участливом кружке последним взглядом восславить заходящее солнце.
Но увы, я не решился отказаться от приглашения матери и соседок побыть с ними, тем более что они освободили мне место у окна, из которого открывался этот божественный вид. Прислушавшись к их разговорам, я уразумел, что речь идет о приданом, — тема вечная и неисчерпаемая. Они перечисляли все, о чем необходимо позаботиться, равно как количество и качество различных даров, так и основные подношения родни, разнообразные подарки друзей и подруг, какие именно, было еще покрыто мраком неизвестности, — словом, все эти пустяки отняли у меня драгоценное время, увы, я был вынужден терпеливо все это выслушивать, тем паче что дамы потащили меня еще и на вечернюю прогулку.
Наконец, разговор зашел о достоинствах жениха, о нем судили более или менее снисходительно, впрочем, не умалчивали и о его недостатках, тешась надеждой, что прелесть, ум и добросердечие невесты в браке сумеют одолеть их.
Потеряв терпение, в миг, когда солнце вдали уже спускалось в море и нам открылся иной, все равно неописуемо прекрасный вид — длинные тени и слегка смягченные, но все еще мощные полосы света, — я скромно спросил: а кто же невеста, о которой идет речь? Все были удивлены: неужто я не знаю того, что уже общеизвестно. И только тут им пришло на ум, что я человек не здешний, а чужестранец.
Не стоит говорить, какой ужас объял меня, когда я услышал, что невеста — моя недавняя ученица, которую я, однако, успел полюбить. Солнце село, и мне под каким-то предлогом удалось отделаться от компании, неведомо для себя преподавшей мне столь жестокий урок.
Всем с давних пор известно, что нежные чувства, которым ты неосторожно предаешься в течение некоторого времени, внезапно разбуженные от блаженного сна, зачастую оборачиваются нестерпимой болью, но этот случай, пожалуй, интересен тем, что живое взаимное влечение было разрушено в самом зачатке, а вместе с ним и предвкушение великого счастья, которое подобное чувство сулит нам в будущем своем развитии. Я поздно воротился домой, а рано утром, извинившись, что не приду к обеду, и захватив альбом для рисования, отправился в путь.
Мне было уже немало лет, и опыта у меня имелось достаточно, чтобы хоть и с болью, но быстро овладеть собою. Куда бы это годилось, воскликнул я, если бы Вертерова судьба настигла меня в Риме и отравила мне все значительное и тщательно сберегаемое время.
Я возвратился к заброшенной мною пейзажной живописи, стараясь тщательно подражать природе, но мне удавалось разве что лучше видеть ее. Техники, мною выработанной, едва доставало на скромные наброски, но ту полную телесность, которую являли нам эти места, с их скалами и деревьями, кручами и обрывами, тихими озерами и быстрыми ручейками, я видел теперь зорче, чем в свое время, и потому не роптал на страдания, до такой степени обострившие мое внутреннее и внешнее зрение.
В дальнейшем я буду краток. Толпы постояльцев наполнили наш дом и дома по соседству, теперь можно было почти неприметно избегать общения, а внимательная учтивость, к которой располагают любовные тревоги, всегда бывает хорошо принята обществом. Мое поведение было всем по душе, и у меня ни с кем недоразумений не возникало, только один раз вышла небольшая неприятность с хозяином, господином Дженкинсом. Дело в том, что из дальней прогулки по горам и лесам я принес с собою очень аппетитные на вид грибы и отдал их повару; тот был в восторге, что может приготовить редкое, но очень известное в этих местах кушанье. Он вкуснейшим образом их зажарил и подал на стол. Грибы всех привели в восхищение; но когда кто-то, желая меня почтить, объявил, что я принес их из лесной глухомани, наш английский хозяин озлился, хотя и промолчал, что его постоялец попотчевал остальных гостей блюдом, о котором сам хозяин ничего не знал и которого не заказывал. Вообще не гоже постороннему удивлять гостей за его столом яствами, за которые он не может нести ответственность. Все это советнику Рейфенштейну пришлось дипломатически разъяснить мне после обеда, на что я, страдая от совсем иной боли, чем та, которую могут причинить грибы, скромно отвечал: «Я был уверен, что повар доложит об этом своему хозяину. — И добавил — Если я еще раз набреду на грибы, то, конечно же, первым делом принесу их на пробу и на рассмотрение нашему уважаемому хозяину». Ведь неудовольствие его было вызвано тем, что это и вообще-то сомнительное кушанье было подано на стол без предварительной проверки. Правда, повар заверил меня и напомнил своему хозяину, что грибы хоть и не часто, но подаются к столу в это время года, как особый деликатес, неизменно пользующийся успехом.
В тиши я посмеялся над тем, во что вылилась эта кулинарная авантюра; сам я, неосторожно отравленный ядом особого свойства, был заподозрен в намерении отравить своих сотрапезников, и тоже по неосторожности.
Провести в жизнь принятое мною решение было нетрудно. Я стал уклоняться от уроков английского, рано поутру уходя из дому, и никогда не приближался к миланке, если она была одна.
Вскоре и эти волнения улеглись в моей вечно занятой душе, и, кстати сказать, достаточно безболезненно. Отныне я смотрел на нее как на невесту, на будущую супругу, что возвысило ее над тривиальным положением девицы, и хотя мое влечение к ней оставалось неизменным, но оно стало полностью бескорыстным, и я, не будучи больше легкомысленным юношей, теперь относился к ней с дружеской симпатией. Мое служение ей, если можно так назвать непринужденную внимательность, отнюдь не было назойливым, а разве что, при встречах, глубоко почтительным. Думается, и она, убедившись, что мне все известно, была довольна моим поведением. Окружающие либо ничего не замечали, поскольку я со всеми охотно беседовал, либо, действительно, ничего худого в наших с ней отношениях не видели. Итак, дни и часы текли столь же мирно, сколь и приятно.
О разнообразных развлечениях можно было бы порассказать немало. Здесь даже и театр был, где Пульчинелла, которому мы без устали хлопали во время карнавала, — в обычное время он был башмачником, да и вообще слыл добропорядочным бюргером, — охотно потешал нас своими пантомимически-лаконическими выходками и умело показывал нам уютное ничтожество нашего бытия.
ИЗ ПЕРЕПИСКИ
…Между тем по письмам из дому я стал замечать, что мое путешествие в Италию, которое так долго проектировалось, все время откладывалось и наконец было предпринято почти внезапно, вызвало у моих оставшихся дома друзей известное беспокойство, нетерпеливость и даже желанье последовать за мной и, в свою очередь, насладиться счастьем, о котором им давали весьма заманчивое представление мои радостные, а иной раз и наставительные письма. Правда, в одухотворенном и поистине любящем искусство кружке герцогини Амалии Италия уже издавна почиталась новым Иерусалимом доподлинно образованных людей, и стремление в эту страну, такое страстное, что его могла бы выразить, пожалуй, только Миньона, постоянно горело в их сердцах и мыслях. Наконец плотину прорвало, и мало-помалу стало очевидно, что как герцогиня Амалия и близкие ей лица, а также Гердер и младший Дальберг всерьез готовятся к переходу через Альпы. Я советовал им, переждав зиму, приехать в Рим ближе к середине года и затем, уже постепенно, наслаждаться всем прекрасным, что могла им предоставить древняя столица мира, ее окрестности, равно как и юг Италии.
Однако совет мой, честный и благоразумный, все же клонился и к моей выгоде. Наиболее примечательные дни своей жизни я до сих пор прожил в начисто чуждых мне условиях, среди совершенно чужих людей, по правде говоря, радуясь, что после долгого времени я опять был только человеком среди мне подобных, с коими у меня установились хоть и случайные, но все же вполне естественные отношения, тогда как жизнь в замкнутом кругу соотечественников, досконально знакомых и близких, в конце концов ставит нас в положение достаточно ненатуральное. Взаимная терпимость, интерес к судьбам близких часто заставляют нас пренебрегать собственными интересами; отсюда возникает некая безропотная покорность, привычка, взаимно уничтожающая боль и радость, досаду и удовольствие, — словом, среднее арифметическое, безусловно, снижающее характер отдельных результатов, так что под конец, в стремлении к удобству и покою, ты уже не можешь всей душой предаваться ни радости, ни горю.
Охваченный такого рода чувствами и чаяниями, я твердо решил не дожидаться в Италии прибытия моих друзей. Мне было тем более ясно, что мое восприятие окружающего не станет тотчас же их восприятием, ибо я и сам в продолжение целого года старался отделаться от киммерийских представлений и образа мыслей северянина, привыкая свободнее оглядываться вокруг и свободнее дышать под голубым сводом южного неба. Приезжие из Германии обычно бывали мне в тягость, — они доискивались того, о чем им следовало бы забыть, и не узнавали то, что давно желали видеть и что было у них перед глазами. Мне и самому-то приходилось тяжело, размышляя и трудясь, держаться того пути, который я избрал, только его считая истинным.
Незнакомых немцев я, конечно, мог избегнуть, но люди, столь тесно со мной связанные, мною любимые и почитаемые, разумеется, вконец сбили бы меня с толку своими блужданиями и половинчатыми открытиями, даже попытками усвоить мой образ мыслей. Путешественник-северянин воображает, что едет в Рим, дабы найти supplement[7] своему бытию, восполнить то, чего ему недостает, однако со временем, к вящему своему огорчению, убеждается, что ему необходимо в корне изменить свое восприятие окружающего и все начать сначала.
Уяснив себе, как обстоит дело, я продолжал оставаться в полном неведении относительно срока их приезда и только старался по мере сил использовать время. Попытки мыслить самостоятельно, прислушиваться к другим, внимательно наблюдать за устремлениями художников, практически усваивать их опыт — одно непрерывно сменялось другим, вернее, одно тесно сплеталось с другим.
К этому меня особенно поощряло участливое отношение Генриха Мейера из Цюриха: наши беседы, пусть редкие, всегда шли мне на пользу, ибо этот усердный и взыскательный к себе мастер умел лучше распорядиться своим временем, чем молодые художники, полагавшие, что серьезные успехи в теории и технике живописи вполне совместимы с легкомысленной и веселой жизнью.
ИЗ ПЕРЕПИСКИ
Рим, 3 ноября 1787 г.
Приехал Кайзер, и я потому не писал целую неделю. Он еще только настраивает инструмент, чтобы постепенно проиграть нам всю оперу. Его присутствие является для меня совсем особой эпохой, из чего я заключаю — надо спокойно идти своей дорогой, а течение времени уж принесет с собою все наилучшее или наихудшее.
Прием, оказанный моему «Эгмонту», сделал меня счастливым; надеюсь, что вторичное чтение никого не разочарует, я-то знаю, сколько я вложил в него, и знаю, что за один раз всего этого не вычитаешь.
Я хотел сделать то, что вы хвалите в нем, и если вы скажете, что я это сделал, значит, я достиг своей конечной цели. Задача у меня была невыносимо трудная, и никогда бы мне ее не выполнить, не будь у меня неограниченной свободы жизни и духа. Подумайте, что это значит: взяться за пьесу, написанную двенадцать лет тому назад, и завершить ее без всяких переделок. Время и особые обстоятельства облегчили мне труд, но и отяжелили его. А теперь еще две такие глыбы лежат передо мной. Но так как милосердные боги на будущее, видимо, пожелали избавить меня от Сизифова труда, я надеюсь и эти глыбы втащить на гору. Если я доберусь с ними до вершины, опять начну что-нибудь новое и сделаю все возможное, дабы заслужить ваше одобрение, — ведь вы дарите меня своей прочной любовью, и совсем незаслуженно.
Твои слова о Клерхен мне не совсем понятны, и я жду от тебя следующего письма. Похоже, что тебе недостает какого-то оттенка между девкой и богиней. Но раз уж я придал столь необычный характер ее отношению к Эгмонту, ее любовь изобразил как сознание совершенств любимого, ее экстаз как восторг и удивление, что такой человек принадлежит ей, сделал ее героиней, изъяв из мира чувственности; и она, неколебимо веруя в вечность любви и в смерть, идет за своим возлюбленным и, наконец, во все преображающем сне, богиней предстает перед его душой, — то я и не знаю, куда мне вставить этот промежуточный оттенок. Я отлично понимаю, что в силу ерундовых драматических законов все вышеперечисленные акценты слишком отрывочны и мало связаны, вернее, связаны очень темными намеками, но, может быть, тебе придет на помощь повторное чтение, и в следующем письме ты точнее выразишь свою мысль.
Анжелика сделала титульный лист к «Эгмонту», Липс выгравировал его, в Германии из этого вряд ли бы что-нибудь получилось.
Рим, 24 ноября.
В последнем письме ты спрашиваешь, каков колорит здешних пейзажей. На это я могу тебе ответить, что в ясные дни, в особенности осенью, он до того красочен, что на холсте или на бумаге неминуемо покажется пестрым. Надеюсь в ближайшее время прислать тебе несколько работ, сделанных немцем, который сейчас находится в Неаполе. Акварель, конечно, никак не передает блистательной красоты природы, и все же вам такая яркость покажется немыслимой. Самое же прекрасное то, что даже на малом расстоянии краски смягчены тоном воздуха, и контрасты холодных и теплых тонов (как это называют художники) видны совершенно отчетливо. Синеватые прозрачные тени прелестно отличаются от освещенных тонов — зеленых, желтоватых, красно-розовых и бурых, сочетаясь с голубоватой воздушной далью. Это и блеск и гармония, нескончаемая шкала оттенков, о которой на севере понятия не имеют. У вас все резко или тускло, пестро или однотонно. Я, во всяком случае, не упомню, чтобы мне приходилось видеть хотя бы более или менее близкое тому, что я ежедневно и ежечасно вижу здесь. Возможно, теперь мой глаз, уже более изощренный, разглядел бы красоты и на севере.
Вообще-то могу сказать, что я уже различаю, более того — вижу перед собой прямые пути ко всем изобразительным искусствам, но, увы, тем яснее отдаю себе отчет в их длине и широте. Я уже в таком возрасте, что обязан заниматься делом, а не поделками; смотря на других, я замечаю, что многие идут по верному пути, но не слишком далеко заходят. Значит, и здесь все обстоит так же, как со счастьем и мудростью, прообразы коих нам только мерещатся, и мы разве что прикасаемся к их подолу.
Приезд Кайзера, время, потраченное на то, чтобы устроиться поудобнее, несколько отбросило меня назад, работа остановилась. Теперь все уже в порядке, и мои оперы вот-вот будут готовы. Кайзер человек очень славный, умный, положительный и надежный. В своем искусстве он неколебим и уверен, — словом, из тех людей, близость которых действует оздоровляюще. При этом он добр, обладает правильным взглядом на жизнь и общество, что делает его довольно суровый характер более гибким, а обхождению придает своеобразную грацию.
ИЗ РАССКАЗА
Я уже в тиши подумывал о неторопливом отступлении, как вдруг возникла новая задержка — приехал мой старый и добрый друг Кристоф Кайзер, уроженец Франкфурта, который начал свою деятельность одновременно с Клингером и другими нашими единомышленниками.
Одаренный интересным музыкальным талантом, он уже много лет тому назад написал музыку к «Шутке, хитрости и мести», а позднее начал работу над музыкой к «Эгмонту». Я сообщил ему из Рима, что моя трагедия отослана, но одна копия осталась у меня на руках. Вместо долгой переписки мы решили, что он сам без промедления сюда приедет. Кайзер и вправду промчался через Италию с курьерской быстротой и был дружески принят в кругу художников, основавших свою штаб-квартиру на Корсо, против Ронданини.
Но тут весьма скоро вместо столь необходимой мне сосредоточенности и серьезности пошли сплошные развлечения и пустая трата времени.
К тому же несколько дней прошло, прежде чем мы обзавелись инструментом, испробовали его, настроили и наконец установили так, как того хотел капризный музыкант, пожеланиям и требованиям которого, казалось, конца не будет. Надо, впрочем, сказать, что за все усилия и потерю времени мы были вознаграждены виртуозным исполнением наиболее трудных пьес того времени талантливым пианистом. А дабы знатоки музыки сразу поняли, о чем идет речь, замечу, что в то время недосягаемой музыкальной величиной почитали Шубарта, и еще — что надежнейшим экзаменом для виртуоза считалось исполнение вариаций, в которых простая тема, сложнейшим образом разработанная, проходит через всю пьесу, исчезает и под конец, снова возвратившись, позволяет слушателю вздохнуть с облегчением.
Симфонический аккомпанемент к «Эгмонту» он привез с собою, отчего во мне ожило в силу необходимости и личной заинтересованности влечение к музыкальному театру.
…Присутствие нашего Кайзера повысило и расширило любовь к музыке, до сих пор бывшей для меня лишь, дополнением театрального спектакля. Он аккуратно отмечал все церковные праздники, что и нас обязывало в праздничные дни слушать торжественную церковную музыку. Правда, она уже приобрела вполне светский характер и была рассчитана на полный оркестр, хотя пение все-таки преобладало. Помните, в день святой Цецилии я впервые услышал виртуозно исполненную арию в сопровождении хора, она оставила во мне неизгладимое впечатление, какое подобные арии в театре и до сих пор производят на публику.
Генрих Мейер из Цюриха, о котором я уже упоминал по самым различным поводам, хотя и жил очень уединенно, всецело предаваясь своей работе, но никогда не пренебрегал случаем побывать там, где можно было увидеть, узнать, изучить что-либо интересное и значительное. Кстати сказать, и другие искали встречи и знакомства с ним, ибо в обществе он хотя и держался весьма скромно, но широта его знаний всем была известна. Он уверенно и неторопливо шел по пути, проложенному Винкельманом и Менгсом, и превосходно писал сепией, в манере Зейдельмана, античные бюсты, почему и мог, лучше чем кто-либо другой, изучать и опознавать едва уловимые оттенки более раннего и позднейшего искусства древних.
Когда мы собирались при свете факелов посетить музеи Ватикана и Капитолия, — мечта всех приезжих, художников, знатоков искусства и дилетантов, — он пожелал присоединиться к нам. В своих бумагах я нашел одну из его статей, благодаря которой осмотр этих изумительнейших остатков древнего искусства, обычно сохраняющийся в душе как восхитительный, мало-помалу гаснущий сон, обрел непреходящее значение, обогащенный знаниями и подлинным проникновением в сие великое искусство.
ИЗ ПЕРЕПИСКИ
Рим, 25 декабря.
На сей раз Христос родился под раскаты грома и блистанье молний, — как раз в полночь у нас была сильная гроза.
Блеск величайших творений искусства меня более не ослепляет. Я предаюсь только созерцанию, стремлению познать и разграничить. Трудно даже сказать, сколь многим я в этом смысле обязан некоему тихому, прилежному в своем одиночестве швейцарцу по имени Мейер. Он впервые раскрыл мне глаза на детали, на свойство отдельных форм, на то, как все это делается. Он скромен, довольствуется малым и наслаждается произведениями искусства больше, чем знатные владельцы таковых, чем другие художники, которых отпугивает собственная жажда подражания недостижимому. Ему дарована божественная ясность понятий и ангельская доброта сердца. Не было у нас с ним такого разговора, чтобы мне не хотелось записать все им сказанное, так это было определенно, правильно, так он всегда умел описать единственно правдивую линию, выбранную тем или иным художником. Обучая меня, он дает мне то, чего ни один человек не мог бы дать, его отсутствие будет для меня невозместимо. Вблизи от него я надеюсь с течением времени подняться в рисовании еще на одну ступень, о которой пока что и помыслить не смею. Все, чему я учился в Германии, что предпринимал и думал, относится к его руководительству так же, как кора дерева к его плоду. Нет у меня слов выразить то смиренное, но и бодрое блаженство, с каким я начал теперь смотреть на произведения искусства. Дух мой достаточно расширился, чтобы их постигнуть.
ИЗ РАССКАЗА
Декабрь.
…В окрестностях Рима, неподалеку от Тибра, стоит небольшая церковь, называемая «У трех источников»; по преданию, эти источники забили из земли, на которую текла кровь святого Павла во время усекновения его главы, и бьют еще и доныне.
Церковь стоит в низине, и, конечно же, забранные в трубы источники, находящиеся внутри, еще приумножают дымку сырости. Почти лишенная украшений и, можно сказать, запущенная, — ибо уборка там производится лишь перед редкими богослужениями, плесень же все равно остается, — она между тем дивно украшена изображениями Христа и всех апостолов на колоннах центрального нефа, исполненных в красках в натуральную величину по рисункам Рафаэля. Несравненный этот гений однажды уже изобразил сих благочестивых мужей всех вместе и в одинаковых одеяниях. На этот раз, когда они существуют как бы по отдельности, он каждому придал особые отличия, подчеркнув, что сейчас апостол уже не в свите господа; после вознесения господня он предоставлен самому себе, и ему предстоит жить, действовать и страдать лишь соответственно своему характеру.
Дабы и вдали радоваться совершенству этих изображений, мы сохранили копии рисунков Рафаэля, сделанные преданной рукой Марка Антона, которые нередко служили нам поводом освежить в памяти виденное и записать кое-какие наблюдения.
От этой небольшой скромной церквушки недалеко и до другого, большего памятника высокочтимому апостолу: до церкви «Святого Павла под стенами», монумента, искусно и величественно сложенного из прекрасных древних обломков. Вход в эту церковь волнует и поражает: ряды мощных колонн как бы держат высокие расписанные стены, сверху замкнутые деревянными, положенными крест-накрест балками перекрытия, — правда, нынче наш избалованный взгляд воспринимает их едва ли не как перекрытие амбара, хотя в целом, если бы в праздники деревянные связки завешивались коврами, это производило бы невероятное впечатление. Здесь обломки колоссальных, сложнейшим образом орнаментированных капителей, перевезенные из руин некогда близлежащего, ныне уже не существующего дворца Каракаллы, нашли себе почетное и сохранное место.
Ристалище, — оно все еще носит имя этого императора, — в большей своей части рухнувшее, и поныне дает нам представление о необозримой своей грандиозности. Если художник станет слева от ворот, через которые выезжали на арену, то выше, справа от него, над развалившимися сиденьями для зрителей, будет находиться гробница Цецилии Метеллы в окружении новейших здании, от этой точки линия сидений уходит в бесконечность; в отдалении же можно разглядеть прекрасные виллы и загородные дома. Взор, обращенный вспять, сумеет различить развалины Спи́ны, а человек, наделенный архитектоническим воображением, сумеет до известной степени представить себе высокомерие того времени. Во всяком случае, руины, простертые перед нашим взором, позволили бы остроумному и знающему художнику создать хорошую картину, которая была бы в длину раза в два больше, чем в высоту.
Пирамиде Цестия мы на сей раз поклонились лишь снаружи, а развалины терм Антонина или Каракаллы, о которых столько эффектного насочинил Пиранези, в наши дни едва ли бы удовлетворили даже опытный взгляд живописца. Здесь, впрочем, уместно будет вспомнить о Германе фон Шванефельде: он бы мог своей изящной иглой, воссоздававшей чувство прекрасного, чувство природы, вызвать к жизни это прошлое, и даже более — преобразить его в прелестное воплощение живого и ныне существующего.
На площади Св. Петра в Монторио мы полюбовались Аква-Паола, где воды пятью потоками лились через ворота и проходы Триумфальной арки, до краев наполняя большой бассейн. По восстановленному Павлом V акведуку это многоводье совершает сюда двадцатипятимильный путь от озера Брачиано причудливыми зигзагами из-за сильно пересеченной местности, на этом пути поит многочисленные мельницы и фабрики, чтобы, расширяясь, наконец, достигнуть Трастевере.
Почитатели зодческого искусства не могли нахвалиться счастливой мыслью — предоставить этим потокам зримый вход. Колонны, арки, выступы и аттики напоминают нам о пышных вратах, через которые некогда вступали в город отважные победители. Теперь с не меньшей мощью и силой сюда вступает кормилец, мирный из мирных, взимая дань восхищенья и благодарности за тяготы своего дальнего пути. Надписи на воротах гласят, что благодаря попечениям папы из дома Боргезе вседержитель здесь держит свой вечный триумфальный въезд.
Впрочем, один недавно приехавший сюда северянин заметил, что лучше было бы нагромоздить необтесанные скалы, чтобы воды естественно выходили на свет божий. Ему возразили: это-де потоки не естественные, а искусственные и, таким образом, прибытие их отмечено вполне правомерно.
Возник спор, и мы долго не могли прийти к согласию, так же как и по поводу изумительного «Преображения» в соседнем монастыре, куда мы, воспользовавшись случаем, тотчас же отправились. Разговоров было не обобраться. Менее страстные спорщики только сердились, что здесь мы снова наталкиваемся на старый упрек касательно двойного действия. Но это всегда так: обесцененная монета все же имеет хождение наряду с полноценной, в особенности когда надо поскорее закончить какую-нибудь сделку или без долгих размышлений сгладить возникшие разногласия. Удивительно то, что многие продолжали отрицать единство этой великой концепции. В отсутствие самого святого безутешные родители приводят к его ученикам одержимого бесом мальчика; те, вероятно, уже делали попытки изгнать злого духа и даже раскрыли книгу, надеясь найти в ней старинную формулу, излечивающую страшный недуг, но, увы, тщетно. В это мгновение появляется единственно всемогущий, признанный праотцами, теми, что внизу поспешно указывают друг другу на это видение — на преображение господне. Как же тут можно верхнее отделить от нижнего? Они едины: внизу — страдание, нужда, вверху — спасительное; это — взаимодействие и взаимовлияние. Можно ли, говоря иными словами, воздействие идеальное отделить от действительного?
Единомышленники тем временем еще укрепились в своих убеждениях; «Рафаэля, — говорили они друг другу, — всегда отличало правильное мышление, так неужто же этот взысканный богом человек, чей гений сказывается в таком мышлении, в цвете лет столь ошибочно мыслил и ошибочно действовал? Нет! он всегда прав, как права сама природа, и всего более права в том, что нам всего непонятнее».
Что ни говори, у каждого должна быть возможность на свой лад воспринимать произведения искусства. В то время, как мы вновь совершали свой обход Рима, я понял, что значит чувство, понятие, наглядное представление о том, что мы вправе в высшем смысле этих слов назвать близостью классической почвы. Я это называю чувственно-духовным убеждением: здесь было, есть и будет великое. Что величайшее и великолепнейшее не вечно — заложено в самой природе времени и неизбежном взаимопротиводействии физических элементов. Во время обычного нашего осмотра произведений искусства мы, не печалясь, проходили мимо развалин, скорее даже радовались тому, что столь многое еще сохранилось и столь многое восстановлено, причем пышнее и грандиознее, чем было в свое время.
Громада собора св. Петра, несомненно, была так задумана, разве что еще грандиознее и смелее, чем любой древний храм, и не только то, чему суждено было разрушаться в течение двух тысячелетий, открывалось теперь нашему взору, но одновременно и то, что наново сумела создать более высокая культура.
Даже колебания художественного вкуса, стремление к величавой простоте, возврат к мелкому украшательству — все говорило о жизни, о движении, история искусства и история человечества синхронистически вырастала перед нами.
Мы не вправе быть подавленными навязчивой мыслью о том, что великое не вечно; напротив, раз мы считаем — прошлое было великим, это должно нас подстрекать к созданию чего-то большого, значительного, что могло бы, даже если оно уже лежит в развалинах, подвигнуть на благородную деятельность, как нас подвигли наши предки.
Эти поучительные и возвышающие душу размышления были не то чтобы остановлены или прерваны, но они переплелись с горестью, не оставлявшей меня ни на минуту: мне стало известно, что жених прелестной девушки из Милана взял назад свое слово и, не знаю уж, под каким предлогом, отрекся от невесты. Я был счастлив, что не поддался своей склонности и вовремя отошел от милой девочки, тем паче что, по наведенным мною справкам, среди предлогов, на которые позднее ссылался жених, наше с нею совместное пребывание за городом не было даже упомянуто, и все-таки мне было очень больно представлять себе очаровательный образ, так весело и радостно повсюду меня сопровождавший, унылым и печальным, ибо вскорости до меня дошел слух, что из-за этой истории бедняжка слегла в приступе жестокой горячки, заставившей всех опасаться за ее жизнь. Я ежедневно, первое время даже два раза в день, справлялся о ее здоровье, меж тем как моя фантазия мучила меня представлениями о чем-то невозможном: эти прелестные нежные черты, неотъемлемые от ясного, радостного дня, это выражение неторопливой безмятежности, эта затуманенная слезами, искаженная болезнью, юная свежесть, обездоленная, безвременно поблекшая от душевных и телесных страданий.
При таком расположении духа существовал, однако, и противовес — чреда тех великих произведений искусства, что, проходя перед моим взором, тешили его и давали ему работу, фантазию же мою возбуждали своим непреходящим достоинством. Само собой разумеется, что едва ли не все эти впечатления были проникнуты глубокой печалью.
Если памятники старины после многих столетий в большинстве своем распадались на бесформенные груды, то новейшие, стройно вздымающиеся, великолепные строения позднее вызывали сожаление о многих семьях, с годами пришедших в упадок, и даже все, что было еще исполнено жизненных сил, казалось, уже подтачивает незримый червь. Да и то сказать, — разве возможно, чтобы в наши дни земное устояло без физической силы, опираясь лишь на религию и нравственность? Жизнерадостный дух счастлив, если ему удается вернуть к жизни руину, восстановить рухнувшие стены или какую-то часть здания наподобие живой, вечно восстанавливающейся природе; дух же, омраченный печалью, так и норовит лишить все живое красоты, явить его нам обнаженным скелетом.
Я даже не решился ехать в горы, хотя эта поездка была задумана нашей веселой компанией еще до наступления зимы, покуда не уверился, что больная пошла на поправку, и не принял мер, чтобы получать вести о ней и в тех местах, где я познакомился с нею, веселой и обворожительной, в прекрасные осенние дни.
Уже в первых письмах из Веймара об «Эгмонте» имелись замечания о том и о сем; при этом оправдалась старая истина, что любитель искусства, лишенный поэтического чутья и закоснелый в своем мещанском довольстве, спотыкается именно на тех местах, где поэт стремился разрешить определенную проблему, скрасить или как-то скрыть ее. Все должно идти своим естественным путем, полагает такой читатель; но ведь и необычное может быть естественным, хотя с этим никогда не согласится тот, кто упорствует в своей точке зрения. Я получил письмо приблизительно такого содержания и, сунув его в карман, отправился на виллу Боргезе; там я прочитал, что некоторые сцены зритель сочтет слишком растянутыми. Я было задумался, но понял, что и теперь не мог бы их сократить, ибо в них развиты мотивы наиболее существенные. Подруги мои прежде всего порицали краткость завещания, в котором Эгмонт препоручает свою Клерхен Фердинанду.
Отрывок из моего ответного письма даст наилучшее представление о моих тогдашних взглядах и моем душевном состоянии.
«Как бы мне хотелось исполнить ваше желание и кое-что изменить в завещании Эгмонта! В дивное утро я поспешил с вашим письмом на виллу Боргезе, битых два часа думал обо всем ходе пьесы, о действующих лицах, об их взаимоотношениях и не нашел, что можно было бы сократить. С какой охотой я бы изложил вам свои соображения, свои pro и contra, на это мне потребовалась бы целая тетрадь и я бы написал диссертацию о построении пьесы. В воскресенье я пошел к Анжелике и поставил перед нею вопрос относительно разных изменений. Она, можно сказать, изучила «Эгмонта», и у нее имеется переписанный экземпляр. Если бы ты была свидетельницей того, как по-женски тонко она все разобрала и свела к тому, что слова, которые вы бы хотели услышать из уст героя, заключены в сути данного явления. Анжелика полагает: раз в этом явлении говорится лишь о том, что происходит в душе спящего героя, то никакие слова не могли бы выразительнее сказать, как он ее любит и ценит, нежели этот сон, не только поднимающий до него прелестную девушку, но возносящий ее над ним. Анжелике пришлось очень по душе, что тот, кто всю жизнь грезил наяву, превыше всего ценя жизнь и любовь, вернее, наслаждение, которое они дают, под конец грезит во сне, как грезил наяву, и мы без слов узнаем, как глубоко возлюбленная проникла в его сердце, какое почетное и высокое место ей в нем отведено. Она много говорила и о том, что в сцене с Фердинандом Клерхен выступает лишь в подчиненной роли, дабы не умалить интереса прощания с юным другом, который в эти минуты все равно уже ничего не слышит и не понимает».
РИМСКИЙ КАРНАВАЛ
(1787)
Принимаясь за описание римского карнавала, мы боимся, как бы нам не возразили, что такое торжество, собственно, нельзя описать. Ведь столь большая масса чувственных предметов должна непосредственно двигаться перед глазами, чтобы каждый мог на свой лад созерцать и воспринимать ее.
Но такое возражение кажется нам тем более несостоятельным, что мы по опыту знаем — на чужеземного зрителя, который впервые видит римский карнавал и ограничивается лишь зрительным его восприятием, он не производит ни целостного, ни приятного впечатления, ибо не слишком услаждает взор и не приносит удовлетворения духу.
Длинная и узкая улица, на которой топчется бесчисленное множество людей, необозрима; глаз почти ничего не различает в той сутолоке, которую он в состоянии охватить. Движение здесь однообразно, шум одуряет, конец праздничных дней оставляет нас неудовлетворенными. Но все эти сомнения рассеются, как только мы перейдем к описанию и главным станет вопрос, удастся оно нам или нет.
Римский карнавал — праздник, который, собственно, не дается народу, но который народ дает сам себе.
Государство мало участвует в его устроении, мало расходуется на него. Хоровод веселья движется сам собою, и полиция только снисходительно направляет его.
Это не праздник, ослепляющий зрителя наподобие многих церковных праздников Рима; здесь нет фейерверка, из окон замка Сант-Анджело составляющего неповторимое, поразительное зрелище; здесь нет иллюминации собора и купола св. Петра, восхищающей и привлекающей столько чужеземцев из разных стран; нет блистательной процессии, при приближении которой народу положено молиться и изумляться; здесь только подан знак, что каждый может сумасбродствовать и беситься сколько вздумается и что, кроме драк и поножовщины, ему дозволено почти все.
Различие между высшими и низшими на мгновение кажется снятым; все вперемешку, каждый легко относится ко всему, что встречается на его пути, а взаимная дерзость и свобода обращения уравновешиваются всеобщим благодушием.
В эти дни римлянин, еще и в наше время, радуется, что рождество Христово хоть и отодвинуло на несколько недель праздник Сатурналий, но не вовсе уничтожило его.
Мы попытаемся вызвать в воображении наших читателей все утехи и все упоение этих дней. Мы также льстим себя надеждой оказать услугу как тем, кому однажды уже довелось присутствовать на римском карнавале и кого теперь порадует живое воспоминание о той поре, так и тем, кому еще предстоит поездка в Рим и кому эти немногие страницы помогут обозреть и ощутить суматошную и быстротечную радость карнавала.
КОРСО
Римский карнавал сосредоточивается на Корсо. Корсо — улица, которая ограничивает и определяет всенародное торжество этих дней. В любом другом месте это был бы уже другой праздник; и посему мы прежде всего должны описать Корсо.
Название свое, как и многие длинные улицы итальянских городов, она получила от конских ристаний, которыми в Риме заканчивается каждый карнавальный вечер, а в иных местах и прочие празднества — день местного патрона, престольные праздники.
Улица эта, прямая, как стрела, ведет от Пьацца-дель-Пополо к Венецианскому дворцу. Длиною примерно в три тысячи пятьсот шагов, она застроена высокими, по большей части роскошными зданиями. Ширина несоразмерна с длиною и высотой домов. Панели по обеим сторонам отнимают у нее еще футов шесть — восемь ширины. Для экипажей посередине остается пространство шагов в двенадцать — четырнадцать, из чего легко усмотреть, что двигаться в ряд здесь может не больше трех карет.
Обелиск на Пьацца-дель-Пополо во время карнавала служит нижней границей этой улицы, Венецианский дворец — верхней.
КАТАНЬЕ НА КОРСО
В течение всего года, в воскресные и праздничные дни, на римском Корсо царит оживление. Знатные и богатые римляне приезжают сюда кататься за час или полтора до наступления ночи; длинные вереницы экипажей, показываясь из-за Венецианского дворца, движутся по левой стороне улицы, при хорошей погоде проезжают мимо обелиска к городским воротам и продолжают свой путь по Фламиниевой дороге, иногда до самого Понте-Молле.
Кареты, раньше или позже повернувшие назад, придерживаются другой стороны; таким образом обе вереницы в полном порядке тянутся рядом.
Посланники имеют право разъезжать взад и вперед между обоими рядами экипажей; претенденту, проживавшему в Риме под именем герцога Албанского, была присвоена та же привилегия.
Едва только бой часов возвестит ночь, порядок этот нарушается; каждый сворачивает куда ему угодно, отыскивая кратчайший путь и нередко задерживая этим движение других экипажей, которые не могут разъехаться и застревают на узкой дороге.
Это вечернее катанье, блестящее во всех крупных итальянских городах и которому подражают во всех маленьких, хотя бы в нем участвовало всего несколько экипажей, привлекает на Корсо множество пешеходов; каждый приходит, чтобы и людей посмотреть, и себя показать.
Карнавал, мы это скоро увидим, в сущности, только продолжение или, вернее, вершина этих воскресных и праздничных увеселений, в нем нет ничего нового, ничего необычного, ничего исключительного, он естественно сливается с римским образом жизни.
КЛИМАТ, ОДЕЖДЫ ДУХОВЕНСТВА
Поэтому нас не удивят и толпы масок, которые мы в скором времени увидим на улице; здесь круглый год смотришь на самые разнообразные сцены, разыгрывающиеся под ясными, веселыми небесами.
В любой праздник вывешенные наружу ковры, рассыпанные цветы, растянутые шали как бы преобразуют улицы в огромные залы и галереи.
Каждого покойника провожает на кладбище процессия с ног до головы закутанных в свои облаченья братьев различных орденов; всевозможные монашеские одежды приучают глаз к необычным, странным образам, словно весь год длится карнавал, и аббаты в черных мантиях кажутся благородными домино среди других церковных масок.
ПЕРВЫЕ ДНИ
Уже с Нового года открываются театры; карнавал начался. То там, то здесь в ложе показывается наряженная офицером красавица, самодовольно щеголяющая перед народом своими эполетами. На Корсо увеличивается число экипажей; но все еще только предвкушают последние дни.
ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПОСЛЕДНИМ ДНЯМ
Какие только хлопоты не возвещают народу о приближении блаженных часов!
Корсо, одну из немногих римских улиц, весь год содержащихся в чистоте, метут и скребут еще тщательнее. Красивую мостовую, сложенную из маленьких четырехугольных и более или менее одинаковых кусков базальта, разбирают везде, где она только хоть немного расшаталась, и снова вколачивают в нее базальтовые клинья.
Затем появляются и живые предвестники. Каждый карнавальный вечер, как мы уже говорили, завершается конским ристанием. Лошади, которых тренируют для этого финала, по большей части малорослые; лучшие из них ввиду иноземного происхождения называются берберийскими.
Такую лошадку в попоне из белого полотна, тесно облегающей голову, шею и брюхо и по швам разукрашенной пестрыми лентами, приводят к обелиску, на то место, откуда она со временем начнет свой бег. Ее приучают спокойно стоять, глядя на Корсо, затем медленно проводят вдоль улицы, на верхнем конце которой, у Венецианского дворца, ей дают овса, чтобы внушить желание поскорей пробежать этот путь.
Поскольку такая проводка совершается неоднократно и с большинством лошадей, — а в беге их обычно участвуют пятнадцать — двадцать, — да еще под веселый галдеж целой толпы мальчишек, то эта церемония уже как бы предваряет еще больший шум и ликование.
Высокопоставленные римские семьи некогда держали таких лошадей в своих конюшнях; приз, взятый лошадью, был честью для дома. На лошадь ставились большие суммы, а победа увенчивалась пиршествами.
За последние годы эта страсть заметно ослабела; желание стяжать славу своими лошадьми перекочевало в средние и даже в низшие классы общества.
Вероятно, еще с тех времен сохранился обычай, что отряд всадников, сопровождаемый трубачами, эти призы развозит напоказ всему Риму, заезжает в дома знатных граждан и, протрубив положенное приветствие, собирает щедрые чаевые.
Приз состоит из куска золотой или серебряной ткани длиною около полутора локтей и шириною чуть меньше локтя, укрепленного на пестром древке наподобие флага, на нижнем конце которого вытканы изображения состязающихся лошадей.
Эти призы называются палио, число их равно числу карнавальных дней, и покуда длится карнавал, упомянутая кавалькада неустанно развозит эти квазиштандарты по улицам Рима.
Тем временем и Корсо начинает менять свой вид. Обелиск становится теперь границей улицы. У его подножия сооружается амфитеатр с большим количеством скамей, обращенный в сторону Корсо. Перед ним устраиваются загородки, из которых в свое время будут выпущены лошади.
Кроме того, по обеим сторонам улицы воздвигаются еще два больших помоста, примыкающих к первым домам Корсо и таким образом удлиняющих улицу за счет площади. А по обеим сторонам загородок высятся маленькие будки для тех, кто будет подавать сигнал к выпуску лошади.
Вдоль всего Корсо здесь и там тоже виднеются помосты. Площадь Сан-Карло и площадь Антониновой колонны отгораживаются от улицы решетками; все достаточно ясно указует на то, что празднество должно замкнуться и замкнется в пределах длинного и узкого Корсо.
Под конец улица еще посыпается пуццоланой, чтобы бегущие лошади не поскользнулись на гладкой мостовой.
СИГНАЛ ПОЛНОЙ КАРНАВАЛЬНОЙ СВОБОДЫ
Так тешат и развлекают себя жители города в пору ожидания, пока колокол на Капитолии в послеполуденный час не возвестит наконец, что каждому дозволено безумствовать под открытым небом.
В этот миг степенный римлянин, весь год опасавшийся малейшего прегрешения, сбрасывает с себя всю серьезность и рассудительность.
Каменщики, стучавшие своими молотками до последней минуты, складывают инструменты и, перебрасываясь шутками, заканчивают работу. Все балконы, все окна мало-помалу увешиваются коврами; на панели по обеим сторонам улицы выносятся стулья; малоимущие жители и все ребятишки уже высыпали на улицу, которая отныне перестает быть улицей, — это скорее огромная праздничная зала, исполинская разукрашенная галерея.
Ибо не только окна увешаны коврами, но и все помосты обиты старинными штофными обоями; множество стульев еще увеличивает сходство с комнатой, а приветливое небо редко напоминает о том, что ты находишься не под крышей.
Так улица постепенно приобретает все более жилой вид. Выйдя из дому, чувствуешь себя не на вольном воздухе, не среди чужих, но в зале, в кругу знакомых.
СТРАЖА
В то время, как Корсо все более оживляется и среди людей, прогуливающихся в своих обычных костюмах, уже нет-нет да и мелькнет Пульчинелла, у Порта-дель-Пополо выстраиваются войска. Под предводительством генерала верхом на коне, в новых мундирах, под звуки музыки они маршируют вверх по Корсо, немедленно занимают входы и выходы, ставят караулы в особо важных местах и принимают руководство порядком всего торжества.
Хозяева, отдающие напрокат стулья и подмостки, начинают усердно зазывать прохожих:
«Luoghi! Luoghi, Padroni! Luoghi!»
МАСКИ
Вот уже начинает возрастать число масок. Первыми обычно появляются молодые люди в праздничных нарядах простолюдинок, с низко открытой грудью и дерзко-самоуверенным видом. Они заигрывают со встречными мужчинами, бесцеремонно, как со своими товарками, обходятся с женщинами, позволяя себе все, что подсказывает им веселость, остроумие или озорство.
Среди прочих нам запомнился один юноша, великолепно игравший роль страстной, бранчливой и неугомонной женщины. Всю дорогу он буянил, придирался к каждому встречному, спутники же делали вид, что из кожи вон лезут, пытаясь угомонить его.
Откуда-то вдруг появляется Пульчинелла с огромным рогом на боку, свисающим с пестрой перевязи. Болтая с женщинами, он делает один какой-то малозаметный жест и сразу становится похож на древнего бога садов священного Рима, причем его дерзкая ветреность возбуждает скорей веселье, чем неудовольствие. Вот шествует другой Пульчинелла, более скромный и самодовольный, он ведет за собой свою дражайшую половину.
Так как женщины любят рядиться в мужское платье не меньше, чем мужчины в женское, то и они не упускают случая покрасоваться в излюбленном всеми наряде Пульчинеллы, и нельзя не признать, что некоторые из них выглядят весьма привлекательно в этом двуполом образе.
Быстрыми шагами, торжественно декламируя, словно перед судом, пробирается сквозь толпу адвокат; он что-то кричит в окна домов, останавливает замаскированных и незамаскированных прохожих, каждому угрожая судебным процессом; одному излагает длинный перечень будто бы совершенных им комических преступлений, другому подробно исчисляет его долги. Женщин он бранит за чичисбеев, девушек за возлюбленных; ссылается на книгу, которую он держит в руках, сочиняет судебные документы, все это проникновенным голосом и ни на минуту не умолкая. Всякого он старается пристыдить или вогнать в краску. Кажется, вот он уже замолчал, не тут-то было, он еще только начинает; не успеешь подумать: «Наконец-то он уходит», — как он уже повернул обратно. Решительным шагом направившись к одному, он не заговаривает с ним, но останавливает другого, которому казалось, что он уже в безопасности: если же навстречу адвокату попадается коллега, то дурачества достигают наивысшей степени.
Но долго внимание публики на них не задерживается: самое сильное впечатление немедленно растворяется в обилии и разнообразии других.
Квакеры хоть и не поднимают такого шума, но обращают на себя внимание не меньше, чем адвокаты. Костюм квакера, видимо, получил столь большое распространение потому, что на толкучке легко найти старофранкскую одежду.
Основная претензия этой маски, чтобы костюм, хотя и старофранкский, был хорошо сохранившимся и сделанным из добротной ткани. Одетые большей частью в шелк и бархат, они носят еще парчовые или вышитые жилеты; от квакера требуется также солидное брюшко.
Лицо его целиком закрыто толстощекой маской с маленькими прорезями для глаз; парик весь в смешных косичках, шляпа маленькая, но с полями.
Из вышеописанного видно, что эта маска напоминает Buffo caricato комической оперы, и если последний обычно представляет пошлого, влюбленного, обманутого дурака, то эти изображают нелепых франтов. Они суетливо шныряют, на цыпочках заглядывая во все кареты, уставляясь на все окна, и вместо лорнета то и дело подносят к глазам большие черные кольца без стекол. Квакеры отвешивают чопорные и низкие поклоны, радость же свою, главным образом при встрече с себе подобными, выражают тем, что несколько раз подпрыгивают на обоих ногах и при этом издают звонкий, пронзительный и нечленораздельным звук с раскатом на согласные «бррр».
Частенько такой звук служит сигналом, на который откликаются оказавшиеся поблизости квакеры, и через несколько секунд этот крик уже разносится по всему Корсо.
В это же время проказливые мальчишки дуют в крупные витые раковины, раздирая вам уши невыносимыми звуками.
Вскоре начинаешь понимать, что при такой тесноте и при сходстве столь многих маскарадных костюмов (ибо по Корсо обычно снует несколько сотен Пульчинелл и около сотни квакеров) мало кто может надеяться обратить на себя внимание. Для этого надо было бы заявиться на Корсо уж очень рано. И каждый стремится лишь к одному: повеселиться, вдоволь подурачиться и получше насладиться свободой этих дней.
Больше всего хотят и по-своему умеют веселиться в это время девушки и женщины. Каждая рвется убежать из дому и хоть как-нибудь да перерядиться, а так как лишь очень немногие могут потратиться на костюмы, то они проявляют немалую изобретательность, чтобы получше замаскироваться и принарядиться.
Очень нетрудно соорудить себе костюмы нищих или нищенок; для этого прежде всего требуются красивые волосы, далее — белая маска, глиняный горшочек на цветной ленте, посох и шляпа в руках. Они смиренно приближаются к окнам, к прохожим и от каждого вместо милостыни получают сласти, орехи и прочие лакомства.
Другие поступают еще проще: закутываются в меха или же появляются в хорошеньком домашнем платье и только с полумаской на лице. Они прохаживаются большей частью без мужчин и в качестве наступательного и оборонительного оружия держат в руках метелочку из камыша, которой либо отбиваются от докучливых приставаний, либо, достаточно резво, заезжают в физиономию знакомых и незнакомых, не носящих маски.
Тот, кого наметила в жертву компания из четырех-пяти таких девушек, не знает, как от них спастись. Толкотня кругом не позволяет ему пуститься наутек и куда бы он ни оборотился, в нос ему тычутся метелки. Всерьез обороняться от подобных шалостей весьма опасно, ибо маски неприкосновенны и страже отдан приказ защищать их.
Обычные костюмы всех сословий тоже используются в качестве маскарадных. Конюхи огромными скребницами чистят спину, кому им заблагорассудится. Возницы с обычной навязчивостью предлагают свои услуги. Более изящные маски — это жительницы Фраскатти, поселянки, рыбаки, неаполитанские мореходы, неаполитанские сбиры и греки.
Иному приходит в голову воспроизвести какую-нибудь театральную маску. Иной выходит из положения совсем просто: завертывается в ковер или в простыню, связанную над головой.
Такая белая фигура обычно заступает дорогу прохожим и прыгает перед ними, воображая, что представляет привидение. Некоторые пытаются выделиться из толпы вызывающими сочетаниями в костюме, но благороднейшей маской неизменно считается табарро, ибо оно ничем не бросается в глаза.
Шуточные или сатирические маски встречаются редко, так как они уже преследуют определенную цель и хотят быть замеченными. Все же нам довелось встретить Пульчинеллу в образе рогоносца. Рога у него были подвижные, он мог наподобие улитки высовывать и задвигать их. Когда, проходя под окном молодоженов, он слегка выдвигал один рог или под другим окном довольно заметно выставлял оба и бубенчики, прикрепленные к ним, бодро позвякивали, радостное внимание публики на мгновение сосредоточивалось на нем, и то тут, то там слышался громкий шепот.
Вон в толпу замешался волшебник, он раскрывает книгу с какими-то цифрами и корит народ за пристрастие к игре в лото.
А там протискивается кто-то двуликий, не поймешь, где у него зад, где перед, приближается он или уходит.
Иностранцу в эти дни тоже приходится мириться с насмешками. Долгополая одежда северян, большие пуговицы, диковинные круглые шляпы удивляют римлян, и чужеземец становится маской.
Так как иностранные художники, и в первую очередь те из них, которые пишут ландшафты и архитектуру, работают прямо на улицах Рима, то карнавальная толпа часто воспроизводит их образы; они деловито расхаживают с огромными портфелями, в длинных сюртуках, вооруженные гигантскими рейсфедерами.
Немецкие булочники слывут в Риме пьяницами. Поэтому их представляют с бутылкой вина, идущими нетвердой походкой, в обычном или только слегка приукрашенном платье.
Мы припоминаем лишь одну-единственную укоризненную маску.
Перед церковью Trinità de’ Monti предполагалось воздвигнуть обелиск. Народу это пришлось не по вкусу. Отчасти потому, что площадь была узка, отчасти же потому, что для придачи определенной высоты маленькому обелиску его нужно было водрузить на очень высокий пьедестал. Это дало кому-то повод вместо шапки нахлобучить себе на голову большой белый пьедестал с укрепленным на нем крошечным красноватым обелиском. На пьедестале были начертаны крупные буквы, смысл которых могли разгадать лишь очень немногие.
КАРЕТЫ
В то время как масок становится все больше, на Корсо начинают въезжать кареты в порядке, который мы уже описали выше, говоря о воскресных и праздничных катаньях. Разница только та, что теперь экипажи, едущие от Венецианского дворца по левой стороне, поворачивают там, где кончается Корсо, и тотчас же возвращаются обратно по правой.
Мы уже упоминали однажды, что ширина улицы, не считая панелей, в большинстве мест едва ли превосходит ширину трех карет.
Эти панели теперь сплошь загромождены подмостками и уставлены стульями; многие зрители уже сидят на своих местах. На очень малом расстоянии от подмостков и стульев тянутся вереницы экипажей, по одной стороне вверх, по другой вниз. Пешеходы стиснуты между ними на пространстве не более восьми футов шириной, каждый по мере сил проталкивается туда или обратно, а из всех окон, со всех балконов на эту толчею смотрят целые толпы римлян.
В первые дни обычно видишь только простые экипажи, ибо каждый приберегает напоследок все, что у него есть красивого и нарядного. Под конец карнавала появляется больше открытых выездов, некоторые из них шестиместные; две дамы восседают друг против друга на высоких сиденьях, так что их видно с головы до ног; по сторонам четверо мужчин; кучер и слуги в масках, лошади убраны флером и цветами.
Случается, что в ногах у кучера стоит красивый белый пудель, украшенный розовыми лентами, в звенящей бубенчиками сбруе, и тогда внимание публики на несколько мгновений задерживается на этом торжественном выезде.
Нетрудно себе представить, что лишь красивые женщины рискуют так возвышаться над толпой и что только прекраснейшая показывается без маски.
По мере приближения такого экипажа, обычно вынужденного ехать достаточно медленно, все глаза устремляются на него, и красавица радостно внимает несущимся со всех сторон возгласам: «O quanto è bella!»
Говорят, что в прежние времена эти роскошные выезды встречались еще чаще и вдобавок были украшены мифологическими и аллегорическими изображениями; в наши дни римская знать, по той или иной причине, видимо, предпочитает теряться в толпе и больше наслаждается праздником, чем выставляет себя напоказ.
Чем дольше длится карнавал, тем наряднее выглядят экипажи.
Даже весьма солидные особы, восседающие в коляске с открытым лицом, позволяют маскироваться своим кучерам и лакеям. Кучера же обычно облюбовывают женское платье, и в последние дни кажется, что одни только женщины правят лошадьми. Они нередко одеты изящно, более того — очаровательно; и надо сказать, что широкоплечий, безобразный малый в новомодном убранстве и с высокой прической, украшенной перьями, выглядит поистине карикатурно.
И как упомянутые красавицы внемлют восторженным возгласам, так он должен терпеливо сносить, что то и дело кто-нибудь выскакивает из толпы и кричит ему прямо в лицо: «O fratello mio, che brutta puttana sei!»
Обычно кучер любезно подсаживает к себе на козлы одну или нескольких из своих приятельниц, встреченных им в толпе. По большей части в мужском наряде, они восседают рядом с ним; хорошенькие ножки этих Пульчинелл, обутые в башмачки с высокими каблуками, болтаются над головами прохожих.
Лакеи тоже берут к себе на запятки друзей и подруг. Не хватает разве что пассажиров на крыше, как в английских сельских дилижансах.
Господам, по-видимому, нравится, что их экипажи набиты до отказа; в эти дни все дозволено, все подобает.
ТОЛЧЕЯ
Итак, давайте взглянем на эту длинную и узкую улицу, где со всех балконов, из всех окон, поверх висящих пестрых ковров толпы зрителей смотрят на переполненные такими же зрителями помосты и ряды стульев по обеим сторонам улицы. Две вереницы карет медленно движутся посредине, а пространство, которого бы достало для третьей, битком набито людьми; они уже не идут в ту или другую сторону, но проталкиваются. Так как кареты, по мере возможности, соблюдают известное расстояние, чтобы при первой же остановке не наехать друг на друга, то многие пешеходы, желая хоть немного отдышаться, выбираются из давки и отважно шествуют между колесами передней и дышлом задней кареты; чем грознее опасность, тем больше такой пешеход выказывает отваги и задора.
В большинстве случаев пешеходы, пробирающиеся между обоими рядами карет, пытаясь уберечь себя и свое платье, жмутся подальше от колес и осей. Таким образом, между ними и каретами возникает небольшой промежуток; тот, кто уже больше не в силах приноравливаться к медленному течению толпы и у кого хватает смелости затесаться между опасностью и теми, кто от нее спасается, может за короткое время пройти немалое расстояние, покуда его не остановит какое-нибудь новое препятствие.
Наше описание уже и сейчас как будто выходит из границ правдоподобия, и мы бы едва осмелились продолжать его, если бы многие из тех, кто видел римский карнавал, не могли засвидетельствовать, сколь строго мы придерживаемся истины, и если бы этот карнавал не был ежегодно повторяющимся празднеством, на которое в будущем многие будут смотреть, держа в руках эту книгу.
Но что же скажут наши читатели после того, как мы заметим, что все нами рассказанное только первая стадия давки, суматохи, шума и дурачеств.
ПОЕЗД ГУБЕРНАТОРА И СЕНАТОРА
Пока кареты, то и дело останавливаясь, медленно пробираются вперед, пешеходы терпят всевозможные мучения.
Папские гвардейцы верхами разъезжают среди толпы, чтобы по мере возможности улаживать случайно возникшие недоразумения и предотвращать заторы. И вот не успеет пешеход отскочить от надвигающейся на него упряжки, как в затылок ему уже упирается морда верхового коня. Но этим неудобства еще далеко не исчерпываются.
Губернатор в большом казенном экипаже, эскортируемый целым рядом карет, проезжает посередине между двумя вереницами. Папская гвардия и слуги расчищают ему дорогу, и на какое-то мгновение эта процессия занимает все пространство, еще остававшееся для пешеходов. Они всеми силами стараются протиснуться между каретами или каким-то образом подаются в сторону. И как вода, на секунду расступившись, тотчас же смыкается за кормою корабля, так толпа масок и других пешеходов, пропустив этот поезд, немедленно сливается воедино. Проходит несколько минут, и новый напор движения делит толпу.
Приближается сенатор в сопровождении такого же поезда; его большая карета и экипажи его свиты словно плывут по головам стиснутого люда. Местные жители, равно как и иностранцы, пленены и очарованы любезностью нынешнего сенатора, князя Реццонико, и потому это, вероятно, единственный случай, когда все радуются его исчезновению.
Если оба эти поезда главных властителей Рима, судебного и полицейского, в первый день прорываются на Корсо лишь для того, чтобы торжественно открыть карнавал, то герцог Албанский, к вящему неудовольствию толпы, проезжал этот путь ежедневно, в пору всеобщего маскарада напоминая древней владычице царей о том, сколь карикатурный характер носят его претензии на королевский трон.
Посланники, обладающие теми же привилегиями, пользуются ими весьма умеренно и с гуманной скромностью.
ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛ У ДВОРЦА РУСПОЛИ
Но не только эти поезда нарушают и задерживают движение народа на Корсо; возле самого дворца Русполи и поблизости от него, где улица становится чуть-чуть шире, панели по обеим сторонам выше, чем везде. Там располагается прекрасный пол, и все стулья очень скоро оказываются занятыми или резервированными. Красивейшие женщины среднего сословия, очаровательно замаскированные и окруженные друзьями, являют себя тут любопытным взорам прохожих. Кто бы здесь ни очутился, не может не остановиться и не оглядеть столь привлекательные ряды; каждому хочется среди множества мужских фигур, сидящих на стульях, обнаружить женскую, а не то и угадать предмет своих воздыханий в каком-нибудь изящном офицерике. На этом месте всегда происходит первый затор, ибо кареты простаивают здесь очень долго. Раз все равно приходится застревать, то уж лучше застрять в столь приятном обществе.
КОНФЕТТИ
Если наше описание до сих пор давало понятие о тяжком и даже несколько устрашающем положении толпы, то, наверное, еще более странное впечатление оно произведет, когда мы скажем, что эта веселая давка оживляется еще и неким подобием маленькой, в большинстве случаев шутливой, но частенько и довольно серьезной войны.
Вероятно, в давние времена какая-нибудь замаскированная красотка в гуще толпы, желая обратить на себя внимание своего милого, швырнула в него засахаренными орешками. Ведь ясно, что тот, в кого угодил этот заряд, волей-неволей должен был обернуться и узнать плутовку. Теперь это вошло в обычай, и после такого приветствия нередко следует вполне дружеская встреча. Но отчасти соображения бережливости, не позволяющие разбрасываться настоящими сластями, отчасти же злоупотребление этим обычаем потребовали создания большего, хотя и менее дорогостоящего запаса этих снарядов.
Так возник целый промысел — продажа гипсовых шариков, отлитых через воронку и напоминающих драже, которые торговцы большими корзинами разносят в толпе.
Никто не уверен в своей безопасности; каждый готов обороняться. То задор, то необходимость приводят к поединку, к схватке или битве. Пешеходы, проезжающие в экипаже, зрители в окнах, зрители, сидящие на стульях или толпящиеся на подмостках, попеременно то нападают, то защищаются.
Дамы держат в руках позолоченные или посеребренные корзиночки, полные таких ядрышек, а спутники не умеют постоять за своих красоток. Сидящие в каретах, ожидая нападения, спускают окна, перекидываются шутками с друзьями и упорно обороняются от незнакомых.
Но нигде это сражение не бывает столь ожесточенным и всеобщим, как у дворца Русполи. Все маски там заранее запаслись корзиночками, мешочками, узелками, связанными из носовых платков. Они чаще нападают, чем подвергаются нападению; ни одной карете не удается проехать безнаказанно. Несколько масок уж обязательно атакуют ее. Ни один пешеход не чувствует себя в безопасности; если же покажется аббат в черной сутане, обстрел начинается со всех сторон, а поскольку гипс и мел мажутся, то вскоре он оказывается весь в белых и серых крапинках. Впрочем, эта борьба нередко становится серьезной и всеобщей; с удивлением видишь, как прорываются на свободу ревность и даже ненависть.
Вот незаметно подкрадывается какая-то закутанная фигура и полной пригоршней конфетти запускает в одну из первых красавиц. Удар так силен и так меток, что слышно, как шарики ударяют по маске; шея красотки поранена. Спутники, сидящие по обе стороны от нее, зашлись от гнева и начинают яростно швырять в грубияна содержимое своих корзинок и мешочков. Но он плотно закутан и так защищен одеждой, что едва ощущает осыпающие его удары. Чем меньше он подвержен опасности, тем ретивее продолжает нападать сам; защитники прикрывают женщину своими табарро, и так как нападающий в пылу битвы уже успел угодить и в соседей, да и вообще оскорбил всех своей грубостью и неистовством, то окружающие вмешиваются в эту драку. Они не жалеют гипсовых ядер и пускают в ход припасенные на всякий случай даже более действенные снаряды, вроде засахаренного миндаля. В конце концов забияку обстреливают уже со всех сторон, так что ему не остается ничего, как ретироваться, в особенности если он уже израсходовал свои боеприпасы.
Тот, кто решился на такую авантюру, обычно имеет при себе секунданта, который подает ему снаряды; торговцы же гипсовыми конфетти во время такой схватки торопливо отвешивают каждому потребное ему количество снарядов.
Мы видели подобную схватку вблизи, когда противники, истощив свои боеприпасы, стали швырять в физиономию друг другу позолоченные корзиночки, не внимая предупреждениям стражи, которой, в свою очередь, порядком досталось.
Разумеется, такие стычки частенько кончались бы поножовщиной, если бы на некоторых углах не были заготовлены «корды», небезызвестные орудия наказания в итальянской полиции, которые в разгаре веселья напоминают каждому, что прибегать к опасному оружию не рекомендуется.
Стычек такого рода происходит множество, но большинство из них скорее веселые, чем серьезные.
К дворцу Русполи подкатывает открытый экипаж, битком набитый Пульчинеллами. Проезжая мимо толпы зрителей, они охвачены желанием попасть решительно в каждого: к несчастью, давка так велика, что экипажи застревают посреди улицы. Толпа внезапно становится единодушной, и на экипажи со всех сторон сыплется град конфетти. Пульчинеллы, уже расстрелявшие все свои снаряды, вынуждены довольно долго оставаться под перекрестным огнем, так что, когда экипаж в конце концов медленно отъезжает под общий смех и шутки, кажется, что он засыпан снегом и градом.
ДИАЛОГ НА ВЕРХНЕМ КОНЦЕ КОРСО
В то время как в средней части Корсо народ забавляется этими оживленными и пылкими играми, публика на верхнем конце его развлекается по-иному.
Неподалеку от Французской академии из толпы масок, теснящихся на подмостках, нежданно выступает так называемый «капитан» итальянского театра в испанском платье, в шляпе с перьями, при шпаге и в перчатках с крагами. Он начинает патетический рассказ о своих подвигах на суше и на море. Проходит несколько мгновений, и навстречу ему из толпы поднимается Пульчинелла; он сомневается во всех показаниях капитана, ввертывает свои замечания и, как будто поддакивая ему, своими каламбурами и нелепыми комментариями выставляет в смешном свете разглагольствования последнего.
Здесь тоже останавливаются все прохожие, прислушиваясь к оживленному спору.
КОРОЛЬ ПУЛЬЧИНЕЛЛ
Случается, что новое шествие еще увеличивает давку. Десять — двенадцать Пульчинелл, собравшись вместе, выбирают короля, нахлобучивают на него корону, суют ему в руки скипетр и под звуки музыки с громкими криками провозят его в разукрашенной тележке по Корсо. Завидя этот поезд, все Пульчинеллы выскакивают из толпы и присоединяются к процессии, чтобы, размахивая шляпами и горланя, прокладывать дорогу королю.
Тогда только начинаешь замечать, как каждый стремится разнообразить эту общепринятую маску. У одного на голове парик, у другого над смуглой физиономией высится женский чепец, третий вместо шляпы надел на голову клетку, в которой с жердочки на жердочку прыгают две птицы в костюмах аббата и дамы.
В ПЕРЕУЛКЕ
Ужасающая давка, которую мы постарались, по мере возможности воссоздать для нашего читателя, естественно, вытесняет многих ряженых с Корсо на соседние улицы. Влюбленным парочкам там спокойнее и привольнее, а молодым людям на свободе сподручнее разыгрывать всевозможные комедии.
Компания мужчин в простонародных воскресных костюмах — коротких куртках и расшитых золотом жилетах под ними, с волосами, подобранными в длинную сетку, — разгуливают с молодыми людьми, нарядившимися в женское платье. Одна из этих «женщин», с виду уже на сносях, мирно прохаживается со своими спутниками. Внезапно между мужчинами вспыхивает ссора, начинается шумная перебранка, вмешиваются женщины, стычка становится все ожесточеннее. Наконец спорщики выхватывают большие ножи из посеребренного картона и налетают друг на друга. Женщины с отчаянными воплями бросаются разнимать их, одного оттаскивают в одну сторону, другого — в другую; оказавшиеся вблизи прохожие впутываются в свалку, словно она происходит всерьез, и всеми средствами стараются угомонить расходившихся противников.
Между тем беременной женщине от испуга становится дурно; кто-то приносит стул, подруги хлопочут вокруг нее. Она жалобно стонет и вдруг, к вящей потехе окружающих, производит на свет какое-то безобразное существо. Представление окончено, и труппа уходит, чтобы в другом месте разыграть ту же самую или похожую комедию.
Так римлянин, воображение которого всегда распалено историями всевозможных убийств, при каждом удобном случае охотно обыгрывает мотив убийства. Даже у детей есть игра под названием «Chiesa». Она напоминает нашу «Хозяин дома». Но, в сущности, в ней подразумевается убийца, укрывшийся на церковной паперти; остальные ребята изображают сбиров и на все лады стараются изловить его, не смея, однако, переступить черту «дома».
Вот каким потехам предаются на соседних улицах, главным образом на Strada Babuino и на Испанской площади.
Квакеры тоже толпой заявляются сюда, чтобы на досуге проделывать свои штуки.
Есть у них один прием, всех заставляющий хохотать. Они идут шеренгой в двенадцать человек на цыпочках, мелкими скорыми шажками, образуя прямой фронт; дойдя до места, по команде: «налево» или «направо, марш» — они строятся в колонны и семенят друг за другом. Затем снова: «направо, марш» — и опять шеренгой движутся по улице; не успеешь оглянуться, они снова перестроились; кончается это тем, что колонна, как копье, впивается в какую-нибудь дверь, и вся компания исчезает за нею.
ВЕЧЕР
Близится вечер, и все большая толпа наводняет Корсо. Движение экипажей уже давно остановилось. Случается, что часа за два до наступления темноты ни одна карета больше не может двинуться с места.
Папская гвардия и пешая стража стараются отвести экипажи как можно дальше от середины и уставить их в одну ровную линию, что при огромном их скоплении вызывает немало беспорядка и недоразумений. Лошади пятятся, экипажи сталкиваются, напирают друг на друга, один подается назад, и всем задним приходится делать то же самое, покуда какая-нибудь карета не очутится в таких тисках, что кучер вынужден снова править на середину. Тут начинается ругань гвардии, поношения и угрозы стражи.
Злополучный кучер тщетно доказывает неизбежность такого маневра: его осыпают бранью и угрозами. Он должен либо снова втиснуться в ряд, либо ни за что ни про что ретироваться в переулок, если таковой имеется поблизости.
Обычно эти переулки тоже забиты опоздавшими экипажами, которые подъехали, когда движение уже застопорилось, и не смогли попасть на Корсо.
ПРИГОТОВЛЕНИЯ К РИСТАНИЯМ
Момент начала конских ристаний неуклонно приближается, и напряженный интерес многих тысяч людей уже сосредоточен на нем.
Владельцы стульев и хозяева подмостков теперь еще настойчивее зазывают публику: «Luoghi! Luoghi avanti! Luoghi nobili! Luoghi, Padroni!» Они во что бы то ни стало хотят в эти последние минуты пусть за меньшую плату, но продать все места.
И слава богу, что где-то еще можно сыскать место, ибо по Корсо скачет генерал в сопровождении своих гвардейцев, вытесняя пешеходов и с того малого пространства, которое им еще оставалось. Каждый спешит в эту минуту пристроиться на каком-нибудь местечке: на стуле, на подмостках, на козлах, между каретами или в знакомой квартире у окна, которое и без того ломится под напором зрителей.
Тем временем площадь перед обелиском уже полностью очищена от народа и являет собою одно из прекраснейших зрелищ, которое можно увидеть в наши дни.
Фасады трех увешанных коврами помостов, о которых мы говорили выше, замыкают площадь. Тысячи возвышающихся друг над другом голов создают подобие древнего амфитеатра или цирка. Над средним помостом во всю длину высится обелиск; помост закрывает только его пьедестал, и лишь сейчас, когда мерилом становится столь огромная масса людей, замечаешь его неимоверную высоту.
Свободная площадь тешит взор своим прекрасным спокойствием, и весь народ, замирая от ожидания, смотрит на еще пустые стойла и натянутый перед ними канат.
Но вот генерал возвращается с Корсо в знак того, что улица очищена; теперь стража уже никому не разрешает выступать за линию стоящих карет. Генерал занимает место в одной из лож.
НАЧАЛО РИСТАНИЙ
Расфранченные конюхи уже вводят лошадей в стойла, за протянутый канат, по порядку, установленному жребием. На лошадях нет ни упряжи, ни попоны. К их крупу в нескольких местах шнурами прикрепляют колючие шарики, подкладывая под них до того момента, когда они должны будут пришпоривать лошадь, небольшие кусочки кожи; кроме того, на лошадь наклеивают листы сусального золота.
Кони резвятся и нетерпеливо рвутся, уже когда их вводят в стойла, и конюхам приходится пускать в ход всю свою силу и ловкость, чтобы удержать их.
Стремление начать бег делает коней неукротимыми, присутствие столь многих людей — тревожными. Случается, что они перепрыгивают в соседние стойла или через канат, и эта суета и беспорядок с каждым мгновением увеличивают нетерпеливость ожидания.
Конюхи — само внимание, ибо ловкость выпускающего лошадь, равно как и другие случайные обстоятельства первых мгновений, могут решающим образом повлиять на исход бега.
Наконец канат падает, и лошади мчатся. На расчищенной площади они еще пытаются обогнать друг друга; но стоит им попасть в узкий промежуток между обоими рядами карет, как всякое состязание становится тщетным.
Впереди обычно несутся две-три лошади, напрягая все свои силы. Несмотря на рассыпанную пуццолану, из мостовой сыплются искры, гривы развеваются, сусальное золото шуршит, ты едва успеваешь взглянуть на них, как они уже скрылись из глаз. Остальные бегут табуном, теснясь, сталкиваясь и мешая друг другу; иногда позади них проносится отставшая лошадь, и разорванные листы сусального золота трепыхаются по ее неостывшему следу. Очень скоро лошади исчезают из поля зрения, и народ, устремившийся со всех сторон, вновь наводняет ристалище.
У Венецианского дворца другие конюхи уже дожидаются прибытия лошадей. Они умело задерживают и ловят их на огороженном участке. Победительнице присуждается приз.
Так заканчивается это празднество, сильным, молниеносным, мгновенным впечатлением, которого столько времени страстно ожидали тысячи людей, и мало кто может отдать себе отчет, почему они ждали этого момента и почему упивались им.
Из нашего описания следует, что эта игра может стать опасной и для людей, и для животных. Приведем для примера возможный случай. Если какое-нибудь заднее колесо хоть немножко выдается из ряда карет, а позади экипажа образуется некоторое пространство, то лошадь, теснимая другими, поспешит этим пространством воспользоваться, прыгнет и ударится о выдавшееся колесо.
Мы сами были свидетелями случая, когда лошадь свалилась от такого удара, три других, мчавшиеся позади, перекувырнулись через нее, остальные же, удачно перескочив через упавших, продолжали свои путь.
Иногда сшибленная лошадь падает мертвой; зрителям тоже не раз случалось, при подобных обстоятельствах, платиться жизнью.
Бывало и так, что злобные, завистливые люди хлестали плащом по глазам вырвавшейся вперед лошади, заставляя ее повернуть назад или ринуться в сторону. Еще хуже, когда лошадей не сразу удается поймать у Венецианского дворца: они неудержимо мчатся назад и, так как ристалище уже заполнилось толпою, творят немало бед, о которых народ либо ничего не узнает, либо оставляет их без внимания.
НАРУШЕННЫЙ ПОРЯДОК
Обычно конские ристания начинаются лишь с наступлением темноты. О прибытии лошадей к Венецианскому дворцу возвещают выстрелы из маленьких мортир; тот же сигнал повторяется на середине Корсо и в последний раз — перед обелиском.
В этот момент стража уходит с постов, никто уже не наблюдает за порядком в рядах экипажей, и эта пора, страшноватая и неприятная даже для зрителя, спокойно расположившегося у окна, стоит того, чтобы сказать о ней несколько слов.
Из сказанного выше мы уже видели, что наступление ночи, столь многозначащее в Италии, нарушает порядок даже обычных воскресных или праздничных катаний. Правда, там нет ни стражи, ни папской гвардии, а есть только старинный неписаный закон — кататься в подобающем порядке; но едва только отблаговестят «Ave Maria», никто уже не позволит посягнуть на свое право поворачивать где и когда ему вздумается. А так как на карнавале ездят по той же улице и согласно тем же законам, хотя толпа и прочие привходящие обстоятельства сильно меняют всю картину, то и теперь никто не уступает своего права при наступлении ночи нарушать установленный порядок.
Если мы подумаем об ужасающей давке на Корсо и вспомним, что опустевшее ристалище тотчас же снова наводняется толпой, то разум и справедливость подскажут нам, что каждый экипаж должен, не нарушая порядка следования, добраться до ближайшего переулка и уже оттуда поспешить домой.
Однако после сигнальных выстрелов некоторые кареты немедленно сворачивают на средину, преграждают дорогу толпе пешеходов и вносят в нее смятение, а так как в этом узком промежутке одному вздумалось ехать вниз, а другому вверх по Корсо, то оба не могут сдвинуться с места, частенько заставляя простаивать и тех благоразумных, которые не выскочили из ряда.
Если возвращающаяся лошадь вмешивается в эту путаницу, то опасность беды и всеобщее смятение еще возрастают.
НОЧЬ
И все же этот клубок распутывается, — правда, поздно, но зато в большинстве случаев благополучно. Ночь наступила, и каждый стремится немного передохнуть.
ТЕАТР
С этой минуты все маски сняты, и большинство публики спешит в театр. Только в ложах еще виднеются табарро и дамы в маскарадных костюмах; партер уже одет в обычные платья.
Театры Алиберти и Арджентина дают серьезные оперы со вставными балетными номерами: Валле и Капраника — комедии и трагедии с комическими операми в качестве интермедий; Паче подражает им, хотя и неудачно; кроме того, существует еще множество второразрядных представлений, вплоть до кукольного театра и балаганов с канатными плясунами.
Большой театр Торденоне, однажды сгоревший, а затем, когда его отстроили, тотчас же обрушившийся, к сожалению, больше не развлекает римлян своими народно-историческими драмами и чудесными феериями.
Страсть римлян к театру очень велика, а некогда во время карнавала она была еще больше, ибо только в эту пору и находила удовлетворение. В наши дни многие театры открыты летом и осенью, так что публика большую часть года может до некоторой степени удовлетворять свое пристрастие.
Мы слишком уклонились бы от нашей цели, пустившись в пространное описание театра и особенностей, характеризующих римский театр. Наши читатели помнят, что в другом месте мы уже коснулись этой темы.
ФЕСТИНЫ
Не будем особенно распространяться также и о фестинах; это большие балы-маскарады, которые время от времени устраиваются в великолепно освещенном театре Алиберти.
И здесь как мужчины, так и дамы почитают табарро пристойнейшим маскарадным костюмом; вся зала наполнена черными фигурами, лишь изредка в толпу замешиваются несколько пестрых характерных масок.
Тем сильнее бывает всеобщее любопытство, когда в толпе появляются две-три благородные фигуры, заимствовавшие свои костюмы, — впрочем, это бывает довольно редко, — из различных эпох искусства и мастерски копирующие некоторые римские статуи.
Здесь появляются египетские боги, жрицы, Вакх и Ариадна, трагическая муза, муза истории, олицетворение какого-нибудь города, весталки, консулы, одетые хуже или лучше, но в соответствии с историческим костюмом.
ТАНЦЫ
Танцуют на этих балах обычно длинными рядами, на английский манер, с той только разницей, что здесь во время немногих туров разыгрывается какая-нибудь характерная пантомима, к примеру: двое любящих ссорятся и примиряются, разлучаются и вновь обретают друг друга.
Балеты-пантомимы приучили римлян к подчеркнутой жестикуляции; в салонных танцах они тоже любят выразительность, которая нам показалась бы чрезмерной и аффектированной. Танцевать решаются только те, кто всерьез этому учился; совсем особенным искусством слывет менуэт, и его танцуют лишь немногие пары. Такую пару обычно окружают все собравшиеся, восхищаются ею и под конец ей аплодируют.
УТРО
Покуда модный свет веселится таким образом до самого утра, на Корсо с восходом солнца опять начинают все чистить и приводить в порядок. Особенно следят за тем, чтобы пуццолана была ровно и аккуратно рассыпана по мостовой.
Немного позднее конюхи приводят к обелиску лошадь, хуже других показавшую себя во вчерашнем беге. На нее сажают мальчугана, а другой наездник гонит ее впереди себя, так что ей приходится напрягать все силы, чтобы как можно скорее совершить пробег.
Около двух часов пополудни, после удара колокола, каждый день сызнова начинается все тот же хоровод веселья. Появляются гуляющие, стражники занимают свои посты. Балконы, окна и помосты увешиваются коврами, число масок, снова принявшихся за свои проделки, все возрастает, кареты стекаются со всех сторон, и улица заполняется народом в большей или меньшей степени, смотря по тому, благоприятствует ли этому погода и разные другие обстоятельства. Перед концом вечера, как и полагается, возрастает число зрителей, масок, экипажей, роскошнее становятся наряды и оглушительнее шум. Но ничто все-таки не идет в сравнение с суматохой и беспутством последнего дня и вечера.
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
Обычно ряды карет уже за два часа до темноты стоят неподвижно, ни один экипаж не может ни стронуться с места, ни пробраться в ряд из боковых улиц. Подмостки и стулья заняты раньше, чем в другие дни, хотя места теперь стоят дороже; каждый старается поскорее сыскать себе местечко, ристаний ждут с еще большим нетерпением, чем обычно.
Наконец и это мгновение промчалось, подается сигнал, возвещающий окончание празднества, но ни кареты, ни маски, ни зрители не трогаются с места.
Все спокойно, все тихо, между тем медленно сгущаются сумерки.
МОККОЛИ
Не успели сумерки спуститься на узкую и длинную улицу, как тут и там в окнах и на помостах начинают вспыхивать и мерцать огоньки; они мелькают чаще и чаще, и вот уже вся улица освещена горящими восковыми свечами.
Балконы убраны прозрачными бумажными фонариками, каждый стоящий у окна держит на виду свою свечку, все помосты залиты светом, а как приятно заглядывать внутрь карет, где на потолке прикреплены маленькие хрустальные жирандоли, освещающие тех, кто сидит там; во многих экипажах дамы держат в руках пестрые свечки, как бы приглашая полюбоваться на свою красоту.
Слуги прилепляют свечки на крыши карет, то и дело подкатывают открытые экипажи, увешанные пестрыми бумажными фонариками; некоторые пешеходы водрузили себе на головы целые пирамиды свечей, другие укрепили свою свечку на конце длинной жерди, связанной из нескольких тростниковых прутьев, которой они достают до второго и третьего этажа.
Каждому теперь вменяется в обязанность держать в руке зажженную свечку, и со всех сторон только и слышится излюбленное проклятье римлян: «Sia ammazzato!»
«Sia ammazzato chi non porta moccolo!» «Смерть тому, кто не несет огарка!» — кричит один другому, пытаясь затушить его свечку. Зажиганье, задуванье и немилосердные крики: «Sia ammazzato!»— вносят жизнь, одушевление и единство в эту огромную толпу.
Каждый, не разбираясь, знакомый перед ним или незнакомый, старается задуть ближайшую свечу или снова зажечь свою, при этом потушив ту, о которую он зажигает. И чем сильнее разносится во все концы вопль: «Sia ammazzato!»— тем больше утрачивает это слово свой страшный смысл и тем скорее забываешь, что ты в Риме, где это проклятье из-за любого пустяка может осуществиться над тобою или другим.
Значение этих слов мало-помалу полностью утрачивается, и так же, как на других языках нам нередко приходится слышать проклятия или непристойности, которые служат выражением радости или удивления, так в этот вечер: «Sia ammazzato!»— становится призывом, криком радости, неизменным рефреном всех шуток, насмешек и комплиментов.
Вот кто-то издевается: «Sia ammazzato il Signore Abbate che fa l’amor!» — или окликает в толпе доброго приятеля: «Sia ammazzato il Signore Filippo!» — или ловко увязывает этот возглас с лестью и комплиментом: «Sia ammazzata la bella Principessa! Sia ammazzata la Signora Angelica, la prima pittrice del secolo!».
Все эти фразы выкликаются громко, быстро, с долгим ударением на предпоследнем или третьем от конца слоге. Под такой неумолчный крик продолжается задувание и зажигание свечек. Кого и где бы вы ни встретили и ни увидели — в доме, на лестнице, в обществе, собравшемся в комнате, в соседнем окне — всякий старается опередить другого и задуть его свечку.
Неистовствуют все сословия и все возрасты, кто-то вскакивает на подножку кареты, ни одна висячая лампа, ни даже уличные фонари не находятся в безопасности. Мальчик тушит свечку отца и непрерывно кричит: «Sia ammazzato il Signore Padre!» Отец тщетно указывает ему на неприличие такого поведения, мальчик рьяно отстаивает свободу этого вечера и еще пуще клянет своего родителя. Когда суматоха на обоих концах Корсо несколько утихает, толпа еще неудержимее стремится к середине его, и здесь уже начинается давка, которую и вообразить невозможно, давка такая, что даже в воспоминании немыслимо ее вновь себе представить.
Никто уже не в состоянии сдвинуться с места, на котором он стоит или сидит; тепло стольких людей, стольких огней, чад вновь и вновь задуваемых свечек, крики многолюдной толпы, которая горланит тем громче, чем труднее становится пошевелиться, — под конец кружат даже самую здоровую голову: невозможно, кажется, чтобы не случилось несчастья, чтобы не взбесились лошади, чтобы кого-то не раздавили, не примяли, не изувечили.
И все же, поскольку каждый больше или меньше жаждет выбраться отсюда, свернуть в переулок, который поближе, и наконец отдышаться на ближайшей площади, толпа мало-помалу расходится, тает, и этот праздник всеобщей свободы и необузданности, эти современные сатурналии, заканчиваются всеобщей усталостью.
Народ спешит теперь до полуночи полакомиться вкусно приготовленным мясом, которое вот-вот станет запретным; более изысканное общество торопится в театры посмотреть напоследок уже сильно сокращенные пьесы, но надвигающаяся полночь кладет конец и этим радостям.
СРЕДА НА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЕ ПОСТА
И вот уже, как сон, как сказка, промелькнул этот непутевый праздник, возможно, оставив в душах тех, кто в нем участвовал, меньший след, чем в читателе, перед воображением и разумом которого мы развернули целое в его последовательной связи.
Когда в разгаре этих сумасбродств грубоватый Пульчинелла непристойно напоминает нам о радостях любви, которым мы обязаны своим существованием, когда новая Баубо на общественной площади оскверняет таинство рождения, когда множество зажженных в ночи свечей наводят нас на мысль о последнем торжественном обряде, то среди всего этого сумбура наш разум обращается к важнейшим явлениям жизни.
Еще больше напоминает нам о жизненном пути узкая, длинная, забитая народом улица, где каждый зритель и участник, с лицом открытым или под маской, с балкона или с помоста, видит перед собой и вокруг себя лишь малую часть пространства, где он, в карете ли, пешком ли, лишь медленно продвигается вперед, шаг за шагом, скорее подталкиваемый, чем идущий, чаще задерживаемый, чем останавливающийся по доброй воле, хлопоча лишь о том, чтобы добраться туда, где лучше и веселее, и все для того, чтобы там снова попасть в тупик, а под конец оказаться и вовсе затертым.
Если нам позволено будет и дальше говорить более серьезно, чем то на первый взгляд допускает тема, мы заметим, что самые живые, самые острые удовольствия, вроде проносящихся лошадей, лишь на мгновение затрагивают нас, почти не оставляя следа в нашей душе, что свободой и равенством мы тешимся только в пылу безумия и что величайшее наслаждение испытываешь, лишь когда оно вплотную граничит с опасностью и когда вблизи ее алчно впиваешь тревожно-сладостные ощущения.
Итак, сами того не думая, мы заключили наш карнавал великопостными размышлениями, не опасаясь, что они наведут тоску на нашего читателя. Напротив, именно потому, что жизнь в целом, подобно римскому карнавалу, остается необозримой, неподатливой, даже сомнительной, то пусть эта беспечная толпа масок каждому из нас напомнит о важности любого мгновенного наслаждения жизнью, часто кажущегося нам ничтожным.
ИЗ ПЕРЕПИСКИ
Рим, 9 февраля.
Дураки еще порядком пошумели в понедельник и во вторник. Особенно во вторник вечером, когда безумие с мокколи было еще в разгаре. В среду возносили благодарение богу и церкви за то, что наступил пост. Я не был ни на одном маскараде, работаю усердно, сколько выдерживает мозг. Поскольку пятый том готов, хочу еще просмотреть несколько этюдов об искусстве и сразу же возьмусь за шестой. Эти дни читал Леонардо да Винчи о живописи и понял, почему я в ней никогда ничего не понимал.
О, какие счастливцы зрители! Воображают себя умниками, всегда убеждены в своей правоте. Как, впрочем, любители и знатоки. Трудно поверить, до чего это самоуверенный народ, а ведь хороший художник всегда тих и скромен. Не могу даже сказать, какое отвращение я в последнее время испытываю, слушая суждения тех, кто сам не работает в данной области. От них мне тут же становится дурно, как от табачного дыма.
Анжелика потешила свою душу, купив две картины, — одну Тициана, другую Париса Бурдона, — заплатила она за них очень высокую цену. Но так как она достаточно богата, не проедает свои доходы и к тому же с каждым годом приумножает их, то ее можно лишь хвалить за покупку вещей, которые доставляют ей радость и вдобавок повышают профессиональное рвение. Едва водворив в свой дом эти картины, она уже начала писать в новой манере, желая убедиться, можно ли усвоить известные преимущества этих мастеров. Она неутомима не только в работе, но и в учении. А какое удовольствие вместе с нею осматривать произведения искусства.
Кайзер тоже энергично взялся за работу. Его музыка к «Эгмонту» быстро продвигается вперед. Я еще не все слышал, но, по-моему, каждая часть в отдельности вполне соответствует своему назначению.
Он также напишет музыку к «Купидо, шалый» и etc. Я сразу же пришлю ее тебе, чтобы вы, вспоминая обо мне, почаще пели эту мою любимую песенку.
Голова у меня идет кругом от бесконечного писанья, суеты и раздумий. Никак я не поумнею, слишком многого требую от себя и слишком многое на себя взваливаю.
Рим, 16 февраля.
На днях с прусским курьером получил письмо от нашего герцога, такое дружелюбное, милое и доброе, какие не часто получаешь. Поскольку на сей раз он мог писать откровенно, то изложил всю политическую ситуацию, свою собственную и так далее. Меня он очень обласкал в этом письме.
Рим, 22 февраля.
На этой неделе случилась беда, повергшая в уныние весь здешний синклит художников. Молодой француз по имени Друэ, человек лет двадцати пяти, единственный сын нежно любящей матери, богатый и красивый, который среди всех учащихся в Риме художников подавал наибольшие надежды, умер от оспы. Сейчас все в смятении и в горе. В его покинутой мастерской я видал фигуру Филоктета в натуральную величину, крылом убитой хищной птицы он обмахивал свою рану, стараясь утишить боль. Прекрасно задуманная картина и отлично выполненная, но, увы, оставшаяся незаконченной.
Я прилежен, счастлив и в таком расположении духа жду, что будет дальше. С каждым днем мне уясняется, что я, собственно, рожден для поэзии, и последующие десять лет, — дольше работать я и не рассчитываю, — мне надо развивать в себе этот талант и сделать еще что-нибудь хорошее, тогда как пыл молодости позволял мне многого добиваться и без особых усилий. Долгое пребыванье в Риме принесло мне большую пользу, — я поставил крест на занятиях изобразительным искусством.
Анжелика комплиментирует меня, говоря, что мало кого знает в Риме, кто бы зорче видел произведение искусства. Я отлично знаю, где и что еще не умею видеть, чувствую, как избавляюсь от этого недостатка, и знаю, что надо делать, дабы взгляд мой проникал еще глубже. Короче говоря, я уже своего достиг: в том, что страстно меня влечет к себе, не блуждать ощупью, точно слепой.
Стихотворение «Амур-пейзажист» вышлю тебе на днях, пожелав ему успеха. Я постарался подобрать в известном порядке мои мелкие стихотворения, получилось довольно причудливо. Стихи о Гансе Саксе и «На смерть Мидинга» завершают восьмой том, а следовательно, пока что и все мое собрание сочинений. Если же вы к тому времени похороните мои останки за пирамидой Цестия, то эти два стихотворения послужат некрологом и надгробной речью.
Завтра с утра выступает папская капелла, это начало исполнения прекрасной старинной музыки, на страстной она достигнет своей высшей точки. Каждое воскресенье я буду ее слушать, чтобы сродниться с этим стилем. Кайзер, который методически изучает эти произведения, разъяснит мне их. С каждой почтой мы ждем печатного экземпляра нот из Цюриха — музыки для страстного четверга; этот экземпляр Кайзер там оставил. Сначала все будет проиграно на фортепиано, а потом мы уже услышим это в исполнении капеллы.
ИЗ РАССКАЗА
Если ты рожден художником, то многое поневоле рассматриваешь с точки зрения художника, — обстоятельство, которое, кстати сказать, сослужило мне добрую службу в сутолоке карнавала со всеми его безумствами и дурачествами. Карнавал я видел уже вторично, и мне не могло не броситься в глаза, что это народное празднество, повторяющееся, как повторяются многие явления природы, протекает в раз и навсегда положенном ему порядке.
Это примирило меня с невероятной суматохой, я вдруг снова увидел в ней одно из явлений природы, вернее, национального духа. Меня это заинтересовало, я поточнее отметил для себя ход дурачеств и также то, что они протекают в довольно определенных и благопристойных формах. Потом я записал по порядку отдельные эпизоды — и позднее использовал эти записки для статьи и попросил нашего здешнего сожителя Георга Шютца, бегло набросать отдельные маски в цвете, что он и сделал с присущей ему обязательностью.
Впоследствии эти зарисовки были выгравированы in quarto Мельхиором Краузе из Франкфурта-на-Майне, директором Свободной школы живописи в Веймаре, и раскрашены для первого издания Унгера, ныне уже ставшего редкостью.
Задавшись такой целью, я должен был чаще, чем мне бы хотелось, смешиваться с толпой ряженых, которая, несмотря на свой живописный вид, временами производила на меня препротивное впечатление. Духу моему, привыкшему к великим произведениям искусства, коими я весь год занимался в Риме, минутами становилось как-то не по себе.
Впрочем, более глубоким и лучшим моим чувствам все же была суждена услада. На площади Венеции, где многие экипажи останавливаются на минуту-другую, а потом, когда седоки хорошенько оглядятся, снова примыкают к движущимся рядам, я увидел карету m-me Анжелики и подошел, дабы ее приветствовать. Она ласково мне поклонилась и снова откинулась на подушки, чтобы дать мне увидеть сидевшую рядом с нею выздоровевшую миланку. Я подумал, что она ничуть не изменилась, да и не диво, что цветущее юное существо быстро справилось с болезнью; ее живые блестящие глаза, казалось, смотрели на меня с радостью, глубоко меня взволновавшей. Долгое время мы не могли и слова вымолвить, первой заговорила Анжелика, спутница же ее наклонилась, не желая ей мешать. «Придется мне взять на себя роль толмача, я уж вижу, что моя юная подруга никак не отважится выговорить то, что давно хотела и решила сказать, а мне уже много раз повторяла, — как она обязана вам за внимание к ее болезни и ее судьбе. Первое, что по возвращении к жизни послужило ей утешением, лекарством и восстановило ее силы, было дружеское участие, и прежде всего ваше. После полного одиночества она вдруг оказалась в кругу столь многих добрых людей».
«Да, так оно и было», — проговорила девушка и протянула мне руку через голову подруги, я коснулся ее своей рукой, но коснуться губами не осмелился.
Довольный и притихший, я вновь затесался в толпу дураков с чувством нежной благодарности к Анжелике, которая сумела сразу же после несчастья с милой девушкой так сочувственно о ней позаботиться и, — в Риме это бывает не часто, — принять ее, всем еще чужую, в свой избранный круг, что особенно растрогало меня, вероятно, потому, — во всяком случае, я льстил себя такой надеждой, — что этому поспособствовало мое участливое отношение к милой девочке.
ИЗ ПЕРЕПИСКИ
Рим, 1 марта.
В воскресенье мы отправились в Сикстинскую капеллу, где на богослужении присутствовали папа и кардиналы, которые из-за поста были не в красных, а в лиловых облачениях, отчего весь спектакль выглядел новым. Несколько дней тому назад я смотрел картины Альбрехта Дюрера и радовался, что теперь вижу это в действительности. Все в целом было единственно в своем величии и простоте, и меня не удивляет, что чужеземцы, во множестве приезжающие сюда на страстной неделе, долго не могут прийти в себя от полноты впечатлений. Сикстинскую капеллу я знаю вдоль и поперек; прошлым летом я там обедал и после обеда отдыхал на папском троне, живопись я тоже знаю едва ли не наизусть, и тем не менее, когда видишь здесь то, что относится к богослужению, все снова выглядит по-другому и ты долго не в силах опомниться.
Сегодня пели старинный мотет, сочиненный испанцем Моралесом, таким образом мы уже предвкушали то, что за ним воспоследует. Кайзер тоже считает, что эту музыку только здесь можно и должно слушать, отчасти потому, что другие певцы не умеют петь без сопровождения органа или струнных инструментов, отчасти же потому, что она удивительно подходит ко всему старинному духу папской капеллы и к созданиям Микеланджело — Страшному суду, пророкам и прочим библейским сюжетам. Со временем Кайзер все это подробно вам расскажет. Он страстный почитатель старинной музыки и прилежно изучает все, что к ней относится.
Так, например, дома у нас имеется весьма примечательное собрание псалмов; они стихами переведены на итальянский язык и в начале нашего века положены на музыку венецианским аристократом Бенедетто Марчелло. В основе некоторых из них религиозные напевы иудеев, итальянских и немецких, в других он использовал старинные греческие мелодии, причем все это сделано умно, тактично, с глубоким проникновением в искусство. Псалмы аранжированы как сольные песнопения, как дуэты и хоры, с оригинальностью необыкновенной, хотя сначала к ним надо попривыкнуть. Кайзер очень высоко их ценит и некоторые собирается переписать. Может быть, удастся раздобыть весь сборник, состоящий из пятидесяти псалмов, он отпечатан в Венеции в 1724 году. Хорошо бы Гердеру напасть на след этого весьма интересного произведения в каком-нибудь каталоге.
У меня достало мужества одновременно обдумать три моих последних тома, теперь я точно знаю, что мне надо сделать: только бы бог дал сил и удачи.
Прошлая неделя была так содержательна, что в воспоминаниях сойдет за целый месяц.
Прежде всего я составил план «Фауста», надеюсь, что сия операция мне удалась. Конечно, завершать его теперь, а не пятнадцать лет тому назад дело совсем другое, — думается, хуже он от этого не станет, тем паче что я, кажется, подхватил нить. В смысле общего тона я успокоился: одна сцена уже написана, и, если малость подкоптить бумагу, никто не отличит ее от старых. Долгий покой и оторванность от привычной жизни вернули меня в русло собственного моего бытия, я и сам удивляюсь, до чего я все еще похож на себя и как мало на моей внутренней сущности отразились годы и события. Старая рукопись иной раз наводит меня на размышления. Главные сцены написаны с ходу, без предварительного плана; сейчас она вся пожелтела и так захватана (листы ее никогда не были сшиты), такая стала трухлявая, края листов до того изодраны, что, право же, она похожа на остатки старинного кодекса. И если прежде, когда я над нею работал, я переносился в былой мир, с его представлениями, с его судопроизводством, то теперь я вынужден переноситься в годы, мною самим прожитые и пережитые.
План «Тассо» тоже приведен в порядок, переписаны набело и почти все смешанные стихотворения для последнего тома. «Des Künstlers Erdewallen»[8] я должен сделать заново и к нему присовокупить «Апофеоз». Я изучил много нужного для сих юношеских фантазии, и теперь все подробности мне уяснились. Меня это очень радует, я надеюсь на удачу и с тремя последними томами, мысленно я уже вижу их перед собой, лишь бы у меня достало досуга и душевного спокойствия, чтобы не спеша, шаг за шагом, выполнить задуманное.
Для расположения мелких стихотворений я взял за образец твои собрания «Разрозненных листков» и полагаю, что нашел хороший способ объединить столь разнородные мелочи, а также средство сделать сколько-нибудь удобочитаемыми стихотворения очень уж индивидуальные и написанные под влиянием минуты.
Не успел я покончить со всеми этими раздумьями, как пришло новое издание Менгса, книга сейчас для меня бесконечно интересная, ибо я наконец обрел чувственные представления, без которых у него, пожалуй, не прочтешь ни единой строки. Это во всех отношениях превосходная книга, любая ее страница нужна и полезна. Менгсовым «Фрагментам о красоте», которые многим кажутся столь темными, я обязан разными счастливыми озарениями.
Кроме того, я много думал о цвете, — вопрос для меня в высшей степени важный, ибо в нем я до сих пор мало что смыслю. Теперь я уверен, что, немного поупражнявшись и хорошенько поразмыслив, я сумею насладиться и этим прекрасным даром нашего мира.
Как-то утром я побывал в галерее Боргезе, которую не видел уже целый год, и, к великой своей радости, обнаружил, что рассматриваю ее со значительно возросшим пониманием. Несказанные сокровища искусства находятся во владении князя Боргезе.
Рим, 22 марта.
Сегодня не пойду в собор св. Петра, хочу написать вам страничку. Вот уже отошла и святая неделя со своими чудесами и тяготами. Завтра еще раз приобщимся благодати и мысли наши обратятся к иной жизни.
Старания и усилия друзей позволили мне видеть и слышать все происходящее; самое трудное, пробравшись через отчаянную давку, увидеть омовение ног папы и раздачу пищи паломникам.
Музыка капеллы невообразимо прекрасна. В особенности «Miserere» Аллегри и так называемые импроперии, укоры, с коими распятый бог обращается к своему народу. Их поют во время ранней обедни в страстную пятницу. Мгновение, когда папа, без своего пышного облачения, спускается с престола, чтобы вознести молитвы кресту, все же прочие в безмолвии остаются на своих местах и хор запевает: «Populus meus, quid feci tibi?» — пожалуй, самое прекрасное во всем торжественном богослужении. Об этом я расскажу вам устно, а то, что вам можно переслать из музыки, привезет с собою Кайзер. Я, как и мечтал, насладился всем, чем только можно наслаждаться на богослужениях, и многое из сделанных наблюдений занес в свои записные книжки. Ничего особо эффектного, как теперь принято выражаться, я, собственно, не заметил, ничто не привело меня в восторг, но в восхищенье — многое, ибо нельзя не отдать справедливости католической церкви — христианские предания она разработала в совершенстве. Когда мессу отправляет папа, да еще в Сикстинской капелле, все, что во время обычных богослужений выглядит довольно уныло, свершается с великим достоинством и безупречным вкусом. Но возможно сие лишь там, где уже много столетий церковь пользуется услугами всех искусств.
Отдельные эпизоды сейчас рассказать еще невозможно. Если бы я в связи с этим пробудившимся во мне интересом вновь не задержался в Риме, веря, что пробуду здесь еще долго, мне можно было бы уехать на следующей неделе. Но и это оказалось к лучшему. Я еще успел немало поработать, и отрезок времени, — а я возлагал на него немало надежд, — закончился и закруглился. Странное, конечно, чувство вдруг сойти с дороги, по которой ты шел твердым и быстрым шагом, но с этим надобно смириться, а не предаваться скорби. В расставанье надолго всегда есть какой-то зачаток безумия, и следует вести себя осторожно, чтобы не взрастить и не выпестовать его.
Из Неаполя пришли прекрасные зарисовки, сделанные Кпипом, художником, который сопутствовал мне в путешествии по Сицилии. Это прелестные и сочные плоды моих странствий, они и вам придутся по вкусу, — ведь лучший подарок то, что человек видит своими глазами. Некоторые из них, в смысле общего тона и красок, удались на диво, вы с трудом поверите, что существует такая красота.
Могу еще добавить, что в Риме я с каждым днем становился счастливее и что мое счастье еще и поныне возрастает. И если печальным кажется предстоящий отъезд, тогда как я, собственно, заслуживаю права остаться здесь еще, то все же большим успокоением для меня является, что я оставался здесь, покуда не достиг этого сознания.
Но вот с ужасающим шумом воскрес Христос. Из крепости раздается залп, звонят все колокола, во всех концах Рима, на всех углах с треском взрываются петарды, шутихи, бенгальские огни. Одиннадцать утра.
ИЗ ПЕРЕПИСКИ
Рим, 10 апреля 1788 г.
Я еще в Риме, но только телом, не душой. Твердо решив уехать, я утратил интерес к пребыванью здесь и готов был к отъезду уже две недели тому назад. Остаюсь лишь из-за Кайзера, да еще из-за Бури. Первый должен закончить кое-какие работы, которые нельзя сделать нигде, кроме Рима, — собрать различные ноты. Второй — завершить эскизы к картине, мною придуманной; при этом он нуждается в моих советах.
Тем не менее я назначил свой отъезд на 21 или 22 апреля.
Рим, 14 апреля.
Кажется, невозможно пребывать в большем смятении. Я непрерывно работал над моделированием ступни, как вдруг мне взбрело на ум, что надо всерьез взяться за «Тассо», мои мысли тотчас же обратились к нему — лучшего спутника для предстоящего путешествия и придумать нельзя. Между тем идет укладка, и только тут замечаешь, сколько ты всего насобирал, сколько натащил в свое жилище.
ИЗ РАССКАЗА
…Когда ты, как в Риме, все время находишься среди пластических произведений древнего искусства — чувствуешь себя как в природе, перед чем-то бесконечным и непостижимым. Впечатление от возвышенного, от прекрасного, как ни благодетельно оно само по себе, тревожит нас, мы жаждем выразить в словах наши чувства, наши воззрения, но, чтобы это сделать, нам надо сперва познать, постигнуть, осмыслить; мы начинаем подразделять, различать, систематизировать, но и это оказывается если не невозможным, то, безусловно, очень трудным, и мы, наконец, возвращаемся к чисто созерцательному, услаждающему душу восхищению.
Вообще же сильнейшее воздействие произведений искусства древних заключается в том, что оно заставляет нас живо представлять себе эпоху, в которую было создано, равно как и его создателей. В окружении античных скульптур человек чувствует себя среди живой природы, убедившись, сколь многообразно строение человеческого тела, мы как бы возвращаемся к первозданному его состоянию и сами ощущаем себя живыми, еще не испорченными людьми. Даже одежда у них под стать природе, она облегает и подчеркивает фигуру, что способствует общему благоприятному впечатлению. В Риме, изо дня в день наслаждаясь этими произведениями, становишься алчным, только и думаешь, как бы окружить себя этими образами, и гипсовые слепки отлично выполняют роль факсимиле. Не успеешь открыть глаза поутру, и тебя уже обступает прекраснейшее. Такие образы сопровождают все наши мысли и чувства, отчего впасть в варварство уже становится невозможным.
…Я говорю о сокровищах, что лишь несколько недель простояли в нашей новой квартире, — так человек, обдумывающий свое завещание, спокойно, но и растроганно смотрит на все, его окружающее. Хлопоты, трудности, расходы, известная беспомощность в таких делах удержали меня от немедленной отсылки лучших произведений в Германию. Юнона Лудовизи предназначалась нашей славной Анжелике, другое, правда, немногое, — ближайшим друзьям-художникам, кое-что являлось собственностью Тишбейна, остальное должно было остаться неприкосновенным, чтобы Бури, намеревавшийся после моего отъезда поселиться в моей квартире, мог это использовать по собственному усмотрению.
Покуда я пишу, мысли уносят меня в прошлое, и в памяти воскресают случайности, позволившие мне ознакомиться с произведениями искусства, которые поразили меня, при еще слабо развитом мышлении исполнили мое сердце чрезмерным восторгом, последствием же этого стало мое неудержимое стремление в Италию.
В ранней юности я в своем родном городе никаких скульптур не видел. В Лейпциге на меня такое впечатление произвел фавн, пустившийся в пляс и одновременно бьющий в цимбалы, что я и сейчас словно бы вижу эту оригинальную фигуру и ее окружение. После долгого перерыва меня как будто бросили в открытое море, когда я внезапно очутился среди Мангеймской коллекции в зале, ярко освещенном верхним светом.
Впоследствии во Франкфурте появились гипсоотливщики, они пронесли с собой через Альпы целый ряд оригинальных слепков, которые размножили, оригиналы же продали по сравнительно недорогой цене. Мне удалось приобрести очень недурную голову Аполлона, дочерей Ниобеи, головку, которая позднее была признана головкой Сафо, и еще кое-что. Эти благородные слепки стали для меня своего рода тайным противоядием, когда слабое, фальшивое, манерное, казалось, вот-вот завладеет мною. Собственно говоря, я все время испытывал боль неудовлетворенности, тоски по неведомому, правда, часто подавляемую, но и неизменно оживающую вновь. Боль эта сделалась почти нестерпимой, когда я, покидая Рим, вынужден был расстаться с тем, чего так долго желал и наконец добился.
ИЗ РАССКАЗА
…Думается, никого не удивит, что я, нанося прощальные визиты, не позабыл о прелестной жительнице Милана. В последнее время я наслушался о ней много того, что меня порадовало: она все больше сближалась с Анжеликой и в высшем обществе, в которое та ее ввела, держалась премило. К тому же у меня имелись основания и охота предполагать, что некий состоятельный молодой человек, бывший в весьма дружеских отношениях с Цукки, не остался бесчувственным к ее прелести и склонен был предложить ей руку и сердце.
Я застал ее в том же кокетливом утреннем платьице, как некогда в Кастель-Гандольфо. Она встретила меня приветливо и с присущей ей милой и естественной грацией снова поблагодарила за мое участие.
«Я никогда не забуду, — сказала она, — что, немного придя в себя, среди любимых и уважаемых имен тех, кто осведомлялся обо мне, услышала и ваше имя. Я неоднократно пыталась узнать, правда ли это. Вы долгие недели справлялись обо мне, покуда мой брат, нанеся вам визит, не поблагодарил вас за нас обоих. Не знаю уж, сказал ли он все, что я ему поручила сказать, я и сама бы охотно пошла вместе с ним, если бы это не противоречило законам благоприличия». Затем она спросила, каким путем я отправляюсь домой, и, когда я изложил свой план путешествия, заметила; «Хорошо, что вы достаточно богаты и можете не отказывать себе в такого рода удовольствиях: нам приходится довольствоваться местом, которое назначил нам господь бог и его святые. Я уж давно смотрю из своего окна, как приходят и уходят корабли, как производится погрузка и разгрузка; это очень меня занимает, и я иногда думаю: куда же и откуда все это везут?» Ее окна выходили на ступени Рипетты, где движенье было достаточно оживленным.
Она с нежностью говорила о своем брате, радовалась, что хорошо ведет его хозяйство и что при весьма скромном жалованье ему все же удается вкладывать кое-что в сравнительно выгодную торговлю; словом, ознакомила меня со всеми подробностями своей жизни. Я радовался ее разговорчивости, — ведь когда перед моим мысленным взором пронеслись все перипетии наших нежных отношений, я понял, что роль в них мне выпала довольно странная. Но тут вошел ее брат, и прощанье наше завершилось умеренно и прозаично.
Выйдя на улицу, я увидел свой экипаж без кучера, на розыски которого пустился какой-то расторопный мальчуган. Она выглянула из окна антресолей красивого дома, где они жили; окна были невысоко, казалось, можно протянуть руки друг другу.
«Как видите, меня не хотят увозить от вас, — крикнул я, — знают, верно, как мне тяжело с вами расставаться».
Что она мне ответила, что я еще сказал ей, весь ход этого очаровательного разговора, свободного от каких бы то ни было оков, разговора, в котором раскрылся внутренний мир двух почти неосознанно любящих друг друга, я не хочу осквернять повторением и пересказом. То было удивительное, случайно вырвавшееся, вернее, вынужденное внутренней потребностью последнее лаконическое признание в невиннейшей и нежнейшей взаимной склонности, почему оно никогда не изгладится из моей души, из моих воспоминаний.
Проститься с Римом мне, видно, было суждено в особо торжественной обстановке: три ночи кряду полная луна стояла на безоблачном небе, и волшебство, нередко распространявшее на меня свои чары, объяв весь огромный город, сейчас действовало еще сильнее. Большие прозрачно-светлые массы, словно бы озаренные мягким дневным светом, контрастирующие с темными тенями, которые изредка просветлялись облаками, вырывавшими из мрака какой-то абрис, казалось, переселяли нас в другой, простой и больший, мир.
После дней, проведенных в рассеянии, порою горьких, я любил бродить по Риму с немногими друзьями, но теперь отправился один. Пройдя, вероятно, в последний раз, по длинному Корсо, я поднялся на Капитолий, высившийся подобно заколдованному замку в пустыне. Статуя Марка-Аврелия напомнила мне статую командора в «Дон Жуане», тем самым давая понять одинокому страннику, что он затевает нечто неподобающее. Но я все же спустился по задней лестнице. Темная, отбрасывая еще более темные тени, передо мною выросла триумфальная арка Септимия Севера; на безлюдной Виа-Сакра хорошо мне знакомые здания казались неведомыми и призрачными. Когда же я приблизился к величавым руинам Колизея и через решетку заглянул в его запертые недра — не буду отрицать, дрожь пробежала у меня по спине и ускорила мое возвращение.
Огромные массы производят необычное впечатление — возвышенного и одновременно доступного; прогулки по Риму дали мне возможность охватить всю необозримую summa summarum моего здешнего пребывания. Все это, глубоко запавшее в мою взволнованную душу, создало настроение, которое я позволю себе назвать героико-элегическим; оно стремилось излиться в стихотворной элегии.
И как это в такие мгновения мне на память не пришла Овидиева «Элегия». Ведь и он, уже изгнанник, в лунную ночь должен был покинуть Рим. «Cum repeto noctem!»— воспоминание, им созданное в глуши, на Черном море, в печали и нищете, не шло у меня из головы, и я все твердил его, постепенно в точности вспоминая отдельные части, но оно, сбивая меня с толку, мешало мне написать свое: впоследствии я было принялся за него, но до конца так и не довел.
Только возникнет в уме печальнейшей ночи той образ,
Той, что во Граде моей жизни пределом была,
Вспомню лишь ночь, когда дорогого столь много оставил,
Льется еще из очей даже и ныне слеза.
И замолчали уже голоса человечьи и песьи,
Коней ночных в высоте правила бегом Луна.
Я же ее созерцал и на оный смотрел Капитолий,
Что понапрасну восстал близко от Ларов моих…[9]
КАМПАНИЯ ВО ФРАНЦИИ 1792 ГОДА
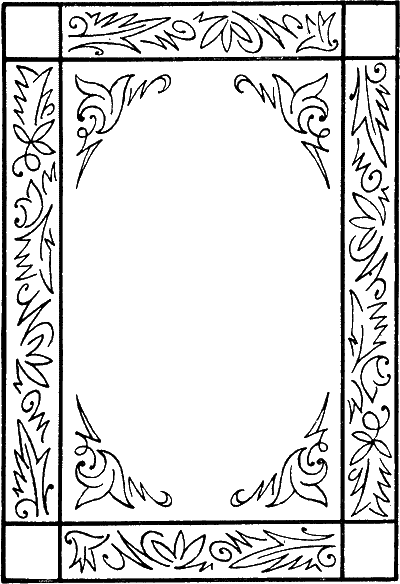
КАМПАНИЯ ВО ФРАНЦИИ 1792 ГОДА

И я был в Шампани!
23 августа 1792 г.
Тотчас же по прибытии в Майнц я нанес визит господину фон Штейну Старшему. Королевско-прусский камергер и оберфорстмейстер двора его величества, он исполнял здесь как бы должность резидента, проявляя лютую ненависть ко всему, что только пахло революцией. Обрисовав в беглых чертах дислокацию союзных армий, он снабдил меня извлечением из «Топографического атласа Германии», изданного Йегером во Франкфурте под условным заглавием «Театр военных действий».
Днем, за обедом у Штейна, мне выпал случай повстречаться со знатными французскими дамами, к которым я присматривался с сугубым любопытством. Одна из них (мне сказали, что она любовница герцога Орлеанского) была статной женщиной уже в летах, с агатовыми глазами и с черными как смоль волосами, бровями и ресницами. Величаво-горделивая во всех своих повадках, она соблюдала сдержанную приветливость в застольных беседах. Дочь этой дамы, живой портрет матери в юном ее возрасте, за все время не промолвила ни словечка. Тем оживленнее и прельстительней казалась княгиня Монако, не скрывавшая своей близости с принцем Конде, — бесценное украшение Шантийи в счастливую его пору. Кто мог бы сравниться с этой стройной белокурой красавицей, юной, жизнерадостной, склонной к изящной шаловливости? Ни один мужчина не устоял бы перед нею, стоило ей только захотеть. Я смотрел на нее, не выдавая моего изумления. Думал ли я здесь повстречаться с другой Филиной! Но то была она, во всей ее шумливой неугомонности, свежая, неистощимо веселая. В ней — в отличие от прочих — не замечалось ни боязливой скованности, ни напряженного беспокойства. И то сказать, вся эмиграция жила здесь в постоянных тревогах, зыбких надеждах и непроходящем страхе. Как раз в эти дни союзники вторглись в пределы Франции. Сдастся ли Лонгвиль или будет сопротивляться? Перейдут ли войска республики на нашу сторону? Встанут ли все и каждый, как нам обещали, за «правое дело», что не в пример облегчило бы наше продвижение? Все эти вопросы, чаяния и сомнения не получали четкого ответа. Ждали курьеров. Но вот они прибыли с неутешительной вестью, что наши войска продвигаются крайне медленно из-за полного бездорожья. Затаенное стремление всех эмигрантов — как можно скорее вернуться на родину — к тому же омрачалось еще и опасением, что не так-то трудно было догадаться об истинной причине их нетерпения, а именно — о радужной надежде этих господ извлечь немалую пользу из ассигнаций, этого изобретения их врагов, чтобы тем быстрее вернуться к былой удобной и вольготной жизни.
Два вечера я провел в приятном общении с Губерами, с Земмеррингами, Форстерами и прочими друзьями. Здесь на меня опять дохнуло воздухом отечества. В большинстве своем давние знакомые и товарищи по университету, они все чувствовали себя как дома в близлежащем Франкфурте (супруга Земмерринга была франкфуртской уроженкой); все без исключения знали мою мать, восхищались ее яркой самобытностью, приводили иные меткие ее суждения и наперебой меня уверяли, что я очень ее напоминаю как живостью речи, так и веселым своим нравом. Сколько поводов, сколько отзвуков былого воскрешало нашу прежнюю близость, исконную и вошедшую в привычку! Благодушные шутки, намекавшие на давние ученые дискуссии и философские потасовки, поддерживали в нас безмятежное веселье. О политике мы не говорили. Все понимали, что нужно щадить друг друга. Мои друзья не слишком скрывали свои республиканские убеждения, а ведь я спешил пристать к союзной армии, которая как раз собиралась покончить с такими умонастроениями и с вытекавшими из них последствиями.
Между Майнцем и Бингеном я стал невольным свидетелем сцены, проливающей свет на все происходившее. Наш легкий экипаж без труда нагнал тяжело груженную карету, запряженную в четверку лошадей. Вконец изъезженная колея на холмистом скате принудила нас выйти из экипажа; послезали с козел и ямщики. Мы спросили их, кто это едет перед нами. Почтальон перегруженной кареты нам ответил, бранясь и кляня все на свете, — француженки. Они, чай, думают, что им с их дрянными бумажонками все дороги открыты, но он им еще покажет: вывалит их на первом же повороте. Мы указали ему на непристойность подобных речей, но это ничуть его не образумило. Ехали мы очень медленно, что дало мне возможность подойти к спущенному оконцу кареты и дружелюбно заговорить с милой дамочкой, отчего ее молодое лицо, омраченное заботами и опасениями, заметно просветлело.
Она поспешила мне сообщить, что едет в Трир к своему супругу, а там, при первой же возможности, — во Францию. Я попытался ей втолковать, какими опасностями чревата столь опрометчивая поспешность, в ответ на что она откровенно призналась, что ею руководит не одно лишь желание поскорее свидеться с мужем, но и необходимость безвозбранно расходовать республиканские ассигнации. Она так твердо верила в победоносное наступление объединенных сил пруссаков, австрийцев и эмигрантов, что удержать ее от рискованной затеи смогли бы разве что само время и полное бездорожье.
И что же, еще не кончились наши пересуды, как уже объявилась новая непредвиденная беда: дорогу, идущую глубокой лощиной, нежданно перегородил деревянный желоб, посредством которого подавалась потребная вода наливной мельнице по ту сторону дороги. Высота подпор этого сооружения предусматривала разве что высоту телеги с сеном, но для не в меру нагруженной кареты, увенчанной пирамидой из разных сундучков и коробок, желоб стал неодолимым препятствием.
Тут брань и проклятья ямщиков, уразумевших, какой потерей времени грозит им эта новая задержка, возобновились с удвоенной силой. Но мы предложили несчастной дамочке дружескую помощь и сами стали снимать и вновь увязывать поклажу по ту сторону водоточивого шлагбаума.
Симпатичная молодая дама, заметно ободренная нашей помощью, не знала, как и благодарить нас. Но вместе с благодарностью непомерно возросли и ее надежды на наши дальнейшие услуги. Уже она вручила мне клочок бумажки с именем ее мужа, настойчиво прося оставить для нее у городских ворот сведения о местонахождении ее супруга. В том, что мы раньше нее прибудем в Трир, она не сомневалась. Но город был так велик, что трудно было ждать успешности наших поисков. Однако дамочка никак не хотела расстаться со своей верой в наше всемогущество.
Прибыв в Трир, мы убедились воочию, что город до отказа забит войсками и экипажами всех мыслимых образцов; найти себе пристанище было, видимо, невозможно. Одна из площадей была сплошь уставлена каретами. Люди скитались по улицам, тщетно взывая о помощи к вконец растерянным квартирьерам. Хаос подобен лотерее: кому повезет, вытянет счастливый номер. Мне, по счастью, повстречался лейтенант фон Фрич из полка нашего герцога. После самых дружеских приветствий он препроводил меня к канонику, в его огромный дом с обширным двором, который принял меня, мой экипаж и скромную поклажу. Встреченный не менее дружелюбно и здесь, я сразу же предался желанному отдыху. Мой юный марциальный друг был мне знаком, то бишь представлен, еще ребенком; теперь он получил задание позаботиться здесь, в Трире, о больных, принимать и направлять в воинские части отставших, а также обозы с провиантом и боевыми припасами. Мне-то это было на руку, конечно, но сам он неохотно оставался в тылу, где для него, человека молодого и честолюбивого, не представляли случай отличиться.
Мой слуга, едва успев распаковать необходимейшее, отпросился в город, чтобы в нем осмотреться. Вернулся он поздно, а наутро непонятное беспокойство вновь погнало его прочь из дома. Я поначалу не знал, чем и объяснить столь странное его поведение; но вскоре загадка разъяснилась: прекрасная француженка и ее спутница не обошли и его благодарностью. Он лез вон из кожи, стараясь разыскать их, в чем и преуспел, узнав среди сотен карет их колымагу по водруженному на ней множеству всякой поклажи. Но найти супруга хорошенькой барыньки ему — увы! — так и не удалось.
На пути из Трира к Люксембургу меня весьма порадовал дивный монумент, воздвигнутый неподалеку от Игеля. Я знал, как удачно древние выбирали места для своих храмов и памятников, а потому, мысленно отбросив все окружавшие его крестьянские хижины, я мог сполна убедиться, что и ему было предоставлено достойное месторасположение. Рядом протекает Мозель, с которым здесь воссоединяется другая река — многоводный Саар. Изгибы двух рек, волнообразно вздымающиеся холмы, пышная зелень — все это придает сему уголку земли неизъяснимое очарование.
Памятник близ Игеля можно по праву назвать обелиском с архитектоническими и пластическими украшениями. Несколько поставленных друг на друга ярусов, различных по художественному их убранству, стройно возносятся ввысь; их увенчивает шпиль, покрытый чешуйчатой черепицей, завершающийся шаром, орлом и змеей.
Быть может, наше неспокойное время забросит сюда дельного инженера и на какой-то срок прикрепит его к данной местности; если он не поскупится затратить время на обмер этого сооружения и, будучи к тому же рисовальщиком, воссоздаст, нам на радость, также и расположенные на четырех сторонах монумента нестершиеся изображения, это будет отлично.
Сколько безрадостных, лишенных каких-либо украшений обелисков было воздвигнуто в мое время без того, чтобы кто-либо вспомнил об этом памятнике! Правда, этот обелиск относится к поздней эпохе античной культуры, но в нем еще чувствуется стремление человека зримо запечатлеть и передать далеким потомкам свое пребывание на земле вместе со всем, что тебя окружает и свидетельствует о твоей деятельности, о твоем житье-бытье. Вот родители и дети в тесном кругу сидят за обеденным столом, а чтобы зритель знал, откуда бралось их богатство, ниже везут товары ломовые лошади; многообразно воспроизведены торговля и ремесла. Ведь этот памятник был, надо думать, сооружен тогдашними завоевателями для себя и для своих — в знак того, что и в этом краю, прежде и теперь, можно достичь полного житейского благополучия.
Весь этот пирамидально построенный памятник был сложен из грубо отесанных плит песчаника, на его сторонах, как на поверхности скалы, были высечены выразительные рельефы. Долговечность сооружения, простоявшего столько веков, очевидно объясняется капитальностью его кладки.
Долго предаваться таким мирным и приятным размышлениям мне, однако, не пришлось. Дело в том, что тут же рядом было для меня уготовано совсем другое, современнейшее зрелище: в Груневальде стоял корпус эмигрантов, сплошь укомплектованный дворянами, в большинстве своем к тому же кавалерами ордена святого Людовика. Ни слуг, ни конюхов у них не было; все они самолично обслуживали себя и своих лошадей. Я видел не раз, как иные из них вели коней на водопой или на перековку в кузню. Тем ярче контрастировал с этим смиренным самообслуживанием вид большого луга, густо уставленного каретами и дормезами. Благородные кавалеры прибыли сюда с женами и любовницами, чадами и домочадцами, как бы желая наглядно показать несоответствие нынешнего их положения с некогда привычным.
Часами дожидаясь почтовых лошадей под открытым небом, я обогатился еще одним примечательным впечатлением. Сидя неподалеку от окна почтовой станции, я наблюдал за ящиком, в прорезь которого опускались нефранкованные письма. Никогда не случалось мне видеть столь людной толпы возле почтового ящика подобного назначения: письма сотнями бросались в его прорезь. Нельзя было нагляднее и убедительнее изобразить безудержное стремление злосчастных изгнанников просочиться телом, душой и помыслами в свое отечество, хотя бы только через жалкую промоину, образовавшуюся в этой плотине.
От скуки и по укоренившейся привычке угадывать и уснащать подробностями чужие тайны, я невольно думал о том, что содержится в этом скопище писем. Уже мне мерещилась любящая девушка, вложившая всю горечь разлуки, всю страсть и мучительную боль одиночества в письмо к далекому милому; мерещился несчастный скиталец, молящий верного друга прислать ему хоть малую сумму денег — так туго скрутила его нужда; мерещились бежавшие женщины с детьми и домочадцами, в кошельке которых сиротливо звенели последние луидоры; а также — ярые приверженцы принцев, стремящиеся поддержать друг в друге бодрость и мужество, веру в близкую победу; а рядом с ними — воображались другие, уже чувствующие жестокий приговор судьбы и заранее сетующие о потере всего их состояния. Не думаю, чтобы я так уж ошибался в моих предположениях.
Многое разъяснил мне здешний почтмейстер: желая унять мое нетерпение, он всячески старался развлечь меня разговором, показывал множество писем из отдаленных мест с почтовыми штемпелями, которым теперь предстояло блуждать в поисках лиц, то ли прорвавшихся вперед, то ли задержавшихся в пути. Франция на всем протяжении ее границ — от Антверпена до Ниццы — осаждается вот такими несчастными. Но вдоль тех же границ стоят французские войска, готовясь к защите и к нападению. Он высказал многое, над чем стоило бы призадуматься. Сложившиеся обстоятельства казались ему по меньшей мере весьма неясными.
Я не был так озлоблен, как прочие, стремившиеся прорваться во Францию, отчего он, видимо, принял меня за республиканца и стал говорить со мною более откровенно. Он не скрывал от меня тех бедствий, которые уже пришлось пережить пруссакам, натерпевшимся от непогоды и распутицы на пути от Кобленца к Триру, и обрисовал в самых мрачных тонах положение союзных армий в окрестностях Лонгви, куда я теперь направлялся. Он был, как видно, хорошо осведомлен касательно хода кампании и охотно делился своими сведениями. Сообщил он мне и о том, как грабили пруссаки, особливо обозники и мародеры, мирные деревни и ни в чем не повинных крестьян. Правда, грабителей для виду наказывали, но возмущенных крестьян это не утешало.
Тут я мгновенно вспомнил одного генерала времен Тридцатилетней войны, сказавшего в ответ по поводу жалоб населения дружественной страны на бесчинства, чинимые его солдатами: «Не могу же я носить в мешке свою армию!»
Крепость Лонгви, о взятии которой мне радостно возвестили еще в пути, я оставил справа, на некотором расстоянии от дороги, и к вечеру двадцать седьмого августа прибыл к местонахождению наших войск близ Прокура. Лагерь раскинулся на плоской равнине и был весь виден как на ладони, но добраться до него было не так-то просто. Мокрая, изрытая почва затрудняла продвижение лошадей и экипажей. К тому же бросилось в глаза, что нигде нам не повстречались ни заставы, ни сторожевые посты. Никто не спрашивал у нас паспортов, но и не у кого было спросить дорогу. Мы ехали по устланной палатками пустыне: все живое искало жалкую защиту от непогоды. С великим трудом удалось разузнать, где стоял полк герцога Веймарского. Но вот мы добрались до места назначения и увидели знакомые нам лица; нас встретили как товарищей по несчастью. Первый приветствовал нас камерьер Вагнер с его черным пуделем. Оба узнали своего многолетнего знакомца, вместе с которым предстояло пережить еще одну пренеприятную полосу жизни. Услышал я здесь и еще об одном прискорбном происшествии: конь нашего государя, Амарант, вчера, дико заржав, замертво пал на землю.
То, что я услышал и увидел в лагере, далеко превосходило самые мрачные предсказания почтмейстера. Представьте себе пологий холм, у подножья которого был некогда выкопан ров, спасавший луга и поля от затопления. Ров этот вскорости превратился в место свалки всевозможной дряни и мусора; он заполнился до краев, и когда непрекращавшиеся дожди прорвали ночью земляную плотину, омерзительные нечистоты хлынули наружу. Все потроха и кости, выбрасывавшиеся мясниками, подступили к солдатским койкам, и без того промокшим и испакощенным.
И мне хотели тоже предложить палатку, но я предпочел день проводить у друзей и знакомых, а ночь — в моем дормезе, удобство которого я оценил за долгие годы. Как ни странно, но добраться до моей кареты, стоявшей всего в тринадцати шагах от палаток, было почти невозможно, так что вечером меня в нее вносили на руках, а утром тем же способом из нее извлекали.
28 августа.
Под таким знаком занялся на сей раз день моего рождения. Мы сели на коней и поехали в отвоеванную крепость. Городок, хорошо отстроенный и укрепленный, стоит на возвышенности. Я решил обзавестись большими шерстяными одеялами и с этой целью направился вместе с товарищами в близлежащую лавку, где обслуживали покупателей почтенная женщина с премиленькой дочерью. Не торгуясь, мы накупили здесь все, что нам приглянулось, и полюбезничали с продавщицами в меру отпущенных нам, неуклюжим немцам, галантных способностей.
Дому, в котором помещалась лавка, повезло во время обстрела города. Множество гранат попадало в помещения, где проживали хозяева; всё и все бежали. Мать едва успела вынуть дитя из колыбели, как вдруг новая граната пробила подушку, на которой еще мгновение назад спал младенец. К счастью, ни одна граната не взорвалась. Пострадала мебель, опалило панели в одной из комнат, не причинив худшего ущерба. Но в лавку ни одно ядро не угодило.
Жители Лонгви не отличались особым патриотизмом, что явствовало уже из того, как быстро они принудили коменданта сдать их город противнику. Не успели мы выйти из лавки, как сразу же нам открылся внутренний раскол населения. Монархисты, а значит, наши друзья, благодаря которым мы так скоро захватили Лонгви, горько сетовали, что мы по оплошке зашли в магазин ярого якобинца и дали возможность выручить уйму денег подлому человеку, который со всей-то своей семьей и ломаного гроша не стоит. Они же нас предупредили, что одна, с виду шикарнейшая, гостиница зело подозрительна; доверять безвредности тамошней пищи никак-де не стоит, и тут же горячо рекомендовали нам другую, более скромную, но надежную, где нас и впрямь встретили весьма радушно и недурно накормили.
Тут мы сошлись за общим столом, старые товарищи по оружию, по гарнизону и по службе герцогу Веймарскому, усевшись друг подле друга или супротив друг друга: офицеры герцогского полка, приближенные государя и служащие личной его светлости канцелярии. Говорили о недавних событиях, о значительном и всех воодушевившем майском дне в Ашерслебене, когда войска получили приказ готовиться к предстоящему походу; вспоминали, как нас посетил сам герцог Брауншвейгский вкупе с другими генералами. Не позабыт был и маркиз де Буйе, иноземец, принявший деятельное участие в разработке предстоявших военных операций. Как только его имя коснулось уха нашего хозяина, усердно внимавшего нашим речам, он поспешил осведомиться, знаем ли мы его лично. Большинство из нас могло ответить на сей вопрос утвердительно. Хозяин лишний раз выказал нам свое полное уважение и изъявил надежду, что содействие столь достойного мужа будет и впредь нам полезно. Мне даже показалось, что после этого нас стали обслуживать еще внимательнее.
Поскольку все мы, здесь собравшиеся, были душой и телом преданы нашему государю, достойно правившему своей страной вот уже столько лет, а ныне взявшемуся за ремесло военачальника, о чем он мечтал с ранней юности, и тут оказавшись на высоте, мы, по исконно немецкому обычаю, усердно звенели бокалами во здравие его светлости и всего его дома, особливо же принца Бернгарда, крестным отцом коего был майор фон Вейрах, представлявший полк, каковым командовал герцог на крещении принца, состоявшемся в самый канун кампании.
Но и о нынешнем походе каждый мог рассказать немало: о том, к примеру, как мы, оставив Гарц по левую руку, пошли на Нортгейм, минуя Гослар, прямиком через Геттинген. Не поскупились собутыльники и на отзывы о перевиданных квартирах, превосходных и, напротив, прескверных, о хозяевах, по-мужицки неприветливых, о просвещенных скептиках, мрачных или ипохондрически-благодушных, о женских монастырях, о разительных переменах в ландшафтах и в погоде. После Нортгейма Веймарский полк, не переступая восточной границы Вестфалии, дошел до Кобленца: вспоминались хорошенькие женщины, чудаковатые попы, нежданные встречи с друзьями, разбитые колеса, опрокинутые кареты — словом, всякая всячина.
Начиная с Кобленца, не затихали жалобы на пересеченную местность, на труднопроходимые дороги и недостатки в снабжении. Рассеявшись воспоминаниями о прошлом, мы перешли к неприглядному настоящему. Вторжение во Францию в ужасную непогоду всеми ощущалось как истинное бедствие, чуть ли не как зловещий пролог к тому, что нас ожидало по возвращении в лагерь. Однако в такой неунывающей компании каждый почерпал мужество у другого. Меня же больше всего утешал вид великолепных теплых одеял, которые мой слуга приторочил к седлу запасной лошади.
В лагере, в нашем большом шатре, я застал наилучшее общество; никто не уходил, страшась непогоды. Все были в отличном настроении и полны самых радужных надежд. Молниеносная сдача Лонгви явно подтверждала заверения эмигрантов, что нас всюду будут встречать с распростертыми объятьями. Казалось, нашему наступлению препятствовала одна лишь погода. Пруссаки, австрийцы, эмигранты — все ненавидели революционную Францию и питали к ней презрение, высказанное в грозном манифесте герцога Брауншвейгского.
И то сказать, черпая факты из наших официальных воззваний и реляций, можно было легко заключить, что народ, в такой степени утративший общую идею, расколовшийся уже не на партии даже, а на отдельные единицы, не сможет противостоять высокому чувству единства союзников, воодушевленных благороднейшей целью.
Было что рассказать и о уже совершенных нами воинских подвигах. Сразу же после вступления на французскую землю пять эскадронов наших гусар под командой бравого фон Вольфрата натолкнулись при рекогносцировке на тысячу французских стрелков наблюдавших за продвижением нашего войска со стороны Седана. Предводимые отважным офицером, наши напали первыми, но и противная сторона мужественно оборонялась и не просила пардона. Началась ужасная резня, в которой наши одержали победу, взяли пленных, захватили лошадей, карабины, сабли. Такое славное начало укрепило воинственный дух, утвердило светлые надежды. Двадцать девятого августа мы снялись с места и начали медленно, но верно выбираться из полузастывшего месива. Как можно было здесь содержать в чистоте мундиры и снаряжение, равно как и палатки, если не было ни одного сухого местечка, где бы можно было почиститься, разостлать и сложить как положено свои вещи.
Однако внимание, уделявшееся нашему выступлению самими высокими чинами, вселяло в нас новую уверенность. Всем повозкам и экипажам было строжайше приказано следовать позади колонны. Лишь командирам полков дозволялось ехать в экипаже впереди своих частей, благодаря чему мне и выпало счастье продвигаться в герцогской карете во главе всей армии. Оба полководца, прусский король и герцог Брауншвейгский, со своими свитами заняли позицию, дающую им возможность пропустить мимо себя всю союзную армию. Я увидел их еще издали, и когда мы к ним приблизились, его величество подъехал к моей карете и в привычной для него сугубо лаконичной манере спросил: «Чья карета?» Я громко ответил: «Герцога Веймарского!» — и мы поехали дальше. Вряд ли чью-нибудь карету когда-либо окликало столь высокое лицо.
Далее дорога заметно улучшалась. В такой чудной местности, где холмы сменяли долины, а долины — холмы, для верховых лошадей оставалось еще довольно сухого пространства, чтобы спокойно продвигаться вперед. Я сел на коня, и дело пошло на лад. Наш полк, как сказано, шел в авангарде союзной армии, и это дало нам возможность вырваться вперед, не считаясь с медлительным продвижением колонн.
Свернув с большой дороги и миновав Арронси, мы достигли Шатийон-Лаббе, первого предвестника совершившейся революции: обмирщвленное и уже проданное бывшее владение Римской церкви с ныне упраздненным монастырем, ограда которого была частию снесена, частию порушена.
Тут-то мы и сподобились лицезреть его величество короля, на борзом коне через холмы и долины промчавшегося мимо нас — подобно ядру кометы с предлинным хвостом его свиты. Как только сей феномен исчез с быстротою молнии из поля нашего зрения, с иной стороны другой всадник, на миг увенчавший безымянную высоту, своей особой, тут же устремился вниз, к равнине. То был герцог Брауншвейгский — вторая комета со сходным хвостом из ординарцев и штабных офицеров. Мы, более склонные наблюдать, нежели судить и рядить, все же невольно спрашивали себя, кто же из этих двух, по сути, главнейший? Кому из них предоставлено право решать, как следует поступить в сомнительном случае? Вопрос оставался без ответа, но тем более ввергал нас в тревоги и раздумья.
Смущало нас и то, что оба полководца так бесстрашно и беспечно вступают в чуждые пределы, где за каждым кустом может таиться их смертельный враг. Но, с другой стороны, кто не слышал, что личная отвага приносит победу, что храбрость города берет и что горние силы покровительствуют бесстрашному.
Все небо было сплошь затянуто облаками, но незримое солнце изрядно припекало. Повозки тонули в рыхлой песчаной почве и едва могли продвигаться. Разбитые колеса повозок, карет и пушек то и дело прерывали продвижение; вконец измученные пехотинцы падали в полном изнеможении. Но вдали слышалась канонада под Тьон-Виллем. Все желали успеха нашему оружию.
Вечером мы отдыхали в лагере близ Пиллона. Прелестная лесная поляна обдавала нас живительной прохладой; не было здесь недостатка и в кустарниках для кухонных костров; протекавший тут же полноводный ручей образовал две заводи с прозрачной водой, которую вот-вот грозили замутить люди и животные. На одну заводь я махнул рукой, но другую отстаивал энергично, велев окружить ее кольями и вервием. Пришлось немало покричать на особо напористых вояк. Я слышал, как один из наших конников, занятых надраиванием сбруи, спросил другого: «Кто это там корчит из себя начальство?» Тот ответил: «Не знаю, но он дело говорит».
Вот так вторглись пруссаки и австрийцы вместе с французскими приспешниками во французские пределы, чтобы там показать свою воинскую доблесть. Но по чьему приказу мы сюда пришли? Можно, конечно, вести войну и по собственному почину, да к тому же война была нами отчасти все же объявлена, и ни для кого не было секретом, что мы состояли в союзе с австрийцами. Но дипломаты изобрели совсем особую теорию: мы-де здесь выступаем как бы от имени Людовика XVI, посему мы занимаемся никак не реквизицией, а всего лишь берем насильственно взаймы. Были отпечатаны боны, подписанные главнокомандующим, и таковые каждый, у кого они имелись, мог заполнять по своему усмотрению. Предполагалось, что их оплатит все тот же король Людовик. После манифеста герцога Брауншвейгского, быть может, ничто так не восстанавливало народ против монархии, как именно этот наш способ действия. Я и сам был свидетелем глубоко трагической сцены, которая мне запомнилась на всю жизнь. Несколько пастухов соединили свои отары, чтобы скрыть их в лесах или в другом каком-либо укромном месте. Но наши ретивые патрули их выследили и привели в наш лагерь, где их встретили поначалу вежливо и дружелюбно, расспрашивали, кто владелец этих овец; подсчитали и разделили каждое стадо в отдельности. На лицах этого трудового люда страх и заботы чередовались с проблесками зыбкой надежды. Но когда вся эта длительная процедура завершилась тем, что овцы были поделены между полками и подразделениями, а пастухам вежливо вручили боны, выписанные на имя Людовика XVI и тут же, на их глазах, изголодавшаяся по мясу солдатня принялась умерщвлять их курчавых подопечных, то, сознаюсь, мне едва ли когда-либо случалось видеть столь жестокую сцену и такую гложущую боль пострадавших во всех ее проявлениях. Только греческая трагедия с ее величавой простотой способна нас потрясать глубиною такого неизбывного горя.
30 августа.
Мы ждали, что день, когда мы подойдем к стенам Вердена, принесет нам немало разных приключений, и не ошиблись. Дорога, вся в отлогих подъемах и спусках, заметно просыхала; телеги уже не увязали в грязи, а ехать верхом на добром коне доставляло даже немалое удовольствие.
Подобралась веселая компания отличных всадников. Вырвавшись вперед, мы вскоре примкнули к отряду гусар, конной разведке всей союзной армии. Ротмистр, человек солидный и уже немолодой, не очень обрадовался нашему прибытию. Ему была вменена в обязанность строжайшая осмотрительность: все должно было совершаться точно по предписанию, благоразумно предотвращая нежелательные случайности. Ротмистр искусно рассредоточил своих людей, продвигавшихся вперед поодиночке, соблюдая известную дистанцию. Все проводилось с соблюдением тишины и величайшего порядка. Местность была пустынна, полное безлюдье порождало дурные предчувствия. Так от холма к холму мы прошли Манжьенн, Дамвиллер, Вавриль и достигли Ормана, где нам открылся широкий вид на поля и виноградники, как вдруг раздался одиночный выстрел. Гусары тут же кинулись обыскивать близлежащую местность и вскоре привели черноволосого бородатого человека, диковатого на вид, с проржавленным пистолетом в кармане. Он упрямо утверждал, что — только и всего — гонял птиц со своего виноградника и никому вреда не причинял. Ротмистр, поразмыслив, как следует здесь поступить, не нарушая полученных инструкций, решил отпустить «злоумышленника», предварительно пнув его коленкой, что заметно способствовало стремительности его ретирады. Солдаты с громким гиканьем бросили ему вслед позабытую шляпу, но он предпочел оставить ее в руках противника.
Отряд продолжал свой путь, рассуждая о происшедшем и о том, что еще может с нами приключиться. Надо сказать, что наша небольшая компания, навязавшаяся в попутчики гусарам, состояла из людей довольно случайно сошедшихся, но, впрочем, прямодушных и преданных насущным требованиям. Но об одном из них выскажусь особо: это был человек серьезный, внушающий к себе уважение, каких тогда нередко можно было встретить среди прусского офицерства. Получивший скорее эстетическое, нежели философическое воспитание, он заметно отличался от прочих ипохондрической чертою характера, некоторой замкнутостью и гуманной склонностью благодетельствовать простому народу.
Случилось, что в пути мы столкнулись с еще одним явлением, столь же странным, сколь и приятным, вызвавшим всеобщее участие. Двое гусар вкатили на пригорок маленькую двуколку, а когда мы осведомились, кто такой находится в повозке, за натянутым полотном, установили, что лошадью правит мальчик лет двенадцати, а в уголке притулилась девочка или совсем юная бабенка, чуть подавшаяся вперед, чтобы взглянуть на множество конников, обступивших ее прибежище о двух колесах. Все отнеслись к ней с теплым участием, но роль защитника маленькой особы была доверена нашему чувствительному другу, который, ознакомившись с «содержимым» повозки, ощутил живую потребность заняться спасением юницы. Мы от нее отступились, предоставив ему разузнать, кто она и откуда. Молодая особа, как установил ее покровитель, проживала в Самонье и, думая спастись от военной напасти, бежала из родных мест, и вот оказалась в самой пасти чудовища. Человек, обуянный страхом, обычно думает, что всюду хорошо, где его нет. Но мы в один голос дружески ей разъяснили, что всего вернее оставаться дома. Даже наш ротмистр, всех подозревавший в шпионстве, на сей раз был убежден чистосердечной риторикой высоконравственного воина. Красотке дали в провожатые двух гусар, и она, заметно утешившись, отправилась восвояси. Строго соблюдая военную дисциплину, мы вскоре побывали в ее поселке и проездом с ней повстречались: она стояла среди родных на низенькой каменной ограде и доверчиво помахала нам ручкой, с благодарностью вспоминая о счастливом исходе ее первой встречи с нами.
В самый разгар войны порой выпадают счастливые паузы, когда возможно пристойным поведением восстановить на краткий срок подобие законности и мира и этим обрести доверие жителей оккупированной страны. Такие паузы драгоценны для горожан и сельских жителей — для всех, у кого непрерывные ужасы войны не вовсе отняли веру в человека и человечность.
Наш лагерь был раскинут по сю сторону от Вердена. Ждем, что нам удастся здесь прожить несколько дней в относительном спокойствии.
Утром тридцать первого, едва очнувшись от сна в своем дормезе, бесспорно самой лучшей, сухой и теплой из опочивален, я услышал, как зашуршал кожаный полог кареты. Приподняв его, я увидел герцога Веймарского и рядом с ним нежданного гостя. Я сразу узнал в нем чудодея Гротуса, усердного искателя приключений. Он и сюда, верный своей роли, прибыл предложить себя в качестве уполномоченного командованием для передачи противнику нашего ультиматума о сдаче крепости и спросить согласие герцога предоставить в его распоряжение штабного трубача. Назначение парламентером и прикомандирование к нему трубача несказанно обрадовало Гротуса. Помня прежние чудачества, мы все весело поздравляли его с почетным отличием. Гротус незамедлительно приступил к исполнению своей миссии, над чем впоследствии немало подшучивали. Если верить насмешникам, он горделиво поскакал к воротам Вердена с трубачом впереди и гусаром позади. Но верденцы, как истые санкюлоты, то ли по незнанию, то ли из презрения к международному праву, открыли по нему обстрел картечью. Тут он прикрепил к трубе свой белый носовой платок и велел трубить во всю мочь, все громче и громче. Высланный за ним отряд увел его одного к коменданту с завязанными глазами. Гротус не поскупился на красноречие, но — увы! — ничего не добился. Цель этих глумливых пересказов была одна: умалить заслуги смелого человека и закрепить за ним репутацию нелепого гидальго.
Поскольку крепость, как то и следовало ожидать, не сдалась по первому нашему требованию, надо было подумать об ее артиллерийском обстреле. День клонился к вечеру. Я провел его, трудясь над, казалось бы, несложным делом; но благие последствия его продолжают сказываться вплоть до сегодняшнего дня. В Майнце, как было сказано выше, господин фон Штейн снабдил меня отличным атласом Йегера, топографически воссоздавшим на ряде листов театр тогдашних и, как хотелось думать, также и предстоявших нам военных действий. Я изъял из атласа сорок восьмой лист — район Лонгви, где Я пристал в свое время к действующей союзной армии. С помощью формовщика, отыскавшегося среди герцогской прислуги, я вырезал соответствующую карту и велел ее, равно как и ряд других, ее продолжавших, наклеить на картон, решив на их белую изнанку наносить свои краткие пометы, каковые мне и теперь помогают восстанавливать воспоминания о давних днях, важных для меня и для потомства.
После этих приготовлений, полезных в будущем и пригодных для настоящего, я осматривал луг, где мы стояли биваком и где наши палатки тянулись до близлежащих холмов. Мое внимание приковало к себе странное занятие солдат, усевшихся кружком на зеленой мураве. Подойдя поближе, я увидел, что они расположились вокруг воронки диаметром в футов тридцать, наполненной чистейшей родниковой водой. В ней плавали бесчисленные рыбешки, которых солдаты вылавливали мелкими сетями и бросали в банки и ведрышко. Вода была поразительно прозрачна, и смотреть на ловлю доставляло мне немалое удовольствие. Но я недолго утешался этой игрой, так как нежданно-негаданно заметил, что юркие рыбки переливаются всеми цветами радуги. Сначала я было подумал, что эти верткие малявки сами меняют свою окраску, но вскоре, к вящей моей радости, мне открылась истинная суть сего явления. На дне воронки лежал фаянсовый черепок, который посылал мне из водной глуби прелестные призматические цвета. Черепок, более светлый, чем дно воронки, как бы рвался навстречу глазу, являя на противоположном от меня краешке голубую и фиолетовую краску, а на ближайшем ко мне «бережку» — красную и желтую. Когда я обходил воронку, явление передвигалось вместе со мной. От подобного, тесно сопряженного с наблюдателем, феномена ничего другого и ждать не приходилось: соотношение цветов оставалось неизменным.
И без того страстно увлеченный явлениями света, цвета и глаза, я был крайне обрадован, что все это мне довелось увидеть под открытым небом, тогда как ученые физики для той же цели вот уже чуть ли не столетие запираются в темной камере со своими учениками. Я разыскал еще несколько осколков посуды и один за другим бросал их в воду, наблюдая, как феномен обнаруживал себя сразу же по погружении черепка, как он потом постепенно усиливался и все кончалось тем, что беленький, ярко расцвеченный, предмет оседал на дно в виде язычка пламени. Мне вспомнилось, что о том же говорил еще Агрикола, напрасно относя эти язычки к феноменам огня.
После обеда мы поскакали на холм, скрывавший от нас вид на Верден. Окруженный радующими глаз лугами и садами, город был расположен между ближними и дальними холмами в красивой долине, пересеченной несколькими рукавами Мааса, но — как крепость — он представлял собою мишень, отовсюду доступную бомбардировке. Вторая половина дня, поскольку город еще упорствовал, целиком ушла на установки батарей. В хороший бинокль было отчетливо видно, что происходило на обращенном к нам валу и как быстро сновал по нему народ, особенно усердно действуя вокруг одной батареи, прямо на нас направленной. Около полуночи началась артиллерийская дуэль. Заговорили наши батареи с правого берега и тут же другая — с левого, расположенная ближе к городу, поливая его зажигательными бомбами и тем самым производя наибольшее впечатление на верденцев. Можно было видеть, как эти хвостатые метеоры неторопливо описывали траекторию, и как вслед за тем занималось зарево пожара то в том, то в другом городском квартале. Наши бинокли позволяли нам различать все детали происходившего. Мы видели людей на городской стене, стремящихся дотушить клокочущее пламя; видели, как рушатся стропила и отдельные бревна. Все это происходило на глазах знакомых и незнакомых мне солдат и офицеров, до меня долетали самые различные суждения, подчас весьма противоречивые. Я подошел к батарее, палившей непрерывно по осажденным. Но жуткий, сотрясающий землю гул наших гаубиц был нестерпим для моих миролюбивых ушей, и я поспешил поскорее удалиться. Тут мне встретился князь Ройсс XI всегда ко мне благоволивший. Мы стали прогуливаться с ним, придерживаясь тыловой стороны каменной ограды, тянувшейся вдоль виноградников, что спасало нас от картечи, на каковую не скупился осажденный город. Разговор на политическую тему завел нас в бесконечный лабиринт надежд и сомнений и сам собою оборвался. Князь любезно осведомился, над чем я сейчас работаю, и был крайне удивлен, услышав, что не над новой трагедией или романом, а над теорией цвета и света, на что меня вдохновил увиденный сегодня феномен рефракции. При встрече с подобным явлением природы со мною происходит то же, что во время стихотворчества: не я их творю, а они меня творят. Пробудившийся интерес вступает в свои права, и тут уж ни пушечные ядра, ни огненные шары помешать мне не могут. Князь попросил у меня удобопонятного объяснения, как я забрел в эти дебри. Сегодняшнее открытие мне помогло удовлетворить его любопытство.
Когда говоришь с человеком, подобным князю Ройссу, нет надобности впадать в многословие: его нетрудно убедить, что давний любитель природы, проводивший большую часть жизни под открытым небом, будь то в саду, на охоте, в путешествиях или во время военного похода, всегда найдет досуг и возможность наблюдать природу в целом или в различнейших ее проявлениях. К тому же сама атмосфера, туманы, дожди, земля и водные просторы беспрестанно знакомят нас с множеством переменчивых цветовых феноменов. Условия и разные обстоятельства, в которых они возникают, так различны, что нельзя не почувствовать потребности в более близком ознакомлении с ними, в их тщательном изучении и строгой классификации, равно как в определении их взаимного родства. В любом случае мы обретаем при этом новые воззрения, весьма отличные от школьной премудрости и от издавно установившихся традиций. Наши предки были наделены острым чутьем, они умели смотреть и видеть, но их наблюдения редко доводились до конца с надлежащей последовательностью, почему им меньше всего удавалась классификация феноменов, правильное их занесение в соответствующие рубрики.
Рассуждая об этих предметах, мы прогуливались взад и вперед по росистой траве. Поощряемый резонными вопросами и встречными замечаниями, я продолжал излагать свою теорию, покуда холод наступившего утра не заставил нас пристроиться к биваку австрийцев. Их всю ночь напролет горевшие костры представляли собою огромный круг раскаленного угля, обдававшего нас благотворным теплом. Страстно увлеченный предметом, которым я занимался всего лишь два года и каковой еще бродил во мне, как молодое вино, я, быть может, не слишком бы даже интересовался, слушает меня князь или нет, если б он время от времени не вставлял разумные реплики, а под конец, подхватив нить моего доклада, не поощрил бы меня своим милостивым одобрением.
Как я не раз уже замечал, обсуждать серьезные вопросы, в том числе и научные, всего приятнее с власть имущими, владетельными особами и высокопоставленными администраторами, которым часто приходится выслушивать доклады касательно предметов, им незнакомых; тем внимательнее они слушают докладчика, преследуя единственную цель: не дать себя ввести в обман, а значит, уяснить себе существо вопроса. Напротив, рядовой ученый более склонен слушать только то, чему его учили, чему он и сам обучает своих учеников и о чем он давно договорился со своими коллегами. Место обсуждаемого предмета здесь заступает его credo, — ведь держаться общепринятого научного догмата столь же спокойно, как любого другого догматического учения.
Утро было свежее, но сухое. Намерзшись и нажарившись, мы опять зашагали вдоль ограды, как вдруг заметили какое-то движение возле виноградников. Это был пикет здесь переночевавших егерей, спешно бравших теперь свои карабины и ранцы, чтобы направиться в испепеленное предместье и, там окопавшись, нарушать покой осажденного города, поражая одиночные цели. Идя навстречу своей более чем вероятной гибели, солдаты горланили похабные песни, что, ввиду предстоящего, было, пожалуй, и дозволительно.
Только егеря удалились, как я увидел, что на стене, возле которой они отдыхали, обнаружился любопытнейший геологический феномен: на карнизе, венчавшем белую известняковую кладку ограды, красовались камешки цвета бледно-зеленой яшмы. Я был изумлен свыше меры. Откуда они сюда попали, да еще в таком количестве? Не могли же они затесаться в известняковый раствор? Но разгадка этого морока, этого мнимого чуда, долго ждать себя не заставила. Приблизившись к известковой стене, я тотчас же установил, что эти яшмовые камешки были не чем иным, как мякишем заплесневелого хлеба. Поскольку есть их было невозможно, егеря, с юмором висельника, изукрасили ими ограду.
Это навело нас на разговор о бесконечных толках, участившихся с первых же дней, как мы вступили на территорию противника, — толках об отравлениях пищей, многих ввергших в панический ужас. Подозрения вызывали не только яства, подаваемые в трактирах, но даже хлеб собственной выпечки, хотя его заплесневелость объяснялась совсем другими, вполне естественными причинами.
Первого сентября, около восьми часов утра, обстрел города прекратился, хотя обе стороны изредка еще и обменивались отдельными ядрами. Осажденные нет-нет да палили в нас двадцатичетырехфунтовыми снарядами, чему и сами не придавали серьезного значения.
На голом холме, в стороне от виноградников, как раз против этого мощного орудия, были выставлены дозорными два гусара, получившие задание зорко наблюдать за всем, что творилось в крепости и на пустом пространстве, отделявшем нас от города. За все время, что они стояли в дозоре, с ними ничего не стряслось. Но поскольку при смене постовых число солдат на короткий срок удваивалось и сверх того набегало немало праздных зрителей, осажденные при виде такого скопища народа, не мешкая, произвели одиночный выстрел. В этот миг я стоял в ста шагах от набежавших ротозеев, обратившись спиной к гусарам, беседуя с подошедшим приятелем, как вдруг услышал позади себя свирепо свистящий, устрашающий звук снаряда и тотчас круто повернулся. Не могу сказать, чем было вызвано мое вращательное движение: угрожающим ли звуком, воздушной ли волной или душевным потрясением. Я только успел заметить, что ядро рикошетом сокрушило часть загородки и разметало толпу зевак в разные стороны. А затем люди с криком помчались за ядром, утратившим свою губительную силу. Все были целехоньки и, овладев железным шаром, торжественно обошли с ним присутствующих.
Около полудня был нами вторично направлен ультиматум о сдаче крепости, в ответ на что комендант испросил себе двадцать четыре часа на раздумья. Мы тоже воспользовались этими часами, чтобы привести себя в надлежащий вид, запастись провиантом, объездить окрестности, причем я не раз возвращался к пресловутой воронке, обогатившей мои оптические познания. Теперь я мог спокойно продолжить свои опыты, так как все рыбки были уже выловлены, и ничем не замутненная вода давала полную возможность продолжить игру с опускавшимися на дно язычками пламени. Настроение у всех нас было превосходное.
Но несчастный случай вновь напомнил нам о войне. Какой-то офицер-артиллерист повел своего коня на водопой, так как припасенной воды у нас явно недоставало, а моя воронка, мимо которой он проехал, была так далеко расположена от дороги, что он ее не заметил. Он подъехал к протекавшему поблизости Маасу, но крутой песчаный берег вдруг отломился и пополз вместе с конем и всадником в реку. Лошадь спасли, но выловленное тело артиллериста пронесли мимо нас бездыханным.
Вскоре после этого раздался сильный взрыв в месторасположении австрийцев, на склоне холма, нам отлично видном. Взрывы повторялись, каждый раз взметая высокий столб дыма. Огонь вспыхнул по оплошности, допущенной при набивании снарядов. Возникло крайне опасное положение, тем более что пламя уже подбиралось к заряженным минам. Можно было ожидать, что весь артиллерийский парк взлетит на воздух. Но эту беду предотвратила геройская храбрость кесарцев. Презрев опасность, они поспешно вынесли за пределы парка и порох, и начиненные бомбы.
Так прошел и этот день. А наутро крепость сдалась и город перешел в наши руки. Тут мы имели случай ознакомиться с характерной чертой республиканского патриотизма. Теснимый гражданами Вердена, в свою очередь потесненными нами, — разрушение и предание огню родного города было для них равнозначным светопреставлению, — комендант (его звали Бонрепе) не посмел более оттягивать сдачу крепости. Но, подав свой голос на собравшемся в полном составе Городском совете за немедленную капитуляцию, он тут же выхватил пистолет и застрелился, явив достойный пример патриотического самопожертвования.
После неожиданно скорого падения Вердена никто уже не сомневался в нашем дальнейшем победоносном наступлении и в том, что мы наконец-то отдохнем в Шалоне или в Эперке за чашей доброго французского вина. Я велел незамедлительно наклеить на картон всю предстоящую нам дорогу на Париж, дабы отмечать на белых задниках важнейшие события, как я и прежде это делал.
3 сентября.
Утром составилась небольшая кавалькада из желающих осмотреть отвоеванный город; к ней присоединился и я. Сразу при въезде в Верден мы удостоверились, сколь обширные приготовления производились в городе задолго до того, как мы подошли к этой цитадели. Все указывало на предполагавшуюся длительную оборону. Булыжная мостовая была сплошь разворочена, но тщательно сложена вдоль домов обездороженных улиц. Прогулка по ним, да еще в дождливую погоду, была не из приятных. Прежде всего мы заглянули в магазины, каковые все так расхваливали, где продавался ликер самых лучших марок. Мы их усердно перепробовали и немало здесь закупили нам на потребу. Среди прочих выделялся своим вкусом так называемый Baume humain, не такой сладкий, но превосходящий их крепостью. Он нам особенно пришелся по вкусу. От драже, то бишь крупинок пряностей в сахаре, продававшихся в изящных кулечках цилиндрической формы, мы тоже не отказались. Пробуя эти сладости, мы вспоминали своих милых жен и ребятишек на мирных берегах Ильма; им тоже все это пришлось бы по вкусу. Посылки были упакованы, и услужливые курьеры, направлявшиеся в глубь Германии возвещать об успехах нашего оружия, охотно соглашались доставить этот груз, способный вполне успокоить домочадцев касательно того, что мы поломничаем в стране, где не иссякают запасы вина и прочих видов довольствия.
Осматривая частично разрушенный, частично изуродованный город, мы имели повод повторить стародавнее мнение, что в злодеяниях, кои человек причиняет другому человеку, а также в бедствиях, какие природа обрушивает на земнородных, встречаются случаи, явно подтверждающие, что тут не обошлось без прямого вмешательства провидения. В нижнем этаже углового дома на рыночной площади помещается большая лавка, торгующая фаянсом. Нам рассказали, что упавшая на площадь бомба, ударившись о хрупкую штукатурную облицовку каменного косяка входной двери, отпрянула и отлетела в другую сторону. Косяк был поврежден, но отлично исполнил роль бравого авангардиста: фаянс и фарфор стояли неповрежденные, сверкая своей поверхностью, за до блеска вычищенными зеркальными стеклами многочисленных окон этого светлого помещения.
Днем в гостинице нам подали бараний окорок и вино, принесенное из бара. Вино это не терпит перевозки, почему и приходится наслаждаться им на месте. В такого рода закусочных подают тебе только ложки, но вилки и ножи каждый должен иметь при себе. Узнав о таком обычае, мы обзавелись потребными приборами, здесь же продававшимися, изящной формы, но безо всяких рельефных украшений. Прислуживали нам веселые, шустрые девушки, всего несколько дней тому назад столь же ретиво услужавшие крепостному гарнизону.
Во время вступления наших войск в захваченный Верден произошел случай, впрочем, не повторившийся, который вызвал немало толков и участливого внимания. В Верден входили пруссаки, и вдруг из толпы грянул ружейный выстрел. Отчаянный поступок! Но совершивший его французский гренадер не мог, да и не думал отрицать, что никто, как он, хотел прикончить оккупанта. Я видел его на гауптвахте, куда его тотчас же отвели. Стройный, очень красивый молодой человек с твердым взглядом и самоуверенной манерой держаться. Пока судьба его еще не была решена, его содержали без строгости. Рядом с гауптвахтой находился мост, перекинутый через один из притоков Мааса. Молодой человек сел на перила, посидел на них сколько-то минут и потом, кувырнувшись назад через голову, сразу исчез в водной глуби. Из реки извлекли его бездыханное тело.
Этот второй, тоже как бы пророческий, героический поступок вызвал к себе страстную ненависть тех, кто только что вступил в город. Люди, прежде сдержанные и рассудительные, открыто говорили, что ни этот гренадер, ни комендант крепости не заслуживают христианского погребения. Правда, все мы ожидали здесь встретиться с совсем иным умонастроением, но французские войска не выказывали ни малейшего желания переходить на нашу сторону.
Зато нас весьма утешил рассказ о том, какие почести были оказаны прусскому королю. Четырнадцать самых красивых и благовоспитанных девиц встретили его величество любезными речами, дивными розами и отменными плодами. Приближенные советовали королю не притрагиваться к этим плодам, опасаясь отравы, но бесстрашный монарх не преминул галантно принять столь дивные дары и доверчиво их отведать. Эти прелестные девушки внушили доверие и нашим молодым офицерам. Те, кому посчастливилось побывать на балу, не уставали восхищаться их светским тактом, грациозностью и благонравием.
Позаботились и о более солидных усладах, сполна оправдавших наилучшие наши надежды и предположения: в крепости навалом хранилось всякое добро, и все поспешили им поживиться, быть может, даже слишком избыточно. Я не раз замечал, что окороками, мясом, рисом, чечевицей и прочими необходимыми съестными припасами распоряжались не так экономно, как следовало бы в нашем положении, и это наводило на тревожные размышления. Было забавно наблюдать, как солидные люди преспокойно очищали целые арсеналы и частные собрания всевозможного огнестрельного и холодного оружия. Всякое оружие, все больше старого, чем нового образца, хранилось в бывшем монастыре. Туда же было снесено и множество редкостных средств обороны и нападения, которыми можно было обратить в бегство любого противника и его же нещадно прикончить.
Безмятежное и беспечное разграбление таких оружейных палат вошло в обиход как-то само собою. Когда город был занят, высшие военачальники, желая удостовериться в наличии складов всевозможного назначения, не обошли и арсенала. Они объявили его собственностью армии и среди находящегося в нем оружия обнаружили немало редкостных изделий, какими впору обзавестись каждому человеку. Мало кто рассматривал таковые, не выбрав себе чего-нибудь на память. Так поступали все армейские чины сверху донизу, в результате чего эта сокровищница стала добычей чуть ли не каждого. Стоило караульному дать «на чай», и можно было свободно осматривать арсенал и выбирать сувениры, сколько душе угодно. Мой слуга раздобыл себе таким путем высокую полую трость. Искусно обвязанная позолоченными нитями, она по виду казалась невиннейшим предметом, и только ее вес указывал, что в ней таится опасный вкладыш. И действительно, в ней скрывался клинок шпаги длиною в четыре фута. С помощью такой вот тросточки твердая рука могла бы творить чудеса.
Так вот мы и жили, наводя порядки и беспорядки, что уберегая, а что, напротив, уничтожая, тратясь на покупки и грабя что попадется под руку. Такой образ поведения всего губительнее для воина в военное время. Он играет роль то дерзкого насильника, то кроткого миротворца, привыкает к пышной фразе, дерзает внушать людям, находящимся в безвыходном положении, лживые надежды и неоправданную бодрость. Отсюда возникает совсем особый вид лицемерия, отличный от поповского, царедворческого и всякого иного.
Не могу не упомянуть об одном достойнейшем человеке. Я часто вспоминаю о нем, хотя видел его лишь однажды на расстоянии — за тюремной решеткой. То был почтовый смотритель из Сент-Мену. Он имел несчастье попасть в плен к пруссакам. Любопытствующие посетители тюрем его не смущали. Казалось, он совершенно спокоен, хотя судьба его висела на волоске. Эмигранты твердили, что он заслужил тысячу смертей, и не переставали докучать высшим инстанциям юстиции. Но к чести высоких судейских чиновников нужно сказать, что они в данном случае, как и во многих других, хранили должное спокойствие, полную неприступность и подобающее беспристрастие.
4 сентября.
В наших палатках весь день царило оживленнейшее общение: уходили одни, приходили другие. Было о чем порассказать, что обсудить и что предать осуждению. Положение дел постепенно прояснялось. Все сходились на том, что надо как можно скорее прорваться к Парижу. Крепости Монмеди и Седан были нами оставлены в тылу нетронутыми, так как считалось, что их ничтожные гарнизоны не представляют для нас опасности.
Лафайет, недавний кумир французской армии, вышел из игры и, страшась возмездия, предался противникам, однако последние обходились с ним как с врагом. Дюмурье, в бытность свою министром, показал себя неплохим стратегом, но не прославился ни в одном походе и, возведенный теперь на пост главнокомандующего всей французской армии прямо из канцелярии министерства, многим казался как бы ярким примером общей растерянности и неразберихи. Но, с другой стороны, приходили вести об имевших место во вторую половину августа печальных событиях в Париже, где, вопреки манифесту герцога Брауншвейгского, король был арестован, лишен престола и признан преступником. Но особенно подробно мы все же обсуждали наши ближайшие военные операции.
Поросшая лесом горная цепь, именуемая Форс-д’Аргон, принудившая реку Эр течь с юга на север вдоль всей этой местности, высилась прямо перед нами, сковывая дальнейшее наше продвижение. Все говорили об Илеттах, важнейшем перевале между Верденом и Сент-Мену. Почему мы его не занимаем, почему уже не заняли его, касательно этого мы не могли столковаться. Знали мы только то, что им овладели было эмигранты, но не смогли его удержать. По слухам, на защиту перевала направились войска гарнизона сдавшего нам Лонгви. И туда же послал часть своих войск Дюмурье через немалые просторы, отделявшие их от перевала, чтобы его укрепить и заодно защитить правый фланг его же позиции близ Гранде, тем самым уготовляя новые Фермопилы для пруссаков, австрийцев и эмигрантов.
Мы уже не скрывали друг от друга, что наши ауспиции заметно ухудшились и что армии, коей надлежало неустанно рваться вперед, теперь пришлось бы разве что спуститься вниз по Эру и попытать свое счастье с противником, укрепившимся в горных ущельях перевала. Надо было еще радоваться, что Клермон был отбит у французов гессенцами, действовавшими на подступах к Илеттам; даже если б они не овладели ими, это все же изрядно побеспокоило неофранков.
6 сентября.
Исходя из этих соображений, наш лагерь был перенесен за Верден. Ставка короля находилась в Глорье (в Славном), ставка герцога Брауншвейгского — в Регре (в Прискорбном), что давало сотни поводов для веселых каламбуров. В первую из двух резиденций меня занес досадный случай. Полк герцога Веймарского должен был дислоцироваться близ Жарден-Фонтена, неподалеку от городка того же наименования и реки Маас. Мы счастливо выбрались из города, втерлись в колонну неведомого нам полка и некоторое время следовали за ним, хотя и видели, что очень отдаляемся от места назначения. Но что поделаешь, дорога была слишком узка, чтобы выбраться из колонны, не свалившись в придорожную канаву. Мы смотрели направо и налево и, не встречая ничего похожего, спрашивали встречных, не получая ответа. Видимо, и они ничего не знали, и это их злило и удручало. Наконец, поднявшись на пологий холм, я увидел внизу, по левую руку, долину, которая в другое время года могла бы показаться даже красивой, — живописное местечко с дворцом довольно внушительного вида; к нему — о, счастье! — вел удобный проспект, мягко спускавшийся по зеленому склону. Я незамедлительно велел выбраться из вязкого месива колеи на спасительную аллею, потому что увидел, как внизу снуют офицеры и вестовые и как к разным крыльцам одна за другой подъезжают кареты, а также фургоны с провиантом, приносятся и портшезы. Как я сразу предположил, это была Глорье, резиденция короля. Но и здесь мне не могли объяснить, где находится Жарден-Фонтен. Наконец мне повстречался спасительный ангел в лице господина фон Альфенслебена, дружескими услугами которого я пользовался и прежде. Он объяснил мне, как попасть в Жарден-Фонтен: надо-де ехать долиной, проселочной дорогой, свободной от движения войск, до самого города, потом податься влево — там тебе и откроется сей Жарден.
Я так и поступил и вскоре увидел место расположения наших палаток — всё, однако, в ужасающем состоянии. Люди тонули в бездонной грязи, петли палаток рвались одна за другой, полотно обрушивалось на головы и плечи тех, кто искал под ними спасение. Вдосталь этим насытившись, мы решили наконец перебраться в само местечко. Что касается меня и еще нескольких офицеров, то мы обрели хозяина в лице благодушного, веселого шутника, прежде служившего поваром в Германии. Он содержал свой двор и дом в образцовом порядке и принял нас радушно. В нижнем этаже его домика нашлись для нас светлые комнаты, камин и все, в чем мы нуждались.
Свита герцога Веймарского кормилась с государевой кухни. Но наш добрый хозяин упросил нас отведать блюда его приготовления. И действительно накормил нас превкусным обедом, от которого мне, однако, сделалось так худо, что и я мог бы подумать об отравлении, если б вовремя не вспомнил о чесноке, придавшем его блюдам вкус, быть может, и замечательный, но на меня всегда оказывавшем вредное действие даже в самых малых дозах. Дурнота вскоре прошла, но я по-прежнему предпочитал немецкую кухню, хоть сколько-нибудь прилично приготовленную.
Когда пришла пора проститься, наш хозяин, пребывавший в прекраснейшем настроении, всучил моему слуге обещанное письмо в Париж, к его сестре, каковую он особливо рекомендовал нам. После обмена обычными в таких случаях речами он добродушно прибавил: «Да нет, туда-то ты не дойдешь».
11 сентября.
Итак, после нескольких дней благопристойной жизни нас снова погнали в мокрядь и в холод. Путь наш вел к горной цепи, к той, что служит водоразделом Маасу и Эру и заставляет эти реки течь на север. Терпя несчетные лишения, мы добрались до Маланкура, где нас ждали пустые погреба и кухни без дров и стряпух. Мы были рады уже тому, что можем поглощать прихваченные нами закуски на сухой скамье, под прочной крышей. Устройство самих домов мне понравилось; оно свидетельствовало о скромном семейном уюте; все было просто, отвечало их потребностям и достатку. Этот мирный покой мы нарушили и продолжали нарушать. Поблизости раздался отчаянный крик о помощи. Мы поспешили туда, сами подвергаясь опасности, и на какое-то время пресекли бесчинства. Удивительным было лишь то, что нищие и раздетые грабители, из рук которых мы вырывали похищенные плащи и рубашки, нас же обвиняли в бессердечии: мы не позволяем-де им прикрыть свою наготу, заступаясь за своих же врагов.
Но нам случалось выслушивать и более странные нарекания. Вернувшись в дом, в который нас поселили, мы застали у себя давно нам знакомого эмигранта. Мы встретили его как нельзя радушнее, и он не отказался разделить с нами наш скромный ужин. Но мы не могли не заметить, что его что-то тяготит, не дает ему облегчить свое сердце, что его гнетут какие-то заботы, которые заставляют его время от времени бормотать невнятные проклятия. Когда же мы, памятуя о нашем давнем знакомстве, постарались пробудить в нем былое доверие, он взволнованно заговорил о жестоком обращении прусского короля с французскими принцами. Удивленные, можно сказать, даже пораженные его заявлением, мы попросили его высказаться яснее. И тогда услышали, что король, выступая из Глорье, не надел плаща, невзирая на проливной дождь, ввиду чего и принцы были вынуждены отказаться от одежды, которая защитила бы их от непогоды. Наш маркиз не мог смотреть на их высочеств, столь легко одетых, промокших до нитки и насквозь пропитавшихся сыростью, стекавшей вниз по их платью. Будь это только возможно, он отдал бы свою жизнь, чтобы усадить их в сухую карету, их, с коими связаны все упования, все мечты о счастии отечества. И это их-то, привыкших сызмальства к совсем иному образу жизни!
Что мы могли ему на это ответить? Ведь его едва ли бы могло утешить, если б я сказал, что война — преддверие смерти — уравнивает всех людей, упраздняет все различия и порой грозит бедами и гибелью даже самому венценосцу.
12 сентября.
На другое утро, руководствуясь примером державного вождя, я решил оставить свой дормез и четверку лошадей, отобранных по реквизиции, на попечение надежного камерьера Вагнера, поручив ему позднее доставить экипаж и наличные деньги. Вместе с несколькими добрыми товарищами я сел на коня, и мы отправились в Ландр. На полпути мы нашли в небольшой срубленной березовой роще связки хвороста, сырого снаружи, но сухого внутри. Хворост живо одарил нас жарким пламенем и горящими углями, необходимыми для того, чтобы согреться и приготовить пищу. Лишь установленный порядок полкового обеда был несколько нарушен: столы, стулья, скамьи к назначенному часу запоздали. Ели стоя или прислонившись к дереву, кто как умел. Но цель похода была к вечеру достигнута; мы расположились лагерем невдалеке от Ландра, прямо напротив Гранпре, вполне, впрочем, сознавая, как прочно и обдуманно защищен перевал французами. Дождь шел непрестанно, дул порывистый ветер, от палаток было мало проку.
Блажен, чьей душою владеет возвышенная страсть. Цветовой феномен, открывшийся мне там, у воронки, ни на минуту не оставлял меня в покое; с тех пор все дни я обдумывал его всесторонне, чтобы продолжить свои эксперименты. Тогда же я продиктовал Фогелю (он в этом путешествии проявил себя исполнительным секретарем) конспект своих мыслей, а позднее нанес на те же самые листки и нужные чертежи. Эти бумаги, отмеченные всеми признаками непогоды, хранятся у меня и поныне. Они для меня — свидетельство неукоснительности научного труда над однажды начатым и еще сомнительным. Но путь к истине обладает еще и тем достоинством, что о нем всегда вспоминаешь с удовольствием, будь это даже твои первые, еще неуверенные шаги и уклонения в сторону или допущенные, но позднее исправленные ошибки.
Погода еще ухудшилась. Дошло до того, что провести ночь, прикорнув в полковом экипаже, можно было счесть за великое счастье. Как ужасно было наше положение, явствовало из того, что мы к тому же расположились под самым носом неприятеля и что у него могло возникнуть желание напасть на нас из своих горных и лесных надежных убежищ.
С 13 по 17 сентября.
Камерьер Вагнер вовремя прибыл со всем обозом и своим пуделем. Он пережил страшную ночь. Преодолев множество помех и затруднений, он отстал ночью от армии, потому что следовал за слугами одного генерала, сбившимися с дороги от усталости и непомерной попойки. Отряд, к которому пристал Вагнер, прибыл в какую-то деревню. Подозревали, что французы совсем близко. Пугал каждый шорох, лошади не возвращались с водопоя. Но наш Вагнер не растерялся. Вырвавшись из проклятой деревушки, он сумел воссоединиться с нашей армией со всем нашим движимым имуществом.
И тут произошло некое событие, всех нас потрясшее, ибо, как нам казалось, было тесно связано с нашими тревогами и лучшими надеждами: на правом крыле наших войск послышалась сильнейшая канонада. Ага, сказали мы себе, это генерал Клерфе прибыл из Нидерландов и атакует левый фланг французов. Все с нетерпением ждали вестей, увенчалась ли его атака успехом.
Я отправился в ставку, чтобы подробнее узнать, что значит эта канонада и чего нам следует ожидать. Точно никто ничего не знал. Думали только, что Клерфе вступил с французами в рукопашный бой. Здесь я и застал майора фон Вейраха, как раз в момент, когда он, мучаясь скукой и нетерпением, садился на лошадь, чтобы съездить к передовому охранению. Я сопровождал его. Мы поднялись на высоту, с которой хорошо просматривалась местность. Повстречав дозор гусар, мы поговорили с их офицером, красивым молодым человеком. Стрельба происходила далеко за Гранпре, и офицер получил приказ не продвигаться вперед, чтобы не вызвать ответной акции французов. Мы поговорили недолго, как к нам подъехал принц Луи-Фердинанд со свитой и, после краткого разговора, потребовал от офицера, чтобы тот шел вперед. Офицер решительно возражал ему, но принц, оставив его слова без внимания, продолжал свой путь, а мы, хотели мы того или нет, должны были следовать за ним. Так мы проехали еще самую малость, как вдалеке показался французский егерь. Он подскакал к нам на расстояние ружейного выстрела и тут же умчался прочь. За ним — второй, третий, и все они столь же стремительно уносились. Но четвертый, надо думать, тот самый, который подъехал к нам первым, уже вполне серьезно выстрелил в нашу сторону; мы ясно слышали свист пронесшейся пули. Принц не сворачивал, а французские егеря продолжали свое дело, так что не одна пуля уже пролетела мимо нас. Я поглядывал на офицера. Он был в смятении; чувство долга боролось в нем с уважением к принцу королевской крови. Он, видимо, прочел участие на моем лице, приблизился ко мне и сказал: «Если вы пользуетесь каким-либо влиянием на принца, попросите его повернуть назад. Ведь я буду за все в ответе. Мне настрого приказали не оставлять доверенного мне поста. И это весьма разумно: мы не должны раздражать неприятеля, коль скоро он занимает столь выгодную позицию за Гранпре. Если принц не повернет назад, то вскоре вся цепь охранения начнет отстреливаться, в ставке не будут знать, что случилось, и высочайшее недовольство обрушится на мою неповинную голову». Я подъехал к принцу и сказал ему: «Мне только что оказали честь предположением, будто я пользуюсь некоторым влиянием на ваше высочество. Прошу вас благосклонно выслушать меня». После этого я ясно изложил ему суть дела, в чем даже и не было особой нужды; принц сразу понял, что к чему, и был даже так предупредителен, что немедленно повернул назад, сказав несколько любезных слов молодому офицеру. После этого перестали стрелять и французы. Офицер был мне крайне признателен и очень меня благодарил, отсюда следовало, что посредник — лицо нелишнее.
Постепенно ситуация прояснилась. Позиция Дюмурье близ Гранпре была в высшей степени прочной и выгодной. То что с правого фланга к ней нельзя было подступиться, стало ясно каждому; на левом же его фланге имелись два очень важных перевала — Лякруа-о-Буа и Лешен-Популё, тот и другой были плотно завалены и считались непроходимыми. Но охрана второго из названных перевалов была доверена офицеру, недостойному столь важного поручения или разгильдяю. Австрийцы его атаковали. В первой атаке пал принц Линь Младший, но вторая вполне удалась, сопротивление французов было сломлено и продуманный план Дюмурье тем самым перечеркнут. Ему пришлось отступить со своих позиций и двигаться вверх по течению реки Эн. Прусские гусары преодолели перевал и начали преследовать противника уже по ту сторону Аргоннского леса. Натиск пруссаков вызвал панический ужас французов, десять тысяч человек бежало перед пятью сотнями гусар. С большим трудом удалось остановить и собрать их. При этом отличился полк Шамборана, преградивший путь нашим конникам. Последние, собственно, посланные только на разведку, вернулись с победой, радостные и похвалявшиеся тем, что взяли у неприятеля несколько телег и прочие трофеи. То, чем они могли воспользоваться тут же, на месте, деньги и одежду, они поделили между собою; а мне, как летописцу и канцеляристу, достались бумаги, среди которых я обнаружил несколько старых приказов Лафайета и целый ряд необыкновенно четко переписанных описей боевых припасов. Но более всего меня поразил довольно свежий номер «Монитера». Я сразу узнал его печать и формат, — ведь все это постоянно прочитывалось мною на протяжении нескольких лет; но на сей раз со страниц газеты обращались ко мне не слишком дружелюбно; короткая статья от третьего сентября грозила: «Les Prussiens pourront venir á Paris, mais ils n’en sortiront pas»[10].
Итак, французы считались с возможностью, что мы войдем в Париж. Предоставим же горним силам позаботиться о нашем возвращении.
Ужасное положение, когда все мы болтались между небом и землей, несколько улучшилось. Армия теперь и впрямь могла перейти в наступление. Один за другим отправлялись вперед отряды авангарда. Подошла и наша очередь; через холмы, долины, виноградники, снабжавшие нас молодым вином, мы достигли ранним утром более открытой местности. В живописной долине реки Эр мы увидели замок Гранпре, расположенный на горе, как раз в том месте, где Эр пробивает себе путь на запад сквозь теснящиеся холмы, чтобы соединиться по ту сторону хребта с рекою Эн устремляющей свои воды на запад до Уазы, а воссоединившись с нею, и до Сены. Из сказанного видно, что горный хребет, отделявший нас от Мааса, не очень высок; однако, придерживаясь изменившегося направления рек, мы вступали тем самым в другой речной бассейн.
Во время этого перехода я случайно оказался сначала среди свиты короля, а потом и герцога Брауншвейгского. Здесь я вступил в беседу с князем Ройссом и с рядом других знакомых мне дипломатов и военных. Группы всадников служили красивым стаффажем приятных ландшафтов. Хотелось бы, чтобы среди нас оказался ван дер Мейлен и увековечил нашу кампанию. Все были веселы, бодры, полны надежд и героического порыва. Правда, то здесь, то там полыхали ярым пламенем несколько деревень, однако дым не вредит картине, изображающей войну. Нам сказали, что из окон крестьянских изб стреляли по нашим солдатам, и отряды, по праву войны, немедленно мстили за себя. Такое поведение вызвало критику, но нельзя было ничего изменить. Осталось взять под свою защиту виноградники, хотя владельцам они и не сулили богатого урожая; так мы и шли вперед, меняя дружественное отношение к жителям на враждебное и наоборот.
Оставив позади Гранпре, мы переправились через Эн и расположились лагерем близ Во-ле-Мурон; и вот мы были в Шампани, в краю, пользовавшемся изрядно дурной славой. Но на первый взгляд он был не так плох. По реке, вдоль ее солнечной стороны, тянулись хорошо ухоженные виноградники. Наезды в окрестные деревни и села давали нам достаточно продуктов и фуража, только что пшеница не была вымолочена и пригодных мельниц было мало, как и печей, пригодных для выпечки хлеба, так что нам пришлось-таки испытывать муки Тантала.
18 сентября.
Для доверительных обсуждений таких и подобных вопросов у нас собиралось довольно большое общество чуть ли не на каждом привале, особенно же во время вечернего кофепития. Общество было достаточно разношерстным: тут и немцы и французы, военные и дипломаты — всё люди с весом и чем-то примечательные, разумники и острословы. Важность момента возбуждала умы, обостряла прозорливость этих мужей, но поскольку их на узкий верховный военный совет не приглашали, они тем усерднее тщились угадать, что на нем было решено и тем более — что должно будет с нами вскорости произойти.
Что же касается Дюмурье, то он, убедившись, что перевал Гранпре ему теперь не удержать, поднялся вверх по течению Эн и, зная, что его тылы прикрыты Илеттами, расположился на высотах Сент-Мену, лицом к Франции. Мы же, проникши через узкий перевал, оставили в тылу и в стороне от нас не захваченные нами крепости: Седан, Монмеди, Стене, которые могли затруднить подвоз нужных нам провиантов и боеприпасов. Мы вступили в бедный край, известковая почва которого была способна прокормить разве что редкие, далеко отстоящие друг от друга селения.
Правда, Реймс и Шалон с их благодатными окрестностями находились недалеко отсюда, и это давало надежду, что нам вскорости все же удастся и отдохнуть, и прийти в себя. Посему наше общество порешило почти единогласно, что нужно идти на Реймс и овладеть Шалоном. Тогда Дюмурье не сможет уже спокойно оставаться на своей выгодной позиции. Сражение неизбежно, где бы оно ни произошло. Казалось, оно уже выиграно.
19 сентября.
Естественно, что нами было высказано немало сомнений, когда девятнадцатого числа был получен приказ, согласно коему нам надлежало идти на Массиж и далее следовать вверх по течению Эн, оставляя по левую руку на большем или меньшем удалении Эн и поросшее лесом нагорье.
На марше постепенно рассеялись наши мрачные мысли под воздействием разных происшествий, потребовавших от нас бодрости и усердия. Занятный феномен приковал к себе все мое внимание. Чтобы несколько колонн могли одновременно продвигаться вперед, пришлось одну из них направить прямиком через открытую местность. Ее путь пролегал по плоским холмам; когда же нужно было вновь спуститься в долину, перед нами открылся крутой спуск. Его эскарпировали, насколько было возможно, но спуск так и оставался обрывом. Тут к полудню проглянуло солнце; его лучи отражались в бессчетном множестве ружей. Я стоял на холме и смотрел, как приближается ко мне этот сверкающий поток. Когда же колонна подошла к обрыву, сомкнутые ряды внезапно рассыпались, и каждый, как мог, спускался вниз, полагаясь на собственные силы и умение. Необычное зрелище! Расстроившийся порядок точно передавал картину водопада. Множество то здесь, то там вспыхивавших на солнце штыков и создавало это впечатление. А когда внизу, у подножья горы, люди шли по дну долины, как прежде поверху, казалось, что течет перед нами могучий водный поток. Этот феномен был тем более прекрасен, потому что каждый участник марша невольно поглядывал на солнце, которое то и дело отражалось то в том, то в этом заблиставшем штыке. Только в такие сомнительные часы — между жизнью и смертью — солнечные лучи, к тому же давно не виданные, особенно радуют благородное сердце человека.
К вечеру мы достигли Массижа. От противника нас теперь отделяло не более чем несколько переходов. Лагерь был весь перемечен, и мы точно заняли отведенное нам пространство. Гусары вбивали колья и уже привязывали к ним лошадей. Разводили огонь, разворачивали полевые кухни. Вдруг нежданно разнесся слух, что ночлега не будет: пришла весть, будто французы маршируют из Сент-Мену в Шалон; король не хотел упустить врага и потому отдал приказ к немедленному выступлению. Я пожелал удостовериться в правильности сведении, для чего отправился к штабистам. Да, весть была получена, но недостаточно проверенная и маловероятная. Но уже герцог Веймарский и генерал Гейман пустились в путь во главе своих гусар, зачинщиков всей этой кутерьмы. Спустя некоторое время генералы вернулись с сообщением, что нигде не заметили ни малейшего признака продвижения противника. Нашим патрулям пришлось сознаться, что они не видели того, о чем сообщили, а только умозаключили.
А впрочем, сигнал к выступлению был дан и никем не отменен. Приказ гласил: двигаться вперед, оставив всю поклажу, а экипажам и телегам вернуться в Мезон-Шампань и там образовать боевое каре из повозок и ждать счастливого исхода битвы.
Ни секунды не сомневаясь в том, что следует предпринять, я передал карету, поклажу и лошадей моему находчивому и усердному слуге и вместе с товарищами по походу сел на коня. Ведь всем было сказано: каждый участник похода должен держаться своего подразделения, не отставать от него и не избегать опасности, ибо все, что бы ни случилось с нами, служит нам к чести; находиться же при поклаже в обозе и опасно и непочетно. Потому-то я и договорился заранее с офицерами, что останусь с ними и скорее всего присоединюсь к лейб-эскадрону. Этим можно было только укрепить установившиеся между нами прекрасные отношения.
Маршрут был предписан такой: вверх по речушке до Турбе, а дальше — по долине, тоскливее которой ничего не сыщется на свете: ни тебе деревца, ни кустика. Было строго-настрого приказано: передвигаться бесшумно, так, как если б мы собрались напасть на неприятеля, хотя неприятель, конечно, знал уже о приближении пятидесятитысячного войска! Наступила ночь. На небе ни луны, ни звездочки. Дул пронизывающий ветер. Беззвучное продвижение такой огромной массы людей темной ночью казалось чем-то сказочно-необычным.
Проезжая верхом вдоль колонны, то и дело встречаешь знакомых тебе офицеров, скачущих взад и вперед, то ускоряя, то замедляя движение колонны. При встречах останавливались, тихо переговаривались, делились мнениями с другими. Так постепенно составился новый кружок в десять, двенадцать человек, знакомых и незнакомых. Задавали друг другу вопросы, жаловались, бранились, критиковали. Никто не прощал высокому начальству сорванного обеда. Одному веселому малому захотелось хлеба и жареных сосисок, другому парню с неуемным аппетитом, подавай жаркое из оленины и салат с сардинами. Поскольку все это не стоило нам ни гроша, не было отказа ни в паштетах, ни в других деликатесах, ни в самых что ни на есть дорогих винах. Получился такой славный пир, что один из нас, в ком голод говорил особенно громко, предал анафеме все наше теплое общество, заявив, что возбужденная фантазия вкупе с пустым желудком причиняют ему нестерпимые муки. Общество постепенно рассеялось, но и в одиночку каждому было не легче, чем в большой компании.
19 сентября, ночью.
Так мы дошли до Сомм-Турбе, где сделали привал. Король остановился в местной гостинице, а перед нею в домике, напоминавшем беседку, герцог Брауншвейгский разместил свою штаб-квартиру и канцелярию. Площадь была велика, на ней горело немало костров, сложенных из кольев, припасенных для виноградников. Огонь полыхал в полную мощь. Его светлость господин фельдмаршал несколько раз лично изволил говорить, что нельзя давать огню разгораться так сильно. Мы обсуждали и этот вопрос: никто не поверил, чтобы наша близость осталась тайною для кого-либо из французов.
Я прибыл на место слишком поздно, и сколько бы ни шнырял глазами по сторонам в поисках пищи, все было если не съедено, то присвоено. Пока я рыскал вокруг, эмигранты дали мне благоразумный спектакль гастрономического дела. Они сидели вокруг большой плоской кучи пепла, в которой догорали последние искорки угля и обращались в золу обглоданные грозди винограда. Они быстро завладели яйцами, имевшимися в деревне, и было очень весело и аппетитно смотреть на ряды яиц, воткнутых в кучу золы. Оставалось только вынимать их по мере того, как они поспевали. Ни одного из этих благородных кухмистеров я не знал, а обращаться с просьбами к незнакомым не хотелось. Когда же мне повстречался знакомый офицер, подобно мне страдавший от голода и жажды, мне пришла на ум военная хитрость, освоенная мною на собственном солдатском опыте, какого я успел понабраться за время моей недолгой солдатчины: я заметил, что солдаты, добывая провиант в селениях и в их окрестностях, делают это довольно бестолково. Первые, напавшие на добычу, забирают все, что могут унести, топчут, портят и изничтожают все прочее, так что опоздавшие мало чем могут поживиться. Я уже прежде подумывал, какой стратегии здесь нужно держаться. Солдатня врывается в село спереди, а ты пройдись по задворкам. Правда, эта деревня вся до отказа забита служивыми. Но она была очень протяженной, да к тому же уходила под углом в сторону от шоссе, нас сюда приведшего. Поэтому я предложил другу пройтись вниз по длинной улице до самого ее конца. Из предпоследнего дома выскочил солдат, с руганью, недовольный тем, что все съедено и невозможно раздобыть хоть какой-то пищи, Мы подошли к домику и заглянули вовнутрь: за столом тихо-мирно сидело несколько егерей. Войдя в дом, чтобы хоть спокойно посидеть под крышей, мы заговорили с егерями как с товарищами и кстати уж посетовали, что больно плохо обстоит дело со жратвой и питьем. Разговорившись, егеря взяли с нас слово, что будем молчать. Мы его дали. Тогда-то они и признались, что обнаружили здесь же, в этом доме, великолепнейший винный погреб. Обосновавшись, они сами по-хозяйски загородили погреб, но нам, в скромной доле, в живительном питье не откажут. Ключ был на месте, навал из всякой всячины перед заветной дверью живо устранили, оставалось только повернуть ключ в замке. Спустившись в погреб, мы увидели здесь множество бочек, все больше двухведерных; но что нас особенно обрадовало, так это бутылки с вином, хранившиеся в прохладном песке. Мой благодушный попутчик-офицер, успевший перепробовать вино из многих бочек, указал нам наилучшее. Зажав в каждый кулак по две бутылки, я спрятал их под плащом; так поступил и мой новоявленный приятель, и мы пошли вверх по улице, уже предвкушая бодрящую влагу.
У большого бивачного костра я приметил тяжелую борону, присел на нее и, прикрывая бутылки все тем же плащом, поставил их между зубьями. Немного погодя я извлек бутылку, и на зов увидевших ее людей вкруг костра подошел к ним и предложил распить ее по-компанейски. Каждый сделал по хорошему глотку, последний, видя, что мне осталось слишком мало, отпил самую малость. Спрятав пустую бутылку, я вскоре достал вторую, отпил от нее и предложил то же сделать и новым моим дружкам. Долго упрашивать себя они не заставили, не видя в том ничего особенного. Но когда я достал еще и третью, все громко закричали: «Да вы же колдун, волшебник!» И то сказать, в нашем безрадостном житье-бытье моя шутка всем пришлась по сердцу.
Среди всех сидящих у костра, чьи лица и фигуры отчетливо выступали из полумрака при вспышках пламени, я заметил пожилого человека, показавшегося мне знакомым. Узнав от меня, кто я и откуда, он немало удивился тому, что мы здесь вторично свиделись. То был маркиз де Бомбель, кому я, тому назад два года, имел честь засвидетельствовать свое почтение в Венеции, где я пристал к свите нашей герцогини Амалии. Французский посланник приложил все старания, чтобы сделать наивозможно приятным пребывание нашей достойнейшей государыни в этом городе. Взаимное выражение радости по поводу нашей столь неожиданной встречи и общность давних воспоминании, казалось, должны были бы пролить луч света в наше мрачное «сегодня». Я вспомнил его роскошный дворец на Большом канале, вспомнил, как мы подплыли к нему на гондолах и с какими почестями он нас встретил и принимал в своем палаццо. Он устраивал для нас прелестные праздники, как раз во вкусе нашей государыни, любившей, чтобы природа и искусство, веселье и благопристойность непринужденно вступали в тесный союз друг с другом, тем самым доставляя как герцогине, так и нам, ее свите, утонченно-грациозные наслаждения. «Благодаря вашим широким связям, — сказал я, — мы приобщились и к таким усладам, к каковым чужеземцы обычно доступа не имеют».
Как же я был удивлен, когда в ответ на речь, которой я думал его порадовать и которую заключил искренним славословием в честь маркиза, мне пришлось от него услышать только скорбное восклицание: «Не будем говорить об этом! Те времена отошли от меня так далеко, да и тогда, когда я с веселой улыбкой общался со своими высокими гостями, червь заботы уж грыз мое сердце. Я сполна предвидел последствия того, что происходило в моем отечестве. Ваша безмятежность восхищала меня, вы не предчувствовали тех опасностей, которых, быть может, не избежать и вам. Я же незаметно готовился к предстоявшим переменам. Вскоре мне пришлось сложить свою почетную должность и расстаться с Венецией, столь любезной моему сердцу, чтобы пуститься в странствие, чреватое всякими бедами, которые и привели меня под конец вот сюда».
Таинственность, какою было обставлено наше сближение с противником, позволяла предполагать, что мы снимемся еще этой ночью. Но уже забрезжило утро и снова стал накрапывать мелкий дождик, а мы все не трогались с места. Продолжили мы свой поход, когда уже совсем рассвело. Так как полк герцога Веймарского шел в авангарде, лейб-эскадрону, возглавлявшему всю колонну, были приданы гусары, будто бы знакомые с этой местностью. Итак, мы продвигались вперед — порою крупною рысью, через поля и холмы без единого деревца или кустика. Аргоннский лес чуть виднелся в едва различимой дали. Дождь бил нам прямо в лицо, набираясь новой силы. И тут мы увидели пересекавшую наш путь красивую тополиную аллею. То было шоссе из Шалона в Сент-Мену — дорога из Парижа в Германию. Нас послали через нее в серую даль непогоды.
Мы видели уже и прежде, что французы расположились на опушке леса и что туда же направляются новые пополнения; Келлерман, только что соединившийся с Дюмурье, примкнул к левому флангу его позиции. Наши офицеры и рядовые горели общим желанием тут же, без промедления, броситься на французов по первому мановению главнокомандующего; об этом, казалось, свидетельствовало и наше стремительное продвижение. Однако позиция, занятая Келлерманом, была почти неприступна. Тут-то и началась канонада, позднее ставшая притчею во языцех, ошеломляющую мощь которой невозможно ни описать, ни даже воскресить воображением в памяти.
Шоссе осталось далеко позади, а мы все так же неукоснительно мчались на запад, как вдруг прискакал адъютант с повелением немедля повернуть назад, — нас-де выдвинули слишком далеко. Новый приказ гласил: надо вторично пересечь шоссе, но уже в обратном направлении, так чтобы правый наш фланг непосредственно примкнул к левой стороне шоссейной дороги. Так мы и сделали, встав на пригорке лицом к хутору Ля-Люн в четверти часа ходу от шоссе. Здесь встретил нас полковой командир, только что поставивший полубатарею на безымянную высоту; нам же он приказал продвигаться вперед под прикрытием полубатареи. По пути мы опознали труп старика-шорника, распростертого на пахотном поле, — первую жертву нынешнего дня. Мы спокойно продвигались вперед, приближаясь к хутору, батарея непрерывно палила.
Но вскоре мы оказались в довольно странном положении. На нас яростно сыпались ядра, а мы никак не могли понять, откуда они берутся. Ведь нас прикрывала наша же батарея, а неприятельские пушки на противоположной гряде холмов были слишком удалены от нас. Я держался впереди, перед фронтом, чуть в стороне, и изумлялся, наблюдая за происходившим: ядра дюжинами падали на землю перед самым эскадроном, но, по счастью, не рикошетировали, а вязли в рыхлой почве. Грязь обдавала людей и лошадей; вороные кони, сдерживаемые опытными кавалеристами, храпели и тяжело дышали. Весь эскадрон, не нарушая строя и не размыкаясь, находился в непрерывном движении. Тут меня словно перенесло в совсем иные времена. В первой шеренге эскадрона знамя колыхалось в руках красивого мальчика, он держал его крепко, но вконец перепуганная лошадь мотала его из стороны в сторону. И в эту минуту миловидное лицо мальчика невольно вызвало в моей памяти образ его еще более красивой матери, и для меня на миг превратились в явь мирные часы, некогда проведенные с нею.
Наконец поступил приказ — отступить без промедления. Все части нашей кавалерии исполнили его точно и хладнокровно. Убита была только одна лошадь из полка Лоттума, хотя мы все, особенно здесь, на крайнем правом фланге, казалось, должны были неминуемо погибнуть.
Выйдя из зоны непостижимого для нас обстрела, мы постепенно освобождались от пережитого потрясения. Загадка разрешилась: дело в том, что наша полубатарея была оттеснена противником и, спустившись с холма в ложбину по другую сторону шоссе, залегла в глубоком овраге, каких в этой местности имелось немало. Мы не заметили ее отхода и полагали, что по-прежнему находимся под ее прикрытием, тогда как ее позицию захватила артиллерия французов: что было задумано нам во спасение, чуть не привело к нашей гибели. В ответ на попреки артиллеристы только ухмылялись и в шутку нас уверяли, что-де внизу, под крышей, им было куда вольготнее.
Но потом, когда случалось видеть воочию, как, выбиваясь из сил, конная артиллерия продиралась по глинистым, вязким холмам, мы невольно спрашивали себя: какого черта мы пустились в эту сомнительную аферу?
Меж тем канонада не умолкала. Келлерман занимал сильную, отлично выбранную позицию возле мельницы близ Вальми; по ней-то и били все снаряды нашей артиллерии. Но вот взлетела на воздух телега с порохом, и все дружно радовались бедствиям, предположительно причиненным врагу этим взрывом. Все мы, стоявшие здесь, под огнем, пока что оставались только зрителями и слушателями. Путеводный знак на Шалонском шоссе указывал путь на Париж.
Итак, столица Франции была позади нас, а от отечества нас отделяло французское войско. Крепкие засовы, что и говорить! — особенно в глазах того, кто вот уже четыре недели беспрерывно возился с картами театра военных действий.
Но мгновенная потребность заявляет о своих правах громче, чем даже непосредственно за нею следующая. Гусары перехватили несколько повозок с хлебом, направлявшихся из Шалона в армию, поставив их вдоль обочины шоссе. Нам казалось невероятным, что мы занимаем позицию между Парижем и Сент-Мену, а в Шалоне никак не могли уразуметь, что немцы движутся с их стороны навстречу французам. Гусары за мелочь уступили нам хлеба, а это были самые вкусные французские булки, — как известно, француза приводит в ужас хотя бы ломтик ржаного хлеба. Я раздал не один каравай своим людям, с условием, что они часть хлеба сохранят для меня на ближайшие дни. Совершил я здесь и другую сделку: один егерь приобрел себе у гусар теплое шерстяное одеяло, я же предложил ему, чтобы он днем держал его у себя, а на три ночи уступал его мне по восемь грошей за ночь. Ему такой договор казался выгодным; одеяло обошлось ему в гульден, а через короткий срок оно возвратится к нему со значительным прибытком. Но это устраивало и меня, ибо мои купленные в Лонгви превосходные одеяла остались в обозе, и теперь, при отсутствии всех удобств, было куда как кстати обзавестись еще и этой покрышкой, помимо плаща.
Все рассказанное совершалось под неумолчный гул канонады. Каждая из сторон израсходовала за день по десяти тысяч снарядов, причем с нашей стороны погибло всего двести человек без всякой пользы для дела. От небывалого сотрясения воздуха небо заметно прояснилось: из пушек палили с частотою беглого оружейного огня, только что не так равномерно — то чаще, то реже. В час дня, после передышки, сила огня была наибольшей, земля дрожала в прямом смысле слова, но противник не думал уступать своей позиции. Никто не знал, чем это кончится.
Я так много слышал о лихорадке боя, что мне захотелось узнать, что же это такое. От скуки и духа безрассудства, порождаемого опасностью, я без колебаний направился на хутор Ля-Люн, как раз тогда вновь перешедший в наши руки, но вид его был ужасен. Изрешеченные крыши, повсюду разбросанные мешки пшеницы и лежащие на них смертельно раненные, изредка залегавшие сюда приблудные ядра и шорох осыпающейся черепицы…
Совершенно один, предоставленный самому себе, я проехал холмами в левую сторону от деревни и отчетливо видел превосходную позицию французов — она высилась амфитеатром, которому ничто и ниоткуда не грозило. Подобраться к левому флангу Келлермана было, пожалуй, возможнее.
На моем пути мне повстречалось избранное общество — знакомые офицеры из штаба главнокомандующего, а также из нашего полка, весьма удивившиеся, увидя меня здесь. Они предложили мне к ним присоединиться, но я сказал им о своих особых намерениях, и они оставили меня наедине с моим хорошо всем знакомым взбалмошным упрямством.
Тем временем я заехал в то самое место, где падали ядра одно возле другого. Звук их любопытен: в нем что-то от жужжания детского волчка, от бульканья воды и писка птицы. Земля была вязкая, отчего ядра не представляли большой опасности. Куда они попадали, там и застревали, так что я в своей «испытательной поездке» не подвергался по меньшей мере одной опасности — рикошетировке.
В таких-то обстоятельствах, со всем вниманием следя за собой, я вскоре заметил, что со мною творится что-то неладное, о чем могу доложить, разве лишь прибегнув к фигуральной речи. Мне чудилось, что вокруг меня невероятно жарко и что эта жара пронизывает меня насквозь, так что начинаешь как бы сливаться со средою, в какой находишься. Глаза по-прежнему видели все ясно и четко, но мир, казалось, приобрел некий коричневато-бурый оттенок, отчего предметы становились только отчетливее. Волнение крови я не ощущал, но все как бы пожирал охвативший меня жар. Отсюда явствует, в каком смысле можно называть такое состояние лихорадкой. Достойно упоминания уже то, что жуткий грохот воспринимается только слухом, ибо причина его сводится к пальбе пушек, к вою, свисту и гулу проносящихся и падающих ядер.
Вернувшись назад и очутившись в полной безопасности, я счел примечательным, что жар немедленно спал — от томившей меня лихорадки и следа не осталось. Впрочем, нельзя не признать, что такое состояние относится к числу наименее приятных: среди товарищей по походу, людей благородных и дорогих моему сердцу, я не нашел ни одного, кто выразил бы желание все это испытать вторично.
Так прошел и этот день. Французы не только не оставили своих позиций; Келлерман даже заметно их улучшил. Нам было приказано выйти из зоны огня; начальство сделало вид, будто ничего необычного не случилось. Но вся армия как-то оцепенела. Еще утром люди мечтали нанизать французов на штыки и на копья и чуть ли не сожрать их живьем. Сознаюсь, я и сам пустился в поход с безграничною верой в наше войско и в искусство герцога Брауншвейгского. А теперь все ходили как в воду опущенные, боясь встретиться взглядом с товарищем, а если и встречались, то разве только для того, чтобы крепко выругаться или проклясть все на свете. Вечером по привычке мы уселись кружком, только что костра опасливо не разожгли, как обычно. Большинство молчало, некоторые что-то говорили, но, по сути, никто не мог собраться с мыслями и дать оценку происшедшему. Наконец предложили высказаться и мне, не раз веселившему и утешавшему их подходящей краткой сентенцией или шуткой. Но на этот раз я сказал: «Здесь и отныне началась новая эпоха всемирной истории, и вы вправе говорить, что присутствовали при ее рождении».
Теперь, когда ни у кого не было и кусочка хлеба, я затребовал свою долю из купленного утром; но доля была ничтожной, да и от вина, которое я так щедро разливал накануне, осталась всего лишь маленькая бутылочка. От роли чудодея, какую я вчера так бойко разыгрывал на привале, пришлось отказаться.
Едва стихла канонада, как дождь и буря снова зарядили, от чего пребывание под открытым небом на вязкой глиняной почве становилось еще более несносным. И все же после стольких часов, проведенных без сна, в постоянных физических и душевных страданиях, сон напомнил нам о себе, лишь только над нами сгустилась темень ночи. Мы расположились, как кто умел, за небольшим холмом, отражавшим порывы резкого ветра; но тут кого-то из нас осенила мысль, что было бы умнее закопаться в землю, прикрывшись плащами. Так мы и поступили, вырыв множество досрочных могил шанцевыми инструментами, занятыми у конных артиллеристов. Даже герцог Веймарский не презрел такого преждевременного захоронения.
Тут я потребовал положенное мне по уговору одеяло, уплатив обещанные восемь грошей, закутался в него, поверх разостлавши свой плащ, сырость коего почти не ощущалась. Улисс, надо думать, едва ли с бо́льшим наслаждением и самодовольством покоился под хитоном, добытым похожим способом.
Сей обряд самозахоронения был совершен против воли нашего полковника, предупредившего нас, что на противоположном холме за кустарником стоит вражеская батарея. Стоит французам только захотеть, и они похоронят нас прочно и навечно. Но никто не хотел поступиться безветренной почивальней. Не в последний раз я убеждался, что люди ради удобств часто не страшатся явной опасности.
21 сентября.
Взаимные приветствия пробуждавшихся звучали безрадостно и лаконично, так как все мы сознавали позорную безнадежность своего положения здесь, на краю громадного амфитеатра, вершины которого так надежно защищало его подножье, с его реками, запрудами, ручьями и болотами; на этом-то почти необозримом полукруге и расположились французы. А мы стояли перед ними, сегодня как вчера, хоть и облегчившие свой вес на десять тысяч снарядов, но столь же непригодные для нанесения удара. Перед нами простиралась гигантская арена, где носились средь садов и деревенских хижин наши и французские гусары, забавы ради затевавшие подобие турниров, к вящему удовольствию праздных зрителей, готовых часами глазеть на их веселые наскоки и увертки. Но от всех этих тычков и уколов не предвиделось никаких последствий; только что один из наших гусар, слишком далеко прорвавшийся в расположение противника, был окружен и прикончен, так как ни за что не хотел признать себя побежденным.
Единственная в этот день смерть от руки противника! Но уже нас стали настигать повальные болезни, отчего наша жизнь становилась еще безотраднее, тягостней и ужаснее.
Сколько бы вчера ни бряцали оружием, сегодня каждый почитал передышку более чем желательной; ведь даже самый смелый и мужественный воин не мог себе не сказать, поразмыслив: атаковать врага при сложившейся обстановке было бы бессмысленной авантюрой. И все же в течение дня мнения еще колебались: честь-де требует, чтобы мы удержались на тех же рубежах, как при начале канонады. К вечеру, однако, мы почти единогласно отступили от этой героической точки зрения; тем более что и главную квартиру перенесли в местечко Ан и к тому же подоспели обозы. Тут нам пришлось услышать, каких только страхов и опасностей не натерпелись наши обозники и как мы чуть не лишились всей прислуги, да и всего нашего добра.
Поросшие лесом Аргонны, от Сент-Мену до Гранпре, были вновь в руках французов. Оттуда, надо думать, и будут совершаться их партизанские налеты. Еще вчера мы узнали, что между вагенбургом и армией попали в плен секретарь герцога Брауншвейгского и ряд других лиц из его ставки. Впрочем вагенбург отнюдь не заслуживал такого громкого названия, ибо не был ни укреплен, ни защищен круговой обороной, да и расположен в неподходящем месте; к тому же и эскорт его был ничтожен. Любой шорох выводил из равновесия несчастных обозников, а близкая канонада и вовсе вгоняла их в панический ужас. К тому же пронесся слух, основанный невесть на чем, а то и вовсе вымышленный, будто французы уже спускаются с гор, задавшись целью завладеть всеми нашими повозками с их кладью. Тут-то скороход генерала Калькрейта, пойманный и вскоре вновь отпущенный французами, и набил себе немалую цену в глазах своих товарищей обозников его хвастливым рассказом о том, как он обвел вокруг пальца французского офицера, наврав ему с три короба про наше сильное охранение, про конную артиллерию и прочую небывальщину, чем будто бы предотвратил вражеское нападение на вагенбург. А впрочем, все бывает! Может, он и впрямь наврал как нельзя лучше, попав в такой переплет.
Итак, мы вновь обогатились шатрами и палатками, повозками и лошадьми, вот только пищи насущной — ни крошечки. Дождь идет с утра до ночи, а нам и воды напиться негде: брать воду из прудов опасно — они испоганены павшими лошадьми. Я и не понял сперва, с какой стати Пауль Гетце, мой выученик, слуга и верный спутник, вычерпывает воду из складок кожаного верха моего дормеза: оказалось, что вода ему понадобилась, чтобы сварить нам шоколад, запасы которого он, к счастью, прихватил с собою в немалом количестве. Но бывало и хуже: чтобы утолить мучительную жажду, люди пили воду из копытного следа, а хлеб покупали у старых солдат: привыкшие к лишениям, они сберегали его, в надежде согреть свою душу водкой, как только представится случай.
22 сентября.
Нам сказали, что генералы Манштейн и Гейман направились в Дампьер — ставку Келлермана, куда должен был прибыть и Дюмурье. Речь будто бы шла об обмене пленными и о снабжении необходимейшим больных и раненых — но только для отвода глаз; на самом деле обе стороны надеялись добиться среди сгустившихся бедствий резкой перемены в обстановке. С десятого августа французский король находился в узилище, а в сентябре прошла новая волна смертоубийств, уже без числа и без меры. Всем было ведомо, что Дюмурье еще недавно стоял за короля и конституцию, а это принуждало его, хотя бы ради собственного спасения, выступить против нынешних властей. Вот было бы дело, если б он пошел на союз с союзниками и мы совместно двинулись на Париж!
По прибытии обоза положение герцога и его окружения явно улучшилось. Как ни воздать должного его камерьеру, повару и прочим слугам! У них никогда не переводились запасы провианта; даже в самые черные дни они ухитрялись из чего-то приготовлять горячую пищу. Только благодаря им я снова обрел способность ездить верхом и знакомиться с местностью, без должных результатов, однако. Все эти холмы слишком похожи друг на друга — ничего характерного, ни одного предмета, который бы запомнился. Чтобы хоть как-то сориентироваться, я пытался отыскать аллею, обсаженную стройными тополями, со вчерашнего дня всем нам запомнившуюся. Так ее и не обнаружив, я было подумал, что окончательно заблудился, но, присмотревшись повнимательнее, понял, что ее срубили и свезли, а там и сожгли, надо думать.
Места, подвергнувшись артиллерийскому обстрелу, являли ужасающее зрелище: повсюду неубранные тела павших воинов, тяжело раненные лошади, все не умиравшие. Я видел лошадь, запутавшуюся передними ногами в собственных внутренностях, выпавших из брюха; она, спотыкаясь, брела по выжженному лугу.
Возвращаясь к себе, я повстречался с принцем Луи-Фердинандом. Он сидел среди поля на деревянном стуле, видимо, принесенном из разоренной деревни; к нему тащили солдаты тяжелый запертый кухонный шкаф — внутри его что-то погромыхивало. Взломали замок в чаянье доброй добычи, но в шкафу нашли лишь разбухшую поваренную книгу; и покуда весело горел разбитый в щепу кухонный шкаф, мы читали рецепты заманчивых блюд, отчего голод, поощренный силой воображения, нас чуть не довел до отчаянья.
24 сентября.
Самую дурную погоду, хуже которой нельзя и придумать, отчасти скрасило известие о заключенном перемирии; тем самым как будто появилась надежда впредь томиться и мучиться в относительном покое. Но и эта надежда заметно потускнела, поскольку вскоре выяснилось, что обе стороны сошлись лишь на том, что дозоры и караулы на время воздержутся от взаимных нападений, а в остальном военные операции могут продолжаться по благоусмотрению полководцев. Такая договоренность была на руку только французам, сохранившим за собою право сколь угодно изменять свои позиции, чтобы тем прочнее окружить нас; мы же должны были тихонько сидеть в своем котле, пребывая в прежнем неведении и нерешительности. Но дозорные и пикеты были и этому рады. Ведь все же враги пришли к согласию хотя бы касательно того, что, ежели ветер или дождь будут хлестать тебя в лицо, ты сможешь завернуться в плащ и смело обернуться к противнику спиною, не страшась, что француз тебя обидит. Более того: поскольку у французов все же водился кой-какой провиант, а у немцев не было никакого, то от них нам все-таки могут подчас перепасть малые крохи, а это как-никак похоже на доброприятельские отношения. К тому же от французов к нам стали поступать дружественные прокламации, возвещавшие немцам на двух языках о великом благе свободы и спасительном равенстве. Подражая в какой-то мере манифесту герцога Брауншвейгского, но в духе прямо ему противоположном, французы заверяли нас в своей доброй воле и гостеприимно звали наших в свою армию, хоть она теперь не только не нуждалась в новых пополнениях, а скорее была перенасыщена лишним народом. Но такие воззвания в такие минуты пишутся скорее, чтобы ослабить противника, чем для усиления собственной мощи.
24 сентября. Добавление.
Я очень жалел двух мальчиков, лет четырнадцати — пятнадцати, самой милой наружности, ставших нашими товарищами по несчастью. Прихваченные вместе с четырьмя слабосильными лошадками, доставшимися нам по реквизиции, они прикатили сюда мой легкий шез и страдали молча — больше за лошадей, чем за себя. Как было им помочь — нам, не знавшим, как и себя-то спасти! Но поскольку они терпели все эти бедствия из-за меня, я чувствовал, что не могу их оставить без какого-либо вспомоществования, и, конечно же, хотел делиться с ними каждым купленным мною солдатским хлебом. Но они отказывались брать его. А когда я спросил, что же они едят у себя дома, мальчишки ответили: «Du bon pain, de la bonne soupe, de la bonne viande, de la bonne bière»[11]. Иными словами: у них все хорошо, а у нас все прескверно. Потому я нимало не обиделся, когда оба паренька вскоре бросили своих лошадок и бесследно исчезли. Что и говорить, они у нас всякого натерпелись; но, сдается, последней каплей, переполнившей чашу их терпения, был все же предложенный им солдатский черный хлеб, это пугало, страшащее всех французов. Белый и черный хлеб — вот истинный шиболет, отличающий французский боевой клич от немецкого.
Не могу не поделиться еще одним наблюдением. Мы вступили в край, который никак не назовешь благословенным, и к тому же — в самое неподходящее время года. И все же он прокармливает своих немногочисленных обитателей, работящих, опрятных, умеющих довольствоваться малым. Более богатые края и страны могут смотреть на него с презрением. Однако я здесь не встретил ни одной нищенской халупы, ни одного паразита. Дома построены ими из камня и крыты черепицей, а что до скудости почвы, то она простирается до Аргоннского леса и до Реймса и Шалона — в каждую сторону на расстояние от силы часов на пять, на шесть ходу. Подростки, которых мы прихватили вместе с лошадками в первой попавшейся деревушке, вспоминали всегда с удовольствием свою повседневную пищу, да и я не позабыл погреб в Сомм-Турб, а также попавший в наши руки чудесный белый хлеб, который везли из Шалона. А потому навряд ли кто поверит, что в мирное время голод и клоп для здешних мест обыденное явление.
25 сентября.
То, что французы в дни перемирия не станут предаваться безделью, можно было предвидеть, а там в этом и убедиться. Они тотчас же взялись восстановить утраченную связь с Шалоном, а также потеснить эмигрантов в тылу нашей армии, вернее, вплотную прижать их к нашему арьергарду. Но покуда для нас представляло главную опасность то, что они могли затруднять подвоз всего потребного как со стороны гористого Аргоннского леса, так и со стороны Седана и Менмеды, а то и вовсе уничтожить возможность какого-либо снабжения.
26 сентября.
Так как многим стал известен мой повышенный интерес к всевозможным загадкам природы, мне охотно приносили все, что кому-либо казалось диковинным; среди прочего и ядро весом примерно в четыре фунта, любопытное уже тем, что вся его поверхность была усеяна пирамидальными кристалликами. Выстрелов под Вальми было произведено великое множество, и, конечно, одно ядро могло куда-то закатиться и там затеряться. Я придумывал всевозможные гипотезы касательно того, когда и каким образом металл мог обрести такое обличье — во время литья или позднее? Случай помог мне проникнуть в эту очевидную тайну. После краткой отлучки я зашел к себе в палатку, хватился ядра, но оно так и не отыскалось. Я потребовал новых поисков и добился покаянного признания: ядро, подвергнутое неумелому экспериментированию, раскололось. Тогда я велел принести мне его осколки; и что же обнаружилось, к величайшему моему удивлению? Процесс кристаллизации, идущей из центра и лучеобразно распространяющейся вплоть до поверхности. То был серный колчедан, образовавшийся, как видно, в свободной среде путем постепенного прирастания частиц. Такое открытие побудило нас искать и находить другие кусты серного колчедана, меньшего размера, в форме то шара, то почки, а то и в менее отчетливо выраженной форме; общим же у них было только то, что они не вырастали на каком-либо теле иного вещества и что всякий раз кристаллизация начиналась с точки, расположенной в некоем центре. Стороны куста колчедана не сглажены, а, напротив, всегда имеют ясно выраженное кристаллическое строение. Открытым пока оставался вопрос: зарождаются ли эти кусты серного колчедана прямо в почве и встречаются ли они также и на пахотном поле?
Не меня одного подвигнул этот край на выискивание богатых залежей его разнородных минералов. Признан был немалоценным и превосходным мел, которым изобиловала здешняя местность. Стоило солдату только копнуть, приступая к рытью ямы под котел, как он тут же натыкался на чистейший белый мел, столь необходимый ему для чистки амуниции, а также мундира. Был даже отдан приказ по армии, вменявший в обязанность каждому солдату обзавестись этим нужным и к тому же здесь даровым товаром в возможно большем количестве. Приказ этот дал повод для язвительных насмешек: надлежит-де, невзирая на ужасающую грязь, сгибаться под тяжестью ранца, набитого средствами для поддержания образцовой чистоты и щеголеватости. Люди по хлебу вздыхают, а им предлагают довольствоваться мелом. Не в меньшей мере возмущались господа офицеры, когда их распекали в ставке верховного главнокомандующего за то, что они явились не в столь принаряженном и начищенном виде, как на парады в Берлине или Потсдаме: «Довели нас до такого состояния, так нечего шуметь и разоряться».
27 сентября.
Другая, не менее странная, мера предусмотрительности должна была, видимо, воспрепятствовать надвигающемуся голоду. Смысл предложенного мероприятия сводился к следующему: следует тщательно выколачивать наличествующие снопы овса до последнего зернышка, затем вываривать их в крутом кипятке, пока таковые не лопнут, и попытаться такою пищей заглушить чувство голода.
Что касается моего ближайшего окружения, то мы прибегли к другому выходу из положения. Увидев издали, что две фуры безнадежно застряли в грязи, и смекнув, что они везут продовольствие и прочие полезные вещи, мы охотно поспешили им на помощь. Шталмейстер фон Зеебах немедленно отрядил лошадей, фуры были сдвинуты с места, но тут же доставлены в полк нашего герцога, сколько обозники ни протестовали и ни доказывали, что содержимое предназначалось австрийцам (да так оно и было, судя по их накладным). Так или иначе, но на этом их маршрут оборвался, тем более что мы уплатили все, что они от нас потребовали.
Первыми сбежались сюда дворецкие, повара и поварята, сразу завладевшие и маслом в бочках, и окороками, да и прочей снедью. Толпа вокруг обеих фур непрерывно возрастала. Большинство требовало табаку, который уже несколько раз нами добывался по непомерной цене. Но толпа так плотно облепила фуры, что никто не мог к ним подступиться; тут наши люди воззвали к моему содействию, умоляя помочь им в добыче этого наинужнейшего из продуктов.
Я велел солдатам расчистить мне путь и, дабы не застрять в тисках осаждавших меня безумцев, взобрался на первую фуру. Уплатив немалые деньги, я набил до отказа все мои карманы вожделенным зельем и стал раздавать его, спускаясь вниз, пока не обрел свободу. Все прославляли меня как величайшего благодетеля, когда-либо нисшедшего к страждущему роду человеческому. Оказалась тут, конечно, и водка; ради обретения одной бутылки таковой никто не скупился расстаться со звонкой монетой.
27 сентября.
Сведения об общем положении дел мы почерпали в главном штабе, куда каждый из нас наведывался время от времени, а также от тех, кто приезжал оттуда; все, что удавалось узнать, было как нельзя хуже. Вести из Парижа умножались и уточнялись, то, что еще вчера считалось лживым вымыслом, сегодня, при всей его чудовищности, оказывалось непреложной правдой. Король и его семья находились под арестом; открыто говорили о свержении венценосца; ненависть к монархии распространилась повсеместно; можно было ждать, что вскоре состоится суд над несчастным монархом. Враг, с которым мы непосредственно соприкасались, наладил связь с Шалоном, а в нем находился Лукнер, формировавший новые части из парижских добровольцев. Но эти добровольцы, прибывавшие из столицы в ужасные первые дни сентября, когда парижские мостовые уподобились кровавым потокам, были одержимы не столько решимостью сражаться в честном бою, сколько жаждой убийств и грабежей. Следуя примеру парижской голи, они избирали себе случайную жертву, лишали безвинных власти, достояния и даже жизни. Стоит выпустить этих насильников, не наведя в их рядах мало-мальского порядка, и они перережут нас всех до единого.
Эмигранты были и впрямь прижаты к нам, а предвиделись и другие беды, грозившие армии и с тыла и с флангов. По слухам, в окрестностях Реймса скопилось до двадцати тысяч крестьян — огромная вольница, вооруженная вилами, косами и кольями. Что могло помешать этой дикой ораве обрушиться на нас с неистовой силой?
Все это обсуждалось в шатре Веймарского герцога офицерами в немалых чинах. Каждый приходил сюда со своими вестями, тревогами и предположениями, и каждый вносил свой вздорный вклад в нелепицу несуразного совещания. Казалось, спасти нас может только чудо. Я же в эту минуту подумал, что все мы, попав в тягчайшее положение, любим сравнивать себя с сильными мира сего, особенно с теми, кому довелось испытать едва ли не худшие беды; и тут я почувствовал необоримую потребность рассказать присутствующим — если не для увеселения, то для необходимой разрядки — один из самых захватывающих эпизодов из жизнеописания святого Людовика. Отправляясь в крестовый поход, король решил сперва покорить египетского султана, которому тогда была подвластна Земля обетованная. Дамжотта без всякой осады сдается христианам. Распаленный своим братом, графом Артуа, король поднимается по правому берегу Нила к его верховью — Вавилону-Кипру. Ров, наполненный водою, удается засыпать. Христолюбивое воинство проходит по нему, как по мосту; но тут оно попадает в тиски между руслом Нила и его большими и малыми каналами, тогда как сарацины занимают выгодную позицию на обоих берегах реки-кормилицы. Перешагнуть через все эти широкие потоки затруднительно. Можно, конечно, построить свои деревянные бастионы супротив неприятельских, но противник обладает одним немаловажным преимуществом — греческим огнем. Он сжигает деревянные укрепления, уничтожает бастионы и живую силу. Что пользы христианам от их превосходных боевых порядков, когда над ними глумятся сарацины; они непрерывно беспокоят крестоносцев и втягивают их в рукопашные схватки. Доблестная стойкость христиан беспримерна, но славнейшие герои и сам король окружены торжествующими нехристями. И хотя иным храбрецам и удается прорваться, но смятение среди крестоносцев все возрастает. Граф Артуа в крайней опасности, ради его спасения король идет на все. Но брат убит, беда становится неотвратимой. В этот знойный день все зависит от того, удастся ли отстоять мост, перекинутый через один из каналов, чтобы не дать сарацинам зайти в тыл главных сил христианского воинства. Немногочисленных защитников моста атакуют со всех сторон, воины осыпают их стрелами, челядинцы — камнями и грязью. И тут в час назревающей гибели граф Суассон шутливо говорит рыцарю Жуанвилю: «Сенешаль, пусть лают и скалят зубы эти собаки. Клянусь престолом всевышнего, — такова была его всегдашняя клятва, — об этом дне мы дома еще будем рассказывать своим дамам».
Все заулыбались, мой рассказ показался им добрым предзнаменованием. Мы еще поговорили о возможном исходе событий, особенно отмечая причины, в силу которых французам выгоднее щадить нас, нежели готовить нам погибель. Эта надежда отчасти оправдывалась уже тем, что по сей день перемирие никем не нарушалось, да и вообще неприятель вел себя крайне сдержанно. Я позволил себе подкрепить их надежды еще одним историческим анекдотом и в этой связи даже сослался на топографическую карту: в двух милях к западу от нас находилось знаменитое Чертово поле, до которого дошел в 452 году царь гуннов Аттила со своей чудовищной ордою, но там был разбит бургундскими князьями при поддержке римского полководца Аэция. Если б бургундские князья завершили свою победу преследованием Аттилы, то он и его народ неминуемо погибли бы все до единого. Но римскому военачальнику было совсем не на руку, чтобы бургундцы сполна избавились от страха перед грозным противником, — ведь тогда они тут же обратили бы свое оружие против римлян. Посему Аэций потихоньку уговорил каждого из князей вернуться восвояси. Так спасся от полного разгрома царь гуннов с остатками своего неисчислимого воинства.
В этот самый миг подоспела весть, что долгожданный хлебный обоз наконец-то прибыл из Гранпре. Такое известие дважды и трижды улучшило наше настроение. Люди разошлись успокоенные, я же до самого утра читал герцогу увлекательную французскую книгу, удивительным образом попавшую в мои руки. Содержавшиеся в ней смелые, легкомысленные шуточки смешили нас, несмотря на наше отчаянное положение, я же не мог не вспомнить веселых егерей под Верденом, которые шли на смерть, горланя похабные песенки. Да, если хочешь разогнать горечь смерти, не следует слишком разбираться в средствах, тому благоприятствующих.
28 сентября.
Хлеб прибыл. Не без трудностей и не без потерь. На скверной дороге между Гранпре, где находилась пекарня, и армией несколько телег накрепко застряло в грязи и стало добычей неприятеля. К тому же часть привезенного не годилась в пищу, ибо в столь поспешно выпеченном водянистом хлебе мякиш быстро отделяется от корки и в промежутке заводится плесень. Вновь стали опасаться отравы. Мне принесли такие хлеба, где в пустотах горел яркий цвет померанца. Красный цвет указывал на мышьяк или серу, как зеленый цвет хлеба под Верденом на медянку. Но если хлеб и не был отравлен, то вид его вызывал омерзение; неудовлетворенная потребность обостряла чувство голода. Так болезни, лишения, дурное расположение духа ложились тяжким бременем на столь многих добрых людей.
В таких стесненных обстоятельствах мы были поражены и опечалены невероятным известием. Говорили, будто герцог Брауншвейгский послал Дюмурье свой злосчастный манифест, и Дюмурье, изумленный и возмущенный его содержанием, заявил о немедленном прекращении перемирия и возобновлении боевых действий. Как бы велики ни были наши беды, как ни предвидели мы еще большие в самом ближайшем будущем, мы не могли перестать шутить и смеяться. Мы говорили: «Посмотрите, какие беды влечет за собой сочинительство!» Поэты и писатели любят читать свои сочинения всем и каждому, не сообразуясь, ко времени ли это или нет. Такая судьба постигла и герцога Брауншвейгского: видимо, радуясь тому, как ловко написан его манифест, он опять, в самую неподходящую минуту, извлек его на свет божий и пустил в оборот…
Мы ожидали вновь услышать перестрелку пикетов и разъездов, мы смотрели по сторонам, не покажется ли на холме противник, но вокруг все было тихо и спокойно, будто ничего такого с нами и не приключалось. И все же жить в томительной неизвестности и неуверенности было неизъяснимо мучительно, — ведь каждый сознавал, что мы стратегически обречены на гибель, если враг вознамерится нас потеснить или хотя бы потревожить. А между тем в этой же неизвестности таился как бы намек на то, что мы о чем-то все же договорились, достигнув более гуманного взаимопонимания. Так, к примеру, почтмейстер из Сент-Мену был обменен на тех самых господ из свиты герцога Брауншвейгского, что попали в плен двадцатого числа между вагенбургом и армией.
29 сентября.
К вечеру в соответствии с полученным приказом, обоз тронулся с места. Его должен был сопровождать полк герцога Брауншвейгского. В полночь вслед за ним выступила и армия. Все закопошилось, но нехотя и неторопливо, ибо даже железной воле как не поскользнуться на склизкой земле и не погрязнуть в вязкой жиже. Но и эти часы миновали: время и сроки не стоят на месте даже в самый ненастный день.
Настала ночь. И она пройдет без сна. Небо было довольно ясное, светила полная луна, только нечего было ей освещать. Палатки исчезли; поклажа, повозки и лошади — тоже. Наша небольшая компания оказалась в довольно странном положении. Мы находились как раз в том месте, куда должны были привести лошадей. Но они отсутствовали. И сколько мы ни озирались кругом при бледном лунном свете, все было пусто и пустынно: ни звука, ни образа! Мы качались то вверх, то вниз на зыбких волнах сомнения. Покинуть условленное место мы не решались, чтобы не сбить с толку товарищей и не разминуться с ними окончательно. Жутко оставаться во вражеской стране в полном одиночестве, жутко чувствовать себя если не вовсе покинутыми, то как бы брошенными на произвол судьбы. Мы чутко прислушивались: не обнаружит ли себя притаившийся враг. Но все было тихо — никакого знака, ни доброго, ни зловещего.
Вслед за тем мы не спеша снесли в одно место всю солому, оставшуюся от палаток, и подожгли ее — не без страха себя обнаружить. Привлеченная огнем, тут нежданно объявилась старая маркитантка: скитаясь по тылам, она, видать, не теряла времени, вся была обвешена туго набитыми узлами. Поздоровавшись с нами и чуть обогревшись, она стала превозносить великого Фридриха и Семилетнюю войну, когда она, по ее словам, была еще девчонкой, но тем беспощаднее поносила нынешних государей и полководцев, завлекших столько народа в страну, где маркитантка не может заняться своим ремеслом, тогда как войны ради того только и ведутся. Такой забавный взгляд на мировые события развеял наши тяжкие думы. А тут, очень кстати, подоспели наши кони, и мы начали отступать совместно с Веймарским полком, полные самых мрачных предчувствий.
Меры предосторожности и строжайшие приказы командования заставляли опасаться, что враг не будет безучастно взирать на нашу ретираду. Мы со страхом наблюдали за медленным продвижением всех наших повозок и тем более нашей артиллерии, когда колеса глубоко врезались в размякшую почву. Так было днем, а что будет ночью! С огорчением смотрели мы на обозные телеги, опрокинутые на середине ручья, и с сердечным состраданием на оставляемых без всякой помощи занемогших солдат. Всякий, хоть мало-мальски знакомый со здешней местностью, ясно понимал, что стоит только врагу, — а он нас окружал и слева, и справа, и с тылу, — захотеть на нас обрушиться, и спасения нам не будет. Но поскольку в первые часы отступления ничего такого не произошло, люди с присущей им потребностью надеяться на лучшее приободрились, дух человеческий, привыкший приписывать всему на свете и разум и здравый рассудок, пришел к заключению, что переговоры между двумя ставками, Ан и Сент-Мену, кончились для нас благоприятно. Вера в благой исход переговоров росла с каждым часом. И когда я увидел на привале, как все наши повозки и экипажи выстроились в полном порядке за деревней Сен-Жан, я был уже твердо убежден, что мы вернемся домой и что нам представится случай рассказать о перенесенных нами испытаниях в хорошем обществе («devant les dames»[12]). Я поделился и этими моими надеждами с друзьями и товарищами, и мы скорее весело, чем трагически стали относиться к невзгодам сего непригожего дня.
Лагерь не разбивали, но наши раскинули большой шатер, выложив его снаружи и изнутри великолепными пшеничными снопами, — таков был наш ночлег. Луна ярко светила при полном безветрии, на небе, чуть различимые, скользили легкие облака. Все кругом было видно, почти как днем. И спящие люди, и кони, которым мешал уснуть неуталенный голод, — среди них много белых, мощно отражавших белизну лунного света, — а также белые кожухи экипажей и белые же снопы, предназначенные для ночлега — все сообщало свет и радость этой упоительной сцене. Уверен, что даже истинно великий художник был бы счастлив точно воссоздать умиротворенность этой картины.
Лишь очень поздно я вошел под сень большого шатра в надежде забыться глубоким сном. Но природа наряду с лучшими своими дарами создает и несноснейшие. Я отношу к самым подлым преступлениям против человечности привычку человека, чем глубже он погружается в сон, тем беспощаднее не давать уснуть своему ближнему богомерзким храпом. Мы лежали голова к голове, я внутри шатра, он снаружи, испуская ужасные стоны, отбивающие всякую надежду обрести вожделенный покой. Желая взглянуть на виновника моей бессонницы, я отстегнул петлю от колышка. То был один из слуг нашего герцога, славный услужливый парень. Ярко освещенный луной, он спал крепчайшим сном, не уступавшим сну божественного Эндимиона. Невозможность заснуть рядом с таким соседом толкнула меня на коварный поступок: вооружившись пшеничным колосом, я пощекотал им лоб и нос спящего. Его глубокий сон тотчас прервался, он несколько раз провел по лицу ладонью. Но стоило ему снова заснуть, как я вновь повторял свою проделку, а он и не подумал, откуда мог взяться слепень в такое время года. Своего я, однако, добился: стряхнув с себя сон, он поднялся со своего ложа. Но и у меня пропала охота уснуть. Я вышел из шатра и залюбовался мало изменившейся дивной картиной бесконечного покоя. В такие мгновения страх и надежда, печаль и успокоение сменяют друг друга с быстротою вспышек молнии. И опять меня объял страх: стоило только подумать, что враг нападет на нас в эту самую минуту и тогда отсюда и впрямь не унесешь ни спицы от колеса, ни ноги, ни руки человеческой.
Занявшийся день вновь рассеял мои тревоги. Да и было на что посмотреть: две старухи-маркитантки, накинув на себя множество пестрых шелковых платьев, повязав ими бедра, груди, а самым верхним — шею и сверх всего набросив еще и короткую мантильку, гордо расхаживали вокруг в таком смехотворном убранстве, уверяя, что раздобыли свой маскарад путем честной купли и честного обмена.
30 сентября.
Тронулся в путь наш обоз, едва забрезжило утро, но одолели мы за день лишь весьма мизерное пространство, так как устроили первый привал уже в девять часов — между Лавалем и Варжмулетом. Люди и животные в равной мере нуждались в восстановлении своих сил, лагеря не разбивали. Подоспевшая армия расположилась на пригорке. Всюду царили тишина и порядок, и только принятые меры предосторожности заставляли думать, что еще не все опасности остались позади. Разведку строго соблюдали, опрашивали встречных жителей и готовились в путь-дорогу.
1 октября.
Герцог Веймарский и на этот раз командовал авангардом, тем самым прикрывая с тылу отход нашего обоза. В эту ночь царили покой и порядок, и в столь благостной тишине утихали людские треволнения. И все же сняться с места было приказано в полночь, а значит, наш маршрут не считался вполне безопасным: внушали опасения разъезды противника, которым ничто не мешало спускаться с Аргоннских гор. Ведь если наше командование и пришло к соглашению с Дюмурье, — а полной уверенности не было и в этом, — то не так-то точно исполнялись тогда во французской армии приказания свыше, тем более отрядами, действовавшими в горах и лесах. Таковые вполне могли объявить себя полноправным войском и на свой страх и риск попытаться нас изничтожить, — никто не посмел бы их осудить за это.
Но и сегодняшний переход был все так же краток. Полководцы радели не только о том, чтобы обоз и армия всегда держались вместе, но также и о том, чтобы пруссаки и параллельно, по левую руку от них, отступавшие австрийцы и эмигранты никогда бы друг друга не опережали.
Первый привал был сделан уже в восемь часов утра, как только мы оставили позади Рувруа. Наспех раскинуты нами были только несколько палаток. День выдался чудесный, и никто нас не обеспокоил.
Не скрою, что в самый разгар этих невеселых дней я связал себя шутливым обетом: коль скоро мы спасемся и я вновь водворюсь в своем доме, никто от меня не услышит жалобы на то, что крыша соседнего дома частично скрывает широкий вид из моего окна, напротив, эта-то островерхая крыша и будет мне всего милее; далее: никогда я не стану жаловаться на скуку и потерю времени в немецком театре, где ты — господу хвала! — как-никак сидишь под спасительной крышей, чтобы там ни вытворяли на подмостках. Связал я себя еще и третьим обетом, но каким именно, право, не могу припомнить.
Довольно с нас и того, что каждый мог позаботиться о себе самом, что конь и карета, лошадь и конюх не отставали от своих подразделений и что, где бы ни делали мы привала или располагались лагерем, нас всегда ожидали накрытые столы, а также скамьи и стулья. Правда, харчи, что и говорить, не ахти какие, но с этим приходилось мириться при общей недостаче съестных товаров.
Впрочем, однажды мне выпал случай присоседиться и к более богатому пиршеству. Стемнело рано, и каждый поспешал отыскать свое логово. Уснул и я, но вскоре меня разбудило поразительно явственное сновидение: мне представилось, будто я слышу запах каких-то лакомых яств и даже уже вкушаю от них. Очнувшись от сна, я чуть приподнялся: вся палатка была наполнена дивным ароматом жареного и тушеного свиного сала, и это до крайности возбуждало мой аппетит. На лоне природы человеку простительно почитать свинопаса божественным, а ядреную свинину чуть ли не царственным блюдом. Я встал и в отдалении увидел разожженный костер. На мое счастье, он горел с наветренной стороны, почему меня и достиг тот благовонный запах. Не долго думая, я прямиком пошел «на огонек». Оказалось, что вокруг костра собрались все наши слуги. Костер догорал, но спина свиной туши была уже поджарена, а остальное разрезано и приготовлено для начинки. Все усердно трудились, набивая колбасы. Неподалеку лежали толстые бревна. На них я и уселся, поприветствовав честную компанию, и стал с интересом наблюдать за их стряпнею. Ребята ко мне благоволили, да и неудобно было бы, не накормив, отпустить голодным нежданного гостя. Словом, когда дошло до дележа, мне преподнесли здоровенный кусок жаркого, да и хлебом меня не обделили и глоточком водки, словом, всем, чем положено.
К тому же мне протянули нескупо отмеренный кус колбасы, когда мы среди ночи садились на коней; я сунул его в седельную кобуру. Так благодатно сказалось на мне дыхание ночи с наветренной стороны.
2 октября.
Подкрепившись едой и питьем, я малость утихомирил свою совесть ходячими доводами морали; но в взбаламученной душе по-прежнему чередовались надежда и забота, стыд и недовольство собою. Все мы, конечно, радовались, что покуда еще оставались в живых, но тем дружнее проклинали жизнь в таких условиях. Выступив в два часа пополуночи, мы опасливо прошли мимо леса близ местечка Во, где еще так недавно стояли лагерем, и вскоре достигли реки Эн, через которую были перекинуты два моста; по ним мы и перешли на правый берег реки и там остановились на поросшей ивняком песчаной отмели между двумя мостами, отчетливо видными отсюда. Костер весело трещал, самая нежная чечевица, какую мне довелось когда-либо есть, и красноватый длинный и замечательно вкусный картофель были скоро приготовлены, а когда нас сверх того попотчевали еще и поджаренной ветчиной, каковую добыли австрийские ездовые, но по сей день об этом помалкивали, мы и впрямь восстановили свои силы.
Обоз с его телегами и экипажами нас значительно опередил. Но тут нам вскоре открылось зрелище, столь же величавое, сколь и печальное: армия переходила через реку, пехота и артиллерия по тем двум мостам, а кавалерия вброд. У всех мрачные лица, губы, горестно сжатые, чтобы не выдать всего пережитого. Когда подходили полки, в рядах которых предполагались друзья и знакомые, мы спешили им навстречу, обнимались, заговаривали с ними. Но сколько душевной скорби в этих расспросах, сколько щемящего стыда, сколько с трудом сдерживаемых рыданий!
Однако нас отчасти утешало то, что мы, подобно маркитантам, могли потчевать великих и малых мира сего. Поначалу нам служил столом барабан сторожевой заставы, но потом солдаты понатаскали из разоренных деревень столы и стулья для себя и гостей в заботе о скромном удобстве. А гости были разные! Кронпринц и принц Луи отведали нашей чечевицы; да и не один генерал, заметив издали заманчивый дымок, приезжал к нам, надеясь подкрепиться. Но как ни значительны были наши припасы, много ли народу накормишь за один присест? Готовили во второй и в третий раз, отчего наши резервы заметно истощились.
Наш герцог делился всем, чем только мог, да и слуги его были добрыми людьми. Трудно сосчитать, сколько несчастных, сколько одиноких, больных пришельцев прикармливали его камерьер и повар.
И так каждый день! Отход наших войск предстал передо мной не как отвлеченное подобие, не как притча, а в своей непреложной реальности. Каждый новый мундир умножал и бередил сердечные раны. Финал трагедии достойно завершал ужасное целое. К мосту подъехал король со своим штабом, чуть задержался у моста, словно желая еще раз обозреть и обдумать происшедшее, и быстро проследовал тем же путем, что и его войско. У другого моста показался герцог Брауншвейгский и тоже как бы заколебался, но тут же пришпорил коня и крупной рысью выехал по мосту на правый берег.
Настала ночь, ветреная и сухая; мы провели ее на пустынной отмели, почти не сомкнув глаз.
3 октября.
Утром в шесть часов мы тронулись в путь и, перевалив через холм, направились в Гранпре, где застали нашу армию на биваках. Новые беды — новые заботы! Дворец превращен в лазарет, в нем лежало несколько сотен несчастных. Но мы не имели возможности ни помочь им, ни даже их накормить. Скрепя сердце обошли Гранпре, предоставив больных и раненых милосердию противника.
Дорогой вновь обрушился на нас свирепый ливень, сковав каждый шаг, каждый поворот колеса.
4 октября.
Сниматься с места день ото дня становилось труднее. Чтобы не погрязнуть в рытвинах дороги, мы рискнули пролагать себе путь через пахотные поля; почва здесь красноватого цвета и еще более вязкая, чем белесая меловая, — ни пройти, ни проехать. Четырем лошадкам было невмоготу везти мой легкий шез; пришлось облегчить его хотя бы на вес моей персоны. Верховые лошади опять куда-то запропастились. Но, к счастью, меня нагнала наша большая кухонная фура, влекомая шестью дюжими тяжеловозами. В нее я и забрался. Внутри лежал кой-какой провиант, а в углу притулилась насупившаяся страдалица-судомойка. Я вынул из сундука третий том «Физического лексикона» Фишера и углубился в чтение. В таких обстоятельствах, где каждый миг грозит новой задержкой, нет лучшего спутника, как такой вот словарь, где, на какой странице ты его ни откроешь, он всегда увлечет тебя полезными сведениями.
В силу вынужденных обстоятельств мы по оплошности подались на эти чуть не сплошь заболоченные пахотные поля, отливавшие зловещим багрянцем; на топкой почве может выбиться из сил и самая мощная шестерка ломовых коней. В моей диковинной колымаге я сам себе казался пародией на фараона в Чермном море, — ведь и вокруг меня погружались конные и пешие в жидкую грязь все того же чермного, то бишь мутно-багрового, цвета. С тоскою всматриваясь в окрестные холмы, я обнаружил наконец наших верховых лошадей и среди них предназначенную мне белую лошадь. Голосом и энергичными жестами я побудил коноводов привести моего коня. Но прежде, чем сесть на него, я поручил попечению несчастной и, видимо, больной судомойки третий том моего «Фишера», внушив ей сугубо внимательное обращение с этой книгой. Выбравшись из фуры, я дал себе слово не ездить до лучших времен в экипажах. Теперь я мог двигаться хотя бы самостоятельно, но нельзя сказать, чтобы лучше или быстрее.
Гранпре, о котором все отзывались как об очаге чумы и смерти, мы оставили позади без сожаления. Несколько друзей-товарищей по походу сошлись на привале вокруг костра, каждый держа под уздцы свою лошадь. По их утверждению, то был единственный раз, когда лицо мое оставалось угрюмым и я не подбадривал их серьезным словом и не веселил забавною шуткой.
4 октября.
Маршрут, которого придерживалась теперь наша армия, вел на Бюзанси, где чуть выше Дена нам предстояла переправа через Маас. Лагерем мы расположились близ Сиври, в чьей окрестности еще не было все съедено. Солдаты с ходу набросились на первые же встретившиеся им огороды и изничтожили многое, чем могли бы еще поживиться другие. Я посоветовал повару и его помощникам впредь осуществлять фуражировку, так сказать, стратегически. Обойдя всю деревню, мы обнаружили ряд почти нетронутых огородов: капуста, лук, огурцы, а также другие овощи и всевозможные коренья имелись здесь в изобилии — год был на редкость урожайный. Мы вели себя скромно и уважительно, ничего лишнего не забирали и не губили. Огород был невелик, но ухожен. Выбрались мы из него, шагнувши через низкую ограду, — калитки не было; но не это меня удивило, а то, что я так и не обнаружил двери, соединяющей приусадебный овощник с домом хозяина. На обратном пути, отягощенные богатой кухонной добычей, мы услышали великий шум со стороны стоянки нашего полка. Как выяснилось, пропала вместе с привязью лошадь, реквизированная дней двадцать тому назад в здешних местах. Пропажу вменили в вину ездившему на ней кавалеристу, требуя под угрозой наказания, чтобы он всенепременно отыскал ее.
Так как командование решило продлить наше здешнее пребывание вплоть до пятого октября включительно, нас разместили в самом Сиври. После всех перенесенных невзгод нас радовал предвидимый домашний уют и возможность внимательно понаблюдать простонародно-французские и гомеровски-идиллические обычаи и нравы местных поселян, а заодно и их бытовой уклад. В дом французских крестьян входишь не прямо с улицы, а пройдя небольшие четырехугольные и к тому же открытые сени, так как по правую руку от входящего никакой стены не имеется. Ширина этих сеней равна поперечнику двустворчатой двери, выходящей на улицу. Только через вторую, доподлинно входную дверь попадаешь в высокую просторную комнату, где в основном протекает жизнь крестьянского семейства. Пол ее вымощен кирпичом: слева у длинной стены — вмурованный в пол очаг, а над ним — вытяжная труба, встроенная в каменную стену. Поздоровавшись с хозяином и его семьей, мы с удовольствием подсели к их тесному кругу. За стол садятся, соблюдая раз и навсегда установленный порядок. Справа у огня высокий ящичек с откидной крышкой, служащей также и сиденьем, а под крышкой — запасы соли, нуждающейся в сухом хранении. Это — почетное место, и его тотчас же предложили самому почетному гостю. Прочие гости уселись на деревянные стулья вперемешку с хозяевами. Первый раз наблюдая кулинарное искусство французских поселянок, я узнаю, что такое их pot au feu: на крюке, который можно поднимать и опускать благодаря имеющимся на нем зазубринам, подвешен большой медный котел. В нем как раз варился добрый кусок мяса, и не просто в воде с солью, а с брюквой, морковью, пореем, капустой и прочей зеленью и кореньями.
За разговорами с милыми людьми мне впервые открылось, с какою архитектонической мудростью здесь размещены и подсобный столик для стряпни, и водосток, и полки с горшками и мисками; полки прибиты к стене продолговатого закута, непосредственно граничившего с открытыми сенями. Утварь расставлена на них красиво и удобно. Все изящно прибрано рукою служанки или золовки. Хозяйка сидит у очага, а у ее колен стоит сынишка, и две дочурки льнут к нежной маменьке. Стол накрыт, на него поставлен большой глиняный горшок; прекрасный белый хлеб нарезан ровными ломтиками; их бросают в горшок и заливают горячей похлебкой. Остается только пожелать друг другу доброго аппетита. Мальчики, презревшие наш солдатский черный хлеб, здесь имели бы случай показать мне, что такое bon pain и bonne soupe. Вслед за тем было подано мясо с подоспевшей овощной приправой, — кому не придется по вкусу эта простая, но отличная кухня?
Мы участливо расспрашивали хозяев, как им живется. Немало понатерпевшиеся от постоев в начале кампании, когда мы так долго стояли под Лондром, они после краткого облегчения теперь опасаются, что отступающий неприятель вконец разорит и погубит их. Мы утешали их, чем могли, говорили, что мы — последние, не считая арьергарда, и что конец невзгодам уже близок. И тут же давали им советы, как им поступать с отставшими вояками. А ураганный ветер и беспощадный дождь почти не прекращались. Почти весь день проводя под крышей, мы с горечью вспоминали прошедшее и не возлагали особых надежд на будущее. После Гранпре я не видел ни своего шеза, ни слуги, ни сундука. Проблески надежд и новые заботы мгновенно сменяли друг друга. Настала ночь и с нею час, когда детям полагается отходить ко сну. Дети пришли проститься с отцом и с матерью, целовали им руку и с примерной благовоспитанностью лепетали: «Bon soir, papa! Bon soir, mama!»[13] Чуть позднее мы узнали, что опасно заболел принц Брауншвейгский. Мы осведомились о его здоровье и в ответ услышали, что он чувствует себя значительно лучше и завтра непременно тронется в путь вместе с нами. Но посещения больного были признаны врачами нежелательными.
Только мы спаслись у хозяев от возобновившегося ливня, как в дом вошел человек, которого мы — по разительному сходству — тотчас признали младшим братом хозяина. Так оно, конечно, и оказалось. Он вошел в комнату, красивый и стройный, в одежде местного поселянина и с крепким посохом в руке. Сидя у огня с суровым выражением лица, он не проронил ни единого слова, недовольный, если не гневный. Чуть пообсохши, он зашагал взад-вперед со старшим братом, а потом удалился с ним в соседнюю комнату. Разговор их был оживлен, но негромок. Брат ушел из дома под проливным дождем, и никто его не удерживал.
Но и нас заставили выйти в эту бурную ночь отчаянные крики о помощи. Дело в том, что наши солдаты под предлогом поисков припрятанного фуража начали мародерствовать, и притом наиглупейшим образом: отобрали у ткача орудия его ремесла — вещи, вовсе им ненадобные. Строгостью и разумным словом нам удалось пресечь это бесчинство, тем более что большинство солдат не примкнуло к злостным грабителям. Но дурной пример заразителен, и мог начаться такой бедлам, что сразу и не управишься.
Тут подошел к нам веймарский гусар, мясник по ремеслу, и доверительно сообщил мне, что обнаружил в одном крестьянском дворе откормленную свинью, долго рядился с хозяином, но так и не мог с ним договориться, мы-де должны его поддержать, иначе через несколько дней нам есть будет нечего. Странное дело! Только что мы пресекли грабеж, а теперь нас приглашают принять участие в сходном деянии. Но что поделаешь, голод не признает законов; мы пошли с гусаром к указанному дому, там тоже горел очаг. Вошли, поздоровались с хозяевами и подсели к ним. Тут к нам присоединился еще один гусар из веймарских, Лизёр по фамилии, ловкий малый, которому мы и поручили вести переговоры, благо он бегло говорил по-французски. Лизёр превозносил до небес добродетели регулярной армии, воздавал должное господам, приобретающим съестные припасы за наличные деньги, и, напротив, всячески хулил бродяг, обозников и маркитантов, с шумом врывающихся в дома и силком обирающих всех до последней нитки. А посему он и дает им благой совет: хорошенько обдумать его предложение; тем более что деньги легче спрятать, чем животину, а что о свинье все равно прознают эти выродки — уж будьте спокойны. Однако надо сказать, что красноречие Лизёра должного впечатления не произвело, переговоры же наши были внезапно прерваны по следующей трагикомической причине.
В дверь, прочно запертую, громко застучали. Никто не шелохнулся, впустить новых гостей ни у кого не было охоты. Но стук становился все настойчивее, и женский голос на добром немецком языке молил о помощи все жалостливей и надрывнее. Мы не выдержали и дверь приотворили. И тут же пулей влетела в комнату старая маркитантка, держа на руках нечто завернутое в тряпки; а за нею вошла молодая особа, пожалуй, даже собой недурненькая, но бледная, обессилевшая, едва державшаяся на ногах. Старуха в кратких, но избыточно смачных словах объяснила суть дела, то и дело предъявляя в их подтверждение голого младенца, каковым разрешилась молодая во время бегства. Из-за родов отстав от армии, обе они под градом насмешек грубых мужланов добрались наконец до этого жилья. У родильницы пропало молоко, у бедного ребенка от самого рождения не было во рту ни маковой росинки. Не тратя лишних слов, старуха властно потребовала муки, молока, кастрюлю, а там и холст, чтобы запеленать младенчика. По-французски она не знала, и потому мы предъявили все эти требования как бы от ее имени, властность же и порывистость старухи придавала нашим речам немало пантомимического веса: требуемое, на ее взгляд, подавали недостаточно живо, а подаваемое было не должного качества. Стоило поглядеть на то, как быстро и споро она всем распоряжалась. Бесцеремонно оттеснив нас от камина, она предоставила лучшее место родильнице, сама же широко расселась на скамье, словно одна была жилицей этого дома; в одну минуту искупала и спеленала младенца, сварила кашу, накормила новорожденного и его мать, сама довольствуясь одними поскребками, потом потребовала одежду для молодой особы, чье промокшее платьице сохло над очагом. Мы дивились ее энергии: вот как надо производить реквизиции.
Дождь поутих, и мы поспешили вернуться восвояси, куда вскорости проследовали и оба гусара с обретенной хавроньей, — уплачено было за нее изрядно, оставалось только забить ее. Так и поступили. А поскольку в смежной комнате оказался крюк, прочно ввинченный в опорную балку, то ее освежеванная туша на нем и повисла. Предстояло только разделать ее и перейти к готовке по всем правилам поварского искусства.
Меня несколько удивило, что хозяева не выражали никакого недовольства нашим поведением, а, напротив, деятельно старались помочь нам, тогда как, казалось бы, имели все основания осудить нас за нарушение их ночного покоя. Ведь в комнате, где теперь священнодействовал мясник со своим причтом, лежали их детки в своих чистеньких постельках и, разбуженные незнакомыми голосами, тишком поглядывали из-под одеял на все, что тут происходило. Свинья висела возле большой двуспальной постели, целомудренно занавешенной зеленым саржем, каковой служил живописным фоном для более ярко освещенной туши, — ночная сцена, не имеющая себе равных. Но, повторяю, хозяева и не думали осуждать нас; скорее, можно было заметить, что они не слишком расположены к дому, откуда мы извлекли откормленную животину; пожалуй, — так казалось, — они даже злорадствовали по случаю незадачи соседа. Правда, мы благодушно заранее им обещали поделиться с ними и мясом и колбасами, что немало помогло мяснику-гусару справиться со своей задачей, — ведь времени до утренних сборов оставалось в обрез. Но наш гусар был не менее скор и расторопен по своей части, чем повстречавшаяся нам старуха-маркитантка по своей, и мы уже предвкушали свиное жаркое и отменные колбасы, которые будут нам выделены. В ожидании предстоявших благ мы улеглись в хозяйской кузне и проспали до утренних сумерек на мягких пшеничных снопах. Тем временем гусар закончил свою работу, завтрак был приготовлен, а остальное увязано с выделом хозяевам обещанной доли; последнее — к вящему недовольству гусар. «С этим народом нечего миндальничать, — сказали они. — У них наверняка припрятано и мясо, и другие припасы, только мы плохо их искали».
Осмотревшись в одной из комнат позади той, где находился очаг, я обнаружил накрепко запертую дверь, которая, судя по ее местоположению в доме, должна была вести в огород. Взглянувши в маленькое оконце рядом с дверью, я убедился, что не ошибся: огород, расположенный на пригорке, был тот самый, в котором мы обогатились овощами и зеленью. Дверь снаружи была забита досками и так умело замаскирована, что ее и впрямь было нелегко обнаружить со двора. Но так уж, видно, было предрешено небесами, что мы, несмотря на всю осмотрительность хозяев, все-таки очутились в их доме.
6 октября, утром.
В такой обстановке не жди ни минуты покоя и не будь уверен, что за час твоего отсутствия ничего не изменится. Едва рассвело, все в местечке пришло в волнение: всплыла вчерашняя история с пропавшей лошадью. Кавалерист, который должен был либо разыскать свою лошадь, либо же, подвергнувшись наказанию, впредь идти пешком за своей частью, носился в отчаянии и страхе по окрестным деревням, где его, лишь бы самим избавиться от напасти, уверяли, что лошадь наверняка припрятана где-нибудь в Сиври, где столько-то дней тому назад и впрямь реквизировали вороного коня, такого, как он описывал. Оказавшись снова в Сиври, он, конечно же, убежал к себе в стойло; это звучало вполне правдоподобно. Сюда, в Сиври, кавалерист и направился в сопровождении унтер-офицера, человека сурового, но готового выручить своего солдата. Угрожая расправой всему местечку, он добился-таки разгадки приключившегося: конь и вправду бежал в Сиври, к прежнему своему хозяину. Радость встречи хозяина и всей семьи со старым их помощником и почти домочадцем была поистине неописуема. Вместе с хозяевами торжествовали и соседи. Коня хитроумно подняли на чердак и завалили сеном. Никто об этом не проболтался. И вот теперь, под стоны и вопли свидетелей, его извлекли из надежного укрытия. Печаль овладела всей общиной, когда всадник, вскочив в седло, поскакал вслед за вахмистром. В этот миг никто не помнил о собственных горестях и о судьбах Франции, по-прежнему безотрадных. Сбежавшуюся толпу только и волновала участь коня и бывшего его владельца, вторично обреченного на горькую разлуку. Все сочувствовали ему и его питомцу.
Но вот вспыхнула нежданная надежда. Подъехал кронпринц Прусский и спросил, что означает это скопище народа. Владельцы лошади, всей семьей, молили прусского престолонаследника вернуть им общего любимца. Но что он мог поделать? Законы войны могущественнее королей. Кронпринц уехал, оставив просителей в безутешном горе.
Дома мы еще и еще раз обсуждали с хозяевами, как следует поступать с одинокими отставшими солдатами, — мародерство принимало все большие размеры. Совет мой был таков: кто бы ни открывал двери, будь то хозяин или хозяйка, подмастерье или служанка, нужно стоять в сенях и разве что вынести солдатам кусок хлеба или рюмку с глотком вина, но решительно пресекать даже попытки проникнуть внутрь. Бродяги в солдатских шинелях не станут брать приступом крестьянский двор, но справиться с вторгшимся мародером не так-то просто. Добрые люди дружно просили нас подольше постоять у них. Но полк герцога Веймарского уже ушел вперед, а с ним и кронпринц, — достаточная причина и нам сняться с места.
В благоразумности такого решения мы вскоре убедились, приставши к нашей колонне. Тут мы узнали, что как только авангард французских принцев миновал пресловутый перевал Лишен-Популье и реку Эн, эмигранты подверглись нападению вооруженных крестьян между Большими и Малыми Армуазами. Лошадь под одним офицером-эмигрантом была убита, а другая пуля пробила шляпу одного из слуг полкового командира. Тут я вспомнил, что прошедшею ночью, когда вошел в наше пристанище младший брат хозяина, суровый и озлобленный малый, во мне шевельнулось предчувствие таких нежелательных сюрпризов.
Того же 6 октября.
Из самых опасных тисков мы, так или иначе, вырвались, но наш отход и теперь оставался тягостным и чреватым всякими бедами. Особенно обременял нас не в меру разросшийся обоз. И то сказать, мы везли с собой, помимо кухонной утвари, еще полную меблировку — столы, стулья, скамьи, сундуки, ящички и даже несколько жестяных печей. А между тем с каждым днем лошадей становилось все меньше; одни пали, другие вконец обессилели. Ничего не оставалось, как бросать одну телегу, чтобы сохранить остальные. Широко обсуждалось — что изо всего нам наименее необходимо? Выбор пал на телегу, доверху груженную всякой всячиной, лишь бы не жертвовать полезнейшим. Это мероприятие повторялось не однажды, и наш обоз заметно поубавился. Но, с величайшим трудом продвигаясь по низким, заболоченным берегам Мааса, мы вновь и вновь подвергали наш обоз подобным редукциям.
Что меня тогда особенно удручало и угнетало, так это то, что я уже несколько дней не видел своей кареты. Оставалось предположить, что мой слуга, обычно такой находчивый, утратив старых лошадей, не мог раздобыть им замену. Горестное воображение уже убеждало меня, что легкая карета, немало носившая меня по свету, бесценный подарок государя, увязла в грязи и валяется где-нибудь на обочине и я на своем коне и впрямь «все свое несу с собою». Чемодан с платьем, со всеми рукописями и прочими дорогими в силу привычки вещами казались мне уж навечно утраченными, рассеянными по белу свету.
Что сталось с деньгами и важными документами в моем бумажнике, а также с разными сувенирами, которые берешь с собой, разлучаясь с родными и близкими? Все эти утраты я представил себе с поразительной отчетливостью и в мельчайших подробностях; но уже мой дух поспешил извлечь меня из этой бездны воображаемых бедствий. Доверие к моему слуге пересилило все мои сомнения. Все, что я считал навек утраченным, вообразилось мне сохраненным благодаря его заботливому попечению, и я радовался вновь обретенному, точно видел его уже своими глазами.
7 октября.
Мы с трудом продвигались левым берегом Мааса, вверх по его течению, навстречу месту, где должна была состояться наша переправа и откуда рукой подать до мощеной дороги. Но только мы дошли до заливного луга, от дождей вконец заболоченного, как возвестили, что нас нагоняет герцог Брауншвейгский. Мы остановились, чтобы почтительнейше его поприветствовать. Остановился и он на близком от нас расстоянии и сказал мне: «Я, конечно, весьма огорчен, что вижу вас в столь неавантажном положении, но, смею признаться, все же радуюсь этому в том смысле, что вы, как человек разумный и пользующийся общим доверием, сможете засвидетельствовать, что мы побеждены не врагом, а стихией».
Герцог и раньше видел меня не раз, и, в частности, в Ане, в своей ставке, и, конечно, знал о моем участии в этом несчастном походе. Я в ответ сказал ему несколько подобающих слов, в заключение которых высказал искреннее сожаление, что ему, после стольких трудов и огорчений, пришлось еще пережить тревожные заботы в связи с заболеванием его августейшего сына; мы все глубоко сострадали ему прошлой ночью в Сиври. Герцог выслушал меня благосклонно, ведь этот принц был его любимцем, — и тут же представил нам его, державшегося поблизости от своего родителя. Мы поприветствовали и принца. Герцог всем нам пожелал терпения и стойкости, я же ему — наилучшего здоровья, ибо ни в чем другом он не нуждался, чтобы спасти нас и отстоять правое дело. Сказать по правде, он всегда меня недолюбливал, с чем приходилось мириться, и не раз давал мне это почувствовать, что я прощал ему охотно. Но беда, кроткая посредница, нас свела и заставила друг к другу проникнуться взаимным участием.
7 и 8 октября.
Переправившись через Маас, мы двинулись дорогой, ведущей из Нидерландов на Верден. Непогода — ужаснее, чем когда-либо. Мы стали лагерем близ Консанвуа. Неустройства, вернее же тяжкие беды, достигли высшей точки, — палатки насквозь промокли, нет крыши над головой, не знаешь, как спастись и за что взяться. Кареты моей все нет и нет, как нет и необходимейших вещей. Сносную палатку можно, пожалуй, отыскать, но разве в ней отдохнешь! Как не мечтать тут о сене и голых досках! Оставалось одно — лечь на сырую, холодную землю.
Но у меня на все такие случаи имеется прекрасное средство: я не ложусь и не сажусь, пока меня держат ноги, а когда уже невмоготу стоять, то сажусь в раскидное кресло и сижу, пока сидится, когда же нет сил ни стоять, ни сидеть, то кажется пригодным уже любое место, на котором можешь вытянуть ноги. Голод — лучшая приправа, усталость — лучшее снотворное.
Так провели мы два дня и две ночи. На третий день тяжелое состояние двух больных сослужило добрую службу здоровому. Один из них был камердинер герцога, другой — юный корнет из нашего полка, которого наш государь вывез из Гранпре, где он лежал в военном госпитале. Их обоих герцог решил отправить в Верден, в двух милях от нас находящийся, под присмотром камерьера Вагнера; четвертым местом по заботливому совету всемилостивейшего государя должен был воспользоваться я. В дорогу нам было дано рекомендательное письмо коменданту крепости, а поскольку и пудель не хотел от нас отставать, то предоставленный нам дормез являл собою то ли полулазарет, то ли отчасти даже зверинец.
Форейтором, квартирмейстером и интендантом состоял при нас уже известный читателю гусар Лизёр. Уроженец Люксембурга, он хорошо знал этот край и с этим преимуществом сочетал еще и немалую сметливость, ловкость и дерзость браконьера. Гарцуя перед нами на статном коне, он придавал внушительный вид как себе самому, так и нашей карете, запряженной в шестерку статных белоснежных лошадей.
Сидя рядом с двумя заразными больными, я и не думал об опасности заболеть. Человек, верный самому себе, в любом положении руководствуется спасительной максимой. Что касается моей персоны, то меня всегда выручал в минуту большой опасности мой слепой фатализм, да я и вообще замечал, что люди, вся жизнь которых проходит в непрерывных опасностях, почерпают стойкость и мужество в этой вере. Тому лучшим доказательством служит религия магометан.
9 октября.
Наша печальная лазаретная карета продвигалась медленно и давала повод предаваться грустным раздумьям. Ведь мы снова ехали тем самым шоссе, по которому вступали в пределы этой страны, исполненные радужных надежд и душевной бодрости. Вот он, тот самый виноградник, где раздался первый одинокий выстрел; вот и ведущая в гору дорога, на которой нам повстречалась и была отправлена нами домой юная красотка, вот и та низенькая каменная ограда, стоя на которой среди своих родных, она дружески приветствовала нас, вновь обретшая веру в лучшее будущее, веру в человека. Как совсем по-другому все это выглядит теперь! Вдвойне безрадостными казались нам последствия бесплодного похода под немолчный дождь и завыванье бури.
И что же? Как раз здесь, в час величайшего уныния и печали, мне выпало счастье, лучше которого и не придумаешь. Мы нагнали коляску, запряженную четверкой невзрачных лошаденок. Тут-то и разыгралась сцена радостного узнавания. Бог ты мой! это была моя карета с моим верным слугой и помощником. «Пауль! — вскричал я. — Ты ли это, чертенок? Откуда ты взялся?» И — о, какая радость! — мой сундук стоит преспокойно на привычном месте! Когда же я стал торопливо расспрашивать о портфеле и других вещах, из кареты выскочили один за другим два моих друга — тайный советник Вейланд и капитан Вент. Вторая радостная сцена: «Друзья, вновь обретшие друг друга». Только теперь я узнаю, как все это произошло.
После побега тех двух французских парнишек мой Пауль стал один управляться с четверкою лошадей, сам узнал наш маршрут, сам добрался не только от Ана до Гранпре, но и от перекрестка, где мы друг друга потеряли из виду, до Эн, а там и до места нашей счастливой встречи: в пути он беспрестанно чего-то требовал, на чем-то настаивал, добывал провизию и фураж, менял старых коняг на реквизированных. И вот мы снова воссоединились, снова неразлучны и едем в Верден, где, быть может, обретем краткий покой и отдохновение. Обо всем этом позаботился наш гусар заблаговременно и наилучшим образом. Он и теперь, опередив нас, поскакал в город, в царящий там хаос и столпотворение, быстро убедился, что положенным образом там ничего не добьешься, что на добрую волю и расторопность квартирьеров полагаться никак нельзя. Но, к счастью, он заметил, что во дворе одного респектабельного дома готовятся к отъезду, и помчался что было духу нам навстречу, объяснил, как добраться до предназначенного для нас убежища, и снова умчался в город, чтобы тотчас по выезде жильцов захватить двор и дом и не дать закрыть ворота. Мы въехали во двор и вышли из кареты под шумные протесты старухи-экономки, которая только что избыла квартирантов и отнюдь не хотела принимать новых жильцов, тем более без билета, выданного комендатурой. Однако лошадей распрягли и отвели на конюшню, мы же поделили между собой комнаты в верхнем этаже; хозяин дома, пожилой дворянин и кавалер ордена св. Людовика, не препятствовал нашему вселению, хотя ни он, ни его семья не желали и слышать о новых постояльцах, тем более отступавших пруссаках.
10 октября.
Подросток, водивший нас по улицам пришедшего в запустение города, спросил, случалось ли нам когда-нибудь отведать несравненных верденских пирожков, и, не получив утвердительного ответа, тут же повел нас к знаменитейшему мастеру по этой части. Мы вошли в просторное помещение, по стенам которого стояли большие и малые жестяные печки, а в центре комнаты — столы и скамьи для немедленного поглощения здешних изделий. Великий пекарь вышел нам навстречу, но лишь для того, чтобы бурно изъявить свое отчаяние: он-де не может услужить нам за отсутствием масла. Засим он продемонстрировал нам свои запасы пшеничной муки тончайшего помола, — «Но что мука без молока и масла!» — похвалялся он своим талантом, одобренным местными жителями, а также восторгами путешественников, и все продолжал горько сетовать, что как раз теперь, когда он мог бы показать свое искусство таким знатокам, как мы, и тем самым приумножить свою славу, ему недостает необходимейшего. Он заклинал нас раздобыть масло где угодно и намекнул на то, что стоит только приложить усилия, и масло отыщется. Успокоился он, лишь когда мы ему пообещали привезти масло из Жарден-Фонтена, если поживем здесь подольше.
Оказалось, что наш юный проводник разбирается не только в слоеных пирожках, но не менее тонко и в красивых личиках. Мы как раз проходили мимо фешенебельного особняка, из окна которого выглянула на редкость хорошенькая головка. На вопрос, кто она такая, он назвал ее родовое имя и добавил: «Да, этой головке надо теперь покрепче держаться на плечах. Ведь и она из тех, кто подносил цветы и фрукты прусскому королю. Ее семейство, верно, думало, что все будет по-старому. Но — увы! — страница истории снова перевернулась, и я теперь не хотел бы поменяться с нею местами». Все это он произнес равнодушнейшим голосом, как будто иначе и быть не могло, да никогда и не будет по-другому.
Мой слуга вернулся из Жарден-Фонтена, где он навестил нашего бывшего хозяина, чтобы вернуть ему письмо, предназначавшееся его сестре-парижанке. Веселый насмешник встретил Пауля с обычным добродушием, угостил его как нельзя лучше и попросил передать приглашение также и его господину, которого обещал накормить на славу.
Увы! Тому не суждено было статься. Едва мы повесили котел над огнем, совершив все положенные церемонии и снабдив его необходимыми ингредиентами, как явился ординарец, любезно возвестив нам от имени коменданта, господина де Курбьера, что мы должны готовиться к отъезду из Вердена завтра в восемь часов утра. Это нас огорчило до крайности. Подумать только! Нам, еще не успевшим отдохнуть, разлучиться с нашим уютным кровом и спасительным очагом, чтобы вновь погрузиться в грязь и мокрядь окружавшей нас пустыни! Мы было заикнулись о болезни юного корнета и герцогского камердинера, но в ответ услышали, что нам надо как можно скорее выезжать из города, так как этой же ночью будут вывезены все больные и раненые за исключением вовсе не способных перенести такое испытание. Нас объял страх и ужас. Ведь никто из моих соратников не ставил под сомнение, что союзная армия сохранит за собой Верден и Лонгви, а быть может, захватит и ряд других крепостей, чтобы встать на зимние квартиры в хорошо укрепленных городах. Сразу расстаться с этой надеждой было слишком горько, почему мы и склонялись к предположению, что комендант хочет прежде всего освободиться от великого множества больных и раненых и от чудовищно разросшегося обоза, с тем чтобы потом разместить в Вердене не столь многочисленный гарнизон. Но камерьер Вагнер, вручивший коменданту письмо нашего герцога, усматривал в мероприятиях, проводимых комендатурой, нечто куда более серьезное. Чем бы, однако, все это ни обернулось в конечном счете, пока что приходилось подчиниться неизбежному; а посему мы спокойно взялись за опустошение горшка, ухитрившись изготовить из его содержимого несколько блюд под разными соусами и гарнирами, как вдруг объявился второй ординарец с приказанием незамедлительно выехать из Вердена в три часа утра, раньше, чем даже развиднеется. Камерьер Вагнер, видимо, хорошо знакомый с письмом нашего государя, в этом увидел верный симптом передачи крепости французам. Здесь мы невольно вспомнили о красивых нарядных девушках, преподносивших цветы и фрукты прусскому королю, и о грозном пророчестве сурового подростка. В первый раз за всю кампанию мы сполна отдали себе отчет, к каким прискорбным последствиям привело предпринятое нами злосчастное вторжение во Францию.
Хотя я и обрел немало хороших друзей, достойных всяческого уважения, среди господ, принадлежавших к дипломатическому корпусу, я часто не мог воздерживаться от злых эпиграмм, наблюдая за ними на фоне великих событий. Они напоминают мне иных директоров театра, которые, выбрав подходящую пьесу и распределив роли, скромно уходят в сторонку, предоставив отлично выряженной труппе осуществить спектакль в меру своих сил и способностей, полагаясь на счастье и на милость взбалмошной публики.
Барон Бретёй никогда не выходил у меня из головы после пресловутого «дела об ожерелье». Слепая ненависть к кардиналу Рогану подвигла его на неразумную поспешность. Вызванное судебным процессом всеобщее потрясение умов расшатало устои государства, уничтожило уважение к королеве и к высшей знати; все, что всплыло тогда на поверхность, как ни горестно это признать, слишком ярко свидетельствовало о полном упадке и разложении, охватившем двор и первенствующее сословие королевства.
И вот теперь стало почти достоверно известно, что не кто другой, как он, принял участие в составлении условий перемирия, в силу которого мы обязались покинуть пределы Франции. Если что отчасти оправдывало нашу ретираду, то именно те существенные уступки, которые были приняты противной стороной. Нам было обещано освобождение короля, королевы и всей королевской семьи, а также удовлетворение ряда других наших пожеланий. Мы тревожно спрашивали себя, как согласуются эти дипломатические заверения с прямо противоположными им фактами, сведения о которых до нас доходили; одно сомнение порождало другие.
Комнаты, нами занятые, были обставлены изящной мебелью. Особенно привлек мое внимание стенной шкаф, за застекленными дверцами которого я обнаружил множество сброшюрованных тетрадок, одинаково обрезанных в четвертую долю листа. Заглянув в них, я с изумлением установил, что домовладелец был одним из нотаблей, созванных в 1787 году; брошюры заключали в себе печатный текст инструкции, которой должны были руководствоваться нотабли. Умеренность требований, сдержанный тон их изложения резко контрастировали с воцарившимся агрессивным языком нынешних прокламаций, призывающих к дерзкому и беспощадному насилию. Я читал эти документы не без растроганности и взял с собою несколько экземпляров на память о прекрасном начале назревавших великих событий.
11 октября.
Мы не спали всю ночь и ровно в три были готовы усесться в нашу карету, уже запряженную и стоявшую перед распахнутыми воротами, как вдруг столкнулись с новым препятствием: лазаретные повозки с ранеными двигались потоком по заболоченным, вконец разъезженным улицам города, по краям которых были по-прежнему сложены булыжники разобранной мостовой. Мы стояли в ожидании возможности включиться в сплошную колонну повозок. Тут протиснулся к воротам и наш хозяин, кавалер ордена св. Людовика, хмурый, ни с кем не здоровающийся. С чего это он поднялся в такую рань? Но вскоре наше недоумение сменилось чувством жалости: с ним вместе вышел из дома и его слуга с небольшим узелком на палочке; стало слишком ясно, что он, всего лишь с месяц пробыв в своей городской усадьбе, должен снова ее покинуть, наравне с нами, бывшими завоевателями Вердена.
Привлекло мое внимание еще и то, что в нашу карету были впряжены лошади, несравненно лучше прежних, обессиленных и ни на что уже не годных. Их выменяли на кофе и сахар, а новых, более резвых, реквизировали. Здесь чувствовалась рука ловкого Лизёра. Если мы все же тронулись с места, то только благодаря его расторопности. Вскочив в случайный разрыв монолитной колонны, он так долго отчитывал замешкавшегося ездового, пока мы не заполнили образовавшийся пробел нашей шестерней и откуда-то им раздобытым вторым экипажем, запряженным четырьмя лошадьми.
Ехали мы со скоростью похоронного кортежа, но все же ехали. Занялся день, хуже которого и вообразить невозможно, когда мы наконец добрались до города. Телеги и кареты, немногие всадники и бесчисленные пешеходы, — все колонны стекались к большой площади за городскими воротами. Только наша колонна подалась вправо, в сторону Этена, продвигаясь узкой дорогой, по обочинам которой тянулись канавы. Чувство самосохранения в такой толчее не знает ни жалости, ни сострадания к ближним; недалеко от нас пала одна из четырех лошадей, впряженных в перегруженную фуру; упряжь перерезали, лошадь отбросили в сторону. Три оставшиеся лошади не могли сдвинуть фуру с места; тогда скинули в канаву и ее со всей поклажей, и тут же двинулись дальше, переехав заодно и лошадь, только собравшуюся приподняться; было слышно, как хрустнули ее кости под колесами, и видно, как вздрогнуло ее тело.
Всадники и пешеходы, устрашенные узостью труднопроходимой дороги, искали спасения на лугах, но и луга были сплошь разрыхлены непрерывным дождем и залиты водой из переполненных рвов и канав; тропинки то и дело прерывались. Четверо бравых, красивых, хорошо одетых французских солдат долго топали по грязи рядом с нашими каретами, их мундиры были аккуратны и чисты, и они ухитрялись ступать так, что их обувь загрязнялась только по щиколотку, — лишь это одно и свидетельствовало о том, по какой дороге им пришлось пробираться.
Никого не могло удивить, что при таких обстоятельствах мы то и дело натыкались на павших лошадей, валявшихся по канавам, на лугах, полях и межах. Вскоре начали попадаться и освежеванные лошадиные трупы, у которых были вырезаны мясистые части, — печальный признак повсеместного голода!
Так вот и двигались мы вперед, поминутно подвергаясь опасности быть сброшенными в канаву, стоило только замешкаться. В этих условиях невозможно было нахвалиться заботливостью нашего гусара. Столь же бесценным человеком он проявил себя и в Этене, куда мы прибыли в полдень. И в этом прекрасном, некогда благоустроенном городке царил несусветный хаос; на улицах и площадях кишели толпы народа; все куда-то спешили и друг другу мешали. Совершенно неожиданно наш проводник остановил наши две кареты перед опрятным, респектабельным домом на рыночной площади; мы вошли в него, хозяин с женою приветствовали нас, держась на почтительном от нас расстоянии.
Нам отвели ряд комнат в нижнем этаже. Одна из них была обшита деревянными панелями, с камином из черного мрамора, в котором весело пылал огонь. Нехотя мы заглядывали в большое зеркало над камином. Я тогда еще не решался стричься коротко, и мои длинные волосы свисали вниз спутанными лохмами. Бороды, колючие, нестриженые, придавали нам еще более дикий вид.
Теперь мы видели из низеньких окон дома всю простиравшуюся перед нами площадь с царившей на ней суетливою бестолочью, и притом на столь близком от нас расстоянии, что казалось нетрудным до всего дотронуться рукою. Пешеходы, солдаты во всевозможных мундирах, инвалиды, здоровые, но озабоченные буржуа, их жены и дети — все это снует на площади, толкается, галдит и визжит, с трудом продираясь между телегами и каретами, подводами, фурами всевозможных образцов, одноконными и запряженными цугом, лошади свои и чужие, отнятые у других. Никто не уступает другому дорогу, прут друг на друга, мешают слева, цепляются справа. Куда-то гонят рогатый скот, — должно быть, отбитое или где-то захваченное стадо. Всадников почти не видно, зато бросаются в глаза изящные кареты эмигрантов, раскрашенные, лакированные, посеребренные, позолоченные — уж не те ли, которыми я любовался еще в Гревенмахерне. Но истинное бедствие наступило, когда заполнявшее площадь скопище народа устремилось в улицу, прямую, застроенную нарядными домами, но несоразмерно узкую. Ничего подобного мне в жизни не приходилось видеть. Сравнить это можно было разве с рекой, залившей луга и поля и вдруг принужденной пройти под узкими арками моста и впредь уже не выступать из тесного русла.
Вниз по длинной улице, видной из наших окон, беспрерывно тек этот грозный поток, над которым возвышалась двухместная карета. Я невольно вспомнил наших прелестных француженок, но то были не они, а граф Гаугвиц, который, покачиваясь, медленно, шаг за шагом, продвигался вперед, к моему немалому злорадству.
11 октября — дополнение.
Нас угостили прекрасным обедом, особенно утешившим нас великолепным бараньим огузком; не было недостатка и в добром вине и превосходном хлебе. Так наслаждались мы миром и покоем рядом с неистовым столпотворением, подобно человеку, сидящему на каменной плотине возле маяка, в то время как море бушует, вздымаются волны и судна борются в буйной схватке с враждебной стихией. Но и в этом гостеприимном доме при нас разыгралась душераздирающая семейная сцена.
Хозяйский сын, красивый юноша, увлеченный новыми веяниями века, вступил в Париже в ряды Национальной гвардии и уже успел отлично зарекомендовать себя. Но когда вторглись во Францию пруссаки, а вместе с ними и эмигранты, гордо уповавшие на скорую победу, любящие родители решительно потребовали, чтобы он, их блудный сын, немедленно оставил свою презренную службу, возвратился на родину и впредь сражался бы за «доброе дело» в рядах союзной армии. И вот он, вразрез со своими убеждениями, возвращается домой, когда пруссаки, австрийцы и эмигранты уже обратились вспять, потерпев неудачу. В отчаянии, пробиваясь сквозь густую толпу, он входит в родительский дом. Как быть, что делать? Как встретят его родные? Полное смятение! Удастся ли старикам отстоять в это грозное время свой дом, свое имение? Сын, подпавший по младости лет под обаяние грандиозного размаха политических событий, уже готов смириться, перейти в угоду родителям на сторону сил, ему ненавистных, как вдруг узнает о полном крушении оккупантов. А между тем его бегство из Парижа привело, как стало ему известно, к внесению его имени в список осужденных и обреченных. Отныне он — изгнанник: отечество утрачено, отчий дом для него закрыт. Сами родители, так нежно его обнимающие, торопят его с отъездом, а он в горестный час свидания не в силах от них оторваться. Объятия таят в себе невысказанные упреки, расставание, невольно нами подслушанное, — ужасно.
Все это происходило в прихожей за нашей дверью. Но только смолкли голоса и в слезах удалились родители, как разыгралась новая сцена, обратившая нас в прямых ее участников, — не менее шумная и душещипательная, хотя под конец и заставившая нас улыбнуться. Велико было наше смущение, когда кучка крестьян — мужчин, женщин и малых детей, семья арендатора большого имения, как выяснилось позднее, ворвалась в наши комнаты и с воплями и плачем бросилась к моим ногам. С красноречием, порожденным неподдельной душевной болью и скорбью, они мне говорят, что их прекрасный скот угоняют. «Взгляните только! — кричали они. — Его забирают пруссаки! Запретите им! Помогите!» Тут я подошел к окну, чтобы собраться с мыслями. «Уж простите меня, — шепчет мне подошедший пронырливый гусар, — я выдал вас за шурина прусского короля, чтобы вас лучше принимали и потчевали. Но крестьян я и не думал пускать сюда. Скажите им несколько ласковых слов, а там уж я с ними как-нибудь управлюсь!»
Как тут поступить? Раздосадованный такой незадачей, я взял себя в руки и сделал вид, будто и впрямь обдумываю, как им помочь, самому же себе сказал: без хитрости и плутовства на войне, говорят, не обойдешься. Кто берет себе в поводыри пройдоху и сам становится таковым. Главное — избежать постыдного скандала. Выписывает же врач рецепт безнадежно больному, лишь бы его подбодрить! Так поступлю и я: отпущу этих добрых людей, подбодрив их не столько даже добрыми словами, сколько благосклонными мановениями. Что поделаешь, успокаивал я свою совесть, уж если всамделишный кронпринц не мог вернуть коня несчастным людям, так где уж мне, мнимому шурину короля, бороться с жестокими нравами войны?
Мы прибыли в Спенкур кромешной ночью. Все окна были освещены — верный знак, что свободных комнат здесь не найти. Никуда-то нас не впускали: жители не хотели новых постояльцев, постояльцы — новых соседей. Но наш гусар бесцеремонно вторгся в один из домов и, увидев там нескольких греющихся у очага солдат из корпуса эмигрантов, потребовал, чтобы они дали место тем важным господам, которых он сопровождает. Мы не замедлили проникнуть вслед за ним. Солдаты любезно потеснились, но вскоре опять расселись в самых странных позах, подставляя задранные ноги теплу раскаленных угольев, Время от времени они вскакивали, пробегали несколько шагов по комнате и опять усаживались поближе к очагу; тут я заметил, что все они заняты просушкой замокших снизу гамашей.
Присмотревшись, я признал в них знакомцев. Это были те самые солдаты, которые сегодня утром так аккуратно шлепали по грязи рядом с нашей каретой. Прибыв раньше нас, они успели счистить и смыть глину со своей амуниции и теперь сушились, чтобы завтра с должной галантностью снова тонуть в грязи изъезженной дороги. Поведение, что и говорить, образцовое, о котором следует помнить во многих житейских обстоятельствах. Я невольно вспомнил моих боевых товарищей, возмущавшихся приказом командования о поддержании необходимой чистоты в войске.
Умный и ловкий Лизёр устроил нас как нельзя лучше, но этим не довольствовался. Басня, так успешно подействовавшая сегодня днем, была им дерзко повторена и ночью. Звание генерала и свойство с королем произвели и на этот раз должное впечатление. Мы выжили из комнаты с двумя кроватями целое отделение несчастных солдат-эмигрантов, заселив ее двумя офицерами из полка фон Кёлера. Я же вышел из дома и направился в свой старый проверенный дормез, дышло которого на сей раз было повернуто в сторону Германии, что навело меня на совсем особые размышления, быстро прервавшиеся глубоким забытьем.
12 октября.
Сегодняшний путь был тягостнее вчерашнего. Чаще падали вконец заезженные лошади и лежали, бездыханные, по обочинам дороги вместе с опрокинутыми каретами. Из разорванных верхов грузовых фур выпадали прелестные саквояжи — собственность эмигрантского корпуса. Изящный вид этих ярких ничейных вещиц пробуждал собственнический инстинкт у иных вояк, не страшившихся обременить себя дополнительной ношей, которую они вскоре сами же сбрасывали в канаву. Отсюда, надо думать, и возникли темные слухи, будто пруссаки грабили эмигрантов во время ухода из Франции.
Веселых рассказов на эту тему было немало: застрявшая в грязи тяжело груженная фура эмигрантов была брошена посреди дороги. Солдаты подошедших подразделений заинтересовались ее содержимым; особенно привлекли их ящички средней величины, но немалого веса, — уж не золото ли? С великим трудом дотащив их до первого привала, они порешили поделить между собой ценную добычу. Но что такое?! Из ящичков выпадает несметное количество карточных колод. Незадачливым золотоискателям пришлось утешиться взаимным подтруниванием и задорными издевками.
Мы же, минуя Лонгюйон, продвигались к Лонгви; радуясь тому, что не только светлые воспоминания меркнут в неблагодарной памяти, но и картины отвратительных ужасов постепенно гаснут в людском воображении. К чему повторяться! Дороги не делались лучше. По-прежнему вызывали омерзение лошадиные трупы с вырезанными кусками мяса. По-прежнему валялись раздетые донага тела убитых, иные едва скрытые от нас придорожным кустарником, другие простертые по обочинам.
Тут мы свернули в сторону, что дало нам случай отдохнуть и немного прийти в себя, а заодно и призадуматься над печальной судьбою состоятельных и благонамеренных горожан, попавших в переплет нежданных бедствий и ужасов военной невзгоды.
13 октября.
Наш проводник не хотел посещать своих богатых родственников в разоренном крае, почему мы направились в объезд через красивый и благоустроенный городок Арлон, где мы, заранее возвещенные нашим гусаром, нашли дружественный прием у людей солидных и зажиточных, в хорошо построенном и обставленном доме. Добрые люди обрадовались долго пропадавшему родственнику, верили в его исправление, усматривая явное поощрение и даже предстоящее ему повышение по службе в возложенной на него почетной задаче вывезти нас из опасного хаоса в двух каретах, запряженных столькими лошадьми, а заодно и наши большие деньги и драгоценности, в каковые он заставил уверовать простодушных родственников. Надо сказать, и мы поддержали его наилучшими отзывами, хотя в душе не слишком верили в исправление блудного сына. Но, будучи ему стольким обязанными, мы никак не могли поставить под сомнение обретенное им благонравие. Продувной малый так сумел подольститься к нежным родичам, что даже удостоился немалого денежного подарка, и притом в звонком золоте. Мы же тем временем насладились отменным холодным завтраком и превосходными винами, стараясь на расспросы хозяев, потрясенных всем происходившим, давать елико возможно успокоительные ответы, в частности, и о том, что предположительно должно было произойти в ближайшем будущем.
Перед домом мы обратили внимание на странные повозки, более длинные и даже высокие, чем обычные грузовые фуры, и к тому же с какими-то непонятными пристройками по бокам. Меня разобрало любопытство, и я позволил себе спросить, что это такое. Мне ответили доверительно, но как-то осторожно: «В фуре находится эмигрантская печатня, фабрикующая фальшивые ассигнации, а это источник нескончаемых бедствий для всей нашей области. Мы и раньше-то не жаловали ассигнаций, а теперь, после вступления союзных войск, пустили в обращение еще и эти, поддельные. Благоразумное купечество, не желая опростоволоситься, нашло способ тотчас же переправить в Париж этот подозрительный бумажный товар и получило официальное подтверждение его фальшивости. Но это тем более подорвало всякую торговлю: ведь если подлинные ассигнации — риск, то фальшивые — полный разор, а поскольку на первый взгляд фальшивые ничем не отличаются от нефальшивых, то никто толком не знает, чем платить и что получать». Дух сомнения, взаимного недоверия и страха распространился теперь и на Люксембург и Трир, — словом, трудно себе представить худшее бедствие.
Все беды, былые и только еще предстоящие, эти люди встречали с истинным достоинством, дружелюбием и благожелательностью, чему мы не могли не подивиться, хотя отсвет этих высоких чувств нам и был знаком по величавым французским драмам давних и новых времен. Ничего подобного мы не можем себе даже вообразить в нашем отечестве — ни в действительности, ни в ее поэтическом воссоздании. Если пьеса «Petite Ville»[14], быть может, и пошловата, то «Немецкие провинциалы» абсурдны.
14 октября.
Из Арлона в Люксембург мы ехали, к приятному нашему удивлению, прекрасной шоссированной дорогой. В крепость, некогда так надежно охраняемую, нас впустили, как в любую деревушку. Никем не окликнутые и не остановленные, мы изнутри осмотрели бастионы, валы, рвы, подъемные мосты, стены, ворота. Всем прочим мы предоставили распоряжаться нашему бравому гусару, который надеялся здесь отыскать своих родителей. Город был переполнен ранеными и больными, а также энергичными людьми, желавшими здесь отдохнуть, привести в пригодность свои экипажи и обзавестись более резвыми лошадьми.
До сих пор мы все держались вместе, но здесь нам предстояло расстаться. Наш ловкий квартирмейстер нашел для меня удобную комнату, в высокие окна которой проникало достаточно света из узкого дворика, в каковой она выходила. В ней Лизёр прекрасно устроил меня с моими пожитками и вкратце рассказал о хозяевах и прочих жильцах этого домика, заверив, что за малую плату меня будут терпеть здесь, сколько мне заблагорассудится, позаботятся и о моем благополучии.
Я впервые мог открыть мой сундучок, стать обладателем моих вещей, денег и рукописей. Первым делом я привел в порядок бумаги, касавшиеся учения о цвете, руководствуясь правилом: всемерно расширять свои исследования и совершенствовать положенный в их основу научный метод. К моему военному дневнику меня не тянуло; несчастливый ход событий заставлял опасаться худшего, так стоит ли бередить свои раны! Тихая комнатка, удаленная от житейского шума, предоставляла простор для сосредоточенных размышлений, не хуже чем монашеская келья, но стоило только ступить за порог укромного дома, как ты вновь оказывался в сутолоке военного времени и мог сколько угодно бродить по городу, самому странному и занятному, какой только можно найти на свете.
15 октября.
Кто не видел Люксембурга, не может составить себе должного представления об этом крепостном сооружении, распластанном вширь и вздыбленном ввысь, бастион над бастионом. Воображение теряется, пытаясь восстановить картину невиданного многообразия, с которым никогда не освоится взор праздного пешехода. Нужно иметь под руками карту и четко вычерченный план, чтобы сколько-нибудь разобраться в нижеследующем.
Между скалами и вокруг скал вьется ручей, именуемый Петрусом; потом он сливается с другой рекой, Эльце. Он течет то по своему естественному руслу, то направляясь в искусственно вырытые каналы. На левом берегу, на высоком плато, расположен старый город. Со своими крепостными строениями он с равнинной стороны подобен любому укрепленному месту. Однако, обеспечив безопасность города с запада, сочли необходимым защитить его также и с той стороны, где река течет в глубоком ущелье. Военное искусство все совершенствовалось, и пришлось возводить все новые и новые бастионы также и на правом берегу — на севере, востоке и юге, притом преимущественно на выступах скал, все более выносящих вперед разраставшийся город, — все эти укрепления были необходимы для взаимной их защиты. Так возникла необозримая цепь бастионов, редутов, серпов, полумесяцев, ломаную линию которой оборонительное искусство создает лишь в редчайших случаях.
Нет ничего более удивительного и странного, чем вид узкой и тесной долины, по которой течет река, проходящая между всеми этими крепостными укреплениями. Немногие ровные места долины, пологие спуски и некрутые подъемы покрыты садами, расположенными террасами, оживленными жилыми домиками и беседками. Глядя отсюда вверх, видишь слева и справа крутые скалы, высокие отвесные стены. Великое здесь счастливо соединяется с изящным, разумно взвешенное — с прельстительным; можно было бы только пожелать, чтобы сам Пуссен проявлял свой великолепный талант именно в подобной величаво-пленительной обстановке.
У родителей нашего шалопая-проводника был садик, расположенный на склоне горы в Поповской долине; они охотно разрешили мне пользоваться им. Находившиеся неподалеку церковь и монастырь оправдывали наименование этого Элизиума и обещали добронравным жителям покой и мир, хотя всякий взгляд, брошенный вдаль и ввысь, тотчас же напоминает о войне, о насилии и гибели.
Какое же счастье было в эти дни бежать в тенистую тишь из городской сутолоки, где разыгрывался ужасный эпилог войны, с его лазаретами, изуродованными человеческими телами, разбитыми фурами, поврежденными лафетами, колесами, осями, с его неизбывной нуждой и разрухой. Как хочется уйти с людных улиц, где каретники, кузнецы и другие ремесленники трудятся неутомимо и шумно, и спрятаться в малый садик вдоль Поповской долины. Здесь человек обретает вожделенный покой и возможность сосредоточиться, собраться с мыслями.
16 октября.
Многообразие громоздящихся друг над другом крепостных сооружений превосходит все мыслимые представления. Куда ни ступишь, пусть только на шаг, вперед или назад, вверх или вниз — вся панорама мгновенно меняется, пробуждая желание запечатлеть на бумаге хоть что-нибудь из необъятного. Как не могла не очнуться во мне стародавняя потребность, если учесть, что я уже столько недель не видал ничего, достойного увековечения. Особенно бросалось в глаза, что стоявшие друг против друга скалы, могучие стены и бастионы соединялись, вершина с вершиной, подъемными мостами, галереями и другими диковинными сооружениями. Военный инженер — тот стал бы смотреть на это глазами причастного фортификационному искусству и оценивая острым взглядом солдата эту твердыню, радуясь ее прочности; я же мог разве лишь уловить живописный ее эффект и, конечно, охотно поупражнялся бы в умении точно передавать увиденное, если б не строгий запрет что-либо рисовать в крепости.
19 октября.
Проведя несколько дней в городе-крепости, где, соперничая друг с другом, сотворенные природою скалы и военные сооружения создавали неодолимые препоны и непроходимые ущелья, а рядом с ними насаждались деревья и разбивались сады с тенистыми беседками, я исходил немало дорожек, предаваясь мечтам и раздумьям, а потом, возвратившись домой, запечатлевал на бумаге виды города, как они постепенно слагались в моем воображении, — пусть несовершенные, но все же передающие необычный, диковинный город и воскрешающие в памяти мое тогдашнее настроение.
20 октября.
Времени было достаточно, чтобы обдумать недавнее прошлое, но чем больше я думал, тем больше путались мысли и затуманивалось будущее. Я вполне сознавал, что главное теперь — готовиться к тому, что нам предстояло. Нужно проехать несколько миль, отделявшие нас от Трира. Но что нас там ожидало теперь, когда господа эмигранты следуют за нами по пятам вместе с новыми беглецами.
Однако самым горестным известием, наполнявшим гневом фурий даже сердца смиренных праведников, явилось известие, которое никак нельзя было скрыть, а именно то, что наши высшие военачальники все время вели переговоры с проклятыми подстрекателями, которых пресловутый манифест обрекал заслуженной каре, а свершенные дела изобличали их как злодеев. И в их руки теперь приходилось передавать взятые нами крепости только для того, чтобы обеспечить себе возвращение на родину. Я видел иных среди нас, уже близких к умопомешательству.
22 октября.
На пути в Трир, подъезжая под Гревенмахерн, я ничего не застал от былого скопища роскошных карет эмигрантов. Голое поле, вкривь и вкось испещренное глубоко врезавшимися в размокшую почву следами от широко расставленных колес, молчаливо напоминало о тогдашнем скитальческом нашем существовании. Мимо почтовой станции я проехал, не останавливаясь, на моих реквизированных лошадях. Памятный почтовый ящик стоял на прежнем месте, но вкруг него люди теперь не толпились, и во мне сами собой шевельнулись незваные скорбные мысли.
Но вот прорвавшийся солнечный луч внезапно озарил всю округу, и, как маяк в беспросветную ночь, блеснул мне навстречу монумент Игеля.
Быть может, никогда величие древнего мира не воздействует так властно на наше чувство, как в сопоставлении с невзрачной действительностью сегодня. Этот монумент свидетельствует об отшумевшей войне, но более счастливой, победоносной, о днях прочного, длительного благосостояния предприимчивых людей вот в этой местности.
Воздвигнутый в позднейшие времена Антонидов, он все же сохранил бесценные качества великого искусства, и его, хоть и поврежденные, остатки внятно говорят нам о чувстве радостно-деятельной жизни. Он надолго приковал меня к себе, и я многое внес в мой путевой дневник, неохотно с ним расставаясь, уже потому, что так неважно чувствовал себя в моем жалком положении.
Но и теперь всплыло в душе моей радостное предвидение, вскоре превратившееся в непреложную действительность.
23 октября.
Мы привезли нашему другу лейтенанту фон Фричу, которого мы застали на его прежнем, столь ненавистном ему тыловом посту, радостную весть о награждении его орденом «За заслугу» — по праву, ибо он совершил геройский поступок, но и по везению, так как он удостоился высокой награды, не испив той горькой чаши, которую всем нам пришлось осушить. Вот как обстояло с этим делом.
Французы считали, что мы, довольно далеко зайдя в пределы их родины, находимся далеко от Трира, претерпевая великие бедствия, и потому отважились нанести непредвиденный удар по нашему тылу; они приближались к городу со значительными силами и даже с артиллерией. Лейтенант фон Фрич во главе малочисленного отряда идет навстречу неприятелю. Такая бдительность смущает французов и наводит их на мысль, что вслед за головным отрядом обрушится на них великое войско. После короткой стычки противник отступает к Мерцигу и больше уже не появляется. Лошадь нашего друга ранена, и та же пуля задевает его сапог; зато он возвращается победителем и удостаивается торжественной встречи. Магистрат и жители города осыпают его любезностями. Девушки, до того благоволившие к нему как к красивому молодому человеку, вдвойне восхищаются им как героем.
Лейтенант тотчас же пишет реляцию своему начальнику, а тот, как положено, сообщает обо всем происшедшем королю: и отсюда — указ о пожаловании ему голубой звезды. Быть свидетелем безмерного счастья славного юноши, переживать вместе с ним его великую радость было истинным наслаждением. Счастье, нас не жаловавшее, посетило его в нашем тылу. Он был с лихвою вознагражден за беспрекословное солдатское повиновение, казалось бы, приковавшее его к бесславной тыловой службе.
24 октября.
Мой юный друг опять поселил меня у того же каноника. Распространившаяся в войсках болезнь отчасти коснулась и меня, так что и я теперь нуждался в уходе и лекарственных снадобьях.
В тиши затянувшегося досуга я сейчас же обратился к кратким заметкам, внесенным мною в путевой дневник перед монументом близ Игеля.
Если говорить об общем впечатлении от памятника, то в нем друг другу противопоставлены жизнь и смерть, настоящее и будущее, и то и другое снимается в высшем эстетическом единстве. Таковы были суть и средства великолепного искусства древних, которое еще долго царило в художественном мире.
Высота монумента от силы достигает семидесяти футов; он вздымается ввысь чредою нескольких архитектонических ярусов, что дает некоторое основание говорить о нем как о подобии обелиска. Сначала — основание и цоколь, затем главная масса, а над нею аттик и фронтон; завершается все это чудесно взмывающим шпилем с остатками шара и орла. Каждый ярус, из которых слагается монумент, украшен рельефными изображениями и орнаментами.
Правда, это обилие украшений явно указывает на позднейшее сооружение памятника, так как таковые входят в обиход, как только утрачивается чистое чувство пропорций, в чем можно упрекнуть и это произведение искусства.
Но, невзирая на сказанное, следует признать, что этот памятник опирается на высокие достижения былого искусства, эпоха коего только незадолго до того стала склоняться к своему упадку. Вообще же во всех изображениях монумента продолжает властвовать дух античности: всюду воссоздастся доподлинная жизнь, аллегорически сдобренная привычными представлениями, почерпнутыми из мифологии древних.
На главном его поле — две фигуры, мужчина и женщина, мощной стати — в руке главы семейства рука его супруги, а над ними парит третья, уже стершаяся, видимо, их благословляющая; они стоят меж двумя богато орнаментированными пилястрами, на которых расположены друг над другом танцующие дети.
Все прочие поля указуют на счастливые, взаимосогласные отношения семейства, на дружескую совместную деятельность всех родичей фамилии и обретенное их честным, согласным трудом праведное благосостояние.
Но, по сути, здесь надо всем главенствует прославление труда, неустанной деятельности; не берусь объяснять все изображения. На одном поле, видимо, представлены купцы, обдумывающие предстоящее дело. Но тем более очевидны и не допускают разногласия груженые суда, украшенные изображением дельфинов, идущие друг за другом вьючные кони, прибытие и осмотр товаров и подобные вполне привычные человеку житейские сцены.
А выше, на аттике, — мчащаяся лошадь, быть может, недавно еще везшая груженую телегу и дюжего возчика. На фризах и других плоскостях, а также на фронтоне — Вакх, фавны, солнце, луна и прочие разности, способные украсить шпиль и пилястры.
Все в целом производит отраднейшее впечатление, и мы вправе утверждать, что и на уровне, ныне достигнутом нашей архитектурой, а также изобразительными искусствами, было бы вполне возможно воздвигнуть величественный памятник достойнейшим современникам, их деяниям и благородным досугам. Мне было приятно провести в таких размышлениях день рождения всеми нами почитаемой герцогини Амалии. Я тихо отпраздновал его в полном одиночестве, перебирая в памяти труды и дни ее жизни. И тут возникло во мне страстное желание хотя бы мысленно воздвигнуть ей во славу такой же обелиск, заполнив все его плоскости до нее относящимися изображениями совершенных ею мудрых деяний и неустанной благотворительности.
Трир, 25 октября.
Выпавшие на мою долю покой и заботливый уход позволили мне привести в порядок и пересмотреть многое из того, что было мною продиктовано в беспокойно-сумбурное время. Я частию выправлял, частию заново излагал мои хроматические заметки, изрядно пополнил и уточнил мою таблицу цветов, не раз ее изменяя, дабы сообщить большую наглядность тому, что утверждалось и высказывалось мною раньше, и стремясь довести свои мысли до очевидной непреложности. В этой же связи я хотел всегда иметь под рукой третий том Фишерова «Физического лексикона». По тщательно наведенным справкам, я нашел наконец несчастную судомойку в благоустроенном лазарете при женском монастыре. Она хворала все той же столь распространившейся болезнью; но палаты были опрятны и хорошо проветрены. Она меня узнала, но не могла говорить, а только вынула из-под подушки третий том и дала мне его из рук в руки таким же чистым и нерастрепанным, каким я некогда ей вручил его. Видно, мои напутственные слова не пропали даром.
Меня навещал один молодой учитель, приносивший мне новейшие журналы, с которым я охотно вступал в содержательные беседы. Он крайне удивлялся, как многие другие, что я будто и вовсе не интересуюсь поэзией и, как казалось, все свои силы обратил на познание природы. Он основательно был знаком с Кантовой философией, и это мне облегчило объяснить ему путь, пройденный, вернее только начатый, мною. Если Кант в своей «Критике способности суждения» усматривал некую общность эстетической способности суждения с телеологической, он тем самым хотел сказать, что творение искусства надо рассматривать как творение природы и, напротив, творение природы как творение искусства и что ценность каждого из них зиждется в нем самом и в каждом из них должна усматриваться независимо от чего-либо стороннего. Говорить об этом предмете я мог весьма красноречиво и, льщу себя надеждой, не без пользы для славного молодого человека. Поразительно, что в любую эпоху люди носятся и возятся с правдой и кривдой недавнего, а то и давнишнего прошлого, и только отдельные бодрствующие умы идут новыми путями, но — увы! — в одиночестве или обретая спутника, верного тебе разве лишь на малом перегоне долгой дороги.
Трир, 26 октября.
Нельзя и шага ступить из своего тихого затвора, не очутившись в глухомани мрачного средневековья, где монастырские стены и непрерывная, хоть и необъявляемая война непрестанно противостоят друг другу. Особенно сетуют домоседы-горожане и улепетывающие эмигранты на ужасное бедствие, поразившее города и веси из-за вошедших в обращение фальшивых ассигнаций. Солидные торговые дома направили эти сомнительные расчетные знаки в Париж, чтобы выяснить их подлинность или подложность, то есть полную обесцененность таковых и даже подсудную опасность рассчитываться фальшивыми ассигнациями. Само собою, что тем самым подрывался кредит и подлинных. Все догадывались, что при изменившихся обстоятельствах легко может случиться и полное изничтожение всех бумажных денег, фальшивых и нефальшивых. Это нависшее над страной новое несчастие, в дополнение к прежним, всем казалось уже безмерным, сравнимым разве лишь с тем, когда на твоих глазах пожар испепеляет родимый город.
Трир, 28 октября.
Табльдот, надо сказать, вполне приличный и даже разнообразный, был очень пестр и разношерст по составу посетителей: военные в разновидных мундирах всех цветов, чиновники в своих вицмундирах разных ведомств, все втихую чем-то недовольные, а подчас и несдержанные на язык, но вкупе все без исключения пребывающие в одном и том же аду.
Но именно здесь мне довелось пережить истинно трогательную случайную встречу. Старый гусарский офицер, среднего роста, с поседевшими усами и такой же головой, подошел ко мне после обеда, схватил меня за руку и спросил, неужели же и я все это выстрадал вместе с другими? Я рассказал ему кое-что о Вальми и о Ане, что дало ему возможность представить себе все остальное. Он заговорил с энтузиазмом и живым участием, в словах, которые я не решаюсь даже доверить бумаге. Смысл его речи сводился к тому, что было безответственным подвергать таким испытаниям и тех, чьим солдатским долгом является, рискуя жизнью, претерпевать такие беды, равных которым не знает история; но то, что и я (он высказал свое мнение обо мне как личности и о моих работах) должен был пережить такое, с этим он никак не мог примириться. Я попытался отозваться о пережитом с более отрадной стороны. Заговорил о моем государе, которому я был и там небесполезен, о том, что охотно разделял суровое испытание со смелыми боевыми товарищами. Но старый рубака стоял на своем. Тут подошел к нам кто-то из цивильных и заявил, что надо меня благодарить за то, что я пожелал все это видеть воочию, ибо от моего испытанного пера только и можно ждать достоверного воссоздания и объяснения происшедшего. «Он слишком умен! — воскликнул старый вояка, ничуть с ним не соглашаясь. — Писать то, что ему дозволят написать, он не захочет, а писать, что он хотел бы высказать, ему не удастся».
Впрочем, все, что доводилось слышать, подтверждало, что возмущение было безграничным. Но если бывает подчас несносным, когда счастливчик беспрестанно толкует нам о своем блаженстве, то стократ противнее, когда не устают пережевывать постигшую нас беду, которую ты хотел бы предать забвению. Знать, что ненавистные тебе неофранки вытеснили нас из своей страны, знать, что мы вынуждены вести с ними переговоры, вынуждены дружить с людьми Десятого августа, вот с чем не мирилась возмущенная душа, вот что было горше перенесенных страданий. Мы не щадили и верховного командования. Доверие к знаменитому полководцу, которое окружало его имя на протяжении долгих десятилетий, казалось, рухнуло теперь навсегда.
Трир, 29 октября.
Когда мы вновь очутились на родной немецкой земле и могли надеяться, что удастся выпутаться из чудовищного клубка событий, нас поразила весть о смелом и победоносном продвижении Кюстина. Им был захвачен огромный шпейерский арсенал, что облегчило ему задачу завладеть крепостью Майнца. Его успехи грозили бесконечной чредою новых бедствий и обличали в Кюстине чрезвычайный ум, столь же смелый, сколь и последовательно-рассудительный, а коли так, что могло перед ним устоять? Всем казалось не только вероятным, но и неизбежным занятие французами Кобленца. Могли ли мы при так сложившихся обстоятельствах продолжать свой отход? Уже и Франкфурт был мысленно отдан неофранкам; под угрозой находились с одной стороны Ханау и Ашаффенбург, с другой — Кассель. А в дальнейшем чему только не будут угрожать французы? Имперские князья, чьи владения соприкасались с перечисленными городами, были парализованы бессмысленным договором о нейтралитете, но тем активнее вела себя воодушевленная идеями революции масса населения. Если Майнц поддался французскому влиянию, почему не воспламенятся теми же идеями и другие города? Что помешает и им включиться в завязавшуюся борьбу? Все это надлежало обсудить и обдумать.
Часто мне приходилось слышать: как могли французы без большого численного превосходства и тщательно обученных солдат предпринять столь решительные действия? Но первые шаги Кюстина поражали смелостью и обдуманностью; и он, и его помощники, и прочие командиры были сочтены мудрыми, энергичными и решительными мужами. Смятение умов было чрезвычайно, и эта беда среди всех уже перенесенных забот и страданий была бесспорно величайшей.
Среди этих невзгод и треволнений до меня дошло запоздалое письмо моей матери — послание, чудесным образом воскрешавшее ребячески-беспечные и фамильно-правовые порядки былого времени. Умер мой дядя, главный судья Текстор, близкое родство с которым меня лишало при его жизни возможности занимать почетно-деятельную должность франкфуртского ратсгерра, но теперь, в силу достохвального обычая, обо мне тотчас же вспомнили, как о лице, имеющем ученую степень и преуспевшем на служебном своем посту.
Моей матери поручили запросить меня, согласен ли я выставить свою кандидатуру и занять должность ратсгерра, если я получу при голосовании заветный золотой шар? Я был смущен. Запрос этот не мог меня застать в более странный миг моей жизни, как именно в этот, когда я упорно думал о пройденном жизненном пути. Передо мной всплывали образы, не дававшие сосредоточиться моей мысли. Но подобно больному или узнику, стремящемуся развлечься старой сказкой, перенесся и я в другую сферу, в другие, давно минувшие годы.
Я увидел себя в дедовском саду, где среди шпалер плодоносных персиковых деревьев аппетит его внука сдерживался только силою строгой угрозы быть изгнанным из этого рая и надеждой получить из рук моего предка самые румяные из плодов; иначе б я не выдержал медлительности часовой стрелки. Потом вспоминался мне мой сановный дедушка, ухаживавший за розами в старинных перчатках, чтобы не наколоться на острые шипы. Перчатки эти презентовались ему как главе города-республики в знак необложения Франкфурта имперскими налогами; дед напоминал мне благородного Лаэрта, но, в отличие от него, отнюдь не тоскующего и не удрученного. Видел я его и в полном облачении городского шультгейса, с золотою цепью, на тронном кресле под портретом императора; а потом в кресле-качалке — увы! — не в полном уже обладании разумом, а там — в последний раз — и в гробу.
Проезжая сравнительно недавно через Франкфурт, я видел дядюшку владельцем унаследованного дома, двора и сада; достойный сын своего родителя, он, подобно отцу, занимал теперь одно из первых мест в управлении городом. Здесь, в тесном семейном кругу, в почти не изменившемся старом доме ожили мои детские воспоминания и, вновь окрепши, предстали перед моим внутренним оком. Но потом к ним присоединились представления и мечты, относящиеся к годам моей юности, о которых тоже не следует умалчивать. Какой гражданин вольного имперского города станет утверждать, что он не надеялся, раньше или позже, стать ратсгерром, главным судьей, или бургомистром, или же, на худой конец, занять хотя бы меньшую должность в городской управе, добившись ее служебным усердием и осмотрительной аккуратностью; ибо сладостная надежда так или иначе участвовать в управлении вольным городом рано пробуждается в груди каждого республиканца, сильнее же и более самонадеянно — в мальчишеском сердце честолюбивого отрока.
Долго предаваться мальчишечьим сладким грезам мне не пришлось. Я вдруг очнулся, как от резкого толчка. Меня объяло предчувствие предстоящих бедствий в тех самых местах, куда унесло меня воображение. Что-то стеснило и придавило меня и заодно заволокло туманом мой город, мою родину. Майнц был уже взят французами. Франкфурт под угрозой, если еще не захвачен; дорога к нему перекрыта. А внутри городских стен, на улицах и площадях, в знакомых домах и квартирах, жили мои кровные родичи и друзья детства, быть может, уже терпящие те невзгоды, которые так жестоко обрушились на жителей Лонгви и Вердена. Кто ринется добровольно в эту бездну злосчастия?
Но и в счастливейшую пору этого почтенного города я не откликнулся бы положительно на столь почетную пропозицию. Причины, тому препятствующие, слишком убедительны. Уже двенадцать лет я имею счастье пользоваться доверием и снисходительностью герцога Веймарского. Щедро одаренный природой и превосходно воспитанный и просвещенный, государь умел ценить мою благонамеренную, но далеко не всегда безукоризненно исполнительную службу и всемерно содействовал совершенствованию моих способностей, как едва ли какой-либо другой носитель верховной власти. Я был ему безгранично благодарен, глубоко почитал супругу и мать моего государя и все его семейство; привязался душой к его стране, для коей я и сам сделал немало. А как мне было не вспомнить об обретенном мною там, в Веймаре, круге высокообразованных друзей и о многом другом, отрадном и достойном любви в теснейшем моем окружении. Все эти милые образы и чувства меня утешили в эту скорбную минуту: ведь ты уже наполовину спасен, если из мрачных обстоятельств чужого края можешь бросить просветлевший взор в сторону благополучной родины; тем самым мы переживаем уже здесь, на земле, то, к чему нам предстоит приобщиться в сферах потусторонних.
В этом-то роде я тут же написал письмо моей матери, и хотя мои доводы в основном базировались, как могло показаться, лишь на моих чувствах и на заботах о личном моем благополучии, но я прибавил к ним и другие, предусматривавшие благо родного города и способные убедить также и моих благожелателей. Ибо как мог я деятельно участвовать в этом весьма своеобычном новом кругу, предполагающем бо́льшую подготовку, чем какой-либо другой значительный пост? Я уже много лет приспосабливал мою службу к моим прирожденным способностям, и притом к таким, в которых Франкфурт меньше всего нуждался; более того, я имел все основания прибавить, что поскольку членами городского совета должны, собственно, быть только бюргеры, а я так отвык сознавать себя таковым, то уже смотрю на себя почти как на чужеземца.
Всем этим я поделился с моей матерью, благодаря ее за посредничество, да она ничего другого и не ожидала. Впрочем, это письмо попало в ее руки очень не скоро.
Трир, 29 октября.
Мой молодой друг, с которым я с удовольствием обсуждал многоразличные литературные и научные вопросы, был весьма сведущ и по части истории города и его окрестностей. Наши прогулки в сносную погоду были поэтому очень занимательны, и я вынес из них немало общих сведений об этом примечательном крае.
Что касается Трира, то он, со слов его же обитателей, прежде всего отличается относительно большим обилием зданий церковно-монастырского и орденского назначения сравнительно с другими городами примерно такой же величины. И то сказать, внутри пространства, окруженного городской стеной, Трир перенасыщен, почти перегружен церквами, часовнями, монастырями, богоугодными заведениями, духовными коллегиями, монастырскими братствами и орденскими зданиями, в том числе и монашествующих рыцарских орденов, да и в его округе, за городской стеной, его окружают, я чуть не сказал: осаждают, разные аббатства, обители и даже скиты.
Все это свидетельствовало о великом земельном пространстве, которым отсюда управлял архиепископ, ибо его епархия охватывала и Мец, и Туль, и Верден. Но и князья-миряне не знали недостатка в обширных прекрасных владениях: так курфюрст Трирский обладал чудесной летней резиденцией, расположенной на обоих берегах Мозеля, да и в самом Трире высилось много дворцов, доказующих, что и светская власть в разные эпохи располагала и вглубь и вширь немалыми территориями.
Основание города затерялось во тьме баснословных времен; надо думать, что эта прелестная местность уже в седую старину заманила сюда множество поселенцев. Тревиры приобщились к Римской державе; поначалу язычники, потом христиане, они подпадали под власть норманнов, а позднее франков, и, наконец, этот дивный край вошел в состав Германо-Римской империи.
Я, само собой, хотел бы ознакомиться с этим городом и его жителями в лучшее время года и в мирной обстановке; его граждане, по общему признанию, славились своим добродушием и весельем. Первое качество изредка сказывалось и теперь в их обиходе, второе — почти никогда, чему удивляться не приходилось: откуда ему и было взяться при столь превратных обстоятельствах.
Правда, стоит только заглянуть в летописи этого города, и неизбежно встретишься с повторными упоминаниями о пагубных разорениях и невзгодах, нанесенных войной этому краю, поскольку долина Мозеля, да и сама река облегчали продвижение вторгавшимся полчищам. Еще Аттила с его несметной ордою шел с далекого востока этим же путем — как при всех ошеломившем его вторжении, так и при вынужденном его уходе — словом, совсем как недавно поступали и мы. А чего только не натерпелось население этих мест в Тридцатилетнюю войну, когда курфюрст трирский присоединился к Франции, своему соседу и союзнику, за что он расплатился долгим пребыванием в австрийском плену. Да и междоусобицами не раз переболел этот город, как то обычно случалось в городах, подвластных епископам, с чьей духовно-светской верховной властью бюргер не так-то легко уживался.
Мой вожатый, посвящавший меня в историю города, обращал мое внимание на здания, воздвигнутые в самые разные эпохи, каковые чаще производили впечатление курьеза, тем и будучи примечательными, но отнюдь не отвечали запросам вкуса — в отличие от ранее обсуждавшегося мною монумента в Игеле.
Развалины римского амфитеатра показались мне весьма внушительными. Но поскольку само здание давно обрушилось и, надо полагать, в течение ряда веков служило как бы каменоломней, судить о нем невозможно. Восхищало в нем только то, как древние, с присущей им мудростью, умели осуществлять великие замыслы достаточно скромными средствами, используя естественный рельеф местности — долину, зажатую двумя холмами, что счастливо избавляло зодчего от многих дорогостоящих лишних земляных работ и от заложения объемистого фундамента. Если подняться повыше по горе Марса, у подножия которой громоздятся эти груды разрозненных каменьев, открывается вид на монастырские соборы, где хранятся в искусно сработанных драгоценных раках святые реликвии, а также на другие церкви и церквушки, крыши и навесы. Все это — на противостоящей Марсовой Аполлоновой горе. Так оба бога, а возле них и Меркурий, хранят свои имена в народной памяти. Их мраморные изваяния можно было убрать, но их дух, их священное дыхание не поддавалось устранению.
Для ознакомления с зодчеством раннего средневековья Трир располагает множеством диковинных памятников. Я в них не очень-то разбираюсь; да они, насколько я заметил, мало задевают за живое просвещенного туриста. Многое из этой старины бесследно скрылось под землей, другое сохранилось только частично и пошло случайным владельцам на совсем другую, изначально не предусматривавшуюся потребу.
Через большой мост, тоже сооруженный в римские времена, мне посчастливилось впервые перейти в час, когда всего нагляднее видишь, как этот город, возникший на остром углу суши, нацеленном на левый, противоположный берег Мозеля, стал, постепенно разрастаясь, заполнять весь неправильный треугольник отмели, впирающейся в широкий плес судоходной реки. С подножия горы Аполлона отчетливо видишь всю окрестность: реку, мост, мельницы, город и еще не вовсе лишенные листвы виноградники — как у нас под ногами, так и на малых высотах Марсовой горы насупротив. Вся эта панорама явственно напоминает, что мы находимся в благодатном краю, и пробуждает в сердцах чувство довольства и веселья, которое всегда парит в самом воздухе винодельческой страны. Лучшие сорта мозельских вин после знакомства с ландшафтами края обрели, так кажется, более прелестные и чудодейственные свойства.
Трир, 29 октября.
Сегодня прибыл государь, избрав себе резиденцией монастырь св. Максима. Богатые и обычно утопавшие в роскошном довольстве виднейшие представители монастырской братии были, что и говорить, уже не раз в последнее время несколько обеспокоены в своем беспечальном житии. У них недолго стояли братья несчастного короля, и с тех пор постои не прекращались. Такая обитель, порожденная потребностью в мире и покое и на другой образ жизни не рассчитанная, заметно преобразилась сообразно обстоятельствам, и противоположность рыцарских и монастырских нравов тут не могла не обнаружиться. Но наш герцог и здесь, хотя и будучи незваным гостем, сумел, как всегда и повсюду, завоевать симпатию хозяев богоспасаемого убежища своею щедростью и простодушной общительностью, и, более того, он распространил их симпатию и на своих приближенных.
Но меня и здесь продолжал преследовать злобный демон военных невзгод. Наш добрый полковник фон Гош тоже жительствовал в монастыре. Я свиделся с ним ночью у одра больного сына, страдавшего все той же повальной напастью, и притом в тягчайшей форме; отец усердно ухаживал за ним. Здесь мне снова пришлось услышать ту же скорбную песню, сдобренную страстными проклятиями, из уст старого солдата и огорченного отца. Он осуждал все ошибки и упущения, допущенные нашим командованием, и притом со знанием военного ремесла; помянул он недобрым словом и позорно упущенный нами Ислетти, и все, кому было ведомо значение этой ключевой позиции, вполне понимали его возмущение.
Я же радовался возможности ближе присмотреться к аббатству и вполне оценил истинно княжеский дворец епископа-настоятеля — эти царственные чертоги, высокие и просторные, с искусно сложенными из мраморных или древесных плит полами. Не было здесь недостатка ни в шелковой обивке, ни в дамасских панелях, ни в резных или лепных украшениях, а также в позолоте, словом, во всем, чем поражают взор пышные чертоги и покои. И все это дважды и трижды повторялось в огромных зеркалах парадных помещений.
Лицам, нашедшим убежище во дворце настоятеля, жилось отлично. Но для лошадей явно не хватало конюшен, так что иным из них пришлось жить под открытым небом, без подстилки, без яслей и корыт. К тому же, на беду, прохудились мешки для овса, и лошади подбирали его с земли.
Но если конюшни были невместительны, то тем вместительней и просторней были монастырские погреба. Кроме плодов со своих виноградников, монастырь взимал десятину и с крестьянских. За последние месяцы было выпито великое множество бочек, судя по опорожненным, валявшимся во дворе.
30 октября.
Герцог давал парадный обед, к каковому были приглашены три наиболее знатные особы, представлявшие Римскую церковь. Они предоставили нам в пользование чудесное столовое белье и великолепный фарфоровый сервиз. Серебро было представлено скупее, так как все сокровища и драгоценности обители хранились в тайниках Эренбрейтштейна. Блюда были отменно приготовлены веймарскими поварами. Вина, прибывшие из Люксембурга, которые должны были следовать за нами во Францию, пришлись нам очень по вкусу. Но наивысшей похвалы удостоился дивный белый хлеб, невольно заставивший нас вспомнить об отвратном солдатском хлебе, знакомом нам по Ану.
В те дни я усердно занимался историей Трира, тем самым, разумеется, и историей аббатства св. Максима, почему я и мог с честью поддержать разговор с моим соседом, ученым католическим богословом. Древность прославленной обители послужила нам предпосылкой беседы и дала мне возможность заговорить о славе и превратностях ее судеб. Близость монастыря от города была равно опасна для обеих сторон. В лето 1674 монастырь был сожжен и начисто разграблен. О том, как его восстановили и как он постепенно обрел свое нынешнее обличье, мне также было известно. Касательно этого можно было высказать немало добрых слов и похвал, что доставило очевидное удовольствие моему рясоносному соседу. О новейших временах он не проронил ни одного одобрительного слова: он-де достаточно нагляделся на французских принцев и высказался с осудительной резкостью о их бесчинствах, заносчивости и мотовстве.
Чтобы отвлечь его от этой темы, я вновь обратился к седой старине. Но только я упомянул о славных временах, когда настоятель св. Максима уравнял свой сан и светскую власть с саном и правами трирского архиепископа, и о том, что он даже входил в состав высшего совета имперских сословий, как мой собеседник с улыбкой отклонил затронутый мною вопрос, как несовместный с духом нового времени.
Заботы герцога о полке, шефом коего он состоял, получили определенную, вполне деловую направленность. Убедившись, что тяжело больных никак нельзя везти в санитарных телегах или экипажах, он зафрахтовал корабль, чтобы на нем, без ущерба для здоровья, доставить их в Кобленц.
Но кроме лежачих больных на борт корабля были приняты, уже по другой причине, и другие воины. Дело в том, что во время нашей ретирады довольно скоро обнаружилось, что пушек при наличествующей конной тяге никак не вывезти. Артиллерийские лошади падали одна за другой, а замены им не было. Кони, реквизированные еще при наступлении, частично разбежались и сгинули. Пришлось прибегнуть к крайней мере: выделить из каждого кавалерийского полка известное число людей, спешить их и велеть им впредь следовать за армией пешим ходом — иначе не спасти уцелевших пушек. В своих жестких, негнущихся кавалерийских сапогах, к тому же вскорости прохудившихся, бедные парни, шагая по ужасному месиву дорог, страдали безмерно. Но судьба сжалилась и над ними. Герцог приказал в Кобленц доставить их речным транспортом.
Ноябрь.
Государь мне препоручил нанести от его имени прощальный визит маркизу Луккезини и заодно кое-что обсудить с ним. Поздним вечером, не без некоторых препирательств с прислугой, я был допущен к этому, некогда ко мне благоволившему, замечательному человеку. Изящная любезность и приветливость, с какою он меня встретил, меня обрадовала и обнадежила, чего нельзя сказать об его ответах на мои вопросы и о том, как он откликнулся на мои пожелания. Простился он со мной все так же дружески-приветливо, но ни в чем не пошел мне навстречу. По правде сказать, я от него и не ждал ничего другого.
Насмотревшись на сборы и отъезд тяжело больных, а также безлошадных кавалеристов, я и сам почувствовал, что умнее всего было бы искать спасение в водной глади. Правда, очень не хотелось оставлять здесь мою карету, но мне обещали доставить ее в Кобленц, а потому, ободренный этим заверением, я смело нанял двухвесельную лодку, в которую тут же погрузили все мои пожитки, чем я был вдвойне доволен, так как не раз считал их уже утраченными или же опасался их утратить. Принял я на борт своего судна и молодого прусского офицера, давнего знакомого, которого помнил еще пажом. Он и теперь еще не утратил своей придворной обходительности и даже припомнил, что всегда самолично презентовал мне чашку послеобеденного кофе.
Погода была сносной, и плыли мы спокойно, тем более ценя свое благоденствие, видя, как мучительно продираются наши колонны, одолевая проселочную дорогу, время от времени приближавшуюся к речному руслу, и как они завязают в размытой дождями глине. Уже в Трире мы наслышались жалоб на то, что при таком поспешном отступлении становится все затруднительнее отыскивать сносные пристанища. Сплошь и рядом случается, что полк, подходя к селению, предназначавшемуся ему для ночевки, находит его занятым другою частью, — и отсюда то и дело возникавшие яростные споры, беспорядки и в результате общее недовольство.
Прибрежный ландшафт Мозеля за время плавания часто разительно преображается. Хотя река с упорным упрямством и придерживается главного своего направления с юго-запада к северо-востоку, она как-никак должна считаться с тем, что течет она вдоль каверзной гористой местности и что ее то и дело теснят то справа, то слева мощным углом врезающиеся в речную гладь кремнистые горы, почему продвигаться вперед можно, только не переставая змеиться гигантскими петлями. Такое плавание посильно лишь истинному мастеру своего дела. Наш гребец превосходно проявлял свою силу и ловкость: осторожно огибал выступающий утес и тут же смело ускорял бег ладьи, искусно используя мощь потока, низвергающегося с отвесной скалистой махинищи. Множество селений по обе стороны реки оживляют прибрежную местность; всюду отлично ухоженные виноградники говорят о том, что здесь проживает веселый, работящий народ, не страшащийся лишнего труда ради добычи пленительной влаги. Использован каждый солнечный пригорок, но особенно привлекли наше внимание отвесные скалы на берегу Мозеля, на узком земляном ободке которых, как на террасе, сооруженной самой природой, виноград рос и зрел лучше, чем где-либо.
Мы причалили у пригожего заезжего двора, где нас тепло встретила престарелая хозяйка, которая долго жаловалась на постигшие ее горести, но особенно желала она всяческих бед ненавистным эмигрантам, которые вели себя за ее общим столом омерзительно; безбожники кидали друг в друга шариками, слепленными из мякиша богоданного хлеба, так что ей и служанкам приходилось выметать эту божью благодать вениками, проливая горючие слезы.
Так мы и плыли счастливо и не ведая страха вниз по течению вплоть до вечерних сумерек, когда мы попали в грозившую нас поглотить круговерть встречных речных течений, начинавшуюся с приближением к кремнистым высотам Монрояля. Тут мы были захвачены ночью раньше, чем достигли Трарбаха или хотя бы могли его обнаружить. Кромешный мрак — не видно ни зги. Знали мы только, что нас теснят и скалы, и прибрежные горы. А тут началась еще и буря, уж не раз возвещавшая свое приближение порывистыми налетами лютого ветра. Река то взбухала от ветра, дувшего навстречу течению, то принимала его удары, вздымавшие волны, которые, одна за другой, обрушивались на утлое наше суденышко, обдавая нас пронизывающей влагой. Гребец не скрывал своего смятения. Беда возрастала, чем дольше она продлевалась. Страх достиг предела, когда отважный лодочник признался, что и сам не знает, где он находится и какого направления ему держаться.
Наш спутник молчал, да и я замкнулся в себе. Мы неслись невесть куда в беспросветной тьме; лишь изредка мне казалось, что темень там, вдали, была чуть гуще ночного неба в нависших тучах, но то было слабым утешением, сомнительной надеждой на близость суши. Сдавалось, мы так и не вырвемся из плотного кольца отвесных берегов и одиноких скал. Мы еще долго мотались в непрореженном мраке вниз-вверх, вперед и вспять, пока вдали не забрезжил огонек и вместе с ним робкий луч надежды. Теперь мы дружно заработали рулем и веслами, пробиваясь к пристани, чему усердно содействовал и мой Пауль.
Наконец-то мы счастливо высадились в Трарбахе, где в сносной харчевне нас обещали накормить курицей с рисом. Но один именитый купец, услышавши о нашем прибытии в ночь и в бурю, настоятельно потребовал, чтобы мы заглянули в его дом, где мы при обильном свете с наслаждением, усиленным перенесенной невзгодой, чуть не растроганно созерцали английские офорты под стеклом и в искусно сработанных рамах. Хозяин и его жена, люди еще молодые, всячески нас ублажали. Было выпито много чудесных мозельских вин, особенно моим спутником — офицером, который больше других нуждался в бодрящем подкреплении.
Пауль сознался, что он уже скинул кафтан и сапоги, чтобы помочь нам вплавь добраться до берега, — задача, разве посильная ему одному.
Только мы малость пообсохли и насладились прощальным ужином, как меня уже стало разбирать нетерпение откланяться и продолжить прерванный путь. Любезный хозяин никак не хотел нас отпустить; он, напротив, настаивал на том, чтобы мы еще один день провели у них в Трарбахе, обещая нас свести на близлежащую возвышенность, откуда открывается прелестный вид на всю округу, прельщая меня еще и другими развлечениями и чудесами их домоводства. Но странное дело: когда человек вошел в колею домоседства, он никак не хочет отступать от оседлого образа жизни, но теперь мною всецело владела охота к перемене мест, которую я никак не мог ни приостановить, ни утихомирить.
Но вот беда: когда мы уже совсем собрались уезжать, гостеприимный хозяин преподнес нам два матраца, чему мы долго, но безуспешно сопротивлялись; но хозяин твердо решил обставить наше плавание возможным комфортом, что, однако, не слишком улыбалось его супруге, и резонно: матрацы были новехонькие и к тому же обиты красивым бархатом. Но так — увы! — бывает нередко: уважив настойчивую просьбу домохозяина, легко невольно огорчить его супругу.
В Кобленц мы прибыли благополучно, и я отчетливо помню, что к концу нашего пути увидел, быть может, прелестнейший ландшафт, когда-либо мне повстречавшийся. Когда мы подошли к мосту, перекинутому через Мозель, прекрасному сооружению из темного камня, это дивное зрелище открылось мне во всем своем мощном величии, а в долине, за широкими мостовыми арками, виднелись большие красавцы дома и высоко вздымающийся над мостом, весь в синей утренней дымке замок Эренбрейтштейн. Справа от моста, на правом же берегу реки, высится и стелется город Кобленц. Вся эта панорама замечательна незабываемой, но мимолетной красотой. Ты вышел, и панорама осталась позади. Мы тут же отправились в почтамт отослать те два матраца, ничуть не пострадавшие в пути, по адресу фирмы трарбахского негоцианта.
Для герцога Веймарского резервировали прекрасную резиденцию, она же стала и моим пристанищем в Кобленце. Армия медленно стекалась в этот город. Прислуга августейшего генерала тоже сюда подоспела и не уставала говорить о буре на Мозеле. Мы же были счастливы, что все же избрали водный путь: жизнеопасная буря представлялась нам только кратким тягостным эпизодом сравнительно с затяжным сухопутным злоключением армии.
Прибыл наконец и сам герцог. К прусскому королю со всех сторон стекались его генералы. Что касается меня, то я неспешно бродил вдоль берега Рейна, мысленно перебирая диковинные события нескольких минувших недель.
Лафайет, французский генерал и глава влиятельной партии, еще недавно кумир его нации, пользовавшийся полным доверием своих солдат, восстал против верховной власти, представлявшей после полонения короля французское государство. Лафайет бежал, его армия, лишившаяся генерала и всех старших офицеров, растерянная, утратившая дисциплину, насчитывала не более двадцати трех тысяч человек.
В это же время вторгается в пределы Франции могущественный король с восьмидесятьютысячной армией, которому после недолгих колебаний сдаются два укрепленных города.
Появляется мало кому известный генерал — Дюмурье; никогда не командовавший целой армией, он умно и расчетливо занимает очень сильную позицию; ее удается прорвать, он занимает другую, но и ее окружают, так что мы, его противники, становимся между ним и Парижем.
Однако непрекращающиеся дожди опрокидывают все наши расчеты и создают грандиозное, запутанное положение. Наводящая страх армия союзников, стоявшая всего в шести часах ходу от Шалона и в десяти от Реймса, вдруг признает себя неспособной завладеть означенными двумя городами, предпринимает бесславную ретираду, отдает обе взятые нами крепости и теряет не менее трети своего личного состава, хотя число убитых и раненых не достигало и двух тысяч. И вот уже мы снова стоим на Рейне. Все эти события, вернее, все эти и впрямь чудеса, происходят на протяжении всего лишь шести недель, и Франция спасена от опасности, величайшей изо всех известных нам по анналам ее истории.
Представим себе только многотысячных участников этой катастрофы, которым перенесенные телесные и душевные страдания давали полное основание жаловаться на постигшую их судьбу, и нетрудно будет догадаться, что едва ли все эти бедствия протекали при полном молчании, сколько бы воинский долг нам таковое ни предписывал. Но чем переполнено сердце, то подчас изрекают и наши уста.
Так случилось и со мной во время парадного обеда, когда мне довелось сидеть возле старого заслуженного генерала. И я на этот раз обронил несколько слов о постигших нас бедствиях. Генерал хоть и очень учтиво, все же довольно решительно осадил меня: «Окажите мне великую честь, — сказал он, — посетить меня завтра утром; тогда мы с вами и поговорим обо всем дружески и вполне откровенно». Я поблагодарил за приглашение, но к нему так и не заглянул, дав себе обет впредь уже никогда не нарушать благоприличной игры в молчанку.
Во время водного моего путешествия и позднее, уже в Кобленце, мне удалось сделать несколько наблюдений, небесполезных для моих хроматических опытов; немало нового мне открылось и за занятиями эпоптическими цветовыми явлениями; и в этой связи я стал все более проникаться надеждой установить некую общность между рядом физических феноменов, противопоставляя таковые другим явлениям, с коими они состоят в более отдаленном, опосредствованном родстве.
Очень кстати мне опять попал в руки дневник камерьера Вагнера в дополнение к моим записям, к каковым я в последние дни совсем не притрагивался.
Полк герцога Веймарского наконец-то добрался до Кобленца и расположился в деревнях вокруг Нейвида. Надо сказать, что и тут августейший шеф полка продолжал проявлять отеческую заботу ко всем своим подчиненным: каждый, будь то офицер или рядовой, мог лично поверять герцогу свои нужды; и все, в чем только можно было ему помочь, не нарушая воинских уставов, совершалось незамедлительно. Лейтенант фон Флотов, прикомандированный к герцогу, будучи и сам человеком отзывчивым и рачительным, усердно содействовал его благодетельным начинаниям. Так неотложной потребности в сапогах и башмаках пошли навстречу, закупив большую партию кожи; и сыскавшиеся в войсках нашего герцога сапожники тут же начали кроить и тачать потребную обувь под присмотром местных более опытных мастеров. Позаботилось командование и о чистоте и приглядности наших воинов: приобретенный желтый мел придал должный вид мундирам, колетам и прочей амуниции, так что наши лейб-гусары приобрели прежний молодцеватый и подтянутый вид.
Мои занятия, равно как и непринужденные застольные и келейные беседы со штаб- и кабинет-секретарями нашего государя, сильно выиграли благодаря «Эренвейну», едва ли не лучшему из мозельских вин. Вино было подарено герцогу кобленцским магистратом; но наш государь почти всегда обедал и ужинал у других потентатов и князей церкви или же у его прусского величества, почему «Эренвейн», с высочайшего разрешения, в основном употреблялся нами. Когда выпал случай похвалить это дивное вино одному из его дарителей, я высказал сожаление, что, ублажая нас, он тем самым поступается не одной бутылкой доброго вина. Нет, возразил он, ему нисколько не было жалко потчевать нас этим напитком, он даже охотно пополнит им наши запасы. О чем он действительно сожалеет, так это о бочках, потраченных на эмигрантов. Благодаря им, что и говорить, в город притекло немало денег, но сколько же они натворили здесь всевозможных бед; особенно осуждал он их поведение относительно князя-епископа: они прямо-таки узурпировали его права и, вопреки его воле, предприняли ряд шагов, столь же дерзких, сколь и безответственных.
Поэтому в наше чреватое несчетными бедствиями время епископ перебрался в Регенсбург. Признаться, я и сам в чудесный полуденный час прокрался вслед за ним к его замку, словно выросшему из-под земли за то время, как я последний раз побывал в этой местности.
Сказочно прекрасный, Регенсбург стоял высоко над городом, на левом берегу Рейна одинокой, самоновейшей руиной, не архитектурной, конечно, но тем более — политической. Признаюсь, я так и не набрался духу попросить кастеляна — он как раз разгуливал по парадному двору замка — о допуске к осмотру мною этого пышного эрмитажа князя-епископа. Как прелестен был близлежащий и более отдаленный живой ландшафт этого замка, отделявший его от города садами и малыми перелесками! А этот дивный вид на Рейн вверх по течению, плавному и умиротворяющему, но становящемуся все раздольнее и беспокойнее по мере приближения к окруженным скалами берегам города и крепости!
Желая попасть на другой берег, я направился к «летучему парому», как его здесь называют. Но там-то меня и задержали, вернее, там-то я и задержался, заглядевшись на переправу большого австрийского обоза, не так-то скоро пересекшего водную преграду. Здесь разгорелся ожесточенный спор между двумя унтер-офицерами, ярко выявивший самобытность двух представителей разнящихся друг от друга народностей.
Австрийцу был поручен надзор за переправой, строго вменявший ему в обязанность не допускать ничего, что могло бы задержать таковую, и прежде всего не позволять втереться в австрийскую колонну чужой повозке обозников. Прусский же унтер яро настаивал на том, чтобы в его особом случае было допущено исключение, так как в его телеге, помимо домашнего скарба, едут истомившиеся долгой дорогой его жена и ребенок. Но австриец, ссылаясь на инструкцию, решительно отклонил его просьбу. Пруссак ярился, австриец хранил полнейшую неприступность и никак не соглашался потерпеть бреши в доверенной ему монолитно сомкнутой колонне. Пруссак тщетно пытался обнаружить таковую. Наконец напористый малый схватился за эфес своей сабли и вызвал на дуэль неуступчивого супостата, грубой бранью и угрозами пытаясь принудить его пойти с ним в ближайший проулок и там разрешить затянувшуюся ссору. Но рассудительный австриец, храня полнейшее спокойствие и отлично сознавая свою правоту, и не думал поддаваться угрозам пруссака и по-прежнему неукоснительно следил за порядком.
Было бы неплохо, подумал я, если бы художник-жанрист запечатлел эту сцену: уж очень несхожи были эти двое как по духовному, так и по внешнему обличию; спокойный австриец был коренастым, сильным молодцом, а свирепый пруссак (под конец он и впрямь рассвирепел) — длинным, хлипким забиякой.
Время, отпущенное мною на прогулку, отчасти уже вышло, а я, устрашенный возможностью стать жертвой таких же промедлений и на возвратном пути, потерял всякую охоту посетить столь любимую мною долину, вид которой пробудил бы во мне только чувство горестной утраты и бесплодной тоски по былым, безвозвратно утраченным временам. И все же я еще долго простоял, глядя на противоположный берег, с благодарностью припоминая былые безмятежные годы посреди непрерывно меняющихся событий новейшего времени.
Дело в том, что мне случайно стало известно решение нашего генералитета: перенести войну на правый берег Рейна. Полк герцога Веймарского уже готовился к переправе, а вслед за ним должен был сбираться в поход и сам герцог с его многолюдной свитой. Что до меня, то я не ждал ничего доброго от возобновления военных действий; бежать отсюда стало моим страстным желанием. Чувство, овладевшее мною, я назвал бы прямо противоположным чувству тоски по родине, ведь меня влекло в необъятную ширь, а не в тесный круг привычного обихода. Я стоял на берегу, а предо мною стлалась водная гладь чудесной реки. Она текла навстречу живописным ее низовьям мирно и величаво, во всю ширь, здесь обретенную ее руслом. Текла к давним друзьям, с которыми меня связывала нерушимая сердечная приязнь. Мне неотложно хотелось спастись на груди надежного друга от чуждого мне мира вражды и грубого насилья. Испросив себе отпуск, я спешно нанял лодку до Дюссельдорфа, куда я просил моих благожелателей доставить мой шез, как только он доберется до Кобленца.
Когда я со всеми моими пожитками водворился наконец, в нашем суденышке и мы уже плыли вниз по Рейну вместе с моим верным Паулем и еще с одним пассажиром, подрядившимся возместить свой даровой проплыв в качестве второго, подсобного, гребца, я почел себя счастливейшим из смертных, навечно покончившим с житейскими напастями.
И все же кой-какие неприятные приключения мне еще предстояли. Чуть ли не в самом начале плавания нам пришлось убедиться, что наша лодка дала основательную течь: иначе бы лодочник не стал из нее так усердно и часто выкачивать воду. Тут мы только осознали, что при столь поспешных сборах мы начисто позабыли об одном обстоятельстве, впрочем достаточно известном, а именно о том, что лодочники, пускаясь в относительно длительный проплыв от Кобленца до Дюссельдорфа, предпочитают его совершать в старой лодке, чтобы там продать ее на подтопку; с этой-то двойною выручкой в кармане владелец утлого суденышка обычно налегке и возвращается восвояси.
Но покуда мы, ничтоже сумняшеся, продолжали наше плавание, чему немало благоприятствовала звездная и очень прохладная ночь, наш подсобный гребец вдруг решительно потребовал, чтобы его высадили на берег. И тут между ним и лодочником завязался упорный, а впрочем, вполне бескорыстный спор касательно того, на каком месте пешеходу выгоднее покинуть лодку.
Тем удивительнее, что эта яростная дискуссия, где каждый остался при своем мнении, кончилась тем, что наш лодочник сорвался в воду, и если не потонул, то только благодаря дружно оказанной ему помощи. Насквозь промокший и окоченевший в эту светлую, леденящую ночь, он слезно просил дозволить ему заехать в Бонн, чтобы там согреться и пообсохнуть. Пауль пошел с ним в близлежащую харчевню, я же предпочел провести ночь под открытым небом и велел соорудить мне постель в лодке из тюков, дорожных мешков и портфелей. Великая вещь привычка: шесть недель я почти всегда дневал и ночевал под открытым небом, и вот дошло до того, что я уже не мог без содрогания думать о потолке и о стенах. Но на сей раз мне не повезло, что, впрочем, можно было предвидеть: лодку хоть и выволокли на берег, но не настолько, чтобы вода не просачивалась через течь, и притом достаточно обильно.
Очнувшись от глубокого сна, я почувствовал себя освеженным, но, пожалуй, уже чересчур. Вода просочилась в мою постель: промок и я, и все мои пожитки. Пришлось встать, отыскать пивнушку для водников и там, на глазах у жующей табак и смачно лакающей липкий глинтвейн публики, по мере возможности как-то пообсушиться. Ранние утренние часы были упущены. Но мы тем усерднее налегли на весла, чтобы возместить невольную задержку.
НЕОБХОДИМОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Пытаясь восстановить силою воображения мое плаванье вниз по Рейну, мне никак не дается точно воссоздать все то, что во мне тогда происходило. Безмятежно-зеркальная водная гладь, чувство, что я без помех скольжу по ней, позволяло мне смотреть на недавнее прошлое как на дурной сон, от которого я вот только что очнулся. Я весь отдался светлым надеждам на радостную встречу с давними друзьями.
Но, собираясь продолжить мой рассказ, я должен буду прибегнуть к совсем другому способу изложения, чем тот, которого я придерживался в предыдущих записях. Ибо только там, где на наших глазах изо дня в день вершатся великие события, где мы заодно с тысячами нам подобных страдаем, испытываем страх и, превозмогая его, продолжаем робко надеяться, настоящее обретает решающее значение и шаг за шагом нами пересказанное воскрешает минувшее и указует на будущее.
Другое дело — событие, свершающееся в тесном дружеском кругу. Оно может быть понятно лишь как нравственное следствие целого ряда изъявлений духовной жизни. Здесь рефлексия более чем уместна. Ибо отдельно взятый момент сам себя не разъясняет. Ему служат толмачами воспоминания о прошлом, ранее содеянном, а также позднейшие его высказывания.
Я всегда жил скорее бессознательно, изо дня в день, какие бы дни ни набегали, и чувствовал себя при этом, особенно в последние годы, совсем не плохо; в полном согласии со сказанным, я также никогда заранее не обдумывал предстоящей беседы с незнакомым лицом или того, что сам собираюсь сказать, впервые посещая какое-либо общество, во всем полагаясь на вразумляющую силу непосредственных впечатлений. Выгода такой привычки очевидна: не приходится отказываться от предвзятой идеи, нет нужды разрушать загодя сложившегося образа и с неудовольствием заменять его другим, более соответствующим действительности. Но в иных случаях сказывались и отрицательные стороны этой моей привычки: обходясь без предварительного обдумывания сложившейся обстановки, действуя экспромтом, так сказать, на ощупь, я подчас довольно долго блуждал в потемках, не нападая на простейшее решение вопроса.
По той же причине я никогда не заботился и о том, как действует на людей личное общение со мной и мои преходящие умонастроения, и потом, к величайшему моему удивлению, обнаруживал, что в ком-то вызвал к себе приязнь или неприязнь, а то зараз и то и другое чувства.
Можно, конечно, не одобряя и не порицая такого поведения, попросту счесть его самобытной чертой характера, но нельзя не признать, что как раз в данном случае такая самобытность подчас приводила к странным и не всегда утешительным последствиям.
Я много лет не встречался с моими друзьями. Они оставались верны раз избранному пути; тогда как мне выпал жребий пройти через целый ряд искушений и испытаний и множество разнородных видов деятельности, так что я, ни в чем не изменяя своей сути, все же стал совсем другим человеком, давним друзьям моим ничуть не знакомым.
Не так-то легко, даже и в зрелые годы, когда обретаешь более свободный взгляд на пройденный жизненный путь, давать точный отчет о каждом повороте своего развития, а он представляется то шагом вперед, то, напротив, попятным шагом, тем более когда ты убежден, что по милости господней любой шаг на предназначенной тебе мете служит человеку на пользу и преуспеяние. И все же, невзирая на трудности, я попытаюсь, в угоду моим друзьям, кое-что разъяснить хотя бы только намеками.
Нравственный человек может внушить к себе любовь и симпатию лишь в том случае, если в нем замечаешь некое томление духа. Таковое вмещает в себе обладание и жажду — обладание собственным нежным сердцем и жажду найти такое же сердце в другом. Первое притягивает к нам, второму мы сами отдаемся.
Томление, во мне заложенное, которому я в мои ранние годы, быть может, чрезмерно предавался, а потом старался в себе побороть, зрелому мужу было уже не к лицу и нисколько его не удовлетворяло, почему я и принял решение хотя бы раз полностью насытиться тем, что было моей мечтою. Целью моей тайной тоски, гложущей мою душу, была Италия, образ и подобие которой передо мною тщетно витали столько лет, покуда я не собрался с духом и не отважился соприкоснуться с ее зримой явью. В эту дивную страну мои друзья охотно меня сопровождали и туда и обратно, хотя бы только мысленно. Оставалось только пожелать, чтобы они и впрямь разделили со мной мое длительное пребывание в этой стране, а потом проводили бы меня домой, на родину. Сколько насущных проблем тем самым тогда бы разрешилось!
В Италии я постепенно отрешался от мелкотравчатых представлений, от беспочвенной мечтательности. Место тоски по стране искусств заступила тоска по самому искусству; я узрел великое искусство и теперь хотел проникнуть в его тайны.
Изучение пластических искусств, а также великих писателей древности служит нам надежным подспорьем, более того — примиряет нас с нами же самими. Насыщая нашу душу великими впечатлениями и помыслами, искусство овладевает всеми нашими высокими стремлениями, которые казались нам осуществимыми только вовне, оно же, искусство, осуществляет их в тиши нашей душевной глуби. Потребность в общении при этом заметно убывает. То, в чем нуждается живописец, ваятель, зодчий, становится неотложной потребностью также и любителя, и он работает в одиночестве, ради наслаждений, коими поделиться с другими ему почти никогда не удается.
В это же самое время меня отобщила от друзей еще одна отрасль моих занятий, а именно: мое решительное обращение к природе, к чему меня влек неизъяснимым образом заложенный в меня неотъемлемый инстинкт. Тут я не повстречался ни с мастерами, ни с подмастерьями, тут я один должен был постоять за все и за всех. В безлюдных лесах и садах, во мраке темных камер я остался бы в полном одиночестве, если б не счастливые домашние обстоятельства, внесшие в ту эпоху вынужденного затворничества согревающее тепло и услаждающую нежность. «Римские элегии» и «Венецианские эпиграммы» создавались именно в эту пору.
Тогда же мне довелось впервые ощутить приближение нескончаемых войн. Я был вызван моим государем, с тем чтобы при нем состоять в намечавшейся Силезской кампании, так, впрочем, и не состоявшейся благодаря Рейхенбахскому конгрессу, что привело к моему краткому пребыванию в этой прекрасной стране, обогатившей мой жизненный опыт и настроившей меня на более возвышенный лад, что мне, однако, отнюдь не мешало легкомысленно предаваться веселым утехам в то самое время, когда происшедший во Франции злосчастный государственный переворот, все более расширяясь, призывал каждого, какими бы мечтами и надеждами он ни тешился, помнить о тревожных обстоятельствах, сложившихся в Европе и всем нам грозивших жестокими испытаниями.
Долг заставил меня сопровождать моего государя сначала в сомнительных, а потом и трагически обернувшихся событиях, потребовавших от всех немалого мужества и чрезвычайной выдержки. Я рискнул ознакомить моих читателей с ужасами, выпавшими на нашу долю, только в весьма смягченном пересказе; иначе все то нежное и задушевное, что еще теплилось в наших сердцах, могло бы полностью порушиться и испариться.
Если подвести итог всему, что здесь было сказано, то мое душевное настроение, бегло запечатленное на последующих страницах, быть может, не покажется столь уж загадочным, чего бы я никак не хотел — уже потому, что мне лишь с трудом удалось побороть искушение заново изложить мои былые небрежные записи с учетом моих позднейших взглядов и убеждений.
Пемпельфорт, ноябрь 1792 года.
Уже стемнело, когда я приземлился в Дюссельдорфе и тотчас же выехал в Пемпельфорт с зажженными фонарями. После радостного переполоха, внесенного моим неожиданным появлением, я был принят хозяевами как нельзя лучше и сердечнее. Торопливые расспросы и отрывисто-краткие ответы, какими обычно обмениваются друзья при первой встрече после долгого перерыва, поглотили немалую часть наступившей ночи.
Следующий день прошел в рассказах, вопросах, ответах, и я быстро свыкся с новым местом. Неудавшийся поход давал обильную пищу для разговоров; никто не представлял себе столь печального его исхода. И никто не умел выразить, как страшно подействовало на людей роковое молчание, продолжавшееся без малого месяц, — никаких известий, что усиливало ощущение неопределенности. Казалось, земля поглотила войско союзников — они не подавали о себе вестей; вглядываясь в жуткую пустоту, все были мучимы страхом и теперь с ужасом ждали, что война перекинется в Нидерланды; было ясно, что под угрозой находится левый берег Рейна, а заодно и правый.
Беседы на моральные и литературные темы отвлекали нас от этих горестей, но мой реалистический взгляд на вещи не слишком радовал окружающих.
После революции, чтобы меньше думать обо всех этих диких событиях, я начал работать над одним странным произведением. В нем рассказывалось о путешествии семи очень непохожих друг на друга братьев, каждый из которых по-своему служит общему союзу, — вещь сказочная и фантастическая, запутанная, скрывающая цель и перспективу, притча о событиях нашей эпохи. От меня потребовали, чтобы я прочитал ее, я не заставил себя долго упрашивать, но очень скоро убедился, что она никому не нравится. Поэтому я бросил странствующее семейство в первой попавшейся гавани и больше об этой рукописи не вспоминал.
Друзья не могли сразу примириться с моим новым настроением; к чему только не прибегали они, чтобы вызвать в душе моей былые чувства: сунули мне в руки «Ифигению», чтобы я читал ее вслух по вечерам; из чтения ничего не вышло, кротость чувств была в ту пору чужда мне, а слушать, как декламируют «Ифигению» другие, было мне не под силу. Пьесу отложили в сторону, но мне казалось, что они решили допекать меня пытками еще более изощренными. Принесли «Эдипа в Колоне», однако возвышенная святость его была невыносима моим чувствам, всецело обращенным к искусству, природе, миру, — чувствам, ожесточившимся в тяжелую кампанию; я не выдержал и сотни строк. Тут уж всем пришлось смириться с новым умонастроением друга, тем более что в разных темах для бесед недостатка не было.
Мы вспоминали разные превосходные сочинения старой немецкой словесности, но беседа никогда не заходила слишком глубоко, чтобы не затрагивать явных признаков различия во взглядах.
Если мне позволено будет включить сюда общее рассуждение, то нужно сказать, уже лет двадцать, как наступила замечательная пора, когда значительные личности объединялись и люди в одном сходились, хотя в остальном друг от друга отличались: каждый был высокого мнения о себе, но все старались относиться друг к другу почтительно и бережно.
Талант укреплял свое завоеванное достояние — всеобщее уважение; люди умели поддерживать и укреплять дружеские связи; преимущества, приобретенные таким образом, защищал уже не каждый в отдельности, но все взаимосогласное большинство. Само собой разумеется, что тут соприсутствовала известная преднамеренность; как все светские люди, они искусно выбирали друзей и знакомых, умели прощать друг другу странности, чувствительность одного поддерживалась чувствительностью другого, взаимное непонимание долго оставалось под спудом.
В этих условиях положение мое было любопытно: талант отводил мне почетное место в обществе, но мое страстное отношение ко всему, в чем я видел истину, провоцировало меня на резкости, когда мне казалось, что чьи-то устремления ложны. Поэтому я частенько ссорился с членами нашего кружка, потом мирился, на словах или на деле, но продолжал идти своим путем в высокомерной уверенности, что правда на моей стороне. Известную наивность вольтеровского Гурона я сохранил до зрелых лет, а потому меня в одно и то же время любили и не терпели.
Западная, чтобы не сказать французская, литература была как раз той сферой, где мы были менее скованы и более согласны друг с другом. Якоби шел своим путем, но он усваивал все существенное, а близость Нидерландов способствовала тому, что не только как литератор, но и как личность он был вовлечен в упомянутый дружеский круг. Хорошо сложенный, с приятными чертами лица, он умел вести себя скромно, предупредительно и любезно и блистал в любом образованном обществе.
Удивительное время, которое ныне трудно себе даже представить. Вольтер разбил узы, сковывавшие человечество, умные люди стали сомневаться в том, что прежде считали высокодостойным. Фернейский философ силился ослабить, уменьшить влияние духовенства, прежде всего имея в виду Европу; де Пау, напротив, распространил дух завоеваний на отдаленные части света: ни за китайцами, ни за египтянами не признавал он того достоинства, какое приписывал им давний предрассудок. Каноник в Ксантеке, не столь удаленном от Дюссельдорфа, он поддерживал дружеские отношения с Якоби и еще со многими другими.
А потому упомянем еще только Гемстергейса: нелицеприятно преданный княгине Голицыной, он подолгу жил в Мюнстере. Гемстергейс, вместе с людьми, родственными ему по духу, стремился к кроткой умиротворенности, к идеальному миру души, склоняясь к платонически-религиозному умонастроению.
В таких фрагментарных воспоминаниях надлежит назвать и Дидро, страстного диалектика, который тоже любил гостить в Пемпельфорте, где он откровенно отстаивал свои парадоксы.
Взгляды Руссо на природу тоже не были чужды этому кругу; впрочем, члены его никого не исключали, как не изгоняли и меня, хотя часто только терпели.
О том, как влияла на меня в юные годы литература других стран, уже говорилось не раз. Я мог воспользоваться чужим для своей надобности, но внутренне его не усваивал, а потому не способен был и дискутировать о нем. Столь же странно обстояло дело и с моим собственным творчеством: оно шло рука об руку с моим жизненным развитием, а поскольку это развитие оставалось тайной даже для самых близких друзей, то сжиться с моими новыми произведениями им удавалось нечасто, потому что они всегда ожидали чего-либо похожего на ранее мною написанное.
С «Семью братьями» я пришелся не ко двору оттого, что они ничем не напоминали свою сестру «Ифигению». Я заметил, что раню друзей и «Великим Кофтой», комедией давно напечатанной, хотя речь о ней не заходила, да и я ее не заводил. Но кто не согласится, что писателю, который не смеет читать вслух свои новейшие сочинения, бывает не по себе, так же как композитору, которого не просят играть его новейших опусов.
То же самое и с моими наблюдениями над природой; моя страстная преданность этим занятиям оставалась непонятой, никто не замечал, что она проистекает из глубин моего существа, мои стремления большинству казались ошибкой, капризом; по их мнению, я мог бы делать что-нибудь поинтереснее, предоставляя моему дарованию идти прежним путем. Они считали себя вправе думать именно так, потому что я не признавал их образа мыслей и в ряде случаев придерживался прямо противоположных. Трудно себе представить человека более одинокого, чем я в ту эпоху, да и много позднее. Я был приверженцем гилозоизма (или как еще угодно его именовать) и признавал всю святость и достоинство за глубинами этого учения. Поэтому я был невосприимчив, нетерпим даже, к такому образу мыслей, когда в качестве символа веры выставляется мертвая, лишь впоследствии приводимая в движение и возбуждаемая (все равно каким началом) материя. От внимания моего не ускользнул тот момент в Кантовом учении о природе, где утверждается, что силы притяжения и отталкивания принадлежат к самой сущности материи и не могут быть отделены от нее; благодаря этому передо мною раскрылась извечная полярность всего сущего, проникающая и одушевляющая великое многообразие явлений природы.
Уже и прежде, когда княгиня Голицына посетила Веймар вместе с Фюрстенбергом и Гемстергейсом, я излагал свои взгляды, но был ими поставлен на место и, словно богохульник, должен был замолчать.
Если люди замыкаются в своем кругу, это нельзя ставить им в вину; а мои друзья в Пемпельфорте поступали именно так. «Метаморфозы растений», напечатанной за год до того, они почти не заметили, а когда я, со всею последовательностью, излагал столь привычные для меня идеи морфологии, добиваясь, как мне казалось, предельной убедительности, я с сожалением видел, что умами моих слушателей безраздельно владело закостеневшее представление: не может возникнуть ничего, кроме того, что уже есть. В конце концов мне пришлось заново выслушать, что все живое происходит из яйца, и мне оставалось лишь горько пошутить, напомнив им вечный вопрос: что было раньше — курица или яйцо? Однако преформизм казался им столь же ясным, сколь утешительным созерцание природы в духе Бонне.
О моих «Оптических работах» они что-то прослышали, и я не заставил долго себя просить, а решил развлечь собравшихся некоторыми феноменами; мне было нетрудно ознакомить их с новыми опытами, ибо присутствовавшие, несмотря на свою образованность, затвердили мысль о составной природе света и все живое, радующее глаз, сводили к этой мертвой гипотезе.
Впрочем, какое-то время я мирился с подобными возражениями, так как еще не бывало, чтобы я сообщал что-либо без прямой пользы для себя; обычно, пока я говорил, я постигал прежде мне неизвестное; в потоке речи я едва ли не всегда открывал нечто новое и для себя.
Правда, мне приходилось излагать материал лишь дидактически и догматически, поскольку подлинного дара диалектической беседы у меня не было. Зато была дурная привычка, в которой я должен покаяться: когда обыденный разговор, в котором высказывались лишь ограниченные или личные взгляды, наскучивал мне, я имел обыкновение возмущать течение узкого спора резкими, доведенными до крайности парадоксами. Обычно это лишь обижало и сердило присутствующих. Потому что нередко мне приходилось играть роль злого духа, чтобы добиться своего, людям ведь хотелось быть добрыми и добрым же видеть меня; они не допускали парадоксов, не принимали их всерьез как неосновательные, а шуткой не могли считать из-за их резкости. В конце концов меня прозвали лицемером навыворот и вскоре примирились со мною. Однако многих моя злость отпугнула, а некоторых обратила в моих врагов.
Но стоило мне начать рассказывать об Италии, как злые духи исчезали, словно по мановению волшебной палочки. В Италию я отправился без подготовки и без раздумий, отчего со мною и случались всякие приключения. Величие и прелесть этой страны глубоко врезались мне в память; образ, краски, дух ландшафта, осиянного благосклоннейшим небом, все еще стояли у меня перед глазами. Слабые попытки зарисовать некоторые пейзажи обострили мою память, я эти пейзажи описывал, словно и сейчас видел их, не забыл я и о людях, эти пейзажи оживлявших; все были довольны живо воссозданными мною картинами, порою даже восхищены.
Дабы изобразить приятность пребывания в Пемпельфорте, надо хорошо представить себе, где все это происходило. Просторный дом на открытом месте, в окружении огромных садов, в которых поддерживался образцовый порядок; летом это рай, зимой — приятнейшее местопребывание. Здесь каждый луч солнца доставлял наслаждение. Вечерами или в плохую погоду мы оставались в больших красивых комнатах: обставленные удобно, хотя и без роскоши, они служили прекрасным фоном для интеллектуальных разговоров. Большая столовая, удобная, светлая, вмещающая многочисленное семейство и постоянно гостивших друзей, длинный стол, уставленный разными яствами, за этим столом сидел хозяин дома, энергичный, разговорчивый, сестры — благожелательные, предупредительные, сын — серьезный, подающий надежды юноша, дочь — благовоспитанная, приятная, вызывала в памяти образ покойной матери и картины былых дней во Франкфурте, лет эдак двадцать тому назад. Гейнзе считался членом семьи, он не мешкал с ответом на любую шутку, случалось, мы весь вечер покатывались со смеху.
Немногие часы, когда я оставался наедине с собою в этом гостеприимнейшем из домов, я посвящал несколько странной работе. Во время похода, помимо дневника, который я вел, я еще записывал в стихотворной форме распоряжения по армии, комичные ordres du jour[15]. Теперь я решил просмотреть и отредактировать их. Но вскоре понял, что видел и оценивал многое абсолютно неправильно, близоруко и высокомерно; поскольку же обычно строже всего относишься к недавним заблуждениям и поскольку оставлять такие бумаги на волю случая мне казалось делом рискованным, то я поспешил уничтожить всю тетрадь в ярком пламени пылавшего в камине каменного угля. Огорчает это меня сейчас лишь потому, что она очень пригодилась бы мне для уяснения хода событий и последовательности моих собственных размышлений.
В неподалеку расположенном Дюссельдорфе я усердно навещал друзей, которые все до единого принадлежали к пемпельфортскому кружку. Обычно мы встречались в картинной галерее. Тут чувствовалось предпочтение, отдаваемое итальянской школе, к нидерландской же все были несправедливы до последней степени. Конечно, возвышенный дух итальянских художников увлекал благородные души. Однажды мы долго пробыли в зале Рубенса и наиболее выдающихся нидерландцев; когда мы выходили, напротив нас висело «Вознесение» Гвидо. Кто-то восторженно воскликнул: «Мы словно перешли из кабака в гостиную!» Я был очень доволен, что в таком великолепии являют себя и столь страстный восторг вызывают живописцы, которыми я недавно восхищался по ту сторону Альп, но считал нужным получше ознакомиться и с нидерландцами, тем паче, что их редкие достоинства тут представали перед нами во всей своей несомненности: то, что я видел, осталось в памяти до конца моих дней.
Но еще больше поразило меня то, что в высших кругах до известной степени распространилось вольнолюбие и демократизм: люди не понимали, что́ им придется утратить, прежде чем они обретут взамен нечто довольно неопределенное. Бюсты Лафайета и Мирабо, изваянные Гудоном, очень похожие и естественные, почитались здесь как боги: в Лафайете чтили доблести рыцарские и гражданские, в Мирабо — силу духа и ораторский дар. Уже тогда немецкий дух странно заколебался: некоторые, побывав в Париже, слышали речи сих доблестных мужей, своими глазами видели их деяния и — несчастная немецкая черта — вздумали им подражать; и это как раз в то время, когда беспокойство за судьбу левого берега Рейна переходило в обоснованный страх.
Час тяжкого испытания! Эмигранты заполонили Дюссельдорф, прибыли сюда даже братья короля. Все спешили их увидать, я встретил их в картинной галерее и вспомнил разговоры о том, как они, вымокшие до нитки, выезжали из Глорье. Явились также господин фон Гримм и госпожа де Бёй. Город был переполнен, их приютил у себя аптекарь: спальней им служил естественнонаучный кабинет, обезьяны, попугаи и прочие твари внимали утренним грезам достойнейшей дамы, раковины и кораллы мешали ей разместить предметы туалета; не успели мы поразить Францию бедствиями постоя, как они уже перекочевали к нам.
Госпожа фон Коуденховен, прекрасная, умная женщина, некогда украшение майнцского двора, тоже бежала сюда. С немецкой стороны подоспели, чтобы на месте ознакомиться с обстоятельствами, господин фон Дом с супругой.
Франкфурт оставался еще в руках французов, войска маневрировали между рекою Лан и Таунусом; точные сведения и ложные слухи каждый день сменяли друг друга, оживляя разговоры, давая повод для острот, — впрочем, радости от этого было мало, ибо интересы и мнения то и дело сталкивались. Я не мог серьезно отнестись к ситуации неясной, сомнительной, зависевшей от ряда случайностей, и своими парадоксальными шутками то веселил, то удручал общество.
Помнится, однажды за ужином добром помянули граждан Франкфурта: они-де вели себя достойно и мужественно в отношении Кюстина, тем самым весьма выгодно отличаясь от жителей Майнца, которые вели себя, да и сейчас ведут, непристойно. Госпожа фон Коуденховен воскликнула с восторгом, очень ее красившим: «Чего бы я только не отдала, чтобы быть гражданкой Франкфурта!» Я отвечал: «Нет ничего проще, я знаю верный способ, но сохраню его в тайне». Все стали настаивать на том, чтобы я открыл секрет, уговаривали меня долго, наконец я сказал: «Уважаемой даме достаточно выйти за меня замуж, чтобы мгновенно преобразиться в жительницу Франкфурта!» Оглушительный хохот!
Что мы только не обсуждали! Как-то раз мы заговорили о злосчастной кампании, о канонаде при Вальми, и тут господин фон Гримм заверил меня, что за обедом у короля шла речь о моей непонятной поездке на передовую, можно сказать, в самое пекло, и все пришли к выводу, что удивляться тут нечего: никогда не знаешь, что выкинет такой чудак.
Участником наших полусатурналий был некий опытный и умный врач; я в своей заносчивости и не думал, что скоро и мне понадобится его помощь. Поэтому, к моему неудовольствию, он громко рассмеялся, застав меня в постели: страшный приступ ревматизма, следствие сильной простуды, почти лишил меня способности двигаться. Ученик тайного советника Гофмана, чья энергичная, хотя и несколько чудаческая медицинская деятельность была известна как в Майнце и при дворе курфюрста, так и южнее, в прирейнской области, врач немедленно прибег к камфаре, которую он считал едва ли не панацеей. Камфара применялась как наружное средство, для чего ее насыпали на промокательную бумагу, натертую мелом, и внутрь ее тоже давали в малых дозах. Так или иначе, а спустя несколько дней я был на ногах.
Скука болезненного состояния заставила меня о многом поразмыслить; от постельного режима я быстро ослаб, и мое положение показалось мне сомнительным: французы далеко продвинулись в Нидерландах, слухи еще преувеличивали их продвижение, все в один голос твердили о непрерывном прибытии новых беженцев.
Мое пребывание в Пемпельфорте длилось уже достаточно долго; не будь хозяева столь любезны и гостеприимны, всякий уже решил бы, что он им в тягость. Впрочем, я задержался так долго по чистой случайности: со дня на день и с часу на час я ждал свой богемский экипаж, бросать его мне не хотелось, тем более что он уже прибыл из Трира в Кобленц; оставалось переправить его сюда. Но его все не было, и это усиливало овладевшее мною в последние дни нетерпение. Якоби предоставил мне свою удобную, но тяжелую из-за обилия железа коляску. Все устремлялись теперь в Вестфалию, там хотели обосноваться и братья короля.
Итак, я уехал с ощущением необычайного внутреннего разлада. Симпатии удерживали меня в этом кругу друзей, обеспокоенном последними событиями, а я оставлял этих благороднейших людей в заботах и смятении, сам же в ужасную непогоду и распутицу пускался в дикий, пустынный мир, влекомый неудержимым потоком беженцев, чувствуя себя беженцем.
И все же в перспективе у меня была приятнейшая встреча, ибо, будучи так близко от Мюнстера, я не мог не завернуть туда, чтобы повидать княгиню Голицыну.
Дуисбург, ноябрь.
Итак, по прошествии четырех недель я вновь оказался если не на том же месте, где нас впервые постигло несчастье, и за много миль от него, но все в том же обществе, в той же толпе эмигрантов, которые, на сей раз уже окончательно изгнанные из отечества, возвращались в Германию, беспомощные и растерянные.
Припоздав к обеду в гостинице, я сидел в конце длинного стола; хозяин и хозяйка, уже успевшие выразить мне (как немцу) свою антипатию к французам, очень сожалели, что лучшие места заняты непрошеными гостями. При этом они отметили, что, несмотря на все унижения, горести, на ожидавшую их нищету, среди них по-прежнему царят нескромность и честолюбие.
Окинув взглядом стол, я увидел во главе его старого, невысокого благообразного человека, сидевшего смирно и тихо. Очевидно, он принадлежал к аристократии, ибо двое его соседей оказывали ему всевозможные знаки внимания, выбирали для него лучшие куски, разрезали их, можно сказать, подносили к его рту. Я очень скоро заметил, что дряхлый старик почти уже бесчувствен, — печальный автомат, влачащий по миру тень былой благополучной и почтенной жизни, — в то время как двое преданных ему людей стараются воскресить в его сознании сны минувшего.
Я рассмотрел всех прочих: на лицах солдат, комиссаров, искателей приключений, казалось, написана их горькая судьба. Все сидят молча, каждый со своей заботой, перед каждым — беда без конца и без края.
Мы уже кончали обедать, когда в залу вошел довольно красивый юноша, впрочем, ничем особо не примечательный. В нем сразу можно было узнать пешего странника. Он сел напротив меня, попросил у хозяина прибор и молча ел то, что приносили из еще оставшегося на кухне. После обеда я подошел к хозяину, и он шепнул мне на ухо: «Этому молодому человеку обед обойдется недорого». Я ничего не понял, но когда юноша спросил, сколько он должен, хозяин отвечал: «Один талер». Тот, казалось, был смущен и сказал, что это, должно быть, ошибка, он-де не только хорошо пообедал, но и выпил штоф вина, вряд ли это может быть так дешево. Хозяин вполне серьезно ему ответил: как правило, он сам считает, а гости платят, сколько он спрашивает. Юноша расплатился не без удивления и скромно ушел. Хозяин тут же объяснил мне загадку: «Он — первый из этого проклятого сброда, кто ел черный хлеб, надо же было его за это наградить».
В Дуисбурге у меня был один-единственный старый знакомый, которого я поспешил навестить. Профессор Плессинг. С ним у меня в свое время завязались какие-то странные сентиментально-романические отношения. Расскажу об этом подробнее, ибо благодаря им мы позабыли в этот вечер о беспокойной поре и перенеслись в мирные времена.
«Вертер», выйдя в свет, отнюдь не вызвал в Германии той болезненной, лихорадочной реакции, которую многие ставили ему в вину, он только обнаружил зло, притаившееся в умах тогдашнего юношества. В счастливые мирные времена на немецкой почве, то есть в пределах распространения немецкого языка, развилась и расцвела литературно-эстетическая культура; поскольку то была культура чисто внутренняя, к ней вскоре присоседилась сентиментальность, в истоках и развитии которой невозможно было не признать влияние Йорика Стерна. Дух его не витал над немцами, но чувства передавались тем непосредственнее. Возник своего рода изнеженно-страстный аскетизм, а поскольку иронический юмор британца не был свойствен немцам, то такой аскетизм неизбежно выродился в самоистязание. Сам я постарался избавиться от этого зла и, согласно своему убеждению, пытался быть полезен другим, но последнего достигнуть было труднее, чем я полагал, ибо это, собственно, значило, помогать каждому в борьбе с самим собою, а тут ведь уже не могло быть и речи о том, что предоставляет в наше распоряжение внешний мир, будь то познание, наставление, профессия или поощрение.
Мы вынуждены умолчать о разных направлениях деятельности, которые оказывали влияние в ту эпоху, но для наших целей необходимо более подробно остановиться на одном важном, вполне самостоятельном устремлении тех лет.
Физиогномика Лафатера придала новый поворот нравственно-общественным интересам. Лафатер знал, что владеет утонченнейшей способностью толковать впечатления, которые фигура и лицо человека производят на других, хотя сам объект его толкования и не отдает себе в этом отчета. А поскольку Лафатер был не создан для методической разработки абстрактного понятия, то он и держался конкретности, а следовательно, индивида.
Талантливый молодой художник, и прежде всего хороший портретист, Генрих Липс примкнул к нему: ни дома, ни в путешествии по Рейну он ни на шаг не отставал от своего покровителя. А Лафатер, отчасти испытывая неутолимую жажду безграничного познания, отчасти желая приобщить к своему будущему труду как можно больше значительных людей своего времени, вознамерился портретировать всех, кто хоть сколько-нибудь выделялся талантом или сословным положенном, характером или родом деятельности.
Таким образом приобрели известность многие индивиды; быть принятым в столь благородный круг — это кое-что значило; характерные свойства каждого подчеркивались самим мастером толкования, люди как бы становились ближе друг к другу, но самое странное, что сумели заявить о своей личной значительности лица, которые до той поры ничем не отличались среди остальных, включенных и вплетенных в бюргерскую и государственную жизнь человеческих дел.
Воздействие Лафатера оказалось сильнее, чем можно было предположить; каждый счел себя вправе воображать, что он существо особенное, неповторимое, завершенное. Укрепившись в своей исключительности, он уже считал для себя подобающим включать в комплекс своего драгоценного существования всевозможные чудачества, странности, нелепости. Это удавалось тем легче, что метод Лафатера сводился к рассуждениям об особой природе индивида, а о разуме, царящем над всею природой, и речи не заходило. Стихии религиозности, в которой купался Лафатер, тоже было недостаточно, чтобы умерить ширившуюся самовлюбленность, более того — у верующих даже развивалась на этой почве особенная духовная гордыня, заносчивость, превышавшая заурядную людскую гордость.
Впрочем, следствием той эпохи было и взаимное уважение индивидов. Именитых старцев почитали, те же, кто не знал их лично, почитали их портреты; и стоило молодому человеку хотя бы несколько выдвинуться, как у людей тотчас возникало желание познакомиться с ним, а если это было невозможно, то почитатели довольствовались портретом; тщательно, точно и умело сделанные силуэты пользовались всеобщим успехом. Каждый приобрел навыки в этом искусстве, и любой приезжий был запечатлен на стене в вечерний час; пантографы всегда были в работе.
Знание человека, человеколюбие — вот что обещал нам лафатеровский метод: участливость к судьбам друг друга возросла, но знание и познание душ от нее отставали, — впрочем, к знанию и к любви многие стремились весьма энергично; деятельность одного необычайно одаренного юного государя способствовала этому стремлению, поощряла и распространяла его с помощью своего разумного и наделенного живостью ума окружения. Рассказ этот был бы интересен, но, с другой стороны, пусть лучше остается в таинственном мраке начало того, что уже достигнуто. Возможно, котиледоны тогдашнего посева выглядели странно, однако об урожае, долю которого с радостью приняло и наше отечество, и другие страны, всегда, даже в самые отдаленные времена, будут вспоминать с благодарностью.
Кто удержит в мыслях только что сказанное и проникнется им, не сочтет ни маловероятным, ни нелепым нижеследующее приключение, которое с удовольствием освежили в памяти оба его участника за вечерней трапезой.
Среди множества письменных прошений и визитов, которыми одолевали меня в середине 1776 года, я получил письмо из Вернигероде, подписанное: Плессинг; не столько письмо, сколько целую тетрадь, самый поразительный образчик душевного самоистязания, который когда-либо попадался мне на глаза. Можно было определить по письму, что автор его — человек молодой, хорошо образованный, однако вся эта ученость не принесла ему морального удовлетворения. Почерк был разборчивый, слог гибкий и плавный, и хотя по изложению чувствовалось, что молодой человек готовился стать проповедником, все было написано свежо и искренне, так что отказать ему в участии было немыслимо. Однако, пытаясь живее проявить это участие и лучше разобраться в душевном состоянии несчастного, я вместо долготерпения обнаруживал своенравие, вместо упорства — упрямство, вместо страстного стремления — отталкивающую замкнутость. Тогда — вполне в духе времени — во мне пробудилось желание встретиться с этим человеком; однако звать его к себе я не счел нужным. В силу некоторых обстоятельств я уже взвалил на себя тяжкую обузу — нескольких юношей, которые, вместо того чтобы идти вслед за мною к высшей и более чистой культуре, упорно стояли на своем, при этом ничего хорошего не достигая, мне же они мешали продвигаться вперед. Посему я до поры до времени ничего не предпринимал, ожидая, что жизнь когда-нибудь сведет нас. Вскоре пришло второе письмо, покороче, но написанное еще живее и энергичнее; в нем автор настаивал на скорейшем ответе и объяснении, заклиная меня не отказывать ему ни в том, ни в другом.
Но и эта вторичная атака не вывела меня из равновесия, второе письмо тронуло меня ничуть не более первого, и только барственная привычка не оставлять людей моего возраста без помощи в их душевных и сердечных муках не позволила мне окончательно забыть о нем.
Веймарское общество, окружавшее достойного молодого герцога, не любило расставаний: его занятия и затеи, шутки, радости и страдания — все там было сообща. В конце ноября в окрестностях Эйзенаха устраивалась охота на кабанов, устраивалась поневоле, в силу частых жалоб населения. Я, в то время гость в этих краях, тоже должен был принять в ней участие, но я испросил дозволения позже присоединиться к обществу, дав сначала небольшой крюк.
У меня имелся давно задуманный тайный план этой поездки. Я не раз слышал, причем не только от деловых людей, но и просто от жителей Веймара, кому дорога была судьба герцогства, настоятельное пожелание, чтобы вновь была начата разработка рудников в Ильменау. Горное дело я представлял себе лишь в самых общих чертах, и от меня требовались не мнения и не заключения, а деятельное участие в этом начинании, но участвовать в нем я мог лишь при одном условии — если я увижу все собственными глазами. Мне представлялось необходимым ознакомиться с горным производством во всем объеме, хотя бы бегло, и самому постигнуть его, ибо только в этом случае я мог надеяться, что проникну в суть позитивных проблем, а заодно ознакомиться и с историей этого производства. Поэтому я уже давно задумывался о поездке в Гарц и как раз теперь ощутил в себе подлинную тягу в те места, тем более что это был сезон зимней охоты. В те времена зима обладала для меня большой привлекательностью, что же касается рудников, то в их недрах не бывало ни зимы, ни лета; кстати, сознаюсь, что желание увидать и поближе узнать моего чудаковатого корреспондента немало способствовало моему решению.
Итак, охотники отправились в одну сторону, я — в противоположную, к Эттерсбергу, и тут же стал сочинять оду под названием «Зимнее путешествие на Гарц», которая так долго оставалась загадкой среди моих небольших стихотворений. С севера шли темные снеговые тучи, среди них высоко надо мною парил ястреб. Ночевал я в Зондерсхаузене, а на следующий день так быстро дошел до Нордхаузена, что после обеда решил немедленно двинуться дальше; однако до Ильфельда, после целого ряда приключений, добрался очень поздно, несмотря на проводника и зажженный фонарь.
Постоялый двор внушительных размеров был ярко освещен, — там, очевидно, отмечался какой-то праздник. Поначалу хозяин не хотел пускать меня: эмиссары важнейших дворов, говорил он, давно занимаются здесь серьезными делами по согласованию интересов, а поскольку им это наконец удалось, то сегодня у них пир горой. Уступая уговорам и намекам проводника, убеждавшего, что со мною нельзя так поступать, хозяин согласился освободить мне маленькое помещеньице, отделенное от залы деревянной перегородкой, и свое супружеское ложе, покрытое белым покрывалом. Он провел меня через эту залу, так что я успел краем глаза увидеть всех там присутствовавших.
А дырка на месте сучка в одной из досок дала мне возможность внимательно понаблюдать за гостями и этим немного поразвлечься. Видимо, она служила и хозяину для подслушивания разговоров своих постояльцев. Я видел длинный стол, обращенный ко мне нижним концом, напомнивший мне картины «Брак в Кане Галилейской», потом я оглядел сидевших за столом гостей: председательствующие, советники, другие участники, далее — секретари, писаря, помощники писарей. Счастливое окончание тягостного дела словно уравняло присутствующих, — все болтали что бог на душу положит, пили за здоровье друг друга, острили; некоторые из гостей были явно выбраны в качестве мишеней для довольно злых шуток. Короче говоря, веселое застолье. Я мог наблюдать его спокойно, во всех его особенностях и деталях, словно рядом со мною находился хромой бес, позволивший мне непосредственно увидеть и узнать жизнь других людей. А насколько позабавила меня такая сцена после путешествия по Гарцу в кромешной тьме, по достоинству оценят любители подобных приключений. Порою все, что я видел, казалось мне призрачным, словно духи веселились предо мною в горной пещере.
Отлично выспавшись за ночь, я чуть свет поспешил с моим проводником к Бауманновой пещере, излазил ее вдоль и поперек и досконально ознакомился с поразившим меня волшебством Природы. Массы черного мрамора, растворявшегося и тут же вновь слагавшегося в белые кристаллические колонны и плоскости, непреложно убеждали меня в беспредельности и непрерывности чудотворных сил Природы. Правда, перед трезвым взором начисто исчезли те фантастические образы, которые так любит создавать из несуразной бесформенности наше мрачное воображение; но тем отчетливее и чище проступало доподлинно чудесное, так дивно меня обогатившее.
Выйдя из пещеры, я тут же внес в дневник важнейшие мои наблюдения, но рядом с ними также и новорожденные строфы «Зимнего путешествия на Гарц», стихотворения, и по настоящее время еще привлекающего к себе внимание многих моих друзей. Здесь приводятся мною лишь некоторые из этих строф, прямо относящиеся к тому — по-своему любопытному — человеку, с которым мы вскоре повстречаемся. Они лучше пространных рассуждений передают тогдашнее состояние души моей.
Но кто там бредет?
Исчезает в чащобе тропа,
И сплетается поросль
У него за спиной,
Подымаются травы —
Глушь его поглощает.
Кто уврачует больного,
Если бальзам для него
Обратился в отраву,
Если несчастный вкусил
Ненависть в чаше любви?
Прежде презренный, ныне презревший,
Он тишком истощает
Богатство своих достоинств
В себялюбивой тщете.
Если есть на лире твоей,
Отче любви,
Хоть единый звук,
Его слуху внятный,
Услади ему сердце!
Взор яви из-за туч,
Освети родники без числа
Жаждущему в пустыне![16].
Приехав в Вернигероде и остановившись в гостинице, я тут же вступил в пространный разговор с кельнером. Он оказался человеком смышленым и, как видно, неплохо знающим своих сограждан. Я сказал ему, что, попадая в незнакомый город без особых рекомендаций, я обычно справляюсь о молодых людях, преданных науке и искусствам; не может ли он назвать мне такого юношу, с которым я мог бы еще сегодня провести приятный вечер. Кельнер, ничуть не задумываясь, ответил, что мог бы мне посоветовать свидеться с неким господином Плессингом, сыном суперинтенданта. Он еще мальчиком поражал своих учителей выдающимися способностями, да и теперь пользуется репутацией человека немалых знаний и светлого разума. Правда, многие не одобряют его неизменно мрачного настроения и то, что он себя как бы сам изъял из круга своих сверстников недружелюбным поведением. Но с приезжими, по общему приговору, он ведет себя неизменно вежливо и предупредительно. Словом, если мне угодно сообщить господину Плессингу о своем желании встретиться, это можно сделать безотлагательно.
Кельнер вскоре принес мне его положительный ответ и вызвался проводить меня. Уже сгущались вечерние сумерки, когда я вошел в большую комнату, каковая, как правило, расположена в нижнем этаже любого пастората; полумрак не помешал мне в общих чертах уловить внешний облик молодого человека. К тому же я угадал по некоторым приметам, что его родители только недавно покинули комнату, чтобы не помешать беседе сына с подошедшим гостем.
При свете внесенных свечей я яснее разглядел молодого Плессинга. Он был удивительно похож на свое письмо; возбуждая к себе интерес, он отнюдь не внушал особой симпатии.
Чтобы дать предстоящему разговору определенное направление, я выдал себя за рисовальщика из города Готы, которого побудили семейные обстоятельства посетить в эту непригожую погоду сестру и зятя, проживающих в Брауншвейге.
«Ну, раз вы так близко живете от Веймара, — перебил он меня с необычайной живостью, — вы уж, конечно, бывали и в этом достославном городе». Я подтвердил его догадку и начал подробный рассказ о советнике Краузе и возглавляемой им школе рисования, о легационном советнике Бертухе и его кипучей деятельности; не забыл я упомянуть ни Музеуса, ни Ягемана, а также капельмейстера Вольфа и некоторых выдающихся женщин, составивших единый кружок, охотно принимающий в свою среду местных и иногородних жителей.
Но тут он выпалил уже с заметным нетерпением: «Почему же вы ни словом не обмолвились о Гете?» Я ответил, что и его, конечно, встречал в этом кругу, где его почитают весьма желанным гостем, более того, Гете и меня обласкал и благосклонно поддержал своим вниманием как приезжего художника; но говорить о нем подробнее мне едва ли удастся: он чаще живет в плодотворном одиночестве, да и вращается в совсем других, более высоких, сферах.
Молодой человек, слушавший меня с напряженным вниманием, настойчиво потребовал от меня более подробной передачи моих впечатлений от этой странной личности, о которой кто теперь только не говорит. Я бесхитростно набросал его портрет, что мне не стоило большого труда, так как эта личность стояла передо мной, к тому же в достаточно странном положении; так что, будь мой слушатель чуть щедрее наделен от рождения тем, что зовется «умом сердца», от него бы не скрылось, что стоящий перед ним гость описал самого себя.
Молодой Плессинг долго шагал по большой комнате. Но тут подошла горничная с бутылкой вина и изящно сервированной холодной закуской. Когда все было поставлено на стол, мой собеседник налил вина нам обоим, чокнулся и тут же поспешно осушил свой бокал. Едва я, чуть помедлив, поглотил содержимое моего бокала, он, энергично схватив мою руку, воскликнул: «О, простите мое странное поведение! Но вы внушили мне такое доверие, что я ничего не могу скрыть от вас. Мне кажется, что человек, которого вы так хорошо описали, все же должен был бы мне ответить; я написал ему подробное, откровеннейшее письмо, открыл ему все мои страдания, всю мою тягостную жизнь и просил его поддержать меня, подать мне спасительный совет. Но вот прошло уже шесть месяцев, а от него ни слуху ни духу. Неужели же моя горячая исповедь не заслужила ответа, хотя бы отрицательного?»
Я ответил, что не берусь ни понять, ни извинить такого поведения. Но одно мне все же известно, что этот вообще-то добрый, благожелательный и отзывчивый юноша всегда так плотно осаждаем в прямом и переносном смысле великим множеством людей, что иной раз он и впрямь не может пошевелиться, а не то что оказывать действенную помощь.
«Ну раз мы до столького уже договорились, — сказал он более спокойным голосом, — так позвольте мне прочесть мое письмо и судите сами: разве оно не заслуживает ответа или хотя бы возражения?»
Я зашагал по комнате в ожидании чтения и стараясь ни о чем не думать, зная наперед, какое впечатление оно на меня должно произвести, и беспокоясь только о том, как бы себя не выдать, не нарушить взятой на себя роли при столь деликатном обстоятельстве. Тут он сел против меня и начал читать, страницу за страницей, все письмо, так хорошо мне знакомое. И никогда, быть может, я не был так убежден в правоте физиогномистов, утверждающих, что любое одушевленное существо в каждом своем проявлении, в каждой своей повадке находится в полном согласии с самим собой и что любая монада, ставшая реальностью, заявляет о себе прежде всего неизменным единством всех своих своеобычных проявлений. Чтец полностью соответствовал прочитанному: письмо в равной степени не находило во мне отклика — как в отсутствие, так и в присутствии его автора. И все же этому юноше нельзя было отказать в уважении, нельзя было отнестись к нему безучастно, что подтверждалось уже самим фактом моего приезда в этот город. Письмо явно свидетельствовало о серьезности его стремлений, о поисках благородного ума некой высшей цели. Речь в нем, казалось бы, шла о самых тонких чувствах, но их изложение было начисто лишено какого-либо обаяния; в каждой строке, в каждом обороте его речи сказывался свойственный ему крайне ограниченный самолюбивый эгоцентризм. Закончив чтение, он с торопливой настойчивостью спросил меня, каково мое мнение: неужели же его письмо не заслуживает, более того, не требует ответа?
Теперь мне точнее, чем когда-либо, уяснилась великая беда этого молодого человека: он ничего не знал о внешнем мире, все почерпалось им только из обширной его начитанности. Все свои силы, все свои способности он обращал вовнутрь; а так как в душе его отсутствовал хотя бы проблеск таланта, то он, можно сказать, был изничтожен и раздавлен навалом приобретенных им разнородных знании. Странно, но этому молодому человеку были, видимо, начисто незнакомы и те светлые радости, которые так дивно обогащают всех, кто изучает языки классической древности.
Так как я уже не раз с успехом испытывал в схожих обстоятельствах и на себе, да и на других, одно средство, а именно доверчивое обращение к природе в ее безграничном разнообразии, я попытался применить таковое и в данном случае, а потому после некоторых колебаний обратился к моему собеседнику с такой речью:
«Мне кажется, я отчасти уразумел, почему тот молодой человек, к кому вы обратились с таким чрезвычайным доверием, оставил вас без ответа. Дело в том, что нынешний его образ мыслей так противоположен вашему, что он, надо думать, не надеялся установить с вами какого-либо взаимопонимания. Мне случалось присутствовать во время оживленных бесед в том дружеском кружке, о котором я вам говорил, и мне пришлось слышать из его же уст, что, по его разумению, имеется только одно средство спастись, избавиться от болезненного, мрачного, самоистязательного душевного состояния, и это средство — внимательное созерцание природы и сердечное участие ко всему, что творится во внешнем мире. Уже самое общее знакомство с природой, безразлично, с какой ее стороной и на каком трудовом поприще ты с нею соприкоснулся, в качестве садовника или земледельца, охотника или рудокопа, отвлекает нас от бесплодного самоанализа. И, напротив, когда мы направляем все наши духовные силы на познание реальных, бесспорно существующих явлений, это постепенно вселяет в нас великий покой и удовлетворенность ясностью, уже нами достигнутой. Вот почему судьба художника, неизменно верного природе и вместе с тем стремящегося расширить и усовершенствовать свою душу, представляется нам наиболее завидной».
Мой юный друг внимал моим словам с нетерпением, с явным беспокойством и с возраставшей досадой, как слушаешь речь, произнесенную на неизвестном тебе языке или уж очень запутанную. Я же, без надежды на успех, тем не менее продолжал говорить, лишь бы только не погрузиться в обидное молчание. «Мне как пейзажисту, — говорил я, — все эти мысли были особенно дороги, поскольку мое искусство непосредственно обращено к природе. Но с тех пор, как мне довелось их услышать, я стал усерднее и ревностнее присматриваться к природе, не только к особо прекрасным и выразительным ландшафтам, но и ко всем ее порождениям, не обходя ни одно из них своей преданной любовью». И тут, чтобы не погрязнуть в общих местах, я ему признался, что даже это — казалось бы, вынужденное — зимнее путешествие было для меня не в тягость, а в непроходящую радость. Я поэтически, но в самых обыденных, безыскусных словах описал ему все, что повстречалось мне на пути: и раннее утро с блестящим снежным покровом на горных вершинах, и бескрайнюю лесную чащу при непрерывно меняющемся освещении; я пытался воздвигнуть в его дремлющем воображении причудливые башни и крепостные бастионы Нордгаузена, увиденные мною уже в сгустившихся сумерках, и — далее — ночное журчание вод, низвергающихся в тесные ущелья и нет-нет да обретающих мимолетную видимость в неверном мерцании фонаря моего вожатого. Так я вплотную подошел к рассказу о Бауманновой пещере, но тут же был прерван моим слушателем.
«Если я о чем жалею, — сказал он, — так это о времени, потраченном мною на хождение к этой пещере. Где уж ей было тягаться с моим представлением о ней, порожденным моей фантазией?» После сказанного выше меня не могли особенно огорчить болезненные симптомы его душевного состояния: ведь я не первый раз видел, что человек предпочитает достоинству ясной действительности туманный морок своего воображения. Не более удивило меня и то, что в ответ на мой вопрос, какою же он представлял себе эту пещеру, наш молодой друг обрисовал ее так, как едва ли бы удалось самому смелому театральному художнику воссоздать притворы Плутонова царства.
Я испробовал еще несколько пропедевтических средств, чтобы уяснить себе, какого курса лечения следовало бы ему придерживаться. Но строптивый юноша так решительно заявил, что ничто в мире удовлетворить его не может, и душа моя для него поневоле замкнулась. Проделанный мною ради него трудный путь я счел достаточным проявлением доброй воли, чтобы успокоить мою совесть и признать себя свободным от каких-либо перед ним обязательств.
Было очень поздно, когда он вызвался прочесть мне еще и второе, более резкое, свое послание, которое я тоже помнил слово в слово. Но тут я сослался на чрезмерную усталость, и он уважил мою отговорку; тем настоятельнее он приглашал меня, от имени родителей, к раннему завтраку. Я порешил тогда же утром ему открыться. А пока мы расстались мирно и благоприлично. Личность его произвела на меня весьма своеобычное впечатление. Роста он был среднего, черты лица его не были привлекательны, но нельзя сказать, чтобы уж очень отталкивающи; при всей своей мрачности он не был невежлив, скорее даже мог сойти за вполне благовоспитанного молодого человека, который в тиши, в гимназии и в университете, усердно готовился занять церковную или академическую кафедру.
Выйдя на улицу, я убедился, что небо к ночи прояснелось, вызвездило, а улицы и площади густо устланы сверкающим снежным покровом. Я задержался на проторенной тропинке, залюбовавшись полуночной снежной былью. Обдумав сегодняшнюю встречу, я принял твердое решение более не встречаться с этим молодым человеком, а посему велел подать мне лошадь, едва займется рассвет. Кельнеру я вручил карандашную записку без подписи с просьбой доставить ее молодому человеку, с которым он меня познакомил, устно же присовокупил к моим извинениям несколько добрых и правдивых слов, не сомневаясь, что мой угодливый вестник сумеет их изрядно приукрасить.
Я ехал в Гослар через Раммельсберг, где ознакомился с медеплавильными печами и другими техническими приспособлениями сходного назначения, стараясь понять и запомнить их устройство. Продолжив свой путь, я должен был придерживаться северо-восточного склона Гарца, подвергаясь ярым налетам ветра и хлопьев метели. Но об этом распространяться не буду, в надежде, что вскоре выпадет случай поговорить с моими читателями подробнее.
Не помню, долго ли я оставался в неведении касательно моего вернигеродского знакомца, когда нежданно в мой веймарский Садовый домик поступило его письмецо с просьбою повстречаться; я тут же ответил, что буду рад его видеть. Уже я мысленно предвосхищал сцену недоуменного узнавания, но вошедший молодой человек спокойно сказал мне: «Я ничуть не удивлен вас застать здесь. Почерк, которым написано ваше приглашение, мне сразу же напомнил те строки, что вы мне направили, покидая наш город, а заодно и тогдашнего таинственного посетителя».
Такое начало возобновившихся отношений меня не могло не порадовать; между нами завязалась доверительная беседа: он обрисовал мне положение, в котором очутился, я же прямодушно высказал свои мнения. Не берусь судить, действительно ли изменилось его душевное состояние, но надо думать, что с ним все обстояло не так уже плохо, — во всяком случае, мы, после ряда откровенных объяснений, расстались друг с другом мирно и дружелюбно, только что я не мог ответить взаимностью на его жгучее желание заключить со мною страстную дружбу и душевную близость.
Некоторое время мы еще поддерживали довольно усердную переписку, тем более что мне не раз представлялась возможность оказывать ему весьма существенные услуги, о чем он всегда вспоминал с благодарностью при наших редких встречах. А впрочем, и он и я не без удовольствия вспоминали о наших первых встречах. У него, по-прежнему более всего занятого собою, было, конечно, о чем порассказать и в чем поисповедоваться. Надо сказать, что ему со временем посчастливилось добиться положения довольно видного писателя, автора серьезных трудов по древнейшей философии, особенно связанной с мифологическими представлениями первобытных народов. Таким путем он надеялся выявить религиозные истоки прамышления раннего человечества. Плессинг присылал мне все свои книги по мере их выхода в свет, но, признаюсь, читать их я так и не отважился — слишком далеки были его кропотливые труды от насущных моих интересов.
Не скрою, и теперешний образ его жизни меня тоже никак не мог утешить. В дни молодости он запустил, а быть может, и высокомерно презрел лингвистические и исторические знания, чтобы потом тем яростнее овладеть ими. Таким безмерным духовным рвением он истощил свои физические силы; а материальные его обстоятельства были далеко не из лучших. Ограниченность его доходов никак ему не позволяла сколько-либо печься о здоровье, щадить свой уже изрядно изношенный организм. К тому же он так и не преодолел самоистребительных привычек поры своей мрачной юности. Казалось, он и теперь по-прежнему стремится к недосягаемой цели. А потому, когда нам обоим наскучило предаваться сладостным воспоминаниям, наша непринужденная общительность сама собой прекратилась. Мы разошлись в полном мире и согласии, но меня не покидали страх и тревога о нем в связи с наступившими бедственными временами.
Навещал я тогда и достославного Меррена, обширные естественнонаучные познания которого сообщали нашим беседам незабываемую привлекательность. Он показал мне множество примечательных экспонатов и подарил свое сочинение о змеях, что меня побудило и впредь относиться с особым вниманием ко всей его деятельности, и это пошло мне на пользу. Ведь общение с выдающимися людьми доставляет почти ту же своеобразную выгоду, что и путешествия: поразившая нас личность, подобно полюбившейся местности, приковывает к себе человека до конца его дней и пробуждает в нас неиссякающее участие.
Мюнстер, ноябрь 1792 г.
Заранее оповестив княгиню о своем приезде, я надеялся обрести благоустроенный приют тотчас по прибытии в Мюнстер. Но рок судил иначе: мне еще предстояло претерпеть очередное досадное неудобство, на каковые не скупилось выпавшее на нашу долю беспокойное время. Задержавшись в пути по ряду непредвиденных причин, я прибыл в город глубокой ночью, и мне представилось неудобным сразу же подвергнуть испытанию гостеприимство княгини, нагрянув к ней в столь неурочный час. Посему я велел отвести меня в гостиницу, но там мне решительно отказали и в комнате и в ночлеге. Дело в том, что волна эмигрантов докатилась уже и до этих мест: ни одного свободного номера не оказалось. Не долго думая, я порешил просидеть остаток ночи на стуле в опустевшем ресторанном зале — все лучше, чем блуждать под проливным дождем в тщетных поисках пристанища.
Наступившее утро с лихвою вознаградило меня за ночное неустройство. Княгиня вышла мне навстречу; все в доме было приготовлено к моему приему. Я, со своей стороны, тоже приготовился к предстоящим мне встречам: я знал ее окружение, знал, что буду здесь общаться с людьми глубоко нравственными и непритворно религиозными, соответственно чему я и стану держаться. Что же касается княгини и ее присных, то они никогда не нарушат светской обходительности и того, что зовется «гостеприимством мысли».
Несколько лет тому назад княгиня посетила нас в Веймаре с сыном, с дочерью и с господами фон Фюрстенбергом и Гемстергейсом. Уже тогда мы с ними сошлись во многом, уступая друг другу в одном и молчаливо допуская другое, и расстались добрыми друзьями. Княгиня принадлежала к разряду людей, о которых нельзя составить себе верное представление без длительного общения с ними от лица к лицу, без дачи себе ясного отчета, почему именно эта самобытная личность иное принимает из духовного обихода своего времени, другое же решительно отвергает. Иными словами, понять ее было возможно, только разобравшись в ее контактах и конфликтах со сверстной эпохой. Фон Фюрстенберг и Гемстергейс, два превосходных человека, были неизменными друзьями и единомышленниками княгини. В общении с ними идеи Добра и Красоты никогда не утрачивали своей занимательности и живительной силы. Гемстергейс к тому времени уже умер, но Фюрстенберг, хотя и значительно превосходивший его годами, оставался все тем же рассудительным, благородным и уравновешенным человеком. Необычным было уже его положение в этом мире! Видный иерарх католической церкви и просвещенный государственный деятель, он чуть было даже ни удостоился высокого сана князя-епископа.
Наш первый большой разговор, сейчас же после краткого обмена давними воспоминаниями, был всецело посвящен Гаманну, надгробный памятник которому я вскоре обнаружил в отдаленном уголке безлиственного ноябрьского сада.
Высокие свойства его души послужили нам исходной точкой для многих интереснейших высказываний; но последние дни его жизни всеми тщательно обходились молчанием. Как ни странно, но этот замечательный человек, сам на склоне своей жизни прилепившийся душой к кружку столь достойнейших людей и ставший для них желанным, почитаемым другом, опочив в доме княгини, сделался для новых своих друзей отчасти уже неудобен, ибо любой вид его захоронения не укладывался в формы существующей обрядности.
Говорить о духовной жизни княгини нельзя без искренней любви и благоговения. Она рано постигла умом и сердцем, что высшее светское общество нам ничего дать не может, что надо уйти в себя, в свой сокровенный внутренний мир, чтобы вместе с кругом ближайших единомышленников проникнуть в смысл времени и вечности. Эта двойная задача всегда ею владела. Высшей идеей, выдвинутой ее временем, она почитала возврат к природе; здесь нельзя не вспомнить о максимах Руссо касательно гражданской жизни и воспитания детей. Надо во всем вернуться к наивно-естественному, расстаться с корсетами и высокими каблуками, стряхнуть с себя пудру, не завивать волос. Ее дети должны были научиться плавать, бегать, бороться, чуть ли не драться. Я с трудом узнал ее дочь — так она выросла и окрепла, сделалась рассудительна, услужлива и домовита, свыклась с простой, почти монастырски-воздержанной жизнью. Так обстояло дело с преходящим временем; что же касается вечности, бытия извечно-грядущего, то княгиня без труда проникала в эту выспреннюю сферу с помощью присущего ей религиозного чувства, которое свято подтверждало и твердо обещало все то, чему нас учит и на что призывает нас уповать догматическое вероучение.
Роль прекрасной посредницы между этими двумя мирами исполняла благотворительность — кроткое порождение сурового аскетизма. Жизнь княгини и людей ее круга была сплошь заполнена религиозными упражнениями и добрыми делами. Весь уклад ее дома свидетельствовал об укоренившейся скромности, об умении довольствоваться малым. Все насущные потребности сполна удовлетворялись, но без излишних затрат: мебель, посуда и прочая утварь не отличались ни роскошью, ни изяществом. Казалось, что жизнь здесь протекает в удобной, но толком не обставленной наемной квартире. То же можно было бы сказать и о домашней обстановке Фюрстенберга. Он жил во дворце, не будучи его владельцем, детей у него, как у викарного епископа, тоже не было, никто ему не наследовал, сам же он был человеком простым и непритязательным, придававшим значение внутреннему, никак не внешнему достоинству, как, впрочем, и его приятельница княгиня. Но в этих невзрачных, скромных помещениях велись беседы, самые тонкие и задушевные, глубокие благодаря их философичности и радостные благодаря искусству; ведь в философии редко исходят от общих отправных точек, тогда как, занимаясь искусством, часто приходят к одинаковым выводам.
Гемстергейс, нидерландец по крови, человек тонкого ума, с юных лет погрузившийся в мир античной культуры, посвятил свою жизнь княгине, о чем немолчно свидетельствуют его сочинения, проникнутые духом взаимного доверия и общностью пройденного ими пути духовного развития.
Руководствуясь никогда ему не изменявшим тонким, проницательным чутьем, этот бесценный человек неустанно стремился проникнуть как в духовно-нравственную, так и в чувственно-эстетическую сферу классической древности. Духовно-нравственным началом надо проникнуться самому, тогда как чувственно-эстетическое должно неизменно окружать тебя; почему для частного лица, не располагающего большими помещениями и к тому же несогласного отказывать себе в наслаждении искусством даже во время путешествий, нет ничего более желанного, как поучительно-драгоценное собрание резных камней, которое может повсюду следовать за ним, а главное, не прерывать его благородных занятий и досугов.
Но чтобы составить примечательную коллекцию, мало только страстно того возжелать; здесь — помимо потребных средств — необходимо еще и везение. Судьба не обделила нашего друга благоприятствующими случайностями. Проживая на стыке Голландии с Англией, он зорко наблюдал за круговоротом товаров, не прекращавшимся между обеими странами, в том числе и художественных ценностей, вовлеченных в это оживленное коммерческое коловращение. Так он постепенно, что покупая, что приобретая в обмен, составил превосходную коллекцию из семидесяти гемм при содействии замечательного резчика Наттера, к советам и предложениям которого он проникся особенным доверием.
Большая часть этой коллекции возникла на глазах у княгини; она и сама обрела вкус к резным камням, прониклась любовью к античным геммам и недурно в них разбиралась. После смерти своего ближайшего друга она унаследовала его коллекцию, в которой он всегда как бы незримо соприсутствовал.
Философию Гемстергейса, ее исходные положения и последовательное ее изложение, я мог освоить не иначе как переводя таковую на язык моего собственного мышления. Прекрасное и та радость, которая от него исходит, — так говорил Гемстергейс, — объясняется тем, что оно, прекрасное, дает нам возможность отчетливо видеть и постигать в едином миге великое множество представлений. Я бы выразился иначе: прекрасным мы признаем то, когда видим закономерно возникшее порождение жизни в состоянии величайшего напряжения всех ее творческих сил, а значит, и в ее совершенстве. Порываясь его воспроизвести, мы и сами ощущаем в себе полноту жизни и прилив высокой дееспособности. По сути, здесь высказывается — и им и мною — одна и та же мысль, только что разными людьми. Воздержусь от дальнейших разъяснений, замечу лишь, что прекрасное не столько совершает, сколько обещает, тогда как безобразное — всегда результат заминки, торможения и, в свою очередь, приводит к торможению, не оставляя простора для надежд, желаний и ожиданий.
Я думаю, что мне удастся истолковать в духе моих воззрений и его «Письмо о скульптуре»; уяснил я себе таким же образом и его книжечку «О желаниях». Ведь случается, что прекрасное, о котором мы так страстно мечтали, становясь нашей собственностью, далеко не всегда и не всеми частными своими качествами отвечает нашим ожиданиям в той мере, в какой оно восхищало нас в целом, а отсюда следует, что понравившееся нам целое в деталях может и не удовлетворять нас в полной мере.
Такого рода наблюдения занимали нас уже потому, что княгиня не раз замечала, что ее друг, страстно желавший приобрести то или иное произведение искусства и обретя таковое, вскорости остывал к нему, о чем так изящно и тонко повествует он сам в своей книжечке. При этом следует, конечно, давать себе отчет: заслуживало ли приобретенное произведение энтузиазма, проявленного нашим коллекционером, — если да, то его радость и восхищение будут всегда возрастать и обновляться; если же не совсем так, то температура восторга опустится на несколько градусов, и мы выиграем в разумении то, что утратили в силу былой своей предвзятости. А посему правы истинные ценители, утверждающие, что надо-де покупать произведения искусства, чтобы научиться их оценивать, а для этого прежде всего необходимо отбросить жажду приобретения, сообщающую предмету мнимое достоинство. Однако и здесь следует равномерно чередовать томление с удовлетворенностью, не давать первому возобладать над второй, чтобы не нарушить тем самым правильной пульсации жизни, дабы однажды обманувшийся окончательно не утратил способности желать и обладать.
О том, как восприимчиво было общество, в котором я находился, к такого рода рассуждениям, легко убедится каждый, кому довелось ознакомиться с сочинениями Гемстергейса, возникшими и вскормленными в этом избранном кругу.
Вновь и вновь возвращаться к осмотру резных камней не раз доставляло нам ни с чем не сравнимую радость. И как не воздать должного тому поразительнейшему обстоятельству, что этот чудесный цвет язычества хранился и высоко почитался как раз в таком истинно христианском доме. Я не уставал отмечать очаровательные мотивы, открывавшиеся внимательному глазу, всматривавшемуся в сии дивные скульптурные миниатюры. Кто станет отрицать, что эти воссоздания великих мощных творений древних, которые, не будь этих гемм, для нас навечно были бы утрачены, что они сохранились для потомства, подобно россыпи драгоценных алмазов, в данном собрании на предельно малом пространстве — и в каком же богатом разнообразии! Тут и увенчанный плющом ражий Геркулес, искусно выдающий колоссальные размеры своего прообраза. Здесь и зловещая голова Медузы, а также Вакх, некогда хранившийся в кунсткамере Медичи, и рядом — прелестные сцены древних жертвоприношений и вакханалий, а в довершение всего — бесценные портреты известных и безвестных лиц стародавних времен. Всем этим мы восхищались неоднократно.
Нашим разговорам, невзирая на возвышенное и глубокое их содержание, ничто не грозило сорваться в пропасть туманной невнятицы (да такая опасность и не намечалась), она словно бы даже объединяла нас в некое сообщество, поелику почитание достойных предметов всегда сопровождается неким религиозным чувством. И все же мы не могли не сознавать, что самый дух христианской религии — всегда в разладе с подлинным изобразительным искусством, поскольку христианство стремится уйти от всего чувственного, тогда как пластичные искусства признают область чувственного исконным поприщем своего творчества и никогда не решатся от нее отречься. В подтверждение сказанного я тут же, не сходя с места, написал нижеследующее стихотворение:
Как-то Амур — не дитя, а плут, обольстивший Психею,—
Дерзко взошел на Олимп в поисках новых побед;
Там он увидел ее, Венеру-Уранию, краше
Прочих богинь, и любовь вспыхнула в сердце его;
Но опалил и ее, пречистую, пламень нещадный,
Сопротивляться она ласкам его не могла.
Так появился на свет другой Амур, получивший
Чувственный пыл от отца, скромность от матери в дар.
Вечно в обители муз и дни он проводит и ночи,
И острие его стрел будит к искусствам любовь[17].
Этот аллегорический символ веры хоть и ни в ком не вызвал недовольства, но и общего признания все же не удостоился. Ибо обе стороны вменяли себе в долг выражать лишь такие свои чувства и убеждения, какие разделялись бы всеми и служили бы взаимному поучению и наставлению, не вызывая какой-либо распри и разномыслия.
Нельзя не признать, что рассматривание резных камней всегда с успехом заполняло ценным посредствующим звеном любую брешь, грозившую образоваться в оживленном разговоре. Что до меня, то я был разве что способен отмечать и восхвалять чисто поэтические достоинства гемм, их мотивы, их композицию, точность изображения, тогда как у иных вошло в привычку предаваться более тонким наблюдениям. И то сказать, для истинного любителя, приобретающего эти драгоценности и задавшегося целью и впрямь составить образцовую коллекцию, чтобы быть уверенным в бесспорной ценности приобретенного, недостаточно проникнуть в дух и смысл сих художественных изделий и простодушно ими наслаждаться; он должен брать во внимание также и внешние качественные достоинства своего собрания, в каковых не так-то просто разобраться тому, кто сам не освоил технику данной отрасли искусства. Гемстергейс поддерживал с этой целью многолетнюю переписку со своим другом Наттером, и их поучительные письма частично еще сохранились. В них, в частности и преимущественно, говорилось о различных породах камня, которыми пользовались художники, причем в старину предпочитались породы одних камней, а в более поздние времена — другие. Особое внимание обращалось на тщательность обработки камня, на искусное выполнение деталей, что якобы позволяло относить отвечавшие этим требованиям геммы к счастливейшей, более давней поре, тогда как небрежная работа, напротив, указывала на духовное оскудение мастерства, хотя, конечно, и на неспособность резчика или его легкомысленное отношение к своей работе — всё черты, которые приписывались более поздним поколениям. Обращалось сугубое внимание также и на качество полировки в углубленных местах на поверхности камня, будто бы тоже неоспоримо подтверждающее древнейшее происхождение геммы. И все же никто не решался установить твердые критерии, которые давали бы возможность признать данный резной камень подлинно античным или же изделием новейшего времени. Сам Гемстергейс полагался в вопросах датировки художественных произведений на суждения своего друга Наттера, выдающегося мастера по резьбе на камне.
Я нисколько не скрывал, что, соприкоснувшись с данной областью искусства, так глубоко меня затронувшей, оказался полнейшим новичком, и не раз высказывал сожаление, что краткость моего здешнего пребывания вскоре прервет возможность направлять мой глаз и мою пытливость на дальнейшее освоение этой особи искусства. Княгиня, со свойственной ей прямотой и благожелательностью, изъявила свое согласие предоставить мне в пользование всю коллекцию, с тем чтобы я у себя дома совместно с моими друзьями и признанными специалистами изучил и освоил эту отрасль пластического искусства, укрепляясь в своих выводах и наблюдениях с помощью серной и стеклянной пасты. Но я решительно отказался от такого заманчивого для меня и почетного предложения, которое — это я знал — не было только пустой любезностью. Признаюсь, что больше всего меня и пугало и смущало то, как хранились эти драгоценности. Геммы помещались в разных ящичках, как придется: то хранилась в нем одна гемма, то две, а то и три. При осмотре такой коллекции не так-то просто заметить исчезновение одной из гемм. Сама княгиня призналась, что однажды в самом избранном обществе пропал камень с изображением Гермеса, что было замечено только впоследствии. Далее я указал, что едва ли следует в наше беспокойное время брать в дорогу такой ценный клад, взвалив на себя связанную со всяческими опасениями тяжкую ответственность. Поэтому я, высказав свою искреннюю благодарность княгине, счел необходимым привести все веские доводы в оправдание моего отказа. Княгиня как будто со мной соглашалась, я же старался каждую свободную минуту проводить в созерцании этих высокохудожественных изделий.
Как ни странно, а мне все-таки пришлось отчитаться в нашем кругу и в моих естественнонаучных наблюдениях, хотя я и предпочитал о них помалкивать, заранее зная, что тут они сочувствия не встретят. Но фон Фюрстенберг как-то обмолвился, что ему, к его изумлению (что почти звучало как «к крайнему его недоумению»), не раз приходилось слышать, будто я в связи с моими занятиями физиогномикой взялся за изучение остеологии, от которой вряд ли приходится ждать какой-либо помощи, занимаясь истолкованием черт лица человеческого. Возможно, да так оно и было, я и впрямь сказал кому-то из друзей, желая их примирить с моими занятиями остеологией, по их убеждению вовсе не подобающими поэту, что, еще будучи студентом, я ознакомился с азами этой науки, а теперь вот вновь обратился к этому источнику знания под влиянием Лафатеровой физиогномики. Что касается самого Лафатера, этого удачливого исследователя органически сложившихся человеческих лицевых черт, то он, придя к заключению, что не только лицевые рельефы, но не в меньшей степени и разновидности мышц и нашего кожного покрова, равно как и производимое ими впечатление, несомненно, зависят от костяка, то есть от внутренней костяной основы внешних обличий человеческого рода, счел необходимым поместить в своем обширном труде несколько гравюр, изображающих черепа также и животных, препоручив мне написать к таковым краткий комментарий. То, что я приводил в докладе из прежних моих высказываний, а также из новейших положений, подтверждающих справедливость моего подхода к этим явлениям, не могло привести к признанию моей правоты: подобные научные обоснования были еще очень далеки от уровня тогдашних воззрений. Поглощенные привычными представлениями, мои слушатели признавали известное значение разве что за подвижными чертами лица, да и то преимущественно в состоянии сильных аффектов, не давая себе отчета в том, что мы здесь имеем дело не с ничем закономерно не обусловленной видимостью, а с примечательным результатом внутренней органической жизни, проявляющейся во внешнем, подвижном, изменяющемся.
Куда лучше, чем доклад, сошли мои лекции, читанные перед большой аудиторией. На них присутствовали лица духовного звания, наделенные изощренным умом и тонкой восприимчивостью, а также юноши, хорошо сложенные и благовоспитанные, стремящиеся чего-то достигнуть в этой жизни, на что им давали право надеяться их недюжинные способности и твердые убеждения. Никем не поощренный в моем намерении, я избрал темой моего непринужденного разговора праздники Римской церкви: страстную неделю, пасху, праздник тела господня и день св. Петра и св. Павла, а также — для увеселения аудитории — освящение коней, лошадиный праздник, в коем принимали участие также и другие дворовые и комнатные животные. Эти праздники стояли у меня перед глазами со всеми мельчайшими характерными для каждого из них подробностями, так как я тогда как раз носился с мыслью написать «Римский год», развернув всю чреду, весь свиток церковных и светских торжеств, происходивших в Вечном городе, что дало мне возможность описать таковые по не померкшим в моей памяти непосредственным впечатлениям. Посему мои благочестивые католические слушатели были столь же довольны моим рассказом, как светская молодежь воссозданной мною картиной карнавала. Один из присутствующих, человек не очень осведомленный, шепотом спросил, правда ли я верующий католик. Об этом мне рассказала княгиня, заодно сообщив, что она незадолго до моего приезда получила ряд писем, в которых ей советовали относиться ко мне с некоторой опаской, я-де прекрасно умею прикидываться набожным христианином, чуть ли не католиком.
«Поверьте, дорогая, — воскликнул я, — я не притворяюсь набожным, а бываю им, когда чувствую в том потребность. Мне свойственно, и это дается мне легко, воспринимать все проявления жизни ясным и непредвзято-наивным взором и передавать их в таком же незамутненно-чистом виде. Карикатурные искажения, которыми грешат против возвышенных предметов черствые себялюбцы, были мне издавна ненавистны. Что мне не по душе, от того я отвращаю свой взор, но многое из того, что я не принимаю безусловно, мне все же удается понять в своей самобытности, и тут я нередко прихожу к убеждению, что и другие вправе существовать по-своему, как по-своему, согласно моим воззрениям, живу и я». Так был улажен и этот вопрос. Такое отнюдь не похвальное вмешательство в наши отношения привело к прямо противоположному результату: не к недоверию, как они того хотели, а, напротив, к полному доверию.
В таком деликатном окружении было невозможно позволить себе резкость, проявить недружелюбие; напротив, я чувствовал, что душа моя смягчилась, стала более кроткой, какой давно уже не была. Могло ли выпасть на мою долю большее счастье, как наконец-то, после всех ужасов войны и бесславного бегства, вновь испытать на себе благое воздействие прекраснодушной благочестивой человечности.
И все же я в такой благородной, безупречно-нравственной, радушно-гостеприимной среде однажды, уж не знаю, как это случилось, проявил себя строптиво и неуважительно. Я широко прославился своим, как говорили, отменным чтением стихов, свободным, естественным и выразительным, а потому все хотели меня услышать, а так как всем членам нашего кружка было известно мое страстное восхищение «Луизой» Фосса, напечатанной в ноябрьском номере «Меркурия» за 1784 год, мои деликатные друзья положили на подзеркальный столик означенный номер журнала в качестве скромного намека, призывавшего меня к ответной любезности. Я и теперь никак не могу понять, что мне тогда помешало воспользоваться случайной паузой в нашей беседе для того, чтобы порадовать других и себя чтением этой превосходной поэмы, но что-то сковало мои уста и мою волю, и я так и не преодолел своего непостижимого торможения.
Близился день отъезда, хочешь не хочешь, а надо было расставаться. «Теперь, — сказала мне княгиня, — никакие возражения вам не помогут, вы берете с собою резные камни, я этого требую». Но я продолжал отказываться в самых дружественных и уважительных словах. «Ну тогда я вам объясню, почему я на этом настаиваю. Дело в том, что мне не советовали доверить вам эти сокровища, и как раз потому-то я хочу и должна это сделать. Мне говорили, что я не настолько вас знаю, чтобы быть в вас вполне уверенной и в данном случае. На это я им ответила, — продолжала она: «Неужто вы думаете, что мнение, какое у меня о нем сложилось, мне не дороже этих камней? Если мне суждено в нем усомниться, так пусть вместе с моей верой в него заодно пропадут и эти камни». Я подчинился ее воле. Ее слова исполнили меня гордостью, но вместе с тем налагали на меня немалую ответственность. Все некогда выдвигавшиеся мною сомнения отпали благодаря деятельному участию княгини: серные отливки гемм были каталогизированы и уложены в те же ящички, что и оригиналы, и это давало возможность их сличать с таковыми в случае встретившейся в том надобности; вес всей этой сокровищницы был ничтожен и никого не мог обременить.
Так протекало наше дружеское прощание, но — еще не окончательное: княгиня высказала желание проводить меня до ближайшей почтовой станции и села ко мне в карету. Ее экипаж без седоков следовал за нами. Мы затронули во время последней нашей беседы и важнейшие вопросы касательно смысла жизни, а также наших религиозных убеждений. Я — кротко и миролюбиво повторив мой давний символ веры, она — высказав надежду встретиться со мной, если не здесь, на земле, так в потустороннем мире.
Эта прощальная формула благочестивых католиков была мне хорошо знакома и нисколько меня не коробила. Я не раз слышал ее при расставании со случайными курортными знакомыми и от благоволивших ко мне благодушных священников и не видел причины, чем меня могло бы задеть пожелание верующего католика вовлечь меня в свой праведный круг, где, по его убеждению, только и можно жить и мирно опочить, твердо уповая на вечное блаженство в райских кущах.
Благодаря дружескому обо мне попечению моей благородной спутницы, станционный смотритель не только ускорил мой отъезд, но и спешно известил смотрителя ближайшей станции о моем предстоящем приезде и о скорейшем препровождении меня на всем протяжении пути, как было им помечено в подорожной. Как позднее выяснилось, эта услуга оказалась весьма необходимой. Дело в том, что я за увлекательной беседой совсем позабыл, что меня нагоняет целая орава французских беглецов. И в самом деле, я вскоре, на мою беду, повстречался с великим множеством эмигрантов, улепетывавших в глубь Германии, к которым местные почтальоны относились ничуть не лучше, чем их собратья на Рейне. Шоссе местами пришло в полную негодность, приходилось объезжать эти провалы то справа, то слева, натыкаясь на встречных проезжающих и пересекая им дорогу. Вереск, кустарник, пни — одно другого не легче! Не обошлось и без грубых перебранок.
Одна карета застряла в рытвинах дороги. Пауль, быстро приземлившись, ринулся на помощь. Должно быть, подумал, что это все те же хорошенькие француженки, нуждавшиеся в его услугах. Он встретил их в Дюссельдорфе в самом плачевном положении. Бедная дама, так и не отыскавшая своего супруга, попала в водоворот наших злоключений, который вынес ее на правый берег Рейна.
Но здесь, в той глухомани, чрез которую мы продирались, ее не было. В карете сидело только несколько почтенных старых дам, и впрямь нуждавшихся в помощи. Но когда мы предложили ямщику остановиться и впрячь в карету и своих лошадей, наш возница отказался от этого наотрез, посоветовав нам позаботиться о нашей почтовой карете, битком набитой, как он сказал, серебром и золотом: ведь и она может при такой перегрузке застрять в дорожном месиве или, чего доброго, перевернуться. Хоть он и честный малый, но в этой проклятой пустыне он ни за что не может поручиться.
К счастью и к успокоению нашей совести, несколько вестфальских крестьян вызвалось за хорошую мзду поставить погрязшую карету на относительно благополучную проезжую часть дороги.
В нашей грузной почтовой карете тяжелее всего были железные обручи и втулки на колесах: драгоценности же, то бишь мои резные камни, не отягчили бы и легчайшего экипажа. Ах, кабы я ехал теперь в своей легонькой богемской карете! Так-то оно так, но меня не переставало страшить вздорное предположение почтаря, будто бы тяжесть пути вызвана перегрузкой кареты свертками золотых монет и драгоценностями. Эта небылица, как мы заметили, передавалась одним ямщиком другому. А так как наш приезд заранее возвещался подорожной, мы же из-за непогоды не могли соблюдать указанных в ней часов прибытия, то на каждой станции нас торопили с отъездом, то есть попросту выпроваживали в ночь и мокрядь, так что однажды — в темень хоть глаз выколи — с нами и вправду приключился случай, наводивший на самые мрачные размышления: ямщик ни за какие блага не соглашался везти дальше проклятую колымагу и остановился у одинокого домика на опушке леса. А домик был таков по своему виду, местонахождению и по своим обитателям, что даже и при свете сияющего дня могла взять тебя оторопь, на него глядючи. Но день, пусть даже самый серый, принес успокоение. Вспоминались добрые друзья, с которыми я еще так недавно проводил такие незабвенные часы. Я вдумывался в своеобычность каждого из них с любовью и уважением и воздавал должное их душевным качествам. Но наступала ночь, и опять мною овладевали былые страхи и опасения, и снова я чувствовал себя прескверно.
Но как ни были мрачны владевшие мною мысли в последнюю, самую непроглядную, ночь, они мигом развеялись, как только я въехал в Кассель, освещенный сотнями и тысячами фонарей. Глядя на этот избыток света, я всей душою ощутил преимущества стародавнего бюргерского уклада, благоденствие горожан, живущих за стеклом своих освещенных окон, а также обилие гостиниц и заезжих домов, всегда готовых принять под свой кров приезжего. Но мое благодушие было на время поколеблено, когда я остановил мою почтовую карету у великолепно иллюминированной, хорошо мне знакомой гостиницы на Королевской площади. Привратник мне сообщил, что свободных комнат в гостинице нет. Я не пожелал отступать. Тогда вежливо подошел к спущенному оконцу щеголеватый кельнер и на превосходном французском языке выразил сожаление, что мне не может быть предоставлена комната за неимением таковых. На это я ему заявил на чистейшем немецком, что меня крайне удивляет, что в столь большом здании, где я не раз останавливался, нельзя найти номера для иногороднего гостя, прибывшего глубокой ночью. «Так вы немец! — воскликнул кельнер. — Это другое дело», — и тут же велел ямщику въехать во двор гостиницы. Предоставив мне приличную комнату, хозяин сказал, что он твердо решил впредь не принимать ни одного эмигранта. Они ведут себя заносчиво и к тому же плохо платят: находясь в крайней беде, не зная, где приклонить свою голову, они все еще воображают, что находятся в завоеванной ими стране. Утром я распрощался с владельцем отеля по-дружески, и на дороге в Эйзенах уже не замечал такого наплыва непрошеных гостей.
Мой приезд в Веймар тоже не обошелся без приключения: дело в том, что я прибыл уже после полуночи, и тут разыгралась семейная сцена, которая в каком-нибудь романе могла бы развеять и потопить в веселье и смехе самый темный житейский сумрак.
Я нашел дом, мне предназначенный моим государем, уже перестроенным, приведенным в порядок и частично даже пригодным для жилья, но не настолько, чтобы вовсе лишить меня удовольствия участвовать в его достройке и отделке. Члены моей маленькой семьи были здоровы и веселы, но когда дело дошло до пересказа событий, то райское наше житие, в каковое они уверовали, лакомясь сластями, присланными им из Вердена, весьма и весьма контрастировало с невообразимыми тягчайшими испытаниями, выпавшими на нашу долю. Отрадно было, что наш тихий домашний круг обогатился и приумножился благодаря ставшему членом нашей семьи Генриху Мейеру — другу дома, художнику, знатоку искусств и верному сотруднику, принявшему живое участие в наших трудах поучающим словом и практической деятельностью.
Веймарский придворный театр существовал с 1791 года: лето тогдашнего и текущего нынешнего года он гастролировал в Лаухштадте и там, благодаря частому исполнению в большинстве своем высококачественных пьес, достиг изрядной сыгранности труппы. Таковая в основном состояла из актеров ансамбля, руководимого Джузеппе Белломо: все хорошо знали друг друга по совместным выступлениям на театральных подмостках. Имелись в труппе также и молодые актеры, частию уже с известным стажем, частию же еще только многообещающие новички. Эта артистическая молодежь неплохо заполнила брешь в былой труппе Белломо.
В те годы еще существовала одностильность актерского ремесла, дававшая возможность гармонического сотрудничества актеров из разных театров: драматических, — преимущественно из северной Германии, оперных — предпочтительнее из южной. Публика была ими довольна. Так как я уже и тогда был причастен к управлению театром, мне доставляло удовольствие потихоньку прикидывать, какого направления должна в дальнейшем придерживаться дирекция театра. Я вскоре осознал, что техника игры, основанная на подражании, ни к чему другому не приведет, как только к нивелировке театральной практики и к рутине. Нам недоставало того, что я про себя называл грамматикой, которую необходимо усвоить, прежде чем перейти к риторике и поэзии. Так как я думаю подробнее вернуться к этой теме и не хочу разбивать мое пространное рассуждение на малые кусочки, скажу только одно: что я поставил себе цель изучить именно эту технику, почерпающую все из прошлого и старающуюся свести все к отдельным ее составным частям и частным случаям, не посягая на какие-либо обобщения.
Мне очень пошло на пользу, что я начал задуманную работу с рассуждения о преобладавшем тогда на сцене так называемом естественном или разговорном штиле, который сам по себе достоин всяких похвал, коль скоро он — на уровне истинного искусства — воссоздает как бы вторую действительность, но отнюдь не в тех случаях, когда исполнители предстают перед публикой, так сказать, «в натуре», предполагая, что тем самым они уже сотворили нечто достойное полного признания и поощрения. Этим-то их влечением к полной простоте и непринужденности я и воспользовался в моих целях. Мне было даже по душе, что актеры умеют так свободно пользоваться своими прирожденными данными, с тем, однако, чтобы в дальнейшем подчинить свою игру известным законам и правилам, постепенно достигнуть более высокого уровня сценической культуры.
Но об этом не позволю себе здесь говорить подробнее, поскольку то, что было нами сделано и достигнуто, развивалось, как сказано, постепенно, изнутри и, значит, должно было бы излагаться в строгой исторической последовательности.
Тем более я обязан хотя бы кратко упомянуть об обстоятельствах, наиболее благоприятствовавших успеху вновь возникшего молодого театра. Иффланд и Коцебу как раз переживали тогда лучшую пору своего цветения. Их пьесы, простые и доходчивые, были направлены частию против тупого мещанского самодовольства, частию же — против беспутной вольности нравов. И то и другое умонастроение отвечало духу времени и пользовалось шумным одобрением публики. Некоторые пьесы исполнялись прямо по рукописи, обдавая зрителей живым ароматом мгновения. Захватывающая, счастливая одаренность Шредера, Бабо, Циглера немало содействовала отрадному впечатлению от спектаклей. Бретцнер и Юнгер (и они действовали в одно и то же время) предоставляли простор беззаботному веселью. Хагедорн и Хагемейстер, таланты, не выдержавшие испытания временем, тоже работали на потребу дня, и если их пьесы не вызывали восторгов, то все же охотно посещались как любопытные новинки. Желая духовно приобщить массовых потребителей пьес не ахти какого достоинства к большому искусству, мы знакомили публику с театром Шекспира, Гоцци и Шиллера. Отказавшись от дурной привычки ставить чуть ли не каждую мало-мальски сносную драматическую новинку, чтобы вскоре предать ее забвению, мы стали тщательнее отбирать пьесы для очередных постановок, тем самым составляя репертуар, продержавшийся до настоящего времени. Не хочется остаться в долгу перед человеком, который столь многим помог нам поставить на ноги наше театральное заведение. Я говорю о Ф.-Й. Фишере, уже немолодом актере, в совершенстве владевшем сценическим мастерством, человеке скромном и покладистом, не возражавшем против исполнения эпизодических ролей, в его исполнении становившихся значительными. Он привез с собой из Праги несколько артистов, придерживавшихся его взглядов и убеждений, и прекрасно сошелся с местными актерами, благодаря чему в театре установились мир и покой.
Что касается оперного репертуара, то мы отвели в нем немало места произведениям Диттерсдорфа, Наделенный изящным талантом и чувством юмора, он несколько лет подряд возглавлял княжеский театр, что сообщило его творениям приятную легкость и послужило нам на пользу, поскольку мы благоразумно смотрели на наше детище как на любительскую сцену. Много труда было положено на то, чтобы сообщить тексту как стихотворных, так и прозаических пьес своеобычность верхнесаксонского наречия, отвечающего вкусам публики, благодаря чему этот легкий товар пользовался неизменным успехом и популярностью.
Друзья, вернувшиеся из Италии, ввели в оперный репертуар сочинения Паизиелло, Чимарозы, Гульеми, а вслед за тем проник в наш театр и светлый гений Моцарта. Нельзя не принять во внимание, что большинство этих произведений было почти неизвестно и ни одно из них не заиграно — так как же не признать, что первые начинания Веймарского театра счастливо совпали с юношеской порой немецкого искусства, почему они и пользовались заслуженным успехом и поощряли естественное развитие самостоятельной отечественной культуры.
Чтобы облегчить и обеспечить безопасность пользования доверенной мне коллекцией гемм и начать ее изучение, я велел изготовить два изящных ящичка, дававших возможность единым взглядом обозреть все подряд в них размещенные геммы коллекции, так что любой пробел был бы тотчас же обнаружен. Вслед за тем были изготовлены во множестве экземпляров серные и гипсовые отливки, точное соответствие каковых с оригиналом проверялось сличением через сильные лупы: привлекались также для сравнения и старейшие слепки, нами по случаю раздобытые. Мы наглядно убеждались, что на такой солидной основе можно с успехом заняться изучением резных камней. Но сколь многим мы были обязаны дружескому благоволению к нам княгини, нам открылось только со временем.
Мы позволили себе включить сюда этот результат наших многолетних наблюдений только потому, что едва ли мне удастся в ближайшем времени всецело сосредоточить свое внимание на вопросе, здесь нами затронутом.
Веймарские друзья, основываясь на своем эстетическом чутье и опыте, сочли себя вправе признать подлинно античными если не все, то большинство резных камней коллекции, бесспорно принадлежащих к наилучшим произведениям этой особи пластического искусства. Подлинниками были сочтены и некоторые геммы, вполне тождественные со стариннейшими серными отливками; относительно других говорилось, что нанесенные на них изображения совпадают с такими же, встречающимися на других геммах, что, однако, в иных случаях не мешает признавать подлинными и их. В самых больших собраниях гемм нередко встречаются повторяющие друг друга изделия, но было бы ошибочным считать одни оригиналами, другие же копиями.
Мы всегда должны хранить в своей памяти представление о благородной верности искусству древних, которые не уставали повторять некогда удавшийся художественный мотив. Мастера былых времен считали себя в достаточной мере оригинальными, когда ощущали в себе способность и умение по-своему воспроизвести правильно ими понятую оригинальную мысль. На некоторых резных камнях нашего собрания запечатлено имя художника, чему уже давно придают большое значение. Такой автограф всегда достаточно примечателен, но часто проблематичен: ведь весьма возможно, что камень древен, а нанесенное на него имя позднейшего происхождения, чтобы придать бесценному дополнительную ценность.
Хотя мы здесь, что вполне резонно, и воздержимся от какой-либо каталогизации, так как описание художественных произведений без их отображений мало что дает, мы все же не откажемся дать самое общее о них представление.
Голова Геракла. Нельзя не восхищаться благородным вкусом этой свободно выполненной работы и не восхититься еще в большей мере великолепной идеальной формой изображения, которая в точности не совпадает ни с одной из известных нам голов Геракла, и уже этим приумножает достоинство сего драгоценного памятника.
Бюст Вакха. Работа, как бы дуновением уст нанесенная на камень, а по совершенству форм одно из превосходнейших созданий античности. В разных собраниях гемм находится много схожих изделий, и притом, если я не очень ошибаюсь, как неглубокой, так и, напротив, сугубо глубокой резьбы. Но мне не встретилась ни одна, которая чем-либо превосходила эту гемму. Фавн, желающий похитить облачение вакханки. Превосходная композиция, встречающаяся на многих древних монументах, выполненная блистательно.
Опрокинутая лира, чьи вознесенные ножки изображают двух дельфинов, а остов — увенчанную розами голову Амура. Рядом с лирой — пантера Вакха, держащая в подъятой лапе тирсовый посох. Исполнение удовлетворит любого знатока, но и любитель толкований мудреных сакральных аллегорий будет тоже ею доволен.
Маска с пышной бородой и широко открытым ртом. Высокий лоб обрамлен побегами плюща. В своем роде прекрасный камень. Ему не уступает достоинством и другая маска.
Маска с длинной бородой и с изящной высокой укладкой волос. Глубокая резьба геммы отличается замечательной тщательностью исполнения.
Венера, дающая Амуру отпить воды из кувшина. Одна из очаровательнейших групп, когда-либо созданных; композиция остроумно задумана, но выполнена без должного прилежания.
Кибела верхом на льве. Замечательное произведение, широко известное любителям по оттискам, хранящимся почти во всех коллекциях.
Гигант, извлекающий грифа из пещеры. Творение, обладающее многими художественными достоинствами, а по разработке мотива, быть может, не имеющее себе равных. Увеличенную копию этой геммы читатели найдут в Проспекте Фоса к Йенской Всеобщей Литературной газете 1801 года, том IV.
Профиль головы в шлеме, с большой бородой, может быть, тоже маска, но лишенная какой-либо карикатурности. Лицо решительное, собранное, героическое. Выполнено превосходно.
Гомер. Изображен на гемме в фас. Очень глубокая резьба. Поэт более молод, чем его обычно изображают; видимо, еще едва на пороге старости — в этом ценность геммы помимо ее художественных достоинств.
В собраниях оттисков резных камней часто встречается голова благообразного пожилого мужчины с длинной бородой и длинными волосами, который (без должного на то обоснования) выдается за изображение Аристофана. Похожая на те оттиски гемма, только с незначительными отклонениями, имеется и в нашей коллекции. Выполнен этот портрет и впрямь весьма удачно.
У геммы «Профиль неизвестного» предположительно отломился кусок по брови человека, на ней изображенного. Кусок восполнили, и гемма, вновь отшлифованная, приняла прежнюю округлую форму. Величественнее и одухотвореннее мы никогда не встречали облика человеческого, воспроизведенного на малом пространстве резного камня; здесь художник блистательно показал неисчерпаемые возможности своего искусства. Тем же духом проникнут и другой портрет неизвестного, с накинутой на него львиной шкурой: и эта гемма обломлена по брови, но недостающая частица здесь заменена надставкой из чистого золота.
Голова человека в летах. Решительное, сосредоточенное, волевое лицо с коротко подстриженными волосами. Чрезвычайно свободное, раскованное проявление высокого мастерства художника. Особенно верно воссоздана борода, как ни на одной другой гемме.
Голова, или поясной портрет, безбородого мужчины; волосы повязаны лентой, плащ, закрепленный на правом плече, спадает широкими складками. Острый ум и несгибаемая воля присущи чертам его лица; таким мы привыкли видеть на изображениях Юлия Цезаря.
Мужская голова, также безбородая. Тога, как было принято при жертвоприношении, накинута на голову. Весь портрет исполнен правдивости и твердости характера. Нет сомнения, что эта гемма подлинна и восходит к временам первых римских императоров.
Бюст римлянки. Коса дважды охватывает голову; тщательность отделки поразительная; выражение лица правдиво, жизнерадостно, наивно.
Маленькая голова в шлеме, исполненная в фас. Могучая борода, характер решительный. Работа ценнейшая.
В заключение — несколько слов о замечательной гемме новейшего времени, голове Медузы, вырезанной на великолепном карнеоле. Ни в чем не отступает от знаменитой Медузы Сосикла. Бесспорно, превосходное подражание древним, но не более, чем только подражание. Художник скован оригиналом, а буква N, поставленная под нижним обрезом, позволяет предположить, что автор геммы Наттер.
Сказанного достаточно для того, чтобы истинные знатоки представили себе ценность прославленной коллекции. Нам неизвестно, где она теперь находится; быть может, удастся разузнать что-нибудь о ее местонахождении, и тогда богатый любитель возымеет желание приобрести этот клад, если он только продается.
Веймарские любители искусств извлекли из этой коллекции все, что можно было из нее извлечь за срок, когда она была в их распоряжении. Уже в первую зиму она доставила великую радость избранному обществу, собиравшемуся у герцогини Амалии. Все старались набраться званий, ознакомиться с дивными резными камнями, и этой возможностью мы были обязаны великодушной владелице, позволившей нам многие годы наслаждаться этим бесценным кладом. Но незадолго до ее кончины она успела полюбоваться своими геммами, расположенными в двух ящичках одна возле другой в обозримом порядке, в каком ей не приходилось их ранее видеть; доверие, которое она мне оказала, ее не обмануло, чему ее благородное сердце не могло не порадоваться.
Но наши занятия искусством приняли и совсем другое направление. Я наблюдал цветовые феномены при самых различных обстоятельствах моей жизни и питал надежду их обнаружить и в сфере гармонии искусства, ради чего я, собственно, и начал в свое время мои наблюдения над цветом и светом. Друг Мейер набросал ряд композиций, в которых он располагал цвета то в последовательных переходах, то, напротив, в контрастном противостоянии для дальнейшей их проверки и всесторонней оценки.
Яснее всего цветовая гармония проявлялась в ландшафтах. Сторону, освещенную солнцем, всегда надо писать желтым и оранжево-красным цветом, но ввиду разнообразия явлений в мире природы названные цвета трансформируются в зеленовато-коричневые и зеленовато-синие. В пейзажах величайшие мастера живописи, почерпая цвета у природы, достигали в передаче естественных цветов большего, чем в исторической живописи, где художник при выборе цвета одеянии предоставлен самому себе и, не зная, как поступить, обращается к традиции, а подчас соблазняется и аллегорическим значением цвета, почему он и отходит от подлинно гармонического воссоздания цветовой гаммы.
Уделив столько места рассуждениям о пластических искусствах, я ощутил живую потребность возвратиться к разговору о театре и о моем касательстве к нему, высказать походя несколько соображений, чего я раньше вовсе делать не собирался. Чего, казалось бы, лучше воспользоваться благоприятствующей обстановкой и, будучи писателем, что-то сотворить для нового театра в Веймаре и для немецкого театра вообще. Ибо, если всмотреться попристальнее, нельзя не обнаружить, что между вышеназванными авторами вкупе с их творениями осталось еще немало пустого пространства, каковое можно было бы заполнить собою; на земле достаточно разнородного материала, который следовало бы просто и правдиво обработать, стоит только за него ухватиться.
Но чтобы сразу высказаться ясно и безо всяких обиняков, я напомню вам о моих первых драматических сочинениях, ибо, хоть они сами и причастны мировой истории, они уж слишком раздались вширь, чтобы годиться для подмостков. Позднее написанные мною драмы были рассчитаны на их восприятие скорее внутренним, чем внешним оком; широкого распространения на театральных сценах они не получили, отчасти и по причине их сугубо строгой поэтической формы. Но за долгие годы я постепенно освоил технику, так сказать, «среднего регистра», которая могла бы произвести на публику относительно отрадное впечатление. Но тут я ошибся в выборе драматического материала, или, точнее, этот материал овладел мною вопреки моей нравственной сути, так как он как таковой более, чем какой-либо, строптиво сопротивлялся драматической его обработке.
Уже в 1785 году меня ужаснуло, как голова Горгоны, «дело об ожерелье». Эта неслыханно дерзкая афера, как я уже тогда говорил, подрывала монархическую власть, досрочно уничтожала ее, и все события, с тех пор развернувшиеся, подтверждали мое предчувствие. Я уезжал с ним в Италию и с ним же, еще более обострившимся, оттуда вернулся. К счастью, мой «Тассо» был тогда еще не завершен, но потом всемирно-историческая современность всецело заполнила мое сознание.
На протяжении ряда лет я проклинал дерзких обманщиков и мнимых энтузиастов, с омерзением удивляясь ослеплению достойных людей, поддавшихся явному шарлатанству. Теперь прямые и косвенные последствия этой дури предстали передо мной в качестве преступлений и полупреступлений, в их совокупности вполне способных сокрушить самые прочные устои.
Но чтобы самому как-то утешиться и развлечься, я старался усмотреть забавную сторону в поведении этих чудовищ, и форма комической оперы, которую я уже давно признал одним из наиболее удачных драматических жанров, мне показалась пригодной и в применении к более серьезному сюжету, как, например, в опере «Король Теодоро». Поэтому я приступил к созданию стихотворного текста задуманной оперы, уговорив написать к ней музыку композитора Рейхардта. Не раз исполнялись удачные басовые арии, предназначавшиеся для этой оперы; другие номера, без контекста не имевшие самостоятельного значения, не достигали достоинства упомянутых арий, а сцена, от которой я ждал наибольшего впечатления, и вовсе не была написана. Ослепительным финалом оперы должна была стать сцена бушевания духов в хрустальном шаре рядом с пророчествующим в притворном сне чудодеем Кофтой.
Но благодетельные духи, видимо, не парили вокруг этого замысла; работа над оперой оборвалась, и, чтобы не пропал затраченный труд, я переработал стихотворное либретто в пьесу в прозе. Ее главные персонажи были отменно воссозданы актерами новой труппы, показавшими себя зрелыми мастерами в этой тщательно осуществленной постановке.
Но именно потому, что игра актеров была на высоте, пьеса произвела тем более отталкивающее впечатление. Страшный, но вместе с тем и пошлый сюжет, смелая и беспощадная расправа с виновными всех отпугивали и не будили отклика в сердцах зрителей. Сам прообраз события, не столь отдаленный по времени, еще ухудшил впечатление, а так как тайные союзы сочли себя неуважительно затронутыми, наиболее представительная часть публики влияла на восприятие прочих. Женская деликатность чувств к тому же почла себя оскорбленной грубой развязкой намечавшегося романа.
Я был всегда равнодушен к непосредственному восприятию моих произведений и спокойно отнесся и теперь к тому, что моя пьеса, на которую я потратил столько лет, не удостоилась одобрения публики. Я испытывал даже известное злорадство, когда люди, не раз поддававшиеся обману, смело утверждали, что такому грубому шарлатанству их никогда бы не удалось провести.
Но я не извлек никакого урока из этого злоключения. Все, что меня волновало, незамедлительно обращалось в драматическую форму. И если «дело об ожерелье» волновало меня как мрачное предсказание, то теперь меня ужасала сама революция в ее крайних проявлениях как грозное осуществление пророчества. Трон рухнул, рухнули устои великой нации, а после нашего злосчастного похода грозили рухнуть устои всего мироздания.
Все это меня страшило и угнетало. Я замечал, к моему огорчению, что в моем отечестве увлеченно играют на тех же инстинктах и теми же идеями, готовя и нам такую же участь. Я хорошо знал многих благородных мечтателей, увлеченных теми же надеждами и настроениями, не понимая ни себя, ни сути совершавшегося. А в то же время явно дурные люди старались вызывать и множить недовольства, чтобы воспользоваться их возможными последствиями.
Яростным свидетелем моего озлобленного юмора оказался мой «Гражданин генерал». Меня побудил написать эту одноактную пьесу артист Бек, замечательный и самобытный исполнитель роли Шнапса в комедии Флориана «Два билета», в каковую Бек вложил как сильные достоинства, так и слабые стороны своего таланта. Поскольку маска Шнапса так пришлась ему впору, мы ввели в репертуар как бы его продолжение, небольшую комедию Антона Валла «Генеалогическое древо». Я отнесся с чрезвычайным вниманием к репетициям, оформлению и исполнению этого забавного пустячка и невольно проникся духом веселых дурачеств, присущих этому разгонному водевилю, и на меня нашел стих вывести в третий раз на подмостки пресловутого Шнапса. Так я и поступил; как всегда, работал с усердием и над этой пьеской. Будет не лишним сообщить, что туго набитый саквояж, фигурировавший на сцене, был подлинно французского происхождения: его подобрал мой Пауль во время нашего бегства из Франции. Великолепен был и Малькольми в кульминационной сцене, исполнивший роль благодушного зажиточного старого крестьянина, который, шутки ради, принимал самое отъявленное хамство за остроумную выдумку. Его изумительная игра была выше всяких похвал, он успешно соперничал с Беком в естественной подаче веселого текста. Но все напрасно! Пьеса произвела самое дурное впечатление, даже на друзей и благожелателей. Желая спасти себя и меня, они в один голос утверждали, будто пьеса написана не мной, а каким-то незадачливым литератором, я же только чуть-чуть подправил ее и, каприза ради, подписал своим именем.
Но никакой внешний неуспех не мог меня сделать чужим самому себе, я, напротив, тем упорнее замыкался в себе, и такое внешнее воссоздание духа времени служило мне своего рода утешительным развлечением. «Разговоры немецких беженцев» и оставшиеся фрагментом «Возбужденные» являются в не меньшей степени признаниями в том, что происходило в моей душе, как, позднее, и поэма «Герман и Доротея», почерпнутая все из того же источника. Правда, источник этот вскоре иссяк: писатель не мог угнаться за скоротечной всемирной историей и остался должным себе и другим, не завершив этой серии произведений; к тому же он увидел, что очередная загадка истории разрешилась таким решительным и нежданным образом.
При такой констелляции исторических сил трудно кого-либо назвать, кто, находясь в такой отдаленности от места рокового бедствия, пребывал в столь подавленном состоянии духа. Мир казался мне более кровавым и кровожадным, чем когда-либо, и если жизнь короля на поле брани равнозначна жизни многих тысяч, то она безмерно возрастает в своей цене на поприще права. Король поставлен перед судом на жизнь и смерть, тут начинается брожение умов, обретают голос отрицатели правового государства, каковое королевская власть веками грозно отстаивала от произвола.
Но я пытался себя спасти и от текущих бедствий века, объявив весь мир негодной юдолью. И тут-то мне в руки случайно попал «Рейнеке-лис». Я насытился по горло уличными и рыночными сценами и ярыми выступлениями черни; теперь мне было в охоту и в забаву заглянуть в зерцало придворной и правительственной жизни. Ибо если и здесь род человеческий выступает в своей нелицемерной, откровенно животной сути, и тут отсутствуют образцовые нравы и порядки, но зато здесь все протекает весело до цинизма и добрый юмор нигде не в загоне.
Чтобы сполна, всей душой, насладиться этой бесценной книгой, я тотчас же стал ее переводить, а почему гекзаметрами, в этом попытаюсь отчитаться.
Вот уже много лет, по почину Клопштока, сочиняют в Германии сносные гекзаметры. Фосс, тоже позволявший себе писать и такими гекзаметрами, все же кое-где намекал, что можно их писать и получше. Он был беспощаден и к собственным сочинениям и переводам, отлично принятым читающей Германией. Я и сам очень хотел писать гекзаметры, как учил Фосс, но это мне все не удавалось. Что касается Гердера и Виланда, то они относились к этим новациям как истые латитудинарцы: они не терпели упоминания об опытах Фосса, подчинившего гекзаметр строжайшим правилам, отчего он нередко звучал неловко. Публика тоже ставила прежние гекзаметры Фосса превыше новейших. Я же всегда имел доверие к старику, добросовестность и серьезность которого едва ли кем подвергалась сомнению, и, будь я моложе и менее занят, я бы уж наверное поехал к нему в Эутин, чтобы выведать у него секрет его гекзаметров. Дело в том, что при жизни великого Клопштока Фосс никогда бы не решился сказать ему прямо в лицо, что, не подчинив немецкого стихосложения строжайшим правилам, никогда не добьешься совершенных немецких стихов. Что он успел высказать по этому поводу, казалось мне сивилловыми темнотами. О том, как я мучился, стараясь понять его предисловие к «Георгикам» Вергилия, я и теперь вспоминаю с удовольствием; имею в виду свое честное рвение, но никак не его результаты.
Я отлично сознавал, что мое обучение и образование может быть только практическим. Поэтому-то я и радовался случаю написать несколько тысяч гекзаметров, которые, в силу достоинства содержания поэмы, не могут не прийтись по вкусу читателям и не станут лишь преходящей ценностью, даже вопреки моей несовершенной технике. То, что в них подлежит осуждающей критике, со временем выяснится. Итак, я переводил «Рейнеке-лиса», уделяя этому труду, благородному уже в процессе работы, каждый свободный час, попутно достраивая и меблируя мое жилье и не думая о том, что меня ждет в будущем, хотя о том и нетрудно было догадаться.
Как ни далеко мы находились здесь у себя, на востоке, от великих мировых событий, уже и в здешних краях стали появляться предвестники наших изгнанных западных соседей; казалось, они высматривают, где им удастся себе сыскать гостеприимное убежище, которое им обеспечит должный прием и защиту. Хотя их пребывание было только мимолетным, они сумели — пристойным, терпеливо-уживчивым поведением, готовностью примириться с судьбой, а также решимостью честным трудом поддерживать свое существование — снискать симпатии всех и каждого и добиться того, что, глядя на них, предавались забвению пороки и проступки прочей массы французских эмигрантов и былая настороженная к ним неприязнь обратилась в благоволение. Это положительно сказалось и на судьбе тех, кто прибывал сюда позднее и впоследствии обосновался в Тюрингии; достаточно назвать имена Муньи и Камилла Жордана, чтобы оправдать наше изменившееся мнение о всей французской колонии — пусть не все были равны названным нами лицам, но отнюдь не были их недостойны.
Позволю себе утверждать, что, при всех важных политических обстоятельствах, всего лучше быть пристрастным зрителем великих событий, мысленно примкнувшим к одной из борющихся партий. Любое известие, ему благоприятствующее, его радует, тогда как неблагоприятствующее он игнорирует или перетолковывает в свою пользу. Напротив, писатель должен в силу его призвания быть и оставаться беспристрастным и объективным, стремясь проникнуть в психологию, в образ мыслей и в суть обстоятельств обеих сторон, но, убедившись в том, что разделяющие их противоречия не терпят примирения, решиться трагически погибнуть. А каким только грозным циклом трагедий мы не видели себя окруженными!
Кто же не ужасался в ранней юности приснопамятным 1649 годом, кого не потрясала казнь Карла I, кто не утешал себя тем, что эти неистовства слепой ярости никогда более не повторятся! Но все повторилось, и куда ужаснее и беспощаднее, чем когда-либо, и притом у просвещеннейшей нации, как бы у нас на глазах, день за днем, шаг за шагом. Представьте себе только, что пришлось испытать в декабре и в январе тем, кто вступил в бой ради спасения Людовика, а теперь не мог ни повлиять на исход процесса короля, ни воспрепятствовать его казни.
Но вот Франкфурт опять в немецких руках. Приняты все меры к овладению Майнцем. Уже армия окружает его, взят Хоххейм, сдался Кенингштейн. Теперь на очереди превентивный поход на левый берег Рейна, чтобы обеспечить себе тылы. Мы движемся вдоль хребта Таунуса, через Идштейн и бенедиктинский монастырь Шёнау, на Кауб, а дальше — по надежному понтонному мосту — к переправе через Рейн. Начиная с Бахараха, передовые части вели упорные бои, принудившие противника к отступлению. Оставив справа горную гряду Хунсрюк, мы пошли на Шпромберг, где попался нам в плен генерал Нойвингер. Взяли Крейцнах и очистили треугольник, образуемый двумя реками — Наэ и Рейном. На подходе к Рейну мы не повстречались с противником. Кесарцы переправились через Рейн близ Шпейера. Продолжали окружение Майнца, и четырнадцатого апреля оно завершилось.
Эти сведения я получил вместе с вызовом к месту развернувшихся боев. Если ранее я участвовал в беде подвижной, то теперь буду участвовать в стационарной. Завершено окружение, так что нельзя избежать осады. Как неохотно я отправлялся к театру военных действий, убедится каждый, взглянув на этот офорт. Он точно воспроизводит мой рисунок пером, который я прилежно нанес на бумагу несколько дней тому назад. С каким чувством я уходил на войну, нетрудно угадать, прочитав рифмованные строки, выгравированные внизу на офорте:
Вот и живем опять своим мирком,
Не помышляя ни о чем другом.
Художник взором ласковым следит,
Как жизнь для жизни счастьем нас дарит.
Куда бы нас судьба ни занесла,
Нам родина по-прежнему мила.
Какую б ширь дороги ни сулили,
В своем гнезде тесниться мы решили.
ПРАЗДНИК СВЯТОГО РОХУСА В БИНГЕНЕ
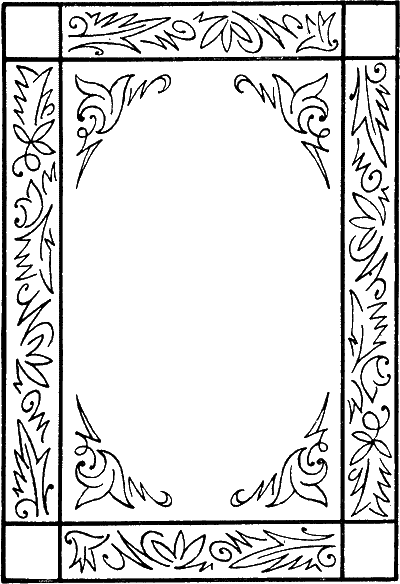
ПРАЗДНИК СВЯТОГО РОХУСА В БИНГЕНЕ
(16 августа 1814 г.)

Моим добрым друзьям, которые уже достаточно долго находятся на водах в Висбадене, пришлось однажды испытать некоторое беспокойство в связи с осуществлением давно ими взлелеянного плана. Было уже за полдень, но им удалось быстро заказать карету, чтобы отправиться в очаровательную Рейнскую область. В этой плодороднейшей из областей с холма над Бибрихом открывается великолепный вид на широкую речную долину со множеством селений. Однако представшая нашему взору картина была не столь совершенна, как бывает иной раз ранним утром, когда восходящее солнце озаряет побеленные фасады и фронтоны бесчисленных строений, больших и малых, вдоль реки и на холмах. В такие утра прежде всего бросается в глаза сверкающий в дальней дали монастырь Иоганнисберг, а отдельные световые пятна рассеяны по обоим берегам Рейна.
Но дабы мы сразу поняли, что въезжаем в страну благочестия, перед Мосбахом нам встретился итальянец-гипсоотливщик, на голове он храбро и ловко нес не теряющую равновесия доску. Парящие над ним фигуры святых, не похожие на встречающихся ближе к северу богов и героев, были пестро раскрашены в соответствии с веселой и жизнерадостной местностью. Богоматерь царила над всеми; из четырнадцати святых итальянец избрал наиболее прославленных; святой Рохус в черном одеянии пилигрима стоял впереди других, рядом с ним его собачка-хлебоноша.
До Ширштейна мы ехали вдоль нескончаемых пшеничных полей, их то тут, то там украшали ореховые деревья. Плодородные земли простирались влево от нас — к Рейну, и вправо — к холмам, все ближе и ближе по мере нашего продвижения подступавшим к дороге. Красивым, но и опасным показалось нам местоположение Валлуфа, в излучине Рейна, словно бы на узкой косе. Меж щедро плодоносящих, заботливо ухоженных фруктовых деревьев виднелись корабли на реке, весело плывущие по течению при вдвойне благоприятном ветре.
Радует взор и противоположный берег; большие, красивые селения, утопающие в садах; но вскоре нас отвлекает новая картина: невдалеке на зеленом лугу высятся развалины церкви, зеленые от густого плюща стены выглядят удивительно опрятными, простыми и милыми сердцу. Справа почти вплотную у дороги — виноградники.
В городке Валлуф — мир и тишина, лишь на дверях домов еще не стерты меловые пометки квартирьеров. Дальше с обеих сторон снова появятся виноградники. Даже на плоской, малопересеченной местности хлебные поля чередуются с виноградниками, а холмы в отдалении — сплошной виноградник.
Вот так, на окруженной с трех сторон холмами, а с севера уже и горами равнине, расположен Эльфельд, тоже неподалеку от Рейна, насупротив возделанной поймы. Башни старого замка, так же как и церковь, свидетельствуют, что это большой провинциальный город, и поныне отличающийся архитектурным изяществом зданий.
Доискиваться причин, побудивших первых поселенцев избрать именно эти места, было бы весьма поучительно. То ли их привлек ручей, сбегающий к Рейну, то ли благоприятные условия для земледелия и судоходства, то ли просто удобное местоположение.
Народ здесь красивый и спокойный, никто не суетится: очень хороши дети, взрослые — высокие, прекрасно сложенные люди. Навстречу нам то и дело попадались экипажи и пешие любители прогулок, — последние по большей части с солнечными зонтиками. День был знойный, кругом сушь и ужасающая пыль.
Посреди Эльфельда, в парке, стоит великолепная новая вилла. Слева на равнине виднеется фруктовый сад, но в основном и здесь повсюду виноградники. Городки скучены, между ними еще втиснуты хутора, и кажется, что они, один за другим являясь нашему взору, касаются друг друга.
Вся растительная жизнь равнины и холмов развивается на хрящеватой почве, более или менее смешанной с глиной, что благоприятствует уходящим в глубину корням винограда. Ямы, из которых брали землю для выравнивания, свидетельствуют о том же.
Эрбах, как и другие городки, аккуратно вымощен, на улицах сухо, нижние этажи жилые и, насколько видно через открытые окна, содержатся весьма опрятно. Снова на нашем пути помещичий дом, похожий на дворец, сад спускается к Рейну, прелестные террасы и тенистые липовые аллеи ласкают взор.
Рейн здесь меняет свой характер, русло сужается, пойменные луга теснят его, образуя неширокую, но свежо и мощно текущую реку. Поросшие виноградом холмы справа вплотную подступают к дороге, отгороженные от нее толстой стеной, глубокая ниша в стене приковывает взгляд. Кареты тихонько останавливаются, путники с наслаждением пьют обильно текущую воду, это так называемый «Источник святого Марка», давший имя местному вину.
Стена кончается, холмы становятся все более пологими, их мягкие склоны сплошь засажены виноградниками. Слева — фруктовые деревья. У самой реки — ивняк, за которым ее и не видно.
Дорога через Хаттенгейм идет вверх, на возвышенности за городом почва глинистая, менее хрящеватая. С обеих сторон виноградники, слева — отгороженные стенами, справа — канавой. Рейхардтсгаузен, в прошлом монастырское владение, ныне принадлежит герцогине Нассауской. Ближе к углу в стене сделаны просветы, сквозь них видны прелестные тенистые акации. Плодородная мягкая равнина, однако за ней дорога вновь спускается к реке, которая до сих пор была далеко внизу. Здесь землю используют под хлебные поля и фруктовые сады, а малейшую возвышенность — под виноградники. Эстрайх, стоящий в некотором отдалении от воды, на склоне холма, расположен очень красиво: за селением до самой реки тянутся засаженные виноградом холмы, и так до Миттельгейма, где Рейн широко разливается. И сразу же — Лангенвинкель.
Перед Гайзенгеймом до реки простирается низменность, до сих пор еще не освободившаяся от полых вод. Это благоприятствует садоводству и разведению клевера. Зеленый остров на реке и городишко на берегу расположены друг против друга, с той стороны вид открывается более широкий. Просторная холмистая долина тянется между двумя возвышенностями вплоть до сланцевых гор.
Когда приближаешься к Рюдесгейму, низменность слева от дороги делается все причудливее, и ты начинаешь понимать, что в доисторическую эпоху, когда горы под Бингеном были еще замкнутыми, сдерживаемая естественной запрудой вода заполняла низину и, наконец, мало-помалу стекая и стремясь вперед, образовала нынешнее русло Рейна.
Итак, менее чем за четыре с половиной часа мы добрались до Рюдесгейма, где нас прельстила гостиница «Корона», расположенная к тому же неподалеку от городских ворот.
Гостиница пристроена к старой башне, окна ее фасада смотрят на Рейн; и все же нас опять потянуло на улицу. Высящееся над рекой каменное здание — лучшее место для обозрения окрестностей. Отсюда в прекрасной перспективе открывается вид на реку с зелеными островками. На противоположном берегу — Бинген, дальше вниз по течению посреди реки — Мышиная башня.
Повыше Бингена, неподалеку от Рейна, один из холмов примыкает к более возвышенной равнине. Она наводит на мысль о предгорье в некогда высоких водах. На ее восточной оконечности стоит часовня св. Рохуса. Разрушенная во время войны, она теперь восстановлена. С одной стороны еще даже не сняты леса, но тем не менее завтра здесь должен состояться праздник. Все думали, что мы приехали сюда на этот праздник и что он сулит нам много радости.
Итак, мы узнали, что во время войны, к великому прискорбию всей округи, этот божий храм был осквернен и уничтожен. Правда, не по легкомыслию и не из озорства, а потому что отсюда отлично просматривается вся окрестность. Таким образом, здание, лишенное церковной утвари и украшений, превратилось в бивак с конюшней, закопченный и загаженный.
Однако сие обстоятельство не пошатнуло веру в святого, который отводит от истинно верующих чуму и прочую заразу. Разумеется, о паломничестве сюда не могло быть и речи, ибо неприятель, недоверчивый и осторожный, запрещал любые религиозные процессии и крестные ходы, как опасные сборища, взывающие к общественному духу и способствующие возникновению крамолы. Вот уже двадцать четыре года там, наверху, не было праздника. Однако верующие со всей округи были убеждены в пользе местного паломничества и, теснимые своим трудным положением, прибегли к крайним мерам. Об этом рюдесгеймцы рассказывают следующую весьма примечательную историю. Глубокой зимней ночью совершенно неожиданно увидели они факельное шествие, направлявшееся от Бингена вверх по холму; наконец участники процессии собрались вокруг часовни, как видно, для молитвы. Пришлось ли тогдашним французским властям уступить натиску верующих, — вряд ли они отважились бы на такое без разрешения, — так никогда и не выяснилось, все происшедшее осталось покрыто мраком неизвестности. Тем не менее все рюдесгеймцы, которые, гуляя по берегу, были свидетелями этого зрелища, уверяют: ничего более странного и страшного они в жизни своей не видели.
Мы не спеша спустились к реке, и каждый, кто попадался нам навстречу, радовался возрождению по соседству храма божьего: и хотя желать возобновления этих праздников должны были бы в основном жители Бингена, однако этой завтрашней оказии для проявления благочестия и веселья радуется всё и вся.
Ибо затрудненное, прерванное, а нередко и вовсе запретное сообщение между двумя рейнскими берегами, поддерживаемое лишь верой в святого Рохуса, должно быть наконец блистательно возрождено. Вся округа в движении, с благодарностью приносятся обетования, традиционные и новые. Люди хотят исповедаться, получить отпущение грехов, встретить в густой толпе пришлого люда давно утраченных друзей.
При столь благочестивых и радужных предзнаменованиях мы, не выпуская из виду реку и противоположный берег, спустились от широко раскинувшегося Рюдесгейма к старой римской крепости на окраине города, сохранившейся благодаря превосходной каменной кладке. Счастливая мысль, осенившая ее владельца, господина графа Ингельгейма, уготовила здесь каждому чужеземцу поучительное и отрадное зрелище.
Ты вступаешь во двор, похожий на колодец; узкое пространство, высокие черные стены вздымаются к небу, шероховатые даже с виду, поскольку камни снаружи не обтесаны, безыскусная рустика. На крутые стены можно взобраться по приставным лестницам; в самом здании бросается в глаза своеобразный контраст между красиво убранными покоями и высоким, пустынным, почернелым от дыма и сторожевых огней подвалом. Постепенно сквозь мрачные щели в стенах добираешься наконец до высоких, как башни, зубцов, и перед тобой открывается прекраснейший вид. Мы прогуливаемся по стене на свежем воздухе взад и вперед, любуясь садами, разбитыми на пустырях. Мостики связывают между собой башни, высокие стены и ровные площадки, всюду великолепные цветочные куртины и кустарники; на сей раз они, как и вся местность, изнывают в ожидании дождя.
В ясном вечернем свете под нами и перед нами простирался Рюдесгейм. Неподалеку от этого древнего замка замок средневековый. Радуют глаз и роскошные виноградники; пологие и крутые холмы, даже скалы и стены используются под разведение винограда. Но на какое бы из церковных или мирских зданий мы ни смотрели, Иоганнисберг царит надо всем.
Однако, видя перед собою такое множество виноградников, нельзя не помянуть добрым словом вино урожая одиннадцатого года. Это вино — как имя великого и милостивого государя: его будут помнить во все времена, едва лишь речь зайдет о достоинствах края; точно так же изобильный виноградом год у всех на устах. Кроме того, вино одиннадцатого года обладает главной особенностью превосходного вина: его много, и оно великолепно на вкус.
Мало-помалу вся местность погружается во мрак. Даже исчезновение столь многих значительных частностей заставляло нас почувствовать ценность и значимость целого, от которого нам не хотелось бы отрываться, но тут уж ничего не поделаешь.
На обратном пути нас взбадривала непрерывная пушечная пальба, долетавшая от часовни. Эти воинственные звуки и за табльдотом не позволяли нам забыть, что вершина холма имела еще и военное значение. Отсюда видна вся Рейнская область и различимы многие городки, которые мы проезжали по дороге сюда.
Нам говорили, что нужно не один раз с высоты над Бибрихом смотреть, как утреннее солнце освещает белую точку часовни св. Рохуса; об этом мы сейчас с удовольствием вспомнили.
При всем том нельзя было не заметить, что святого Рохуса здесь воспринимают как достойнейший объект поклонения, ибо он, благодаря крепкой вере, в мгновение ока вновь обратил это средоточие раздоров и войн в средоточие мира и спокойствия.
Между тем явился какой-то незнакомец и сел за стол; его можно было принять за паломника, отчего мы еще непринужденнее прославляли святого Рохуса. К величайшему изумлению благомыслящего общества, выяснилось, что он, хотя и католик, в известной мере противник этого святого. Дело в том, что шестнадцатого августа, в день праздника, когда все чествовали святого Рохуса, у него загорелся дом. Другой раз, в тот же самый день, был ранен его сын. О третьем разе он даже говорить не пожелал.
Какой-то разумник на это возразил: в каждом отдельном случае самое главное обратиться именно к тому святому, в чье ведение входит данный случай. Защита от пожара возложена на святого Флориана; раны врачует святой Себастиан; что же до третьего пункта, то неизвестно, — быть может, тут окажет помощь святой Губарт? В остальном же верующим предоставлен полный простор — в их распоряжении четырнадцать святых угодников. Однако, рассмотрев все добродетели таковых, приходишь к выводу, что угодников, пожалуй, маловато.
Дабы избавиться от подобных всегда сомнительных выводов, пусть даже сделанных в прекраснейшем расположении духа, мы вышли на воздух под усыпанное звездами небо и прогуляли так долго, что последовавший засим глубокий сон был почти равен нулю, ибо проснулись мы еще до восхода солнца. Мы поспешили выйти — взглянуть на серую теснину, в которой протекал Рейн. Оттуда в лицо нам веял свежий ветер, одинаково благоприятствующий кораблям, плывущим вверх и вниз по течению.
Уже сейчас все корабельщики озабоченно снуют, готовясь ставить паруса, сверху подают сигнал начать день: так было условлено с вечера. Уже вокруг часовни появляются отдельные фигуры и целые компании, точно силуэты на фоне ясного неба на вершине горы, но на реке и по берегам ее все еще малолюдно.
Страсть к естествознанию подстегивает нас осмотреть собрание, в коем металлические изделия Вестервальда разложены по размерам, так же как и образцы богатых рудоносных пород Рейнбрайтенбаха. Однако сей научный интерес чуть было не довел нас до беды. Вернувшись к Рейну, мы обнаружили, что переправа на противоположный берег уже в полном разгаре. Люди толпами устремлялись на суда, один перегруженный паром за другим отваливал от пристани.
На том берегу пахари уже идут за плугом, уже мчатся кареты, бросают якори корабли с верховьев Рейна. На гору поднимается беспорядочная пестрая толпа. Люди стараются добраться до вершины по более или менее проторенным тропкам. Непрерывная канонада возвещает о прибытии паломников из новых городов и сел.
Час пробил! Но мы уже на середине реки, парусные и весельные лодки несутся наперегонки с сотнями других. Высадившись, мы, с нашей любовью к геологии, сразу же заметили у подножья горы какие-то удивительные скалы. Естествоиспытатель непременно отойдет от священной тропы. По счастью, у нас с собою был молоток. Это оказался конгломерат, достойный самого пристального внимания. Разрушенная в момент возникновения кварцевая порода, неокатанные обломки, вновь связанные кварцевой массой. Чудовищная их крепость позволила нам отколоть лишь крохотные кусочки. Если бы какой-нибудь приезжий естествоиспытатель захотел получше ознакомиться с этими скалами, установить их соотношение с более старыми горными массивами и любезно прислать мне об этом сообщение вкупе с несколькими поучительными образцами! С какой благодарностью я бы это воспринял!
Крутой, петляющей по скалам тропой мы, и с нами сотни, многие сотни людей, поднимались к часовне, медленно, часто отдыхая, перекидываясь шутками. Это было в полном смысле слова плато Кебеса, шумное, оживленное, с той лишь разницей, что тут во все стороны не разбегались боковые тропинки.
Наверху мы застали сутолоку и тесноту. Вошли в часовню. Внутреннее помещение — почти правильный четырехугольник, каждая сторона около тридцати футов, хоры — от силы двадцать. Здесь же — главный алтарь, не современный, но в пышном стиле католической церкви. Он устремлен ввысь, что придает еще больший простор часовне. В ближних от нас углах основного четырехугольника находятся два похожих алтаря, ничуть не поврежденных, все как и прежде. Чем объяснить это в храме, столь недавно разрушенном?
Толпа движется от главного входа к большому алтарю, потом сворачивает влево, где возносит почести мощам в стеклянном гробу. Многие трогают гроб, гладят его, крестятся и замедляют шаг, насколько это возможно; но один теснит другого, и меня в этом потоке пронесло мимо и вынесло к боковому входу.
Навстречу нам выходят бингенские старейшины, дабы дружески приветствовать чиновника герцога Нассауского, нашего уважаемого проводника; они прославляют его как доброго, всегда готового прийти на помощь соседа, как человека, сделавшего возможным подобающим образом отметить нынешний праздник. Тут мы узнаем, что из упраздненного монастыря Айбинген бингенскому приходу для полного устройства часовни св. Рохуса задешево продали внутреннее убранство: алтари, кафедры, орган, молитвенные скамьи, исповедальни. Поскольку протестанты оказали им такую помощь, все граждане Бингена дали обет на своих плечах доставить в церковь вышепоименованные предметы. Народ потянулся к Айбингену; все было тщательно снято, один человек брал небольшую ношу, несколько человек — побольше, и так, подобно муравьям, понесли они вниз, к воде, колонны и карнизы, образа и церковную утварь. Там их, также в соответствии с данным обетом, встретили корабельщики, перевезли, высадили на левом берегу и снова, по многим тропинкам, все смиренно понесли на гору свой груз. Поскольку это происходило единовременно, стоя у часовни над равниной и рекой, можно было наблюдать удивительнейшую из процессий, в которой пестрой чередой двигались предметы резные и золоченые, писанные красками и покрытые лаком; сгибаясь под тяжестью ноши, каждый уповал на благословение и устройство всей своей последующей жизни. Доставленный сюда, но еще не установленный орган вскоре будет водружен на галерее, насупротив главного алтаря. Только сейчас разрешилась загадка, найден ответ на вопрос: как вышло, что все эти украшения за столь долгий срок сохранились неповрежденными и все-таки не кажутся новыми в только что отстроенной часовне.
Нынешнее состояние храма божия должно быть для нас тем поучительнее, что мы будем вспоминать о доброй воле, взаимной помощи, планомерном исполнении и счастливом окончании. То, что все это было хорошо продумано, явствует из следующего: здесь должны были установить главный алтарь из церкви гораздо больших размеров, а потому было решено возвести стены на несколько футов выше, чем прежде, вследствие чего получилось просторное и богато украшенное помещение. Самый старший из верующих мог теперь преклонить колена на левом берегу Рейна перед тем же алтарем, перед которым с юных лет возносил молитвы на правом берегу.
Поклонение святым мощам в этих краях — давний обычай. Останки святого Рупрехта, к которым в Айбингене прикасались с трепетом и верой в их всемогущество, теперь тоже здесь. А потому все оживились от радостного сознания — снова быть вблизи испытанного покровителя. В то же время стали поговаривать, что не очень-то подобает торговать этой святыней или назначать ей какую-то цену; нет, она попала к святому Рохусу скорее как дар, как доброхотное даяние. О, если бы везде в подобных случаях проявлялась такая щепетильность!
И тут нас подхватила толпа! Тысячи и тысячи лиц оспаривали друг у друга наше внимание. Здешние народности разнятся не столько одеждой, сколько строением лица. Впрочем, в такой толчее не до сравнений; напрасно стали бы мы искать какие-то общие черты в этой суматохе, — тут сразу теряется нить наблюдений, тебя захватывает кипение жизни.
Целый ряд лавчонок, как того требует храмовой праздник, расположился неподалеку от часовни. Впереди выставлены свечи — желтые, белые, разрисованные, рассчитанные на разные кошельки. Тут же сборники акафистов в честь святого Рохуса. Тщетно искали мы книжку, из которой нам уяснились бы его жизнь, его свершения и муки; зато повсюду были навалены четки всех видов. Впрочем, не забыты и булки, лепешки, пряничные орехи, разнообразнейшие пирожные; не менее прельстительны игрушки для детей всех возрастов и галантерейный товар.
Крестный ход продолжается. Одна процессия не похожа на другую, зрелище это могло бы принести много пользы спокойному наблюдателю. А в общем можно сказать: дети красивы, молодежь — нет, старые лица — очень огрубелые, в толпе много глубоких стариков. Одни шли и пели, другие вторили им, хоругви трепетали на ветру, раскачивались штандарты, одна огромнейшая свеча передавалась от процессии к процессии. У каждой общины — своя богоматерь, ее несут дети и девушки, она в новых ризах, украшенных множеством развевающихся розовых лент. Очаровательный младенец Христос держит большой крест и кротко взирает на орудия пытки.
«Ах! — воскликнул какой-то тонко чувствующий зритель, — право же, не всякий ребенок на его месте мог бы так радостно смотреть на мир!»
Младенец одет в новенькую золотую парчу. Красивый и веселый, он походит на юного монарха.
И вдруг трепет пробежал по толпе: приближалась главная процессия Бингена. Народ ринулся ей навстречу. Все мы замираем в изумлении: сцена чудесно преобразилась. Город, красивый, хорошо сохранившийся, среди садов и рощ, на краю долины, где берет свое начало Наэ. А тут еще Рейн, Мышиная башня, Эренфельз. На заднем плане суровые отвесные скалы, меж ними теснится и нежданно скрывается из глаз могучая река.
Главная процессия идет в гору упорядоченно, ровными рядами, как и все остальные. Впереди мальчики и юноши, за ними — мужчины. Они несут святого Рохуса в черном бархатном одеянии пилигрима, и из-под длинной, того же бархата, да еще шитой золотом королевской мантии выглядывает маленькая собачка, в зубах держащая хлеб. Дальше идут подростки в коротеньких плащах, как положено пилигримам, с ракушками на шляпах и воротниках, держа в руках посохи. За ними — мужчины, не похожие ни на крестьян, ни на горожан. По их обветренным лицам я решил, что это корабельщики, люди опасного, тяжелого ремесла, коим каждое мгновение приходится быть начеку.
Над толпою взмыл красный шелковый балдахин, под ним несомые епископом святые дары в окружении высокого духовенства, сопровождаемые из Эстрайха и нынешними властями. Так двигалась вперед процессия, отмечая этот политически-религиозный праздник — символ того, что левый берег Рейна отбит у неприятеля, а значит, и свобода вновь верить в чудеса и знамения.
Если бы я должен был вкратце изложить впечатление, которое произвели на меня эти процессии, я сказал бы: дети все без исключения были веселы и милы, словно что-то новое, чудесное и радостное происходило в мире. Молодые люди, напротив, держались равнодушно. Им, родившимся в лихие времена, этот праздник ни о чем не напоминал, а тот, кому нечего вспомнить, ни на что не надеется. Но старики все были растроганы и счастливы возвращением для них, увы, уже бесполезных времен. А это свидетельствует, что человеческая жизнь лишь тогда стоит чего-то, когда у нее есть продолжение.
Но тут вдруг внимание наблюдателя внезапно и грубо было отвлечено от благородного и торжественного шествия шумом и многоголосым воплем позади него. И это только лишний раз подтвердило, что в суровые, печальные, даже страшные судьбы неожиданно врывается пошлость, как в дурацкой интермедии.
По другую сторону холма возник странный шум — не перебранка, не вопль ужаса или ярости, а какой-то хаос голосов. Между скалами, лесом и мелким кустарником металась взбудораженная улюлюкающая толпа, крича: «Стой! — Тут! — Вон там! — Ну! — Сюда! — Живее!» Сотни людей бегали в страшном волнении, словно кого-то преследуя, за кем-то гонясь. Из толпы выскочил проворный дюжий парень, с радостью показывая всем окровавленного барсука. Несчастный безвинный зверек, напуганный приближающейся толпой верующих, отрезанный от своей норы, был убит всегда безжалостными людьми в благословенный миг праздника милосердия.
Впрочем, равновесие и серьезность вскоре были восстановлены, и внимание толпы обратилось на новую процессию. Епископ уже входил в церковь, когда приблизились посланцы Бюдесгейма, столь же многочисленные, сколь и чинные.
Итак, попытка определить, в чем же характерная особенность именно этого городка, потерпела неудачу. Запутавшись во всей этой путанице, мы предоставили процессии бюдесгеймцев спокойно вливаться в путаницу, возраставшую с каждой минутой.
Весь народ столпился у часовни и устремился внутрь. Оттесненные в сторону, мы охотно задержались на свежем воздухе, дабы насладиться широким видом, открывающимся с другой стороны холма, — долиной, где словно украдкой течет Наэ. Человек со здоровым зрением одним взглядом охватывает многообразную плодородную местность, простирающуюся до подножия Доннерсберга, мощный хребет которого величественно замыкает горизонт.
Но вскоре мы заметили, что нам уготованы и мирские радости. Палатки, будки, скамейки, всевозможные зонты рядами стояли тут. В нос нам ударил соблазнительный запах жареного жира. Мы увидели молоденькую проворную трактирщицу, хлопочущую вокруг кучи раскаленной золы, на которой она — дочь мясника — жарила свежие колбасы. Благодаря собственной сноровке и неустанным стараниям множества расторопной прислуги, ей удавалось быстро накормить даже непрестанно прибывающую толпу гостей.
Обильно снабженные жирными дымящимися колбасами и отличным свежим хлебом, мы тоже отыскали себе место под зонтом за длинным, казалось бы, сплошь занятым столом. Сидевшие любезно потеснились, а мы обрадовались приятному соседству и радушному обществу людей, пришедших на этот возобновленный праздник с берегов Наэ. Резвые ребятишки пили вино наравне со взрослыми. Коричневые кружки с белым вензелем святого Рохуса ходили по кругу в каждой семье. Мы поспешили раздобыть себе такие же кружки, наполненные до краев, и поставили их перед собой.
Оказалось, что подобные скопления народа приносят большую выгоду, если, руководствуясь каким-нибудь высшим интересом, со всех концов обширного края люди, точно ручейки, сливаются в единый поток.
Здесь сразу знакомишься со многими провинциями. Наш минералог немедленно нашел людей, которые, хорошо зная горные породы Оберштейна, тамошние агаты и способы их обработки, могли сообщить ему немало поучительного. Упомянуты были и ртутные породы Мушель-Ландсберга. Помимо приобретения новых знаний, возникла еще и надежда получить оттуда прекрасную кристаллизованную амальгаму.
Эти разговоры не мешали нам наслаждаться вином. Пустые сосуды мы отослали корчмарю, который попросил нас немножко погодить, покуда он не откроет четвертую бочку. Третью опустошили еще ранним утром.
Никто не стыдится винолюбия, напротив, все даже как-то похваляются своей способностью пить. Красивые женщины откровенно признаются, что их младенцы сосут вино едва ли не вместе с материнским молоком. Мы спросили, правда ли, что духовным лицам и даже курфюрстам удается за сутки влить в себя до восьми рейнских мер, что равняется нашим шестнадцати бутылкам.
Один серьезный с виду гость заметил: чтобы ответить на этот вопрос, надо бы вспомнить великопостную проповедь их викария, который, яркими красками обрисовав своему приходу тягчайший порок пьянства, заключил:
«Сие может убедить вас, уже покаявшихся и получивших отпущение грехов, что великий грех так злоупотреблять прекраснейшим даром господним. Однако злоупотребление не исключает употребления. Сказано же: вино для радости дано! Отсюда явствует: дабы порадовать себя и своих ближних, мы можем, более того — должны пить вволю. Но среди представителей сильного пола, слушающих меня, вряд ли найдется хоть один, кто, выпив за день две меры вина, почувствует, что у него уже ум за разум заходит. Однако тот, кто после третьей или четвертой меры впадает в беспамятство настолько, что не узнает жены и детей, бранит их, бьет, пинает ногами, словом, с теми, кого любит больше всего на свете, обходится как со злейшими врагами, тот обязан, поразмыслив над собой, отказаться от излишества, которое делает его неугодным богу и людям и вызывает всеобщее презрение.
Но тот, кто, насладившись четырьмя мерами, выпивает пятую и даже шестую, при этом оставаясь в здравом уме и твердой памяти, кто еще в состоянии с любовью прийти на помощь своим единоверцам, блюсти порядок в своем дому, выполнять приказы церковного и мирского начальства, — тот пусть наслаждается своей скромной долей и благодарит за нее господа бога. Пусть только остережется без должного испытания пойти дальше и помнит, что в таких делах слабому человеку положен предел. Ибо редок, очень редок случай, когда всемилосердый господь дарит человека своей милостью, позволяя ему выпивать восемь мер, каковою он почтил меня, раба своего. Но так как никто про меня не скажет, что я в неправедной злобе на кого-то набросился, что я отвернулся от домочадцев и родичей или, еще того не легче, пренебрег возложенными на меня духовными обязанностями или делами, то, я полагаю, все вы удостоверите, что я в любую минуту готов во славу господа оказать помощь ближним и посему могу с чистой совестью, возблагодарив всевышнего за сей несравненный дар, радоваться ему и впредь.
Итак, внемлите мне, дорогие мои слушатели, и пусть же каждый из вас по воле творца, чтобы усладить тело и возрадоваться духом, приемлет свою скромную долю. Но помните, что при этом должно избегать всякого излишества, и действуйте согласно заповеди святого апостола, который сказал: «Испытайте все и достойнейшее оставьте себе».
Конечно же, после этой проповеди главной темой разговора осталось вино, как было и до нее. Тотчас же разгорелся спор о преимуществах того или иного сорта винограда. Я с удовольствием отметил, что между ними, этими магнатами, не идет спор о рангах, «Хохеймер», «Иоганнисбергер», «Рюдесгеймер», — им отдается должное, а ревность и зависть царят только среди богов низшего ранга. Особенно страсти разгорелись вокруг всеми любимого «Ассманхойзера», красного. Я своими ушами слышал, как некий владелец виноградников из Оберингельгейма утверждал, что их вино мало в чем уступает «Ассманхойзеру». А в одиннадцатом году оно у них было и вовсе замечательным, к сожалению, это доказать невозможно, ибо оно все выпито. Соседи его по столу очень это одобрили, — считается, что красные вина надо выпивать в первые же годы.
Компания с берегов Наэ стала превозносить свое вино под названием «Монцингер»: «Монцингер»-де пьется легко, с приятностью, но не успеешь оглянуться, как оно уже бросилось в голову. Нас пригласили его отведать. Наслушавшись столь похвальных отзывов, мы уж не в силах были отказаться, да еще в такой хорошей компании, попробовать это вино и себя испытать.
Наши кружечки вернулись на стол вновь полные до краев; увидев белые жизнерадостные вензеля святого, постоянно занятого попечением о благе ближних, мы, можно сказать, застыдились того, что лишь в самых общих чертах знали его историю, хотя и вспомнили, что, ухаживая за чумными больными, он все-таки остался в живых.
Тут сотрапезники, идя навстречу нашему желанию, принялись наперебой — дети и родители — рассказывать эту прелестную легенду.
Нам же дана была возможность вникнуть в истинную сущность сказания, передающегося из уст в уста. Противоречий, собственно, не было, только нескончаемые различья, которые, вероятно, произошли потому, что каждый по-своему понимал события и отдельные случаи, отчего одни обстоятельства выдвигались на первый план, другие едва ли не замалчивались; то же самое относится и к странствиям святого, — путали рассказчики также города и веси, где он пребывал.
Из попытки воспроизвести его историю у меня ничего не вышло, и мне осталось только вставить ее сюда в таком виде, в каком она обычно пересказывается.
Святой Рохус, истинный христианин, родом был из Монпелье, отец его звался Иоганном, мать — Либерой; Иоганн властвовал не только над Монпелье, но и над другими городами, был он благочестивым человеком, но господь не благословлял его детьми, покуда не вымолил он у пресвятой девы Марии своего Рохуса, который и явился на свет с алым крестом на груди. Когда родители его постились, надлежало поститься и ему, отчего мать в постный день только один раз кормила его грудью. К пяти годам он стал и есть и пить очень мало; к двенадцати покончил со всеми излишествами, со всякой суетностью и свои карманные деньги стал отдавать бедным, стараясь сделать как можно больше добра. Он выказал себя усердным и в ученье; вскоре он своим смирением достиг великой славы, ибо отец на смертном одре во взволнованной речи, обращенной к сыну, призывал его всегда быть добрым. Ему еще даже двадцати не минуло, когда родители его скончались, и все состояние, им унаследованное, он роздал беднякам, отказался от власти, уехал в Италию и там явился в госпиталь, где лежало множество людей, страдающих заразными болезнями, которых он надеялся выходить. Его не так-то скоро к ним допустили, подробно поведали ему об опасности, но он продолжал настаивать, а когда наконец получил позволение войти, то исцелил немощных, коснувшись их правой рукою и осенив крестным знамением. Спустя некоторое время он уехал дальше, в Рим, спас от чумы наряду со многими другими одного кардинала и три года прожил вблизи от него.
Когда в конце концов и его поразила грозная болезнь, он был отправлен в чумной барак, где в нестерпимых муках временами не мог удержаться от страшного крика, а потому выбрался из госпиталя и сел на улице у дверей, дабы его вопли не были в тягость больным. Прохожие, завидев его, решили, что сие случилось по недосмотру госпитальных стражей, но, услышав, что не так все обстояло, сочли его юродивым или недоумком и поспешили изгнать из города. Ведомый десницей господней и опираясь на свой посох, он укрылся в ближнем лесу. Когда же великая боль не позволила ему идти дальше и он лег на землю под кленом немного отдохнуть, рядом с ним забил источник, и он испил из него водицы.
Невдалеке находилось имение, куда убежали из города многие знатные дворяне, среди них некий граф Готтардус, при нем множество слуг и охотничьи собаки. И тут случилось странное происшествие: один вообще-то очень благовоспитанный пес схватил со стола хлеб и убежал. Хотя и наказанный, он на следующий день повторил то же самое и умчался со своею добычей. Граф заподозрил какую-то тайну и вместе со слугами последовал за ним.
И вот они видят под деревом умирающего пилигрима, тот просит их поскорей уйти, чтобы и они не заразились страшной болезнью. Готтардус, однако, решил не отпускать от себя больного, прежде чем тот не выздоровеет, и пекся о нем как нельзя лучше. Когда Рохус немного набрался сил, он отправился во Флоренцию и многих там исцелил от чумы. Засим был ему голос с неба, и сам он совершенно выздоровел. Он уговорил Готтардуса вместе с ним поселиться в лесу и без устали служить богу. Готтардус и это ему обещал, если только он его не покинет, и оба они долго прожили в полуразвалившейся хижине. После того как Рохус мало-помалу приучил графа к такой отшельнической жизни, он снова снарядился в путь и после тяжкого странствия вернулся домой, в тот самый город, что некогда ему принадлежал и был им подарен двоюродному брату. Но там, — время-то было военное, — его приняли за лазутчика и привели к государю, который его не узнал из-за всех перемен, наложивших печать на его наружность, а также из-за нищенского платья. Но Рохус возблагодарил бога за все несчастья, на него ниспосланные, и пять лет провел в темнице, под землею. Он отказывался принимать пищу, когда ему приносили что-нибудь горячее, и только еще больше изнурял свою плоть бодрствованием и постом. Почувствовав приближение конца, он попросил стражников привести к нему священника. В подземелье, где он лежал, было темно, но когда священнослужитель вошел, воссиял свет, что немало того удивило; взглянув на Рохуса, он увидел отблеск божества в его чертах и от страха без чувств упал наземь. Очнувшись, он поспешил к государю, поведал ему о том, что видел и какое совершено богохульное преступление — так долго держать благочестивейшего из людей в подземной темнице. Когда об этом стало известно в городе, люди толпами бросились к тюремной башне, но поздно — святой Рохус в приступе слабости уже испустил дух. Все сбежавшиеся сквозь щели и двери узрели пробивающееся сияние, а ворвавшись в темницу — скончавшегося святого. Он лежал на земле, в головах и в ногах у него горели лампады. По государеву повелению святого с превеликой пышностью похоронили в церкви. Его узнали по алому кресту на груди, с которым он родился; и какие же послышались в церкви рыдания и сетования!
Случилось это в году 1327, шестнадцатого августа. А позднее в Венеции, где теперь лежит его тело, ему во славу был воздвигнут храм. Когда же в году 1414 в Констанце созван был Konzilium и там возникла чума, а помощи неоткуда было явиться, — мор стал утихать, едва лишь люди вознесли молитвы этому святому и в честь его стали устраивать крестные ходы.
Там, где мы сидели, невозможно было спокойно выслушать эту миролюбивую историю, ибо за столом уже шли горячие споры о числе сегодняшних богомольцев и гостей. Одни уверяли, что их тысяч десять, другие, что и того больше, а третьи — что и сосчитать немыслимо, сколько народу толчется на верхушке этого холма.
Споры прерывались разговорами совсем другого рода. Разные крестьянские правила, пословицы, предсказания погоды, которые должны сбыться еще в нынешнем году, я внес в свою записную книжку, а когда мои сотрапезники заметили, что я слушаю с живейшим интересом, вспомнили и еще множество примет и пословиц, легко приложимых к здешним как климатическим, так и житейским условиям.
«Сухой апрель — для крестьян канитель». — «Ежели славка запоет, когда лоза еще не цветет, — быть году урожайным». — «Много солнца в августе — быть вину хорошим». — «Чем ближе праздник рождества от новолуния, тем более тяжкий год последует за ним. Но если он настанет в полнолуние или в пору ущербной луны — год будет благоприятствовать людям». — «Для рыбаков щучья печень — самая верная примета: если она слишком широка по сравнению с желчным пузырем, передняя же часть у нее заостренная и узкая — быть зиме холодной и длинной». — «Если Млечный Путь в декабре светлый и яркий, жди доброго года». — «Если от рождества до богоявления дни стоят темные и туманные — через год разные болезни поразят род людской». — «Если в ночь перед рождеством вино забродит в бочках — надейся, что виноград уродится обильно». — «Если выпь закричит вовремя, надейся, что хлеб хорошо уродится». — «Если бобы вырастут густо, а на дубах очень уж много будет желудей — не жди доброго урожая». — «Если совы и другие птицы часто будут вылетать из лесу в города и деревни — год будет неурожайный». — «Май холодный — год хлебородный». «В холод, в дождь не наполняй ни амбар, ни бочки». — «Поспеет земляника к троице — винограда будет вдоволь». — «Если Вальпургиева ночь дождливая — добрый год выдастся». — «Бурая грудная косточка у первого жареного гуся — к морозу, белая — к снегу».
Горца, слушавшего эти поговорки, — все урожай да плодородие, — если не с завистью, то очень серьезно спросили, в ходу ли и у них такие речения. Он отвечал, что подобного разнообразия у них и в помине нет, загадки и пословицы все очень простые, вот, к примеру:
Утром круглый,
Днем бесформенный,
Вечером в кусочках;
И все-таки
Всем полезен.
Тем временем одна компания равнодушно вставала из-за почти необозримого стола, другая учтиво со всеми прощалась. Так мало-помалу редело число сотрапезников. Только ближайшие наши соседи и несколько приятных гостей еще медлили. Неохота расставаться; они уходят и возвращаются еще раз испытать сладостную боль расставания, и наконец мы, для нашего общего успокоения, договариваемся о встрече, которая, конечно, не состоится.
К сожалению, помимо палаток и будок, негде было укрыться от палящего солнца, ибо недавно посаженные на другой стороне холма ореховые деревца сулили тень лишь нашим правнукам. О, если б каждый паломник бережно относился к юным деревцам, если б почтенные граждане Бингена догадались огородить насаждения и ревностными подсадками, тщательным уходом помогли бы им тянуться ввысь, на пользу и радость тысячам людей!
Вновь возникшее оживление свидетельствует о новом событии: все спешат к проповеди, народ теснится с восточной стороны часовни. Там здание еще не закончено, еще стоят леса, но даже во время строительства здесь служат господу богу. Точно так же было, когда в пустынях первые поселенцы своими руками строили церкви и монастыри. Каждый обтесанный, каждый уложенный камень уже был служением богу. Любители искусства помнят примечательнейшие картины Ле Сюера, изображающие житие и деяния святого Бруно. Итак, все значительное повторяется в ходе мировых свершений, внимательный глаз замечает это везде и во всем.
На каменную кафедру, стоящую на консолях у наружной стены, войти можно только изнутри. Появляется проповедник — мужчина в цвете лет. Солнце стоит высоко, и потому мальчик держит над священником зонт. Чистым, внятным голосом ведет он весьма разумную речь. Мы надеялись, что уловили смысл, и неоднократно повторили эту речь с друзьями. Однако возможно, что в изустной передаче мы уклонились от первоначального текста и многое привнесли от себя. Таким образом, в нижеследующем можно обнаружить кроткий, алчущий деятельности дух, даже если это не всегда будет изложено в таких сильных и точных словах, какие мы тогда слышали:
— Возлюбленные мои слушатели! В великом множестве поднялись вы сегодня на эту гору, дабы отметить праздник, которого, с соизволения божия, не было вот уже много-много лет. Вы пришли и застали сей еще недавно оскверненный, разрушенный храм господень восстановленным, украшенным, освященным. Сейчас вы торжественно вступите в него и с благодарностью принесете святому, особо почитаемому в здешних местах, свои священные обеты. Поскольку долг повелевает мне сказать вам по этому поводу слово назидания, то я не желал бы ничего лучшего, как спросить у вас: может ли человек, родившийся от благочестивых, но все же грешных родителей, удостоиться величайшей милости — предстать перед престолом всевышнего и просить, во имя тех, кто с верою возносит к нему молитвы, об избавлении от мора, поразившего целые народы, более того — от смерти?
Поелику он этой милости удостоился, мы можем с полным доверием обращаться ко всем, кого почитаем святыми, ибо они обладают редчайшим свойством, заключающим в себе все остальные добродетели, — безусловной покорностью воле божьей.
И хотя ни один смертный не вправе дерзнуть уподобиться господу богу или посягнуть на сходство с ним, уже самое безграничное покорство святой воле господней есть первое и надежнейшее приближение ко всевышнему.
Давайте же рассмотрим это на примере многодетных отцов и матерей, которые с любовью пекутся о детях, ниспосланных им господом богом. Но если кто-то из этих детей выказывает больше смирения и послушания, чем другие, не задавая вопросов и не медля, точно выполняет родительские приказания, ведет себя так, словно и живет только для отца с матерью, он, конечно же, завоевывает себе особые преимущества. К его просьбам, к его заступничеству родители относятся с большим вниманием, гнев и неудовольствие их проходят под влиянием нежных его ласк. Итак, давайте же по-человечески представим себе отношение нашего святого к господу богу, отношение, до которого он возвысился безусловным своим смирением.
Слушая проповедника, мы подняли взоры к чистому небосводу, яркую синеву оживляли легко несущиеся облака; мы стояли на высоком месте. Вверху — прозрачная ясность, широкие просторы кругом, проповедник слева от нас, повыше внимающей ему паствы.
Многочисленные слушатели толпятся на обширной недостроенной террасе неправильной формы и с задней своей стороны как бы висящей над бездной. Если бы ее со временем умно и целесообразно завершил, увязал с целым и продуманно устроил умный зодчий, все это вместе стало бы одним из прекраснейших мест на свете. Ни один проповедник, обращающийся к многотысячной толпе, еще не видывал ее на фоне столь прекрасного ландшафта. Попробуй зодчий поставить эту толпу на ровную, расчищенную площадку, может быть, чуть возвышенную с задней стороны, тогда все видели бы проповедника и хорошо его слышали. Но сейчас-то на недоделанной площадке они стояли ниже его, друг за дружкой, поневоле друг дружку толкая. Если смотреть сверху — причудливая, тихо колеблющаяся волна. Место, с которого епископ внимал проповеди, отличалось от прочих лишь высоко торчащим балдахином, сам же священнослужитель был скрыт, так сказать, поглощен толпою. Разумный зодчий и этому достойному князю церкви отвел бы подобающее место, тем самым сделав праздник еще прекраснее. Но то, что ныне творилось вокруг, то, что поневоле отмечал искушенный в искусстве глаз, ничуть не мешало нам внимательно прислушиваться к словам достойного проповедника, который, перейдя ко второй части проповеди, говорил следующее:
— Такое покорство воле господней, как ни высоко следует его ценить, тем не менее осталось бы бесплодным, если бы благочестивый юноша не любил своих ближних, как самого себя, — нет, больше, чем самого себя. Ибо, по господнему соизволению, разделив свое состояние меж бедняками, дабы в качестве набожного пилигрима дойти до святых мест, он по пути все же отклонился от своего достославного решения. Великая беда, постигшая его единоверцев, возложила на него долг, позабыв о себе, прийти на помощь несчастным больным. Долг сей он выполнял во многих городах, покуда свирепая болезнь не одолела и его, лишив возможности продолжать свое служение ближним. Опаснейшая эта деятельность вновь приблизила его к вседержителю; так же как господь, возлюбивший человечество столь сильно, что для его блага он отдал единственного своего сына, святой Рохус пожертвовал собою для ближних.
Велико было внимание к каждому слову проповедника, толпа же, ему внимавшая, была необозрима. Паломники, пришедшие в одиночестве, и целые общины толпились здесь, уже прислонив к стенам часовни, слева от проповедника, свои знамена и хоругви, что тоже немало украсило место действия. Однако всего больше радовал сердца маленький дворик, вмещавший совсем немного народу, но зато весь уставленный подмостками со скульптурными изображениями святых, так что казалось, они тоже слушали, знатнейшие из всех.
Три богоматери разной величины, подновленные, свежие, сияли на солнце, длинные розовые ленты, украшавшие их, весело и радостно трепетали на сквозном ветерке. Младенец Иисус в золотой парче, как всегда, приветливо улыбался. Святой Рохус, и не один, спокойно взирал на собственный праздник. На первом плане, тоже как всегда, — фигура в черном бархатном одеянии.
Проповедник, перейдя к третьей части, сказал приблизительно следующее:
— Однако и это непостижимо трудное деяние не имело бы духовных последствий, если бы святой Рохус за великую свою жертву стал дожидаться земной награды. Поступки столь богоугодные награждает лишь господь бог, и награждает навечно. Время слишком коротко для безграничного воздаяния. Посему вседержитель и даровал нашему святому величайшее блаженство на веки вечные, а именно — быть на небесах, как и при жизни, неутомимым заступником за род людской.
Вот почему он и является для нас той меркой, по которой мы измеряем свой духовный рост. Ежели в трудные дни вы воззвали к нему и вам дано было узнать, что ваши молитвы услышаны, то, отбросив все высокомерие, всю заносчивость, смиренно спросите себя: были ли у нас перед глазами его подвиги? Тщились ли мы следовать его примеру? В грозные времена, под тяжестью непосильного бремени, предались ли мы, не возроптав, воле господней? Или мы не жили в блаженной надежде, что господь смилостивится над нами? В пору, когда свирепствовала чума, молились ли мы не только о своем спасении? Помогали мы в этой беде ближним, домочадцам или дальней родне, просто знакомым, чужим и врагам, во имя господа и святого Рохуса, ставили мы свою жизнь под удар или нет?
Если в глубине души вы ответите на эти вопросы «да!», то уйдете домой с миром в сердце.
А если, в чем я не сомневаюсь, вы еще будете вправе добавить: ни о какой земной выгоде мы при этом не помышляли, удовольствовались тем, что наши поступки угодны господу, — то вы тем паче возрадуетесь, что от души шли ваши молитвы и ближе стали вы к великому своему заступнику.
Растите и приумножайте эти духовные качества и в счастливые дни, дабы в трудное время, которое приходит нежданно-негаданно, вы вправе были бы вознести молитвы к богу и его святому. А потому смотрите же и впредь на подобные паломничества как на ожившие воспоминания о том, что вы принесли всевышнему благодарственную жертву, лучше которой и быть не может, — преисполнив свое сердце добром и духовно обогатившись.
Итак, проповедь окончилась, целительная для всех, ибо каждый услышал ее и каждый извлек из нее практические поучения.
Епископ возвращается в часовню: то, что там происходит, скрыто от наших глаз. До нас доносятся лишь отзвуки молебствия. Непрерывным потоком движутся люди к церкви и от нее, праздник подходит к концу. Выстраивались, готовясь уходить, процессии; пришедшие последними бюдесгеймцы уходили первыми. Стремясь поскорее выбраться из всеобщей сутолоки, мы спустились с холма вместе со спокойной и серьезной процессией Бингена. Но и на этом пути нам встретились следы скорбных дней войны. Места привалов на тернистом пути нашего святого были, по-видимому, уничтожены. При возобновлении их следовало бы руководствоваться духом благочестия и честным отношением к искусству, дабы каждый, кто бы он ни был, мог пройти этот путь с состраданием и участием.
Достигнув великолепно расположенного Бингена, мы и там не нашли покоя. Больше всего нам хотелось бы после стольких удивительных, божеских и человеческих чудес поскорее окунуться в природу. На лодке мы спустились вниз по течению реки, проскочили развалины поврежденной временем каменной дамбы; сказочная башня, построенная на несокрушимой кварцевой породе, осталась слева, Эренфельз — справа. Однако на сей раз мы вскоре вернулись, досыта насмотревшись на обрывистые серые ущелья, через которые испокон веков продирается Рейн.
И на обратном пути, так же как все утро, солнце стояло высоко, хотя набегающие облака позволяли надеяться на вожделенный дождь; наконец он и вправду хлынул, освежая все и вся, и шел достаточно долго, чтобы мы весь обратный путь ощущали приятную прохладу. Вероятно, это святой Рохус, подвигнув других угодников, ниспослал свое благословение людям, хотя дождь и не входил в его обязанности.
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ МЕЛОЧИ
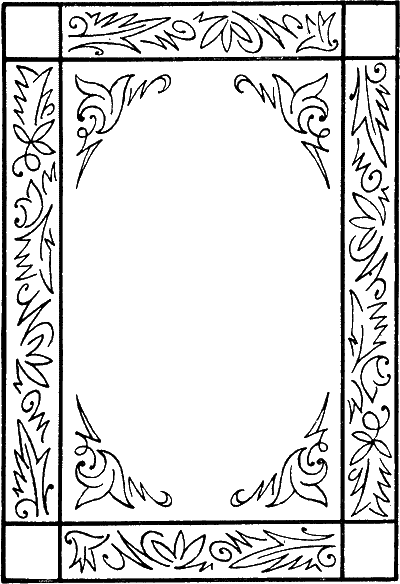
СЧАСТЛИВОЕ СОБЫТИЕ
(1794)

Если лучшие мгновения жизни совпали для меня со временем, когда я старался проследить метаморфозу растений, когда ее последовательность наконец уяснилась мне и это открытие одухотворило мое пребывание в Неаполе и Сицилии, если я с каждым днем научался все больше любить именно такой способ наблюдать за миром растений и неустанно упражнялся в нем на всех путях и перепутьях, то эти радостные усилия стали для меня бесценными лишь оттого, что послужили поводом к отношениям, составившим мое счастье уже в более поздние годы. Дружбой моей с Шиллером я обязан именно этому совпадению обстоятельств, устранившему те недоразумения, которые долгое время не давали мне сблизиться с ним.
По возвращении из Италии, где я стремился прийти к большей определенности и чистоте во всех областях искусства, не задумываясь о том, как в это время обстоит дело в Германии, я обнаружил, что большую популярность и значительное влияние там приобрели более и менее новые поэтические произведения, но, увы, такие, которые внушали мне отвращение: назову хотя бы «Ардингелло» Гейнзе и Шиллеровых «Разбойников». Первый был мне ненавистен за то, что чувственность и путаный образ мыслей силился облагородить и подпереть ссылками на пластические искусства, второй — за то, что он, обладатель могучего, но незрелого таланта, излил на свое отечество бурный, стремительный поток именно тех этических и театральных парадоксов, от коих я старался очиститься.
В вину обоим этим одаренным поэтам я не ставил того, что они задумали и совершали: не может человек запретить себе действовать на свой лад; сначала он бессознательно пытается это делать по неведению, затем, на каждой ступени своего образования, все сознательнее, потому-то так много прекрасного и нелепого распространяется по свету и сумятица порождает сумятицу.
Однако шум, который поднялся в нашем отечестве, успех, выпавший на долю этих ублюдочных творений, — как у неистовствующих студентов, так и у просвещенных придворных дам, — поначалу испугал меня, ибо мне подумалось, что все мои усилия пошли прахом и то, к чему и как я стремился, парализовано и ни для кого уже не представляет интереса. Но наибольшую боль мне причиняло то, что все духовно связанные со мной друзья, Генрих Мейер и Мориц, а также художники Тишбейн и Бури, продолжавшие работать в моем духе, находятся под угрозой; я был совершенно подавлен. На изучении пластических искусств, на продолжении поэтических трудов я уже готов был поставить крест, если бы это было мыслимо, ибо я не видел возможности превзойти упомянутые творения, отмеченные гениальностью, но дикие по форме. Представьте же себе мое состояние! Я старался взлелеять и сообщить другим чистейшие воззрения, а сам оказался зажатым в тиски между Ардингелло и Францем Моором.
Мориц, тоже вернувшийся из Италии и некоторое время живший под моим кровом, вместе со мной страстно отстаивал наши общие убеждения. Я избегал Шиллера, который, теперь жил в Веймаре, по соседству со мной. Вышедший в свет «Дон Карлос» не мог примирить меня с ним; все попытки людей, одинаково близких и ему и мне, примирить нас я отклонял; так мы и жили один возле другого, не общаясь.
Его статья «О грации и достоинстве» также не могла меня с ним примирить. Он с радостью принял Кантову философию, которая так высоко ставит субъект, хотя и сужает его значение. Эта философия развивала то исключительное, что природа вложила в его сущность, но он проявил неблагодарность к Великой Матери, хотя она обошлась с ним отнюдь не как мачеха. Вместо того чтобы понимать ее как нечто единое, закономерно порождающее все живое, от низшей его ступени до наивысшей, он рассматривал ее под углом малого числа свойственных человеку эмпирических воззрений. Мне казалось, что иные резкие его выпады целят прямо в меня, искажая мой образ мыслей. При этом я чувствовал, что было бы еще хуже, если бы они относились не ко мне, ибо гигантская пропасть между нашими воззрениями обозначилась бы еще отчетливее.
О сближении нечего было и думать. Даже мягкие уговоры самого Дальберга, по достоинству ценившего Шиллера, остались безрезультатными, к тому же и основания, которые я противопоставлял любому сближению, нелегко было опровергнуть. Кто станет отрицать, что между двумя антиподами по духу — расстояние больше, чем длина диаметра, проходящего через земной шар, ибо они оба являются полюсами и уже поэтому никогда не могут совпасть. Что между ними, однако, существует известное соотношение, явствует хотя бы из следующего.
Шиллер переехал в Йену, где я опять-таки с ним не встречался. В это время Батш, благодаря своей невероятной энергии, основал Общество естествоиспытателей, обладавшее отличными коллекциями и новейшей аппаратурой. Я обычно присутствовал на регулярных заседаниях этого Общества. Однажды я встретил там Шиллера; случилось так, что мы вышли одновременно, завязался разговор. Шиллер, видимо, был заинтригован докладом, но весьма разумно и рассудительно; я не мог с ним не согласиться, он заметил, что такой расчлененный подход к природе не может завлечь дилетанта, сколько бы тот этого ни хотел.
Я отвечал, что он и посвященного-то, пожалуй, оттолкнет, а ведь к природе можно подойти и по-другому, не расчленяя ее, не рассматривая отдельные ее куски, но попытаться, живую и действенную, представить ее себе, идя отдельно к отдельным частям. Он пожелал точнее узнать, что я под этим подразумеваю, но своих сомнений не скрыл и не верил, что это утверждение я основываю на собственном опыте.
Мы дошли до его дома, наша беседа заставила меня войти. Я быстро посвятил его в свои мысли о метаморфозе растений и несколькими характерными штрихами набросал для него символическое растение. Он слушал и всматривался в мой рисунок с большим вниманием, проявляя недюжинную способность все схватывать на лету, но когда я кончил говорить, покачал головою и сказал: это не опыт, а идея. Я оторопел, признаться, несколько раздосадованный, ибо пункт, который нас разделял, здесь непреложно обозначился. Утверждение из «Грации и достоинства» снова пришло мне на ум. Старый гнев во мне уже закипал, но я взял себя в руки и ответил: мне-де очень приятно слышать, что у меня есть идеи, о которых я даже не подозревал и которые вижу собственными глазами.
Шиллер, куда более благоразумный, чем я, да и более сдержанный, скорее хотел привлечь меня к «Орам», которые собирался издавать, чем оттолкнуть; он отвечал мне как образованный кантианец, а поскольку я упорствовал в своем реализме, то и дело возникали поводы для пылких возражений; итак, мы сражались не жалея сил, потом наступало перемирие; ни один из нас не мог считать себя победителем, так как каждый был уверен, что его одолеть невозможно. Сентенции, вроде нижеследующей, делали меня положительно несчастным: откуда взяться опыту, который был бы равноценен идее? Ведь своеобразие последней в том и заключается, что опыт никогда не совпадает с нею. Если он считает идеей то, что я называю опытом, то между тем и тем должно же существовать нечто посредствующее, связующее! Но первый шаг тем не менее был сделан. Притягательной силы в Шиллере было предостаточно, он крепко держал тех, кто к нему однажды приблизился. Его супруга, — я еще девочкой любил и уважал ее, — со своей стороны, немало способствовала нашему дальнейшему взаимопониманию, друзья обеих сторон были довольны; итак, несмотря на никогда до конца не утихающий спор: объект или субъект, — мы скрепили союз, длившийся всю нашу жизнь и принесший много доброго и нам и другим.
После такого счастливого начала в продолжение десяти лет нашего общения с Шиллером мало-помалу развивались философские задатки моей натуры; в этом я и попытаюсь отчитаться по мере возможности, хотя основные трудности, думается мне, не могли не броситься в глаза каждому, кто был в курсе происходящего. Люди, которые с высшей точки зрения смотрят на спокойную надежность человеческого разума, врожденного разума здорового человека, не решающегося размышлять о предметах, об их соотношениях, не тщатся в меру своей компетенции определить, познать, выработать о них собственное суждение, оценивать их или использовать, такие люди, конечно же, признают, что изобразить переходы к состоянию более просветленному, более свободному и достойному, — а этих переходов, вероятно, существуют тысячи и тысячи, — значит совершить нечто почти невозможное. Об уровне образованности здесь и речи нет, разве что о блужданиях, о путаных и окольных путях, а затем о нежданном и живительном прыжке к высшей культуре.
Но кто же, в итоге, может сказать, что в науке он вечно вращается в высшей сфере сознания, в сфере, где внешнее следует воспринимать с величайшей осмотрительностью, наблюдать с пристальным и спокойным вниманием, где даже собственным чувствам можно разрешить господство лишь с разумной осторожностью и скромностью, в многотерпеливой надежде на истинно чистое, гармоническое мировоззрение. Разве мир, окружающий нас, разве мы сами не омрачали себе иные мгновения жизни? Но благочестивые упования нам все же дозволено пестовать, и еще нам дозволена попытка с любовью приближаться к недостижимому.
То, что нам удалось воссоздать, мы предлагаем нашим издавна почитаемым друзьям, а заодно и немецкой молодежи, стремящейся к добру и справедливости.
И дай нам бог из числа этой молодежи завоевать и привлечь новых соучастников и будущих союзников.
БЕСЕДА С НАПОЛЕОНОМ
(Эрфурт, 1808 г.)

2 октября. На одиннадцать часов утра я зван к императору. Толстый камергер Поль просит меня обождать. Приемная пустеет. Представление Савари и Талейрану. Меня просят войти. В то же мгновение является Дарю, которого тотчас же впускают. Я задерживаюсь. Меня снова зовут. Вхожу.
Император завтракает за большим круглым столом; по правую его руку, немного поодаль, стоит Талейран, по левую, несколько ближе — Дарю, с которым он обсуждает вопрос о контрибуциях. Император делает мне знак приблизиться. Я останавливаюсь в пристойном отдалении. Внимательно меня оглядев, он говорит:
— Vous êtes un homme[18].
Я кланяюсь.
Он спрашивает:
— Сколько вам лет?
— Шестьдесят.
— Вы хорошо сохранились. Вы писали трагедии?
Я отвечаю по возможности кратко.
Тут берет слово Дарю; желая отчасти польстить немцам, которым он вынужден был причинить немало неприятностей, он заговорил о немецкой литературе; вообще же Дарю был хорошим латинистом и даже сам издавал Горация. Он говорил обо мне, как могли бы говорить мои доброжелатели в Берлине, во всяком случае, в его речах я узнавал их убеждения и образ мыслей. Затем он добавил, что я тоже делал переводы с французского, к примеру, Вольтерова «Магомета». Император заметил: это плохая вещь, — и очень обстоятельно объяснил, как неприлично, чтобы покоритель мира сам себя изображал в столь неприглядном свете.
Далее он перевел разговор на «Вертера», которого изучил досконально. Сделав различные, абсолютно верные, замечания, он указал на одно место и спросил: «Почему вы это сделали? Это неестественно»; далее он пространно и очень верно разобрал это место.
Я слушал его с веселым лицом и отвечал с довольной улыбкой: я не помню, чтобы когда-нибудь кто-нибудь сделал мне такое замечание, но я нахожу его справедливым и признаю, что в этом месте и вправду есть нечто противоестественное. Хотя, добавил я, поэту можно извинить, если он и воспользуется не слишком законным приемом, чтобы добиться известного эффекта, которого невозможно достичь простым, естественным путем.
Император, казалось, удовлетворился моим объяснением и вновь вернулся к драме, сделал несколько весьма дельных замечаний, как человек, который трагический театр рассматривает с превеликим вниманием, подобно уголовному судье, и глубоко чувствует отход французского театра от правды и натуральности.
Столь же неодобрительно отозвался он и о драмах рока. Они — знамение темных времен. А что такое рок в наши дни? — добавил он, — рок — это политика.
Затем он вновь обратился к Дарю и заговорил с ним о важнейших вопросах контрибуции. Я немножко отступил и оказался в эркере, где более тридцати лет тому назад пережил столько радостных и столько печальных часов; я даже успел заметить, что справа от меня за входными дверями стояли Бертье, Савари и кто-то еще. Талейран уже удалился.
Доложили о маршале Суле. Едва сей рослый муж с пышными волосами вошел, император насмешливо поинтересовался кое-какими неприятными событиями в Польше, а я тем временем успел оглядеться в комнате и припомнить прошлое. Здесь были все те же обои. Но портреты со стен исчезли. Прежде вот тут висел портрет герцогини Амалии в маскарадном костюме, с черной полумаской в руке, а также портреты наместников и членов герцогской семьи.
Император встал, подошел ко мне и умелым маневром отделил меня от тех, с кем я стоял рядом. Он повернулся спиною к ним и приглушенным голосом заговорил со мною, спросил, женат ли я, есть ли у меня дети, — словом, о том, о чем принято спрашивать в приватной беседе. Равно как и о моем отношении к герцогскому дому, к герцогине Амалии, самому герцогу, его супруге и т. д. Я отвечал ему правдиво и непринужденно. Он, казалось, был доволен и повторил мои слова на свой лад, в выражениях более решительных, нежели я мог себе позволить.
При этом я должен заметить, что во время нашего разговора меня поразило разнообразие, с коим он выражал свое одобрение. Редко он слушал неподвижно — либо задумчиво кивал головою, либо говорил «Oui» и «G’est bien» или что-то в этом роде. Не могу не упомянуть и о том, что, высказав какую-то мысль, он непременно осведомлялся: «Qu’en dit Mr. Gӧt?»
Я улучил мгновение и жестом спросил у камергера, могу ли я проститься, на что тот ответил утвердительно, и я тут же откланялся.
КОММЕНТАРИИ
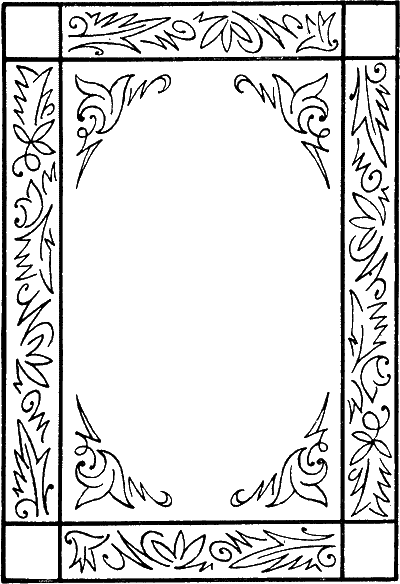
ИЗ «ИТАЛЬЯНСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ»
В 1814 году Гете закончил третью часть своей знаменитой автобиографии «Поэзия и правда». Она писалась в тревожные годы, во время последней схватки Наполеона с европейской коалицией — двух его кампаний 1813–1814 годов. 6 апреля 1814 года Наполеон подписал — «за себя и своих наследников» — свое первое отречение от трона Франции. О том, что воспоследует еще и второе отречение, что Европе еще предстоят «Сто дней» — краткая реприза его теперь уже скорее военной, нежели политической деятельности, он не предвидел. Но пока в Европе считалось, что наконец-то воцарился вожделенный мир после стольких лет тягчайших, кровопролитнейших испытаний.
Так или иначе, но в том же 1814 году, почти совпавшая с днем отречения Наполеона, перед Гете лежала законченная третья часть его автобиографии. Правда, ему еще надо было написать четвертую, заключительную, часть «Поэзии и правды». Но автор с этим не спешил. В ней, как известно, много страниц посвящены его роману с Лили Шёнеман, бывшей его невестой, а теперь баронессой фон Тюркгейм. А она была еще жива, и с этим надо было считаться.
Все грозные годы войны Гете упорно работал над историей своей жизни, в этом видел свой патриотический долг, а когда его осудительно спрашивали, почему он не пишет «военных песен», он отвечал: «Слагать военные песни, сидя у себя в кабинете? Вот уж не в моем духе! На биваке, где слышишь ржание конной разведки, — куда ни шло… Служить отечеству можно по-разному; лишь бы с затратой всех сил, отпущенных тебе богом». Кстати, из этого тома читатель узнает, что Гете, участвуя в кампании во Франции 1792 года, сам не раз ездил в конную разведку, хоть и не был офицером и не носил никогда оружия.
Но с окончанием войны работа над «Поэзией и правдой» внезапно прерывается (едва ли только из нежелания огорчить свою бывшую невесту). Гете почувствовал себя помолодевшим, обновленным, как бы вторично родившимся. Увлеченный открывшейся ему мудрой восточной поэзией Гафиза и нежданно-негаданно свалившимся на него чувством к Марианне фон Виллемер — прельстительной Зулейке его «Западно-восточного дивана», Гете вновь отдается лирической стихии. Стихи текут, слагаются сами собой, ничем не похожие на те, что создавались раньше.
Это не значит, конечно, что Гете навсегда расстался с автобиографической прозой. Отход от темы, некогда ему близкой, для Гете обычно означал не разрыв, а разлуку и предвидение новой встречи. Он твердо знал, что рано или поздно он непременно напишет четвертую часть «Поэзии и правды», тем самым завершив свой первый, уже непревзойденный, автобиографический труд. И он, как известно, действительно написал запрограммированную четвертую часть — почти в один год, что и «Фауста», на восемьдесят первом — восемьдесят втором году своей жизни. И характерная черта работы Гете над его произведениями, в частности, автобиографическими: ему требовалось, чтобы «былые переживания переплетались с новейшими» и «минувшее вселяло бы веру в лучшее будущее», — так он выразился в письме к своему другу, музыканту Цельтеру. Обобщенно он высказал эту мысль в своем афоризме: «Хронику пусть пишет только тот, кому важна современность». Возможно, что такие рассуждения великого писателя и мыслителя внушат кому-нибудь скептический вопрос: а был ли Гете, столь преданный сегодняшнему дню, призванным мемуаристом?
Поспешу успокоить скептиков другими словами, сказанными Гете: «Даже ставя себе целью самое широкое обобщение, мы должны неустанно вдаваться в мельчайшие подробности». Вне контекста истории, вне общественно-бытовой и духовной сферы, его окружавшей, человек остается загадкой: ключ к нему потерян. Иными словами: Гете как мемуарист старался создавать реалистически неуязвимые, полноценные сочинения. Да и мог ли он иначе поступать, касаясь давно минувшей страсти, если б в его сердце не теснились нужные слова, порожденные новым чувством, к другой прелестной девушке? Заключительная часть «Поэзии и правды» была, как сказано, окончена за год до смерти Гете, но страницы, посвященные роману с Лили Шёнеман, писались в 1823-м, в Мариенбаде, когда он, глубокий старик, думал жениться на юной Ульрике фон Левецов. Новые переживания служили Гете как бы палитрой, с которой он брал свежие краски, чтобы воссоздавать события полувековой давности.
Нет, Гете не утратил желания писать в автобиографическом роде. Напротив, он долгие годы, чуть ли не десятилетия, еще носился с мыслью создать свою «большую биографию», которая бы охватила весь пройденный им долгий жизненный путь. Сначала Гете думал просто хронологически продолжить свою первую автобиографию, доведенную до 1775 года, то есть до переезда в Веймар, где он, за малыми перерывами, прожил до дня своей кончины. Но очень скоро ему пришлось признать, что так продолжить свое жизнеописание он не сможет. Действующие лица «Поэзии и правды» почти все уже лежали в могиле. Напротив, в более поздние годы, в основном протекавшие в Веймаре, Гете жил среди людей, многие из которых еще благополучно здравствовали; иные из них состояли на герцогской службе, другие входили в карликовый — так называемый «большой веймарский свет». Будучи членом Общества Гете, я не раз наезжал в этот международный культурный центр, и молодые ученые не без скрытого юмора мне рассказывали, что потомки бывших знакомых и сослуживцев Гете до сих пор спорят о степени близости их предков к великому человеку. Говорить прямодушно и правдиво о своих новых связях было тогда для министра и «фаворита» Гете совершенно невозможно.
И все же Гете не отказался создавать новые автобиографические сочинения; но никак не в прямое продолжение «Поэзии и правды», а разве лишь в дополнение к его знаменитому историко-биографическому труду. Они должны были войти (да и вошли потом… на время) во «второй раздел» сочинения под общим заглавием «Из моей жизни» в качестве «частей» этого раздела. В отличие от «автобиографического первенца» Гете (то есть «Поэзии и правды»), произведения, воссоздающего весь «довеймарский» период писателя, его детские и юношеские годы, автобиографическая проза, предназначавшаяся для «второго раздела», должна была, по замыслу автора, отражать только относительно краткие, знаменательные эпизоды, выхваченные из его жизни: неполных два года, проведенных в Италии (1787–1788), всего лишь год, им прожитый в стане союзной армии, безуспешно стремившейся сломить сопротивление молодой республики и восстановить во Франции поверженную дворянскую монархию Бурбонов.
Оба упомянутых эпизода стали книгами только по прошествии нескольких десятилетий и поступили на книжный рынок еще не под теми заглавиями, которые впоследствии за ними закрепились. На титульном листе «Итальянского путешествия» значилось: «Из моей жизни. Раздел второй, часть вторая (1817)», — только и всего. В эти две части, однако, не уложился весь материал, относящийся к годам, проведенным в Италии; предполагалась еще и третья, а надо думать, и четвертая часть, поскольку следующий автобиографический эпизод (своеобразное участие Гете — в качестве зрителя, а не воина — в первой коалиции против тогда еще (в 1792 г.) революционной, новой Франции) был помечен как «Из моей жизни. Раздел второй, часть пятая». Дело в том, что ко дню выхода в свет «Кампании во Франции…» (1821) «Итальянское путешествие» оставалось по-прежнему фрагментом; и отсюда неверный, как потом оказалось, подсчет частей второго «Раздела». Читателю первых двух частей «путешествия» пришлось-таки изрядно понабраться терпения: третья «часть» была напечатана только в 1822 году, годом позже появления на книжном рынке произведения, позднее названного «Кампанией во Франции 1792 года».
Заглавия, под которыми оба названных произведения вошли в историю мировой литературы — «Итальянское путешествие» и «Кампания во Франции 1792 года», — закрепились за ними только в последнем прижизненном издании Собрания сочинений Гете (в так называемой «Ausgabe letzter Hand»).
Для Гете-мемуариста характерно, что он нуждался в подспорьях, в источниках, которые давали ему возможность более отчетливо припоминать давно минувшее, воскрешать его в памяти писателя, которая оставалась главным источником его общения с прошлым. Когда он работал над «Поэзией и правдой», он прибегал к таким источникам, как рассказы его матери о ранних годах его детства, его же давние дневники, письма и сочинения его современников, книги историко-литературного, философского, богословского содержания, казенные описания коронационных церемоний, но все это вкупе был только грубый, так сказать, первичный, материал — своего рода трамплин, оттолкнувшись от которого Гете мог подыматься в сферу высокого поэтического творчества.
Иначе дело обстояло при работе над «Итальянским путешествием». «Эта книжечка, — так писал он Цельтеру, единственному человеку, с которым Гете перешел на братское «ты» уже в преклонном возрасте, — получит совсем особый облик именно оттого, что ее основу образуют старые бумаги, порожденные мгновением. Я стараюсь лишь самую малость что-либо менять в них: удаляю незначительные случайные высказывания и досадные повторения. Случается, правда, что кое-где, не в ущерб простодушной наивности, я лучше и подробнее излагаю какое-либо происшествие». Сличая текст «Итальянского путешествия» с подлинными письмами Гете, известный немецкий литературовед XIX века Эрих Шмидт констатировал прежде всего изъятие автором всех мест, относящихся к былой веймарской подруге поэта Шарлотте фон Штейн, хотя среди них были представлены едва ли не замечательнейшие образцы его любовных писем. Вообще же редактирование, которому Гете подверг «старые бумаги», ставило себе цель «сообщить большую законченность таковым, — как выразился Э. Шмидт, — акцентировать главное, предоставляя ему наиболее почетное и броское место. Так Гете письмо из Вероны прямо начинает с описания арены, а письмо из Болоньи — с Рафаэлевой «святой Цецилии» и т. д. (в оригинальных письмах этим «ударным впечатлениям» отведено более скромное место).
К сожалению, в томе 9 нашего издания «Итальянское путешествие» представлено только в извлечениях, как это делается и в немецких собраниях сочинений, не претендующих на академическую полноту.
Но эта наша «вина» перед советским читателем в значительной степени умаляется, если принять во внимание, что данное сочинение Гете — отнюдь не путеводитель по итальянским достопримечательностям, а прежде всего замечательная глава духовной биографии великого поэта и человека; а с нею читатель может познакомиться и по неполному тексту. В Италии он смотрел и изучал искусства былых времен, сам небезуспешно писал и рисовал, а главное, завершил или приблизил к завершению ряд своих давних замыслов, о чем он «не смел и мечтать» до бегства в Италию; он даже думал включить их в свое Собрание сочинений в виде фрагментов, «так как считал себя уже умершим».
«Я живу здесь с ощущением покоя и ясности духа, чего уже не было давно, — пишет он из Рима. — Каждый день — впервые увиденное замечательное произведение искусства. И каждый же день перед глазами свежие, великие, необычные впечатления от целого (Гете здесь понимает под «целым» Италию и итальянский народ. — Н. В.), о котором я долго думал и грезил, но чего никогда не достигаешь силою одного лишь воображения».
И в другом месте: «Главная идея, которая мною вновь завладела, это народ… Народ — основа, на которой все стоит и зиждется. Целое создает народ, масса, а никак не отдельные единицы. На площади и на набережных, на гондолах и во дворцах. Покупатель и продавец, нищий и рыбак, соседка, адвокат и его противник — все живет и движется, и во все сует свой нос, говорит и божится, кричит и хвалит свой товар, и поет, и проклинает, и шумит, шумит». В более обобщенном виде Гете выскажет ту же мысль в разговоре с Эккерманом: «По сути, все мы коллективные существа, что бы мы о себе ни воображали. В самом деле, как незначительно то, что мы можем назвать своей собственностью!»
Поистине Гете в Италии пережил свое «второе рождение», создал под впечатлением великих произведений древнего мира и высокого Ренессанса (прежде всего Микеланджело и Рафаэля, конечно) свою великую классику: «Ифигению», «Тассо», «Эгмонта». О двух первых, стихотворных, драмах можно сказать словами Шиллера: «Здесь песней стал суровый наш язык». «Эгмонт» по праву стоит в одном ряду с этими двумя великими творениями. Его язык, в первых четырех действиях разговорный, обыденный, в пятом действии подымается над этой классически совершенной прозой, звучит как героическая оратория в сопровождении гениальной музыки Бетховена. Завершение этих трех шедевров — наглядный творческий результат пребывания поэта на классической почве Италии. Там же, в Риме, были написаны и две сцены для «Фауста».
Редактируя в 1814 году «старые бумаги» для книги «Итальянское путешествие», Гете мог бы предвосхитить свое позднейшее (написанное в Мариенбаде летом 1823 г.) признание, что для мемуариста всего желаннее, чтобы «былые переживания переплетались с новейшими». В Италии 1787–1788 годов Гете проник оком большого художника в «открытую тайну» высокой классики; в 1814 году Гете открылась поэзия магометанского Востока. Эта новая радость перекликалась с радостью, некогда пережитой в Италии.
Гете всегда привлекали новые творческие искания. Он был великий apostata (отступник):
Пусть из грубой глины грек
Давний образ лепит
И вдохнет в него навек
Плоти жаркий трепет;
Нам милей, лицо склонив
Над Евфрат-рекою,
Водной зыби перелив
Колебать рукою.
Эти строки знаменуют расширение гетевского поэтического кругозора, выход из замкнутого круга обязательного классицизма, устремление в иные сферы духа, подлежащие освоению.
В «Итальянском путешествии» соприсутствует и полемическое начало, незаметное для непосвященных современников Гете, но вполне дошедшее до тех, против кого эта скрытая, часто лишь косвенная полемика была направлена. Дело в том, что ко времени, когда вышли первая и вторая части «Путешествия», были, можно сказать, заново открыты братьями Буассере произведения старых немецких мастеров, живописцев и иконописцев XIV, XV, XVI и начала XVII столетий. Сульпиций Буассере и его брат (осиротевшие дети богатых родителей) скупили эти произведения баснословно дешево и развесили и расставили их в своем гейдельбергском доме. Этот ценный клад старонемецкого искусства произвел чрезвычайное впечатление в образованных кругах немецкого общества, особенно на романтиков. Гете во время своей поездки на праздник святого Рохуса тоже видел полотна и доски этих мастеров и воздал им должное. Но когда в «правых кругах» живописцев-романтиков стали подражать старым мастерам и, ради вящего благочестия, считали возможным отступить от учения о перспективе, Гете восстал против «таких новшеств» неонемецко-христианских художников, противопоставив им плавный прогресс техники искусств в эпоху Ренессанса и в определенный период искусства древних.
О том, как пребывание на плодородной италийской южной почве содействовало естественнонаучным открытиям Гете, укрепило основу его морфологии растительного и животного мира, великий поэт, мыслитель и ученый с благодарностью вспоминал еще в глубокой старости.
Аркадия — область, расположенная на полуострове Пелопоннес (южная Греция). В пасторальной поэзии со времен «Эклог» Вергилия — «страна счастливых пастухов». «И я в Аркадии» — перевод с латинского «Et in Arkadia ego». Когда и кто ввел это изречение в языковой обиход, неизвестно. Смысл этого изречения толковался по-разному. Несомненно одно: приведенное изречение уже в античные времена сопоставлялось с понятием смерти в том смысле, что как бы ты ни был счастлив, счастье твое недолговечно, всегда ограничено смертью. Древнее изречение широко распространилось в XVIII в. именно в таком его истолковании. В этом смысле толковал его и замечательный художник Франции XVII в. Никола Пуссен (1593–1665), посвятивший ему две свои картины. Первая из них писалась в 1626–1628 гг. (хранится в Лувре): два пастуха испуганно смотрят на саркофаг с водруженным на нем черепом. Латинское «Et in Arkadia ego» высечено на саркофаге; на второй картине саркофаг заменен более скромной могилой с той же надгробной надписью, которую силятся разобрать аркадские пастухи. Очевидно, что и он в обоих вариантах проводил идею неизбежного ограничения человеческого счастья беспощадной смертью. На некоторых полотнах предшественников и современников Пуссена представлена мышь, грызущая череп (символ тленности и гибели всего живого); Пуссен не прибегает к этой аллегории. Первый немецкий перевод латинского речения, по общему признанию, принадлежит философу и литератору Фридриху Якоби (1743–1819). Гердер (1744–1803) провозгласил в своих «Идеях к философии истории человечества» (кн. 7, гл. 1) изречение «И я в Аркадии» надгробной надписью для всех живых существ во всегда обновляющемся творении». Гете это речение не сочетал с понятием смерти и с ее аллегорическими атрибутами — с черепом мертвеца и с мышью, его грызущей. Для него «И я в Аркадии» означало «И я был счастлив» (живя в Италии). Он избрал это изречение эпиграфом к двум первым изданиям «Итальянского путешествия»; в последнем прижизненном издании Собрания сочинений он снят в связи с тем, что Гете отказался от мысли создать «большую автобиографию», серию под общим супертитулом «Из моей жизни». Менее педантические издатели (и притом авторитетнейшие) и поныне проставляют этот эпиграф, так точно он передает настроение и оценку поэтом своего пребывания в Италии. Редакция нашего издания последовала их примеру.
Здешнее общество — в первую очередь супруги Гердеры, а также Шарлотта фон Штейн (уехала за две недели до дня рождения Гете 28 августа — то есть 14 августа 1786 г.) и герцог Карл-Август, покинувший Карлсбад в самый день рождения великого поэта, то есть в полдень 28 августа.
Цвода — ныне Дейхлянд.
Я без промедления отправился в иезуитскую коллегию… — Коллегиями называются школы Ордена иезуитов (основанного в 1539 г.), главного орудия папы в эпоху контрреформации. В день посещения Гете коллегии были поставлены силами учащихся две пьесы религиозно-морального содержания: буржуазная трагедия «Так называемое человеколюбие» и комедия с пением «Бессердечный слуга»; эти пьесы, видимо, были сочинены педагогами учебного заведения (авторы пьес не обозначены).
Наброски Рубенса. — Восемнадцать эскизов из жизни королевы Франции Марии Медичи, вдовы короля Генриха IV, предназначавшиеся для Люксембургского дворца в Париже, были куплены курфюрстом Баварским Карлом-Теодором (1777–1799). Ныне хранятся в мюнхенской Старой пинакотеке. Рубенс написал 18 полотен в честь Марии Медичи (хранятся в Лувре), точно повторяющих мотивы означенных набросков.
Естественноисторический кабинет находился в иезуитской коллегии, построенной герцогом Вильгельмом V в XVI в. западнее Мюнхена.
Кнебель Карл-Людвиг фон (1744–1834) — друг Гете, переводчик Лукреция, в 1785 г. путешествовал по Тиролю и Баварии.
Хакет Бальтазар — естествоиспытатель, профессор Львовского университета, автор книги «Путешествия по Альпам».
Арфист с дочерью. — Мотив арфиста с дочерью, старика и Миньоны, занимает значительное место в романе Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» (т. 7 наст. Собр. соч.); но повстречавшиеся на пути из монастыря Бенедиктбейерна к монастырю Вальхензее отец и дочь, если, быть может, и натолкнули Гете на соответствующий мотив в означенном романе, то ни в коем случае не являются прототипами образов, позднее созданных поэтом.
Монастырь Эйнзидель — старинный монастырь в Швейцарии, излюбленное место паломников из католической Германии.
Сант-Яго-де-Компостелло — гробница святого Якова Компостельского в городе Сантьяго в Испании, один из главных центров паломничества в католическом мире.
Гигантская известняковая круча. — По преданию, поднимаясь на нее, император Максимилиан (1459–1519) заблудился и был спасен от неминуемой гибели ангелом. — Зёллер — персонаж из юношеской комедии Гете «Совиновники» (см. т. 5 наст. Собр. соч).
Добавлю еще несколько слов о погоде… — Гете всю свою жизнь старался уяснить себе «тайны природы». Еще в 1825 г. семидесятилетним стариком он написал специальную статью «Опыт учения о погоде».
Гозан — благословенная местность в Египте, на реке того же названия, предоставленная Иосифом его отцу Иакову и братьям его.
Гёшен — издатель первого, санкционированного автором Собрания сочинений в 8-ми томах (до этого Собрания его сочинения печатались издателями без согласия Гете и без выплаты ему гонораров). Для этого издания Гете заканчивал в Италии ряд не завершенных им сочинений.
Фогель Христиан — секретарь Гете в Карлсбаде и позднее, во время кампании во Франции 1792 г., уже будучи веймарским чиновником.
…стихотворение от имени «Птиц». — «Птицы» — сатирическая комедия Гете, переделка одноименной комедии Аристофана (444–380).
Трейфрейнд (верный друг) — герой Гетевой комедии «Птицы».
Эвердинген Аллан ван (1621–1675) — голландский художник, которого Гете вспомнил, глядя на эффектные «героические» ландшафты Северной Италии.
«Comme les pêches et les mélons» и т. д. — прозаический перевод французского четверостишия, написанного над окном гостиницы «Белый агнец» в Регенсбурге: «Как персики и груши существуют для баронов, так розги и палки — для глупцов», — сказал Соломон».
Роос Генрих (1631–1685) — немецкий художник, с 1657 г. проживал во Франкфурте-на-Майне. Художественное образование получил в Голландии.
Они выгнали иезуитов… — Папа Климент XIV распустил Орден иезуитов в 1773 г.; этому предшествовало изгнание иезуитов из Португалии (1759), из Франции (1764), из Испании (1767) и из ряда других стран.
Графиня (собственно, маркиза) Лантиери — рожденная графиня Вагеншпер, немка по крови, познакомилась с Гете в Карлсбаде; ее имя не раз встретится ниже.
Перевод стиха Вергилия «Fructibus» и т. д.: «О, Бенак, звучащий волнами и ропотом моря!» (Перевод Ф. Петровского.)
Перевод разговора Гете с коридорным: «Здесь, внизу, к вашим услугам». — «Где именно?» — «Всюду, где хотите». — «Встречный ветер… сыграл со мною недобрую шутку…» — Забавная сцена подозрения Гете в шпионаже в пользу Австрии.
Роль Трейфрейнда. — Гете сам исполнял ее в герцогском дворце Эттинбурге (близ Веймара); Трейфрейнд благотворно влиял на умонастроение хора птиц.
…но император Иосиф — государь зело беспокойный… — Общее мнение об Иосифе II как в германских землях, так и в Европе (см. «Поэзия и правда», т. 3 наст. Собр. соч.); ему прежде всего ставили в вину посягательство на права и экономическое благополучие дворянства (в первую очередь венгерских магнатов). Собственно, Иосиф II продолжал борьбу Габсбургов за усиление монархической власти за счет умаления власти высшего венгерского дворянства, но он усложнил ее идеями французских физиократов, предусматривавших отмену крепостного права и феодальных привилегий помещиков, не учитывая ни силы политического потенциала венгерского дворянства, ни недоверия забитых крестьян к любым реформам, исходившим от верховной власти, в течение ряда веков превратившей крестьянство в бесправную собственность помещика. Всем было также известно стремление Иосифа усилить свою власть в Германии, что подтверждалось его безуспешной попыткой подчинить своей власти Баварию.
Болонгаро Марко (1712–1779) — был основателем большого торгового дома во Франкфурте-на-Майне; все прочие итальянские семьи, перечисляемые в этой записи, встречаются в книге 13 «Поэзии и правды» (см. т. 3 наст. Собр. соч).
Фербер Иоганн Якоб — автор книги «Письма о природных примечательностях Италии», Прага, 1773. Речь идет о небольшом собрании минералов веймарского советника Фойгта.
Амфитеатр — построен в первом столетии нашей эры. — …в честь императора Иосифа и папы Пия VI. — Коррида в честь императора Иосифа II состоялась в 1771 г., в честь папы — в 1782 г.
Иероним Мавригено — в латинской надписи, прославляющей реставратора амфитеатра (иначе — арены), его имя — Марморео, а не Мавригено, как у Гете. Нет здесь закованных в латы коленопреклоненных мужей, ожидающих воскрешения. — Восхищаясь надгробиями древних, изображавших умерших такими, какими они были здесь, на земле, тем самым как бы продолжая и увековечивая их земное существование, Гете, видимо, вспоминает, по контрасту, надгробие Геца фон Берлихингена с гравюры из его «Жизнеописания», изданного в 1731 г.
Дворец правосудия — тюрьма для государственных преступников в Вероне; Гете, всегда избегавший говорить о чем-либо, вызывающем «тяжелое впечатление», ограничивается этой краткой записью.
Сан-Джорджио. — Мысли Гете при осмотре этой «галереи, полной превосходных картин», о заказах библейских сюжетов, по сути, непригодных для воплощения их достойными средствами искусства. К примеру: «Чудо с пятью хлебами». Ну что тут писать? <…> Несчастные художники! — что только не приходилось писать им <…>, стараясь придать значительность убожеству. И все-таки даже подневольный труд давал гению возможность создавать прекрасное». К этой мысли о подневольном труде художника не раз возвращался Гете и в «Итальянском путешествии», и, позднее, в разговорах с Эккерманом об убожестве сюжетов, предоставляемых немецкому писателю жалкой немецкой действительностью.
«Рай». — Иначе: «Венчание Марии (богородицы)». По убеждению Гете, далеко не общепризнанному, едва ли не одно из прекраснейших произведений, находившихся в Палаццо Бевилаква; написано Тинторетто (собственно, Жакобо Рабусти; 1518–1594), художником венецианской школы, насадителем маньеризма в итальянской живописи; не признавался художниками-романтиками; Гете, напротив, ставил Тинторетто чуть ли не в один ряд с Тицианом, создателем «Вознесения Марии», и с Паоло Веронезе, что многими, не без основания, оспаривалось.
Киммерийцы. — Так называли древние жителей Севера, к каковым Гете причислял и немцев, особенно населявших северную Германию.
Felicissima notte! — Дословно: «Счастливой ночи!» — как мы говорим: «Покойной ночи!»
Палладио Андреа (1508–1580) — архитектор эпохи высокого Возрождения, возобновитель римского классицизма эпохи Цезаря и Августа, насаждавшегося Витрувием. Палладио почитался Гете величайшим архитектором всех времен и народов, умевшим создавать великие произведения зодчества, часто даже (это особенно восхищало Гете) вопреки пожеланиям своих заказчиков. Искусство Палладио оказало огромное влияние на Гете, определив развитие не только его вкуса, но, в значительной мере, и его творчества. Но это не помешало великому поэту часто сознательно отходить от классицизма, отмеченного печатью великого зодчего.
Такие отступления всегда можно было ждать от Гете, увлеченного идеей мирового искусства, мировой литературы, иначе: идеей освоения опыта всего человечества. Художественное творчество Гете можно было бы признать разностильным, если бы надо всем не главенствовала, подчиняя себе все исторически сложившиеся стили, своеобычность его личного стиля, его духа. «Фауст» Гете тоже разностилен (и в этом аспекте даже еще недостаточно исследован), будучи в то же время наиболее полным самовыражением поэта. Но в Италии Гете был классиком, и в этом смысле выучеником Палладио, наследником Гомера, древнеримских поэтов и высокого Возрождения — источника позднейшего искусства барокко. Итак, Палладио — в равной мере возобновитель римского классицизма и крупнейший предвестник искусства барокко, закат которого совпал с годами отрочества и ранней юности Гете. Подпал ли Гете под прямое влияние барокко? Разве что шестнадцатилетним подростком, когда он, по образцу «Страшного суда» Крамера (а не Иоганна Элиаса Шлегеля, как ошибочно утверждает автор «Поэзии и правды», кн. 4, т. 3 наст. Собр. соч.), написал свои «поэтические размышления о сошествии Христа в ад» (1765 или 1766). Лирика поэта периода «Бури и натиска», его «Гец» и «Вертер» скорее противоположны барокко (несмотря на обилие библеизмов). Но уже в первой части «Фауста» в сцене «Пролог на небе», быть может, в монологе: «Охота надрываться чудаку…» с его переходом к «колокольному звону и хоровому пению» и в некоторых других сценах чувствуется стилистический налет барокко; во второй части трагедии (особенно начиная со сцены «Положение во гроб» и до самого конца) стиль барокко становится преобладающим. Имя Палладио и описание его произведений упоминаются на многих страницах «Итальянского путешествия». Отчетливость суждений Гете о Палладио не нуждается в комментировании.
Олимпийский театр (по Гете, «театр древних в миниатюре») воздвигнут в 1580 г. согласно указаниям об устройстве античных театров Витрувия, придворного архитектора и главного военного инженера римского императора Октавиана-Августа (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.); достроен в 1585 г. (после смерти Палладио) архитектором Скамуччи, его учеником.
«Три султанши» — по французской стихотворной комедии Фавара (1762); «Похищение из сераля» — либретто Готтлиба Стефани по комедии Брецнера «Бельмонт и Констанца, или Похищение из сераля», музыка Моцарта.
Пение гондольеров на стихи Тассо и Ариосто, уже тогда ставшее редкостью. Гете, помимо этой записи, подробнее высказался об этом пении в статье, напечатанной впервые в журнале «Немецкий Меркурий» за 1789 г. (см. т. 10 наст. Собр. соч.).
Мангейм. — В 1772 г. Гете посетил этот город, тогда резиденцию наследника баварского герцогского престола, герцога Теодора-Карла. В Мангейме, в так называемом «зале древностей» находилось наиболее полное собрание слепков с античных статуй, имевшееся в Германии и произведшее большое впечатление на Гете, тогда увлеченного готикой.
Якоб Бёме (1575–1624) — мистик и пансоф, то есть последователь врача и философа Теофраста Парацельса (1493–1541), так называемого «отца немецкой пансофии», согласно учению которого человек (микрокосм) соприкасается со всеми силами «вселенной» (макрокосма), являясь как бы «выжимкой» из этих сил. Естествознание, по Парацельсу, «благочестивое стремление уразуметь премудрость господню», «способ действий», «явленный богом» при «первосотворении всех вещей». Постигнув и переняв «божественный способ действия», пансофы надеялись обнаружить ту «первородную материю», из которой бог сотворил мир, и, подобно ему, искусно тасуя «первоэлементы природы», создавать новые вещи (будь то золото из неблагородных металлов или «панацея» — средство от всех болезней). «Мы хотим, — так говорили наиболее дерзостные последователи Парацельса, — стать малыми богами во всеобъемлющем великом Боге». Выходец из народа, сапожник по профессии, Бёме повлиял своим спекулятивно-диалектическим мышлением на таких крупных представителей немецкого идеализма, как Гегель и Шеллинг. Случалось читать сочинения Бёме и Ньютону, обронившему по поводу идеи трансформации «первоэлементов природы» такие знаменательные слова: «Это совершится не без грозной опасности для мира». Интересно это суждение как своим допущением такой возможности, так и предвидением опасности такого рода «трансформаций». «Научной базой» для этой пророческой догадки не обладал и Ньютон. Прошли века, прежде чем Резерфорд, не без англосаксонского юмора, заговорил о задачах своего времени как о «новой алхимии». Рассказ об «озарении» Бёме, на который намекает Гете, был им вычитан из главного сочинения немецкого пансофа: «Аврора, или Восходящая утренняя заря» («Aurora, oder Die Morgenrӧte im Aufgang»; 1612).
Два гигантских льва — равно как и барельефы храма св. Юстина, послужившие Тициану прообразами его ангелов в картине «Убиение Петра-мученика», вывезены из Пирея (предположительно в XIII в.), а кони на соборе св. Марка — из Константинополя в 1214 г. Все перечисленные скульптуры, как, видимо, справедливо предполагают, афинского происхождения.
«Ссоры и свары в Киоцце» — комедия Карло Гольдони (1707–1793).
Сакки (1706–1786) — выдающийся комедийный актер и директор труппы, для которой Гоцци (1720–1806) писал свои сказочные пьесы.
Смеральдина (служанка) и Бригелла (интриган и грубиян) — маски итальянского театра. Гоцци был противником Гольдони, пытавшимся включить импровизационный элемент в свои комедии. Особый интерес к своему театру Гоцци возбудил у немецких романтиков (Гофмана и Тика), а позднее, в начале XX в., у руководителей русских и советских театров (Мейерхольда, Вахтангова, Таирова). — Дидона — легендарная основательница Карфагена, по Вергилию, возлюбленная Энея, героя его «Энеиды». Гете намекает на предание о покупке Дидоной у местных жителей земельного участка, который можно покрыть одной воловьей шкурой; хитрость ее заключалась в том, что она разрезала шкуру на тончайшие ремешки и обвила ими площадь, равную размеру будущего Карфагена.
Блестящий двор… — В эпоху Возрождения в Ферраре правил герцогский род Эсте. Во время путешествия Гете Феррара входила в состав так называемой Церковной области, подчиняясь светской власти папы. О запустении города говорили почти все современники Гете, в том числе Байрон в «Чайльд-Гарольде» (часть IV, строфа XXXV).
Тассо (1544–1594) — жил при дворе Альфонса II с 1565 по 1585 г., из них семь лет провел в доме св. Анны для умалишенных. Он был выпущен из лечебницы в 1585 г. не по выздоровлении, а по ходатайству папы Григория XIII и германо-римского императора Рудольфа II. Болезнь Тассо — мания преследования циклического характера. Предание о заключении Тассо в лечебницу в связи с его увлечением сестрою Альфонса II Элеонорой, надо думать, не более как досужий вымысел, каковой Гете использовал в своей драме «Торквато Тассо». Ко времени посещения Феррары им были написаны прозой два действия драмы. — Ариосто Лодовико (1474–1535) — проживал при дворе Альфонса I с 1517 г. до своей смерти, яркий представитель литературы Возрождения, недовольный своим материальным положением и недостаточными почестями, подобающими ему как поэту.
Лютерово чернильное пятно. — В замке Вартбург, где Лютер переводил на немецкий язык Библию, скрываясь от преследования католической церкви, осталось чернильное пятно — якобы след от чернильницы, брошенной Лютером в черта, препятствовавшего его работе над переводом.
«Иоанн Креститель перед лицом Ирода и Продиады». — Картина написана Карло Бонони (1569–1632), феррарским художником болонской школы.
Мелхизедек — царь-священник, приветствовавший Авраама после его победы над врагами (Библия, Книга Бытия, гл. 14). «Явился на свет без отца и без матери» — Мельхизедек о боге (псалом 104, стих 3): «Из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твое»; Рафаэль все же не бог, а посему «надо доискаться, кто его предшественники и учителя». Учился он у своего отца и у ряда других художников.
Франческо Франчиа (1450–1517) — учитель Рафаэля, старейший из болонских мастеров.
Пьетро из Перуджи — Перуджино (1446–1523), учитель Рафаэля, подобно Франческо, художник раннего Возрождения.
Альбрехт Дюрер (1471–1528) — величайший художник немецкого Возрождения, живописец, рисовальщик и гравер; в 1505–1506 гг. посетил Венецию и Нидерланды.
Наклонная башня в Ферраре; не путать с «падающей» башней в Пизе. Объяснение «наклонности» феррарской башни сомнительно; представляет интерес как выпад против зарождавшегося вульгарного торгашеского духа и связанного с ним духа рекламы.
Караччи, Гвидо, Доминико — художники, работавшие «в более счастливую для искусства пору». Семья Караччи выдвинула ряд художников: Лодовико (1556–1619) и его двоюродных братьев — Аугустино (1557–1609) и Аннибале (1560–1609); все они не блистали особо выдающимися талантами, но ценились как одаренные педагоги. Наиболее талантливыми их учениками считаются Гвидо Рени (1575–1642) и Доменико (1581–1642). Гете разделял общее для XVIII в. увлечение живописью болонской и венецианской школ, не воспринимая особенности этих двух школ, впоследствии признанных предвестниками и насадителями стиля барокко (Гете нигде не пользуется термином «барокко», тогда еще не утвердившимся в искусство- и литературоведении). Запись от 19 октября 1786 г. замечательна своим диалектическим подходом к дорафаэлевскому периоду искусства Возрождения; отмечая явные достижения итальянских художников, он не обходит молчанием и их недостатки, обусловленные часто нелепыми сюжетами, которые им навязывают заказчики, в первую очередь иерархи католической церкви. Остроумное сравнение Гете себя с пророком Валаамом, благословляющим «тех, кого собирался проклясть», не перестанет звучать в его конкретных отзывах об отдельных разбираемых им художественных произведениях — подобно «непрерывному басу» (basso continuo), который движется самостоятельно — вне темы фуги и не составляя ее голоса. Но, в отличие от Валаама, Гете знает, как преодолеть свою раздвоенность: стоит только наткнуться «на картину Рафаэля, или хотя бы с некоторой достоверностью ему приписываемую, и ты исцелен и счастлив». Имена Палладио и Рафаэля знаменовали для Гете высшую точку классического искусства; в их творениях оно предстало перед ним во всей своей согласной, могущественной силе и красоте. Никто до Гете еще о Рафаэле так не говорил. Сквозь произведения художника он проникал в творческий дух их создателя и таким путем обретал новое, углубленное понимание и его творений. Только такое вхождение в «тайну творчества» Рафаэля давало ему право, говоря о Рафаэлевой «Святой Агате», заявить, что он не позволит своей «Ифигении» (в одноименной драме) «выговорить ни слова, которого не могла бы сказать эта святая». Более того, дополнительно поняв ценность созданного им образа благодаря сличению его со «Святой Агатой» Рафаэля, Гете увлекся мечтой дать еще раз ожить своей Ифигении в задуманной им драме «Ифигения в Дельфах». «Но где взять сил и времени, даже если дух и готов это свершить?» Работа над неоконченными произведениями для первого Собрания сочинений тому воспрепятствовала. «Ифигения в Дельфах» так и не была написана.
…распрощался со своим капитаном… — Этот итальянский офицер (образ, замечательно воссозданный писателем) простодушно расспрашивал Гете о религиозно-моральных воззрениях протестантов. Среди прочего он поставил вопрос, правда ли, что король Фридрих II тайно исповедует католическую веру; эта вздорная легенда, едва ли даже санкционированная папой, распространялась низшим итальянским духовенством в объяснение многочисленных побед, одержанных прусским королем над верующими (то есть католиками).
Рим. — Гете прибыл в Вечный город 29 октября 1786 г. и остановился в гостинице «Albergo dell Orso» (и ныне существующей), в которой будто бы некогда проживали Данте, Рабле и Монтень; но уже на следующий день, 30 октября, переехал в скромный пансион на Корсо (против палаццо Ронданина), где жил и столовался художник Тишбейн, отпрыск знаменитой семьи живописцев, снабжавшей многочисленных немецких и иноземных «потентатов» придворными художниками. Пигмалионова Элиза. — Пигмалион — легендарный царь Кипра и скульптор, влюбившийся в созданную им статую, по его просьбе оживленную Афродитой-Венерой. Это древнее предание получило широкое распространение в странах, опоясывавших Средиземное море (Mare Internum) благодаря «Метаморфозам» Овидия (42 г. до н. э. — 18 г. н. э.); этим мотивом воспользовался Ж.-Ж. Руссо в своей монодраме «Пигмалион», назвав его возлюбленную Галатеей (так же произвольно, как Фосс — Элизой).
День поминовения усопших (2 ноября). — Гете вместе с Тишбейном присутствовал на папском богослужении в Квиринале, резиденции римских пап до 1877 г., когда папа, лишенный Церковной области, заперся в Ватикане, объявив себя «ватиканским пленником»; папой во время пребывания Гете в Риме был Пий VII, с 1775 по 1799 год занимавший «престол св. Петра». — Тишбейн Вильгельм (1751–1829) — художник, живший с 1783 г. по 1787 г. в Риме, благодаря субсидии герцога Готского, выхлопотанной ему Гете; первый раз встретились лицом к лицу 29 октября 1786 г.; горячая дружба с Гете поохладела к концу второго пребывания поэта в Риме (март 1789 г.); с 1789 по 1799 г. Тишбейн был директором Академии художеств в Неаполе; по возвращении в Германию в 1799 г. девять лет жил свободным художником, с 1808 г. и до своей смерти был придворным живописцем герцога Ольденбургского. В 1817 г. происходит новое сближение с Гете, ознаменовавшееся (в 1821 г.) выпуском книги идиллий художника со стихотворными текстами Гете, о чем оба мечтали еще в Италии.
Монте-Кавалло — площадь перед Квириналом, украшенная двумя римскими бронзовыми изваяниями («колоссы») коня и конника, из коих одно приписано копиистами Фидию, другое — Праксителю (их имена проставлены на подножии монументов).
«Venio iterum crucifigi» («Иду, чтобы снова быть распятым») — слова, приписываемые Христу. Это изречение неоднократно использовалось в литературе для противопоставления учения Христа политике христианской церкви. Тема возвращения Христа на землю для вторичного его распятия разработана Достоевским в «Легенде о Великом инквизиторе» (в «Братьях Карамазовых»); в период «Бури и натиска» соприкоснулся с той же темой и Гете в своем замысле «Вечный жид», так им и не осуществленном.
Карло Маратти (1625–1713) — итальянский художник, проживавший и работавший в Риме, ученик Гвидо Рени.
Так что инкогнито… сохранено… — Гете, скрываясь «от своей славы», на пути в Рим выдавал себя за купца Мюллера, в Риме — за художника Филиппа Миллера.
…картина, изображавшая св. Георгия… — картина Порденоне (1483–1539), художника венецианской школы, близкого по манере Тициану.
Генрих Мейер (1759–1832) — художник-классицист, по представлению Гете был назначен профессором, а позднее и директором художественной Академии в Веймаре.
Brutto (о погоде) — скверная, неприятная.
Лоджии Рафаэля — галереи Ватикана с маленькими фресками Рафаэля и его учеников на темы Ветхого и Нового завета.
«Афинская школа» — большая фреска, изображающая философов классической древности. Рафаэль работал над украшением Ватикана с 1508 по 1517 г. Ватикан, начиная с 1877 г. — единственная резиденция пап, и ранее служил резиденцией ряду римских первосвященников; в XV и XVI вв. неоднократно перестраивался, особенно архитектором Браманте (1444–1514) в годы папства Юлия II (1503–1513).
Пирамида Цестия — склеп-пирамида, в которой покоится прах трибуна Цестия (12 г. до н. э.) близ Порто Сан-Паоло, где находится и римское иноверческое кладбище; на этом кладбище захоронен сын Гете, скончавшийся в Риме в октябре 1830 г.
Палатин — один из семи холмов Рима, где находятся развалины дворцов римских императоров. Император Август построил здесь свой дворец, храм Аполлону и библиотеки.
…навестил нимфу Эгерию… — то есть грот Эгерии, по преданию, подруги второго римского царя Нумо Помпилия (716–672 гг. до н. э.).
Ристалище Каракаллы — цирк, построенный в 311 г. Максентием, соперником императора Константина Великого. — Виа-Аппиа (Аппиева дорога), выстроенная цензором Аппием Клавдием в 312 г. до н. э.
Гробница Метеллы. — Цицилия Метелла — жена Красса Младшего, сына триумвира Красса; ее гробница — памятник эпохи Августа, представляющий собою башню, в средние века снабженную бойницами.
Менгс Антон Рафаэль (1728–1779) — немецкий художник, был придворным живописцем в Дрездене и Мадриде, долгие годы жил и работал в Лондоне. Спор вокруг якобы «античной» фрески, изображающей Ганимеда, подающего чашу Юпитеру, окончился признанием этой фрески подделкой Менгса.
Мориц Карл Филипп (1756–1793) — сын нищенствовавшего музыканта. Романист, очеркист, эстетик и просодист (стиховед) — пестрая, беспорядочная биография. Автор замечательного романа «Антон Рейзер», едва ли не одного из самых глубоких отображений его эпохи. Интересны и его книги очерков об Англии (1782) и об Италии (1786–1787). Дружил с Гете; в письме к Шарлотте фон Штейн мы читаем: «Мориц знакомил меня… с отрывками из своего жизнеописания, и я дивился сходству его жизни с моею. Он словно младший брат мой, такой же стати, только обиженный и обделенный судьбою, тогда как я ею обласкан и предпочтен». — Сикстинская капелла — домовая часовня папы в Ватикане; построена при папе Сиксте IV. Стены расписаны художниками Боттичелли (1445–1510), Гирландайо (1449–1494), Перуджино (1446–1523) и др. Потолок покрыт фресками Микеланджело (1475–1564) на темы Книги Бытия (Библия) с пророками и сивиллами. Микеланджело работал над украшением часовни с 1508 по 1512 г. Отношение к творчеству Микеланджело не было единогласно восторженным ни при его жизни, ни у позднейших поколений. Двойственна в известной степени и оценка великого живописца, скульптора и зодчего, высказанная Гете: «Кто не видел Сикстинской капеллы, — говорил он еще и в старости, — тот не знает, чего может достигнуть человек». В записи от 2 декабря 1786 г. он сказал еще решительнее: «Сейчас я так захвачен Микеланджело, что после него охладел даже к самой природе, ибо мне недостает его всеобъемлющего зрения». И — ниже, в той же записи: «Из Сикстинской капеллы мы пошли к Лоджиям Рафаэля, и я едва осмеливаюсь сказать, что на них и смотреть не хотелось». Но весы вкуса, поколебавшись, все же предпочли автору потолка Сикстинской капеллы — Рафаэля. Мнение венецианца Лодовико Дольче, высказанное в его «Диалоге о живописи» (1557), было подхвачено Винкельманом: «Он (Микеланджело) перебросил мост к дурному вкусу, позднее укоренившемуся в скульптуре». Порвать с классицизмом и его идеалом «благородной простоты и спокойного величия» Гете не решился, хотя в практике своей и отходил от классического канона. И если можно говорить о воздействии духа Микеланджело на поэзию, на литературу, то прежде всего надобно указать на вторую часть «Фауста».
Винкельман Иоганн Иоахим (1717–1708) — знаменитый археолог и историк античного искусства, оказавший большое влияние на Лессинга, Гете и Гегеля; его формула «благородная простота и спокойное величие» стала идеалом классицистической эстетики. Был убит в Триесте профессиональным грабителем и убийцей.
«Просодия» Морица. — Гете, перелагая «Ифигению» ямбами, советовался с Гердером и, позднее, с Морицем, сильно преувеличивая помощь, оказанную ему последним.
Итак, великий король… чьи деяния сделали его достойным даже католического рая… — Речь идет о прусском короле Фридрихе II и о легенде, будто бы он втайне был католиком. Король умер 17 августа 1786 г.
Ромул и Рем — легендарные основатели Рима и римского государства; во времена первых римских императоров посетителям Вечного города показывалась хижина, в которой будто бы родилась эта двойня.
Большой портрет — портрет Гете работы художника Тишбейна «Гете в Кампанье» (1786–1787), хранится в Веймарском музее рядом с «Домом Гете» на Фрауэнплане.
…беру с собой только «Тассо»… — Гете принял решение написать «Тассо» ямбами, а не прозой, как были им написаны два первых действия этой драмы. «Тассо» не был завершен в Италии, Гете закончил его в Веймаре в 1789 г.
«Сакунтала» — драма Калидасы, древнеиндийского поэта, лирического, эпического и драматического; жил в конце IV — начале V столетия. Под впечатлением «Сакунталы» Гете предпослал «Фаусту» театральное вступление, каковым открывается и пьеса Калидасы. Автору здесь изменяет память: «Сакуптала» была переведена на немецкий язык Георгом Форстером только в 1790 г. До 1787 г. он ее, конечно, читать не мог.
Кавалер Филанджиери (1752–1788) — выдающийся итальянский юрист, профессор в Милане, министр финансов в Неаполе с 1781 г. до его кончины, автор замечательного труда «Наука законодательства» в 8-ми томах (1781–1788).
Монтескье (1689–1755) — автор книги «Дух законов».
Беккариа Цезарь, маркиз (1738–1794) — автор книги «О преступлениях и наказаниях», где он полногласно выступает против пыток и жестоких казней.
Вико Джованни Баттиста (1668–1744) — выдающийся философ, профессор права в Неаполе, автор замечательного трактата «Принципы новой науки». В XVIII в. был мало известен и тем более вызвал особый интерес в начале XIX в., в эпоху классического немецкого идеализма. В 1822 г. вышел главный философский труд Вико в немецком переводе Вебера.
Гаманн Иоганн Георг (1730–1788) — родоначальник немецкого иррационализма (философии чувства и веры); оказал чрезвычайное влияние на Гердера и глубоко заинтересовал Гете.
Бронзовая конская голова. — До конца происхождение этого экспоната едва ли будет установлено. Выяснено только, что в Неаполь ее прислал Лоренцо Медичи в дар Диомедо Караффа. Вазари в первом издании своей биографии Донателло утверждал, что конская голова античного происхождения, а во втором допускает предположение, что она могла быть изваяна и самим Донателло. В последнее время установилось мнение, что перед нами работа позднего эллинизма.
Хозяйка дома — жена Филанджиери, урожд. графиня Фремдель, ранее воспитательница детей королевской четы в Неаполе.
Бойкая маленькая особа — сестра Филанджиери, вышедшая замуж за богатого шестидесятилетнего князя Филиппо ди Садриано; быть может, прообраз Люцианы, дочери баронессы Шарлотты («Избирательное сродство», см. т. 6 наст. Собр. соч.).
Виландова волшебная сказка — «Зимняя сказка» по «Тысяче и одной ночи».
Шлоссер Георг (1739–1799) — юрист и немецкий литератор; был женат на рано умершей сестре Гете — Корнелии.
В воскресенье мы были в Помпеях. — Ко времени итальянского путешествия Гете раскопки Помпеи и Геркуланума, начатые в 1555 г., были в значительной степени осуществлены.
Анжелика — то есть Анжелика Кауфман (1741–1806), прославленная художница-портретистка, с успехом работавшая и на поприще исторической живописи; представительница так называемого «сентиментального классицизма». Рисунок углем на тему «Ифигении» принадлежит к лучшим ее работам: переход Ореста от безумия («И вы сюда сошли, к почившим?») к его исцелению («Дай в первый раз в твоих объятьях чистых // Незамутненной радости отведать!») передан художницей с замечательным тактом.
Хаккерт Филипп (1737–1807) — художник-пейзажист; в 1768–1786 гг. жил в Риме, с 1786 по 1799 г. — в Неаполе, в качестве придворного художника короля Фердинанда IV и, позднее, директора Академии художеств. Давал уроки рисования и живописи Гете. Что могло увлечь Гете в сухом безвдохновенном искусстве Хаккерта, не совсем понятно, — видимо, умение точно передавать очертания предметов, как не раз отмечалось его благодарным учеником. Гете выпустил в 1811 г. переданные ему по завещанию художника автобиографические записки в виде жизнеописания его друга и учителя. Успеха это сочинение не имело.
Лорд Гамильтон Вильям (1730–1803) — с 1704 г. английский посланник при дворе короля Обеих Сицилий Фердинанда IV. Его возлюбленная — Эмма Харт (1761–1815), собственно — Лайон, из простонародья; с 1791 г. — леди Гамильтон, с 1798 г. — возлюбленная английского адмирала лорда Нельсона (1758–1805), погибшего (21 октября 1805 г.) в морском бою при Трафальгаре, в котором он победил соединенный франко-испанский флот. Она умерла в Кале, обедневшая и всеми отвергнутая.
«Вильгельм Мейстер» — тогда фрагмент романа «Театральное призвание Вильгельма Мейстера», вышедшего в 1795–1796 гг. в переработанном и законченном виде под заглавием «Ученические годы Вильгельма Мейстера».
Книп Христиан (1748–1825) — художник и рисовальщик. Его рисунки и акварели, сделанные на море и в Сицилии, хранятся в Веймарском доме Гете. С Книпом Гете ездил и в Пестум с его тремя храмами: Цереры, Нептуна и так называемой Базиликой. Запись мемуариста прекрасно воссоздает его разочарование при встрече с впервые увиденным им подлинным греческим зодчеством, таким приземистым рядом с триумфальными взлетами Палладио; и тут же признание своей предвзятости, обусловленной привычкой и духом времени, а не стабильными нормативными законами искусства, — замечательный поворот к историческому мышлению!
Святая Розалия — племянница короля норманнов Вильгельма II. Отрывок «Святилище Розалии» был напечатан в «Немецком Меркурии» Виланда в 1788 г.
Прекрасная женщина — скульптура XIII в. Григория Тедески, подарок неаполитанского короля Карла III.
Остров блаженных феакийцев. — Одиссей, возвращаясь на родину, терпит крушение у острова феакийцев. Сад царя Алкиноя описан в песни VII «Одиссеи». Любовь дочери Алкиноя Навзикаи к пришельцу и ее гибель — тема гетевской драмы «Навзикая», задуманной в Сицилии, но не осуществленной.
Два… скорохода вице-короля (князя Караманика). — Упоминаемый здесь мальтиец — граф Стателла.
Коадъютор фон Дальберг. — При Наполеоне I — курфюрст Майнцский (с 1802 г.) и глава (князь-примас) основанного Наполеоном Рейнского союза западных немецких государств, протектором которого объявил себя французский император. Дальберг, будучи интендантом Мангеймского театра, осуществил постановку Шиллеровых «Разбойников», «Фиеско» и «Коварства и любви».
Дахероде Карл Фридрих фон — видный чиновник в Эрфурте, его дочь Каролина с 1791 г. — жена Вильгельма фон Гумбольдта.
Джузеппе Бальзамо (он же «граф Калиостро»; 1743–1795) — знаменитый авантюрист, побывал во многих столицах Европы, в том числе и в Петербурге, но был выслан Екатериной II за пределы империи; осужден папским судом к пожизненному заключению. Сообщение о посещении близких родственников Калиостро читается как вставная новелла.
Первым моим намерением было… возместить… четырнадцать унций золотом (не возвращенные Калиостро его сестре), но от этой мысли пришлось отказаться. — Гете выслал ей эту сумму по приезде в Веймар.
Желательно… нанести визит губернатору. — Губернатором Мессины был с 1783 г. выживший из ума престарелый фельдмаршал Дон Микеле Одеа.
Сиканы и сикуны — древние обитатели Сицилии.
Ah, il Barlamé… и т. д. — «Ах, Варлаам! благословен Варлаам!» — Пассажиры сравнивают Гете со святым Варлаамом, благочестивым героем средневекового романа «Варлаам и Иосааф», ставшего в Италии общеизвестной народной книгой.
Девиз Филиппо Нери — Sperneremundum… и т. д. — «Презирай мир, презирай самого себя, презирай презрение!»
Граф фон Фриз — знакомый Гете по Карлсбаду.
Встретил здесь… премилую даму — предположительно графиню Лантиери, уже упоминавшуюся.
Девушки из Энгельхауза прочитали герцогу Карлу-Августу стихотворение Гете от имени богемских поселянок.
Герцог и герцогиня фон Урсель — представители бельгийской аристократии.
Старая Ателла — место, где еще во времена древних римлян народ тешился, глядя на площадных актеров и просто гуляющих веселых парней.
Заключительное описание города со слов «У мясников вывешены большие куски говядины» и до слов «у меня не начали слипаться глаза» — пересказ письма Тишбейна.
Маркиз Луччезини (1751–1825) — прусский дипломат, посланный королем Фридрихом-Вильгельмом II в Рим для переговоров с папой и по пути заехавший в Веймар, повстречается с Гете (и с читателем) в Трире 1792 г. в «Кампании во Франции». Его жена — немка, урожд. фон Таррах.
Кавалер Венути — сын маркиза Доменико Венути (1700–1755), выдающегося физика, химика и археолога, обнаружившего фарфоровую глину в почве Капрароле, директора фарфорового завода, возглавлявшего раскопки в Геркулануме. Кавалер Венути показывал Гете редкостную коллекцию своего отца.
Герцогиня Джованни (урожд. баронесса фон Мудерсбах) — приближенная королевы Марии-Каролины.
Гарве Христиан (1742–1798) — немецкий философ-просветитель.
Ковры по картонам Рафаэля — выдающаяся серия произведений поздней поры художника. Рафаэль создал эти картоны в качестве образца ковров, предназначенных для украшения «нижних стен» Сикстинской капеллы. Над этими картонами художник работал в 1515–1516 гг. В 1519 по ним были вытканы ковры в нескольких экземплярах в Брюссельской мануфактуре. С 1559 по 1797 г. они употреблялись при выносе плащаницы на Страстной неделе. Первые экземпляры ковров ныне висят в Ватикане по возвращении их в 1815 г. из Парижа, куда они были вывезены по повелению Наполеона.
Геркулес из дома Фарнези — одна из лучших античных статуй неизвестного автора, ныне хранится в Национальном музее в Неаполе, куда была привезена из Рима вскоре после того, как Гете покинул Италию.
Фарнезский бык — римская копия колоссального греческого скульптурного ансамбля работы Аполлония и Тавриска (середина II в. до н. э.).
Господи, не отстану я от тебя, покуда не дашь мне своего благословения, хотя бы и пришлось мне охрометь в единоборстве с тобою. — Намек на Иакова, охромевшего в единоборстве с богом (Первая Книга Бытия, гл. 32, стих 26). Гете расширяет текст библейской цитаты, сводившейся к словам: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня».
«Идеи». — Имеется в виду сочинение Гердера «Идеи к философии истории человечества».
Октябрь 1787 г. Гете прожил в загородном доме мистера Джексона, где увлекся юной миланкой. Повесть об этой главе своей биографии поэт излагает не слитно, а чередуя ее с другими эпизодами, серьезными и смешными, до самых последних страниц «Итальянского путешествия».
Надворный советник Рейфенштейн (1719–1793) — просвещенный торговец художественными предметами и древностями и в этом смысле коллега Джексона (чин советника Рейфенштейн заработал на русской службе), друг Винкельмана; с 1763 г. проживал в Риме.
Миланка. — Гете не называет ее имени, но оно нам известно из письма к нему Анжелики Кауфман от 1 ноября 1788 г. Это Мадалена Риччи (1765–1825); она вышла замуж в 1788 г. за сына известного гравера Вольнато, вскоре овдовела и вступила во втором брак; стала матерью семи сыновей и одной дочери.
Младший Дальберг Гуго фон — брат будущего князя-примаса, тогда наместника герцога Карла-Августа в Эрфурте.
Кайзер Филипп Кристиан (1755–1823) — композитор, ничего значительного не сочинивший; проживал в Цюрихе, уроженец Франкфурта-на-Майне. Гете ему симпатизировал и не раз с ним сотрудничал. Кайзер написал музыку на либретто Гете «Шутка, хитрость и месть», позднее — музыку к «Эгмонту», безуспешно пытался сочинить музыку к задуманной Гете комической онере «Мистифицированные», так и не осуществленной.
Шубарт Кристиан Фридрих Даниэль (1755–1823) — выдающийся поэт, музыкант (композитор, органист и дирижер) и мятежный свободолюбивый публицист. Десять лет находился в заключении в замке Гогенасперг по повелению герцога Карла-Евгения Вюртембергского.
Марк Антон — Марк Антонио Раймонди (1480–1534?), знаменитый гравер на меди, благодаря которому произведения Рафаэля стали широко известны в культурном мире.
Пиранези Джованни Баттиста (1720–1778) — гравер на меди, сумевший как никто, несмотря на критическое отношение к нему Гете, воссоздать неповторимое единство древнего и нового Рима.
Герман ван Шванефельд (1600–1655) — голландский гравер, работавший в Риме с 1629 по 1638 г. Гете приобрел тринадцать его гравюр с видами Рима…
Павел V Боргезе — папа римский с 1605 по 1621 г., восстановитель древнего акведука.
Римский карнавал. — В 1788 г. впервые напечатан в журнале Виланда «Немецкий Меркурий», с 1829 г. включен в состав «Итальянского путешествия»; в 1789 г. вышел отдельным изданием с колорированными гравюрами друга Гете художника Георга Мельхиора Краузе по рисункам Георга Шюца.
Праздник… который народ дает сам себе. — Общее определение, данное Гете римскому карнавалу.
Герцог Албанский — на самом деле «граф Албанский», под именем которого проживал в Риме претендент на великобританский престол Карл-Эдуард Стюарт (1720–1788), внук низвергнутого короля Иакова II, предпринявший в 1745–1746 гг. попытку отвоевать утраченную корону Соединенного королевства (этому историческому эпизоду посвятил Вальтер Скотт свой знаменитый роман «Веверлей»).
«Luoghi! Luoghi, Padroni! Luoghi!»— «Места! Места! Господа! Места»!
Квакеры — секта, возникшая в Англии и распространившаяся в других протестантских, а позднее и в католических странах Европы и в США.
«О quanto è bella!»— «О fratello mio, che brutta puttana sei!» — «О, как она прекрасна!..» — «Братец, какая ты гнусная девка!»
Губернатор или наместник — одновременно главнокомандующий папской гвардии и глава полиции, которому надлежало следить за порядком во время карнавала.
Корды — крепкие веревки, которыми связывали нарушителей порядка, вздергивали вверх и тут же отпускали.
«Luoghi! Luoghi avanti! Luoghi nobili! Luoghi, Padroni!»— «Места! Передние места! Лучшие места, господа!»
Фестины — балы-маскарады.
«Sia ammazzato il Signore Abbate che fa l’amor! Sia ammazzato il Signore Filippo! Sia ammazzata la bella Principessa! Sia ammazzata la Signora Angelica, la prima pittrice del secolo!» — «Смерть господину аббату, предающемуся любострастию! Смерть господину Филиппо! Смерть прелестной принцессе! Смерть госпоже Анжелике — лучшей художнице века!»
«Sia ammazzato il Signore Padre!»— «Смерть господину папаше!»
«Купидо, шалый…» и т. д. — См т. 1 наст. Собр. соч.
КАМПАНИЯ ВО ФРАНЦИИ 1792 ГОДА
У Гете давным-давно вошло в привычку работать одновременно, деля свое время, над несколькими произведениями, сегодня щедро одаряя таковым одно из них и обделяя другое, а завтра — наоборот или тратя свое время на третье, пятое, седьмое. В последнее десятилетие жизни Гете, когда он вменил себе в непреложный долг закончить «главное дело» — «Фауста» и, кроме того, завершить «Поэзию и правду», «Вильгельма Мейстера» (его «Годы странствий»), а там, на беду, взбалмошный порыв заставлял его писать стихи, такие как «Завет» или чудесные — «Сверху сумерки нисходят, //Близость стала далека, // В небе первая восходит // Золотистая звезда…» (прекрасный перевод поэта Михаила Кузмина), или вдруг откликнуться рецензией на заинтересовавшую его книгу, а не то посидеть вместе с женевцем Сорэ над переводом на французский своего естественнонаучного труда. Это быстрое перенесение поэтического огня с одного объекта на другой, на сторонний взгляд, казалось произвольным, даже капризным.
Но Гете знал, когда, в какой день и час, он настроен работать как раз над этим, а не над другим своим произведением, всегда стараясь подарить каждому из них лучшие (для данного произведения) минуты и часы.
Так было и в 1820 году, совпавшем с началом работы над «Кампанией во Франции 1792 года». Собственно, Гете думал в названном году потрудиться над четвертой частью «Поэзии и правды», но воскресить далекие дни взаимной, еще не замутненной любви Гете и Лили Шёнеман, мемуаристу что-то все не удавалось. Причина такой литературной неудачи вскоре сама собой разъяснилась: с начала октября предыдущего, 1819 года, воображением Гете завладел материал, относящийся к «ужасным 1792–1793 годам», и требовал от писателя неотложной реализации. Два года Гете вплотную работал над «Кампанией во Франции…»; в 1822 году книга вышла в Лейпциге и в Вене одновременно. Непосредственным поводом, побудившим Гете обратиться к событиям 1792 года, были обнаружившиеся в 1819 году революционные настроения немецкого студенчества: убийство Зандом писателя Коцебу, осведомлявшего императора Александра I о назревавшей революции в Германии, учреждении тайного общества в Гисене, а также, по слухам, и в Берлине.
Что касается материалов, положенных в основу «Кампании…», то личных записей Гете, относящихся к событиям тех лет, оказалось до крайности мало: заметки на тыльной стороне топографических карт, с указанием, где в данный день находился подвижной лагерь союзной армии (пруссаков, австрийцев и французских эмигрантов, а также присоединившихся к ним гессенцев). Кстати сказать, эти заметки явно уступали аналогичным записям многолетнего слуги Гете, Пауля Геце, а также камерьера Вагнера. Они и по сей день хранятся в рабочей комнате поэта в веймарском доме на Фрауэнплане. Сохранилось и несколько писем Гете, написанных из лагеря союзной армии. Пользовался Гете и некоторыми печатными и рукописными мемуарами своих былых конбатантов, а также историческими и военно-историческими сочинениями, как немецкими, так и французскими, успевшими охватить своим ученым трудом давно померкшую к выходу Гетевой книги первую коалицию против «неофранцузов». Эту кампанию давно затмили блестящие победы генерала Бонапарта, первого консула и императора Наполеона, а также Кутузова, Блюхера и Веллингтона (из которых только первый, полководец и дипломат, выдерживает сравнение с Наполеоном).
Книга, посвященная кампании 1792 года, собственно, не могла рассчитывать на читательский успех. Немцы оказались побежденными, но не из-за проигранных сражении. Хотя бы уже потому, что таковых в этой войне и не было. Зато наличествовали такие пороки командования союзной армии, как из рук вон плохая постановка санитарно-медицинской службы, дурное снабжение солдат вещевым и приварочным довольствием, даже хлебом, отсутствие сколько-либо заслуживающей доверия информации о противнике, его боевой готовности, о военных резервах, какими располагала новая Франция, и о морально-политическом сознании ее народа. Прибавим к приведенному перечню пороков еще и устарелость тактики и стратегии, окостенелый культ личности Фридриха II, без наличия человека, способного углубить и обновить его, что и говорить, выдающееся военное искусство. Впрочем, все его незаурядное искусство не избавило бы Фридриха от полного разгрома, если б не спасительная смерть императрицы Елизаветы Петровны и восшествие на российский престол недоумка Петра III, венценосного резидента и бесталанного обожателя «его прусского величества».
Но, пожалуй, самым слабым местом в деятельности верховного начальства объединенных союзных армий были ее выступления на поприще дипломатии. Пресловутый манифест герцога Брауншвейгского, главнокомандующего союзников, полный угроз и презрения к армии, парламенту и клубам «неофранков», мощно содействовал укоренению антимонархизма во Франции. К тому же результату привели и прочие дипломатические эксперименты власть имущих, в частности, такой политический и вместе финансово-экономический трюк: в манифесте и декларациях верховного командования утверждалось, что союзные державы вовсе не воюют против Франции, а пришли спасать их короля Людовика XVI от всяких супостатов. Нет, эти «защитники короля» отнюдь не занимаются «реквизициями», а разве что принудительно «брали взаймы» у населения «все потребное для ведения войны»; все эти займы будут-де сполна оплачены тем же королем Людовиком.
В «Кампании во Франции…», в отрывке, помеченном 28 августа 1792 года, Гете с глубоким сочувствием простому народу описывает сцену такого «взятия взаймы» всего поголовья овец у местных пастухов — в обмен на вексель, выписанный на имя короля. Отрывок этот кончается такими словами: «Только греческая трагедия с ее величавой простотой способна нас потрясать глубиною столь неизбывного горя». Но в этом же отрывке имеются и другие слова, менее литературные, более трезвые. «После манифеста герцога Брауншвейгского, — так пишет Гете, — быть может, ничто так не восстанавливало народ против монархии, как именно этот наш способ действия».
Сколько раз приходилось читать в статьях и книгах, посвященных жизни или творчеству (а то и жизни и творчеству) Гете, что «Кампания во Франция 1792 года» не обладает тем поэтическим, чисто художественным обаянием, каким так щедро наделены «Поэзия и правда» или «Итальянское путешествие». Эта мысль так часто повторялась, что уже стала как бы общим достоянием гетеведения. Конечно, тема «Поэзии и правды», тема «становления поэта», затронутая уже во второй главе («Новый Парис») и ставшая центральной в третьей части знаменитой автобиографии, поэтичнее темы первой части «Кампании во Франции 1792 года» — темы неудачной экспедиции союзных армий, задавшихся целью восстановить дворянскую монархию Бурбонов. Не буду сравнивать, под тем же углом зрения, «Кампанию во Франции…» и «Итальянское путешествие». Что и говорить, поэтическим обаянием и оно превосходит военные мемуары Гете.
Другой вопрос: вправе ли мы судить о художественном достоинстве произведения по тому, какой «материал» положен в его основу? Про Гете никак нельзя сказать, что он принижал значение «материала», давшего повод к возникновению художественного произведения, то есть впечатлениям и мыслям, им почерпнутым из жизни. Но значительный материал — еще не искусство. Искусство — это «художественное отображение жизни», оно предполагает полное соответствие изобразительных средств изображаемому предмету. В этом смысле «Кампания во Франции 1792 года» одно из замечательнейших произведений Гете.
Начнем с формы произведения. Оно должно было быть написано в виде дневника, хотя Гете не вел дневниковых записей в тот год. Но только в этой форме ему могло удаться достичь искомую правдивость своих свидетельских показаний. Это, конечно, не «всамделишный» дневник с его натуралистическими случайностями. Он тщательно прокомпонован рукою большого художника, как лучшие главы «Поэзии и правды»; избегнута монотонность однородных «дневниковых отрывков»; напротив, отдельные эпизоды контрастно противопоставлены друг другу при искусном соблюдении непринужденности переходов от темы к теме.
Напомним, кампания 1792 года, окончившаяся поражением союзников, не знала сражений, тем более генерального, решающего. Ждать батальной живописи от свидетеля такой войны не приходится. Ничего похожего на Аустерлицкое сражение или Бородинский бой (в изображении Л. Толстого) здесь не встретишь. Главнокомандующий союзных армий герцог Брауншвейгский был полководцем не наполеоновской (или суворовской), а фридриховской школы, и, подобно Фридриху II, он более полагался на искусные маневры, на свое умение поставить противника в положение, когда численное превосходство, прикопленное к развязке этой сугубо маневренной войны, предрешало поражение противника. Герцог точно придерживался фридриховской тактики, но после знаменитой артиллерийской дуэли при Вальми численность союзной армии, не давшей ни единого сколько-нибудь значительного сражения, так сократилась из-за голода и холода, что о последней, решающей схватке нечего было и думать.
Герцог Брауншвейгский был вовсе не из числа самых ограниченных или неспособных генералов. И он предупреждал на военном совете до начала кампании, что силы союзников слишком малы для удержания в своих руках мятежной Франции.
Но эмигранты, с их легкомысленным оптимизмом, с ним не соглашались. Герцога уговаривали долго, но это привело только к тому, что поход был начат под проливным дождем августа и сентября месяцев. То же получилось и с пресловутым манифестом. Герцог долго отказывался его подписать, но король Прусский, и его «резидент» барон Штейн Старший, и несколько австрийских и прусских дипломатов на этом настояли.
Гете только намекает на эти споры в верховном командовании в замечательной сцене, где армия сподобилась лицезреть обоих верховных: прусского короля и герцога Брауншвейгского, спускавшихся в разных местах с холмов вниз, в равнину, «подобно ядру кометы, с предлинным хвостом его свиты». «Кто же из этих двух, по сути, главнейший, — спрашивали себя невольно. — Кому из них предоставлено право решать, как следует поступить в сомнительном случае? Вопрос оставался без ответа, но тем более ввергал нас в тревоги и раздумья». Единодушие проявили король и главнокомандующий только после канонады под Вальми, где и тот и другой одинаково настаивали на немедленном перемирии и выходе из пределов Франции.
Гете обладал редким даром несколькими штрихами, «быстрой прозой», как выражался Пушкин, воссоздавать эпизодических действующих лиц этой жалкой эпопеи: благодушных рядовых солдат, напавших на замаскированный винный погреб в опустевшем крестьянском доме, или молодого красивого офицера, получившего приказание от прусского принца Луи-Фердинанда двигаться вперед, тогда как он получил задание не тревожить французов. Гете, по просьбе офицера, объясняет принцу несовместимость этих двух задач. А как замечательна сцена — вполне неожиданная встреча автора с бывшим королевским посланником в Венеции маркизом де Бомбелем, трагической фигурой «старого режима» рядом с трагикомическою другого маркиза (не названного по имени), чуть не свихнувшегося, увидавши двух принцев королевской крови (будущих королей Людовика XVIII и Карла X) дрожащими от холода и насквозь промокшими, так как они, следуя этикету французского двора, не посмели одеться потеплее, раз прусский король, выступая из Глорье, не надел плаща, невзирая на дождь и ветер.
Я бы назвал эту встречу Гете с маркизом вставной новеллой, если б не малый ее размер. Даже при восстановлении полного ее текста она уместится на одной странице.
Вторая часть «Кампании…» переносит нас в поместье «философа чувств» Фридриха Якоби «Пемпельфорст», в его либеральный салон, где атей Дидро, утонченный платоник Генстергюс, правоверная католичка княгиня Голицына, последовательный реалист Гете (впрочем, он своих карт до конца не открывал) и многие другие со своими мировоззрениями выслушивались с одинаковым веротерпимым уважением. Впрочем, этот суперлиберальный культурный центр распался в 1794 году.
Надо сказать, все автобиографические сочинения Гете ставят себе одну цель: изображение человека в его соотношении со сверстным ему историческим временем. Но если в «Поэзии и правде», в «Итальянском путешествии» историческое время чаще ощущается только как общая бытовая и духовная атмосфера, в которой живут, действуют и творят герои и прочие персонажи биографии, то в «Кампании 1792 года» Гете и впрямь не «проходит мимо грандиозных сдвигов в мировой политической жизни». Две политические формации поставлены друг против друга, две армии решают судьбы истории: армия полуфеодальной Европы и армия революционной Франции. Это отличие «Кампании» от прежних автобиографических произведений великого писателя было сразу же отмечено читающей Германией. «Изо всех эпизодов истории вашей жизни этот отрывок наиболее увлекательный и пробуждающий всеобщий интерес, — писал ему Карл Фридрих фон Рейнгард. — В нем историческое время не пристегнуто к личным событиям, а вмуровано в таковые. Часть содержит целое». Названный корреспондент Гете в своем роде и сам замечательная личность: сын скромного немецкого бюргера, он бежал (в 1791 г.), как многие немецкие энтузиасты, в сутолоку Французской революции. Но потом быстро поостыл; во время консульства и империи служил в министерстве иностранных дел, поощряемый Талейраном и Наполеоном за сметливость и работоспособность; ценился он как дипломат и после реставрации Бурбонов; умер Рейнгард в 1837 г. графом и пэром Франции. Естественно, что ему, искусному политику, особенно понравилось названное произведение Гете.
И я был в Шампани! — Эпиграф, стилистически перекликающийся с эпиграфом «Итальянского путешествия»: «И я в Аркадии!» Но насколько эпиграф к «Путешествию» звучит восторженно, настолько эпиграф к «Кампании» проникнут горечью и самосожалением.
Господин фон Штейн Старший Иоганн Фридрих, барон (1749–1799) — старший брат выдающегося государственного деятеля барона Генриха Фридриха Карла фон Штейна (1757–1831), бывшего в 1812–1813 гг. приближенным императора Александра I.
Союзная армия состояла из 42 000 человек пруссаков, двух австрийских и одного гессенского корпуса, а также трех корпусов французских эмигрантов — всего около 81 000 человек.
Герцог Орлеанский Луи-Филипп (1747–1793) — в 1792 г. принял имя Филиппа Эгалите, был членом Конвента и голосовал за казнь Людовика, что, однако, его не спасло от гильотины.
Княгиня Монако, Мария-Катрина (ум. в 1813 г.) — В 1770 г. добилась развода с первым мужем, князем Оноре III Монакским, и в 1798 г. обвенчалась с принцем Кондэ. Принц Кондэ, Луи-Жозеф де Бурбон (1730–1818) — маршал Франции, полководец, успешно участвовавший еще в Семилетней войне.
Шантийи — родовой замок фамилии Кондэ (побочной ветви Бурбонов).
Земмерринг Самуэль Томас (1755–1830) — естествоиспытатель и анатом, с 1784 г. профессор Майнцского университета; его жена, Маргарете Элизабет (урожд. Брумелиус) — уроженка Франкфурта-на-Майне. Земмерринг познакомился с Гете в 1783 г., с 1784 г. изредка переписывался с ним по вопросам анатомии.
Губер Людвиг Фердинанд (1764–1804) — писатель и переводчик французских авторов (благо его мать была француженка), близкий друг Шиллера.
Форстер Иоганн Георг (1754–1794) — естествоиспытатель и писатель; его художественно-описательная, а также научная и публицистическая проза по праву считалась образцовой. Начальное воспитание он получил в Англии, под руководством отца, тоже естествоиспытателя; участвовал вместе с ним в знаменитом кругосветном путешествии Кука, каковое описал с недюжинным литературным и научным талантом. Вернувшись в 1778 г. в Германию, Форстер сразу же установил прямые контакты с выдающимися немецкими писателями и учеными. С Гете дружески сошелся в 1783 г. и в следующем году посетил его в Веймаре. После занятия Майнца французами (в октябре 1792 г.) учредил в этом городе, где он служил с 1788 г. библиотекарем, клуб по образцу Якобинского клуба в Париже и хлопотал о присоединении к Франции Майнца и всего прирейнского края на правах как бы автономной «первой немецкой республики». В 1793 г. в качестве депутата Рейнского национального конвента Форстер выехал с этой целью в Париж. Там, страдая от голода на хлебной должности интенданта дивизии, умер в 1794 г. «от истощения и сердечной болезни» одиноким, глубоко разочарованным во Французской революции человеком.
Лейтенант фон Фрич (1772–1808) — сын веймарского министра Панова Фридриха фон Фрича.
Мой слуга — Иоганн Георг Пауль Геце (1754–1835), служил Гете с 1780 по 1795 г.; позднее — инспектор проезжих дорог герцогства.
Памятник близ Игеля — по новейшим изысканиям сооружен в 250 г. братьями Секундинием Авентином и Секундинием Секуром в качестве памятника «для себя и потомков».
Корпус эмигрантов — из трех корпусов эмигрантов один, при котором следовали принцы (граф Прованский и граф д’Артуа, будущие короли Людовик XVIII и Карл X), составлял арьергард прусской армии.
Генерал времен Тридцатилетней войны. — Изречение, вложенное в уста упомянутого, но не названного по имени генерала, на самом деле было произнесено во время Гуситской войны естествоиспытателем и историком Цахарием Теобальдом (1584–1627), войсковым капелланом в армии Мансфельда. Изречение это относилось первоначально к «королю Гиршику», то есть Георгу Подебраду Богемскому.
Камерьер Вагнер Иоганн Конрад (1737–1802) — состоял при герцоге Карле-Августе Веймарском, почти всегда сопровождая его в путешествиях и походах.
Патриотизм. — Во время революции это понятие применялось только по отношению к революционерам; так — во Франции и Германии, так и в России при Екатерине II и Павле I.
Герцог Брауншвейгский — Карл-Вильгельм-Фердинанд, владетельный герцог Брауншвейгский и Люнебургский (1735–1806), брат герцогини-матери Анны-Амалии Саксен-Веймарской. Отличался как полководец в Семилетнюю войну, пользуясь неизменным благоволением Фридриха II. Считался «ведущим стратегом» своего времени. Эта репутация не была поколеблена неудачей, постигшей его в кампании 1792 г. Что и говорить, король Фридрих-Вильгельм II Прусский часто мешал ему, как верховному главнокомандующему. Но никто не мог ему приказать пойти в поход со слишком малыми, по его мнению, военными силами, как никто не мог бы заставить подписать гибельные для союзников манифесты от 25 и 27 июля 1792 г. или рваться к Парижу, оставив в тылу не взятые им французские крепости. Характерно, что накануне дня, когда герцог выехал в Потсдам для обсуждения плана кампании 1792 г., к нему поступило предложение занять пост главнокомандующего французской армией. В 1806 г., как бы в покаяние за то, что не слушались его безусловно, Фридрих-Вильгельм III (Второй к этому времени уже лежал в могиле) снова поставил главнокомандующим своей армии «ведущего стратега». Наполеон — под Наумбургом, Ауэрштедтом и Йеной наголову разбил прусскую армию. Сам герцог Брауншвейгский пал, смертельно раненный, предварительно ослепнув от тяжкой контузии. Все это совершилось через шесть дней по вторжении Наполеона в прусские пределы.
…война была нами отчасти все же объявлена… — 20 апреля 1792 г. Франция объявила войну Францу II, королю Венгрии и Богемии, но не германо-римскому императору, каковым он формально тогда еще не был; его избрание императором и коронование во Франкфурте состоялось только в июле 1792 г. Империи в целом Франция войны не объявила.
Гротус Николай Генрих Юлий (1747–1801) — юрист, прусский офицер; полагал, что может избежать безумия, наследственного в его роду, находясь в непрерывных путешествиях.
…юркие рыбки переливаются всеми цветами радуги. — Гете об этом феномене цвета и света, каковой он наблюдал также и в тюрингской водолечебнице Тенштедте, позднее написал в дополнениях к своему учению о красках (статья «В воде пламя»).
Агрикола Георг (1490–1555) — гуманист, минералог. Он рассказал о том же явлении в своем труде «De natura corum quae effluunt ex terra» (1545).
Князь Ройсс XI. — Гете, видимо, имеет в виду князя Ройсса-Грейца, Генриха XIV, австрийского посла в Берлине.
…ознакомиться с характерной чертой республиканского патриотизма. — В XVIII в. не раз отмечалась нерасторжимость понятий республиканского строя и патриотической добродетели (vertu Romaine). Возможно, что эпизод самоубийства коменданта был заимствован писателем у камерьера Вагнера, тоже отметившего «римскую смерть» Боренера (Николя-Жозеф; 1740–1792).
Лафайет Жан-Поль-Жильбер, маркиз де (1757–1834) — французский генерал, участвовал в Войне за независимость Америки; после революции — командующий Национальной гвардией и главнокомандующий восточным фронтом. Стоял за конституционную монархию и был объявлен изменником, сделал попытку перейти в нейтральную страну (19 августа 1792 г.), но попал в плен к австрийцам, которые продержали его в тюрьме до 1797 г.
Дюмурье Шарль-Франсуа (1739–1823) — французский генерал и дипломат. В марте 1792 г. вошел в состав жирондистского министерства в качестве министра иностранных дел, после краткого пребывания в военном министерстве был в июле назначен главнокомандующим французской армией. После изгнания союзных армий из Франции успешно очистил от австрийских войск австрийские Нидерланды. Страх перед приходом к власти якобинцев и его былые опасные связи с жирондистами заставили Дюмурье перейти на сторону австрийцев.
…вести об… печальных событиях в Париже… — 10 августа революционная часть населения столицы штурмовала Тюильри и перебила охранявшую Людовика швейцарскую гвардию. Король и его семья искали защиты у Национального собрания, но конституция 1791 г. была отменена, а король объявлен преступником.
Генерал Клерфе Карл, граф (1733–1798) — австрийский фельдмаршал.
Принц Луи-Фердинанд (иначе: принц Фридрих-Людвиг-Христиан Прусский (в обиходе Луи-Фердинанд) — племянник Фридриха II) — родился в 1772 г., пал в штыковом бою при Зальфельде 10 октября 1806 г. Человек взбалмошный, но разносторонне одаренный, посетитель либерального салона Рахили Варнгаген фон Энзе. После его смерти были изданы его музыкальные сочинения, о которых весьма одобрительно отозвался Бетховен: «Это не августейшая, а самая настоящая музыка, то есть хорошая».
Принц де Линь Карл-Жозеф-Эмануэль (Линь Младший; 1759–1792) — родом бельгиец, полковник австрийской службы, сын австрийского фельдмаршала принца Карла-Жозефа де Линь (1735–1814).
«Монитер» — газета, выходившая с 1789 г., которую усердно читала вся грамотная Европа.
Ван дер Мейлен Антон Франц (1632–1690) — нидерландский художник, баталист и пейзажист, воспроизводил сцены из походов Людовика XIV.
Генерал Гейман (ум. в 1801 г.) — французский офицер, родом из Эльзаса; эмигрировав, вступил в ряды прусской армии.
Келлерман Франц Кристоф, герцог де Вальми (1735–1820) — маршал Франции, с конца 1792 г. — главнокомандующий восточным фронтом.
Красивый мальчик — судя по записям канцлера фон Мюллера (в его книге «Беседы с Гете»), стандарт-юнкер Карл Эмиль фон Бехтольсгейм (1779–1811), позднее ротмистр прусской службы; его мать — Юлия Августа Кристиана фон Бехтольсгейм (урожд. фон Келлер), супруга вице-канцлера в Эйзенахе.
Лоттум — прусский драгунский полк, входивший в состав бригады, которой командовал герцог Карл-Август.
Здесь и отныне… — Ср. с письмом Гете к Кнебелю от 29 сентября 1792 г.: «За эти четыре недели я многое понял, и этот несчастный образец похода заставил меня еще многое обмозговать. Я очень рад, что все это видел собственными глазами и что смогу сказать, когда при мне заговорят об этой важнейшей эпохе: et quorum pars minima fui (и моя малая доля есть в этом деле)».
Улисс едва ли… — в песни 14 «Одиссеи» (V, 457 и проч.) Одиссей, неузнанным вернулся в свой дом и при помощи выдуманной им истории добился того, что его хозяин-свинопас дал ему свой плащ, дабы он мог им прикрыться и предаться целебному сну.
Полковник — старшин офицер после шефа полка, фактический командир такового.
Повальная болезнь — кровавый понос (дизентерия).
Калькрейт Фридрих Адольф, граф (1737–1818) — генерал прусской службы, главнокомандующий группы войск, осаждавших город и крепость Майнц.
Генералы Манштейн и Гейман. — Манштейн Иоганн Вильгельм (1729–1800), генерал-адъютант прусского короля. О Геймане см. выше.
…новая волна смертоубийств… — якобинский террор 2–5 сентября 1792 г. в Париже и других городах Франции.
Лукнер (Люкне) Николя, граф (1722–1794) — французский генерал, родился в Баварии; в 1792 г. командовал северной армией французов; в 1794-м казнен как изменник родины и революции.
История Людовика Святого. — Людовик IX, французский король, царствовал с 1226 по 1270 г. Упомянутый эпизод относится к шестому крестовому походу.
Рыцарь Жуанвиль, Жан, сеньор де Жуанвиль (1224–1309) — участвовал в шестом крестовом походе, описанном им во второй части его сочинения «Vie de Saint Louis» («Жизнь св. Людовика»), оконченного в год его смерти. Гете перечитал этот труд в 1796 г., уже обдумывая свою «Кампанию».
Аттила — король гуннов, был разбит на Каталаунских полях в 451 г. римским полководцем Аэцием и вестготскими князьями.
…время и сроки не стоят на месте даже в самый ненастный день. — Цитата из «Макбета» (I, 3) Шекспира, которую Гете приводит в прозаическом переводе Виланда. («Ах, будь что будет! Всякий день пройдет, какой бы он ни принял оборот»).
…вынул третий том «Физического словаря» Фишера. — Гете явно допускает ошибку. Пятитомник Фишера был напечатай и 1798–1804 гг; надо думать, что Гете имеет в виду третий том аналогичного труда Гелера.
Принц Брауншвейгский Фридрих-Вильгельм (1771–1815) — младший сын герцога Брауншвейгского, сменивший отца на герцогском престоле в 1806 г.
Гусар по имени Лизёр — из тех, что обслуживали нужды веймарского двора и верхнюю прослойку веймарского общества, был уроженцем Люксембурга.
Господин Курбьер Вильгельм-Рене, барон Ом де Курбе (1739–1807) — прусский фельдмаршал.
Барон Бретёй, Луи-Огюст ле Тоннелье (1733–1807) — министр Людовика XVI.
Дело об ожерелье (1785–1786) — одно из скандальных происшествий французского двора. Авантюристка и интриганка графиня де ла Мотт уверила кардинала Рогана, что королева Мария-Антуанетта хочет приобрести драгоценное ожерелье у двух ювелиров и просит его, кардинала, посодействовать ей в этом приобретении. Роган, желая угодить королеве, заключил договор с ювелирами от имени Марии-Антуанетты об уплате стоимости ожерелья в рассрочку. Ожерелье попало в руки авантюристки де ла Мотт. Когда наступил срок первого платежа, обман обнаружился. Роган действовал, не заподозрив де ла Мотт в авантюризме, и был оправдан королевским парламентом. Общественное мнение осудило королеву и придворную камарилью. Гете оценивал всю эту историю как «начало революции».
Кардинал де Роган, принц Луи (1734–1803) — кардинал, с 1778 г. князь, епископ Страсбургский.
Граф Гаугвиц Кристиан Аугуст Генрих Курт (1752–1822) — прусский дипломат. В 1775 г. сопровождал Гете и его друзей-поэтов, двух графов Штольбергов, в Швейцарию. В 1806 г. Гаугвицу было суждено сыграть незавидную роль при переговорах с Наполеоном. Пруссия после долгих колебаний согласилась наконец примкнуть к коалиции, то есть к Австрии и России, воевавшим с Наполеоном. Фридрих-Вильгельм III подписал ультиматум, ставящий в известность Наполеона об объявлении войны Французской империи. Отвезти этот документ в Вену король поручил графу Гаугвицу, но тот, прибыв в столицу Австрии уже после Аустерлица, кончившегося полным разгромом австро-русских армий, тут же нанес визит Наполеону. «Поздравляю ваше величество с блестящей победой!» — начал Гаугвиц с радостной улыбкой. «Фортуна переменила адрес на вашем поздравлении!» — прервал его император. В результате Гаугвиц был вынужден подписать (не имея на то даже полномочий) договор о военном союзе между Французской империей и Прусским королевством, продиктованный ему Наполеоном. Уступки ряда территорий Франции и Баварии были не так обидны, как «милостивое дарование» Пруссии Ганновера, принадлежавшего английскому королю. Фридриху-Вильгельму III пришлось со всем этим безропотно согласиться.
Офицеры Кёлера — из прусского гусарского полка, которым командовал Кёлер.
«Petite Ville» («Маленький город») — комедия Луи Пикара (1769–1828).
«Немецкие провинциалы» — комедия Коцебу, была поставлена в Веймарском театре; Гете исключил из текста комедии резкие выпады против поэтов-романтиков, чем вызвал недовольство автора.
Люксембург. — Эта крепость и город тогда входили в состав австрийских Нидерландов.
Редут — сомкнутое полевое укрепление с наружным рвом и бруствером.
…запечатлевал на бумаге виды города… — Эти зарисовки Люксембурга частично найдены и репродуцированы в книге: Nikolaus Hein. Goethe in Luxemburg, 1940.
…в позднейшие времена Антонидов… — то есть римского императора Антония-Пия, Марка Аврелия (его полное имя — Марк Аврелий Антонин Август) и Антония-Комода.
Орден «За заслугу» («Pour la Mérite») — иначе «Голубой крест» — учрежден Фридрихом II в 1740 г.
Кантова «Критика способности суждения». — В отличие от «Критики чистого разума», гносеологического философского трактата Канта, не заинтересовавшего Гете, «Критика способности суждения», напротив, весьма понравилась ему, ибо подтверждала, как не раз отмечалось Гете, правильность его собственных «телеологических суждений».
Кюстин Адам Филипп де (1740–1793) — французский генерал, после ряда достигнутых им больших успехов: в 1792 г. им были заняты Шпейер (30 сентября), Майнц (22 октября) и Франкфурт (22 октября) — потерпел ряд поражений, был заподозрен в измене и казнен в конце 1793 г.
Франкфуртцы, обладавшие учеными степенями — образовывали особую коллегию, члены которой имели право занимать первые две скамьи в городском совете.
Мой молодой друг — Иоганн Гуго Виттенбах (1767–1848), тогда домашний учитель, позже директор гимназии и библиотекарь в Трире. В 1810–1822 гг. выпустил пятитомный труд «Опыт истории города Трира» (имеется позднейшее переиздание 1925 г.).
Тревиры (собственно, Треверы) — галльское племя германского происхождения, в 70 г. подчинившееся верховной власти Рима.
…курфюрст… присоединился к Франции… — Курфюрст Филипп Зодернский (1623–1652) примкнул во время Тридцатилетием войны к Франции и впустил французов в город Зодерн, откуда их вытеснили испанцы, взявшие в плен курфюрста Филиппа.
Монастырь св. Максима — бенедиктинского ордена; воздвигнут еще во времена франконской державы, разрушен французами в 1794 г. и окончательно упразднен в 1802 г. Поначалу он непосредственно подчинялся верховной власти империи, но уже в XII в. подчинен архиепископом Альберо Трирским его власти; спор о трирском или имперском подчинении монастыря продолжался еще и в XVIII столетии.
Полковник Рафаил фон Гош — командир кирасирского полка, входившего в бригаду герцога К.-А. Веймарского.
Эренбрейтштейн — крепость близ Кобленца, резиденции курфюрста Трирского.
Маркиз Луккезини (1751–1825) — итальянец по крови, прусский дипломат, прикомандированный к главному штабу союзных армий. Гете встречался с ним в Риме и в Неаполе в 1787 г.
Эпоптические явления (иначе: «физические явления»). — Так по Гете, называются цветовые явления, возникающие на тонких прозрачных поверхностях (например, на мыльных пузырях); относятся к интерферирующим, то есть взаимодействующим, явлениям (здесь — света и глаза).
…епископ перебрался в Регенсбург. — Клеменс-Венцель (1768–1812) — курфюрст Трирский, архиепископ, особо благоволил и поддерживал (преимущественно знатных) эмигрантов, бежал из Кобленца в Регенсбург при приближении французов.
…находиться в Силезской кампании… не состоявшейся благодаря Рейхенбахскому конгрессу. — В 1790 г. конфликт между Пруссией и Австрией почти привел к объявлению войны. Однако переговоры двух держав, происходившие в июле месяце, ликвидировали обострившийся конфликт. Герцог Карл-Август в качестве шефа прусского кирасирского полка участвовал в концентрации прусских войск в Силезии и вызвал Гете в место расположения своей части близ австрийской границы.
Мой реалистический взгляд. — Гете понял, что старые друзья не прощают ему его реализма, его перехода от субъективно-сентиментального к объективно-предметному воссозданию действительности. Опубликованное в 1806 г. собрание сочинений Губера подтвердило его догадку: «В увлечение Гете великой целью я больше не верю; его занимает постижение какой-то мудреной чувственности, идеал каковой он почерпнул в Италии, он предался поверхностному занятию всевозможными научными и прочими предметами, ничтожному по сравнению с его былой духовной деятельностью». Столь же неблагоприятны были и отзывы Якоби о его «реализме», в частности, о реалистических романах Гете — «Избирательном сродстве» и «Годах учения Вильгельма Мейстера»; но об этом Гете узнал позже, чем была им написана «Кампания во Франции 1792 года».
Странное произведение — «Путешествие сыновей Мегапразона», роман, видимо, продолжавший сатирическую традицию Вольтера, так и оставшийся фрагментом.
«Эдип в Колоне» — перевод трагедии Софокла, выполненный графом Кристианом Штольбергом и посвященный им Гете. Перевод «Эдипа в Фивах» — был посвящен Штольбергом Фридриху Якоби.
Гурон. — Гуроны — одно из индейских племен Северной Америки, здесь: герой повести Вольтера «Простак» (иначе — дикарь), дикарскую наивность которого Гете «сохранил до зрелых лет».
Де Пау, Корнелии, уроженец Амстердама (1739–1799) — французский культурфилософ, автор ряда исследований об американцах, египтянах, китайцах и древних греках.
…ни за китайцами, ни за египтянами не признавал… достоинства… — Здесь речь идет о критике несостоятельной теории французского ориенталиста Жозефа де Гинье, согласно которой китайцы являются потомками древних египтян, оторвавшихся от африканской почвы и поселившихся на Дальнем Востоке. Де Пау разрушил эту легенду. Но ограничиваясь в своих философских исследованиях касательно египтян и китайцев одной этнографической проблемой, Пау возражает в этом своем сочинении и против идеализации китайских нравов и китайской культуры, хотя эту точку зрения и канонизировал своим авторитетом сам Вольтер (в своем сочинении «Китайские, индийские и татарские письма г-ну Пау, собранные бенедиктинцем»). Дело в том, что в основе этой идеализации восточных монархии лежало одно из основоположений политического учения французских физиократов, надеявшихся с помощью абсолютной власти французских королей преобразовать феодально-абсолютистское королевство в буржуазно-абсолютистское (в «экономическую монархию», согласно их терминологии). И отсюда — восхищение (прежде всего аббата Бодо и Мерсе де ла Ривера) тем, с какою благоговейною покорностью относятся китайцы к каждому слову своего властелина («Сына Небес», «земного воплощения божества»). Как видно, так понимаемый абсолютизм на малый срок пришелся по душе и Людовику XVI. В 1774 г. он призвал на должность министра финансов виднейшего физиократа Тюрго, который, будучи еще в «студенческом возрасте» приором Сорбонны, потряс своих слушателей замечательными рассуждениями, положившими начало философии истории. Все предсказывало ему блестящую карьеру ученого. Но Тюрго был прежде всего гражданином. Мечтая быть государственным человеком в лучшем значении этого слова, он переключился на административную деятельность, и в этой области добившись немалого (если принять во внимание государственно-правовой уклад монархии Бурбонов). Приняв должность министра, Тюрго тут же пишет пространное письмо Людовику, замечательное по уму, по прямоте и блеску изложения, по зоркому предвидению предстоящих ему трудностей. Но трезвость ему изменяет, как только он высказывает надежду, что король будет поддерживать все намеченные им реформы. Тут Тюрго оказывается в плену физиократической доктрины, согласно которой монарх с «арифметической необходимостью» всегда будет преследовать «общую пользу», каковая является и его «личной пользой». Иными словами: «абсолютная власть» короля может и впредь существовать, если король будет опираться на «арифметическое большинство» населения, то есть на «третье сословие». Но это «арифметическое большинство», к тому времени еще не сложившееся в боеспособную организацию, никого поддержать не могло (да и не входила в доктрину физиократов «революция снизу»). Людовик XVI не был тем «абстрактным носителем благодетельной абсолютной власти», каким он представлялся аббату Бодо, а был главою дворянской монархии; дворянство же, точнее дворянская знать, представляло собою (в отличие от «арифметического большинства») вполне сплоченную и дееспособную силу. Попытка компромисса между «третьим сословием» и абсолютизмом кончилась отставкой Тюрго (1770 г.) и дворянской реакцией (1776–1789), предшествовавшей революционному взрыву.
Гемстергейс Франц (1728–1790) — нидерландский чиновник, философ и коллекционер, с 1775 г. друг княгини Голицыной; с нею посещал Гете в Веймаре (1785 г.). Мистик, религиозный мыслитель, он считается предшественником романтиков, а также процветавшей в начале XX в. «философии ценностей». Все его сочинения, написанные на французском языке, были частично переведены на немецкий язык Гердером и Якоби. Наибольшее философское влияние на Гемстергейса оказал Платон, которого он интерпретирует в духе Плотина и других неоплатоников. В подражание Платону Гемстергейс часто прибегал к форме диалога.
Княгиня Голицына Адельгейм Амалия (урожд. графиня Шметтау; 1748–1806) — в 1768 г. вышла замуж за русского посланника в Гааге князя Дмитрия Алексеевича Голицына. Вращалась в большом свете европейских столиц. В 1774 г. всецело занималась воспитанием дочери и сына; в 1779-м переехала в Мюнстер, где поддерживала тесное духовное общение с бароном Францем фон Фюрстенбергом. В молодые годы под влиянием мужа, Дмитрия Голицына, друга Вольтера и Дидро, увлекалась философией французских просветителей; дружба с Гемстергейсом привлекла ее внимание к философам древнего мира, в частности, к Платону; в старости вернулась в лоно католической церкви, что отчасти произошло в результате ее длительного духовного общения с Фюрстенбергом. Но католицизм Голицыной вполне уживался с ее научными и художественными интересами. Дружба с Гемстергейсом, Якоби, Фюрстенбергом прошла через всю ее жизнь и косвенно повлияла на поэтов и художников романтической школы. В имении Якоби она в последний раз повстречалась с другом ее мужа Дидро, остановившимся в Пемпельфорте по дороге в Петербург, куда он ехал в 1773 г. по приглашению императрицы Екатерины II.
Гилозоизм — натурфилософское учение об одушевленности всякой материи; Гете к этому понятию, как правило, не прибегает; возможно, что он употребил этот термин под влиянием Пантовой «Критики способности суждения» («Критика телеологической способности суждения», § 72).
Кантово учение о природе. — Гете перечитывал, проживая у Якоби, «Метафизические основы естествознания» Канта.
…извечная полярность всего сущего… — Понятие полярности в сочетании с понятием усиления (возвышения над собой) для Гете основа основ воззрения на природу.
«Метаморфоза растений» — вышла впервые в 1790 г. Гете послал экземпляр Якоби; не раз упоминается в их переписке.
Закостеневшее представление. — Согласно учению о «преформации» ростка, зародыша, все становление в природе свелось бы только к «разворачиванию» уже существующего. Напротив, Гетево морфологическое учение о природе говорит о подвижной жизни таковой, об образовании и преображении органических тел, иначе — о метаморфозе.
Созерцать природу в духе Бонне. — Имеется в виду Шарль Бонне (1720–1793). Гете усердно читал в свое время его труды, но его раздражали риторические рассуждения Бонне о божественном происхождении природы, более того, он считал, что эти душеспасительные монологи мешают читателям воспринимать простые и дельные объяснения, которые он, Гете, дает «открытым тайнам» мироздания.
Гейнзе Иоганн Якоб Вильхельм (1746–1808) — писатель и искусствовед эпохи «Бури и натиска», сочетавший грациозную эротику Виланда с культом свободы, красоты и силы, автор нашумевшего романа «Ардингелло».
Зал Рубенса — пятый, замыкающий анфиладу зал Дюссельдорфской галереи, в котором тогда хранились такие картины Рубенса, как «Страшный суд», «Бой с амазонками», «Венок из фруктов» и т. д. Когда от Баварии в 1805 г. было отторгнуто герцогство Берг, картины Дюссельдорфской галереи были перевезены в Мюнхен, в Старую пинакотеку, где они находятся и теперь.
«Вознесение» Гвидо — «Вознесение Марии» Гвидо Рени.
Гудон Жан-Антуан (1741–1828) — замечательный французский скульптор.
Господин фон Гримм, Фридрих Мельхиор, барон (1723–1807) — французский писатель, немец по происхождению, издавал совместно с Дидро «Письма литературные, философские и критические» для герцога Готского и других владетельных князей.
Госпожа Бёй — внучка мадам д’Эпинай, старой подруги Гримма и благодетельницы Руссо. Эмигрировав из Франции, госпожа Бёй поселилась вместе с Гриммом и двумя дочерьми в Готе.
Госпожа фон Коуденховен София, (урожд. графиня фон Хацфельд; 1747–1825) умная светская дама, проводившая в мелких владетельных княжествах пруссофильскую политику.
Господин и госпожа фон Дом — Кристиан Вильгельм фон Дом (1751–1820), прусский дипломат.
Полусатурналии. — Сатурналии, празднования в честь бога Сатурна, в Древнем Риме отмечались роскошными пиршествами.
Тайный советник Гофман Кристиан Людвиг (1721–1807) — врач; заведовал санитарно-лечебной частью в Майнце.
…французы… продвинулись в Нидерландах… — Дюмурье очистил от австрийских войск австрийские Нидерланды.
Профессор Плессинг (1749–1806) — изучал в студенческие годы право и богословие; в 1778 г. поехал в Кенигсберг и там вплотную занялся философией; с 1788 г. профессор в Дуйсбурге. Писал о философии древних (особенно о древних египтянах и греках).
Влияние Йорика-Стерна. — Лоуренс Стерн (1713–1763). Йорик — имя священника в романе «Жизнь и взгляды Тристрама Шенди», а также псевдоним Стерна. Гете как писатель (и тем более как мемуарист) не находился под влиянием Стерна, но чтил его как родоначальника английского юмористического романа.
Генрих Липс (1758–1817) — художник, график, участник издания «Физиогномических фрагментов» Лафатера.
Пантограф — аппарат, способствующий правильному перенесению на бумагу увеличенного или уменьшенного оригинала (при точном соблюдении его пропорций).
Котиледоны — завязи, початки.
Среди множества… визитов, которыми одолевали меня… — Намек на приезд в Веймар в 1776 г. Клингера и Ленца.
…разработка рудников в Ильменау. — В 1777 г. герцог Карл-Август поручил Гете возобновить эти горные разработки, приостановленные в 1734 г. В 1784 г. состоялось открытие старых рудников в Ильменау — предприятие, как вскоре оказалось, себя не оправдавшее: оскудение рудниковых залежей обнаружилось уже к концу XVIII в. Но для Гете это кратковременное «воскрешение горного дела» послужило могучим стимулом, помогшим ему освоить область геологии и минералогии. «Ильменау, — говорил Гете канцлеру фон Мюллеру, — стоил мне много времени, трудов и денег, зато я при этой оказии многому научился и приобрел взгляд на природу, который ни на что не променяю».
Советник Крауз — художник Георг Мельхиор Крауз (1736–1806).
Легационный советник Бертух — энергичный предприниматель, журналист, литератор.
Музеус Иогани Карл Август (1735–1787) — профессор веймарской гимназии, писатель, особенно сильный в своих обработках народных сказок.
Утверждение физиогномистов. — «Все имеет свою форму, проникнуто одним духом, обладает единым корнем. Поэтому каждое органическое тело является незыблемым целым… здесь ничто нельзя ни урезать, ни добавить… все у человека гомогенно: телосложение, осанка, цвет кожи, волос, нервы, костяк, голос, походка, поступки, его стиль, темперамент, любовь, ненависть».
Меррем Блазий (1761–1824) — профессор математики и физики в Дуйсбурге, позднее — в Марбурге.
Мюнстер, ноябрь 1792.— Над отрывком, помеченным этой датой, Гете работал с 1820 г., в начале и в конце 1821 г., а также в феврале и марте 1822 г. Гете писал этот отрывок воспоминаний непринужденно повествовательным слогом, с любовью и мягким вниманием, вдумываясь в психологию каждого изображаемого лица. А между тем за те без малого тридцать лет, прошедших со встречи в Мюнстере, Дюссельдорфе и в усадьбе Якоби, столь многое изменилось. Умерла княгиня Голицына и ее друзья Гемстергейс и Франц фон Фюрстенберг; в 1819 г. умер поэт граф Фридрих Леопольд Штольберг (в 1792 г. еще не ставший католиком). Этот «возврат к старой вере» состоялся только в 1800 г., что сразу привело к разрыву между ним и поэтом-переводчиком Фоссом (1751–1826). Все эти выбывшие из числа живущих лица едва ли бы занимали более юные поколения немцев, если бы Фосс не разразился в 1819 г. резкой статьей против вероотступничества младшего из двух поэтов Штольбергов. Последний взялся было ответить Фоссу, но умер в том же году, так и не дописав своего «Краткого ответа на пространную хулу господина надворного советника Фосса». (Закончить его пришлось его старшему брату Кристиану Штольбергу.) Но спор вокруг этой дискуссии тянулся еще долго, тем более что он был направлен против католических тенденций романтиков. Гете тоже вмешался в этот спор, резко возражая против «ханжеского неокатолического сентиментализма» романтического искусства и литературы. Но на отрывке, помеченном ноябрем 1792 г., эти антиромантические настроения Гете не сказались: в нем царит гуманная веротерпимость и уважение к религиозным убеждениям противников.
Фюрстенберг Франц фон (1724–1810) — викарный епископ и государственный деятель в Мюнстерском курфюршестве. Епископом он так и не сделался, ибо по настоянию Австрии епископом Кельнским и Мюнстерским был рукоположен младший сын императрицы Марии-Терезии эрцгерцог Макс-Франц. Энергично занимался делами просвещения, основал Мюнстерский университет. Княгиня Голицына сблизила Фюрстенберга с кругом Якоби.
Гаманн Иоганн Георг (1730–1788) — учился в Кенигсбергском университете на юридическом и богословском факультетах, но позднее занимался философией и литературой. Через все его философские и литературные труды проходит идея единства чувственного и духовного начал: в языке эти два начала совпадают. Язык — мать разума, поэзия — первичный язык человечества. Язык писаний Гаманна нарочито тёмен (почему за ним закрепилось название «северного мага»). В 1787 г. получил скромную пенсию и поехал в Мюнстер к княгине Голицыной, где и умер. Похоронен в саду Голицыной, хотя католическое кладбище и согласилось захоронить его — лютеранина — в «освященной земле».
Благотворительность. — Голицына учредила общество для оказания помощи впавшим в нужду французским эмигрантам.
«Духовно-нравственное», «чувственно-эстетическое», «прекрасное» — термины философских работ Гемстергейса. В отличие от материалистов и атеистов философии французских просветителей, Гемстергейс учит, что душа имматериальна и что «к миру принадлежит, как его причина, необходимое существо бога творца».
«Римский год». — Этот цикл стихотворений так и не был осуществлен Гете.
«Луиза» Фосса очень нравилась Гете, он не раз читал ее в кругу друзей и на более людных сборищах.
Мой приезд в Веймар… — Гете прибыл в Веймар 16 декабря 1792 г.
…дом… предназначенный… государем… — Дом на Фауэнплане, в котором Гете проживал с 1782 г., был ему подарен герцогом на исходе 1792 г.
Иффланд Аугуст Вильгельм (1759–1815) — актер и драматический писатель, с 1779 г. возглавлял Маннгеймский театр, с 1796-го — Берлинский. Автор многочисленных мещанских драм и мелодрам, пользовавшихся большим успехом.
Коцебу Аугуст фон (1761–1814) — убит студентом Зандом за реакционную информацию о немецком студенчестве, которую он направлял царю Александру I. Плодовитый и пользовавшийся наибольшим успехом у зрителей автор драм и комедий (последние ему особенно удавались).
Шредер Фридрих Людвиг (1744–1816) — выдающийся актер и директор Гамбургского театра, автор ряда мещанских комедий и мелодрам; постановщик пьес Шекспира.
Бабо Мариус (1756–1822) — режиссер-постановщик Придворного театра в Мюнхене. Циглер Фридрих Вильгельм (1756–1827) — актер Бургтеатра в Вене. Бретцнер Фридрих Вильгельм — лейпцигский купец и комедиограф, автор либретто «Похищение из сераля» Моцарта. Юнгер Иоганн Фридрих (1759–1835) — романист и комедиограф в Вене.
Из произведений Шекспира исполнялись в Веймарском театре в 1791–1799 гг. «Гамлет», «Король Джон», и «Генрих IV», ч. 1 и 2; из пьес итальянского комедиографа графа Гоцци в те же годы была поставлена «Принцесса Турандот» (в переводе Шиллера); из пьес Шиллера — «Разбойники» и «Дон Карлос».
Хагедорн Фридрих-Густав (1760–1835) — актер и драматург; Хагемейстер Иоганн Готфрид Лукас (1762–1806) — ректор университета в Анкламе и комедиограф.
Диттерсдорф Карл Дитер фон (1739–1799) — популярный композитор второй половины XVIII в., автор многих комических опер.
Итальянская опера — была представлена в репертуаре 1791–1793 гг. сочинениями композиторов Панзиелло Дж. (1740–1816), Чимарозы Доменико (1749–1801), Гульельми Пиетро (1727–1804).
Гений Моцарта. — В 1791–1793 гг. в Веймаре шли следующие его оперы: «Похищение из сераля», «Дон Жуан» и «Свадьба Фигаро».
Кибела — женское божество, аллегорически изображающее материнство, почиталось в Малой Азии, позднее в Греции и Риме.
Карнеоль — красный самоцвет.
Сосикл (Сосокл) — резчик по камню в эпоху императора Августа.
…где она теперь находится… — В первой тетради четвертого тома журнала «Kunst und Altertum» за 1807 г. Гете сообщает своим читателям, что собрание гемм, некогда принадлежавшее княгине Голицыной, с 1806 г. хранится в кабинете медалей нидерландского короля Людовика (Бонапарта).
…я проклинал дерзких обманщиков и мнимых энтузиастов… — Гете имел в виду увлечение Джузеппе Бальзамо (так называемым графом Калиостро) также и Лафатера.
«Король Теодоро»(«Re Teodore») — опера Паизиелло, произведшая на Гете «отличное впечатление».
Рейхардт Иоганн Фридрих (1752–1814) — дирижер и композитор, проживавший в Берлине, в апреле 1789 г. побывал в Веймаре и с тех пор поддерживал дружеские отношения с Гете.
Чудодей Кофта. — См. т. 4 наст. Собр. соч.
«Гражданин генерал» — одноактная комедия (см. там же).
«Два билета» — одноактная комедия Антона Валля (псевдоним драматического писателя Кристиана Леберехта Гейне; 1751–1821) по пьесе Клари де Флориана.
Бек Иоганн Фридрих — актер Веймарского театра с 1793 по 1800 г.
Малькольми Карл Фридрих — до 1817 г. играл на веймарской сцене.
«Разговоры немецких беженцев» — цикл рассказов Гете; см. т. 6 наст. Собр. соч. — «Герман и Доротея» — поэма в девяти песнях; см. т. 5. — «Рейнеке-лис», поэма в двенадцати песнях; см. т. 5. Переложение гекзаметрами прозаической обработки Готшеда нижненемецкой поэмы «Reinke de Vos».
В предисловии к «Георгикам» Вергилия Фосс излагает свою теорию «немецкого гекзаметра», которой Гете пытался следовать, но каковую потом решительно отверг.
…1649 годом… — После многолетней гражданской войны английский парламент лишил Карла I престола и приговорил его к смертной казни.
…что пришлось испытать в декабре и январе… — 21 января 1793 г. король Людовик XVI был казнен на Гревской площади в Париже. 2 декабря 1792 г. Франкфурт снова был в руках немцев.
Генерал Нойвингер Жозеф Виктор (1736–1808) — был взят в плен австрийцами.
Приведенные стихи были воспроизведены под гравюрой № 2, выполненной по эскизу Гете. Всего было выполнено в 1821 г. шесть таких гравюр по рисункам (эскизам) Гете художником и гравером Швертгабуртом.
ПРАЗДНИК СВЯТОГО РОХУСА В БИНГЕНЕ
К своим автобиографическим сочинениям Гете относил и «Праздник святого Рохуса в Бингене», хоть он и избегает в нем местоимения «я», заменяя таковое собирательным «мы» или же обезличенной глагольной формой. Автор стоит как бы в стороне: все вертится помимо его воли, но с его согласия и при теплом его сочувствии. Гете и в Италии был умиленным свидетелем церковно-народных празднеств, предусмотренных католическим календарем, в которых религиозное благочестие переплеталось с карнавальным народным весельем и юмором. Праздник святого Рохуса носил несколько иной характер. Этим празднованием отмечалось освобождение левого берега Рейна от чужеземного (французского) ига, а также восстановление священной для прирейнских немцев-католиков часовни св. Рохуса, порушенной и упраздненной при Наполеоне, и вместе с тем воскрешение свободы, веры и суеверия, признание метафизической реальности всевозможных чудес и знамений. Это ли не повод для лишнего осенения себя крестным знамением, и для удовлетворения жажды лишней мерой доброго вина, и для участия в торжественном крестном ходе и в превеселой охоте на припасенного для этой цели матерого барсука.
«Праздник святого Рохуса в Бингене» написан примерно в той же манере подробного реалистического изображения, что и «Римский карнавал», только что «Карнавал…» подвижнее, богаче сменами происходящего и затейливостью нарядов веселящейся толпы. Но Бинген — не Рим, и немцы — не итальянцы.
Не оставим без оговорки и то, что Рохус был любимейшим святым лютеранина Гете (каковые и вовсе не почитают святых), любимейшим рядом со святым Филиппом Нери. Гете любил их уже за то, что они оба не столько чудотворствовали, сколько расточали чистую христианскую любовь к ближним. Радовало Гете и то, что житие Рохуса написано венецианцем Франциском Диедо (в 1478 г.) и что этот святой особливо почитается в Венеции.
Работать над «Праздником святого Рохуса» Гете начал в 1814 году, когда поэт создавал «Западно-восточный диван». В 1815 году он читал этот очерк Сульпицию Буассерэ. Впервые напечатал «Праздник…» в «KunstundAltertum», № 2 за 1817 год.
Добрые друзья — музыкант Карл Фридрих Цельтер из Берлина и горный советник Людвиг Вильгельм Крамер из Висбадена.
Монастырь Иоганнисберг — изначально бенедиктинский, в XVIII в. перешедший к фульскому епископату, был окончательно упразднен в 1802 г.
Четырнадцать святых. — Святой Рохус не входит в их число, но почитается верующими и как заступник; в Германии ему усерднее всего поклоняются в прирейнском крае.
Эстрайх — Эстрих.
Часовня св. Рохуса построена и освящена в 1677 г. по обету, наложенному на себя прирейнскими жителями в 1666 г.
Римская крепость. — Эта крепость не восходит ко временам Древней Римской империи; воздвигнута она по новейшим изысканиям в XII, а то и в XIII в.
Святой Флориан — великомученик, умер в 304 г. в римской провинции Норикум, помогает при пожарах и наводнениях.
Святой Себастиан — римский мученик, жил в IV в., радеет о домашнем скоте, но помогает и при внезапных заболеваниях.
Святой Губарт — епископ Люттихский (Льежский), покровитель охотников и лесничих.
Осмотреть собрание — надворного советника Геца.
Кебес — ученик Сократа. Ему приписывается диалог об аллегорической картине, изображающей человеческую жизнь в виде ступенчатой горы, на вершине которой обитают труднодоступные добродетели.
Монастырь Айбинген — женский монастырь, построен в XII в. святой Хильдегардой. В XVII в. воссоединился с другим женским монастырем — Рупертсберг. Упразднен в 1803 г.
Святой Рупрехт — в 110 или 132 (?) г. захоронен на горе, которую назвали Рупрехтсберг; в 1677 г. его мощи были перенесены на гору Святого Рохуса и преданы освященной земле близ часовни св. Рохуса.
Святой Рохус — краткий пересказ жития святого, оставленный венецианцем Диедо (1478 г.). Часть мощей его была перенесена в Венецию в 1485 г.
Картины Эташа Ле Сюера (1617–1655). — Ле Сюер Эташ — автор двадцати двух картин из жизни святого Бруно; эти картины были гравированы художниками Франсуа Жово и Шарлем Симонно.
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ МЕЛОЧИ
СЧАСТЛИВОЕ СОБЫТИЕ
Под этим заглавием Гете напечатал в 1817 г. в своем журнале «Żur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie» («К вопросам естествознания и к морфологии преимущественно») свой разговор с Шиллером, имевший место в 1794 г. в Йене после заседания Общества естествоиспытателей. Это историческое свидание обоих поэтов положило начало их сближению и тесному литературному сотрудничеству, продолжавшемуся до смерти Шиллера (9 мая 1805 г.).
Особую роль для заключения прочной дружбы между Шиллером и Гете сыграло письмо Шиллера от 23 августа 1794 г. Вот его текст:
«Йена, 23 августа 1794 г.
Вчера до меня дошло приятное известие, что Вы вернулись из путешествия. У нас, следовательно, есть надежды, что мы, может быть, скоро увидим Вас у себя, чего я, со своей стороны, искренне желаю. Последние беседы о Вас всколыхнули во мне всю массу моих идей, потому что коснулись предмета, который живо занимал меня уже несколько лет. На многое, что я не мог привести в согласие с самим собой, интуиция Вашего духа (ибо так должен я назвать совокупное впечатление, вынесенное мною от Ваших идей) пролила неожиданный свет. Мне не хватало объекта, тела для некоторых умозрительных идей, и Вы навели меня на его след. Ваш наблюдающий взор, который так безмятежно и чисто покоится на вещах, не подвергается опасности сбиться с пути, что столь легко как для умозрения, так и для произвольного и только самому себе повинующегося воображения; в Вашей правильной интуиции заключается все, — и притом гораздо полнее, — чего с таким трудом домогается анализ; и только оттого, что оно заключается в Вас как целое, от Вас сокрыты Ваши собственные богатства; ибо, к сожалению, мы узнаем только то, что расчленяем. Поэтому дух, подобный Вашему, редко знает, как глубоко он проник и как мало причин у него заимствовать у философии, которая может учиться только у него. Она в состоянии лишь расчленять то, что ей дано, но давать — это дело не аналитика, а гения, который под непонятным, но верным влиянием чистого разума устанавливает связи, следуя объективным законам.
Давно уже, — хотя и издали, — следил я за продвижением Вашего духа и с неослабевающим вниманием присматривался к тому пути, который Вы себе предначертали. Вы ищете необходимое в природе, но Вы ищете его, идя самым трудным путем, на который остережется вступить человек с более слабыми силами. Вы берете всю природу в совокупности, чтобы пролить свет на единичное: во всевременности способов и проявления Вы отыскиваете основание для объяснения индивидуального. Шаг за шагом восходите Вы от простой организации к все более сложной, чтобы, наконец, сложнейшую из них — человека генетически построить из материалов цельного здания природы. Благодаря тому, что Вы, следуя природе, как бы воссоздаете его, Вы пытаетесь проникнуть в его сокровенную суть. — Великая и поистине героическая идея, которая в достаточной мере показывает, в каком прекрасном единстве объемлет Ваш дух богатое целое своих представлений. Вы не можете, разумеется, надеяться на то, что Вашей жизни хватит на достижение этой цели, но уже хотя бы вступить на такой путь — ценнее, чем закончить всякий другой, и Вы выбрали, как Ахилл в «Илиаде», между Фтией и бессмертием. Если бы Вы родились греком, — пусть даже только итальянцем, — и были бы с самой колыбели окружены прекрасной природой и идеализирующим искусством, Ваш путь бесконечно сократился бы, может быть, стал бы вовсе излишним. Тогда уже в первое восприятие вещей Вы выбрали бы форму необходимого, а вместе с первым Вашим опытом в Вас развился бы и большой стиль. Но вот, так как Вы родились немцем, так как Ваш греческий дух был ввергнут в этот северный мир, Вам не оставалось иного выбора, как или самому сделаться северным художником, или при содействии способности мышления возместить своему воображению то, что отнимается у него действительностью, и таким образом как бы изнутри, рациональным путем, породить Грецию. В ту эпоху нашей жизни, в которую душа для себя образует из внешнего мира свой внутренний мир, Вы, окруженный ущербными образами, уже впитали в себя дикую северную природу, когда Ваш всепобеждающий, господствующий над своим материалом гений изнутри открыл этот недостаток и извне удостоверился в этом благодаря знакомству с греческой природой. Теперь Вы должны были старую, уже навязанную Вашему воображению, худшую природу коррегировать, следуя лучшему образцу, который создал себе Ваш творящий дух, а это, конечно, можно было достигнуть, только следуя руководящим понятиям. Но это логическое направление, которому дух вынужден следовать при рефлексии, нехорошо уживается с эстетическим, благодаря которому он только и созидает. Таким образом, перед Вами новая работа: ибо точно так же, как Вы переходили от созерцания к абстракции, Вы должны теперь обратно превратить понятия в интуицию и преобразить мысли в чувства, ибо гений может творить, лишь обращаясь к чувству.
Так, приблизительно, сужу я о шествии Вашего духа, и прав ли я, лучше всего известно Вам самому. Но едва ли Вам может быть известна (ибо гений всегда остается величайшей тайной для себя самого) прекрасная гармония Вашего философского инстинкта с чистейшими результатами умозрительного разума. На первый взгляд, правда, кажется, будто не может быть противоположностей больших, чем умозрительный дух, исходящий из многообразия. Но если первый, пользуясь чистыми и верными данными чувственного восприятия, ищет опыта, а второй, пользуясь самостоятельным свободным мышлением, ищет закона, то отнюдь не исключено, что они встретятся друг с другом на полпути. Правда, интуитивный дух имеет дело только с индивидуальным, а спекулятивный — только с родовым. Но если интуитивный дух гениален и открывает в эмпирическом характер необходимости, он породит, правда, всегда индивидуальное, но наделенное характером; если же гениален дух умозрительный и, поднимаясь над опытом, все же его не утрачивает, он породит, правда, всегда только родовое, но жизнеспособное и основательно относящееся к действительным объектам.
Но я замечаю, что вместо письма собираюсь написать диссертацию… Это благодаря тому живому интересу, которым меня преисполняет эта тема; и если Вы не узнаете в этом зеркале своего образа, я очень Вас прошу — из-за этого не отворачивайтесь от него…»
«Ардингелло» Гейнзе. — См. коммент. к «Кампании во Франции 1792 года».
Мейер Генрих, Мориц Карл Филипп, Тишбейн Вильгельм. — См. коммент. к «Итальянскому путешествию».
Дальберг Карл Теодор, барон (1744–1817) — курфюрст Майнцский, князь-примас Рейнского союза при Наполеоне, друг Гете и Шиллера.
Шиллер переехал в Йену в мае 1789 г. в качестве экстраординарного профессора истории. Батш Август Иоганн (1761–1802) — профессор естествознания и медицины в Йене.
Журнал «Ора» стал выходить с января 1795 г.
БЕСЕДА С НАПОЛЕОНОМ
Аудиенция, данная Наполеоном Гете, состоялась 3 октября 1808 года в Эрфуртском дворце веймарского герцога Карла-Августа. Молодой Наполеон был весьма увлечен «Страданиями юного Вертера». Но это ему не помешало на вершине своей славы, повстречавшись с кумиром своих давних увлечений, указать автору на одно слабое, как ему казалось, место в этом романе. Гете ни в одном документе не указал нам, какое именно место подверглось критическому осуждению императора. Но некоторые друзья и собеседники великого поэта утверждают, что Наполеон возражал против двойной мотивировки самоубийства героя-мученика: его несчастной любовью, но вместе с тем и оскорблением, которому он подвергся в одном спесивом и высокомерном дворянском кругу. С точки зрения поэтики французского классицизма его, ныне «венценосный», критик был прав безусловно, но не под углом жизненной правдивости, где сила одного удара судьбы усугубляется силою другого.
Особо примечательным (и показательным для Наполеона) представляется и то, что он — и во время аудиенции, и вслед за тем на балу — заговаривал о приезде и даже переезде Гете в Париж, чтобы поэт обогатился там новыми драматическими замыслами, прославляющими величие созданной им мировой державы. «Что там толкуют о судьбе, — сказал Наполеон как бы между прочим. — Политика — вот вам и судьба».
Немецкий поэт, ставший поэтом Наполеоновской империи? Здесь уместно вспомнить блистательные по уму и по стилю рассуждения Теодора Моммзена в последней, двенадцатой главе третьего тома его «Истории Рима» — главе, посвященной вопросам религии, литературы и искусства. Моммзен в ней говорит о постепенном отрыве новой римской литературы от народных национальных корней поэзии и искусства италийцев, о преображении национальной культуры в имперскую.
Нечто подобное, видимо, представлялось и Наполеону. Гете предложения поехать в Париж не принял.
Савари (с 1816 г. герцог Ровиго Жан-Мари-Рёне; 1774–1833) — генерал, министр полиции. Талейран Шарль-Морис, герцог, князь Бенсвентский — знаменитый дипломат, тогда же в Эрфурте заговоривший с императором Александром о предстоящем крушении Наполеоновской империи. Дарю Пьер-Антуан-Бруно, граф (1767–1829) — министр финансов, литератор, в 1800 г. выпустивший стихотворения Горация.
Бертье Александр, герцог Ваграмский (1753–1815) — маршал Франции, начальник генерального штаба. В 1806 г. после сражения под Йеной Гете обратился к Бертье с просьбой оказать покровительство научным и художественным институциям Веймарского герцогства. Его просьба была уважена.
Список произведений с указанием переводчиков
ИЗ «ИТАЛЬЯНСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ». Перевод Наталии Ман
КАМПАНИЯ ВО ФРАНЦИИ 1792 ГОДА. Перевод А. Михайлова под редакцией Н. Вильмонта
ПРАЗДНИК СВЯТОГО РОХУСА В БИНГЕНЕ. Перевод Е. Вильмонт
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ МЕЛОЧИ
Счастливое событие. Перевод Наталии Ман
Беседа с Наполеоном. Перевод Е. Вильмонт