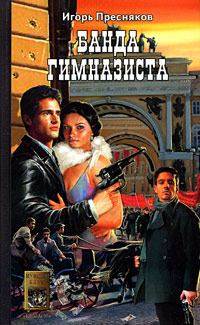
Зампреду ГПУ Черногорову нужен свой человек в правоохранительных органах. Как никто другой на эту роль подходит умный и смелый фронтовик, с которым высокопоставленный чекист будет повязан кровными узами.
Так бывший белогвардейский офицер Нелидов, он же – бывший красный командир Рябинин, влюбленный в дочь Черногорова, оказывается в особой оперативной группе по розыску банды знаменитого Гимназиста. Налетчики орудуют все наглее, оставляя за собой кровавый след. Приступая к сыскной деятельности, Рябинин и не догадывается, какой сюрприз приготовила ему судьба.
Игорь ПРЕСНЯКОВ
БАНДА ГИМНАЗИСТА
Глава I
Несомненно, самой противоречивой и странной фигурой России двадцатых годов был нэпман. И по сей день существовавшее менее десятка лет сословие остается во многом загадочным.
В девяностые годы, после падения советского строя нашлось немало живых свидетелей и жертв той далекой эпохи – отпрысков дворянских фамилий, белоэмигрантов, раскулаченных, оппозиционеров режиму. Только от нэпмана не осталось и следа. А ведь он был личностью весьма примечательной! Словно робкая весенняя поросль, вышли нэпманы на свет после зимней стужи гражданской войны, поверили большевистской власти и принялись за дело. Они возрождали коммерцию, возвращались на фабрики и шахты, в ссудные кассы и питейные заведения. Предприниматель советской поры был уже не тем, чем раньше: исчезла спесь и уверенность завсегдатаев «Яров» и «Асторий», ушли в небытие безумная расточительность и бескорыстное меценатство.
За годы страха и лишений российский буржуа приобрел невиданную изворотливость, научился многосложному расчету, привык обставлять дела с крайним цинизмом – следствие всех осмеянных еще Гоголем российских пороков в сочетании с усвоенной от большевиков беспринципностью и хамством. Нэпман потерял веру в человеческую добродетель и «купеческое слово», в будущее и в Бога. Он продолжал верить только в себя, в свои силы и в свое дело.
Нэпман по праву стал отцом советской коррупции. Именно он в условиях зверского налогообложения находил неприметные тайные тропы к сердцам всемогущих фининспекторов и хозяйственных руководителей. Никто лучше нэпмана не знал, когда день ангела у детишек финансового контролера или какие духи предпочитает жена всесильного совработника. И уж никто так искусно не мог выведать последние новости у доверчивой секретарши местного совнархоза.
Однако если уж называть нэпмана отцом советской коррупции, то матерью, бесспорно, была новая бюрократия.
Российский деловой человек всегда вовлекался в государственную политику. Испокон века русские купцы и заводчики зависели от воли, заказов и подрядов власть предержащих, а посему усвоили укоренившееся правило не перечить принятым правилам игры. Советский предприниматель и не перечил. Большевики дозволили ему вернуться к прилавку и в фабричную контору, но дело не ограничивалось милостью правителей в отношении классово чуждой буржуазии – власть остро нуждалась в помощниках.
С переходом от войны к миру чрезмерно централизованный государственный аппарат Страны Советов не мог должным образом решать всех хозяйственных задач.
Для какого-нибудь Чеквалапа [1] принять постановление о заготовке для Красной армии валенок не составляло особого труда, а вот выполнить при полном отсутствии в своих штатах специалистов-хозяйственников не представлялось возможным.
Грозные, наделенные огромными полномочиями «Чеквалапы» и «Чусоснабармы» [2] могли лишь заниматься реквизициями, ставшими в начале двадцатых весьма неэффективными и вызывающими недовольство в народе.
Помочь в реализации хозяйственных задач по снабжению, строительству, транспортировке, торговле, организации производства и сбыта мог только доселе ненавистный русский буржуа: «подлый торгаш», «рвач», «шкурник», «эксплуататор» и «мироед», а по-новому – нэпман. Так возник сей взаимовыгодный контакт большевистского государства и частника.
По замыслу высшего партийного руководства, государственные хозяйственные структуры должны были использовать нэпмана, чтобы самим научиться работать. Однако это не представлялось возможным.
Государственный административно-хозяйственный аппарат, превышавший по количеству чиновников царский в три раза, в подавляющей массе состоял из крайне невежественных людей, которые не могли работать или чему-либо учиться. С другой стороны, многие из совчиновников пришли в руководящие структуры далеко не из идеологических побуждений. Благодаря пролетарскому или крестьянскому происхождению можно было легко занять «теплое местечко» у кормушки…
Среди пестрой армии базарных торговцев, хозяев лабазов, трактирщиков, фабрикантов и оптовиков особенно выделялись воротилы новых времен – биржевики и подрядчики, нувориши гражданской, сколотившие состояния на жутких махинациях, голоде, войне, эпидемиях и тотальном бандитизме. Для этих волков беспредельной коммерции не существовало каких-либо моральных устоев или табу.
Ординарный честный западный буржуа и представить себе не мог, что купленный на Украине вагон с хлебом мог принести в голодном Петрограде более тысячи процентов прибыли. А если бы удачливый российский негоциант рассказал своему европейскому коллеге, как доставлялся вожделенный вагон в северную столицу, тот и вовсе сошел бы с ума. Разве мог приверженный букве закона западный делец поверить, что его российский собрат имел в своем саквояже поддельные «охранные грамоты» на прохождение его товаров всех «цветных территорий»: и белых, и красных, и зеленых, и черт знает, каких, на всякий случай. Что имелась у нэпмана и нужная, вовремя позолоченная ручка, открывавшая все подвластные ей семафоры и выдававшая разрешительный мандат?
Верхом развития коллективной творческой мысли биржевика, подрядчика и совчиновника была деятельность советских акционерных обществ, в которых контрольный пакет принадлежал государству. Такие общества явились новой почвой для самого разнузданного грабежа и без того ослабленного войной хозяйства страны.
Учреждая акционерное общество совместно с нэпманом и преследуя при этом весьма благие цели, государство передавало в качестве уставного взноса солидные денежные средства или имущество. Государственное управление обществом осуществлялось через уполномоченного представителя (совчиновника), который в сговоре с негосударственным акционером (нэпманом) ловко распределял по карманам не только прибыль, но порой и самый уставный фонд.
И все же, несмотря на все подлые ухищрения и жульничество, нэпман славно потрудился для народа. Хлеб, мука, масло, мясо и различные товары, еще вчера лишь предмет мечтаний, снова вошли в обиход и употребление. Стараниями пронырливого нэпмана и терпеливого русского крестьянина Россия смогла забыть о недавнем состоянии голода и холода. Именно нэпманы, вчерашние хозяева и управляющие заводов и фабрик, вернулись на предприятия, чтобы заставить их работать. И кто как не нэпманы прокладывали торговые пути на далекие окраины и проникали в самые захолустные уголки бескрайней матушки России.
* * *
Сергей Андреевич Татарников являл собой именно тот образчик советской буржуазии, что сформировала недавняя война. Коллеги-биржевики за глаза называли его «Императором», и это как нельзя лучше объясняло вес Татарникова в деловых кругах. Молоденькие маклеры и агенты города завидовали Сергею Андреевичу, мечтая со временем сделать столь же головокружительную карьеру. Сам Татарников считал себя просто удачливым и трудолюбивым человеком. Начинал он в 1904 году учетчиком на складе галантерейных товаров. Тогда семнадцатилетний выпускник реального училища и сын мелкого служащего почты мог только грезить о лучшей доле. Вечерами Татарников изучал бухгалтерскую науку в надежде, что знания когда-нибудь да пригодятся.
Через три года Сергей Андреевич стал помощником управляющего купеческого дома Маркедонова. Заметив честолюбивое рвение юноши и его организаторские способности, хозяин в 1913 году назначил Татарникова главным управляющим. Маркедонов торговал зерном и крупами, держал кожевенные мастерские. Сын Маркедонова был жандармским офицером, что, конечно, льстило отцу, как верноподданному Российской империи, но огорчало, как представителя купеческой гильдии.
Поэтому Маркедонов хотел видеть в Татарникове продолжателя своего дела. Начавшаяся в 1914 году война с Германией приумножила капиталы торгового дома. Используя связи в столице, Маркедонов добился военного заказа на поставку в армию сапог, упряжи и ремней. Для того чтобы верный помощник Татарников не угодил на фронт, Маркедонов ввел его в губернский комитет Земгора. Очень быстро Сергей Андреевич набирал вес и влияние: он завел дружбу с военными и гражданскими чинами и даже был представлен губернатору. Солидное положение двадцативосьмилетний коммерсант упрочил подобающей брачной партией: летом 1915 года Татарников женился на дочери председателя Дворянского собрания.
Самый неожиданный поворот в судьбе Сергея Андреевича произошел в октябре семнадцатого. Большевики взяли власть и объявили борьбу с буржуазными угнетателями. Сына Маркедонова, к тому времени уже бывшего ротмистром царской жандармерии, сочли врагом революции и попытались арестовать. С помощью отца он скрылся за границу, да и сам Маркедонов, побоявшись расправы, поспешил уехать в Париж. Так, волею судьбы, Татарников сделался хозяином «империи Маркедонова» – восемнадцати хлебных и крупяных складов, шести кожевенных мастерских, четырех барж и двух пароходов. Быстро смекнув, что на стороне большевиков сила вооруженного народа, Сергей Андреевич поспешил на поклон к новой власти. Он добровольно передал губкому запасы хлеба и предложил обмундировать отряд рабочей милиции. Луцкий благосклонно принял помощь Татарникова и выдал ему мандат на управление всеми маркедоновскими предприятиями.
В суматохе октябрьских событий очень немногие знали о том, сколько товарных запасов в действительности оставил Татарникову Маркедонов. Верные Сергею Андреевичу приказчики припрятали львиную долю хлеба, круп и кожаных изделий. Продовольствие Татарников продал за золото в голодающие губернии, а сапоги и упряжь переправил поставщикам Добровольческой армии генерала Корнилова.
Еще большую выгоду создали Татарникову большевистские продотряды. Весной 1918-го они принялись за свирепую реквизицию семенного фонда в деревне. Пронырливые агенты Татарникова разъезжали по селам и уговаривали крестьян продать семенной фонд за золото. Доведенные до отчаяния мужики соглашались – уж лучше было отдать хлеб за звонкую монету, нежели даром. Если с официальными хозяевами новой России у Татарникова были совет да любовь, то подпольные короли и князья жизни доставляли ему массу хлопот. Ночными хозяевами российских городов стали главари шаек налетчиков, наркодельцы и барыги. В уездах же и волостях бесчинствовали бандитские атаманы. Жиганы грабили обозы и баржи Татарникова, жгли его склады, убивали работников. Договориться с урками не представлялось возможным, ибо обстановка в криминальной среде постоянно менялась: ЧК и угро педантично истребляли одних, а на их месте появлялись новые и новые.
Так, лавируя между красными и белыми, ублажая партийных вождей заверениями в лояльности, а военных и хозяйственников щедрыми дарами, отбиваясь от бандитов где денежными вкладами, а где и силой оружия, дожил Сергей Андреевич до 1921 года. Объявление Лениным новой экономической политики сулило Татарникову новые барыши. Возобновлявшие работу заводы и фабрики нуждались в стройматериалах, сырье, топливе, станках и механизмах, а в стране, где хозяйственные связи разрушились, найти все это предприятиям было очень трудно.
К 1921 году Татарников обладал колоссальным капиталом. С приходом нэпа он не оставил хлебной торговли, но основные средства вложил в биржевые операции. Ко всему прочему Сергей Андреевич сделался ростовщиком. Татарников давал более выгодные, чем в государственных банках, кредиты. Уже в 1923 году он контролировал в губернии практически всю оптовую торговлю лесом, зерном и сырой кожей. Многочисленные артели, мастерские и заготконторы, возглавляемые подставными лицами, в действительности работали на Татарникова.
* * *
В понедельник 2 июня Татарников проснулся, как обычно, в девять часов утра. Он давно уже не подымался с рассветом. «Сладкий сон я себе, слава Богу, заработал», – говаривал Сергей Андреевич коллегам. Сунув ноги в турецкие туфли и накинув халат, Татарников направился умываться.
Глядя на свою розовую ото сна физиономию, Сергей Андреевич подумал, что за последний месяц наверняка прибавил в весе, и решил побольше ходить пешком.
Внешне Татарников был далек от созданного одиозной литературой образа пузатого «Мистера Нэпмана» или советского Скупого рыцаря с пшеничными усиками. Он был высок ростом и приятен лицом, но не настолько, чтобы назвать его записным красавцем. Глядя в его глубоко посаженные серые глаза, собеседник невольно понимал, что Татарников —большая умница и столь же большой пройдоха.
Женщины называли его «интересным», а мужчины легко попадали под обаяние блестящей эрудиции и способности мгновенно реагировать на любую ситуацию. Сергей Андреевич умел себя выгодно преподнести: на прием к важному чиновнику он ехал в скромной серенькой тройке и не пользовался дорогими одеколонами; на деловую встречу появлялся в шикарном смокинге, в окружении богато разодетой свиты помощников.
Если же, в силу обстоятельств, предстояла деловая встреча с дамой, Татарников отдавал предпочтение неброскому, но добротному костюму в сочетании с крикливо модным галстуком. «Учитесь у столпов российского политеса! – советовал он ближайшему помощнику Валуеву. – Вот Владимир Дмитриевич Набоков, правая рука Милюкова по кадетской партии, много добился благодаря умению со вкусом подбирать галстуки!»
С весны 1916 года Татарников с женой и двумя сыновьями жил в шестикомнатной квартире на Главной площади. В восемнадцатом четыре комнаты экспроприировали под общежитие трудящихся. Однако очень скоро Сергей Андреевич добился переселения соседей в более скромные места обитания, а комнаты выкупил и восстановил квартиру в прежнем виде…
Завершив туалет, Татарников выпил за завтраком две чашки черного кофе с гренками, перебросился парой пустых фраз с пробудившейся супругой и поехал в контору.
Новенький голубой «форд» быстро прикатил к зданию биржи.
В отделенном стеклянной перегородкой от операционного зала кабинете Татарникова ожидал Дмитрий Иванович Валуев, его главный помощник и заместитель.
– Ну что, Митя, каковы наши успехи? – поприветствовал Валуева хозяин и пристально посмотрел на неестественно красное лицо заместителя. —
Э-э, брат, я вижу, ты вчера знатно перебрал!
– Гулял на свадьбе у сестры, – опустил глаза Валуев и торопливо разложил по столу бумаги и конторские книги.
– Небось голова-то гудит? – справился Татарников. – Ты бы на базар сбегал, рассольчику перехватил.
– Да уж отпоили, благодарствую, Сергей Андреич, на добром слове, – вздохнул Валуев.
– Ладно, только чтоб такой кумачовой рожи я впредь не видел! – отрезал хозяин. – Что нового?
– Слышали о реконструкции кирпичного завода? – приободрившись, спросил заместитель.
– Само собой. Американцы берут его в концессию.
– Так это еще не все, – усмехнулся в пышные усы Валуев. – Совнархоз принял решение строить железную дорогу до выработки глины. Туда, почитай, верст двадцать будет.
– Так-так-так… – задумчиво пробормотал Татарников. – Подряды будут?
– Только на шпалы. С остальным Совнархоз справится…
– Шпалы! – фыркнул Татарников. – Ты знаешь, что такое строительство дороги, а? Это сотни рабочих, живущих в поле, пусть даже в двадцати верстах от города. Для них нужно строить бараки, кормить, продавать им вечером водку. Понимаешь?
– Да-да… – задумчиво почесал висок Валуев. – Надо бы об этом договориться.
– Ты уже с кем-то беседовал?
– С Горюновым, завотделом строительства Совнархоза.
– Когда успел?
– Еще в пятницу.
– Он сможет протолкнуть через коллегию решение о предоставлении подряда нам?
– Обещает. Однако… – Валуев покрутил пальцами в воздухе.
– Сколько он хочет?
– Три тысячи.
– Вот сквалыга! – расхохотался Татарников. – Ладно, соглашайся. Пусть подавится. Но с условием: строительство бараков и обеспечение работников пусть также оставит нам. Итак, ты обхаживай Горюнова, а я встречусь с Ляпуновым из «Желдорстроя», надо и этого умаслить. Свяжись со шмаровозами, зафрахтуй пару девок погрудастей. Он любит, сволочь.
– Сделаю, Сергей Андреич, не впервой, – кивнул Валуев.
– Вот еще! – припомнил Татарников. – В субботу я ездил в деревню, навещал деток на даче. Тамошние старики пророчат засушливое лето.
– Да, по всем видам жди неурожая, – согласился Валуев. – Лето только началось, а палит как в июле.
– То-то и оно! – постучал пальцем по столу Татарников. – Надо скупать урожай.
– Загодя? – уточнил заместитель.
– Само собой.
– Так цены-то по осени неизвестно каковы будут!
– Неважно, – поморщился Татарников. – Направь людей по селам, пусть заключают договоры и платят вперед на десять процентов дороже действующих цен.
– Многие крестьяне не согласятся, – покачал головой Валуев.
– С теми, кто победнее, договоримся, а потом и прочие гуртом повалят, – уверенно заключил Татарников.
– А только, если дадут нам подряд на шпалы, средств на закупку зерна точно не хватит, – нахмурил лоб Валуев, взял карандаш и набросал на листе бумаги несколько цифр. – Взгляните!
Татарников посмотрел на расчеты:
– Не беда. Перебросим часть средств с кожевенных мастерских. Кроме того, не продлевай кредитов тем, у кого подходят сроки возврата.
– Ясно, Сергей Андреевич, перегруппируемся, – кивнул Валуев и застрочил карандашом в своей записной книжке.
* * *
Незадолго до обеденного перерыва в кабинет Черногорова зашел Гринев:
– Получена телеграмма из Особого отдела пятой Краснознаменной Дальневосточной армии.
– Что там? – насторожился зампред.
– Ответ на запрос о Рябинине.
– А-а! – вспомнил Кирилл Петрович. – Читай!
Гринев развернул бланк расшифрованной служебной телеграммы:
«Секретно.
Тов. Черногорову.
В ответ на Ваш запрос от 24.05.1924 сообщаем сведения, содержащиеся в личном деле Рябинина А. Н.:
Рябинин Андрей Николаевич, род. в 1897 г. в Казани. Из мещан. Отец работал старшим механиком железнодорожных мастерских, был мобилизован на австрийский фронт в марте 1915 г., погиб три месяца спустя. Мать умерла в 1919 г. В 1914 г. тов. Рябинин окончил гимназию и поступил в Казанский университет. После гибели отца бросил учебу и ушел добровольцем на фронт. Закончил войну в чине прапорщика.
В начале 1918 г. вернулся в Казань, вступил в отряд Красной гвардии. С июня 1918 г. в кавалерийских частях РККА [3] . С весны 1919 г. командовал 2-м эскадроном 111-го полка 26-й дивизии 5-й армии. Отмечался командованием как преданный делу рабочего класса, храбрый командир. Комсомолец с 1918 г.; в 1920-м делегат III съезда РКСМ. После тяжелого осколочного ранения в марте 1920 г. работал в окружном военкомате г. Иркутска (июль– сентябрь). С октября 1920 г. по личной просьбе переведен инструктором в формирующиеся части Народно-Революционной армии Дальневосточной республики.
С апреля 1921 г. командир эскадрона Троицкосавского кавполка. Активно участвовал в боях с белоказаками и белогвардейцами. Особо отличился в операции под Волочаевкой: 10 февраля 1922 г. совершил маневр в тыл войск противника, чем в немалой степени решил исход боя. В числе особо отличившихся в боях под Волочаевкой 67 бойцов, командиров и комиссаров НРА тов. Рябинин был награжден орденом Красного Знамени. С августа переведен командиром кавотряда 1-й заставы Аргунского погранотряда.
При переводе в войска ПО [4] лично встречался с командармом В. К. Блюхером, получил от него благодарность за службу и письменную рекомендацию (копия прилагается). За период службы на границе хорошо изучил окрестности, охотничьи тропы, не раз выполнял задания разведупра по преследованию белоказачьих банд на территории Китая, помогал в переправе агентуры за кордон. 30 января 1924 г. в бою с перешедшей границу бандой получил ранение головы и 2 апреля признан медкомиссией негодным к дальнейшей службе (копия заключения медкомиссии прилагается). Уволен из рядов РККА приказом № 1012 от 9.04.1924 г. На протяжении всей службы тов. Рябинин дисциплинарных взысканий не имел, проявил себя как идейный коммунар, активный комсомолец и храбрый командир.
Зам. начальника Особого отдела
5-й Краснознаменной армии
И. Манцев».
Гринев дочитал телеграмму и перевел дух.
– Вона каков у нас Рябинин! – довольно улыбнулся Черногоров. – Прямо геройский-таки товарищ.
– Так точно, характеристика весьма лестная, – кивнул Гринев.
– Надо бы его к нам переманить, – хитро подмигнул зампред.
– А в чем трудности? – Гринев пожал плечами. – Приказать дирекции завода и комсомольской ячейке откомандировать Рябинина в распоряжение ОГПУ! Служба в наших органах честь для любого советского гражданина.
– Ну, ты здесь-то не рапортуй, мы не на партсобрании, – усмехнулся Черногоров. – С Рябининым я беседовал – он, видно, подустал от армейской жизни. С ним надо обходиться поделикатнее. Сделаем вот как: свяжись с Самыгиным, он у них на «Ленинце» комсомольский вожак, пусть по-товарищески растолкует Рябинину необходимость работы в ОГПУ. Решение Рябинина должно быть осознанным и добровольным.
– А к чему использовать Самыгина? Он не сотрудник органов. У нас есть на «Ленинце» осведомитель член бюро ячейки Крылов. Уверен, он обработает Рябинина с должным упорством и…
– Не согласен, – покачал головой Черногоров. – Крылов тугодум и к тому же для Рябинина неавторитетная личность. Самыгин фронтовик, парень бойкий и неглупый. Он Рябинину поближе будет.
Черногоров заглянул в свой настольный календарик:
– К слову, тут за тобой, Паша, должок остался.
– А именно? – Гринев сосредоточился.
– Почти две недели тому назад я поручил организовать особую группу для разработки Гимназиста. Расскажи-ка, голубчик, что сделано?
– Оперативная группа из трех человек создана, товарищ зампред, а вот похвалиться пока нечем, —поджал губы Гринев. – Деревянников, согласно вашего приказа, вновь зачислен в штат уголовного розыска и откомандирован в мое распоряжение. Ему в помощь я придал молодого сотрудника Елизарова. Возглавляет подразделение Климов, следователь прокуратуры. Особая группа приступила к работе в прошлый понедельник, двадцать шестого мая. За это время все имеющиеся в окружных отделах угро и прокуратуре материалы о преступлениях, приписываемых Гимназисту, сведены воедино, началось их изучение и систематизация.
– Добро, – кивнул Черногоров. – Однако к чему ты ввел в состав группы Елизарова? Он же малограмотный сопляк!
– Виноват, товарищ зампред, я действовал из соображений тактических: Деревянников эксперт и аналитик, Елизаров хорошо знающий улицу оперативник, хваткий и энергичный специалист…
– …по облавам и мордобою, – с усмешкой подсказал Черногоров.
– Зря вы так, Кирилл Петрович, – не согласился Гринев. – У него, конечно, есть недостатки «полевого агента», но он набирается опыта, повышает образовательный уровень. Школу вот вечернюю закончил, юриспруденцию штудирует.
– Убирай этого волкодава! – безапелляционно оборвал Гринева зампред. – И Климова отправляй обратно в прокуратуру. Нечего ему в группе делать. Гимназистом должны заниматься люди нестандартно мыслящие, а не крысы канцелярские. И не обижайся, Паша, знаю, с кадрами трудно.
Черногоров подвинул к себе картонную папку.
– Я вот тоже кандидатуру в состав группы приготовил, – он открыл досье. – Гляди: оперуполномоченный уголовного розыска Приречного округа Непецин Борис Борисович. В органах с восемнадцатого года, член партии. Отзывы самые положительные. Кстати Непецин вел первое дело Гимназиста, в двадцать втором году. У него позже был конфликт с Шаповаловым, и Непецина перевели на работу с беспризорными.
– Да-да, припоминаю, – наморщил лоб Гринев. – Непецина тогда обвинили в незаконном аресте.
– Верно. Не нравится Непецин Шаповалову, плетет начугро интриги, – глаза Черногорова недобро блеснули. – А только не ведает, болван, что мне все доподлинно известно. Ох, Паша, попадет Шаповалов под горячую руку, разгоню его вместе с наушниками по уездам, будут там по оврагам абротников [5] ловить.
Зампред на минуту задумался.
– Прикажете включить Непецина в опергруппу? – подал голос Гринев.
Черногоров встрепенулся:
– Непременно! И назначь его старшим. Временно.
– А постоянным кто будет? – Гринев поднял левую бровь вверх.
– Узнаешь. Потом. Еще вопросы есть?
– Никак нет, – Гринев щелкнул каблуками. – Есть деликатная информация.
– Выкладывай.
– Товарищ Медведь написал рапорт в Москву, – негромко проговорил Гринев. – Просит самого товарища Дзержинского перевести его на более опасную и ответственную работу.
– А-а, так ему давно в нашей губернии скучно, – махнул рукой Черногоров. – Глядишь, и переведут куда-нибудь в Туркестан басмачей гонять. Платон Саввичу там будет веселее. Все у тебя? Ну, так можешь идти.
Глава II
Ленинградский поезд прибыл точно по расписанию – в 20.02.
Андрей торопливо прошел по вокзалу и, отмахнувшись от назойливых извозчиков, отправился домой пешком. Он с удовольствием поймал себя на мысли, что идет именно домой. Минуло совсем немного времени, а этот город стал для него таким близким и даже родным. Вспомнился Петербург: «Конечно, кощунственно по отношению к городу детства, но теперь он вызывает только щемящую боль, как по усопшему, – с грустью подумал Андрей. – Там прошлое, а здесь жизнь и все светлые надежды».
Он улыбнулся и задорно сдвинул кепку на затылок. «Вот шагает по улице счастливый человек.
У него есть чистое небо над головой, любимая девушка, возвращения которой он будет ждать, интересная работа и добрые приятели. А что еще нужно для счастья? И представляете, этот счастливый человек – я!» Веселые мысли носились в голове, сталкивались и разлетались, словно бильярдные шары.
Андрей не заметил, как дошел до улицы Красной армии. Не обратил он внимания и на то, как мчавшаяся навстречу пролетка вдруг с шумом остановилась, и выскочивший на мостовую ездок долго смотрел Андрею вслед, бормоча: «Нет, чертовщина какая-то!»
– Мишка! – громко прокричал кто-то за спиной Рябинина.
Андрей невольно вздрогнул и огляделся по сторонам. Навстречу шли две девушки, на противоположной стороне улицы оживленно болтала ватага парней, однако никто из них не повернулся на голос.
– А и впрямь Мишка?
Рябинин медленно обернулся. На тротуаре, шагах в десяти, стоял среднего роста молодой мужчина и улыбался широкой довольною улыбкой. В глазах Андрея потемнело: это знакомое до боли лицо, этот курносый нос могли принадлежать только одному человеку в мире.
– Жорка! – ошарашенно прошептал Андрей и бессильно опустил руки.
– Ну Мишка же!!! – восторженно взревел человек, бросился к Рябинину и заключил его в крепкие объятья. – Мишка, какими судьбами? Чудеса разнебесные, да и только! – тиская и целуя Андрея, приговаривал Георгий. – Да что ты прямо малахольный какой-то? Неужто не рад?
– Очень… очень рад, – обнимая друга и озираясь по сторонам, отозвался Рябинин. – Не кричи так… неудобно.
– Брось. А я, знаешь ли, качу себе на лихаче, смотрю: Нелюбин. Думал, почудилось, а пригляделся точно! – звонко рассмеялся Георгий и хлопнул Андрея по плечу.
– Идем ко мне, я живу неподалеку, – заторопился Рябинин.
– Как? – оторопел Георгий. – Я решил, ты проездом, город осматриваешь.
– Да нет, вот уже месяц, как я работаю на «Ленинце»… Идем же! – Андрей потянул друга за руку.
– Ну и дела! – Георгий почесал затылок. – На «Ленинце»!.. Подожди-ка, я шепну пару слов извозчику.
* * *
– Выходит, здесь ты пристроился, – прохаживаясь по комнате Рябинина, приговаривал Георгий.
– Разместили, по-моему, неплохо, – пожал плечами Андрей.
Усевшись к столу, он с улыбкой разглядывал друга. Те же карие глаза, вздернутый нос, широкие плечи и присущая только Жорке легкая походочка. Он почти не изменился, разве что появились глубокие морщины у рта, и речь стала какой-то отрывистой, резкой.
– Так кем ты там, на «Ленинце»? – усаживаясь, спросил Георгий.
– Начальником столярного цеха.
– Да-а? А служба?
– Демобилизовали в апреле. А ты?
– Ну, я… – Георгий развел руками и поглядел в потолок. – У меня здесь свое дело, «Бакалея Старицкого», пекарня, лавка, домишко.
– Ловка-ач! – в восхищении покрутил головой Андрей. – Пиджак крем-габардиновый, жилет цвета «призрачная зыбь». А где же золотая цепь на животе?
– Ехидничаешь? Оно и понятно: куда мне, нэпману, до вас, заводских!
– А я еще и комсомолец, Жора! – расхохотался Андрей.
– Тем паче, – подхватил Георгий. – Вот и встретились два друга, Миша с Жорой, офицеры ударного батальона!
– Так я и не Михаил давно, – вздохнул Андрей. – Меня зовут Рябининым, Андреем Николаевичем.
Глаза Георгия стали внимательными и жесткими.
– Понял. Ты в «конспиралке» или перекрестился?
– Имя сменил. С моим-то прошлым… Еще расскажу. А ты, значит, под своей фамилией живешь?
– А чего мне бояться? Перед властью я чист, – махнул рукой Георгий. – Я, брат, бывший партизан, инвалид гражданской. У меня даже документ имеется.
Андрей открыл рот:
– П-партизан?! А Корнилов, Добрармия? Ты же туда поехал!
– Верно, был я у Корнилова, – понизил голос Георгий. – А потом занесло к коммунарам, где я и отличился. Иначе тоже был бы каким-нибудь «Рябининым».
– М-да-а, – протянул Андрей, – неисповедимы пути твои…
– Не поминай, – нахмурился Георгий. – Не в ладах я с небесами, даже креста не ношу.
– У большевиков научился?
– И у них тоже.
– Ну, не будем об этом, – Андрей потрепал Георгия по плечу. – Скажи лучше, как ты оказался в городе?
– Очень просто. Если помнишь, у меня здесь жила когда-то тетушка, сестра матери. В детстве я к ней пару раз ездил на каникулы. Помотался я по стране и решил тут осесть. А вот тебя как занесло в наши места?
– Да так же! Когда демобилизовали, задумался, куда податься. Хотелось в центр России, поближе к Питеру. Вспомнил о городе, где у тебя жили родственники, вот и поехал.
В дверь негромко постучали. Андрей насторожился.
– Это извозчик, – успокоил друга Георгий. —
Я посылал его за выпивкой.
Старицкий вышел и через минуту вернулся с корзинкой, из которой торчали сургучовые головки бутылок.
– Сегодня угощаю я, – выкладывая на стол колбасу, хлеб и паштет, предупредил Георгий. – У тебя, я вижу, тут хоть шаром покати.
– Хуже, – отозвался Андрей. – Даже корки хлеба нет. Я только вернулся из командировки, шел с вокзала.
– А-а! И где успел побывать?
– В Питере!
– Да ну? – Георгий оставил в покое румяный каравай. – Наших видел?
– Маму. А вот к Ирине Ивановне зайти не успел. Кстати, Жорка, мать мне сказала, будто ты работник наркомата торговли.
– Верно, соврал, – без тени смущения согласился Георгий. – Зачем говорить мачехе и Елене Михайловне, что я теперь пекарь и торговец? Старушки и без того настрадались, к чему им знать подробности? Давай ножи и приборы… как тебя там?.. Товарищ Рябинин!
* * *
Старые друзья долго беседовали, вспоминая беззаботное детство, юнкерские похождения и германский фронт. Выпив за погибших армейских товарищей, помолчали.
– Иногда мне кажется, будто каждый из нас прожил несколько совершенно разных жизней, – наконец задумчиво проговорил Георгий. – Я нынешний настолько далек от того Жоры Старицкого!
– Не знаю, – пожал плечами Андрей. – Последние лет семь я чувствую себя зрителем, приглашенным в какой-то дьявольский театр, где все творится взаправду, но публика об этом не подозревает. Вокруг крутятся страшные декорации, происходящее на сцене сводит с ума. И вдруг осознаешь, что все это реальность… Начинаешь истерически искать режиссера, автора дикой пьесы или, на худой конец, администратора театра. Хочется бросить им в лицо яростные обличительные слова, заставить перекроить спектакль как положено… Но представление не управляется разумными существами, а идет механически, подобно заведенной пружиной игрушке.
Андрей с минуту помолчал, затем со вздохом добавил:
– Я, Жора, наверное, так и не переменился. Просто надел маску. Ту, в которой я могу сидеть в адском театре, не рискуя окончательно свихнуться.
– Неужели ты хочешь сказать, что, став Рябининым и начав новую жизнь, остался прежним? – с сомнением покачал головой Георгий.
– Михаил Нелюбин не переменился. Он умер. Осталась его душа без имени и прошлого. И эта душа скрылась под маской.
– Ну, о себе я такого не скажу, – скорбно рассмеялся Георгий. – От меня прежнего остались одни воспоминания. И ты. Я стал так поразительно пуст, не поверишь! В самой темной комнате больше света, чем в моей душе.
– Э-э, Жорка, плохи твои дела! – протянул Андрей и наполнил рюмки.
– Верно, стоит нам добавить, а не то слишком уж тягомотный разговор получается, – встряхнулся Георгий.
Они выпили без пожеланий, сумрачно и деловито. Старицкий крякнул и, усмехнувшись, спросил:
– А все же расскажи, как ты стал этим Рябининым? История наверняка была авантюрная.
– Хуже, почти мистическая. По своей воле я никогда бы не стал «товарищем Рябининым». Это знак судьбы…
С лета восемнадцатого года был я рядовым офицерской роты Первой добровольческой дружины «Народной армии» КомУча. Затем служил Верховному правителю [6]. К лету девятнадцатого в чине капитана командовал одним из полков каппелевского корпуса. Так что симпатий к большевикам не питал.
Когда в феврале двадцатого красные разбили наши части под Иркутском, остатки армии стали разрозненными группами пробиваться к Чите, на соединение с атаманом Семеновым. Жалкие крохи моего полка объединились с отрядом в тысячу сабель под командованием полковника Капитонова. Измученные постоянными стычками с партизанами и почти павшие духом, мы больше месяца скитались по тайге.
Чувствуя, что власть Колчака пала окончательно, крестьяне не давали нам ни хлеба, ни фуража. Приходилось менять на продукты личные вещи и обмундирование. У меня, например, не осталось ни кителя, ни портупеи, ни сменного белья. Под стареньким полушубком была только исподняя рубаха.
В марте совсем стало худо: к партизанам и войскам Иркутского ревкома присоединились регулярные части Пятой армии красных. Найдя хорошего проводника, мы оставили раненых в одном из сел и решились на прорыв. В том же селе, в заброшенном сарае, я спрятал свои маленькие реликвии – документы, письма, ордена и дневник, который вел последний год. Было у меня недоброе предчувствие – не хотелось, чтобы над дорогими мне вещами поглумились большевики.
И наступил тот самый день, пятница 20 марта 1920 года…
С утра мы нарвались на кавалерийский отряд красных, сабель в полтораста. Большевики были сильно измотаны в боях, везли в обозе много раненых и попытались уклониться от боя. Однако Капитонов приказал ударить по неприятелю. Красные были разбиты наголову. От пленных мы узнали, что они бойцы Пятой армии; вчера их кавполк принял бой с сильной частью белых двадцатью верстами севернее, но потерпел поражение и стал отходить кружным путем через тайгу к Иркутску.
Сведения о белых частях неподалеку нас ободрили – решили идти к близлежащей станции на соединение с нашими. Пленных тут же расстреляли и поделили нехитрые трофеи. Мне достался новенький «романовский» тулуп и медвежья шапка красного командира. Все последующие годы я старался вспомнить его лицо и не мог.
До станции дошли к вечеру. Разведка не обнаружила там ни наших войск, ни вражеских. Капитонов приказал занять станцию и прилегающий к ней поселок. На путях стояло несметное количество обгорелых и разграбленных вагонов, три теплушки с трупами белых и красных, вперемешку. Как только наш отряд подошел к зданию вокзала, из окон ударили пулеметы – на станции все же стоял небольшой красный гарнизон. Пришлось отбиваться и занимать оборону.
Капитонов не хотел ввязываться в драку, предполагая, что вдоль магистрали наверняка шатается немало частей неприятеля, однако наши «орлы» не послушались и приняли бой. Большевики, как оказалось, заранее послали за подмогой, и очень скоро в поселок влетел свежий конный полк. Капитонов скомандовал отступление. Я со своими людьми был в арьергарде. Мы отходили по маленькой улочке, когда рядом взорвалась граната…
О последующих событиях я узнал с чужих слов, в госпитале, а остальное домыслил. Капитонов вывел-таки наш отряд из поселка и скрылся в тайге. Красные последовали за ним. Я остался лежать у забора одной неизвестной мне женщины. Когда выстрелы стихли, она вышла, перенесла меня в дом и перевязала. Санитары красного полка собрали раненых и ушли вслед за своей частью.
В кармане моего полушубка добрая женщина нашла документы на имя комэска Рябинина и решила, что я красный командир. Как только утром жители поняли, что в поселке остались большевики, моя спасительница передала меня гарнизонному начальству. Положение мое ухудшалось: в груди засел осколок гранаты. Нужна была операция, а врача в поселке не нашлось. Ночью через станцию проходил красноармейский эшелон, на котором меня и отправили в Иркутский госпиталь. Шесть дней я был без памяти и, очнувшись, с удивлением узнал, что я Рябинин.
Поначалу я собирался бежать сразу после выздоровления. Однако вести с фронта приходили неутешительные. Регулярные колчаковские части были окончательно разбиты, а их остатки присоединились к войскам Семенова. Атамана Семенова я недолюбливал и считал больше бандитом, нежели истинным бойцом с Советами. Мне оставалось два пути: либо служить коммунистам, либо пробираться за кордон.
Чем заниматься за границей и на какие средства там существовать, я не имел представления. В одной палате со мной лечился некий Сазонов, видный большевик-подпольщик и друг предсибревкома Ширямова. Мы сошлись за игрой в шахматы. В июне, когда я уже числился выздоравливающим, Сазонов пристроил меня в военкомат, где требовались грамотные кадры. Мне выделили крохотную каморку рядом с дворницкой и дали рабочий паек. В июле, от имени военкома я послал запрос в штаб Пятой армии с просьбой выслать документы на Рябинина А. Н. Вскоре пришел пакет, и я смог познакомиться со своей новой биографией. Его судьба в чем-то напоминала мою: двумя годами моложе, с 97-го года, воевал на германской. Отец Андрея погиб в бою, мать умерла от тифа. Других родственников не имелось. Ничто не мешало мне оставаться Рябининым.
В сентябре медкомиссия признала меня годным к строевой службе. Регулярных красных частей в то время в Сибири оставалось немного, а новообразованная Народно-революционная армия Дальневосточной республики формировалась из партизанских отрядов. Вот меня и послали обучать их воинской науке.
Так и началась моя служба власти, с которой я воевал полтора года.
Моя красная кавбригада славилась сильной комсомольской ячейкой, а Рябинин был членом Союза с восемнадцатого года. Пришлось включаться и в общественные дела.
В конце октября случился забавный эпизод: в Москве созывался съезд РКСМ, а делегат от кавбригады заболел воспалением легких. Не знаю почему, но ячейка откомандировала на съезд именно меня. Может, оттого что я был (судя по анкете) старинным членом организации? И вот, в ноябре двадцатого, в составе сибирской делегации я попал в Москву на комсомольский съезд! На одном из заседаний перед делегатами выступал Ленин. Я сидел недалеко от сцены и хорошо рассмотрел злого гения российской истории. У него было болезненное землистое лицо с россыпью веснушек и воспаленные глаза, постоянно прищуренные – следствие ранения и сильнейших мигреней. Вождь пролетариата был невысок и мелок. Голова тем не менее казалась огромной из-за высокого лба и лысины.
Встретив подобного типа на улице, я счел бы его крайне заурядным, однако речь Ленина производила впечатление замечательное. Он говорил просто и доходчиво, строил фразы, основываясь на железной народной логике, обильно сдобренной марксистскими идеями. Не удивительно, что Ленин сумел поднять людские массы и повести их на захват власти! Среди наших горе-демократов и «военных гениев» я таковых не встречал. Именно тогда я понял, что сила большевиков не только в прагматизме и наглом обмане всех и вся, но и в железной воле, сосредоточенной в этой упрямой голове, в понятной и непогрешимой идеологии.
Кавбригада, в которой я служил, еще до конца не сформировалась, но уже помогала в разгроме остатков белоказачьих банд. Мы гонялись за ними по тайге, «выкачивали» у крестьян хлеб. Во время одного из походов мой эскадрон заночевал в том самом селе, где отряд полковника Капитонова оставил раненых, а я спрятал свои маленькие реликвии. Полуразрушенный сарай на окраине так и стоял в запустении, отыскать под стеной шкатулку было нетрудно. Мои награды, письма и дневник оказались нетронутыми.
Зимой двадцать второго года остатки колчаковской армии ударили по войскам Дальневосточной республики. Большевики только того и ждали – было уже достаточно сил для захвата всего Приморья. Предстояло повоевать с бывшими товарищами по оружию. В душе я понимал, что их борьба бессмысленна, что теперь на стороне Советов весь российский народ, что падение правительства Колчака освободило меня от присяги и что худой мир лучше доброй ссоры, однако решение мне далось непросто.
…Самые горячие бои шли в феврале двадцать второго под Волочаевкой. Так получилось, что мой эскадрон прорвался в тыл противника и отрезал выход к железной дороге. В сущности, это была обычная армейская работа, которую я выполнял с шестнадцатого года. И все же наш прорыв сочли подвигом, и меня наградили орденом Красного Знамени. Сам я искренне считал, что довел до конца дело красного прапорщика Рябинина. Это была его награда.
Вручал мне орден лично командарм Блюхер. Он отчего-то проникся ко мне доверием и предложил командование полком. «Мельтешить» среди старшего комсостава не хотелось, и я попросил послать меня на «ответственный и достойный коммунара участок» – укреплять границу. Рябинин должен был затеряться в глуши.
Меня назначили командиром кавотряда, приданного погранзаставе. Служба оказалась хлопотной: в Китае скрывались белоказаки и наши неугомонные офицеры. В одной из стычек меня сильно приложили шашкой по голове, и я попал в лазарет.
Пока я лечился, у командования «сложилось мнение», будто товарища Рябинина стоит «выдвинуть наверх», доверив ему полк или какой-нибудь штаб. Тут я и смекнул, что пора из армии уходить. На консилиуме медиков я ссылался на плохое самочувствие, постоянные головные боли и был признан негодным к строевой… Вот такая история.
– Увлекательный рассказ, – улыбнулся Георгий.
– Не одобряешь моего решения? – Андрей искал глаза друга.
– Вовсе нет. Ты принял правила игры, – Старицкий приподнял со стола бутылку. – У-у, мы с тобой неплохо потрудились!
– Придется спуститься в трактир – закуска тоже на исходе, – подхватил Рябинин.
– А пойдем-ка ко мне! – предложил Георгий. – Там мы никому не помешаем, запасы у меня в подполе такие, что и осаду хватит пересидеть, да и на «Ленинец» тебе с утра поближе топать.
– А перины у тебя мягкие? – лукаво сощурился Андрей.
– Может вам, барин, и девку дворовую на ночку привести? – расхохотался Георгий.
– А что, имеются?
– Оплошали, сударь, не держим-с! – картинно развел руками Старицкий. – Подъем, товарищ командир!
– Одну минуту, Жора, – Андрей остановился у сундучка. – Я дам тебе мой дневник. Писал-то, брат, для тебя.
Он достал толстую тетрадь в кожаном переплете и сунул Георгию:
– Как прочтешь – сожги. Больше мой дневник никому не понадобится.
Глава III
Старицкий жил в Николопрудном переулке, недалеко от улицы Красной армии. Тусклый свет фонаря на углу выхватывал из темноты крепкие глухие заборы, за которыми угадывались крыши домов.
– Соседи у меня люди добротные, – рассказывал Георгий. – Не богатеи, конечно, но зажиточные.
Они подошли к двухэтажному особнячку. Первый этаж был кирпичным, второй срублен из бревен.
– Внизу лавка, наверху мое жилище, – Георгий указал на вывеску «Бакалея Старицкого».
– А где пекарня? – спросил Андрей.
– На задах.
Они остановились перед кованой дверью. Георгий потянул за кольцо, и где-то вдалеке послышался негромкий звонок.
– Хто там? – раздался за дверью низкий хриплый голос.
– Это я, Афанасий, – отозвался Старицкий.
Дверь без скрипа отворилась, и перед друзьями возник суровый бородач с лампой в руке. Привратник пропустил гостей внутрь, задвинул засов и пошел впереди, освещая дорогу. Дойдя до высокого крыльца, мужик пожелал «господам» доброй ночи и удалился.
Старицкий и Рябинин поднялись наверх и очутились в темной передней. Пахло сухой древесиной и свежим хлебом. Георгий взял Андрея за руку, втащил в комнату и щелкнул выключателем.
– Тут у меня гостиная. Располагайся, а я пойду Тимку растолкаю.
Андрей огляделся. В просторной горнице, обставленной дорогой мебелью, по едва уловимым приметам угадывалось отсутствие женской заботы.
Вернулся Георгий в сопровождении заспанного парнишки лет тринадцати.
– Вот, Тимка, знакомься: Андрей Николаевич, друг мой старинный, – сказал Старицкий.
Тимка моргнул и поклонился.
– Тащи-ка студню с хреном, телятину, холодного осетра, водочки с ледника захвати, да щей разогрей, – распорядился Георгий и спросил друга: – Щец вчерашних отведаешь?
– С удовольствием, – кивнул Андрей.
Они уселись за стол под огромным расписным абажуром.
– Отменную я отыскал повариху, не нарадуюсь, – похвалился Георгий. – Уж так стряпает, что язык проглотишь!
– Ты, я вижу, живешь на широкую ногу.
– Одинокому мужчине нужен уход.
– Отчего ж не женился при таком достатке?
– Да как тебе сказать?.. – Георгий опустил глаза. – Наверное, дурь из головы еще не выветрилась, хочется пожить в удовольствие. А ты?
– Пока тоже не получилось. А вот девушка любимая есть. Может, что и образуется, время покажет.
– Любопытно, кто же она? Осколок минувшего, новая буржуазка или идейная пролетарка?
– Да нет, тут случай особый, – в свою очередь смутился Андрей. – Судьба и здесь надо мной иронизирует. Она дочь Черногорова.
Лицо Георгия застыло в напряженном недоумении, уголки губ брезгливо опустились, будто он увидел мерзкую жабу. Андрей был готов к подобной реакции.
– Когда мы познакомились, я и не знал, кто она и откуда, а потом это перестало иметь значение. К тому же Полина и ее отец во многом разные люди.
– А я уж… – Георгий хмыкнул и прочистил горло, – …признаться, подумал, что ты ради карьеры…
Он попытался улыбнуться, но получилась лишь неприятная гримаса:
– Значит, действительно влюбился, если полез в волчье логово?
– Говорят: любовь зла, – пожал плечами Андрей.
Старицкий задумчиво нахмурил брови:
– Подожди-ка, черногоровская дочка… Этакая каталонская красавица? Востроносенькая, да?
– Ага.
– Мне ее показывали, припоминаю. Она как будто в детдоме работает?
– В школе, учительницей.
– В шко-о-ле… – протянул Георгий, глядя куда-то в сторону.
Вдруг он рассмеялся и хватил друга по плечу:
– Она у тебя пикантная и необъезженная особа! Хвалю за смелость.
– Оставь свои казарменные штучки, – поморщился Андрей. – Это не интрижка с полковой кокоткой!
– Ладно, не гневайся. Я и в самом деле рад за тебя. Даже завидую, – смягчился Георгий. – Любовь облагораживает душу.
Явился Тимка с подносом в руках:
– Щи уже на подходе, счас принесу.
– И свежего хлебца не забудь, – наказал Старицкий.
* * *
– Вот, погляди, – сказал Георгий, снимая со стены вправленный в рамочку документ. – Мое почетное право на проживание в достославной Стране Советов!
Под стеклом оказалась немного помятая бумаженция, свидетельствующая, что тов. Старицкий, бывший партизан, получил тяжелое ранение в боях с белополяками и считается инвалидом войны.
– Важнецкий документ! – покивал Андрей. – Однако, зная твою изворотливость, подозреваю, что липа.
– Обижаешь! – развел руками Георгий. – Документик подлинный.
– И как же ты это дельце обтяпал?
– Представь себе, тоже знак судьбы! В конце весны двадцатого занесло меня на северную Украину. Тогда большевики воевали с Польшей, и я решил перейти фронт, а затем добраться до Франции. Сдаваться в плен было нельзя – поляки переправляли всех русских до выяснения личности в лагеря, сидеть же за колючкой не хотелось. Запасся я кипой фальшивых документов на все случаи жизни и лесами пошел на Запад.
Ко мне примкнули полдюжины таких же авантюристов: офицерики, юнкера и прочий сброд. По пути встретился партизанский отряд, промышлявший в тылах польских войск. Представился я им чекистом, показал нужные бумаги. Партизаны должны были неплохо знать места дислокации белополяков, что могло мне пригодиться.
Пожили мы у коммунаров несколько дней, отдохнули. Относились к нам сносно, но с недоверием. Тем временем Красная армия начала стремительно наступать, и фронт вплотную приблизился к нашему лесу. Неподалеку был городишко, там стоял польский полк. Партизанский командир Ковтун задумал помочь продвижению Красной армии и ударить по белополякам с тыла. Городские большевики-подпольщики обещали помочь, подняв в назначенный день восстание. Ковтун вызвал меня к себе в землянку и спросил, могу ли я проявить себя как истинный коммунар. Я, конечно, согласился.
Командир поставил мне и моим спутникам задачу: пробраться в город, связаться с подпольем и подготовить захват штаба польской части. Значимость штаба состояла не только в том, что в нем хранились военные документы, – в штабе поселился банкир из Гомеля, имевший при себе значительные средства. Ковтун опасался, что деньги могут эвакуировать, и поторапливался с выступлением. Ночью мою «особую группу» тайно провели в город. Подпольщики рассказали, что штаб охраняет хорошо вооруженный отряд поляков, и на успех операции особо не рассчитывали.
Я предложил им план: в день наступления партизан и начала восстания в городе ударить по штабу небольшим отрядом подпольщиков и завязать бой. В это же время моя группа должна ворваться в здание с тыла. Дерзкая неожиданность вполне могла компенсировать нам численный перевес противника. В назначенный час мы выступили. Штаб и хранилище были захвачены, поляки выбиты из города, и вся большевистская братия стала с ликованием поджидать прихода Красной армии. Ей приготовили ценный подарок в качестве хлеба-соли – милый городок на блюде и около четверти миллиона франков в придачу.
Ковтун поверил в мою преданность делу революции бесповоротно и поминал добрым словом на каждом митинге. Так я и стал героем уездного значения.
Дня через два в город вошли регулярные части Красной армии. Надежда бежать на Запад рухнула. По рекомендациям Ковтуна я остался при местном ревкоме. Поболтавшись в этом милом заведении некоторое время, сумел выправить выгодные документы и отправиться к «месту постоянного проживания».
– А что же было потом? – спросил Андрей.
– Поездил по стране, занимался всякой всячиной, наконец осел здесь.
– Однако интересно, почему ты оставил «добровольцев» и не ушел в Крым, к Врангелю?
Старицкий изобразил гримасу застарелой зубной боли:
– К зиме двадцатого Добровольческой армии уже не существовало. Впрочем, если тебя занимает эта тема, как-нибудь расскажу. А сейчас пора на покой. Тимка приготовит горячую ванну и постель в комнате для гостей. Тебе нужно отдохнуть с дороги. Ложись, а я почитаю твои фронтовые записки.
* * *
Георгий передал друга в заботливые руки Тимки и вернулся в гостиную. Опустив абажур пониже, он открыл старенькую тетрадь в кожаном переплете:
«Моему другу,
Георгию Старицкому.
18 июня 1919 г. Прежде я никогда не вел дневников, считая записки уделом литературных и скрупулезных людей. И только отчаянное стремление донести правду о происходящих событиях побудило меня обратиться к этой тетради. Говорить о случившемся со своими товарищами я не могу: они, подобно мне, растеряны и подавлены, в их сердцах такая же мучительная боль, и беседовать с ними означает бередить кровоточащую рану.
Вот уже год, как я воюю за свободу и честь Родины. Настала пора подытожить свой путь. Еще прошлым летом начался наш славный поход против узурпаторов и предателей Отчизны. Только вчера мы разгоняли их шайки, будто стаи злобных собак. Разве они были демократами и борцами за справедливость? Нет! Ими были мы – солдаты Народной армии. Словно гвардейцы Конвента, носили мы алые кокарды и агитировали крестьян, с гордостью твердили о братстве и сознании народа. И кому все это было нужно?
Комитетчики из членов Учредительного собрания по привычке мельтешили и спорили; мужик лелеял в поле урожай, а Советы исподтишка прибирали власть. Только педантичные и жестокие чехи помогли нам перестать играть в романтичных якобинцев. Помнится, на параде в Симбирске один из чешских офицеров, презрительно поглядев на мою санкюлотскую кокарду и красный бант, бросил Каппелю: „Долго ли ваши офицеры будут носить эти гадкие регалии?“ Недолго носили. Вскоре все вернулось на круги своя: и благословенные погоны, и боевые награды, и твердая власть. Воинство наше верило и надеялось, однако мне приходили на ум мысли самые мрачные и нерадостные. Наряду с военными успехами и продвижением на запад все больше и больше возникало ощущение близкого конца и бесперспективности нашей борьбы. Большевики держались крайностей и радикализма, это был их способ сохранить власть.
Белая армия поступала подобным же образом, преследуя, правда, совершенно другие цели. Коммунары топили баржи с русскими офицерами в Волге – мы не отставали; они расстреляли семью Императора, но и мы не уходили далеко – безжалостно жгли ревкомовцев в паровозных топках и рубили в капусту шашками. Смерть стала мерилом человеческих отношений, а кокаиновый и самогонный бред единственной возможностью мыслить. Невесть откуда, из каких-то гнилых углов и щелей, повылазил несметный легион кровопийц и ревнителей адского куража.
Ну, можно ли было представить себе, что министр финансов Сибирского правительства получит в народе и войсках прозвище Ванька Каин?
И Аракчеев, и Бенкендорф, и Лорис-Меликов, и Победоносцев – те, коих вольнолюбивые либералы честили самыми последними словами, перевернулись бы в гробу, узнав, какие бесчинства творили их преемники в правительстве Колчака!
И все же мы надеялись. На что? Да на абсурдный и спасительный русский авось, на самосознание народа, на совесть…
Осенью восемнадцатого дивизию вывели на передислокацию в Челябинск, а мой полк попал на переформирование в Омск. Столичная жизнь предстала передо мной во всей красе. Правительство оказалось сборищем батыевых князьков, а Ставка – Золотой Ордой. Подобно татарским баскакам, наши генералы собирали ясак с подвластных земель, ходили по городам и весям усмирительными походами. Мне поручили формирование полка, и я разъезжал по селам с мобилизационной командой. Впервые, с ужасом и горьким стыдом, я услышал, что нас называют карателями. Нас, русских людей, защитников Отечества! Может быть, наши генералы и представляли себя новыми крестоносцами и служителями высшей цели, но на деле выходило иначе. От одного сибирского крестьянина я услышал: „Ну, случилось, что брат мой подался в партизаны, так я-то при чем? Почто меня шомполами пороть и избу палить? Апосля такова дела и я в лес уйду!“
Так вот, нагрузили мы телегу непосильной ношей, раскачали да и столкнули ее с горы. Понеслась она вниз без остановок и разбилась-таки в щепки.
Десять дней назад, 8 июня 1919 года, войско наше было разбито в боях на Красном Яру, у реки Белой, и уже на следующий день мы оставили Уфу и покатились на восток.
Стойкая, испытанная в сражениях чапаевская 25-я дивизия красных сломала новобранцев корпуса Каппеля. Можно ругать последними словами трусость необученных мужиков и предательство 6-й дивизии, но разве это утешает? Несмотря ни на что, я преклоняюсь перед командирами 25-й, которые под нашим шквальным огнем сумели поднять людей, форсировать реку и опрокинуть боевые порядки корпуса. Честь им и хвала!
Я хорошо помню тот день. С утра наша артиллерия била по позициям врага. Канониры старались, да и цели были неплохо пристреляны. Однако красных охватил какой-то отчаянный ажиотаж, тот, что случается в безвыходной ситуации и которого у наших новобранцев не оказалось. Вновь и вновь мы отбрасывали большевиков назад, а они все лезли и лезли, будто ни пуля, ни штык, ни снаряды их не брали.
Они собрали все плавучие средства, все баржи, плоты и суденышки и упрямо двигались к нашему берегу. Я бегал вдоль цепи и подбадривал своих бойцов, понимая, что они не выдержат. Ночью я вспомнил Толстого, его размышления о духе армии. Когда-то побежденное, но не сломленное под Аустерлицем, войско взяло верх под Москвой. Увы! В наших рядах не было капитанов Тушиных, а ежели и были, то они растворились в массе испуганных и подавленных подчиненных. На рассвете я обнаружил, что половина окопов пуста. Мои „герои“ вплавь переправились к неприятелю. Что ж, чем с тревогой ждать пули в бою, лучше получить ее в чекистском застенке.
Еще вечером Каппель решился на отчаянный шаг – повести в атаку офицерские батальоны. С нарочным я послал Владимиру Оскаровичу записку: „Можете меня расстрелять, но поздно!“
С восходом офицерские колонны в парадной форме, при орденах, молча двинулись на врага. Мы, „серая масса“, следом. У красных было до непривычного тихо, так, что я начал подозревать, не оповещены ли они о наступлении? При таком количестве перебежчиков – наверняка.
Я ходил в „психические атаки“ с июня восемнадцатого. И эта была последней. Наши не успели даже снять винтовки – красные подпустили шеренги поближе и ударили из пулеметов. Большевики знали, они готовились. Я вспомнил о подобной трагедии, когда в 1915-м на германском фронте на пулеметы пустили кавалергардов…
Горячая безжалостная коса прошлась по блестящим офицерским колоннам каппелевского корпуса. Поручик Ельников упал прямо мне под ноги, кровь хлестала горлом, глаза умоляли. О чем? О сострадании, о пощаде? „Мизеркордии“ [7] были не в ходу в войсках Колчака.
Мои „серые герои“ дрогнули и помчались назад. Я отбросил толстовские философии (к тому же и небо было низким и не впечатляющим). Во мне проснулся римский центурион с его крысиной злобой и жестокостью. Я бросился за подчиненными, ругая их и разворачивая назад; пристрелил Струмилина, паникера-заводилу, и хватил парочку наганом по спине. Тщетно.
К обеду от полка остался десяток потомственных идиотов и полсотни солдат. Наверное, свежим ветром с противоположного берега мне передалось ощущение возбуждения и безысходности. Я рассказал подпоручику Дмитриевскому последний анекдот и залег за пулемет. Эх, был бы „вторым номером“ Жорка Старицкий, а не безусый Дмитриевский! Подороже бы отдали жизни.
А игра у нас вышла с красными чудная! Вспомнился Суриков, оборона снежной крепости и веселое детство. Дмитриевский правил ленту и орал: „Справа! Лево тридцать! Ага! Вот вам!“, а я поливал мелкие игрушечные фигурки свинцом. „Максим“ дымился, дышал в лицо смрадом горячего железа и пороха, я же, впившись в гашетки, упрямо читал:
Россия – сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя
И с ненавистью, и с любовью!..
Боже, почему я не умер? Воистину, красивая была бы смерть! В момент, когда Дмитриевский менял ленту, я посмотрел в сторону и увидел глаза Мижонова, своего солдата. Он свернулся калачиком на дне окопа и наблюдал за мной. „Безумец, он свихнулся!“, говорил его взгляд. Дмитриевский заметил, как мы переглядываемся, и бросил Мижонову: „Смотри, трус! Где еще увидишь, как умирают русские офицеры!“ Он загорланил было: „Как ныне сбирается вещий Олег…“, но две тяжелые пули разорвали ему грудь. Дмитриевский вскочил на ноги, светло улыбнулся и повалился на пулемет. Кровь подпоручика зашипела на горячем кожухе, в ноздри ударил сладковатый запах. „Живо подавай ленту!“ – скомандовал я Мижонову, но тут явился вестовой и передал приказ Каппеля об отступлении. Мы оставили позиции и ушли далеко за Уфу. Командование решило сберечь остатки корпуса и спешно отвести нас в тыл.
Теперь мой „полк“ (32 человека, из них 8 офицеров) стоит в башкирской деревеньке. В бархатной звенящей ночи девки поют переливчатые песни. Хочется выйти на крыльцо, потянуться с хрустом в костях и помянуть окружающую благодать. Хотя бы на мгновенье… Иначе можно сойти с ума.
19 июня. Сегодня, после долгого лечения в омском госпитале, вернулся капитан Лебешев. Он привез мне весточку от Ксении. В письме, как всегда, много политики и мало жизни. Меж строк так и сквозит усталость и раздражение. Новости отнюдь не новы: извечные споры Колчака с союзниками, надежды на новых „военных гениев“, „ужасные“ слухи об успехах партизан. Омское общество обеспокоено полным разложением чешских легионов: в расположениях частей процветает беспробудное пьянство, кутеж и дикие оргии. По словам Ксении, шлюхи поселились в казармах, и офицеры даже попытались поставить их на продуктовое довольствие. Взбешенный комендант решил было навести порядок, однако встретил ожесточенное сопротивление чехов. Пытались даже стрелять. Гайда кричит о заслугах своих солдат перед Россией и хочет увести легионы во Владивосток для эвакуации в Европу.
Конечно, неплохо, когда известия доходят до передовой быстро, однако каждому фронтовику хочется получать из тыла добрые новости, а ежели таковых нет, то уж хотя бы немного сердечного тепла. Впрочем, строго судить Ксению грешно, она и без того существо измученное и сама нуждается в поддержке.
Мы познакомились полгода назад в Омске. Новобранцы топтались по плацу, палили по мишеням, а мы, командиры, бегали вслед за ними, надрывая глотки и сбиваясь с ног.
Был морозный январский вечер. С темного неба, будто из бездонного мешка, падал крупный снег.
Я шел по улице мимо здания английской военной миссии, где тем вечером давали бал. На крыльцо парадного выпорхнула девушка. Она явно была не в духе: шубка расстегнута, брови нахмурены. Незнакомка поискала глазами извозчика и остановилась на мне. Очевидно, ее внимание привлек мой усталый, но безмятежный вид. „Мадемуазель, вы простудитесь!“, – шутливо предостерег я. „Ах, простите, капитан, там нестерпимо душно!“, – ответила она и презрительно махнула рукой в сторону парадного.
„И все же лучше застегнуться“, – заметил я.
„В таком случае не откажите в любезности проводить меня до дома“, – предложила девушка. Она была симпатичной и вызывающей: тонкая, словно туго натянутая струна; глаза шальные, с дико расширенными зрачками; пухлые нервные губы как кровавое пятно.
„Сочту за честь сопровождать вас“, – козырнул я. По дороге она рассказала, что повздорила с лейтенантом Каннингом. Англичанин ангажировал девушку на мазурку, но должным образом станцевать не сумел, чем вызвал насмешку партнерши. Задетый за живое, немного нетрезвый, Каннинг заявил, что „мода на мазурки“ скоро пройдет, да и вообще русским пора перенимать европейские привычки.
Заявление англичанина вызвало бурный спор, и в итоге Каннинг сказал, что начиная с варягов до нынешних времен русским только тогда жилось хорошо, когда они слушались советов Запада. Услышав подобное, недавняя партнерша Каннинга попросила знакомого есаула вызвать англичанина на дуэль. Офицеры Ставки замяли скандал, а обиженная спорщица в сердцах покинула залу и, наспех одевшись, выбежала на улицу.
Ее звали Ксенией, и была она дочерью доктора Реутова, советника генерала Иванова-Ринова. Ксения отличалась живым умом и начитанностью, однако слишком много говорила о большевизме и белом движении. Первое вызывало у нее жгучую ненависть, последнее же глубокое презрение. Мне, офицеру-фронтовику, мнившему себя бравым воякой, хотелось бурных тыловых приключений. Страстная, экзальтированная патриотка показалась для сего предприятия весьма заманчивым объектом. Я напросился в гости, и вскоре между нами завязался роман.
Очень быстро я понял, что Ксения ненавидит коммунистов с той же силой, сколь любит кокаин. Увлечение „серебряной пылью“ – явление широко распространенное и никого не удивляет. Однако ежели до революции „пудрить нос“ было модным, то теперь это – способ не думать о происходящем, иллюзорная попытка сохранить разум. Поначалу я радовался нашим отношениям, – Ксения восхищала меня своей страстностью и ошеломляющим цинизмом. Но вскоре мне стало скучно. А для тылового сплина лучшее исцеление – фронт. Я понял, отчего скучающие армейские ловеласы с ребячьей радостью стремятся вернуться на передовую.
Полученное сегодня письмо вдруг явственно показало мне, отчего мы терпим поражения, а вскорости и вовсе должны проиграть. В отличие от большевиков, у нас нет крепкого тыла, опоры любого воинства. Только склоки, брожение, самовольность, отсутствие веры и поддержки. У белого войска нет могучей силы, есть только яростная ожесточенность и хмурая приверженность долгу.
22 июня. Мой новый полк целиком состоит из офицеров. Дали и нового командира – полковника Собакина. Я при нем начальник штаба. Фронт неуклонно приближается. Лошадей и фураж добываем с великим трудом. Помогают „крепкие“ мужики (кулаки). Они, бестии, сильно страшатся прихода большевиков. Вчера в селе Узеевка неизвестные перебили наш дозор, погиб мой старинный приятель, ротмистр Барвинов. С ним мы бились бок о бок еще у Нижнего Услона, под Казанью, летом восемнадцатого. Пришлось подымать эскадрон и учинять следствие. Селяне выдали зачинщика бунта и снабдили провиантом.
К вечеру явился поручик Лапин из дивизионной контрразведки, с ним рота карателей. Расстреляли тридцать человек, а главного бунтовщика Лапин приказал повесить на сельской площади. Мужик был уже полумертвым от побоев, когда его волокли к виселице. Какой-то унтер со звериной рожей шашкой стал рубить мужику кисти рук. Рубака из него оказался никчемный, и дело не клеилось. Бунтовщик хрипел, обливаясь кровью, и взбивал пыль раздробленными руками. Мне стало тошно, и я приказал Лапину побыстрее кончать экзекуцию, в противном случае пригрозил мужика пристрелить.
24 июня. Красные силами двух дивизий вышли к нашим позициям на р. Уфа и Юрюзань. Авангард противника сбил заслоны у села Айдос и обеспечил переправу главных сил у села Урус-Бахты. Как ни старалось командование, как ни перегруппировывало войска, а создать оборонительный рубеж не удалось! Части и без того измотанного Уральского корпуса оказались растянутыми по фронту и неспособными сопротивляться. Мой полк стоит в четырех переходах от передовой, и, ежели обстановка не изменится, к концу июня мы вновь увидим красных.
25 июня. Командование спешно подымает резервные дивизии, в том числе и I Волжский корпус ген. Каппеля.
27 июня. Красные много и успешно маневрируют по кряжистой безлюдной местности. Помятый Уральский корпус отчаянно отбивается, но уже потерял инициативу и рискует попасть под фланговые удары 26-й и 27-й дивизий противника. Мы бешеным маршем идем на выручку.
28 июня. Сегодня меня вызвали в штаб дивизии и приказали принимать командование Отдельным кавполком. Начальник штаба дивизии объяснил задачу: со дня на день Уральский корпус начнет быстро откатываться назад, красные не преминут начать преследование, растянув свои боевые порядки по труднопроходимым горным дорогам. Кавполку надлежит сделать фланговый маневр и рассечь красные части. В полк входят офицерский драгунский эскадрон (80 сабель) и семь сотен казаков. Я попытался было отказаться, сославшись на то, что мало знаком с кавалерийским делом. Начальство и слушать не стало – помянули мой опыт разведки на германской и знание противника. Пришлось принимать полк.
1 июля. Вторые сутки идем по тылам красных. В стычки с разъездами большевиков стараемся не вступать. Отдыхаем и питаемся наспех, не заходя в села. Офицерский эскадрон ведет себя весьма похвально. Новичков и молодежи почти нет, здесь ветераны-брусиловцы, два бравых драгуна – полные кавалеры „золотого“ Георгия. Казачки пышут злобой, рвутся в бой и грабежи. Пока удается их сдерживать.
2 июля. Вышли на подступы к селу Насибаш.
В пяти верстах наша 12-я дивизия Уфимского корпуса остановила продвижение 26-й дивизии красных. Взял полусотню хорунжего Раськова и сам пошел в разведку. У красных не более трех полков, остальные части 26-й растянулись на марше.
Вернувшись, приказал есаулу Пальному с двумя казаками пробираться в штаб 12-й и передать план совместного наступления. Пальной – местный житель, и я надеюсь, что он сумеет добраться до наших.
3 июля. 12-я дивизия совершила удачный маневр и начала охватывать противника с флангов. Красные попытались отступить и закрепиться, однако мой полк ударил с тыла. Условия местности не позволили развернуть лаву, пришлось наступать двумя колоннами. Неожиданный натиск имел успех: красные были окончательно окружены. Взяли две дюжины пленных. Казаки деловито, без гнева и криков, вновь обнажают шашки. Я понимаю, что боеприпасов мало, возиться с виселицами нет времени. Приказываю хотя бы похоронить казненных.
5 июля. Вернулся Пальной. Он потерял казака и сам получил легкое ранение. Рассказывает дурные новости: 4-я дивизия Уфимского корпуса запаздывает и наверняка не успеет прийти к нам на помощь. Между тем из горных проходов к окруженной 26-й дивизии красных подтягиваются части 27-й дивизии. Мои бойцы очень устали; кончается провиант, почти нет воды.
Отрываем заваленные и прогнившие колодцы, добываем со дна грязную водицу. Подходы к реке сильно обстреливают красные. Вчера доставили пять бурдюков и потеряли трех человек. В немногочисленных казачьих хуторах пепелища, запустение и горы трупов по амбарам. Уцелевшие жители рассказывают о расправах большевиков над семьями казаков. В одном местечке нашли распятого старика, череп которого прорубили топором. Пальной признал в нем известного в округе ветерана русско-японской войны.
6 июля. Ночью отразили попытку прорыва большевистских частей. У нас большие потери.
7 июля. Пробился вестовой с приказом отойти для выравнивания линии фронта. Каппелевский корпус вышел на одну высоту с Уфимским, выбив зашедшие с тыла два полка правой колонны красных. Рейд моего кавполка заканчивается. У нас 65 погибших и 118 раненых. 36 из них умерли от жары и отсутствия медикаментов. Остальных предстоит доставить в тыл. Боеприпасов по десятку патронов на человека, да и маневренность наша ограниченна.
10 июля. Вышли в тыл корпуса без потерь. Приезжал Каппель, подарил шашку с Георгием, шутя называл меня „записным кавалеристом“. Фронт на нашем участке выровнялся и вполне стабилен, однако напряжение здесь отвлекло внимание от других направлений, и еще 4 июля 2-я армия красных взяла Красноуфимск. Противник создал мощный кулак из двух дивизий и готовится к прорыву.
13 июля. Сдерживать удары большевиков не представляется возможным. Наша армия оставила Златоуст и пятится назад.
14 июля. Части 2-й Красной армии Шорина взяли Екатеринбург. Началось бешеное отступление. Многие части бросают позиции без приказа и катятся к Челябинску. Ставка приказала организовать оборонительный рубеж на р. Тобол.
21 августа. Больше месяца провели в переходах и переформированиях. Армия сумела оторваться от противника и организовать ударный кулак на р. Ишим. Красные, как всегда, опережают. Они быстрее подготовились к наступлению и уже вчера сумели нас атаковать.
Колчак объявил новую мобилизацию, однако она идет медленно. Крестьяне опасаются неудачи, бегут в леса, где попадают под влияние партизан. Как пишет Ксения, в глубине Сибири множатся и завоевывают все новые плацдармы отряды повстанцев. Розанов ходит карательными рейдами, чем еще больше ожесточает население. Третьего дня я имел разговор с подполковником Тимашовым, деятельным кругленьким добрячком и выпивохой. Тимашов поведал о том, что тыловые части потребовали снабжения на 300 тысяч войска, тогда как на фронте у нас менее двадцати. Подобное соотношение „преторианцев“ и боевых частей просто сводит с ума. На передовой остались самые стойкие и проверенные дивизии, однако сколько можно тасовать одну и ту же колоду?
Для усиления фронта и начала наступления сформирован 7-й корпус сибирских казаков. Именно на него командование делает главную ставку. Впрочем, те, кто воюет с восемнадцатого года, сомневаются в длительном успехе казачьих войск. Мы знаем их „тактику“ слишком хорошо! Казачки упорно сражаются лишь вблизи родных мест, а при удалении от них на значительное расстояние пыл вольной конницы улетучивается.
Сейчас „сибирцы“ поняли опасность прихода на их земли большевиков и поднялись на борьбу.
А случись нам отбить красных и погнать их к Волге, казаки вновь вернутся к своим куреням. Казак, по сути дела, тот же мужик-пахарь, ленивый, тяжелый на подъем и крайне недисциплинированный. Казаки больше приспособлены к разведке и стремительным налетам, нежели к длительному походу.
1 сентября. Подошли „сибирцы“, наступление началось.
2 октября. Весь прошлый месяц вели упорные бои, и наконец нам удалось выбить красных за Тобол. Ходят слухи, что в Ставке настоящее ликование. Каппелевский корпус получил небольшое пополнение: полк новобранцев и полсотни добровольцев. Мы с Пальным были в штабе корпуса и посмотрели на них: совсем юные деревенские парни, тонкие цыплячьи шейки и испуганные глаза. Воины! Союзники одели их в новенькие шинели и круглые шлемы с наушниками. Пальной смеется, но смех его горький.
9 октября. На фронте затишье. Офицеры занимаются муштрой рядовых, отсыпаются и гарцуют на виду у большевиков. Те из-за реки лениво постреливают. Пользуясь случаем, по тылам лютует контрразведка, вылавливает по глухим селам дезертиров и сочувствующих большевикам. „Особые отделы“ красных, в свою очередь, засылают к нам диверсантов и агитаторов. Вчера подорвали полотно железной дороги, сегодня задержали двух подозрительных в расположении моего полка.
14 октября. 50-я армия красных неожиданно атаковала правым флангом наши позиции. Большевики перешли Тобол и прорвали оборону. Мой полк в составе конной дивизии сибирских казаков перебрасывают для прикрытия тыла.
19 октября. На рассвете шли развернутым маршем вдоль р. Ишим. Разведка донесла о коннице противника. Развернули лаву, упирая левый фланг в берег. Мой полк стал в центре, два полка „сибирцев“ по флангам. Из рассветной зыби показался темный серп вражеской конницы. Утро выдалось промозглое, лошади выдували клубы пара. У меня внутри все сжалось в щемящий нервный комок, я приник к конской гриве и стиснул седло коленями. Ближе, ближе… Красные загорланили „ура“, мы подхватили. Шашка на отлете со свистом режет воздух.
И вот передо мной стена из лошадиных голов и сверкающих клинков. Лица в тумане, не разобрать, да и неохота. Главное не смотреть вниз и по сторонам, только вперед. Я наскочил на красноармейца на сивом коне. Взяв чуть вбок, направил моего Царедворца на таран. Красноармеец попытался достать меня шашкой, но угодил под своего коня. Добивать некогда, в трех шагах нависает здоровенный парень. Сшибка. Успеваю отразить удар, осадить Царедворца и круто повернуть назад. Конь противника идет левым боком, не успевает развернуться. Догоняю, привстаю на стременах и сверху обрушиваюсь шашкой на плечо красного. Кончено. Внутри неприятная слабость, пот заливает глаза. Оглядываюсь, вокруг ужасающая рубка: храп и ржание коней, звон клинков, сдавленные крики и мат.
Бросаюсь вперед. Передо мной несется конь с мертвым казаком в седле. Оборачиваюсь, наши напирают. Забираю влево, к реке. Там перестраиваемся. Увидел Пального. Он без шапки, грива коня в крови.
„Правый фланг свалили! – кричит мне Пальной. – Надо пробиваться, иначе к реке прижмут“.
Я уже и сам вижу, как красная лава разворачивается к берегу. Скачем вдоль реки и чуть наискосок, сбивая правый фланг красных. Противник откатывается. Летим вдогонку добрых версты три. У околицы какого-то села красная конница разделяется и выводит нас на оборонительные порядки. Встречают, как и положено, пулеметами. Лава идет по кругу и отступает.
3 ноября. Контрнаступление не удалось. Красные успешно провели мобилизацию и подтянули резервы. К тому же у них явный перевес в артиллерии, позиционные бои непременно выигрывают. От моего полка осталось три с половиной сотни сабель.
У противника сильное взаимодействие армий: 3-я армия красных упорно теснит нас с севера. Фронт полностью развалился, части отступают вдоль Сибирской магистрали.
4 ноября. Корпус Каппеля грузится в эшелоны и отходит к Омску.
6 ноября. Мой день рождения. Мне исполнилось 24!
Вторые сутки мы в арьергарде, прикрываем отступление к станции. С утра настал и наш черед двигаться к эшелонам. В обед проходили неприметный городишко. Очевидно, белые части оставили его совсем недавно: во дворах еще дымятся трубы брошенных самоваров. На пути попадается ресторанчик, наверняка самое значимое место города.
Пальной предлагает остановиться и отпраздновать мое рождение. Где-то в закоулках кухни находим повара и официанта. В их глазах испуг, коленки дрожат. Пальной грозно велит „подать перекусить“. Официант судорожно сервирует стол на двадцать персон. Выставляет самогон, сало, какие-то окаменелые бублики. На „меню“ всем наплевать, главное уселись за чистую скатерть, вооружились красивыми вилками и ножами. Мои офицеры чрезвычайно довольны.
Часа через два явился казак из заслона и сообщил, что на окраине замечена конная разведка красных. Решили достойно встретить противника и катиться к станции. Пальной пообещал мне в подарок полдюжины звездочек с фуражек большевиков.
Прямо из-за стола едем держать оборону. Спешиваем бойцов, выставляем их в окнах домов.
Бой был короткий и удачный. Красные бежали, оставив восемь трупов (звездочек для меня нашлось только три).
8 ноября. Ночью прибыли в Омск. Полк разместили в каком-то пакгаузе, никакой расквартировки и приказов о дальнейших действиях. Войск на станции тьма-тьмущая. Всюду пылают костры, невозможно понять, где какая часть. Разговоры самые что ни на есть паникерские. Бригада Красильникова охраняет центр города и не допускает туда праздношатающихся солдат.
В Омске свирепствует тиф, говорят, число больных перевалило за двадцать тысяч. В комендатуре беспорядочная суета. Не без труда пробиваюсь к коменданту, спрашиваю: „Что делать?“. – „Кто ваш командир? Каппель? Вот и ждите приказа!“ Возвращаюсь к своим ни с чем. Спать устраиваемся прямо на полу.
9 ноября. Утром нас перевели в брошенные чехами казармы, подвезли горячую пищу. Здесь же штаб дивизии. После обеда собрали всех командиров полков и зачитали приказ. В Ставке решили оставить Омск без боя, оторваться от противника и держать оборону под Красноярском. На сборы меньше суток. Уже завтра на рассвете дивизия должна выдвигаться к Густафьино, где приготовлены эшелоны. Полковые командиры спрашивают, отчего нельзя грузиться в городе. Оказывается, на омском станционном узле сплошные заторы и нехватка паровозов.
Решил навестить Ксению. В городе, в отличие от вокзала, пустыня. Как мне знакома эта картина оставляемого армией города! Окна домов испуганно смотрят мне в лицо, за их темными зрачками мирный обыватель в тихой истерике. По тоннелю безлюдной улицы гулко стучат шаги.
Именно в оставляемых городах ощущаешь стремительный бег времени. Сегодня, сейчас ты хозяин этой мостовой, лавок, зданий. А завтра? Тоскливое наслаждение последними часами, минутами.
Редкий встречный патруль торопливо проверяет документы, офицер стыдливо прячет глаза, у солдат вид отрешенно-безразличный. Иногда из-за угла с грохотом вырывается экипаж, доверху нагруженный чемоданами и сундуками. В повозке какая-то семья: укутанные по-зимнему дети, женщины с вымученными лицами, мужчины, яростно погоняющие возницу. Они спешат к последнему поезду.
Из какого-то ресторана доносятся кощунственные звуки кутежа. Не перевелись еще на Руси доморощенные Вольсингамы! Их отчаянная логика все та же, что и шесть столетий назад:
Как от проказницы зимы,
Запремся также от Чумы!
Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим весело умы
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы.
Обезумевших от страха и безысходности кутил можно понять – Красная чума распространяется куда быстрее черной!
В парадном у Ксении труп. Стеклянные глаза упрямо пялятся в потолок. Покойник совсем юн. Вспоминаю о тифе и опять о пушкинском „Пире“. Горькие параллели!
Семейство Реутовых лихорадочно собирает вещи. Ксения в полнейшей прострации курит в своей комнате. Она бросается мне на шею и заливается слезами. „Миша, мы бежим во Владивосток, оттуда пароходом в Европу. Конец, конец! Все пропало“. Я успокаиваю ее как могу, она же просит „марафету“. Кокаин в наше время та же валюта: у кого его нет? Достаю ей пакетик и прошу разрешения принять ванну.
За ужином непринужденно болтаем о пустяках и даже шутим. Ее отец, мать и брат Слава сосредоточены на гречневой каше. Они уже успокоились: вещи собраны, остается только ждать отправки. Глава семейства, обычно строгий и напыщенный, благодушно предлагает мне остаться ночевать.
После ужина Ксения уводит меня к себе. „Пообещай найти меня в Париже!“ – просит она. Я обещаю.
Наша последняя ночь. Ксения спит тихо, как дитя, свернувшись калачиком. Пишу дневник и думаю о том, что весьма опрометчиво оставил письменный прибор в казарме: хоть мое походное перо и никуда не годится, у Ксении все-таки намного хуже.
11 ноября. Пишу в товарном вагоне, на ходу, при свете керосинового фонаря. Мои бойцы спят вповалку на гнилой соломе. Колеса стучат буднично и бесстрастно. Вдоль дороги столь же безучастная тайга.
Видели ли вы в войне гражданской еще и квазигражданскую, ту, в которой свои бьются со своими?
Вчера мы пришли в Густафьино. На станции скандал, командир нашего авангарда, подполковник Сахновский в бешенстве. Оказалось, у полка чехов вышел из строя паровоз. Может, случилась партизанская диверсия или действительно поломалась машина, а только чешский командир решил забрать себе один из наших локомотивов. Сахновский окружил паровозы цепью солдат и дал приказ стрелять по первому, кто посмеет подойти ближе тридцати шагов.
Я отправился мириться с чехами. Их командир, полковник Зденек, с пеной у рта стал размахивать приказом Ставки об эвакуации чешских легионов первыми. Пришлось возвращаться к Сахновскому ни с чем. Через четверть часа показалась колонна чехов с пулеметами.
„Помяните мое слово, будут, гады, стрелять“, – шепнул мне Сахновский. Я совершенно не знал, что делать. Сахновский же приказал отдать легионерам локомотив, снял охрану и отвел подчиненных. „Пущай возятся, я им сейчас покажу!“ – зловеще пробормотал он. Тем временем на станцию вошел пехотный полк нашей дивизии. Сахновский бросился к командиру, капитану Живякову: „У тебя пушки есть?“ – выпалил Сахновский. „Есть, четыре штуки“, – недоуменно кивнул тот. „Давай, иначе никуда не уедем!“
Пехотинцы быстренько выкатили орудия. „Скорее! Пока они свой паровоз не отцепили!“ – орал Сахновский солдатам. Я наблюдал за событиями как во сне. „Что стоите? Выводите людей на позицию!“, – крикнул мне Сахновский и приказал бить по чешскому эшелону. Легионеры не успели опомниться, как на них обрушился шквал огня. Они пытались отстреливаться, но бойцов Сахновского это не остановило.
В это время подошли наши полки и приняли происходящее за бой с партизанами! Прямо с марша роты разворачивали боевые порядки, выкатывали пулеметы и орудия и вступали в сражение. Через полчаса на путях стоял горящий эшелон. Чешский полк был уничтожен, небольшая группа разбежалась кто куда. „Победители“ потеряли троих легко ранеными. Прибывший уже к шапочному разбору командир дивизии приказал Сахновского арестовать.
Сегодня нас догнал эшелон Каппеля. Ему доложили об инциденте. Наш генерал махнул рукой, назвал чехов мародерами и приказал Сахновского освободить.
15 ноября. Прибыли в Новониколаевск. Умудрились все-таки прихватить в Омске тиф. Три последние вагона тифозные; по дороге отцепили еще два с покойниками.
Узнали о „Чехословацком меморандуме“: легионеры отказываются дальше воевать и отступают на Владивосток.
16 ноября. На утренней поверке обнаружил, что дезертировали 12 человек. Офицеров!
14 января 1920 г. Только по последней записи и вспомнил, когда открывал дневник. Возвращаться к нему не было ни времени, ни возможности (нет чернил!).
Отбросить большевиков от Красноярска удалось совсем ненадолго. С продвижением красных на восток сибирские крестьяне полностью саботировали снабжение нашей армии продовольствием и фуражом, а при угрозе расправы просто уходили целыми селами в тайгу, забирая с собой скот и пожитки. Ко всему прочему магистраль на сотни верст полностью блокирована скопившимися эшелонами с беженцами.
Фронт оказался оторванным от Ставки и Забайкальских резервов. Противник между тем действует крайне грамотно: на главном направлении (вдоль Сибирской магистрали) большевики ограничиваются позиционными действиями, а на участке Минусинского фронта (наш левый фланг) наступают активно, создавая угрозу прорыва, чем заставляют главные силы Колчаковской армии отступать от Красноярска на Канск и Иркутск. Неприятель даже позволяет себе роскошь снимать с фронта целые дивизии и отправлять их на юг России, на борьбу с армией ген. Деникина. Недостаток регулярных войск с успехом компенсируется натиском на наши тылы партизанских отрядов. Кроме того, мы фактически без боя потеряли крупные города: „демократические“ и „либеральные“ силы, видя поражение колчаковских войск, все чаще идут на переговоры с большевистским подпольем.
Выход напрашивался лишь один – оторваться от противника и создать оборонительный рубеж в районе Иркутска. Там, за спиной, верные казачьи округа Забайкалья и Приамурья, свежие части атамана Семенова, экспедиционный корпус японцев.
Однако как выйти к Иркутску, ежели поезда проходят в сутки не более 20 верст? Каппель предложил дерзкий план: идти к Иркутску коротким и единственно возможным путем – пешим маршем через тайгу.
Пожалуй, нигде в мировой военной истории не было ничего подобного. В тридцатиградусный мороз, почти без провианта и фуража, в ветхом обмундировании, мы совершаем бросок в тысячу верст. Весь короткий зимний день, от рассвета до заката, идем по ледяному тракту. Вокруг мертвящая студеная тишина, справа и слева заснеженная бескрайняя тайга, впереди низкое мглистое небо и дорога, дорога…
„Исход великой наполеоновской армии из России“, – горько шутят наши офицеры. Похоже. Только у французов впереди была Родина, а у нас она ускользает из-под ног с каждой саженью. Вечерами найти место для привала очень трудно: таежные деревушки расположены слишком далеко друг от друга. Устроившись на ночлег, просто валимся с ног, жмемся к кострам и печуркам, глотаем кипяток, как благодать небесную. Утром лишь одно желание – поскорее дойти до очередного привала.
Каппель впереди колонны – в грязной шинели, с винтовкой за плечом, обутый в тупоносые сибирские пимы [8]. От простого солдата нашего генерала не отличишь. Иногда он едет в санках, чаще пешком.
Нечеловеческие испытания сплачивают людей, закаляют лучшие качества души. Где были эти прекрасные порывы года два назад, когда нашему воинству так не хватало настоящего благородства, человеколюбия и терпения?
Сегодня нам повезло: к вечеру набрели на большое село. Стали на постой в теплых избах. Среди офицеров произошла замечательная перемена: постоя уже не требуют – просят! Предлагают мужикам никчемные деньги, часы, остатки обмундирования. Я разместился в доме молодого крестьянина.
У него трое веселых ребятишек и очень заботливая женушка. Соорудили нам баню, помогли постирать белье. К ночи зашел Каппель, координировал план моей завтрашней разведки. Я глядел на его сосредоточенное, давно не бритое лицо, ловил взгляд умных, немного застенчивых глаз и вспоминал лето восемнадцатого. Тогда к нам в Самару, в штаб Первой добровольческой дружины приехали репортеры французских газет. Они пожелали увидеть командира войска Самарского демократического правительства Владимира Оскаровича Каппеля.
Ему было неловко от вспышек фотоаппаратов, лицо порозовело от смущения. Один из французов искренне умилился застенчивым видом славного полководца и, делая фотографию, предложил Каппелю добавить к английскому френчу, стеку и папироске букетик полевых цветов. Таким он, наверное, и останется для истории: мужественным и романтичным русским офицером, образцом несгибаемой стойкости и чести.
Склянка чернил, любезно подаренная мне сельским священником, заканчивается. Решил продолжить записи только после победы».
Глава IV
Поздним вечером Наталья Решетилова спешила домой. Улицы были пустынны, и она пожалела, что не взяла извозчика. Каблучки выбивали по булыжнику звонкую дробь, и их стук немного ободрял Наталью. «Отчего так безлюдно? – думала она. – Ах да, сегодня четверг, завтра рабочий день!»
Вот и фонарь у дома, знакомая арка, осталось лишь миновать проход и скользнуть в парадное. Наталья свернула в темноту и увидела две тени, отделившиеся от стены.
– Стойте, мамзель! – негромко скомандовал молодой голос.
Черная фигура встала на пути Натальи. Второй быстро скользнул за спину. «Сейчас грабить будут», – с грустью подумала Наталья и покорно опустила руки.
– Давайте ваш ренцель [9], а не то!.. – грозно проговорил молодой человек, и что-то холодное коснулось шеи Натальи.
– Да-да, извольте, – торопливо прошептала она и поспешно сунула незнакомцу ридикюль. – Берите, денег у меня совсем немного. Теперь я могу идти?
Ей было очень стыдно за свой страх.
Стоявший за спиной налетчик взял Решетилову за руку:
– А желтизна? [10] Что у тебя там? – Он рванул с пальца Натальи золотой перстень.
– Нет! – вскрикнула она и судорожно сжала кулачок. – Это подарок покойной мамы!
– Да вы, верно, гражданочка, не из понятливых!
Глаза Натальи привыкли к темноте, и она различила довольно юное, перекошенное нетерпеливой злобой лицо. Негодование взяло верх над страхом, Решетилова хотела что-то ответить, как вдруг раздался уверенный негромкий голос:
– Худое дело вы затеяли, скряги! [11]
Из глубины прохода послышались тяжелые шаги. Невысокий широкоплечий человек приблизился и стал шагах в трех от грабителей:
– Бросьте барышню, давайте-ка потолкуем по-свойски.
– Держи шмару [12], Гошка, – бросил тот, что стоял лицом к Наталье, и выступил вперед.
Его товарищ толкнул Решетилову к стене и зажал рот ладонью.
– Че ты лезешь, мерин? [13] – нагло спросил налетчик.
– Нехорошо так, паря [14], с незнакомыми людьми трекать! – ответил насмешливый голос.
Парень взмахнул рукой, и в темноте сверкнуло лезвие ножа. Его противник подался навстречу, и через секунду нож со звоном упал на булыжник.
– Проваливайте отсюда, – угрюмо сказал незнакомец.
Послышался металлический щелчок.
– Митька, у него шпалер! [15] – взвизгнул грабитель и рванул во двор. Его товарищ оставил Наталью и кинулся следом.
– Как вы, барышня, целы? – подойдя к Решетиловой, справился ее нежданный спаситель.
– Все в порядке. Благодарю.
– Ну и ладненько, – кивнул незнакомец и пошел к выходу на улицу.
– Гражданин, подождите! – встрепенулась Наталья и побежала за ним.
Он остановился у фонарного столба и вопросительно поглядел на Решетилову. Теперь Наталья смогла его рассмотреть – лет двадцати пяти, среднего роста, крепко сбитый, простое русское лицо. Он походил на кустаря – темный пиджак, короткие сапоги.
– Вы не можете так уйти, – выдохнула Наталья.
– А что ж надо-то? – улыбнулся незнакомец.
– Я должна вас поблагодарить.
– Так вы поблагодарили.
– Да-да, разумеется. Однако мне хотелось бы знать имя своего спасителя.
– А к чему?
– Ну… я не знаю, – Наталья нервно взмахнула руками. – Вы рисковали жизнью ради меня… Как вас зовут?
– Никитою.
– Очень приятно. А я Решетилова Наталья… Что же мы здесь стоим, а? Идемте ко мне, выпьем чаю!
– Да нет, барышня, неудобно, – смутился Никита.
– Умоляю вас, не отказывайтесь!
* * *
Наталья усадила гостя на кухне и принялась хлопотать у плиты. Никита по-детски поджал ноги под табурет и положил ладони на колени.
– Покуда закипит чайник, давайте выпьем настойки! У папы есть прекрасная рябиновка, – заметив неловкость гостя, предложила Решетилова.
Они выпили, и Наталья завела разговор о том, что ее отец – признанный ценитель ягодных настоек. Никита внимательно слушал, разглядывая узор на скатерти. Наталья в свою очередь разглядывала гостя: «А он не столь уж и зауряден! Лицо и манеры у него крестьянские, но волосы знакомы с ножницами парикмахера, аккуратно причесаны; гладко выбрит, и рубашка свежая. Кто он? Руки у Никиты грубые, но чистые, с черной работой незнакомые».
– А как вы оказались на нашей улице? – вдруг спросила она.
Никита немного покраснел:
– Случайно. Шел я за вами от самого театру. Дом мой недалеко, – он кивнул головой куда-то в сторону.
– Вы были в театре? – невольно удивилась Решетилова.
– Да нет, – еще гуще зарделся Никита. —
В пивной по соседству. Я как раз вышел, и вы впереди… Заприметил-то я вас давно, еще осенью, там же, у театры.
– Ах, вот оно что! – рассмеялась Наталья. —
А я вас и не видела.
– Человек я маленький.
Назойливое внимание театральных поклонников всегда окружало Наталью, но здесь было что-то другое.
– Так вы знали меня?
– Вовсе нет… просто вы… барышня приметная, – медленно выдавил Никита.
«Вот вам и еще один воздыхатель!» Она натянуто улыбнулась и склонила голову:
– Спасибо за комплимент. Значит, все это время у меня был невидимый страж?
– Ну что вы! – развел руками Никита. – Я и видел-то вас нечасто. Даже не знал, что вы живете на этой улице. Шел себе домой, а оказалось нам по пути.
– И?
– Заслышал возню в потемках, ну, думаю: ребятки на гоп-стоп пошли!
– На что пошли?
– Ну… пограбить вас решили.
– А-а, – протянула Наталья. – Словечко какое-то… жиганское!
– Зато в самую точку, – засмеялся Никита.
– Пожалуй… Однако, как же вы отважились схватиться с грабителями? Страшно не было?
Она поймала взгляд спокойных серых глаз.
– Страшно? А чего ж пугаться-то? По темным углам барышень грабят только мальцы слабосильные, серьезный налетчик на грошовое дело не пойдет.
Наталье стало тепло и уютно рядом с этим малознакомым человеком. Она поразилась своим мыслям и отогнала их со стыдом и негодованием.
– Знаете, Никита, под аркой было очень темно, и я не разобрала, как вы справились с тем молодым негодяем. У него же был нож!
– Интересуетесь? Есть один хитрый способ. Хотите покажу?
– Любопытно.
– А вот вы возьмите в ручку вилочку и ткните в меня, – предложил Никита.
– Зачем же вилочку? – заразилась его азартом Наталья. – Возьмем столовый нож, так будет убедительнее.
Решетилова схватила серебряный ножичек и направила его в грудь Никиты. Он подергал кончик лезвия:
– Крепче держите.
– Так?
– Ага. Теперь бейте!
– Как?
– А как хотите.
– Вы уверены?
Никита смотрел ей прямо в глаза.
Решетилова легонько ткнула ножом вперед, и тут же, неуловимым и сильным движением ладоней, будто прихлопывая на лету комара, Никита выхватил нож из ее руки и положил на стол.
– Вот так фокус! – восхищенно проговорила Наталья. – Как же это получилось?
– Сие, барышня, не фокус, а навык! И дается он длительными упражнениями. Это только с виду все легко и просто, – пояснил довольный Никита.
– А вы мастак на такие штучки! Где научились?
– В армии. Был у нас комполка, в прошлом царский офицер, в германскую командовал разведвзводом батальона пластунов. Науку драться без оружия изучал с молодых ногтей, еще юнкером начал упражняться… Да тому, что умел наш комполка, мне и ввек не научиться! Хоть с палкой на него иди, хоть с финкой или даже с шашкой, с любым мог совладать. Убили его в бою под Каховкой…
– Вы служите в армии?
– Нет. Демобилизовали аж в ноябре двадцатого. Хватит, навоевались.
Наталья уловила в ответе Никиты скрытое недовольство.
– Ой, чайник-то у нас скоро взлетит! – встрепенулась она и поднялась заварить чай.
– А вы и в самом деле в артистках? – глядя в спину Решетиловой, спросил Никита.
– Я режиссер. Знаете, что это такое?
– Не-ет. В театрах я не бывал, а на ярмарках скоморохов видел, да этих еще… марьенеток.
– А-а, так это ж куклы!
Наталья вернулась к столу:
– Приглашаю вас, Никита, в театр. Приходите, вам понравится!
– Да там, небось, все люди ученые, нэпманы жирные, – махнул рукой Никита.
– Нет-нет, публика у нас разная. И рабочие, и студенты, и солдат порой привезут. Можете взять друзей, чтобы вам было веселее.
– Какие уж у меня друзья! – хмыкнул Никита.
– А семья? Жена, дети?
– Нету семьи, померли все, – потупился Никита.
– Простите, я не знала… Ну, что вы погрустнели? Сейчас будем чай пить, я расскажу вам о наших спектаклях…
* * *
Еще проходя через сад, Никита заметил в окнах флигеля свет. В спальне, уютно устроившись на диване, читал роман Аркадий.
– Ты чтой-то нынче дома засел! – удивленно бросил Никита.
– Зато ты сегодня решил погордонить [16], – отрываясь от чтения, посмотрел на «ходики» Аркадий. – Первый час ночи!
– Штиблеты хоть бы снял – сукно выпачкаешь, – заметил Никита.
– Отстань, не ворчи, – поморщился Аркадий, но все же скинул ботинки на пол.
– Повечерял? – кивнул на грязные тарелки Никита.
– Ждал тебя, да не дождался. Пришлось отужинать одному. Где ж вы, сударь мой Никита Власович, пропадали?
Никита разделся и лег на кровать.
– С приятной девушкой чаи распивал! – улыбнулся он и с хрустом потянулся.
– Неужто? – Аркадий сел на диване и недоверчиво поглядел на товарища. – С каких это пор у тебя появились «приятные девушки»? Насколько я помню, вы, милостивый государь, предпочитали грудастых фабричных шмар!
– А вот появились, – самодовольно хмыкнул Никита.
– Нет, в самом деле, у тебя есть зазноба из «приличных»?
– Да нету никакой «зазнобы». Попили чаю и разошлись, – Никита махнул рукой. – Наталья барышня благородная, куда уж мне, мужику, гайменнику [17], такую в зазнобах-то иметь!
Он рассказал Аркадию о сегодняшнем происшествии.
– Так ты на своих налетел? – уточнил Аркадий. Лицо его стало строгим и задумчивым. – Это ж – нарушение Закона.
– Тоже мне «свои»! – скривился Никита. – Раклы сопливые, воронье помойное. Нашли на кого засаду устраивать – на порядочную барышню, сироту! Грабили бы дельца какого-нибудь иль коммуняку. И не кивай на Закон, Аркаша, мне он неведом. Для меня один закон – слово атамана.
– Могут и к ответу притянуть, – покачал головой Аркадий.
– Пусть попробуют, мне все едино, от какой пули помирать – что от воровской, что от минтонской.
– А хороша ли она, твоя дама?
– Наталья? Очень. Строгая девушка, красивая…
– Аминь! – иронично вставил Аркадий.
– …И образованная! В театре работает.
– У-у, так ты увлекся актеркой! – поднял брови Аркадий. – Богемной экзотики захотелось? Ну-ка колись, кто она?
– Наталья у них главная режиссер. Не хухры-мухры!
– А-а! Решетилова. Знаю, знаю, Котьки Резникова приятельница. Ве-ли-ко-леп-ная особа! Но не для тебя, Никитушка.
– Про то и толкую, что не для меня, – Никита мечтательно уставился в потолок. – Отчего судьба у человека такая несправедливая, а, Аркаша? Творим не угодные Богу дела; теми, кто сердцу близок, обладать не можем.
– Ну, началось, – поморщился Аркадий. – Верно, стоит мне все же в «Парадиз» поехать, иначе с тобою тут с тоски подохнешь.
Аркадий поднялся и стал собираться.
– Давай-давай, поплутуй, – кивнул Никита, – ты у нас самородок и на все руки мастер: и фраеру бороду пришить [18], и на грант сходить [19], и книжки вон мудреные почитать.
– А ты бы от безделья хоть язык французский, что ли, выучил. Ведь давал же тебе учебник? Где он?
– В уборную выкинул.
– Э-э, темнота беспробудная, лень великорусская!
Аркадий выдвинул ящик комода и пошарил внутри.
– Куда антрацит [20] подевал, мажордом?
– Сам ты… А порошки твои поганые я тоже в клозет спровадил, – хохотнул Никита. – Шучу, в сенях они, в банке из-под монпансье.
* * *
Аркадий уехал, но Никита еще долго не мог уснуть. Глядя в потолок, он размышлял о своей жизни.
До лета 1921 года судьба Никиты Злотникова не многим отличалась от миллионов других российских крестьянских парней. Родился он в маленькой тамбовской деревушке, затерянной среди вековых лесов. Было у Никиты девятеро старших братьев и сестер. Жили Злотниковы весело и дружно, хотя и небогато.
Осенью восемнадцатого Никиту мобилизовали в Красную армию. С «трехлинейкой» в руках дошел красноармеец Злотников до Крыма, штурмовал неприступный Турецкий вал, выжил и вернулся домой победителем.
На Святочной неделе 1921 года Никита женился на красавице Татьяне, которую любил с детства. Целую неделю гуляла деревня на свадьбе младшего Злотникова. Его отец передал Никите родное хозяйство и удалился на покой. Казалось, жизнь стала налаживаться. Весной Никита перестроил отцовский дом и начал готовиться к пахоте, а Татьяна забеременела первенцем. Однако, несмотря на окончание войны, лихолетье не отступало. Недовольные продолжением хлебных реквизиций крестьяне бунтовали. Тамбовские мужики тысячами уходили в леса, пополняя войско мятежного атамана Антонова.
Летом окончилась и короткая идиллия Никиты. 4 июля 1921 года в его деревушку вошла карательная красная часть. Бойцы ходили по дворам, разыскивая спрятанный хлеб и оружие. Крестьяне собрались на сход и обратились с жалобой к командиру отряда. Молоденький командир, недовольный бранью деревенских жителей, занервничал и приказал открыть огонь. Шальная пуля попала в висок Татьяны Злотниковой. Она умерла на месте. Тогда-то и обуяла Никиту жуткая злоба и ненависть к большевистской власти. Он собрал походный мешок и ушел в лес. Когда антоновцы были разгромлены, Никита вместе с приятелем, поповичем Царевым, бежал в Москву. В столице у Царева имелись дальние родственники – у них-то и схоронились вчерашние повстанцы.
Именно в Москве, в ноябре двадцать первого Никита повстречал Гимназиста. Опытный налетчик заметил умного и бесстрашного антоновца, оценил его отношение к режиму и умение владеть холодным оружием. Очень скоро в бандитской среде Москвы стали ходить слухи о новом грозном налетчике – Никите Тихом, или Антончике. Так начал Злотников свой путь на преступном поприще.
Думал ли он о морали и будущем? Уже нет.
В сердце Никиты, будто крепкая заноза, засела ненависть к власти. Ненависть перестала быть неистовой и опьяняющей, она превратилась в некую самоцель и стимул жизни…
Никита лежал и, пожалуй, впервые за последние годы размышлял о счастье. Можно было бы бросить к чертовой матери преступный промысел, вытребовать свою долю, найти простую честную девушку и начать новую жизнь. Однако тут же засверлило мозг сомнение: «Ты же пытался. И что вышло? Тогда не дали и теперь не позволят. Да и не забыть мне Татьяны, не забыть нашего поруганного счастья, а другого и быть не может. Одна мне дорога – плаха и Высший суд».
Глава V
Андрей открыл глаза и долго смотрел в окно. «Хорошо просыпаться таким чудесным утром! – с улыбкой подумал он. – А еще лучше – в выходной». Рябинин лениво потянулся и вспомнил вчерашний день – завершение работ и торжественный пуск душевых, праздничный митинг, лестные слова руководства в свой адрес…
Внезапно он ощутил на себе чей-то назойливый взгляд. Андрей торопливо обернулся – из-за полуоткрытой двери ухмылялась физиономия Меллера.
– Наум! Чтоб тебя… – воскликнул Рябинин и сел на диване.
– Очнулся, соня? А я вижу: дверь не заперта, решил не стучать.
– Заходи, что ты там застрял, будто кентервильское привидение!
Меллер скользнул в комнату и уселся на стул.
– Привидения – плод воображения феодального общества и извращенной фантазии мистера Уальда, – менторским тоном провозгласил Наум.
– Спросонья вы мне и вправду показались призраком, товарищ материалист! – рассмеялся Андрей и протянул руку. – Привет, говорящий фантом.
– Подымайся, ленивец. Советский народ уже давно приступил к активному отдыху, – пожимая ладонь Рябинина, отозвался Меллер.
Андрей встал, накинул на плечо полотенце:
– Как относятся фантомы к чаю с гренками?
– Нормально. Тем более что я сегодня определенно не завтракал.
– Тогда хватай чайник и приготовь кипятку.
– Ну конечно! Вот как заводское начальство встречает друзей, – Меллер развел руками.
* * *
Выходя из ванной, Андрей услышал на кухне громкие голоса и с ужасом вспомнил об экспериментах Меллера над соседями.
Страхи оказались напрасными – Наум задорно рассказывал жильцам о способах приготовления гренок.
– Нау-ум! – позвал его Андрей.
– Подожди, Андрюша… – отмахнулся Меллер и продолжил свою лекцию.
– Наум! – настойчиво перебил друга Рябинин. – Ты из чьего хлеба гренок навалял?
– Как из чьего? – возмутился Меллер. – Вот здесь на столе булка валялась.
Его слова покрыл хохот соседей.
– Это была чужая булка, Наум, – покачал головой Андрей.
– Да бог с ней, Андрей Николаич, – махнула рукой смуглянка Груня. – Сочтемся!
– Спасибо, – поклонился Рябинин и бросил Меллеру: – Поблагодари небеса, что у нас в квартире нет «кадочкиных». Бери-ка чайник и идем в комнату.
* * *
– А Кадочкину, между прочим, досталось по заслугам! – бултыхая в чашке кусок сахара, с улыбкой доложил Меллер.
– Неужто достал-таки соседа?
– Определенно! Только не я – милиция постаралась. – Наум сделал довольную рожицу. – Шел наш Кадочкин третьего дня пьяный, шар земной у него в голове перевернулся, и он бревном упал в витрину «Госмануфактурторга». Так-то! Сидит, голубчик, под арестом, потому как штраф платить нечем.
– А ты и рад, – укоризненно покачал головой Рябинин.
– Так это же всем на пользу! Который день в квартире тишина стоит гробовая.
– Сомневаюсь, – усмехнулся Андрей.
– П-почему? – оторопел Меллер.
– Ну ты-то в квартире остался!
– Не-ет, я теперь соседей не тревожу, у меня работы непочатый край. Определенно!
– В редакции? – Андрей впился зубами в поджаренную гренку.
– Ага, в редакции. Только я уже не в «Пролетарии»!
– А что случилось?
– Мне предложили должность заместителя главного редактора в «Юном коммунаре», – гордо ответил Наум.
Андрей вопросительно поднял брови.
– Не слышал о такой газете? Совершенно неудивительно – «Юный коммунар» только позавчера организовался. – Лицо Меллера приняло протокольное выражение. – Тринадцатый съезд партии постановил создать на местах сеть детских и пионерских изданий. Луцкий как вернулся из Москвы, так отдал распоряжение выделить деньги на детскую газету. Главредом поставили Нистратова, члена бюро губкомола, а заместителем рекомендовали меня.
– Кто?
– Что «кто»?
– Рекомендовал.
– Дядя Коля Сакмагонов.
– А-а.
В дверь осторожно постучали.
– Заходите, открыто! – крикнул Рябинин.
В комнату вошел здоровенный бородатый мужик, одетый, несмотря на теплую погоду, в длиннополый пыльник.
– Извиняйте, гражданы! Хто тут будет Рябинин? – пробасил мужик, переводя взгляд с Меллера на Андрея.
Внешность посетителя показалась Андрею знакомой.
– Я Рябинин. А в чем дело, товарищ? – Он приподнялся и вдруг вспомнил: – Вы – Афанасий!
– Так точно, – кивнул мужик. – Георгий Станиславич велели передать, что яво до завтрева в городе не будет – по делам уехали.
– Благодарю, учту.
Афанасий поклонился и вышел вон.
– Сторож моего друга Старицкого, – пояснил Меллеру Рябинин. – Так что ты говорил о «Юном коммунаре»?
– Ах да, представь себе, дело какой государственной важности нам предстоит!
– Несомненно, – согласился Андрей. – До революции были детские издания, помню. Сказки печатали…
– «Сказки»! – вскочил на ноги Меллер. – Ты – совершенная темнота! Мы должны готовить смену комсомолу и партии, подготовить детей к выполнению исторических задач рабочего класса, активизировать их политически. Первоочередная цель – осветить деятельность пионерской организации, привлечь в ее ряды массы пролетарских детей. Плюс – проблемы беспризорности, низкой оплаты труда подростков, деспотизма несознательных родителей, проблемы детдомов и колоний, трудоустройства, борьбы с остатками религиозного дурмана…
– Солидно.
– Вот именно. Посему у меня к тебе просьба: помоги встретиться со Змеем. Помнится, ты обещал.
– Это для статьи?
– Ага. Рабочее название – «Облик беспризорного».
– Попытаюсь.
– А где ты его будешь искать?
Андрей задумался.
– В логово Мишки наведываться… неделикатно. Нужно передать через Змеевых ребят, что его ищет Рябинин.
Он допил чай и поднялся:
– Идем, прогуляемся к вокзалу, там полно беспризорных воришек. Пошлем Змею послание.
* * *
В субботу Глеб Сиротин решил опробовать в деле подарок отца – автомобиль «пежо». Прихватив для компании Резникова, Глеб принялся колесить по городу.
Когда разворачивались на привокзальной площади, Костя попросил друга остановить машину:
– Погляди-ка, Меллер с Рябининым топают!
Э-эй, идите к нам! – крикнул Резников.
– Ух ты! Это чье же такое расчудесное авто? – воскликнул, подбегая к машине, Меллер. – Андрей, ты только погляди!
– Нравится? – сияя довольной улыбкой, спросил Сиротин.
– Определенно, – кивнул Наум. – Твоя, Глебка?
– Моя. Папашка презентовал.
– Новая?
– Смеешься? Откуда такие деньги? Ей уже два года, – пояснил Сиротин.
– Довольно хвастаться, – бросил ему Костя и отворил заднюю дверцу. – Садитесь, ребята, мы вас подвезем. Кстати, Глебушка, ты с Андрей Николаичем знаком?
– Наслышан, – разглядывая Андрея, ответил Сиротин. – Полезайте в салон.
Андрей и Меллер сели на заднее сиденье, Глеб «для порядку» выжал клаксон, и автомобиль тронулся.
– Вы куда направлялись-то? – справился у Меллера Резников.
– Сами не ведаем. Дела мы уже переделали, теперь можно и пивка попить.
– И где же?
– Лучше в парке, на веранде.
Через несколько минут Сиротин притормозил у ворот Центрального парка. Андрей и Меллер поблагодарили Глеба и вышли из автомобиля.
– Подождите нас в пивной, мы через часок вернемся, – сказал Сиротин.
– Наум, ты не забыл, что завтра мы едем на пикник? – напомнил Резников.
– Определенно.
– Вы тоже присоединяйтесь, Андрей! – предложил Резников. – Компания вам знакома: Вихров, мы с девчатами, да вы с Меллером.
– Собираемся в девять у Нового театра, приходите, – подхватил Глеб.
* * *
Друзья расположились в открытом кафе рядом с каруселями. Молоденькая подавальщица принесла пива и закусок.
– Расскажи мне о Питере, – попросил Меллер. – Никогда там не бывал.
– О Питере или о Ленинграде? – усмехнулся Андрей. – Сие вещи разные. Петербург – имперская столица, город величия царской России; Ленинград – пока лишь «Колыбель революций», его лицо только формируется.
– Ну, о духе Питера я читал, – отмахнулся Меллер. – «Град Пушкина», «Белые ночи» Достоевского, «серо-розовый Петербург» Блока… Знаю. Расскажи какую-нибудь историйку, случай из жизни, уличную сценку. Мне это, определенно, более интересно.
Андрей задумался:
– Видел я одно забавное происшествие. Пошли мы гулять с Полиной на Дворцовую, а там – несметная толпа. Остановились посмотреть, в чем дело. В небе над Александрийской колонной висит воздушный шар. К корзине прицеплена нелепая конструкция – похожа на крышу игрушечного домика. А в корзине шара три фигурки суетятся, отчаянно пытаются нацепить «крышу» на каменного Ангела. Тот смиренно ждет своей участи, но упрямый балтийский ветер то и дело относит шар в сторону. Многочисленные зеваки сопровождают каждую неудачную попытку идейных воздухоплавателей взрывами хохота и шутками. Какой-то веселый парень, приметив в нашем лице новых зрителей, пояснил, что возятся аэронавты еще с рассвета, да все впустую. Я представил, как чертыхаются бедолаги, понимая, что ежели не накроют Ангела, то непременно получат взбучку от градоначальства. Мои мысли будто бы услышал матрос с эсминца «Нарком Троцкий». Морячок громко хмыкнул и сказал, не обращаясь, впрочем, ни к кому определенно:
«А ведь норд-вест сегодня зарядил серьезный, шар к статуе никак не подогнать. Взмылят ребятам шеи, как пить дать, взмылят!»
– И чем дело кончилось? – нетерпеливо спросил Меллер.
– А ничем. Бросили к вечеру дурную затею.
– Ну, затея, положим, не совсем уж дурная, – резонировал Наум. – Нельзя отрицать, что нужно бороться с религиозными атрибутами.
– Не согласен, – упрямо мотнул головой Рябинин. – Ангел Александрийского столпа – не церковная реликвия, а символ славы Государства российского. С таким же успехом можно снести и Исаакий!
– Эка ты хватил! – фыркнул Меллер.
– А почему нет? Стоит только замахнуться, и – не остановишься.
– Гм, пожалуй, ты прав, – задумчиво ответил Наум. – Исторические памятники уничтожать не следует.
– А вот скажи: наш монастырь, тот, что у базара, историческая ценность или нет?
– Черт его знает, – Меллер пожал плечами. – Слышал я, что он основан в шестнадцатом веке, при Иване Грозном. Да тебе-то что?
– А то, что губком принял решение его снести, по камешкам разобрать. Позавчера у нас на заводе было собрание комсомольской ячейки; Самыгин зачитал график, составленный губкомолом. В понедельник, после работы комса «Ленинца» выходит на разборку монастыря. Затем нас сменят кожевенники, потом – железнодорожники, комса кирпичного завода и так далее. К концу месяца приказано развалить монастырь до основания.
– Ух ты! А я и не знал, – поразился Меллер. – Надо бы осветить это событие на страницах «Юного коммунара».
– Я говорю не о «событии», Наум. Ценность монастырь представляет? – не отступал Андрей.
– Так губкому-то видней. Уж наверняка спросили сведущих людей.
– Надеюсь.
– Мягкотелый ты человек, Андрюша, – проговорил Меллер. – Монастыри жалеешь… А чего их жалеть? В этой обители, знаешь, кто верховодит? Игумен Филарет, злейший враг всего прогрессивного, мракобес и контрреволюционер. Думаю, губком направляет удар не столько против монастыря, сколько против отца Филарета.
– Это недемократично, – поморщился Рябинин. – Каждый в Советской стране вправе сам решать, кого слушать: Филарета или партийных вождей.
– Так-то так, – снисходительно улыбнулся Меллер. – Но посмотри вокруг! Мелкобуржуазная стихия с ее религиозной идеологией грозит захлестнуть нас. Все больше плодится нэпманов и кустарей-одиночек, крестьяне – вообще вековые церковники. Что делать? Борьба на идеологическом фронте предстоит не менее жестокая, чем на полях гражданской! Нэпмачи и крестьяне-богатеи запускают невидимые щупальца в сердца и умы молодежи, разлагают ее революционный дух. Ты видел, как стали краситься и одеваться наши девушки? А как они меняют имена на западный манер? Полгода назад был вселенский скандал, когда комсомолец-пролетарий женился на лавочнице, а теперь – это уже повальное явление. Все говорят о деньгах, о наживе, о барахле и мебелях! Всем…
– …Всем жить хочется, – жестко перебил Наума Рябинин. – Как насчет твоего приятеля Глеба, а?
– А что Глеб? Он хороший парень, веселый, – пробормотал Меллер.
– Так ведь он – сын нэпмана!
– Ну конечно… определенно… Однако…
– Что «однако»?
– …У него неплохие друзья… Идейные! Мы не дадим Сиротину окончательно скатиться в капитализм.
– За его «пежо» вы пешком вряд ли угонитесь, – хмыкнул Андрей. – Пойми ты, нэп – демократия во всем, как и должно быть в нормальной стране. Партия разрешила свободу торговли и предпринимательства, значит, – должна существовать и свобода идеологии.
– Ну, тогда – смерть! – Меллер стукнул кружкой о столешницу.
– Вряд ли. «Командные высоты» экономики – в руках партии.
– Выходит, ты против борьбы с религией? – вызывающе спросил Меллер.
– Ежели и необходимо с ней бороться, то не путем разрушения монастырей, а вдумчивой агитацией.
– И то, и другое неплохо, – примирительно подытожил Наум.
– Расскажи лучше, какие в городе новости, – сменил тему Андрей.
– О-о! Новостей масса, – оживился Меллер. – Прошлым воскресеньем провели грандиозный митинг в поддержку заключения «Соглашения о сотрудничестве» с Китаем. Потом вечером было факельное шествие, пели песни. Во вторник всей литературной братией встречали Осипа Штамма, знаменитого поэта. Он был в городе проездом, интересовался искусством примитивизма. Товарищ Штамм составляет альбом наиболее интересных вывесок.
– Это каких же?
– Всяческих: магазинных, трактирных, ресторанных. Вывеска только на первый взгляд вещь пустая и банальная. На самом деле вывеска, как и фасады домов, составляет неповторимый интерьер любой улицы. Ни один, пусть даже самый тупой кабатчик не повесит на свое заведение вывески, схожей с соседской. Я знаю, что ты хочешь сказать об аляповатости и крайней простоте вывесок, но это не совсем так. Представь себе, если бы вывеска была сложной и высокохудожественной. Совершенный абсурд! Для чего на чайной изображать Мону Лизу? На заведении должна висеть розовощекая русская баба. В этом и есть определенная эстетика. Мы уговорили Васильчикова соорудить новую вывеску для «Муз» – теперь на трактире красуется кофейная чашка и перо.
– Грандиозно! – рассмеялся Андрей. – А что, этому Штамму больше и заняться нечем, как собирать образчики удачных вывесок?
– Ну… творческая блажь. Гений может себе позволить пошалить, – мечтательно улыбнулся Наум. – А вот вчера мы провели поэтический вечер в честь сто двадцать пятой годовщины со дня рождения Пушкина. Я декламировал «Во глубине сибирских руд…».
– А что, интересно, читал Лютый?
– «Анчар».
– М-м, я так и думал.
– Ладно об этом. Расскажи-ка мне еще о Ленинграде!
Глава VI
Для поездки на пикник было решено взять пролетку и «пежо» Сиротина. Собравшиеся немного раньше мужчины погрузили корзинки с провизией в автомобиль и стали ждать девушек. Первой подошла подруга Глеба, Лена Журавская – невысокого роста, похожая на грациозную статуэтку студентка университета. Затем явились Левенгауп с Решетиловой. Посадив в машину Вихрова, Резникова и Меллера, Глеб двинулся вперед, обещая к приезду Андрея и девушек развести костер и приготовить жареных цыплят.
Через час, следуя указаним Светланы, лихач домчал пролетку до означенного места на берегу реки. Высоченные сосны окружали уютный пляж, на котором уже полыхал веселый костер.
– Быстренько вы добрались, – помогая девушкам выбраться из экипажа, заметил Резников.
– Конь у меня добрый, – улыбнулся извозчик.
– Орловский? – подходя к пролетке, с видом знатока справился Меллер.
– А кто его разберет? – пожал плечами возница. – Коняка армейский, списанный. Однако же бегает резво.
– Определенно, орловский, – заверил Наум.
– Когда за вами возвернуться? – спросил извозчик.
– В шесть, – ответил Резников.
Лихач кивнул и поехал в обратный путь.
– Покуда прогорят дрова, давайте-ка купаться, – предложила Левенгауп.
Она сбросила туфли и прошлась по песку.
– А горячо-то как – ноги жжет! – рассмеялась она и крикнула Рябинину: – Андрей, вы будете купаться?
– Разве что в сторонке, – отозвался он. – У меня купального костюма нет.
– Не беда, – махнул рукой Вихров. – У меня его тоже нет, а Меллер – тот вообще не носит принципиально.
– Что вы там обо мне? – насторожился Наум, он немного в стороне собирал валежник.
– Саша говорит, будто ты плаваешь голым, – бросил ему вооруженный топором Резников.
– Совершенная правда. В водной стихии, как и в любой другой, человек обязан быть абсолютно свободным. Ничто не должно мешать общению с природой.
– Определенно!!! – хором гаркнули Вихров, Резников и Сиротин и расхохотались.
– Смейтесь, смейтесь. Вы, друзья мои, зажаты в тиски буржуазных догм.
– Меллер отчасти прав, – прикуривая от головешки, проговорила Решетилова. – Однако купание в костюмах не столько догма, сколько стремление не вызывать дурных эмоций, в особенности у личностей, излишне возбудимых.
– Я, например, холоден как лед. Опре… Да! – гордо заявил Наум.
– И все же те, кто без костюмов, будут купаться за кустами, – звонко рассмеялась Журавская.
– А подплывать можно? – томно прикрывая глаза и картинно заламывая руки, спросил Резников.
– В исключительных случаях, – парировала Лена.
– Девочки! – позвала подруг Светлана. – Вы идете или нет?
Она сбросила сарафанчик и уже стояла по щиколотку в воде. Рябинин разглядывал ее ладное тело, плотно затянутое в ярко-красный купальный костюм. Левенгауп прищурилась, поймала взгляд Андрея и улыбнулась. Он опустил глаза и подумал, что при вечернем освещении Светлана намного привлекательней.
– Как водичка, Светик? – поинтересовался Костя.
– Прелесть. Бросай свой топор и – марш купаться!
Журавская и Решетилова уже разоблачились и пошли к воде.
– Наяды! – хохотнул им вслед Вихров и бросил Андрею: – Пора и нам освежиться.
Сиротин с Резниковым остались на пляже, а Вихров, Рябинин и Меллер взяли полотенца и скрылись за кустами.
– Ну, друзья, начнем, как говорится, летний сезон, – сбрасывая одежду, пробормотал Вихров.
Он остановился у кромки воды и похлопал себя ладонями по пухлому белому животу.
– Что стоять-то, Сашка? – стягивая широченные трусы, спросил Меллер.
Наум принял стойку охотничьей собаки, разбежался и с шумом прыгнул в воду.
Через секунду его мокрая голова показалась на поверхности. Меллер отплевывался и фыркал как морж:
– Ребята, здесь – совершенное блаженство! Прыгайте!
* * *
Освеженные купанием, друзья расположились загорать. Резников хлопотал у костра, обещая вскорости попотчевать компанию «настоящей дичью». Вихров и Сиротин раскинули на песке походную скатерть, выставили из корзин нехитрые закуски и пиво.
Говорили о последних новостях.
– Слышали о скандале на съезде партии? – заговорщицки спросил Вихров.
– А что стряслось? – насторожился Сиротин. – Я читал газеты – вроде бы все в порядке.
– Да не совсем. В строгой секретности по делегациям было зачитано письмо Ленина к съезду.
– Верно, ходят какие-то слухи о таинственном завещании Ильича, – кивнула Левенгауп. – Расскажи, Саша.
– Имени моего источника я, по понятным причинам, не сообщу, – сразу оговорился Вихров. – Однако сведениям доверять можно – товарищ самолично присутствовал на съезде. Оказывается, незадолго до смерти Ленин продиктовал «Письмо к съезду» – своеобразное политическое завещание.
В нем – рекомендации по расширению состава ЦК и мнение о лидерах партии. Тут-то и скрывается самое интересное и таинственное. Людям, которых чтит и славит вся страна, Владимир Ильич дает отнюдь не лестные характеристики! По его словам, Троцкий – чрезмерно самоуверенный и увлеченный администрированием человек, Зиновьев и Каменев непредсказуемы и готовы к предательству; Бухарин вообще никогда не понимал диалектики, и его взгляды схоластичны; на Пятакова нельзя положиться в серьезном политическом деле…
– А Сталин? – нетерпеливо прервала Вихрова Светлана. – Ведь он – Генсек.
– Сталина, по словам Ильича, вообще стоит отстранить от должности, потому как он груб, что для Генерального секретаря недопустимо. Ленин видит опасность раскола партии в противоборстве Сталина и Троцкого, именно потому предлагает ввести в ЦК сотню рабочих. Вот такая, братцы, загадка для умов!
– Но… как же так, – растерянно пробормотал Меллер. – Ленин критикует соратников… а на кого же страна останется?.. Совершенно непостижимо!
– Более того, – пожал плечами Сиротин. – Странно, как он столько лет работал с неучами, самоуверенными и грубыми людьми? Или это только сейчас выяснилось?
– Нет-нет, ребята, тут что-то не так! – решительно тряхнула волосами Светлана. – Ильич – пламенный революционер и сильный политик. Это «Письмо» – большая политическая хитрость.
– Какая же? – сощурился Вихров.
– Пока не могу понять, – развела руками Светлана.
– А вот и давайте подумаем, – Резников заинтересовался разговором и подошел к компании.
– Разрешите мне начать, – подала голос Решетилова. – Первый вывод из услышанного: по мнению Ленина, среди его соратников нет достойного занять место вождя партии. Так? А раз таковых не имеется, значит, – коллегиальное руководство, что и записано в Уставе РКП(б). Введение сотни рабочих в ЦК – лишь подтверждение моих соображений. Без этой свежей пролетарской струи Центральный Комитет рискует превратиться в поле битвы. Мало ли мы уже повидали «оппозиций» и дискуссий? Что скажете?
– А может быть, Ленин заведомо очернил ряд членов Политбюро для того, чтобы незаметно выдвинуть некую «серую лошадку», более способную и преданную делу революции, – предположил Сиротин.
– А кого, Глеб? – спросила Левенгауп.
– Ну, кто там остается? – задумался Сиротин. – Рыков! Он – Предсовнаркома, официально – глава правительства…
– Рыков? – рассмеялся Вихров. – Да он последнее время больше думает о выпивке, чем о политике! Послушай любого москвича.
– А кто же еще? – размышлял Глеб.
– Томский! – выпалил Меллер. – Он – последний из членов Политбюро, профсоюзный вожак.
– Вряд ли, – наморщила нос Светлана. – Томский запутался во фракционности, публичных покаяниях и перебежках туда-сюда.
Она посмотрела на доселе молчавших Андрея и Лену Журавскую:
– А вы как считаете, тихони?
– Мне сложно говорить о том, что задумал вождь, – покраснела Лена. – Наверное, Наталья права: Ильич хотел усилить ЦК за счет рабочих, сделать высокий партийный орган более демократичным.
Журавская стрельнула глазами в сторону Андрея.
– У меня отдельное мнение, – рисуя пальцем на песке закорючки, проговорил Рябинин. – Ленин критикует соратников за определенные недостатки в деловом плане, и только одного – в личном. Вам это не кажется странным? Троцкий увлечен администрированием, Зиновьев и Каменев непредсказуемы, Бухарин – схоласт… А Сталин – всего лишь груб! Грубость, конечно, вредит делу, но не так, как непонимание диалектики или политическая ненадежность. Все мы очень мало знаем о Сталине, а то, что нам известно, – лишь хорошее. Он бывал в ссылках, оборонял Царицын, сейчас руководит всем партийным аппаратом. На фоне записного интригана Троцкого, «неустойчивых» Зиновьева и Каменева Сталин даже с его «грубостью» выглядит предпочтительнее. Ежели принимать версию Глеба о «серой лошадке», то эта «лошадка» – как раз товарищ Сталин. А там – кто разберет.
– Послушайте умного человека! – Решетилова легонько хлопнула по плечу Андрея. – Мнение интересное.
– Можно мне сказать? – подскочил на месте Меллер. – Вы вот толкуете о «серых лошадках», а мне подобное представляется совершенным бредом! Почему партией должны руководить какие-то «лошадки»? У нас есть блестящие вожди! Взять хотя бы товарища Троцкого. Да, он выступал против Ленина, был в оппозициях. А сколько он сделал для Красной армии? К тому же никто из вас не сможет отрицать его роли в Октябрьской революции. Лев Давидович – правая рука Ильича, а его метания – поиск лучшего пути строительства коммунизма. Ошибается только тот, кто ничего не делает, определенно!
– Отчего же его Ленин так подвздел-то, а? – усмехнулся Вихров.
– Ну-у… Ильич был болен, ни для кого не секрет. Хвати меня такой удар – тоже в чем хочешь засомневаюсь!
– Прости, Наум, но сказанное тобой – бестолковая чушь, – резко бросила Светлана. – Ленин – прежде всего политический деятель, он никогда бы не стал посылать съезду записок, навеянных болезненным недугом. Вспомните, вождь по болезни не присутствовал на многих партийных мероприятиях, но иногда выступал, к примеру, на четвертом Конгрессе Коминтерна, в ноябре двадцать второго – тогда его речь и мысли были ясны и вразумительны.
– Меня еще настораживает, что «Письмо» постарались сохранить в тайне от общества, – заметил Вихров.
– И правильно, – кивнула Светлана. – Для того, чтобы у таких, как наш Наум, не возникало дурных иллюзий об умственной несостоятельности вождя.
– Да не говорил я, что товарищ Ленин глуп! – возмутился Меллер.
– Успокойтесь, Наум, – мягко проговорила Решетилова. – Света лишь хотела сказать, что широкие массы могут не понять глубинного смысла ленинского послания.
– Его даже мы не можем до конца понять, – хохотнул Резников.
– Само собой, – согласился Сиротин. – Мы знаем содержание «Письма» со слов Вихрова, а он, в свою очередь, – от кого-то еще.
– Источник верный, – обиделся Вихров. —
И суть я вам передал слово в слово.
– Что бы там ни было, а Ильич не мог пожелать стране зла, – резюмировал Меллер. – Надо ввести в ЦК сто рабочих – значит, тому и быть; плохи его соратники – так пусть исправляются.
– Вот и весь спор, – развела руками Светлана и потянула носом. – Костик, цыплята подгорают!
Резников встрепенулся и побежал к костру.
– Послушать бы людей компетентных, – задумчиво проговорил Меллер. – Интересно, что говорят о ленинском «Письме» в губернских партийных кругах?
– А ты зайди к Луцкому да спроси, – усмехнулся Сиротин.
– Сведения рано или поздно просочатся, – махнула рукой Светлана. – Вот приедет Полли, мы ее и попытаем.
– К слову, когда Полюшка вернется? – обратилась к Андрею Решетилова.
– Обещала через неделю, – ответил Рябинин.
– Как она там? – поинтересовалась Светлана.
– Гуляет, отдыхает.
– Хорошо сейчас в Питере – белые ночи… Романтика! – мечтательно проговорил Вихров.
– Эй, ленивцы! – крикнул от костра Резников. – Подите, купнитесь и – прошу отобедать, цыплятки уже готовы!
* * *
Вечером, освеженный душем, напившись чаю, Рябинин полеживал на диване и курил папиросу. Он вспоминал поездку за город – веселое купание, разговоры о загадочном завещании Ленина, игру в мяч и песни под гитару. «Наталья действительно чудно играет и поет, – думал Андрей. – Голос у нее низкий, грудной и чуть хрипловатый, но проникновенный и неплохо поставленный. И руки очень красивые, пальцы тонкие, длинные, того и гляди, сломаются о струны… Неплохо отдохнули… А без Полины скучно, будто не видел ее вечность».
Он вспомнил их прощание на вокзале в Ленинграде. Паровоз уже разводил пары, пассажиры вошли в вагоны, и проводник несколько раз напоминал Андрею об отправлении, а они стояли на перроне, глядя друг другу в глаза. «Пора!» – первой решилась Полина и крепко поцеловала его в губы, не так, мимоходом, в угоду правилам и порядку, а страстно, горячо. Казалось, он до сих пор чувствовал тот поцелуй, вкус губ Полины и запах только ее «Коти».
Андрей вдруг понял, что стал по-другому относиться к Полине. Она уже не представлялась недосягаемым, воздушным созданием, которым он мог лишь робко любоваться. Теперь Андрей ощущал ее своей, родной и безмерно близкой, неразделимой с ним самим. Он впервые почувствовал любовь женщины. Было уже нелепо упрекать себя в порочности сладострастных мыслей и несовместимости их с этим прелестным существом. Там, на вокзале, Андрей осознал, что Полину влечет к нему так же, как и его к ней.
Он стал размышлять о том, что бы сделать для Полины приятное. «Подарить ей цветы? Украшение на память?.. Впрочем, это обычный знак внимания, само собой разумеющийся атрибут. Полина любит смысл и романтику…»
Его мысли прервал стук в дверь.
– Да-да, входите! – Андрей вскочил с дивана.
В комнату неторопливо вошел Георгий.
– Отдыхаешь? – широко улыбнувшись, справился он. – О-о, знатно, брат, тебя солнышком прихватило, прямо-таки бронзовый Персей!
Старицкий остановился перед другом и театрально развел руки в стороны:
– Не хочешь спросить, отчего я таким пижоном вырядился?
Рябинин оглядел новенький бежевый костюм, жесткий накрахмаленный воротничок и блестящие штиблеты:
– У тебя праздник или просто удачно справил дела?
– К черту дела! А праздник – у нас с тобой. Собирайтесь, monsenior, едем, шикарно отпразднуем нашу встречу. Повезу тебя в «Ампир»:
Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым!
– Э-э, дружок, да ты, я вижу, настроен романтически! – рассмеялся Андрей.
– Точнее – ностальгически. А как иначе, если видишь тебя? Ну, подымайся, доставай лучшее из твоего гардероба. Я познакомлю тебя с самой превосходной кухней в городе; нас будет веселить довольно пикантный дамский оркестр, короче – все заботы в сторону, сегодня предадимся безудержному кутежу.
Глава VII
Во время обеденного перерыва Рябинину позвонили с проходной и сообщили, что его ожидают.
За воротами завода лениво прогуливался Змей.
– Товарищу начальнику – пламенный привет! – кивнул он и пожал ладонь Андрея.
– Вижу, уличный телеграф работает четко, – улыбнулся Рябинин.
– А как же! Мои пацаны шустрят быстрее твоего Морзе, натурально, – фыркнул Мишка. – Че искали-то?
– Поговорить надо.
– Ну, так говори! – Змей засунул руки в карманы и приготовился слушать.
– Один хороший человек желал бы расспросить тебя о беспризорной жизни. Ему хочется написать на эту тему статью. Как известно, ты – первый человек среди «Вольной братии», кому как не тебе лучше других знать улицу.
Змей топтался на месте, легонько разбрасывая носком ботинка дорожную пыль.
– Встреча ни к чему тебя не обяжет, – уговаривал Андрей. – В обмен на разговор предлагаем тебе чай с бутербродами! Пойми, многие люди ничего доподлинно не знают о трудностях беспризорников, считают вас бродягами и ворами, отбросами общества. А мой приятель донесет до граждан правду.
– Коли писака этот не легаш, можно и поболтать, – Змей пожал плечами. – Я готов хоть сейчас, делать все одно нечего.
– Ну, до семи, положим, я занят: у нас на заводе после работы общее собрание намечается, а вот вечерком – пожалуй. Предлагаю встретиться в половине восьмого на улице Воровского, у дома номер девятнадцать. Знаешь, где это?
– Найдем, – махнул рукой Змей. – Там рядом – керосиновая лавка, так, что ли?
– Верно. Жду тебя у парадного. Договорились?
– Лады.
* * *
Меллер начал готовиться к встрече с королем беспризорников загодя. Он навел порядок в комнате, запасся пирожными и колбасой, вскипятил чайник. Перебрав свой небогатый гардероб, Наум решил одеться для рандеву в старенькую демократичную блузу, освежив ее шейным бантом черного цвета.
Ровно в половине восьмого в дверь позвонили. Меллер глянул в осколок зеркала, придал лицу серьезное выражение и побежал встречать гостей.
Андрей пропустил своего юного спутника вперед, представил Наума и Мишку друг другу. Меллер с нескрываемым интересом рассматривал знаменитого беспризорника. Он представлял Змея несколько иным – угрюмым и замкнутым подростком, влияние которого опиралось лишь на грубую силу и лихость. А перед ним стоял весьма симпатичный паренек, в живых глазах которого светился ум и практическая сметка.
– Однако ж, прошу к столу! – опомнился наконец Меллер.
Он усадил гостей, налил чаю, подвинул поближе к Змею тарелку с бутербродами.
Нисколько не стесняясь, Мишка быстренько опорожнил блюдо, проглотил чай и вопросительно посмотрел на Андрея. Переполненный радушием Меллер предложил Змею эклеры и приступил к делу:
– Видите ли, Миша, с недавних пор я служу в редакции газеты «Юный коммунар». Наше издание занимается проблемами детей, в том числе и беспризорных. Посему у меня есть к вам ряд вопросов.
– Валяйте, – Змей развалился на стуле и достал из-за уха папироску. – Гарочку засмолить разрешите? [21]
– Определенно, – поспешно откликнулся Меллер и продолжал: – Самый важный вопрос: почему вы противитесь политике партии в борьбе с беспризорщиной, не идете в детдома и школы?
Змей смерил Наума оценивающим взглядом и выпустил в потолок тонкую струйку дыма:
– Никакой «политике» мы не противимся, тут вы либо врете, гражданин, либо вам просто невдомек. На политику нам начхать, а не идем мы в детдома потому, что не хотим. Непонятно? Не хотим, и все тут! Че там, в детдоме, повидлом, что ли, намазано? Сами ж сказали – борьба! Мы для вас – лашлы, натурально…
– Лаш… что-что? – нахмурился Меллер.
– Враги! Потому и травите нас, как хорьков, минтонами погаными, жить покойно не даете. Птаху бестолковую и ту посади в клетку – враз подохнет, а мы – люди, хоть и маленькие.
– Минуточку, Миша, – остановил Змея Меллер. – Разве в детских домах беспризорным не создают нормальных человеческих условий? Там – врачи, регулярное питание, уход. Неужто прозябание в подвалах лучше? Ко всему прочему, в детдомах учат грамоте, затем вы можете поступить в фабзавуч, получить профессию, быть полезными обществу.
Змей недоверчиво покачал головой:
– Насчет жрачки – не согласен. В детдомах и колониях харч хуже, чем на кичмане [22], натурально. А учиться нам и вовсе ни к чему. На бирже вон сколько взрослых мастеровых болтается, работы ищут. Ну, получу я профессию, и что? Выделят на бирже протекцию [23] в восемь целковиков – и гуляй, зубами щелкай, снова иди воровать.
– Это совершенное заблуждение! – запальчиво вскричал Меллер. – Безработица – явление временное. Вы, Михаил, должны проявить сознательность и понять, что коммунизм без трудностей и жертв не строится.
– Змей никому ничего не должен, – отрезал Мишка. – Спросите любого. И сознательности вашей у меня нет, потому как я отсталый.
– Не горячитесь, прошу вас, – примирительно улыбнулся Меллер.
– Подожди-ка, Наум, – вступил в разговор Андрей. – Ты кипятишься не меньше Михаила. Позволь, я попытаюсь объяснить его позицию. Миша в беспризорной среде – авторитетнейшая личность, на улице его индивидуальные способности развиваются без стороннего воздействия и ограничений (а он, скажу тебе честно, – человек очень интересный и оригинальный). Михаил опасается, что в детдоме он потеряется, станет похожим на других. Прав я, а, товарищ Змей?
– Прав, натурально! – подтвердил Мишка.
– Минуточку-минуточку, – Меллер постучал себя пальцем по лбу. – Значит, Михаил считает, будто в детдоме слишком формально и обобщенно подходят к воспитанию?
– А че, не так, что ли? – хмыкнул Змей. – Утром – учеба, потом – кружки дурацкие, сборы пионерские… Знаю, бывали мы там.
– А как же вы хотели? – удивленно поднял брови Меллер.
– Черт его знает, – просто ответил Змей. – Я не губком, чтоб все знать. А только до революции ребятня делала кто что хотел: одни играли, другие дрались, я вот с отцом модели кораблей старинных сооружал.
– Ага, мне ясно, – тряхнул чубом Меллер. – Вы за свободный подход к воспитанию, без активного вмешательства государства. Однако растолкуйте, как же при этом воспитывать детей в духе коммунизма? Это, скажу я вам, работа кропотливая, и без системности здесь не обойдешься!
Змей пожал плечами и вновь взялся за эклеры. Так и не дождавшись ответа, Наум собрался с мыслями и вернулся к разговору:
– Следующий вопрос, самый щекотливый. О преступности, – он робко взглянул на Змея. – Можно?
Мишка одобрительно моргнул глазами и потянулся к чайнику.
– Не секрет, что беспризорники совершают много мелких преступлений: воруют, мошенничают, обирают домашних детей. Понятно, что это – способ существования, однако есть еще один момент – контакты со взрослыми преступниками. Что скажете, Михаил?
– Тут задачка посложнее будет, – нахмурился Змей. – Урки – они все разные. Законный варнак – тот со шкетами [24] и не свяжется, а какой-нибудь Филипп [25] паршивый, тот, глядишь, тузом корячится [26]. Мне не по нутру, когда мальцов заставляют на дядю гондобить. Бывает, подобьют братву на дело, те носятся как угорелые, а при расходе [27] получают грош на нос да перехонку [28] в придачу.
Меллер далеко не все понял из тирады Змея, но предпочел не спрашивать перевода и только уточнил:
– Выходит, обманывают вас воры?
– Случается, – поморщился Змей. – Шкетня – она ведь безмозглая, потому как неопытная и малолетняя, а воры – они хитрые.
– А налетчики? – вставил Андрей.
– Ну, налетчики – люди важные. Мы в их делах – не поддужники, а коли попросят чего, так и отблагодарят по совести.
– И все же, как можно удержать беспризорных от соблазна стать настоящими преступниками? – спросил Меллер.
– Сдержать нелегко, – вздохнул Змей. – Иной гад так пацанам баки забьет, горы золотые наобещает, что держись! Наврут дурачку: «Будешь нам другом, никто тебя ввек не тронет – ни шпана, ни легавые. На дело стоящее ходить будешь, пенезы лопатой грести». Ага. Шкет бестолковый уши-то распустит по ветру, рот раззявит и давай за ворами хвостом болтаться. Туда его, осла, пошлют, сюда; он и бегает, как карусель, служит. Потом ему сунут в руку перышко [29] или, того хлеще, шпалер, и – давай, мол, потрох, режь, пали! А в кого палить, что за фигура, дурак и сам не знает. Наутро хвата [30], глядишь, уже вяжут легавые, пытают, за что, мол, человека в могилевскую-то отправил? [31] А он и сам не знает, потому как авторитет ему, фраеру занюханному, приказал. Дальше ясно: допр [32], следствие, и – заиграли трубы – приговор!
Не гулять мне, как бывало,
По широким по полям,
Моя молодость пропала
По острогам и тюрьмам!
– Интересно, а что вы, Миша, о себе скажете? – спросил Меллер.
– А то и скажу, что я хожу особняком [33], мне воры – не указ. Да, воровал, да, мухлевал, волынки [34] устраивал, но делал все сам – сам же и ответ держал. А коли брал в долю поддужников, так не обижал.
– Расскажи-ка об этом поподробнее.
– Так секретов нету, натурально. Объегориваю в стирке [35] сынков нэпманских; достаю-меняю вещички всякие; продаю торговые места папиросникам, ирисочникам да фаускерам [36].
– Это как?
– А очень просто. Коробейники сопливые, считай, по всему городу торгуют, а охранять их некому.
– Охранять?
– Натурально! Бегает пацан домашний с лотком по панели, ириски толкает, патенту у него нет, того и гляди – минтон схватит. А попался – беда: родичам – штраф, товар изымут. Моя братва следит за приближением пиратов [37] и дает коробейнику сигнал.
К тому же мы отгоняем от деляги шакалов разных, скряг подлых, выкупаем «своих» торговцев от воров. А в городе, скажу я вам, полным-полно хламидников [38], тех, что не гнушаются, сволочи, обирать мальцов. Мы им копеечку сунем, они и рады. Отдельная команда у меня собирает бутылки, другая – утиль. Однако ж главное – со старьевщика пенезы получить. Иной гад, бывает, схватит палку и прогонит братву; со мной же считаются, я и ответить могу!
Наум слушал Змея, открыв рот. Мишка закончил, съел последний эклер и нетерпеливо заерзал на стуле.
– Да-да, Миша, мы заканчиваем, – заторопился Наум. – Последний вопрос: что могли бы сделать для беспризорных взрослые?
– Так все одно ж не сделаете, – скривился Змей.
– Ну, попытаемся, обещаю.
– Ой, сомневаюсь.
– А все-таки?
Мишка задумался.
– Главное – нас не трогать, – нарушил молчание Змей. – И потом: разрешите вольной братве ходить на стадион и детские площадки, а то нас дворники гоняют. Еще – бани. Не везде шпану пускают – боятся, что мы им вшей натащим. Сейчас-то хорошо – лето, а вот в мороз – худо… Во, вспомнил! Пропечатали бы в своей газете, что отправлять за побег из детдома в колонию – натуральное ссучество! Надо это отменить. Летом сбежать из детдома – святое дело: братва едет на юг отъедаться, море поглядеть, горы. Все одно к холодам многие возвращаются… А больше ничего и не надо.
Меллер взглянул на часы:
– От души благодарю вас, Миша, за разговор.
В вашем лице я встретил человека определенно положительного.
– Спасибочки, гражданин Наум, – ответствовал Змей. – Конечно, если бы не товарищ Андрей, которого я уважаю, ни за что не пришел бы; а так – за мной небольшой должок остался.
Мишка подмигнул Рябинину и поднялся:
– Пойду я, счастливо вам оставаться.
* * *
Проводив Змея, друзья вернулись в комнату.
– Ну, как тебе король беспризорников? – спросил Андрей.
– Занятная фигура, – усмехнулся Меллер. – Бузотер [39] он, видно, знатный, но беседа вышла на славу, я на многое стал смотреть по-другому. Знаешь, какая мысль пришла мне в голову? Я где-то читал, что в одной губернии организовали трудовые колонии беспризорных. Нет-нет, это не исправительные заведения, скорее наоборот. Понимаешь, берут в аренду старый помещичий дом в деревне, привозят туда беспризорных. Там они живут, здание ремонтируют, разводят скот для пропитания, ухаживают за садом. Дети приучаются к труду, сами зарабатывают кусок хлеба, и – самое важное – они оторваны от городской беспризорной среды.
– Очень любопытный опыт, – согласился Андрей.
– Надо бы сходить в губкомол, помозговать с ребятами, – решил Меллер. – А уж потом двинем в печать большую статью о проблемах беспризорности и путях ее искоренения. Правильно?
– Ага.
– Послушай-ка, а что тебя так сблизило со Змеем? Он ведь прямо-таки уважает тебя! Для такого индивидуалиста, как Мишка, это выглядит определенно странным.
– Змей мало видел людской теплоты, я же отнесся к нему дружески, по-человечески, предложил участие. Несмотря на его показную заносчивость, он добрый парень. Только вот воздействовать на него лучше осторожно, с оглядкой.
– А ты прямо-таки педагог! – улыбнулся Меллер.
– Я же восемь лет командовал бойцами, хочешь или нет – приходилось быть и педагогом.
Андрей посмотрел на часы:
– У-у, как быстро летит время! Ты ужинал?
– Еще нет.
– И я. Сегодня такой трудный денек выдался, что сил нет готовить еду. Давай отужинаем в трактире?
– Идет. А что, у вас на «Ленинце» опять «внеурочные»?
– Да не совсем. После работы было общее собрание коллектива. Создали мы на заводе производственное совещание.
– Что ж это за зверь такой?
– Производственное совещание есть выборный орган, он состоит из представителей всех цехов и служб, дирекции, завкома, партячейки. Орган призван заниматься внедрением новых видов продукции, реконструкцией производства, обучением молодежи, социальными вопросами. Задумка хорошая: производственное совещание объединяет усилия администрации, завкома и парторганизации, устраняя тем самым их противоборство и потуги на лидерство. Идея родилась еще зимой, в высших партийных кругах. На последнем же съезде лишний раз подчеркнули необходимость создания производственных совещаний.
– Ну и как прошло?
– Суматошно. Директор предложил выбрать по два делегата от каждого цеха, партячейки и завкома, плюс – представители службы главного инженера. Битый час судили да рядили. Особенно волновались литейщики и рабочие механического. У нас было потише. Выбрали Дегтярева с заготовительного участка и меня.
– Тебя?
– Ага. Сам не ожидал. Причем единогласно. Только комсомольцы из бюро были против. Выступил Крылов, сказал, будто Рябинин «якшается» с нэпманами, а Самыгин заметил, что я работаю на заводе недавно и потому плохо знаю проблемы производства. На них тут же накинулись Ковальчук с завкомовскими стариками, да и Трофимов поддержал мою кандидатуру.
– А что ваш Крылов имел в виду, когда говорил о нэпманах? – недоуменно пожал плечами Меллер.
– Очевидно, намекал на моего фронтового друга Старицкого. Он ведь заведует пекарней.
– Ах да-да, ты говорил.
– Так вот, вчера вечером после пикника Георгий пригласил меня на ужин в «Ампир»…
– Ну-у, тогда представляю, что произошло! Тебя видел какой-нибудь комсомольский патруль?
– Вот именно. Сидим мы, закусываем, слушаем дамский оркестр, а они идут мимо, заглянули в зал. Среди патрульных был и наш Крылов.
– И все же это не повод для отвода кандидатуры, определенно! – решительно взмахнул рукой Наум.
– Я тоже так думаю… А вот Самыгин меня просто озадачил! У нас с Сашей были очень ровные отношения. После собрания он бросил мне, что объяснит попытку отвода при отдельном разговоре. Что он там еще выдумал – не знаю.
– Плюнь, Андрюша, все это – глупые козни, – заявил Меллер. – Идем-ка ужинать.
Глава VIII
Андрей уже собирался домой, когда в его кабинет заглянул Самыгин.
– Задержись, товарищ Рябинин, разговор есть, – комсомольский секретарь плотно притворил за собой дверь.
– Рабочий день закончен, а о комсомольских или общественных мероприятиях, по-моему, не сообщалось, – сухо ответил Андрей.
– Я зашел объяснить причину моего поведения на вчерашнем собрании.
– К чему объяснения? И так все ясно: вы с Крыловым составили небольшой заговор, чтобы завалить мою кандидатуру. Только непонятно, почему бюро ячейки путает мой моральный облик с деловыми качествами. Производственное совещание – не идеологический отдел, и в его обязанности не входит задача вникать, где и с кем я ужинаю в выходные дни.
– Не обращай внимания на Крылова. Он чересчур зарапортовался, – поморщился Самыгин и подвинул себе стул. – Садись, разговор будет долгим.
К отводу Крылова я не имею ни малейшего отношения, поверь. Я выступал против тебя совсем по иному поводу.
– Неужто? – усмехнулся Андрей.
– Даю слово комсомольца. А сделал я это из соображений здоровой рациональности. Видишь ли, Андрей Николаевич, в воскресенье я имел разговор с товарищем Гриневым, членом коллегии ГПУ и главным помощником самого товарища Черногорова…
Андрей почувствовал легкий холодок в груди: «Ну, началось. Папочка приступил к активным боевым действиям!»
– …Так вот, коллегия ГПУ считает, что тебе необходимо поработать на органы. У чекистов сложилось положительное мнение о тебе, особо отмечаются заслуги в гражданской войне, многолетний фронтовой опыт. Сегодня страна переживает сложный исторический момент – началось восстановление хозяйства, мы уже стали жить лучше, но все еще копошатся по темным углам буржуазные недобитки, в городах орудуют уголовные элементы. В ГПУ не хватает грамотных, опытных кадров…
– Прекрати агитацию, Саша, – оборвал Самыгина Андрей. – Мы с тобой не на кружке политграмоты. Говори по существу, чего хочет Черногоров. Чтобы я перешел в ГПУ?
– Да.
– И именно поэтому, зная о том, что я, как комсомолец, не должен отказаться от столь лестного предложения, ты пытался дать мне отвод?
– Так точно.
– Логично: зачем избирать человека в состав производственного совещания, ежели завтра он окажется на другой работе?
– Я рад, что ты все правильно понял, – облегченно вздохнул Самыгин.
– Оставим в покое Гринева, скажи мне вот о чем: ты действительно считаешь, что служба в ГПУ более необходима стране, нежели работа на заводе?
– Безусловно, – уверенно отчеканил секретарь. – Наша страна окружена кольцом буржуазных враждебных государств, поэтому служба в органах безопасности крайне важна. Это – почетный долг каждого коммунара!
– А как же подъем народного хозяйства? Что, ежели все грамотные да опытные кадры перейдут в ГПУ? Кто будет работать на заводах и фабриках? Лабутные да престарелые Петровичи?
– Не перегибай, товарищ Рябинин! – шутливо погрозил пальцем Самыгин. – Ты занимаешься гнилой демагогией, лживую софистику разводишь. Я говорю тебе не о всеобщем переходе специалистов в ГПУ, а о переводе в чекисты лишь тех, в ком органы наиболее остро нуждаются. К тому же еще неизвестно, как ты там приживешься. Быть может, эта работа действительно не для тебя. Один мой приятель отслужил в органах три года и вернулся на фабрику. Всякое бывает, но отвергать предложение чекистов нельзя, товарищ Рябинин, это несознательно и недостойно комсомольца. Вникаешь?
– Вникаю. Однако служить в ГПУ не хочу. Не по нутру мне это.
Лицо Самыгина побагровело, брови нервно изогнулись.
– А мне, думаешь, по нутру ходить в освобожденных секретарях, быть кабинетным писакой и белоручкой? Да я кондовый пролетарий, грамотный слесарь! Я же не кричу об этом на каждом углу. Направил меня комсомол на идеологический фронт – я и служу. Потому что так надо!
Он с минуту помолчал.
– Извини, Андрей Николаевич, – уставшим голосом проговорил Самыгин, – нервы сдают. А по секрету добавлю, лично от себя: подумай еще и о том, что отказываться от предложения Черногорова небезопасно. Для карьеры, вообще… Так что – думай сам.
Самыгин поднялся и пошел к двери.
– Благодарю за откровенный разговор, Саша, – сказал Андрей. – Я еще хотел кое-что уточнить о завтрашней акции.
– О ликвидации монастыря? – обернулся секретарь.
– Да. Что мы все-таки будем делать?
– Что делать? Возьмем ломики, кирки да лопаты, начнем разбирать стены, монастырские здания. Тебе, может, это и в новинку, а мы, городская комса, уже третий монастырь рушим. Кирпич пойдет на нужды народа, ценности – в казну. Подладишься, дело нехитрое, хотя и ответственное. – Самыгин помахал рукой: – Бывай, Рябинин, свидимся!
* * *
Андрей неторопливо шел по улице.
«Что бы там ни было, а времена теперь не военные: жизнь изменилась, и чекисты уже не столь всевластны. Сегодня главная задача – не борьба с врагами революции, а мирное строительство. Проявлю твердость, и отстанет папочка. Итак, будем размышлять хладнокровно и прагматически. Трофимов, похоже, ко мне благоволит, объясню ему, что твердо решил остаться на заводе, – заступится.
А авторитет у директора огромный. Теперь – наши отношения с Полиной. Что ж, всем о них известно, все знают, что это серьезно. Кирилл Петрович, в конце концов, не только зампред ГПУ, но и отец. Не сгноит же он во глубине сибирских руд верного друга и возлюбленного дочери.
М-да, до чего же низкий аргумент! Стыдно, господин капитан! Некрасиво, товарищ комэск и орденоносец!.. А проблема между тем острая. Что сказал бы папа? Осудил бы. Может, спросить совета у Жорки? Впрочем, с его циничным отношением ко всему… А там как знать – человек он далеко не глупый, наверняка сумеет трезво оценить ситуацию».
* * *
Расположившись в уютной беседке, Георгий занимался проверкой бухгалтерских книг.
Звонко хрустнула сухая ветка. Старицкий поднял голову: по тропинке сада шел Рябинин.
– А-а, это ты! – радостно улыбнулся Георгий. – Хорошо, что зашел. Забирайся ко мне.
Он обнял Андрея и усадил на скамью.
– Бдительность потеряли-с, господин разведчик, – покачал головой Старицкий.
– Это почему же?
– Слышно вас за версту, веточки каблуками кромсаете, а, Михайло Топтыгин?
– А тебе, Жорка, фронтовая наука, видно, по самые печенки засела, – усмехнулся Рябинин.
– В Стране Советов бдительность – архиважная составляющая жизни… Постой-ка, дружок, ты здоров? – Георгий пристально взглянул на Андрея. – Вид у тебя крайне опечаленный.
– Извини, Жора, что я зашел без приглашения, – Рябинин опустил глаза. – Хочу спросить твоего совета.
– Бросай свои «политесы», ты в моем доме всегда желанный гость. Ну, что там у тебя стряслось?
Андрей потянул из кармана папиросную коробку:
– Даже и не знаю, с чего начать… Короче говоря, меня приглашают работать в ГПУ. Впрочем, «приглашают» – мягко сказано, – тащат, будто арканом, и как я ни упираюсь, все одно – не отстают.
Лицо Старицкого стало жестким и сосредоточенным, вокруг глаз залегли морщины.
– Что мне делать, посоветуй, – Андрей развел руками и бессильно опустил их на колени.
Георгий с минуту помолчал, затем его широкие ноздри нервно вздрогнули.
– М-да-а, задачка! – он натянуто улыбнулся.
– Тут, брат, не до смеха, дело серьезное, – с легким укором проговорил Андрей.
– В чем именно?
Рябинин вкратце рассказал о своих тревогах. Старицкий внимательно выслушал, вышел из беседки и прошелся по саду.
Когда он вернулся, его лицо было веселым и беззаботным.
– Как я понимаю, тебя останавливают три вещи, – заговорил Георгий. – Первое – мораль: ты не хочешь служить в большевистских карательных органах, которые уничтожили немало твоих друзей и вообще массу народа. Второе – элементарный страх: секретная служба рано или поздно может докопаться до истинного Рябинина. И наконец, третье – тебе не хочется работать рядом с отцом любимой девушки, человеком, неприятным тебе по двум вышеуказанным причинам. Верно?
– Ты забыл еще одно. Я устал воевать с кем бы то ни было, будь то вражеские солдаты, шпионы или бандиты.
– А вот здесь ты врешь, Мишка! – усмехнулся Георгий. – Что ты еще делать-то умеешь? Ну-ка, вспомни! Только не говори, что командовать гегемонами на «Красном ленинце». Лучше всего мы умеем убивать, убивать грамотно, с толком, без рассуждений и зазрения совести…
– Перестань! – Андрей резко вскочил на ноги. – Хватит! Я пресытился войной, она у меня изо всех щелей смрадной блевотиной прет. И… не вводи во грех, Жорка, а не то!..
– Вот-вот-вот! – расхохотался во все горло Георгий. – Вот оно, подтверждение моих слов. Вот он, каппелевский капитан Нелюбин во всей своей первозданной красе! А словечки-то, словечки какие, ваше благородие! Окопами от вас прет, постановкой во фрунт и расстрелами дезертиров.
– Жорка!
Старицкий примирительно поднял руки вверх:
– Умолкаю, умолкаю. Извини, Мишка. Не беснуйся, я, брат, и в самом деле подумал, что ты лукавишь… Так ты и вправду решил стать мирным обывателем?
– Сказал уже.
Андрей справился с собой и сел на скамью.
– Сам-то ты, офицер ударного батальона, что ж булки подрумяниваешь? – фыркнул он.
– Э-э, Мишенька, у меня своя война, свой фронт, маленький и тихий, – Георгий погрозил ему пальцем. – Ну да ладно, пошумели – и будет. Значит, так. У нас три причины, в силу которых ты не желаешь стать славным чекистом… Слушай, говорю уже серьезно. Во-первых, твоя мораль смешна. Службу старой России ты справил, новой – тоже чин порядком отвел. Так что брось эти сентиментальные штучки. Страх перед разоблачением, конечно, силен. Однако в ГПУ мало осталось дураков в пулеметных лентах поперек груди и с бутылью самогона в кармане. Тебя наверняка проверили.
Черногоров – сволочь хитрая и осторожная. Если сам не дашь повода для подозрений, никто заново не сунется. И последнее – личные мотивы. Поверь, любой отец возлюбленной насторожен возникновением будущего зятя. Ты претендуешь на обладание его кровным дитя, на которое он имеет пока все права. Если ты женишься на Полине, эти страхи вмиг уйдут в прошлое, ибо славянин в браке есть жуткий собственник по природе своей, а женщины наши видят в муже хозяина, ручного зверя и отца родного одновременно.
– Ну ты загнул! – Андрей покачал головой. – Полина – не патриархальная мещанка, а культурная, самостоятельная девушка.
– Верю, верю, товарищ Рябинин, – покорно покивал Георгий. – Однако заметьте, вы говорите сейчас о ней. А о себе (собственнике, тиране и диком скифе) помалкиваете.
Друзья расхохотались.
– Да и вообще, воспитание и культура здесь ни к чему, – скривил губы Георгий. – В любви одинаковы и горничные, и королевы.
– А вот дальше – не надо, – предостерег Андрей. – Не уклоняйся от темы.
– От темы? Так я…
– От моей темы.
– Ах, да… Я считаю, в ГПУ тебе следует пойти. Не уступишь – испортят они тебе карьеру. И жизнь. Это он для тебя – папаша Полины, а ты для него – материал, глина. Да и не это главное. В обществе такое трепетное отношение к ГПУ, что тебя просто не поймут. Могут и в самом деле начать проверять.
У меня родилась мысль! Сделай упреждающий удар, как на войне. Они тебя просят, а ты явись сам, пока силой не заставили. Попроси себе выгодное подразделение, чтобы не сидеть в пыточном подвале и терзать белогвардейских шпионов, а действительно полезный участок… Ну, к примеру, борьбу с бандитизмом… А что? Говорят, в ГПУ создали ударную группу по ликвидации преступности в городе. Работа интересная и от политики далекая. А?
– Не ожидал, что ты дашь мне подобный совет, – задумчиво проговорил Рябинин. – Хотя ты всегда отличался прагматизмом.
– Не надо было меня спасать весной семнадцатого, – пожал плечами Георгий. – Спрашивал бы тогда совета у комсомольской ячейки.
– Ладно, спасибо за честность.
– Принимаю как должное, потому как честность нынче – штука редкостная, в моем обиходе особенно. А напрягал я фибры своей дрянной души исключительно ради твоей пользы… Хватит, пошли в дом, темнеет.
Они неторопливо двинулись по тропинке.
– А ведь ты всегда боялся темноты, Жорка! – засмеялся Рябинин. – Помнишь, как мы тебя на чердаке пугали?
– Никогда такого не бывало, врешь ты. Когда ж такое было? Не помню.
– Во втором классе гимназии. Да и в юнкерах тебе по ночам ведьмы мерещились.
– Это когда вы мне ужа в постель подложили? Так и ты бы испугался! Ложишься, а под одеялом – холодная гадина…
Глава IX
11 июня, в полдень, личный состав комендантской роты ГубОГПУ был построен во внутреннем дворе Управления. По ступенькам заднего крыльца легкой пружинистой поступью сошел Черногоров. Зампред остановился перед строем и, заложив руки за спину, заговорил:
– Товарищи! Сегодня вашему подразделению надлежит выполнить задачу по охране Свято-Никольского монастыря. Именно сегодня, в пятнадцать ноль ноль, начнется операция по ликвидации этого оплота религиозного дурмана. Уже через час сотрудники Секретного отделения [40] приступят к экспроприации ценностей и имущества монастыря, а затем коммунары завода «Красный ленинец» начнут поэтапную разборку зданий. Ваша задача: оцепить монастырь и не допустить проникновения на его территорию горожан, дабы монахи не смогли провести среди населения антиправительственной агитации. Руководство операцией я возлагаю на товарища Гринева, дополнительные инструкции вы получите от него уже на месте. Все!
* * *
Сводный отряд комсомольцев и партячейки «Красного ленинца» разбирал монастырскую стену уже более двух часов. Люди запарились, хотелось пить. Рябинин вызвался принести воды.
У монастырских конюшен его остановил строгий человек в штатском:
– Куда вы, гражданин?
– Люди уморились, пить хочется. Не подскажете, где мне набрать воды?
– Вы с «Ленинца»? – уточнил незнакомец. – Вон за той церковью есть источник. Только куда ж вы наберете-то? Подождите, найду вам ведро.
Человек пошел на конюшню и через минуту вернулся с двумя ведрами.
– Берите, чистые, – сказал он. – Потом непременно верните их мне, ведра занесены в опись.
Рябинин поблагодарил и направился к старинной церквушке во глубине двора. За углом, из обложенной цветными изразцами каменной чаши бил ключ. Андрей напился, подставил ведро под струйку и пошел посмотреть храм.
Тяжелые кованые двери были распахнуты настежь. Шаги гулко отдавались под сводами. Очевидно, здесь уже провели конфискацию – золотое убранство колонн и оклады исчезли, на гладком полу там и сям виднелись следы недавнего разгрома. Андрей дошел до центрального придела и остановился перед иконой Спасителя. В отсутствии обрамления иконы и свечей Христос казался близким и земным. Андрей не был в церкви около пяти лет, он стал вспоминать молитвы, но слова путались. Вдруг Андрей понял, что ему самому непонятные фразы складываются в понятный свыше смысл, словно сердце его распахнулось и полетела душа в неведомые пределы.
Он попытался собраться с мыслями: «О чем я могу просить, Господи? И смею ли, от той бездны грехов, что поработили мою душу? Могу ли просить о прощении за то, что уподобился зверю лютому, за жестокость и непримиримость, за сжигающий душу гнев и забвение всего святого и человеческого? Или за сегодняшнюю неправедную ложь и трусость, страх и высокомерный цинизм… Того ли я желал, Господи? Блудника и разбойника, кающаяся принял еси, Спасе, аз же един леностью греховною отягчихся и злым делом поработихся; душе моя грешная, сего ли восхотела еси?.. Прости и тех, Господи, за кем я шел все эти годы, и в кого верил; прости их, возжелавших взять на себя право Твое вершить судьбы людские. Прости и врагов моих, ужасных в своем неведении, попирающих силу Твою и одурманенных злыми силами…»
Андрей не заметил, сколько прошло времени, может, минута, а может, целая вечность. Он хотел было завершить молитву и напоследок перекреститься, как заслышал шаги. «Не хватало еще, чтобы меня за молитвой застукали!» – подумал Андрей и быстро скрылся за святыми вратами. Он оставил небольшую щелку между створками, чтобы наблюдать за происходящим в церкви, и приготовился ждать, когда минует опасность.
К центральному приделу шел монах. Седая борода падала на грудь, голова в черном клобуке была опущена. Он дошел до иконостаса, опустился на колени и стал молиться. Монах был очень стар, сухое, иссеченное глубокими морщинами лицо говорило о нелегкой судьбе и мучительной душевной борьбе. При этом глаза монаха поражали детской чистотой и безмятежностью, смирением и глубокой верой.
Снаружи храма послышался шум.
– …Я сам разберусь, – раздался в дверях хорошо знакомый Андрею голос.
По направлению к центральному приделу шагал Черногоров. Подкованные каблуки его щегольских сапог дробно выстукивали по полу. Ладно подогнанная гимнастерка выгодно облегала фигуру. Левая рука зампреда была заложена за спину, правой он давал отмашку, как на параде.
Черногоров остановился рядом с монахом.
– Подымитесь, отец Филарет, вы мне нужны, – приказал зампред.
Старец перекрестился, встал на ноги.
– Вы не позволите сотворить последней молитвы в моей обители? – хмуро спросил он.
– Время не терпит, – отрезал Черногоров. – Ризничий сказал, будто ключи от библиотечного хранилища имеются только у вас, так что извольте добром отпереть замки.
Отец Филарет покорно кивнул:
– Хранилище я отворю, сын мой, однако нельзя ли просить вас о небольшом одолжении?
– Что еще? – скривился Черногоров.
– В библиотеке хранится «Псалтирь», подаренный мне Святейшим Патриархом Константинопольским. Не могу ли я оставить книгу себе?
– Вона как! – зампред удивленно поднял брови. – Оставить! Все находящиеся в библиотеке книги – народное достояние.
– Поймите, «Псалтирь» – не драгоценная реликвия. Книга дорога лично мне, как память о посещении Святого Града в ту счастливую пору, когда я был совсем молодым иноком…
– Неважно, – отмахнулся Черногоров. – Книга принадлежит монастырю, а все его имущество подлежит экспроприации. Слышите, все имущество! Ну, что задумался? Идем, люди ждут.
– Задумался я о превратностях судьбы… – тяжело вздохнул отец Филарет.
– О чем же, интересно? – снисходительно улыбнулся зампред.
– О том, каким благочестивым был покойный Петр Ефимович и каким стал сын его, коего младенцем я самолично крестил. Тебя, Кирилл!
– Усовестить меня хочешь, старик? – Глаза Черногорова вспыхнули. – Отца припомнил, крещение… Зря стараешься. Знай: я тебе ничем не обязан. Более того, у меня нет к тебе личной неприязни, я – солдат партии и выполняю ее приказы! – Голос Черногорова гремел под сводами храма. – Довольно пререкаться, ступай-ка лучше в хранилище!
Отец Филарет повернулся к изображению Христа, перекрестился, отдал глубокий поклон и направился к выходу.
* * *
Коммунары «Красного ленинца» закончили работу затемно. По домам расходились с пением революционных песен и залихватских частушек. Андрей незаметно улизнул, сел на трамвай и предался невеселым размышлениям о прошедшем дне. Вагон поднялся на горку и вкатился на Губернскую. Справа недремлющими глазами ярко освещенных окон поглядывал на город темный особняк ОГПУ. Рябинин вспомнил давешний разговор с Георгием, решительно встал со скамейки и сошел на ближайшей остановке.
* * *
Дежурный ОГПУ немало удивился запоздалому посетителю, пожелавшему увидеть товарища Черногорова. Еще больше поразил дежурного ответ зампреда: поначалу он загадочно хмыкнул в телефонную трубку, а затем приказал незамедлительно проводить гостя к нему в кабинет.
Черногоров встретил Андрея радушно, как старого приятеля:
– А-а, Андрей Николаич! Проходите, садитесь. Хотите чаю или глоток вина? С устатка не желаете?
Андрей с благодарностью отказался и уселся в кресло:
– Я по делу, Кирилл Петрович.
– Неужто свататься пришел? – засмеялся Черногоров. – Шучу, не обижайся. К слову: вот, получил телеграмму от Полины, обещает быть к выходным.
Кирилл Петрович протянул Рябинину бланк. Андрей пробежал глазами по строчкам:
– Мне она тоже сообщила, что вернется в пятницу.
– Вот они, дела амурные! – Черногоров шутливо покрутил головой. – Родителям пишут неопределенно «к выходным», а другу любезному – как в отчете, «в пятницу»!.. Ладно, что там стряслось? Не диверсия ли на «Ленинце» намечается, или агенты империализма расплодились?
– Разве к вам на прием только за этим люди и ходят? – усмехнулся Рябинин.
– А я не о «людях» говорю, – о тебе, Андрей Николаич. Общаться со мною вы избегаете, замечал; выходит, либо о врагах революции зашли рассказать, либо что-то произошло.
– Ну почему же избегаю? – Андрей пожал плечами. – Случая не представлялось.
– А теперь представился? – сощурился зампред.
– Пожалуй. Только скорее не случай, а ответный визит.
– Это как же понимать?
– Я, знаете ли, стараюсь быть вежливым. Вы несколько раз обращались ко мне с определенным предложением, совсем недавно даже через третьих лиц. Вот и пришел объясниться и дать ответ.
Черногоров рассеянно слушал, однако его полуприкрытые глаза были внимательны и сосредоточенны.
– …Я понял, что ваше предложение служить в ОГПУ серьезно и продуманно. Я также немало размышлял над ним. Быть может, служба в органах действительно полезнее стране, нежели работа на заводе?
Рябинин с минуту помолчал. Черногоров тоже держал паузу. Наконец он спросил:
– Значит, вы согласны?
– Пожалуй, – кивнул Андрей. – С одним небольшим условием, ежели оно, конечно, допустимо.
– Попробуйте, – хмыкнул зампред.
– Мне не хотелось бы заниматься делами сугубо политическими. Я – грамотный человек, знаю французский и немного немецкий языки, могу быть полезным в работе с документами…
– Ну, хорошо, – прервал Андрея Черногоров. – Допускаю ваше условие. Но для того, чтобы определиться с вашей будущей службой, ответьте на вопрос: что вы, как советский гражданин, считаете наиболее важной проблемой нашего города?
– Как вам сказать… – задумался Андрей.
– Отвечайте просто, по-обывательски, как человек, далекий от забот нашей службы.
– Гм… Бедность, преступность, – Андрей развел руками. – В городе много жулья, и, по-моему, милиция с ними не справляется.
Черногоров откинулся на спинку кресла и довольно улыбнулся:
– А у нас мнения совпадают! Давайте заключим джентльменскую договоренность: я принимаю ваше условие, а вы принимаете руководство особой группой по борьбе с уголовной преступностью в городе.
– Вот так, с наскока, и – руководство? – недоверчиво проговорил Андрей.
– А что? Опыт у вас есть, пусть армейский, но все ж боевой. Подладитесь по ходу дела.
– Чем именно мне предстоит заниматься?
– Гимназистом! – отчеканил зампред. – Слыхали о таком?
– Доводилось, – кивнул Андрей. – Налетчик-призрак.
– Вот-вот. Его и будете разрабатывать. Группа уже создана. Они добрых пару недель штудируют материалы «дел», сводят воедино и анализируют сведения. Мне нужен в группе свой человек.
– А что, в вашем понимании, «свой»? – насторожился Андрей.
– Испытанный, стойкий, энергичный, умный, не зараженный рутиной милицейских будней и интригами ГПУ.
– Надеюсь, не более.
– Нет. Ну, и личные мотивы, само собой! Нравишься ты мне, Андрей Николаевич.
– Это к делу не относится.
– Правильно! Хвалю. Так и знал, что не будешь смешивать личные привязанности и интересы дела.
Андрей поднялся:
– Когда мне приступать?
– О-о, молодец, кавалерист, нет слов, – широко улыбнулся Кирилл Петрович. – Для начала в общих чертах ознакомься с материалами «дел». Тебе их в ближайшее время доставят на дом. Недели, думаю, хватит. А с двадцать третьего числа и приступай.
– А как же завод?
– За «Красный ленинец» не волнуйся. Трофимов завтра же получит служебное письмо на открепление и командирование тебя в распоряжение ОГПУ. Пока временно, скажем, до Нового года. Ячейка поддержит.
– Не сомневаюсь. Однако прошу вас оставить меня на заводе еще неделю, я должен сдать дела. Материалы на Гимназиста смогу изучать вечерами.
– Верно, это по-пролетарски, – Черногоров кивнул.
– Разрешите идти?
– Ступай. И вот еще: по всем вопросам и за разъяснениями обращайся непосредственно ко мне. Понял?
Глава Х
Вечером четверга Рябинин заглянул к Георгию – рассказать о встрече с Черногоровым. Старицкий одобрил переход Андрея в «особую группу» и посоветовал другу излишне не терзаться сомнениями. Поболтав с полчаса о разных пустяках, Андрей попрощался и отправился домой.
У парадного он наткнулся на дворника, который сообщил, что несколько раз звонила девушка и просила передать товарищу Рябинину, что она приехала. Андрей поспешил в домком и набрал номер Полины.
– Привет! Объявился? – раздался в трубке радостный голос. – А я вот приехала днем раньше, свалилась вам, как снег на голову. Приходи побыстрее, мы уже за столом!
* * *
Дверь отворилась, и Андрей увидел на пороге загорелую девушку, которую поначалу не узнал.
– Вот это да! Где ты успела так загореть?
– На Островах! – рассмеялась Полина.
Она втащила Андрея в переднюю и бросилась ему на шею:
– Я ужасно соскучилась!
Андрей целовал ее горячие упругие губы, с опаской поглядывая на двери гостиной.
– Идем, неудобно, – проговорил он.
В просторной столовой Черногоровых оживленно беседовали четверо: Кирилл Петрович, Анастасия Леонидовна, Наташа Решетилова и незнакомая Андрею пухленькая девушка лет двадцати.
– О, нашего полку прибыло! – радостно поприветствовал нового гостя Кирилл Петрович и пожал ему руку. – Поддержите-ка, Андрей Николаевич, в споре мужскую половину.
– Подожди, папа, – прервала отца Полина. – Здесь не все знакомы с Андреем.
Она усадила Рябинина рядом с незнакомой девушкой:
– Прошу любить и жаловать: мадемуазель Платонова Татьяна.
Андрей представился и легонько пожал маленькую ручку. Татьяна очень походила на отца, предгубисполкома Никодима Ивановича Платонова: такая же крепенькая, с открытыми лучистыми глазами.
– Так о чем, простите, спор? – Андрей повернулся к Кириллу Петровичу.
– О моде и философии современной молодежи, – с улыбкой пояснила Анастасия Леонидовна. – Полюшка привезла из Ленинграда заграничные книги и журналы, а от них, как водится, перешли к разговору о нравах.
– Я говорю о развязности современной морали, девицы не соглашаются, а мама Настя держит нейтралитет, – добавил Кирилл Петрович.
– И каков результат? – поинтересовался Андрей.
– А никакого, – махнула рукой Полина. – Все хотят знать твое мнение. Покуда тебя ждали, папочка уверял, что товарищ Рябинин поддержит его тезис об упадке морали, нравов и современной моды.
Андрей неуверенно пожал плечами:
– Насчет моды на одежду судить не берусь.
А нравы у нас, по-моему, больше западные, нежели пролетарские.
Девушки негодующе зашумели.
– А! Что я вам говорил? – торжествующе воскликнул Кирилл Петрович. – Вот и я считаю: разлагается молодежь, уподобляется буржуазной культуре.
– Да в чем же, папа? В чем? – возмутилась Полина.
– Потише, девчата, не бузите, – попросил Кирилл Петрович. – Поверьте, я не призываю к гонениям на современную одежду или музыку. Не нам, старикам, судить. Я против бездуховности западной культуры, в которой важна лишь форма, а не содержание.
– Докажите последнее, – резко бросила Решетилова.
– Извольте. Пойдем от простого к сложному. Начнем с гардеробов. Нынешняя мода есть эпатаж, спорить, надеюсь, не будете. Эта ваша броская косметика, тяжелые ароматы, укороченные платья.
А чем эпатировать-то? Любая мода выражает определенное настроение человека и общества.
Вот наша, пролетарская мода – простота, удобство, романтика! Девушка привлекает своим внутренним содержанием. Лицо прекрасное, открытое. А у вас? Вычурный показ женских прелестей, вульгарный и откровенно напористый. А какое содержание? Да никакого! Пустота. Потому как настроения самые что ни на есть упаднические. Все эти песни-романсы, наполненные тоской, «мольбами», страданьями, печалью, разлукой; увлечение дешевым трагизмом ситуаций. Нет ничего созидательного, светлого. Не хочу сказать, что вы не верите в патетику революционных свершений, но тлетворное влияние Запада все сильнее отдаляет молодежь от идей коммунизма. Подобное еще простительно нэпманам, спекулянтам и деклассированным элементам, но умным, образованным девушкам, да еще комсомолкам?.. Не понимаю.
Полина, словно прилежная ученица, подняла руку и вопросительно посмотрела на отца:
– Кончил? Позволь теперь мне. Сначала о моде. Я, например, не считаю ее классовой. Мода – продукт времени, она интернациональна. Да, современные девушки отрезают волосы, может быть, излишне вызывающе красятся и порой выглядят экстравагантно. Хотя и не все. Чувство меры – вещь сугубо личная.
Ты говоришь о пустоте современной морали? Это вовсе не пустота, скорее – усталость. Недавно закончилась жестокая война. Не только Россия, но и пол-Европы лежит в развалинах. Германия бедствует не меньше нашего, да и Франция понесла гигантские потери. Какая тут может быть философия? Естественно, что люди грустят, им больно. И это не дешевый трагизм, не крокодиловы слезы, это ностальгия по времени мира, покоя и сытости; скорбь по погибшим любимым, по разбитым мечтам. А что вы, «отцы», хотите предложить взамен? Десятилетиями носить буденновские шлемы и петь «Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты»? Ну, надоело, поверьте!
Гражданская война закончилась, хватит крови и бед, а также связанных с ними кожанок и решимости в глазах. Мне тоже не все нравится в современной моде. «Перевертыши», например. Изменение имен на западный манер смешно и жалко, как и голодная смерть ради пары модных туфель [41]. Однако поймите, девушки просто хотят быть красивыми! Они на работе строят коммунизм, а на досуге желают любви, внимания. Партия объявила нэп, а что значит «нэп»? Компромисс. Нужно взять лучшее от капитализма и коммунизма и построить светлое будущее. Прошлое уже не воротишь никакими фокстротами, тоскливыми романсами и «упаднической» моралью. Помещиков и капиталистов мы выгнали навсегда! Молодежь не меньше, чем старые партийцы, хочет строить коммунизм, посему такие разговоры – просто бред. Старшему поколению не стоит относиться к современной культуре по-иезуитски.
Полина торжествующе поглядела на отца и подмигнула Решетиловой.
– Бойко, – кивнул Кирилл Петрович. – Однако что милые барышни скажут о… распущенности? О том, какими доступными становятся наши девушки?
Черногоров хитро улыбнулся. Полина набрала в рот воздуха, но Решетилова подала ей предостерегающий знак:
– Я отвечу, Полли. Ты чересчур эмоциональна, вопрос же весьма щекотливый. – Наталья невозмутимо прикурила папиросу и продолжала: – Женщины действительно стали вести себя свободнее. Но в чем? В выборе своей судьбы. Свободу эту нам дала революция, уравняв женщин в правах с сильной половиной человечества. Подтверждение тому – высокопартийная madame Коллонтай и ее сумбурные теории. Не мне о них судить, они – следствие революционных перемен в обществе и умах. Далее – причина сугубо научная, демографическая. Право, неловко о ней говорить в присутствии мужчин, но что делать, раз уж зашел спор? Речь идет об изменении соотношения мужского и женского населения Европы в пользу последнего. Не секрет, что до империалистической войны в России на одну женщину приходилось аж трое мужчин. Сейчас все наоборот. Процентное соотношение полов неизменно отражается на общественной морали и отношениях между мужчиной и женщиной. Раньше они за нами бегали, а теперь, зачастую, мы за ними.
Решетилова улыбнулась.
– А вы знаете, друзья, в размышлениях Наташи есть доля горькой правды, – покачала головой Анастасия Леонидовна. – Помню, какими осторожными были наши кавалеры лет двадцать пять назад! Боялись робким поцелуем вызвать гнев и немилость возлюбленной. А сегодня девушек много, только выбирай! Неудивительно, что парни стали циничнее.
– Ну, не все, мама! – запротестовала Полина.
Компания весело рассмеялась.
Черногоров пристально поглядел на Решетилову:
– Не могу согласиться с твоими доводами, Наташа, но признаю, что логика в них есть.
– Благодарю, Кирилл Петрович, ваша похвала мне лестна, – Решетилова склонила голову.
– А давайте мириться и кушать торт! – вдруг предложила Таня Платонова и сделала нарочито глупое личико. – Вот произойдет мировая революция, и не будет разговоров о буржуазной морали.
Девушки захохотали. Кирилл Петрович строго погрозил Татьяне пальцем и обратился к Решетиловой:
– Кстати, а каково мнение думающих девушек о мировой революции?
– Идея неплохая, перспективы – слабые, – пожала плечами Наталья.
– А поподробнее, – настаивал Черногоров. – Нынче многие твердят о крахе Марксовой теории мировой революции.
– Признаться, я не сильна в политике, – неуверенно проговорила Наталья. – Мои сентенции насчет «слабых перспектив» основаны на неудачах революций в Германии и Венгрии…
– Ой, да будет вам! – нетерпеливо перебила подругу Полина. – Мы, как Анечка Каренина, ждем желанного поезда, а только он не приходит, и нас, подобно бедной Нюте, начинает одолевать насморк от прозябания на холодных рельсах!
– Поля! – укоризненно оборвала дочь Анастасия Леонидовна.
– Молчу, молчу, – прыснула Полина.
Черногоров махнул на дочь рукой и повернулся к Рябинину:
– Ну, а вы что думаете, молодой человек?
– С фактами спорить трудно, – Андрей кивнул в сторону Решетиловой. – Однако рост численности Коминтерна, симпатии рабочих всего мира к Советской власти дают определенные надежды. С другой стороны, правительства западных стран, сознавая опасность революций, ведут себя бдительно и осторожно. Думаю, они всеми силами попытаются расколоть коммунистическое движение, используя любые приемы и политические силы. Как, например, в Италии, где ставку сделали на фашизм Муссолини. Мне представляется, что в дальнейшем пролетарии всех стран будут пристально следить за успехами построения коммунизма в России. Ежели произойдет сбой, ни о какой мировой революции даже мечтать не придется. Как и семь лет назад, все в наших руках.
– Патриотично, – Черногоров пожал плечами.
– Так просто тебе не отделаться, папочка, – категорично заявила Полина. – Всех ты выслушал, будь добр прояснить и свою позицию.
– Извольте. Когда-то Маркс назвал революции «локомотивами истории». Очень красиво и вместе с тем точно. Октябрьская революция – стремительный локомотив, который неизбежно потянет за собой огромный эшелон! Товарищ Рябинин прав – наши успехи должны воодушевить мировой рабочий класс, вселить в него уверенность в победе.
Знаете, друзья мои, долгие годы я вел борьбу в подполье и верил в светлый час победы пролетарской революции. И она свершилась: маленькая партия подняла массы народа на бой! А ведь многие знатные большевики не верили в победу, думали, что свержение царизма и буржуазии – удел будущих поколений. Верить надо, братцы мои, безоговорочно верить в наше дело!
Компания поспешно согласилась с доводами хозяина дома и принялась за торт. Полина заговорила о ленинградских новостях. Андрей ухаживал за Татьяной и деликатно справлялся о роде ее занятий и здоровье родителей. Вскоре споры были забыты, и за столом послышались веселые шутки и анекдоты про нэпманов.
Около десяти девушки стали собираться домой. Кирилл Петрович вызвал служебный автомобиль, чтобы отвезти Татьяну и Наталью.
Когда девушки уехали, Полина решила немного пройтись.
Далеко, впрочем, прогуливаться не стали – Полина устала с дороги, и они с Андреем устроились в беседке в глубине двора.
* * *
– Странный разговор получился, – вслух отвечая своим мыслям, сказал Андрей.
– Отчего ж, папочка любит поспорить, – Полина пожала плечами.
– Неуместный спор. Дочь вернулась, а он…
– Отец не виноват, это я всех настроила. Привезла, знаешь ли, из Питера занятную книженцию одного австрийского доктора. Издана, конечно, на немецком – у нас такую даже под расстрелом не выпустят. Я и пересказала суть прочитанного.
– И о чем же там?
– О том, что основа жизни – половое влечение, не любовь, заметь, а именно…
В беседке было темно, и несмотря на то, что Андрей чувствовал, как кровь приливает к лицу, он не стал отводить глаза.
– Хм, представляю негодование Кирилла Петровича, – усмехнулся он.
– Нет, папа критиковал конструктивно. А ты что думаешь? – Глаза Полины лукаво искрились.
– Я думаю не о доводах, а о любви, – проговорил Андрей и нашел ее губы.
* * *
Анастасия Леонидовна давно отправилась спать, а Кирилл Петрович, сидя в кабинете, проглядывал газеты. В ночной тишине резко и тревожно зазвонил телефон:
– Черногоров у аппарата!
– Говорит Трофимов. Доброго вечера, Кирилл Петрович! Случаем, не разбудил?
– Ну, здравствуй, Николай Николаич! Да я и не спал.
– Глаз не смыкаешь? На боевом посту?
– Да нет, газетками вот развлекаюсь.
– А-а… У меня дельце к тебе.
– Давай, выкладывай.
– Получил я нынче уведомление о переводе Рябинина в ГПУ… Как это понимать, Кирилл? Лучшие кадры переманиваешь?
– Зачем ты так, Коля? Задыхаюсь я без грамотных людей. Рябинин же переходит в органы временно, до зимы. Не сработаемся – получишь назад своего кавалериста.
– Я тоже, Кирилл, не семечками торгую, не одному тебе кадры нужны. Завод только-только возродился, встал на ноги, стал обрастать дельными специалистами, а ты вон как бьешь – прямо под дых!
– Потерпи, Коля. Скоро верну Рябинина. Дело есть важности государственной.
– Понимаю… Только вопрос на бюро губкома все ж поставлю, извини.
– Извиняю.
– Тогда бывай, Кирилл, спи спокойно.
Глава XI
Негромкий, но настойчивый стук в дверь оторвал Андрея от размеренного субботнего завтрака. На пороге стояла домработница Черногоровых Даша.
– Барышня записку вам прислали, – сказала она и, протянув голубой конвертик, удалилась.
Андрей раскрыл письмо:
14 июня, 9.45. Доброе утро, милый мой соня! Пишу так, потому как знаю, что ты еще в постели (угадала?). Мы всем семейством едем на новоселье к Платоновым. Посиделки наверняка затянутся до темноты, но я сумею улизнуть. Заходи в три пополудни, поедем на дачу. Папа сказал, что чудесно ловится плотва. Заодно и проверим. П.
* * *
Пригородным поездом Андрей и Полина добрались до станции Горлинка, затем полторы версты до дачи шли лесом.
В доме одиноко хозяйничал Михалыч, который сразу же получил указание накопать к вечерней зорьке червей и приготовить удочки. Собрав обед из зеленых щей и холодной телятины, Полина принялась рассказывать о новоселье Платоновых. Андрей слушал ее, оттягивая случай сообщить свои новости. Около шести они двинулись к речке.
– Прошлым летом папуля своими руками соорудил недалеко отсюда рыбацкий домик, – забираясь в лодку, рассказывала Полина. – Там хорошо прикормленное место, очаровательная заводь для купания.
Рябинин вставил весла в уключины и неторопливо выплыл на середину. Спустившись немного вниз по течению, они пристали к крохотному причалу. На отмели стояла симпатичная дощатая хибарка на сваях.
Дверь оказалась не заперта, очевидно, хозяин совсем не опасался непрошеных визитеров. В единственной комнате находились некрашеный строганый стол, обмазанная глиной печурка и широкий топчан, покрытый соломенными тюфяками. Оставив припасы в домике, Андрей и Полина отправились рыбачить. Клев действительно был неплохим, и уже через час Андрей до краев наполнил плотвой и окуньками брезентовое ведро. Полина удила на небольшой глубине и с азартом таскала из воды чехонь и уклеек.
– Попробуй на живца, – посоветовала она. – Наверняка хищник гуляет.
И оказалась права – вскоре Андрей ловко подсек довольно приличного судачка.
– Ага! Будет нам сегодня уха, – обрадовалась Полина.
Она была довольна результатом лова и предложила заняться приготовлением ужина.
В прибрежных зарослях ивняка Андрей набрал сухих веток и разложил на песке костер. Отыскав в хибарке котелок, Полина попросила его сходить вместе с ней за водой.
Между ивами, кустами ежевики и орешника петляла узенькая тропинка. Сырой тенистый сумрак зарослей вдруг сменился поляной, залитой мягкими закатными лучами, посреди которой блестел источник.
Вернувшись на берег и поставив воду на огонь, они уселись на мостки причала.
– Приготовим уху и будем купаться, – сказала Полина. – Я слышала, ты уже открыл купальный сезон?
– Да, мы ездили на пикник…
– Вот и мне пора. Искупаться в Финском заливе я успела, теперь нужно и здесь чин отвести. Чем изволили заниматься, товарищ Рябинин, в мое отсутствие? – Полина, прищурившись, поглядывала на реку.
Андрей тронул ее за плечо:
– Пока тебя не было, моя жизнь кое в чем переменилась.
– Ну-ка, ну-ка, интересно! – она со смешком обернулась и встретила серьезный, сосредоточенный взгляд. – Что-то стряслось, Андрюша?
– Есть нешуточный разговор. Отнесись к нему с пониманием. Прошу.
– Я слушаю, говори.
– Видишь ли, некоторое время назад Кирилл Петрович сделал мне предложение…
– Так, – Полина нахмурилась.
– …которое я отклонил. Однако вскоре предложение повторилось в официальной форме…
– Он принудил тебя служить в ГПУ?
– Именно. Послушай…
– Ничего не объясняй! Отлично представляю, как папочка может заставить делать то, что ему выгодно.
Она добела сжала губы и яростно ударила кулачком по доскам причала:
– Ах, мерзавец! Хитрый, коварный мерзавец! Так вот почему такой интерес к товарищу Рябинину, все эти расспросы, комплименты! Я сразу заподозрила неладное.
С лица Полины слетело привычное выражение вежливой дочерней любви. Андрей с изумлением увидел боль и раздражение, боль застарелую, переросшую в резкое неприятие родного отца. Андрей подумал, что Полина слишком уж несправедливо негодует.
– Ну-у… Кирилла Петровича вполне можно понять. Он хочет иметь в своих рядах побольше грамотных кадров, имеющих боевой опыт.
– В адвокаты записался? К кому? К тому, кто в них не нуждается? – Лицо Полины пылало, глаза сверкали гневом. – Не скрою, ты для ГПУ – находка. Однако речь идет не о каком-то безразличном мне человеке, а о моем друге Андрее Рябинине! Я не хочу, чтобы близкие мне люди служили в карательной организации. Не хочу! Одного папочки хватает с лихвой. Какой бы ты ни был чистый и добрый, они тебя быстренько превратят в бездушную и лживую марионетку, да и кровопийцу в придачу.
– Минутку! – прервал ее Андрей. – Оговорюсь, что я не буду служить в сугубо политическом подразделении; я иду работать в отдел по борьбе с уголовной преступностью. К тому же временно, до зимы.
– При чем тут специфика подразделения? – раздраженно фыркнула Полина. – Что такое ГПУ? Государственное политическое управление. Политическое! Понимаешь? Сегодня ты займешься бандитами, а завтра будешь вешать недовольных крестьян и интеллигентов. И поверь, я не против органов безопасности, они нужны единственному в мире государству трудящихся, но я не только комсомолка и гражданка СССР, я еще и женщина, которой небезразлично, кем является близкий ей человек.
ГПУ – это особая среда, закрытая и специфичная. Ты потеряешь друзей из обычного мира, а если и останутся таковые – будешь им лгать. Иначе нельзя. Знаешь, как мне трудно с друзьями? А ведь сама я – не чекист! Быть может, я несознательна, излишне щепетильна и по-мещански брезглива, но я не желаю иметь в кавалерах гепеушника.
– Думаю, ты слишком эмоциональна, – мягко проговорил Андрей.
Полина тяжело вздохнула и махнула рукой:
– Хорошо. Я объяснюсь. С самого рождения я воспитывалась без отца, хотя и много о нем слышала от мамы. По ее словам, наш папа выполнял важное поручение и должен был скоро вернуться. Только много лет спустя я узнала, что мамочка мило лгала несмышленому ребенку: отец находился в тюрьме, а потом в ссылке. Он рано вступил в революционную борьбу, отдался ей со всей страстью души и решил посвятить жизнь освобождению угнетенных рабочих. В начале тысяча восемьсот девяносто восьмого года девятнадцатилетний Кирилл Черногоров организовал на стекольной фабрике марксистский кружок, вскоре разгромленный полицией. Отец бежал в Петербург, где вступил в РСДРП и продолжил борьбу. В мае на одном из заседаний тайного марксистского общества он познакомился с молоденькой курсисткой Анастасией Пушвинцевой, моей будущей мамой. Они полюбили друг друга, решили пожениться, но в январе тысяча восемьсот девяносто девятого года отца арестовали за распространение нелегальной литературы и хранение ручных бомб, посадили в тюрьму, а затем сослали в Тобольск. О том, что восемнадцатого апреля у Кирилла Черногорова родилась дочь, он узнал уже из писем.
Как-то раз в один из весенних дней 1904 года я вернулась с прогулки и увидела в нашей гостиной незнакомого человека. Я немного испугалась, но отчего-то поняла, что это мой отец. Папу я полюбила сразу, безгранично, всей душой. Он был для меня самым красивым, умным и мужественным существом на свете. Добрые герои детских сказок приобрели в моем воображении облик отца…
По возвращении мама и бабушка уговаривали папу бросить революционное движение, заняться мирной работой и семьей. Он обещал, но на самом деле продолжал борьбу. Уже в сентябре «охранка» разгромила подпольную типографию, которой он руководил, и отец вынужден был скрываться. Долго мы не получали от него вестей, и лишь через год узнали, что Кирилл Черногоров арестован за организацию вооруженного восстания в одном из городов России. В стране бушевала Первая русская революция, и с заговорщиками не церемонились: отец получил двадцать лет каторги и по этапу отправился в Сибирь. Мои бабушка и дедушка восприняли известие об осуждении Черногорова как знак судьбы. Они призывали дочь забыть «несчастного Кирилла» и найти более выгодную партию. Их вполне можно было понять – семью инспектора императорских железных дорог не устраивал зять-каторжник. Однако мама наших старичков не послушалась, она разделяла взгляды революционеров, понимала отца и продолжала ждать.
В конце лета 1911 года папа неожиданно объявился. Он бежал с каторги и гостил у нас совсем недолго. Отец привез маме крупную сумму денег и просил выехать за границу. Семья воссоединилась уже в Австрии, весной 1912-го. Те времена я вспоминаю как самые замечательные! Мы с папой гуляли по восхитительной Вене, часами говорили о человеческом счастье. Отец мечтал о свободе для всех угнетенных Земли, строил дерзкие планы. Я была вполне взрослой девочкой и нередко заглядывалась на мальчишек, но могли ли они сравниться с ним? В своих грезах о Прекрасном юноше я представляла его непременно похожим на отца.
Мы вернулись в Россию после Февральской революции. На устах прогрессивной публики были Львов, Милюков, Керенский, Ленин… А со мной рядом, под одной крышей жил, как мне казалось, не менее именитый и самоотверженный революционер – Кирилл Черногоров, мой любимый папа. Ведь он не меньше других боролся с царизмом, провел в тюрьмах, ссылках и на каторге почти одиннадцать лет; сумел закончить Венский университет и воспитать меня, наконец! Я гордилась тем, что отца уважают не только в партии большевиков – его уму, работоспособности и вере в дело революции отдавали должное даже оппоненты из рядов эсеров и меньшевиков. Более того, экзальтированные «революционные барышни» писали ему восторженные послания и подкарауливали в парадном.
Отец активно участвовал в укреплении власти Советов, командовал отрядами Красной гвардии, штурмовал Зимний, оборонял Питер от войск Краснова. По приказу Центрального комитета он перешел на работу в ЧК, возглавлял чрезвычайные органы различных губерний, а с началом гражданской войны – Особые отделы дивизий и армий.
Мы с мамой жили в Петрограде и о папе узнавали только из рассказов друзей да газетных статей. Однажды, осенью девятнадцатого, к нам заехал некий Фесенко, сослуживец отца. Он выбрался в родной Питер в отпуск по ранению и привез нам письмо от папы. Через две недели Фесенко собирался в обратный путь, в действующую армию, и я решительно пожелала ехать с ним. Мама противилась, но я не уступала, и в конце концов она махнула рукой.
На фронт мы добирались ужасно долго, около месяца. Уже зарядили дожди, стало совсем холодно. Особый отдел армии, который возглавлял отец, располагался в маленьком украинском городке. Прибыли мы поздним вечером, меня сразу же проводили в летнюю хату, стоявшую в глубине сада. Меня встретил денщик, он сообщил, что Кирилл Петрович раньше полуночи обычно не возвращается. В ожидании папы, на правах любимой дочери я устроила грандиозную уборку и приготовила ужин.
Отец приехал под утро. Он сильно похудел, осунулся и выглядел жутко усталым. Папа удивился моему визиту и очень обрадовался, долго обнимал и расспрашивал о маме. Потом мы ужинали, веселились, мечтали о скорой победе над белыми. Я уложила отца в постель, а сама пошла приготовить его одежду к рабочему дню – на улице ведь было грязно.
Почистив шинель, я взялась за сапоги и ужаснулась – грязь на подошвах была смешана со сгустками крови и мозгов, словно в них побывали на бойне. Я кинулась будить отца, чтобы объясниться. Он раздраженно спросил меня, знаю ли я о том, сколько врагов у Советской власти, какие они жестокие и что на их жестокость надлежит отвечать крайней жестокостью. Я была близка к обмороку, но все же спросила: сколько нужно расстрелять людей, чтобы их кровь так густо покрыла подошвы сапог? Он не хотел либеральничать и ответил, что его дочь – уже взрослая девушка и обязана смотреть правде в глаза, какой бы горькой она ни оказалась: «Нынешней ночью мы расстреляли сто сорок. И вчера пятьдесят шесть. А третьего дня – двести одного. Все они – враги Советской власти: кулаки, попы, белые офицеры, буржуи и дезертиры. Таким приговор короткий – пуля! Говорят, будто я непримирим в борьбе с врагами революции. А разве мыслимо мириться со злыми и коварными гадами, готовыми задушить молодую пролетарскую власть? Скажи мне: отдай, Кирилл, сердце и душу за дело партии – отдам без остатка! Поэтому жалости к врагам я не испытываю, как и мещанских угрызений совести. Совесть – для попов и плаксивых баб; для солдат революции – прежде всего долг и вера в идею справедливости».
Я видела его глаза, усталые, опустошенные и вместе с тем неприступные – глаза убийцы и палача. Мгновенно образ романтического героя, пламенного борца сменился образом упрямого фанатика, зарвавшегося и жестокого, в котором не осталось ничего человеческого. Я бросилась вон из хаты и побежала, не разбирая дороги. Меня душила тошнота, хотелось лишь одного – заставить себя поверить, что все виденное – кошмарный сон…
Денщик отца поймал меня и вернул обратно. Его уже не было. Я собрала вещи и первым попутным эшелоном уехала в Петроград.
Маме я ничего не сказала, да и сама постаралась забыть. Впрочем, когда мы переехали сюда, мама воочию убедилась, как ее муж исполняет партийный долг. Папины чекисты превратили губернию в настоящее кладбище. Безобидные люди, мало-мальски связанные с белогвардейцами, строптивые крестьяне, сомневающиеся интеллигенты, не изменившие вере священники и даже рабочие, просто недовольные скудными пайками и беззаконием ВЧК, расстреливались без суда. В конце 1921 года отца хотели было перевести на высокую должность в Москву, но даже руководители партии, старые его соратники были слегка смущены жестокостью Черногорова (прямо перед назначением он расстрелял за спекуляцию двух командиров полков, членов РКП(б)).
С тех самых пор Кирилл Петрович перестал быть для меня родным человеком. Признаться, как комсомолка я не осуждаю его – так было нужно партии, делу которой он верно служит; так поступать заставляла борьба не на жизнь, а на смерть. Кто знает, как поступил бы на его месте другой настоящий коммунист?
Полина замолчала и поглядела на закат. Слезы мешали ей, жгли веки и сбегали по щекам быстрыми струйками. Андрею стало безумно жаль Полину, он обнял ее так необычно податливые плечи и крепко прижал ее к груди.
– Ничего, Полюшка, мы можем уехать, – негромко проговорил он.
– Мы? – Полина шмыгнула носом.
Андрей понял, что обязан принять решение. И он ни секунды не колебался.
– Да. Я не оставлю тебя никогда. Как только жизнь моя окончательно устроится, мы поженимся.
Она приподняла голову и посмотрела влажными и очень удивленными глазами:
– Ты делаешь мне предложение?
– Конечно.
– Странно…
– Отчего же?
Полина пожала плечами и смущенно улыбнулась:
– Момент не совсем подобающий, и… место чересчур экзотическое.
– Так уж получилось. А что до моего решения – так оно твердое.
– И ты ждешь ответа? – Полина утерла слезы и засмеялась. – Прямо сейчас?
– Желательно! – в тон ей улыбнулся Андрей.
Полина обняла его и прошептала на ухо:
– Я согласна!.. Только объявим об этом позже, осенью.
Посерьезнев, она добавила:
– Необходимо выждать. Посмотрим, что за фортель удумал выкинуть на твой счет папуля. С Кириллом Петровичем следует обращаться осторожно, он слишком опасен. Уехать мы сможем только после свадьбы, сейчас он нас никуда не отпустит – скандал в семействе видного партийца и столпа местного ГПУ ему не нужен. Когда ты должен приступить к обязанностям в его ведомстве?
– Со следующего понедельника. Мне дана неделя для передачи дел в цехе и изучения материалов на Гимназиста.
– А-а! Он направляет тебя на борьбу с этим мифическим налетчиком? Теперь понятно, в чем замысел отца: Гимназиста безуспешно ловят уже не первый год, а после последних событий мириться с его существованием стало просто невозможно. Вот папочка и бросает в бой новые кадры. Если ты поймаешь бандитов – честь и хвала тебе и доблестному ГПУ; не удастся – вся вина на новичке Рябинине, а Черногоров – чист.
– Неужто он столь коварен? – усомнился Андрей.
– Поверь, уж я-то его знаю! – хмыкнула Полина.
Она немного успокоилась, умылась речной водой и пошла заниматься ухой.
* * *
– Приготовим ужин и пойдем купаться, – хлопоча у костра, громко говорила Полина. – Обожаю ночное купание, в нем есть некая первобытность, захватывающий восторг и непонятная мистика.
Андрей наблюдал за ней и размышлял о том, что любящие люди обязаны быть откровенными друг с другом. «Никогда бы не поверил, что именно женщина сможет побороть мой Большой страх!»
Он поднялся и подошел к костру.
– Хочешь помочь? – весело бросила через плечо Полина. – А я уже заправила уху. К купанию готов?
– Позволь, я ненадолго отвлеку тебя.
– Ну конечно.
– Видишь ли, я очень благодарен тебе за откровенность и не могу не ответить тем же. Между нами не должно быть недосказанности.
Полина оставила в покое котелок и, поджав ноги, устроилась на песке:
– Внимательно слушаю вас, товарищ Рябинин.
Андрей уселся напротив.
– Тебе предстоит узнать некоторые подробности моей прошлой жизни и уж потом окончательно согласиться на брак.
– Эти подробности столь серьезны, что могут изменить мое решение? – Полина подняла брови.
– Не знаю…Однако держать тебя в неведении не имею права, – отрезал Андрей.
Полина опустила голову.
– Говори, – негромко бросила она.
– Помнишь, в тот вечер, когда я сообщил о командировке в Ленинград, ты в шутку назвала меня кавалергардом?..
Полина встрепенулась, пристально поглядела на Андрея и тонко улыбнулась.
– …Так вот, кавалергардом в прямом смысле я не был, но доля истины в твоих наблюдениях есть. Я – потомственный дворянин, офицер царской армии. До весны 1920-го воевал в войсках Колчака, затем – в Красной армии. Советской власти служил честно, принял ее как неизбежный результат великой трагедии России, начавшейся задолго до Октября семнадцатого. Не знаю, перед кем считать себя больше виноватым: то ли перед бывшими сослуживцами по Белой армии, то ли перед погибшими от моих рук красноармейцами, но моя вина смыта кровью. Счета и с теми, и с другими сведены на нет.
Я избавился от классовой ненависти и теперь просто хочу быть полезным своей стране, любить мою Полину и жить с миром.
Она нежно потрепала Андрея по волосам:
– Твой рассказ только подтвердил мои предположения. Скажи, «питерская тетушка», которую ты навещал, в действительности твоя мать?
Рябинин изумленно открыл рот.
– Ты вернулся от «тетушки» с такими счастливыми глазами! – Полина снисходительно пожала плечами. – И при этом ничего не поведал о встрече. К тому же я услышала от тебя интересные истории о петербургской жизни. Например, ты вспомнил церемонию открытия памятника Александру III в 1909 году. Ясно, что сведения о твоем рождении и детстве в Казани – вранье. Тебе хотелось что-то скрыть и кого-то обезопасить. В одном я была уверена наверняка: в доброте и чистом сердце Андрея Рябинина. Верю я и в то, что ты стремишься к мирной жизни. Однако, раз уж зашел разговор, не ответишь ли на давно волнующий меня вопрос?
– Попробую.
– Почему началась эта ужасная война? Отчего граждане одной страны стали безжалостно уничтожать друг друга? Хотелось бы услышать ответ человека, побывавшего на противоположной стороне, не коммуниста или агитатора, мнение, отличное от позиций официальной пропаганды. Сейчас все громче и громче твердят о «кучке озлобленных помещиков и капиталистов», не пожелавших уступить народу власть. Отчего же они, малочисленные и неправедные, смогли долгих четыре года вести по всей России войну? Ни на какие деньги империалистов Запада подобное не провернешь, дудки! Значит, их поддерживала часть того самого народа, который был ими же порабощен и угнетаем? Что-то не вяжется. Не сочти меня псевдоинтеллектуальной дурой, но я в действительности не знаю правды!
Андрей прикурил папиросу, глубоко затянулся:
– Когда в начале сентября 1911 года в Киеве был убит Столыпин, я в смятении бросился к отцу. Он сидел в кабинете и бездумно рисовал на листе бумаги витиеватые узоры. Я попросил его объяснить мне, что происходит, – ведь погиб передовой человек, дальновидный политик и настоящий патриот. «Тебе уж скоро исполнится шестнадцать, – вздохнул отец. – Приходит пора становиться мужчиной и гражданином. Смерть Столыпина – крах надежд умеренных людей, тех, кто ратует за сильную, процветающую Россию…В нашей стране, сынок, нелегко жилось от века! Наконец нашелся просвещенный монарх, мудрым повелением которого было отменено крепостничество, установлен справедливый суд и местное самоуправление. Страна стала быстро развиваться: множились заводы и фабрики, укреплялась армия, ширилась сеть образовательных учреждений, в том числе и для простого народа. Конечно, не все удавалось сразу – процесс созидания долог и кропотлив. Молодые российские капиталисты больше пеклись о наживе и расширении производства, чем о правах своих рабочих; инородцы ратовали за признание их самостоятельности; на селе сохранились тяжелые условия труда и крайнее безземелье. Простой народ выступал с протестами, требуя рабочего законодательства и защиты от произвола фабрикантов и чиновников. Так постепенно, нелегко, но и без особых потрясений страна развивалась. Однако нашлись подлецы, коварные честолюбцы и псевдорадетели за судьбы народные, которые призывали к изменению существующего строя. Они кричали о неспособности Императора к управлению, о косности самодержавия и его природной реакционности.
Было ли это справедливым? Лишь отчасти. Наш Государь Николай Александрович, человек образованный и мягкий, безусловно, находится под влиянием высшей аристократии, публики крайне консервативной и далекой от жизненных реалий. Царь выжидал и, порою, слишком долго. Однако, при всех колебаниях, Император все же даровал народу демократические свободы и представительный парламент. Только дураки утверждают, что сделать подобное Николая заставила революция 1905 года. Чушь, царь и сам не раз подумывал о Государственной думе.
А была ли в ней нужда и государственный прок? Собралось полтысячи пустозвонов, схожих с античными демагогами, стали разжигать страсти, критикуя всех и вся… Россия не имеет опыта народного представительства, посему и оказались все наши Думы бездейственными. Вину же за свою несостоятельность депутаты старались свалить на Государя: он, дескать, маловато дал Думе прав! А вне стен Таврического дворца эти «народные избранники» разворачивали уже совсем разнузданную агитацию против самодержавия.
А что творилось вокруг? Рабочие и интеллигенция выступали за радикальные перемены. Реакционеры требовали ужесточения режима. Таким образом, власть оказалась в изоляции. И вот тут из среды здравомыслящих умеренных людей выдвинулся Петр Аркадьевич Столыпин, последняя надежда истинных патриотов. Он начал реформы в деревне, учредил школы для рабочих и ввел начатки трудового законодательства на фабриках. Не секрет, что такой человек не был угоден революционерам – он выбивал у них почву из-под ног. За что и поплатился.
Более всего меня огорчает свинство нашей интеллигенции. Все эти разночинцы, вышедшие в люди благодаря стараниям Александра Освободителя, орущие и свистящие беспрепятственно только с разрешения Государя Николая Александровича, настолько неблагодарны и непримиримы, что голова идет кругом! Ужели им мало того, что богатство и сила государства нашего растут с каждым годом? Нет, им милее бунт и безвластие! Ошибаетесь, милостивые государи! Россия сильна стержнем державности и единоначалия, ее пределы столь обширны, что революционный поворот к демократии может лишь обессилить ее и ввергнуть в сепаратизм. Мужик русский кроток и трудолюбив только в условиях традиционного закона, отмени его – и россиянин придет к анархии и вседозволенности, а не к желанной демократии…»
Отцовские слова во многом оказались пророческими. Сегодня, вспоминая их, становится ясно, что папа размышлял категориями чересчур субъективными. Да и может ли анализ исторической ситуации быть объективным и всеобъемлющим, ежели человек сам находился в условиях этой ситуации? Лишь теперь, пройдя испытания временем, мы начинаем понимать реальное положение вещей в дореволюционной России.
Причиной всех наших бед было вековое противостояние Империи (и ее опоры – дворянства) – остальному обществу. Со времени падения монгольского ига Российское государство имело цели, отличные от интересов простого народа, стояло над народом. Отсюда вытекали и сословная разобщенность, и непонимание друг друга, и, как следствие, – радикализм обеих сторон. Жестокая сословная иерархия, подавление любого вольнодумства привели к неразвитости политического сознания и опыта политической борьбы.
Внешне крепкая и процветающая страна медленно гнила изнутри и держалась лишь благодаря православию, авторитету самодержца и горячему патриотизму. Как только авторитет царской власти упал, церковь оказалась опорочена распутинщиной – с одной стороны, развитием науки и атеизмом – с другой; когда патриотизм сменился непониманием целей длительной мировой войны – Империя рухнула. После ее падения ни одно правительство не могло навести порядка – хаос продолжал разрастаться.
Большевики оказались наиболее мудрыми и прагматичными из всех «демократов». Они пообещали мир, землю, рабочий контроль на предприятиях и самоопределение нациям. Вместе с тем большевики приняли на себя огромную историческую ответственность в решении вековой проблемы построения гражданского общества на патриархальной, в основе своей еще феодальной почве. Уставший от войны, разрухи и обещаний Временного правительства народ принял большевиков с затаенной надеждой. Утверждению их власти почти не было отпора. Однако несмотря на заявления о стремлении к справедливому демократическому устройству, большевики оказались в парадоксальной ситуации – для сохранения власти партии они были вынуждены отмежеваться от миллионов граждан! Все непролетарские классы сразу же были объявлены эксплуататорскими, а их представители подверглись гонениям. Права личности и собственности не соблюдались, воцарилось беззаконие и произвол. Наш сосед по дому, больной старичок, около десяти лет жил на доходы от ценных бумаг. Вмиг ликвидировав их, большевистское правительство лишило его средств к существованию. И таких были миллионы!
Я приехал в Петроград в ноябре семнадцатого. С гордостью, при золотом «Георгии» вышагивал я по родному городу. И что же? Меня арестовали, пытались избить, сорвать награды. Только потому, что я не скрывал, что офицер! Разобравшись, конечно, отпустили, однако неприятный осадок остался. Непримиримостью и максимализмом большевики сами толкнули в лагерь своих противников массу людей. Мир и строительство «справедливого общества», обещанные коммунистами, обернулись кровавой бойней.
Наверное, не ошибусь, ежели скажу, что твое и мое детство мало чем отличались друг от друга. Сын статского советника Казначейства и внучка инспектора железных дорог росли вдалеке от бедняцких окраин, от «гнилых» рабочих местечек и социальных проблем; мы жили на земле, где исстари ценились честь, доброта, христианское благочестие и преданность долгу. Веками нечеловеческих усилий народа русского удалось создать великую державу, могущественную и, казалось, незыблемую. Новые же порядки ужасали: грабежи, расстрелы без суда, унижения, злоба и невежество – как добродетель…
Для меня, русского офицера, эпизод с арестом и попыткой осквернить боевые награды был немаловажным показателем. Произошло унижение чести защитника Отечества, принесшего присягу на служение России. Многие мои предки отдали жизнь служению Родине: далекий пращур отличился при Гангуте, за что получил наследное дворянство лично от Петра Великого; прадед был рядом с князем Барятинским при Гунибе и брал Шамиля; дед пал геройской смертью под Плевной. Немало моих предков строили мосты и дороги, лечили больных и сражались на море.
Разве я мог спокойно принять это оскорбление? Подобные мне, оскорбленные несправедливостью русские люди и стали под знамена белых армий. Мы боролись не за потерянное добро и поместья (которых, к слову, у многих не было и в помине), не за капиталистов и заводчиков (которых презирали), а за свою тихую и славную Родину, за матерей и отцов, за будущее детей, за честь и доброе имя. В наших рядах сражались не трусливые фабриканты, а испытанные офицеры, недовольные большевистскими продразверстками крестьяне и казаки, подло обманутые интеллигенты и даже рабочие.
Так, непоколебимой стойкостью отличались Ижевская и Воткинская дивизии, составленные из настоящих пролетариев-добровольцев. Не скрою, союзники по Антанте помогали нам, однако первое время в действующих частях легко можно было встретить офицеров в лаптях и опорках, оборванных и полуголодных. Ужас и безумие гражданской войны заключались именно в том, что на стороне большевиков воевали столь же близкие нам люди, наши соотечественники. Многие из тех, кто поддержал большевиков (рабочие, часть крестьянства, беднота национальных окраин, «передовая» интеллигенция), всего лишь выступали против старых порядков, выбирали «из двух зол» – корниловской диктатуры и крайнего национализма белых или обещанной новой властью демократии. Белым воинством двигало отчаяние и жгучее желание восстановить справедливость; наши противники бились за свою правду. Жестокость подогревала воинский пыл, не оставляла путей к примирению.
Поначалу успех был на стороне белых армий. Затем ситуация изменилась. Красные военачальники научились сражаться в нестандартных условиях междоусобицы, стремительно мобилизовывать резервы. А к осени девятнадцатого большевики и вовсе поладили с крестьянством. Белые же гвардии обозлили обывателя косным высокомерием и необъятными поборами. Война стала надоедать народу, он вновь поверил коммунистам. С этих пор мы стали изгоями в собственной стране, и борьба наша стала бессмысленной.
Я много размышлял о гражданской войне. Хотелось услышать мнение человека нейтрального, не озлобленного борьбой. Как-то раз я прочел слова известного критика. Для него гражданская война была противостоянием его собственных правой и левой рук. Какая из них ближе и родней? Разве можно отсечь одну руку, не повредив всего организма? Именно тогда, весной двадцатого я понял, что спасение – в примирении и прощении. Я вспомнил заповедь Господню, которую прежде не понимал и не принимал: «Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас».
Только простив врагов своих, изгнав из сердец ненависть, можно восстанавливать, строить и созидать. Мы забыли в бесчинстве своем мудрость Александра II и Столыпина: созидать с прощением и любовью.
Андрей зажег погасшую папиросу.
– Вот ты, Полина, говоришь о неоправданной жестокости своего отца. Его тоже надо простить. Простить, потому как он, искренне думая, что совершает добро, творит зло. Ты огорчена тем, что Кирилл Петрович оказался не тем, кем ты его считала? А мог ли он изменить принципам, в которые верит? Судьба сама вынесет ему приговор, и он примет его как должное. Не случится партии большевиков построить «справедливое общество», разочарование и крах идеалов будут Кириллу Петровичу наказанием. Хотя ни одна справедливость не стоит той крови, тех слез и искалеченных жизней.
Полина кивнула:
– Трудно спорить. Испытания научили тебя мудрости. Однако ты уже в который раз приводишь в качестве доказательств христианские догматы. Пожалуй, это несовременно. Ты что, веришь в Бога?
– Нелегкий вопрос. Я и сам до конца не разобрался. В детстве считал, что искренне верю. Потом разочаровался. А сейчас все больше убеждаюсь, что Христос, кем бы он ни был на самом деле, во многом прав. Религия – не только вера, но и огромный пласт культуры мысли и морали. Нельзя огульно отрицать то, чему были привержены добрую тысячу лет миллионы людей.
– Я в религии слабо разбираюсь, – пожала плечами Полина. – Будет время – почитаю.
– Мой рассказ тебя огорчил? – осторожно спросил Андрей.
– Нет. Скорее – заставил задуматься. И к тому же лишний раз убедил, что ты – натура тонкая.
Она широко улыбнулась и поцеловала Андрея:
– Давай не будем хранить секретов друг от друга и держаться вместе. Я верю, что у нас все получится, правда?
Андрей крепко обнял ее:
– Нисколько не сомневаюсь.
Полина выскользнула из его рук, вскочила на ноги и задорно рассмеялась:
– Ну раз так, будем купаться. А потом – нас ждет шикарный ужин!
Она поглядела на небо:
– Ого, мы совсем не заметили, как наступила ночь!
* * *
Было уже довольно темно, и Полина пожелала купаться без костюма. Она оставила Андрею во владение причал, а сама, накинув халатик, направилась на дальний конец пляжа. Раздеваясь, Рябинин слышал, как Полина вошла в воду и поплыла. Андрей разбежался и прыгнул в темную бездну.
Лежа на спине, он глядел в высокий бархатный небосвод, усеянный острыми снежинками звезд. Теплые ласковые волны покачивали его тело. Андрей думал, далеко ли заплыла Полина, как вдруг что-то скользкое коснулось его ноги и потащило в глубину. Рябинин дернулся и увидел перед собой смеющееся лицо Полины.
– Испугался? – обдавая Андрея брызгами, спросила она.
– Ну уж нет, теперь мой черед! – Андрей схватил Полину за руки.
Полина звонко захохотала, ее упругое тело извивалось, не желая поддаваться.
– Не удастся, господин спрут! – весело кричала она, в очередной раз ускользая от Андрея. – Здесь мелко, да и место я знаю лучше.
Полина стояла по плечи в воде и подзадоривала Андрея рожицами. Он забыл о дурашливости и любовался ей. Подплыв совсем близко, он обнял ее и поцеловал. Полине передалось его настроение, она подалась вперед и крепко прижалась к груди. Андрей подхватил ее на руки и пошел к берегу.
Отблески костра играли на мокром теле Полины. Андрей смотрел в ее чуть прикрытые глаза, зовущие, благосклонные. Он зажмурился, нашел горячие губы Полины. В ночной тишине будто зазвучали невидимые струны. Они то звенели стремительным аллегро, то замирали в волнующем ожидании, то рассыпались нежным перебором. Неповторимой и прекрасной музыке вторили шепот осторожных волн, далекое щебетание птиц и легкий ветерок.
В какой-то момент Андрей усомнился: сумеет ли он не нарушить гармонии, но Полина уверенно и страстно подхватила тему, придав ей новое восхитительное звучание. Андрей с радостью утопал в водовороте музыки любви, наслаждаясь неведомым доселе чувством безотчетного счастья.
Глава XII
Уже в понедельник Андрей понял, что многие на заводе знают о его переходе в ГПУ. Рабочие косились и кивали вслед головами, члены бюро комсомольской ячейки, обычно называвшие Рябинина «товарищ Андрей», теперь при встрече величали по имени-отчеству. Ковальчук попросту отозвал начальника в сторону и горько пожалел о потере заводом хорошего работника. Ко всему прочему, Андрею встретилась Виракова, которая недвусмысленно намекнула на карьеризм Рябинина:
– А я уж подумала, у тебя и вправду любовь, – усмехнулась Надежда. – Оказывается, ты всего-навсего к товарищу Черногорову подбирался.
Андрей посчитал оправдания бессмысленными и унизительными и промолчал.
Не успел он прийти домой, как услышал за дверью голос:
– Отвори, товарищ Рябинин, у меня руки заняты, не могу постучать.
Андрей распахнул дверь и увидел руководителя облавы на беспризорных Непецина со стопками папок, перевязанных бечевками.
– Здравия желаю! Разрешите? – с улыбкой справился Непецин.
Он вошел в комнату, свалил свою ношу на стол и утер мокрый лоб:
– Фу, приморился. Удивлены незваному гостю?
– Признаться, не ожидал, – хмыкнул Андрей.
Непецин подобрался, поправил фуражку и отрапортовал:
– Товарищ начособгруппы! По приказу товарища Черногорова доставил материалы на банду Гимназиста!
– А-а, – понял Андрей. – Вольно. Присаживайтесь, Борис Борисович. Квасу хотите? Мне, знаете ли, соседи любезно презентовали целую бутыль.
– Благодарю, не откажусь.
– Выходит, вы теперь мой подчиненный?
– Так точно. В группу, кроме вас и меня, входит также товарищ Деревянников, лучший эксперт-криминалист в губернии, – Непецин указал на кипу папок: – Здесь – материалы дел на нашего клиента. Изучайте, знакомьтесь.
Андрей окинул взглядом гору документов:
– Прилично! Постараюсь за неделю проштудировать.
Непецин понимающе кивнул:
– Хотите совет? Особое внимание обратите на донесения агентуры. В показаниях свидетелей ровным счетом ничего интересного нет. И вот еще, лично от меня! Прочтите книжку Деревянникова, – он извлек из кармана брошюру, – она во многом поможет разобраться.
Рябинин взял книгу:
– «Некоторые особенности преступности в России и нашей губернии», – прочитал он. – Спасибо.
Андрей наполнил армейскую кружку шипящим квасом и протянул Непецину. Тот отхлебнул и, прищурившись, крякнул:
– Эх, ядреный квасок, аж слезу вышибает!
– Есть у нас в квартире мастерица, Лукерьей зовут, – улыбнулся Андрей.
Он дождался, когда Непецин насладится ободряющим соседским квасом, и сказал:
– Материалы я непременно прочту, однако хотел бы вас просить, Борис Борисович, вкратце рассказать о Гимназисте.
Непецин посмотрел на часы:
– Ну, как прикажете, время терпит.
Он легонько подергал пряжку своего ремня:
– Разрешите немного рассупониться?
– Так точно.
Непецин снял ремень, кобуру с револьвером, расстегнул ворот гимнастерки. Собираясь с мыслями, он поглядел в потолок и приступил к рассказу:
– История эта началась больше двух лет назад, в апреле двадцать второго. Как-то утром мне позвонил оперативный дежурный угро и сообщил, что минувшей ночью ограблена страховая касса по улице Рыкова. Вместе с опергруппой я выехал на место преступления. Картина была ясной: злоумышленники проникли в здание со двора, под угрозой оружия связали сторожа, взломали сейф и унесли пятьдесят тысяч рублей. Сам сторож, инвалид империалистической, нестарый еще малый, ничего определенного показать не мог – взломщики застали его врасплох, да к тому же орудовали в масках. Горе-караульщик сумел только сообщить, что налетчиков было пять. Преступники не оставили никаких следов, что меня и насторожило. Ограбление касс и богатых квартир – явление в нашем городе весьма распространенное, но обычно преступники успевают изрядно наследить. Здесь же случай был особый.
К расследованию сразу же подключили эксперта Деревянникова. Алексей Андреич скрупулезно осмотрел замки дверей, сейф и сделал вывод, что «ломал медведя» [42] крупный специалист. Таковых в городе проживало двое: Липягин, он же Ставский, и Шеин, по кличке Профессор. Однако оба имели алиби: Ставский весь вечер резался в карты, а Профессора видели мертвецки пьяным. Заговорили о «гастролерах». Не успели мы опросить осведомителей, как произошло новое ограбление.
Ровно через неделю, теплым вечерком, прямо перед закрытием двое неизвестных вошли в магазин «Ювелир» на улице Ленина, предъявили «наганы» и приказали опорожнить сейф и прилавки. Налетчики, очевидно, знали о сигнализации, потому как тут же ее отключили. Приказчик подробнейшим образом описал мне грабителей, хотя обилие бород и усов говорило, что они, скорее всего, накладные. Тогда никто не связал ограбление страховой кассы и магазина. Секретные агенты скупо сообщали о каких-то «залетных». Сведений было крайне мало, и вскоре расследование зашло в тупик.
Третий удар Гимназист нанес уже в июле (оговорюсь, что мы в то время, конечно, не знали, кто именно стоял за преступлениями). В ночь с 23 на 24 июля 1922 года ограбили самый крупный ювелирный магазин города – «Золото России». Это «дело» я не вел, – преступление совершилось не в моем округе. Однако один толковый уполномоченный, Сотников, обратил внимание на то, что в магазине похищено слишком много ценностей – аж на тридцать тысяч! Это настораживало, ведь крупные ценности ювелиры привыкли сдавать в банк или надежно прятать. Хозяин магазина пояснил, что камни и золото прибыли к нему только накануне, таким образом, не исключалась утечка информации. Хозяин заказал ценности из соседней губернии – как сырье для выполнения крупного столичного заказа. Следственная группа выехала туда и отыскала человечка, знавшего об отправке, – некоего Митина, известного барыгу и мошенника. На допросе выяснилось, что он рассказал о перевозке ценностей знакомому налетчику Федьке Фролову, который и провернул операцию вместе с подручными. Фрола мы не поймали, но кое-какой материал на него из Питера получили. «Дело» закрыли, Митина осудили, а Фрола продолжали искать.
В октябре того же года был совершен налет на отделение банка «Потребкооперации» в Слободском округе. В тот день планировали выдать зарплату работникам прилегающих организаций. В кассе находилось около ста сорока тысяч. Налетчики орудовали в масках, действовали уверенно и решительно.
К расследованию привлекли все лучшие кадры угро. От осведомителей мы узнали, что к нападению причастен Фрол. И именно тогда невнятно заговорили о Гимназисте. Свидетели показывали, что среди налетчиков действительно был человек в гимназической фуражке. Искали мы бандитов усердно, по многу раз сверяли донесения, проводили облавы, да все без толку. Деревянников высказал мнение об «иване» – главаре, скрывающем свое имя, и о банде, не связанной с преступным миром города.
Замечу, что в ту пору ГПУ, милиция и угро усиленно занимались «чисткой» губернии: вылавливали и сажали сотни воров, налетчиков и мошенников всех мастей. Неудача в расследовании затерялась среди успешных реляций. Сейчас многие говорят о разгуле уголовников, но скажу честно: нынешний уровень преступности – лишь малая толика 1921—1922 годов.
Настоящую опасность банды Гимназиста город почувствовал в феврале 1923-го. В тот день, 20 февраля, валил снег. Дворники не успевали убирать улицы, и губисполком выделил им в помощь комсомольцев и пять грузовиков. В конце рабочего дня инкассаторский броневик перевозил деньги в банк. На маленькой улочке дорогу преградил грузовик, доверху наполненный снегом. Водитель броневика притормозил, и тут же его окружили люди в шинелях, до глаз закутанные в башлыки. Трое предъявили пистолеты, а четвертый бросился взламывать несгораемый шкаф бронемашины.
Водитель-охранник растерялся, а инкассатор выхватил револьвер и выпалил в ближайшего налетчика. Инкассатора застрелили, сейф отворили и быстренько ретировались, потому как выстрелы привлекли внимание прохожих. Свидетели, правда, ничего существенного не показали – все видели возню у броневика каких-то военных. Шофер угнанного за час до ограбления грузовика со снегом тоже мало что прояснил. Однако на месте преступления осталось тело убитого налетчика, пуля и гильзы. Убитый, некий Алексей Артемьев, оказался не из местных, в городе его знали плохо. Он имел кое-какие связи в криминальной среде, но чем занимался, урки не ведали.
Выяснилось, что Артемьев путался с Фроловым и неким Гимназистом. Сожительница убитого показала, что в подпитии Артемьев именовал себя «гвардии поручиком», но что-либо конкретное о нем рассказать не могла. Мы так и обозвали его – «Поручик». Без промедления стали искать Фрола, устраивать засады. Пару раз чуть было не схватили.
Главное, что мы поняли: в городе орудует умная и жестокая банда из четырех-шести человек, банда, которая не остановится ни перед сложностью налета, ни перед убийством. Неудачи угро в поимке Гимназиста объяснялись тем, что расследование не было систематизировано, его вели разные группы. Много раз следствие хваталось за версию «гастролеров», что уводило нас в другие губернии.
В августе двадцать третьего милиция впервые имела контакт с бандой. Гимназист опять напал на бронемашину, но неподалеку оказался наряд. Патрульные подоспели вовремя и встретили ожесточенный пулеметный отпор. Трое сотрудников и оба инкассатора были убиты. Один из налетчиков получил ранение. Его преследовали оперативники из окружного отдела угро, приехавшие на звук выстрелов, но он сумел скрыться.
Гимназисту мы приписали и еще два «подвига» – ограбление заезжего шулера Мизинчика и взлом конторы сельхозартели «Круг» в уездном городе Колчевск.
Мизинчик, известный столичный карточный шулер, как оказалось, прибыл в город для игры с Розановским, страстным картежником из Одессы. В номере Мизинчика хранилось сто тысяч рублей. Накануне игры он посетил ресторан, а вернувшись в гостиницу, обнаружил пропажу денег.
С артелью «Круг» все оказалось еще проще. Незадачливые артельщики держали все деньги в конторе. Пьяный бухгалтер артели в кабаке проболтался случайному собутыльнику о хорошем обороте артели в конце сезона. Через неделю контору ограбили. Говорливый бухгалтер так и не смог вспомнить имени и четких примет своего кабацкого «приятеля».
И наконец, последний «подвиг» Гимназиста, который мог бы войти в учебники криминалистики, как пример безупречного налета. Это произошло всего три месяца назад. Рано утром, 30 марта, автомобиль, перевозивший деньги из казино «Парадиз» в банк, был дерзки ограблен. Куш налетчики взяли просто фантастический – аж двести тысяч!
Соответственно, и все дело Гимназист обставил мастерски. Не секрет, что в казино держат довольно кругленькую сумму на случай крупных выигрышей, да плюс выручка от проигрышей клиентов и ресторана. Каждое утро, около семи, деньги доставлялись в банк. Во двор казино, со стороны улицы Октября, под охраной двух конных милиционеров заезжал автомобиль. В машине находились вооруженные водитель и инкассатор, во дворе дежурили два сторожа с винтовками. Работники казино переносили мешки с деньгами в машину, и автомобиль следовал к банку.
Гимназист, очевидно, все это отлично знал. Один из его людей с карабином расположился на крыше дома напротив, – оттуда двор казино был виден как на ладони. Двое других налетчиков засели за каменным забором смежного двора, а еще двое ждали в экипаже неподалеку. В тот момент, когда последние мешки были перенесены в машину, на кирпичном заборе прилегающего двора появились налетчики. Тот, что находился на крыше, точными выстрелами снял конных милиционеров, а его приятели смели огнем остальную охрану. Затем они спрыгнули во двор казино, открыли ворота и впустили ожидавшую на улице пролетку. В нее скоренько перебросили мешки с деньгами и рванули с места в карьер. На руку бандитам сыграло и то, что орудовали они воскресным утром, когда жители спали и улица была пустынна.
– Вот такой у нас противник, Андрей Николаевич! – с невеселой усмешкой заключил Непецин. – Кое-что мы уже раскопали. Полистайте материалы, может, что новое и заметите.
Рябинин внимательно выслушал подчиненного и задумчиво проговорил:
– Быть может, я покажусь вам смешным, ежели задам следующий вопрос, однако мне это важно понять. Неужели даже при сведении воедино всех материалов «дел», изучения их вами и Деревянниковым не удалось выйти на Гимназиста?
Непецин подавил снисходительную усмешку:
– Любое расследование опирается на «трех китов»: на доказательства с места преступления и свидетельства очевидцев, на агентурную информацию и на идентификацию личности преступника на основании имеющихся фактов. Достаточных улик для опознания Гимназиста и членов его банды нет. Сами увидите – показания очевидцев невразумительны и противоречивы; агентурная информация скудна; а с идентификацией преступников по картотеке у нас настоящее бедствие. Да была бы в угро нормальная картотека – гора с плеч!
Обширные данные императорского сыска полностью уничтожены в феврале семнадцатого, когда громили полицейские участки. Собственная картотека ведется систематически только четыре года, обмен информацией с органами других губерний только-только налаживается.
– Я помню разгром и поджоги полицейских участков, – кивнул Андрей. – Пожалуй, никакие неприятельские бастионы не брали с таким воодушевлением и решимостью.
– Так точно, все тогда думали, будто разгром полицейских участков и отделений – уничтожение ненавистных символов самодержавия, а оказалось, что разгром учинили уголовники и осведомители «охранки». Ко всему прочему, в губернском угро слабовато с техникой и подготовленными кадрами. Агенты и уполномоченные – зачастую темные люди, малограмотные и наивные. Не скрою, я и сам не Шерлоком Холмсом родился, – до революции-то в мастерской кувалдой махал, однако за шесть лет кое в чем навострился. Литературу опять же изучаю, перенимаю опыт специалистов. Наш Деревянников, к примеру, – весьма интересный дед, настоящий профессор экспертизы и розыска.
– Как же вы управляетесь без картотеки, техники и подготовленных кадров? – Андрей в удивлении развел руками.
– По старинке пользуемся опытом времен гражданской – устраиваем облавы. Берем урок пачками на хазах и малинах, доставляем в отдел, а там уж разбираемся. Кто с оружием попадается, кто с ворованным барахлом, кто-то и вовсе находится в розыске.
Как говорит Деревянников: «Способ малоэффективный». В последние годы нам приказано строго следовать законности. Это раньше, в годы гражданской, попался некий субчик, с виду – шкура [43] и бандит, так и волоки его к стенке! Разговор был короткий. А нынче необходимо сперва доказать вину, передать дело в суд, а уж там решат, какой приговор объявлять.
– Прежде-то легче было? – ухмыльнулся Андрей.
– Для отчета – да. И для дураков безразборных тоже. А только судить и карать нужно по закону!
Непецин взглянул на часы и, извинившись, начал собираться.
– Ну, счастливо оставаться, товарищ Рябинин, пора мне, – разгоняя складки гимнастерки, сказал он.
– Всего доброго. Заходите на неделе, может, у меня вопросы появятся, – попросил Андрей.
– Непременно загляну.
Глава XIII
Второй вечер, забыв об отдыхе и сне, Рябинин сидел над документами. Сегодня, вооружившись карандашом и тетрадью для заметок, он изучал брошюру Деревянникова:
«…Устранение самодержавия в России повлекло за собой естественное ослабление власти, – писал старый эксперт. – Десятилетиями отлаженный механизм работы полицейских органов, прокурорского надзора и суда сменился бездействием и попустительством. Идя навстречу требованиям широкой демократической общественности, Временное правительство объявило широкую амнистию, под действие которой попали не только политзаключенные, ссыльные и каторжане, но и масса уголовных элементов. Обретя свободу, последние не преминули вернуться к своим привычным занятиям – воровству, грабежу, разбойным нападениям и всевозможным видам мошенничества.
Уже к лету 1917 года размах криминальной стихии приобрел невиданные размеры. В отличие от царских времен, в преступной среде произошли значительные изменения. Во-первых, явственно замечалось ее количественное увеличение. Уголовный мир с распростертыми объятьями принимал бывших офицеров и солдат императорской армии, представителей дворянства, мещанства и буржуазии. Во-вторых, налицо была стремительная концентрация преступности, выразившаяся в укрупнении банд и шаек, усилении их корпоративности и установлении между ними более или менее постоянных связей.
В 1918 году вышеуказанные процессы продолжались, но наблюдалась и третья характерная тенденция – ужесточение градации внутри криминальных сообществ. Выразилось сие в том, что главари шаек и банд и их ближайшие подручные замыкались в особую руководящую группу, можно сказать, высшую касту, недоступную при решении наиболее важных вопросов для низших членов уголовных организаций. Причина тому была в достаточно высоком профессионализме „старорежимных“ опытных преступников (варнаков) и смыкании их с представителями дворянства и буржуазии, по тем или иным причинам попавшим в криминальную среду. Последние, в силу происхождения, специфики воспитания и образования, тяготели к корпоративности и привычному возвышению над „темной“ массой подчиненных. Избыток „преступных кадров“ позволял главарям отойти от наиболее черной работы, оставляя за собой право руководства, распределения добычи и контактов с союзниками. Следующим, четвертым изменением в криминальном мире было его существенное омоложение за счет миллионов беспризорных детей. Добывая средства к пропитанию, подростки нередко шли на преступления. Пользуясь безнаказанностью, шайки малолетних воров частенько прибегали даже к насилию. Наконец, пятое, и последнее, – формирование Закона в криминальной среде. Некоторые его положения достались в наследство от уголовников царской России (кодекс „Варнацкой чести“, суд над нарушителями и наказание („правилка“), обязанность платить карточные долги, знание жаргона, уголовная „специальность“).
Однако утвердились и новые, более жесткие правила: запрет членам „братства“ заниматься каким-либо общественным трудом и иметь семью. Закон укрепил „кастовость“ главарей (варнаков, паханов, атаманов, авторитетов), сделал преступное ремесло более эффективным и менее уязвимым для органов правопорядка.
Далее необходимо отметить и такие особенности, как то: политизация части уголовной среды (настоящая и мнимая, в угоду интересам) и криминализация некоторых политических организаций (в основном анархических); повышение интеллектуального и образовательного уровня ряда категорий преступников; явный интерес уголовников к богеме и наоборот.
В обстановке начавшейся гражданской войны криминальный мир особенно расцвел. К известной широкой публике карте фронтов, подконтрольных „красных“ и „белых“ территорий уместно добавить еще и карту крупных криминальных зон, превращавшихся порой в новоявленные „пиратские республики“. Подобно флибустьерской Ямайке, Калабрии или Тортуге, регионы Северного Причерноморья, Украины, Крыма, городов Ростова и Одессы долгое время в немалой степени контролировались бандитами и ворами.
К лету 1918 года весьма разнообразная криминальная Россия условно разделилась на две большие части: „Россию бандитскую“ (провинциальную, уездную, разбойную по своей сути) и „Россию жиганскую“ (городскую, воровскую).
Будучи специалистом в области криминалистики, автор не хотел бы останавливаться на политическом бандитизме, считая целесообразным обратиться к бандитизму криминальному по своей природе и направленности.
Психологической основой для разгула уголовного бандитизма явилось, как думается, исконно русское бунтарство. Социальным же условием надобно считать ослабление власти, выразившееся во вседозволенности и усилении фактора вооруженной силы. Бандитизм концентрировался вокруг местных (уездных, волостных) уголовных авторитетов, а также людей решительных и беспринципных.
Кроме того, необходимо отметить такой факт, как поддержка бандитских организаций частью местного населения. И объяснять сие только страхом перед преступниками было бы не вполне справедливо. Иногда жители видели в бандитах единственную реальную силу по поддержанию в волости или уезде хоть какого-то порядка. Известны примеры превращения отдельных районов в довольно слаженные криминально-экономические сообщества, где местное население (в большинстве своем крестьянское) оказывало бандитам продовольственную, транспортную (лошадьми), кадровую (новобранцами) и моральную поддержку в обмен на номинальную охрану, сбыт через бандитские связи сельскохозяйственной и кустарной продукции.
Так, несознательное крестьянство, выступавшее против продразверстки, видело защиту от нее в лице местных бандитов. Уголовные элементы умело пользовались подобными настроениями для укрепления и расширения своего контроля над сельскими территориями. Уже в конце 1918 года в нашей губернии действовало около дюжины крупных и трех десятков мелких банд. Наиболее серьезными были формирования атамана Каратаева (более 200 сабель) в Торжецком уезде и „батьки Сокола“ (100 человек) под Имретьевском. Промышлявшая грабежом поездов и поборами с крестьян банда Каратаева имела прочные связи с воровской средой Торжца, удачно сбывала награбленное в соседних губерниях. Несмотря на разгром „Каратаевского братства“ в 1921-м, остатки его все еще сохранились в уезде. Преемник расстрелянного атамана, Мирон Скоков с небольшой группой скрывается в лесах. И по сей день в уезде бытует поговорка: „Торжец – всем ворам отец“, что напоминает нам о необходимости продолжения работы по окончательному искоренению преступности в тех местах.
В городах картина иная. Разнообразные уголовные элементы и сообщества представляют собой более высокий организационный и профессиональный уровень, нежели провинциальные. В городах строже соблюдается Закон, крепче связь между шайками. Городские жиганы имеют вполне стойкие, определенные „профессии“– вор, „скокарь“ (взломщик), налетчик, „жорж“ (мошенник) и проч.
Рассмотрим основные категории городских преступников.
Воры. В послереволюционные годы в связи с усилившейся миграцией населения расширился и укрепился „цех майданщиков“ (воров на транспорте).
В зависимости от умения и личных пристрастий майданщики делятся на:
– „сидорщиков“ (ворующих мешки и узлы в вагонах и на вокзалах);
– „сакальщиков“ (кражи в товарных вагонах);
– „скрипушников“ (кражи корзин);
– „подкладчиков“ или „собчиков“ (воры, подменяющие чемоданы пассажиров); и др.
В условиях гражданской войны, неуверенности населения в постоянно меняющейся ситуации материальные ценности большинства граждан хранились в узлах и чемоданах. Сие являлось благодатной почвой для майданщиков, этаких властителей вокзалов и железных дорог 1918—1922 годов.
Другая обширная категория воров – „щипачи“ (карманники). Профессионализм сей воровской категории наиболее высок. Их среда – базары и толкучки, лавки и трамваи, даже парадные. „Цех щипачей“ тоже имеет свои специальные градации:
– „ширмачи“ (использующие для прикрытия проникающей в карман или сумочку руки какой-либо предмет („ширму“));
– „писатели“ (срезающие дамские сумочки);
– „посадчики“ (совершающие кражи во время посадки граждан в трамвай);
– „парадники“ (кража кошельков в темных парадных, часто – под видом столкновения с „пьяным“)…
Особые категории – магазинные воры („городушники“, „вздерщики“ и „менялы“ – похитители денег при размене) и квартирные („домушники“, „форточники“, „чердачники“, „стекольщики“ и проч.).
Наименее профессиональные воры – уличные. Эта категория, в основном, состоит из деклассированных элементов, беспризорных и нищих. Однако и здесь есть своя специализация, как то:
– „плиточники“ (кражи с прилавков);
– „хламидники“ (воровство одежды);
– „рыбаки“ (кража одежды на пляже);
– „кошатники“ (ворующие мясо на базаре) и др.
Отдельную криминальную категорию представляют „скокари“ (взломщики). Их количество неуклонно растет с улучшением жизни граждан, накоплением материальных ценностей. Более умелые скокари орудуют набором ключей и отмычек, менее – взламывают двери и замки с помощью лома и отвертки. Стоит отдельно остановиться на элите взломщиков – „медвежатниках“ (специалистах по сейфам). Навыки некоторых их представителей столь высоки, что порой они вовсе не нуждаются в подручных…
Не менее элитными подобает считать „фармазонщиков“ (воров, специализирующихся на кражах драгоценных камней) и „маклеров“ (специалистов по антиквариату).
Налетчики. Самая опасная и многофункциональная часть преступного мира. Они сочетают навыки скокарей с возможностями вооруженной силы. Их специализация – „грант“ (разбойное нападение) и „вороп“ или „шарап“ (грабеж). Всех без исключения – и промышляющих „гоп-стопом“ (нападения на улицах), и более серьезных налетчиков, – объединяет крайняя беспринципность и готовность к насилию.
Настал черед перейти к самой хитроумной категории преступников – мошенникам(„жоржам“). Здесь и карточные, и бильярдные, и лотерейные шулера, и столь замечательные представители воровской смекалки и умения, как „волынщики“ и „разгонщики“. Волынщик учиняет ссору с жертвой, провоцируя скандал, для того чтобы вытянуть кошелек. Конечно, можно определить волынщиков в щипачи, однако наличие особых черт сей специальности, планирование определенных ситуаций и навыки экспромта позволяют отнести подобных преступников к категории мошенников.
Разгонщики более изощренны. Под видом работников милиции или ГПУ, используя подложные документы, они производят обыски и изъятия ценностей в квартирах, магазинах и конторах…
Хотелось бы остановиться на одной умирающей воровской специальности – „клюквенниках“ (кражи в церквях). В царские времена некоторые из них весьма преуспевали, однако сейчас борьба Советского государства с религией и закрытие церквей устраняет сам объект преступления. (Впрочем закрытие церквей и изъятие предметов культа не раз служили поводом для махинаций разгонщиков. Так, в июле 1922 года Успенский собор нашего города был дерзки ограблен под видом реквизиции, проводимой органами ГПУ.)
Мошенники вообще довольно быстро реагируют на всевозможные новшества. К примеру, в 1921 году, во время сбора средств голодающим Поволжья некий Кублаков (матерый жорж из Москвы) организовал в нашей губернии целую сеть пунктов приема пожертвований…
Остановимся на тех, без кого не сможет существовать ни один вор или налетчик, – на „барыгах“(скупщиках краденого). Времена острого дефицита продуктов и товаров серьезно обогатили их. Барыги умело используют всевозможные базары, толкучки, развалы и скупки. Наиболее опытные и богатые барыги налаживают связи с биржевиками и нэпманами, стремясь оторваться от криминальной среды.
Изменения последних лет внесли некоторые коррективы в криминальный мир. Введение продналога, оживление торговли, начало восстановления хозяйства и строгое соблюдение Уголовного кодекса привело к отказу ряда уголовных элементов от совершения тяжких преступлений. Думается, в недалеком будущем мы увидим конфликт воров с налетчиками и окончательное размежевание криминальных категорий по форме совершения преступлений на „мокрые“ (с убийством или угрозой жизни) и „сухие“ (без таковых)»…
Андрей оторвался от чтения и заглянул в оглавление. После «Общего обзора преступности» Деревянников переходил к «Основным принципам современного расследования» и «Достижениям уголовного розыска губернии за 1923 год». Рябинин зевнул и захлопнул брошюру.
Спустившись в дворницкую, он позвонил Полине и договорился о встрече.
* * *
Догадавшись по усталому лицу о сумрачном настроении Андрея, Полина принялась рассказывать забавные истории и анекдоты. Рябинин понемногу отвлекся от раздумий о преступлениях и повеселел.
Они прошлись по Губернской и свернули на Комсомольскую (бывшую Университетскую). Навстречу по противоположной стороне двигалась большая компания парней и девчат.
– Студенты! – с улыбкой кивнула Полина. – Шумят, балагурят. Наверное, экзамен сдали. Ой, смотри-ка, и Меллер с ними!
В толпе молодежи действительно мелькнула беззаботная физиономия Наума. Андрей хотел его окликнуть, но Меллер уже заметил друга и подбежал.
– Привет праздношатающимся! – задорно выкрикнул он. – А мы вот с поэтического вечера топаем. С нами Света, Костик, многие…
Наум повернулся к компании и позвал Левенгауп и Резникова. Вслед за ними подошли Венька Ковальчук и Вихров.
– Андрей! Вы попусту убиваете время на прогулки, – подавая руку Рябинину, со смехом воскликнула Светлана. – Полли! Ты в самом деле становишься похожа на почтенную матрону!
– Вхожу в роль, – улыбнулась Полина.
– Какую? Джульетты?
– Не угадала. Всех «Трех сестер» сразу.
– А-а! Титанический труд, – кивнула Светлана.
– Ограничьтесь Джульеттой, – скорчив рожицу, бросил из-за спины Резникова Вихров.
– Брысь, Сашка, не приставай к мадемуазель, – шикнул на него Костя.
– Вы откуда такой представительной делегацией? – справился Андрей.
– Говорю же тебе: из университета, – пояснил Меллер. – Студенты читали новые стихи, Венька вот отличился… Где он?
– Здесь я, – отозвался Ковальчук-младший. – Вечер добрый, Андрей Николаевич, и вы, барышня!
– Не прячься, Вениамин, – взяв его за локоть, сказала Левенгауп. – Полли, вы знакомы?
– Заочно, по «Вандее».
– Да! Там он… – взмахнул руками Меллер.
– Подожди, Наум, – оборвала его Светлана. – Знаешь, Полли, а мы с Сашей взяли над Вениамином шефство.
– Стихи товарища Ковальчука, – важно кивнул Вихров, – скоро будут опубликованы в нашей газете.
– От души поздравляю, – Андрей пожал Веньке руку.
– Тоже мне – шефство! – фыркнул Меллер. – Налетели на парня совершенно как коршуны. Не забывайте, его ждет карьера в кино!
– Всех нас что-либо да ждет, – вставил Резников.
– К слову, о публикациях, – воскликнул Меллер. – Андрей, можно тебя на минуту?
Наум отвел друга в сторону.
– Помнишь нашу встречу со Змеем? Так вот, статью-то я написал, вчера ее напечатали, а вот сегодня в «Рабочей культуре» – бац, резкий ответ!
– Неужели снова Трубачев с Бардиным? – нахмурился Андрей.
– Да не совсем. В схватку со мной вступили совершенно иные силы – Чеботарев, заведующий детским домом номер один. Заходи ко мне в субботу вечером, обо всем подробно расскажу. Договорились?
– Идет.
Они вернулись к компании. Левенгауп оживленно болтала с Полиной о поэтических находках студенчества.
– …Это событие необходимо увековечить, – заключила она. – Костик поговорит в издательстве, попробуем опубликовать сборник…
– А давайте-ка сфотографируемся на память! – неожиданно предложил Меллер. – Тут и «Ателье Бауэра» рядом.
Идея всем понравилась, и друзья направились к фотоателье.
Добродушный румяный Бауэр немного опешил, увидев шумную команду, но тут же приказал помощнику проводить клиентов в павильон. Полину, Резникова и Светлану усадили рядком на стулья, остальные встали позади. Бауэр хлопотал у аппарата, просил внимания и сосредоточенности. Наконец полыхнула вспышка.
– Через неделю прошу ко мне за карточками! – размахивая квитанцией, объявил Наум.
– Каковы дальнейшие планы? – спросила у Полины Светлана. – Не хотите с нами в «Музы»?
– Мы бы с радостью, вот только Андрею еще всю ночь работать, – Полина развела руками.
– Жаль, – вздохнула Левенгауп.
У выхода из «Ателье» Рябинина задержал Венька Ковальчук:
– Помните, вы интересовались нашим «Союзом молодых марксистов»? В следующий вторник у нас заседание координационного совета и актива. В семь начнем, собираемся в «красном уголке» электростанции. Милости прошу!
* * *
Побродив по центру, Андрей и Полина очутились на улице Коминтерна. Рябинин предложил зайти в гости.
Поднявшись в комнату, Полина с интересом разглядывала жилище Андрея.
– Такое впечатление, что здесь обитает человек без прошлого, – немного разочарованно сказала она. – Не видно ни фотографий, ни личных реликвий.
– Какие там реликвии! – махнул рукой Андрей. – Вся жизнь на колесах. А по сути ты права: я и в самом деле человек без прошлого… Угощайся, у меня тут пирожные и лимонад.
– Загодя приготовился? – сощурилась Полина.
– Да не то чтобы…– замялся Андрей.
– Не смущайся. Рядом с предусмотрительными людьми очень удобно. Кстати, у меня для тебя грустное известие, Андрюша. В субботу мы с мамой уезжаем в Ялту. При ее туберкулезе необходимо каждый год ездить в Крым.
– Ну раз нужно, так нужно, – вздохнул Андрей. – А когда вернетесь?
– Месяца через полтора, не раньше.
– Долго не увидимся, – грустно улыбнулся Рябинин. – Чуть не забыл, я хотел познакомить тебя со своим давнишним другом, Георгием Старицким. Мы с ним вместе воевали на германском фронте. Он – бывший партизан и далеко не глупый человек. Жорка заходил в воскресенье и приглашал нас послезавтра в гости.
– Да, интересно было бы встретить хоть что-то из твоего прошлого, – кивнула Полина и посмотрела на часы. – Ну, а сейчас мне уже пора!..
– Подожди еще немного, Полюшка. Я очень по тебе соскучился.
Глава XIV
Алевтина Клементьева слыла в округе бабенкой бедовой и пропащей. По словам соседей, она с малолетства путалась с жульем, позорила добропорядочных родителей и своим недостойным поведением в немалой степени способствовала их преждевременной кончине. Однако в воровской среде Алевтину уважали. Долгие годы была она верной подругой Васьки Бадайского, грозы поездов и вокзалов, главаря городских майданщиков. Доброе отношение Бадайского, верность ему и воровскому промыслу создали Алевтине немалый авторитет. Она стала «ворвайкой», то есть женщиной, уважаемой «вольным братством». В отличие от многих легкомысленных девиц из уголовной среды, Алевтина терпеливо ждала Бадайского из заключений, не принимала от его дружков подарков и чтила воровские законы.
В 1913-м ее посадили за пособничество краже, но и в тюрьме Ляля-Кремень, как ее теперь называли, заимела вес и влияние. На «казенке» [44] она быстро сделалась «хазаршей» [45] и, по обычаю, собирала «влазное» [46], держала «общий котел» [47] и наблюдала за порядком в камере.
В 1921-м Бадайского застрелили во время разборки с «гастролерами». Ляля осталась совсем одна. Родители уже год как умерли, братья жили своими семьями. От отца и матери Ляле достался ветхий домик рядом с депо и небольшое хозяйство. Впрочем, ходить за скотиной она не хотела, да и не была приучена. Ляля занялась скупкой краденого, приторговывала марафетом и давала приют добрым приятелям покойного Бадайского.
Вечером в среду, 18 июня в домике Ляли собралась веселая компания – достославный ширмач Николька-Тыхтун, Варя с Зиной – веселые разбитные девицы, и молодые налетчики – Филька Музыкант с другом, Володькой Заварзиным, по кличке Умник.
Непревзойденный мастер карманных краж Тыхтун, получивший свое прозвище за способность бегать со скоростью хорошего автомобиля [48], и хозяйка дома Ляля представляли старшее поколение жуликов. Им уже исполнилось по тридцать, и поэтому среди беззаботной молодежи они старались выглядеть достойно. Вчерашний детдомовец Володька Заварзин, двадцатилетний главарь банды налетчиков, имел на почтенную Лялю-Кремень весьма серьезные виды. Опытная, рассудительная и по-своему привлекательная, Ляля была ему по вкусу. Уже почти три месяца Заварзин добивался любви авторитетной ворвайки. Она же, строго следуя Закону, встречалась с Умником только в присутствии посторонних. Вот и сегодня Володьке пришлось захватить для компании ближайшего подручного Фильку Музыканта с девицами. Последние считали это за честь. Как и многие мещаночки, Варя и Зина томились от скуки и безделья: учеба требовала недоступного им умственного напряжения, а работы биржа не давала. В компании с Филькой можно было беззаботно отдохнуть, да и получить легкие денежки на духи или новые туфли.
Веселье разгоралось. Собранный усилиями мужчин стол ломился от закусок и всевозможной выпивки. Тыхтун усердно наполнял рюмки девушек и подбивал их на скабрезный разговор. Хозяйка дома с улыбочкой наблюдала за его стараниями.
– Боек ты нынче, Колюня! – наконец не выдержала Ляля. – Небось, после фартового дельца душа-то взыграла?
– Твоя правда, Ляля, – кивнул Тыхтун.
– Знаем-знаем, – крикнул Филька. – Весь город талдычит, как ты ловко бегунки сдал [49].
– Ну-ка, колись без понтов, раз уж всем ведомо, – подхватила Ляля.
– А что? Мне понтоваться нет резону, пойду на полную [50], – самодовольно улыбнулся Тыхтун. – Есть в городе один жавер [51], пыженый-препыженый [52], важный, что твоя водокачка. Профессором он служит, в университете фраерам фуфло толкает [53], в общем, фусан безвредный [54]…Так вот, были у него бегунки рыжие, «Буре» 96-й пробы [55], весьма всем известные, потому как дарственную надпись тому фусану на них накрапали [56]. Позавчерась, значит, пошел наш фусан по улице лавировать [57], так, без дела шалавится себе, по витринам лупетками [58] рыскает. Подкатил я к нему втихую, снял бегунки, тувиль [59] прихватил, ну и – ходу!
К вечеру вся округа знала, что ушли бегунки знаменитые, поминай как звали. Наутро Ромка-Ветошь, поддужный мой, бает, что, мол, некий гешефтмахер кредитный [60] желает купить эти самые фартовые бегунки. Делец тот – круглый андрот [61], декча [62] ботвой набита под завязку.
Натумкал я его обзетить [63]. Послал Ветоша к барыгам купить схожий товар. Притаранил Ромка бегунки в самый цвет [64] – те же «Буре», только рыжие сверху, а внутри – рондоль [65]. Понеслись мы к Карпычу, ну, граверу. Старый хорек слепил надпись в ажуре, не отличишь. Прихилял [66] я к гешефтмахеру, говорю: вот, мол, дядя, бегунки! Зекнул [67] фраер опилочный, дарственную прочел. Все верно: «Профессору Бессонову к юбилею». Дал, скотц [68], полцены, да и на том спасибо. А законные бегунки [69] мы нынче блатокаину смыли [70]. Так что в союзе с пенезами андрота они, почитай, за новые пошли.
Компания залилась смехом.
– Нажил ты себе лашлу [71], – заключила Ляля.
– Плевать, – отмахнулся Тыхтун. – Не достанет.
– А он очень кредитный, твой андрот? – спросил Филька. – Барахла-то на бате много [72]?
– Довольно, – кивнул Тыхтун. – Однако ж, и псары там – что твой телок, да и брешут во всю Ивановскую.
– Филя! – Володька-Умник предостерегающе стрельнул глазами в сторону девушек. – Нам и без того форсу [73] хватает.
– Законно, – перехватив взгляд Заварзина, бросил Тыхтун и обратился к Вале и Зине: – Давайте-ка, милашки, я покажу вам один хитрый пасьянс!
Он освободил место на столе и вытащил колоду карт. Филька подсел к расхлябанному пианино. Еще до революции он успел получить домашнее воспитание, потому неплохо освоил инструмент. Музыкант уже взял «для разогреву» несколько аккордов, как во дворе залаял сторожевой пес.
– Свои, – успокоила гостей Ляля. – Мой Бишка на легавых по-особенному брехать приучен.
Она поднялась и пошла отворять.
Через минуту в горницу входил Климка-Чиж, начинающий пятнадцатилетний карманник.
– Привет вольной шараге! [74] – снимая картуз, воскликнул непрошеный визитер.
– Чего завалился-то, босяк? [75] – сурово справилась Ляля. – Не место тебе здесь.
– Извиняйте, почтенная Ляля Захар-на, – поклонился Чиж. – Дельце у меня…
– Тебе кто нафокал [76], бажбан [77], что мы тут? – подпрыгнул со стула Тыхтун.
– …Персона очень важная, от Гимназиста, счас заскочит, просил предупредить, – выдохнул Чиж.
Ляля перемигнулась с Тыхтуном и подтолкнула Чижа к двери:
– Ладно уж, шкондыляй отсюда. И поднатужься мою хазовку засоптить [78].
Она проводила посыльного и вернулась к гостям.
– Кому насвистели про ангишвану? [79] – строго спросила Ляля.
Девицы испуганно молчали, молодые налетчики забожились «варнацкой честью» [80], что никому о вечеринке не рассказывали.
– Я Блестящему трекнул, – объяснил Тыхтун. – Он – мой законный киней [81], ссученному не ляпнет.
– Блестящий не ляпнет, – согласилась Ляля. – Выходит, свой на огонек бежит.
Она посмотрела на девиц:
– Ну, а вы что зашухерились, будто урны? [82] Не в клюкве пред патлатым жметесь [83]. Филя, держи мазу, слабай забавам на пьендросе! [84]
– Момент! – весело кивнул Музыкант и ударил по клавишам. – Эх, пошли работнички да по ступенькам! [85] – Он кивнул Вале и Зине: – Что лабухнуть [86] прикажете, принцессочки?
– Веселенькое! – пискнула Валя.
– Веселенькое? Разудаленькое?.. А вот хотя бы прямо в цвет:
Сколько бы я, братцы, ни сидел,
Не было такого, чтоб не пел:
Заложу я руки в брюки
И пою романс от скуки —
Что тут будешь делать, коли сел!
Если ж дело выйдет очень скверно,
То меня убьют тогда, наверно.
В рай же воры попадают
(Пусть все честные то знают) —
Их там через черный ход впускают.
В рай я на работу тоже выйду,
Возьму с собой отмычки, шпалер, выдру [87] —
Деньги нужны до зарезу,
К Богу в гардероб залезу —
Я его на много не обижу.
Бог, пускай, карманы там не греет,
Что возьму, пускай не пожалеет.
Вижу с золота палаты,
На стене висят халаты [88].
Дай нам Бог иметь, что Бог имеет.
Иуда Искариот в раю живет.
Скрягой меж святыми он слывет.
Ох, подлец тогда я буду,
Покалечу я Иуду —
Знаю, где червонцы он берет!
Филька проглотил рюмку портвейна и готов был продолжить, как в оконце вновь постучали. Ляля вышла встречать гостя.
Послышался ее удивленный возглас, и вскоре перед компанией предстал улыбающийся Фрол.
– У-у, знатный варнат! [89] – протянул он.
– Так это ты, Федя, тубан учинил? [90] – покачал головой Тыхтун.
– Ну, послал собачку [91] срисовать, чем на вашей малине пахнет, – пожал плечами Фрол.
Он подошел к каждому мужчине и подал руку [92]. Здороваясь с Тыхтуном, Федька кивнул на карты:
– Талан на майдан [93], Коля! Никак с бабами в стирке мечешь? [94] Стареешь, кореш.
– Баловство, – поморщился Тыхтун.
Компания дружно рассмеялась.
– Прошу к столу, Феденька, – хлопотала вокруг Фрола Ляля. – Притомился, небось, с дороги-то?
– А кто тебе набаял, что я с дороги? – сощурился Фрол.
– Как же, почитай, с месяц ни слуху, ни духу. Видать, в кочевку подался.
– Каждый свой интерес имеет, – принимая из рук Ляли стопку водки, проговорил Федька. – Мне по душе дороги дальние, людишки новые. Что в городе-то творится?
– Жихтарим помаленьку, плывет лодочка блатная, – отозвался Тыхтун. – Вот только Ленька Басманчик сгорел, повязали его легавые.
– Допрыгался, значит? – нахмурился Фрол.
– Фраера трекают, будто он поначалу в допре парился [95], а потом его на гепеушную кучумку [96] перевезли.
– Неужто сычи чертовы [97] сами не управились? – поднял брови Федька.
– Так они нам рапортов не пишут! – рассмеялся Володька.
– И без рапортов ясно: падлу чекисты готовят, – ухмыльнулся Фрол. – Иначе к чему Басмана к себе тягать? Не того полету он птица.
– Как сказать, – не согласилась Ляля. – Паренек он деловой.
– Может, и так, – пожал плечами Федька. – Да только с его «делами» у легашей запарки-то не будет: любил Басман пофорсить, тузом покорячиться [98]. Чего фараонам мудрить? Сыч накрапает исповедь, и – поволокут пред светлы очи патриарха [99].
– Да будет уж тебе, Федя! – скривилась Ляля.
– В натуре, хватит тащить нищего по мосту [100], – согласился Фрол. – Пора и подгорчить [101].
После того как все выпили и закусили, Фрол вышел с хозяйкой на кухню.
– Нужда мне с Умником потрекать. Дозволишь? – спросил он.
– Законно, Федя. Обожди, я его кликну.
* * *
Попыхивая папироской и, по своему обыкновению, небрежно развалясь на стуле, Фрол с минуту разглядывал Заварзина. Володька напряженно уставился в пол, не смея начать разговор прежде прославленного налетчика. До сегодняшнего вечера Умник видел Федора лишь однажды, да и то мельком. Заварзина удивила способность Фрола быть внешне расслабленным и вместе с тем сохранять готовность к действиям.
– Баяли мне, что ты хорош в деле, Володя, – наконец нарушил молчание Фрол.
– Пустое, – смутился Заварзин. – Нам до ваших не достать.
– И все ж молва о тебе идет добрая. По сердцу слава-то, а? – усмехнулся Федька. – Работенка есть фартовая.
– Для меня? – округлил глаза Володька.
– В натуре. Ты – парень на катушках [102], не кукливый, Закон чтишь. Да и орава [103] твоя под стать, на характер взять трудно [104].
– А что за фидуция? [105]
– Грант. Кассу будем брать. Каждый из твоих архаровцев получит по двадцать косых [106]. По две задатку. Ваша забота – прикрыть нас с улицы.
– Алмазно! [107] – запальчиво воскликнул Володька, но тут же осекся. – Енгин [108] большой?
– Приличный. Потумкай, пошепчись с поддужными. И будь на фонаре [109], я тебя сам отыщу, – заключил Фрол.
Глава XV
В назначенное время Полина вышла из дома.
У ворот ее ожидал Андрей и незнакомый молодой мужчина. Рябинин рекомендовал Старицкого Полине. Георгий с легкой улыбкой, но довольно учтиво приложился к ручке. Полина представляла его не таким: «Уж очень современный, что ли. А походка и вовсе не армейская». Глаза Георгия ей, впрочем, понравились – умные, цепкие. «Непростые!» – заключила она.
* * *
На просторной веранде был уже накрыт стол. Как радушный хозяин, Старицкий предлагал закуски и вино; Полина чувствовала себя немного скованной; Андрей сиял.
Говорили о летнем отдыхе. Вспоминали курортные байки и истории. Понемногу Полина втягивалась в разговор. Георгий был галантен и обходителен, старался подыграть ей.
– Интересно поглядеть, каково нынешнее общество на водах, – сказал Андрей.
– А все такое же, – махнул рукой Старицкий, – променады у источника, романы, скука и поиски приключений.
– Сборище почти что лермонтовское, – хохотнула Полина. – Только вместо блестящих мундиров – суровые френчи и гимнастерки. В твоем, Андрей, коленкоре можно смело покорять девичьи сердца.
– М-да, гардеробы уже не те, – покосившись на Полину, кивнул Георгий.
– А чем же плох мой коленкор? – разыгрывая обиду, бросил Андрей.
– Смахиваешь на Грушницкого, – рассмеялся Старицкий.
– Мы шутим, вовсе нет, – улыбнулась Полина. – Хотя сегодня предпочтительнее быть Грушницким – Печорина честят за индивидуализм, жестокость и эгоизм. Грушницкий – жертва, а их у нас любят.
– Прости, это ты к чему? – не понял Андрей.
– Так, к слову. «Герой нашего времени» – один из моих любимых романов. Тонкое произведение, правдивое.
– А что вас, Полина, привлекает в Печорине? – спросил Старицкий.
– Разве я сказала, что он мне нравится? – она пожала плечами.
– Мне показалось.
Полина задумалась:
– Ну, мы не на комсомольском собрании… Пожалуй, вы правы, Печорин определенно притягателен.
– Но ведь он – холодный эгоист! – усмехнулся Георгий. – Губит Бэлу, глумится над княжной Мэри.
– Я говорю не о его недостатках. Печорин – индивидуальность, он не похож на других. Он силен своей независимостью, презрением к смерти, ко всему суетному. Другое дело – в чем подобные качества выражаются. Однако, при всей порочности, Печорин все же привлекателен.
– Извините, Полина, но вы рассуждаете совсем по-женски, – снисходительно улыбнулся Георгий.
– Да! – твердо ответила она. – А почему нет? Для ума пишут философы, а литераторы – для души.
– Справедливо, – согласился Старицкий. – Далее?
– Далее – не буду скрывать, что меня, как женщину, влечет сила, способность на поступок. Согласитесь, Георгий, зачастую у прекрасного и дурного поступка одна исходная основа – воля, сильные качества души. А что еще нужно нам, слабой половине, как не быть рядом с таким человеком?
– Насчет «способности на поступок», раскольниковщины и толстовства – это к товарищу Рябинину. Он в больших писателях – специалист, – Георгий развел руками.
– Уходите от темы? – прищурилась Полина.
– Не смею спорить с дамой, – поклонился Старицкий.
– Приличиями прикрываетесь?
– И ими тоже.
– Раз уж начали вести подобный спор, предлагаю перейти от категорий чувственности к категориям ума, – вставил Андрей.
– Вот ты и начни, – предложила Полина. – Будет отсиживаться в нейтралитете!
– Действительно, начинай-ка, брат, любимую тему о «твари дрожащей» и наличии у нее всяческих прав, – подхватил Георгий.
– Неужто вам интересен этот застарелый спор? – поморщился Рябинин. – После наших революций подобная тема себя исчерпала. Пресловутый «маленький человек» реализовал свое «природное право» на изменение жизни. Не берусь судить, получил ли он то, что хотел, однако приходится довольствоваться тем, что есть.
В Советском государстве любая более или менее разумная «тварь» имеет возможность участия в любом политическом и хозяйственном процессе, причем весьма успешно. Вчерашние «униженные и оскорбленные» командуют главками, заводами, армиями, распределяют финансы. Лермонтовский Печорин – личность, безусловно, сильная, способная на «поступок». Однако любой поступок неотделим от той среды, в которой находится человек. Печорин жил в XIX веке, во времена, как теперь говорят, старорежимные. На какой «поступок» он, дворянин и верноподданный его величества, был способен? Волочиться за светскими дамами скуки ради, или для сохранения чести драться на дуэлях?
Будь Печорин постарше, сумел бы, при его храбрости и талантах, выдвинуться в войне с Наполеоном, сделать блестящую карьеру. Интересуйся он политикой и всякого рода «идеями», может быть, вместе с декабристами гремел бы кандалами в Нерчинском остроге. На какие «поступки» могла подвинуть его мирная российская жизнь тридцатых годов прошлого века? Уехать сражаться за свободу Греции, как пушкинский Сильвио, и сгинуть там, как Байрон? Подобные вещи хороши для натур романтических и возвышенных. Печорин же – циник, человек, знающий жизнь, да еще и отравленный атмосферой петербургского света. Он воспрял на Кавказе – горный воздух восстановил его душевные силы. А для чего? Гоняться за горцами, пить с офицерами водку и ждать с оказией скучных писем из дому? Этому рады люди сурового долга, простые и честные, как Максим Максимыч. Для них несение государевой воинской службы – высшая добродетель и их «сильный поступок». А наш герой не таков! О таких, как Печорин, говорят: родился не в то время, не в том месте и занят не тем, чем надобно.
– Значит, ты хочешь сказать, что для «поступка» нужны определенные условия? – недоуменно спросила Полина.
– Для поступка «наполеоновского свойства» – очевидно. А вообще сила поступка – дело сугубо индивидуальное. Вот сейчас говорят: бывший дворянин, классовый враг, перешел на сторону Советской власти, порвал с прошлым, отдался служению народу. Поступок? Несомненно. Однако для некоторых было поступком не изменить принципам, но в то же время и не ввязаться в братоубийственную войну. Для принципиальных людей нейтралитет и бездействие – тоже «поступок».
– В твоих рассуждениях многовато политики, – резюмировала Полина. – Я говорила о чисто человеческих «поступках» в бытовых, скучных, но подчас сложных ситуациях.
Словно ища поддержки, она повернулась к Георгию.
– Бывает так, что скучная житейская ситуация неотделима от политики, – вздохнул Старицкий. – Андрей верно сказал: в сложные времена больше возможностей для «сильных поступков», потому как многие встают перед серьезным выбором. И все же в момент, когда возникает дилемма «быть или не быть», на решение влияет не только наличие сильных качеств характера! Иной человек начинает думать о моральной стороне дела. Что касается меня, то я вовсе не склонен рассуждать о «сильных» и «слабых» поступках и «праве» на их совершение. Волевая личность потенциально способна совершать сильные поступки, неважно, в политике или в быту. Слабые же людишки, наподобие Родечки Раскольникова, предаются мучительным размышлениям о «справедливости» и «праве», а потом берут от бессильного отчаяния топорик и гробят старушку. Совершив свой героический поступок, каются, душу наизнанку выворачивают. Причем заметьте, этот своего рода протест и утверждение в «правах» подобные типчики производят над существами тоже слабыми, подчас больными и безответными.
Андрей, конечно же, обвинит меня в цинизме, однако я вынужден призвать к себе в сторонники самого Федора Михайловича Достоевского. Да-да, не удивляйтесь! Сопоставьте два его романа – «Преступление и наказание» и «Бесы». Написанные в разные годы, они рассказывают, в сущности, об одном – об опасности! Опасности дьявольской разрушительной силы Верховенского и опасности отчаянной слабости Раскольникова. Лично для меня подобные разговоры – всего лишь софистика. Для меня «способность на поступок» – это умение использовать тот момент времени, те условия, в которых находишься.
– Вы – за холодный прагматизм? – уточнила Полина.
– Именно.
– Ну, что касается сильных личностей – понятно, они и в самом деле способны на поступок. А как в отношении слабых, сомневающихся, излишне щепетильных, по-своему безвольных людей? Неужели им остается только отчаянность Раскольникова?
– Ничуть, – усмехнулся Георгий. – Здесь главное – наличие сдерживающих рамок. Страха, например. У сильных людей его не существует. Печорин страх презирает; у Петруши Гринева его пересиливает чувство любви и долга; Дубровскому страх заменила месть; Верховенскому – безумная идея. Бывают, однако, в истории случаи, когда и слабые люди освобождаются от страха. Как в нашем многострадальном Отечестве, например. Грянула Февральская, затем Октябрьская революции, ушли в небытие губернаторы, городовые, напыщенные аристократы, бездушные чиновники. Исчезла Империя, а вместе с ней вековые обычаи, мораль и право. Исчез и страх. Тут-то и вышли из глубины души «маленького человека» притязания на «сильный поступок», на «природное право», на «чем мы, сукины дети, хуже?» Вот вам и завершение великой литературной темы!
– Мрачновато, – Полина покачала головой.
– Ты слушай, Полиночка, слушай. Жорка еще водочки-то выпьет, разойдется, как на митинге, глядишь, и не такое скажет! – рассмеялся Андрей.
– Брось, мы говорим о вещах серьезных, – нахмурилась Полина.
– А товарищ Рябинин просто устал от серьезных вещей, – улыбнулся Старицкий.
– Ваше мнение, Георгий, о том, что революция освободила людей от страха, я не разделяю, – вернулась к разговору Полина. – Страха после семнадцатого стало намного больше.
– Страх страху рознь, – предостерегающе поднял палец Старицкий. – Страх перед войной, смертью, голодом, притеснениями – одно. До революции в душе народной жил и другой страх – боязнь кары небесной, уважение общественного мнения, опаска потерять доброе имя. Революция принесла новую мораль, суть которой заключалась в отрицании старой. Присовокупите к этому еще и объявление всеобщей свободы и получите результат – в семнадцатом году мы скатились в первобытное общество, где правит грубая сила. И дело вовсе не в контрреволюции и интервенции, – просто каждый россиянин по-своему понимал свободу в ослабленном войной и смутой государстве.
Георгий задумчиво поглядел на кружившихся вокруг электрической лампы мотыльков:
– Согласитесь или нет, а только старая Россия в действительности стояла на православии, самодержавии и народности. Вековая триединая основа державности обрела естественное право, прочно укоренилась в сознании. Наша страна, как любая громоздкая восточная империя, медлительна и консервативна, залог ее устойчивости был в сохранении традиций. Так длилось до тех пор, пока Запад не принес нам права силы для решения насущных внутренних проблем. Первым оказался Самозванец Гришка, науськанный поляками. Следом подтянулись и доморощенные «реформаторы».
Стенька Разин, разбойник, подлец и душегуб, после удачливых грабежей персидских берегов Каспия возымел гордыню пойти на самого царя! А почему бы нет? Взяли один город, другой, повесили воевод и дружинников – логичное завершение так и лезло в голову: на Москву, на трон!
Затем явился Петр, первый российский император. Сомнение в праведности всего русского началось именно с него. Большего вреда и представить себе невозможно. Петр совершенно не понимал, что его страна – не часть Европы, а азиатский татаро-славянский симбиоз, со своим укладом, неписаными законами и философией. Он видел лишь «отставания» от цивилизованного мира: косматые, некурящие бояре, вольнолюбивые стрельцы, отсутствие флота и привычки пить по утрам «кофий». А видел ли он самобытное государство с самодостаточным, оригинально развивающимся хозяйством, с богатеющими городами, предприимчивыми купцами и талантливыми зодчими? Что дали простому мужику петровские реформы? Потерю сыновей в результате рекрутчины, новые поборы на флот и армию и на европейские кафтаны помещикам? Резкое удорожание жизни после открытия «окна в Европу», обесценивание денег?
Неудивительно, что спустя полвека после смерти Петра мужик поднялся на невиданную доселе войну – Пугачевский бунт. Сам Емелька открыто и обоснованно заявил о нелигитимности власти, о своем (а значит, народном) праве на эту власть. Коленкор, разумеется, был традиционный – самозванство. Дальше – больше. Развращенные до скуки идеями гуманизма и просвещения дворяне стали разъезжать по стране (вначале из Петербурга в Москву, затем – и подальше), критиковать все и вся, распространять «идеи» и «прожекты».
Русский критицизм по сути – неконструктивное недовольство и каприз, поза и желание привлечь внимание, в том числе и женское. Дело «первопроходцев» не пропало – стремление встать в позу критика, участвовать в заговорах стало модным. Вот тут-то и родились на свет Раскольниковы, Шатовы, Верховенские. Кто с топориком по бабушкину душу, а кто и с бомбой. Последним уже не старую сквалыжницу подавай – бери повыше! Заговорили они и о свободе. А что они о ней знали? Свободы в полном смысле слова нет, как и равенства, ибо самой природой дано людям быть неравными в уме, способностях, строении телесном, характере. Они-то, конечно, считали себя равными, да и являлись таковыми – наскоро нахватавшиеся знаний тупоумные, озаренные «идеями» местечковые поповичи и писаришкины чада. Башмачкин – тот хоть новой шинели радовался, а этим – нет, маловато! В их головах сидели гуманисты и просветители, великие философы, на которых они теперь молились.
Только наши скорохваты-правдолюбцы не поняли одного: все мыслители создавали идеи во имя человека, а не во вред ему. Наши «мыслители» не думали о людях, они думали за них. Толпами «ходили в народ» и обижались, когда их гнали взашей; убивали чиновников и князей и не понимали, отчего толпа безмолвствует…
В восемнадцатом году я наблюдал, как страдающий от беззакония народ сам творил закон и порядок. Там и сям, куда не доходили руки большевиков и белогвардейцев, возникали самооборона, собственная милиция, правила взаимоотношений. Природу не обманешь – все возвращается на круги своя: финансы, коммерция, нормальная жизнь. Старые партийцы говорят: вся борьба насмарку. Правильно, товарищи! Потому как борьба получилась бесполезная, да и сами вы притомились в трудах. Ленин умер в пятьдесят четыре, Троцкий хандрит, у Зиновьева сердце побаливает. Да только не от забот все это – собственным гневом отравились. Кто побольше – тот до смерти. Наши губернские бюрократы тоже сетуют на утомление от забот на благо рабочего класса. Однако не так много нагрузок, как мало привычки к умственным упражнениям.
– Что ж, спасибо за откровенность, – Полина хлопнула в ладоши.
– Присоединяюсь, – добавил Андрей. – Только вот в радужных перспективах вашего бойкого класса сомневаюсь. Нет у вас, братец, в руках «командных высот» экономики, и никогда вы их не получите.
– Гм, – усмехнулся Старицкий. – В семнадцатом Ленин ратовал за «рабочий контроль», а он развалился; высокоидейная товарищ Коллонтай призывала к свальному животному блуду и усыновлению его плодов государством – не прижилось; поначалу в армии выбирали командиров, позже одумались; Бухарин взахлеб твердил об отмирании денег – вон они, опять в почете. Продолжить? Отменили продразверстку, сдают частникам предприятия, торгуют с Западом…
– …Танго разрешили, – подмигнув Полине, вставил Андрей.
– Да ну тебя! – махнул рукой Георгий.
– В самом деле, жить стало лучше хотя бы потому, что пустили трамвай! – расхохотался Рябинин. – Предлагаю закончить.
* * *
Андрей и Георгий проводили Полину до дому. Не успели друзья проститься, как к воротам подкатил лимузин. Из машины, оправляя гимнастерку, вышел Черногоров.
– Добрый вечер, папочка, – бросила отцу Полина.
– Здравствуйте, молодые люди, – кивнул Кирилл Петрович. – У тебя, дочка, нынче аж два кавалера! Прогресс налицо.
– Познакомься, папа, – товарищ Старицкий, – представила Полина.
Стоя чуть в сторонке, Георгий отдал короткий поклон и опустил глаза.
– Старицкий? – задумался Черногоров. – Как же, помню. Лично, правда, встречаться не приходилось, но фамилия знакома. Прошлой весной вы помогли детдому с хлебом. Подойдите, дайте-ка вас разглядеть!
Георгий приблизился и пожал протянутую Черногоровым руку.
– Ах, вы еще и меценат! – воскликнула Полина.
– Да, Полюшка, товарищ Старицкий безвозмездно передал детям две подводы с хлебом, – пояснил Кирилл Петрович.
– Жалко детишек, – криво усмехнувшись, проговорил Георгий.
– Тем не менее приятно видеть в советском частнике признаки сознательности, – заключил Черногоров и направился к дому.
– Полина, ты скоро? – остановившись у калитки, спросил он.
– Уже иду.
* * *
– Нехорошие у него глаза, лживые, – поднимаясь по лестнице парадного, бросил Кирилл Петрович. – Что их связывает с Рябининым?
– Они друзья еще с империалистической, – глядя в спину отца, ответила Полина.
Черногоров дошел до двери и, нащупывая в кармане ключи, поджидал дочь:
– Непростой он человек, этот Старицкий… хоть и бывший партизан.
– Ты, папа, тоже не из легких, – парировала Полина и достала из сумочки ключ. – Отворяйте, Кирилл Петрович.
* * *
– А я, пожалуй, теперь понимаю причину твоей задумчивости, – хлопнул друга по плечу Георгий. – Папаша, прямо скажем, не подарок… А девушка занятная, неглупая, рассудительная и к тому же красавица.
Андрей молча слушал, прикидывая, сколько нужно прочесть за ночь документов по «делу Гимназиста».
– Знаешь, она мне очень симпатична, – продолжал свой монолог Георгий. – Приглашаю вас на дачу. У меня есть за городом милая дачка. Сходим в баньку, искупаемся в озере.
– Полина в субботу уезжает в Крым.
– А-а! Нут так поехали вдвоем.
– Спасибо, но не смогу. Дел невпроворот. Голова идет кругом от этих чертовых уголовников.
– Мужайся, не у одного тебя, – рассмеялся Георгий. – Весь «розыск», все ГПУ о преступности радеют.
– Хорошо тебе говорить!
– Не завидуй. У меня, брат, свои заботы. Тебе их не понять.
* * *
«19 июня 1924 г. Андрей познакомил меня со Старицким, однополчанином по германскому фронту и давнишним своим приятелем. Георгий оказался на редкость занимательным типом, интересным не столько тем, о чем и как он говорит, сколько тем, о чем умалчивает. Несомненно, Старицкий – человек недюжинных способностей, остроумный и оригинальный, однако я ощутила в нем некую разрушительную силу, опасность и мощь, подобную той, что таится в спящем звере. Быть может, это нечто природное, первобытное, заложенное в характере от рождения, а может, и следствие каких-нибудь злоключений и необходимости хранить тайну? Почему-то я стала тревожиться за Андрея. Или я просто ревную его к любимому другу? Жуткая глупость! И все же тревога не покидает».
Глава XVI
Дверь квартиры Меллера Рябинину отворил высокий угрюмый мужчина.
– Прошу прощения, у товарища Меллера звонок поломан, нажал наугад, – объяснил Андрей.
– Вечно у него, шалопая, все невпопад, – шаркая ботинками по полу, проворчал сосед. – Комнату его знаете?
– Благодарю, бывал, – кивнул Андрей и постучался в дверь под номером шесть.
Наум поприветствовал Рябинина и усадил на диван.
– Почини звонок, – заметил Андрей. – Небритый субъект, что меня впустил, не преминул посетовать на твой счет.
– А-а, Кадочкин, – махнул рукой Меллер и погрозил пальцем в пространство. – Ух и сволочь, скажу тебе!
– Так это и есть коммунальный враг номер один – Кадочкин? – улыбнулся Рябинин.
– Он, собственной персоной, – сдвинул брови Меллер.
Наум подошел к столу и взял в руки черный конверт.
– Вот, изволь, получил карточки, – он протянул Андрею фотографию. – Девушки и Котька Резников неплохо вышли, а мы с тобой какие-то квелые.
– Зря говоришь, хорошая фотография. Взять можно?
– Определенно. Это же твой экземпляр. Денег не надо – подарок.
– Ну спасибо.
– Давай, рассказывай новости, – Меллер уселся верхом на стул.
Андрей задумался.
– Даже и не знаю, с чего начать… Полчаса назад проводил Полину на поезд, они с матерью поехали отдыхать в Крым.
– Слыхал, – кивнул Наум. – Света говорила. Они с Котькой, Сиротиным и Журавской завтра тоже отбывают в Батум. Посадил, значит?
– Куда?
– На поезд.
– Ага.
– Что творится на «Ленинце»? Ходят слухи, новую пьесу комса репетирует.
– Не знаю, – пожал плечами Андрей. – Я, Наум, с завода ушел.
Меллер открыл рот и удивленно похлопал глазами:
– Т-тебе, как будто, на «Ленинце» неплохо было…
– Перехожу на более ответственную работу. Родина зовет, – усмехнулся Рябинин. – Иду служить в ГПУ.
– Вот так вот! – всплеснул руками Наум. – Неужто ячейка откомандировала?
– Вроде того. Призвали бороться с преступностью. С понедельника приступаю к обязанностям.
Меллер отвел взгляд в сторону:
– Что ж… Дело нужное, почетное…
Андрей потрепал его по плечу:
– Будет тебе, какой уж там почет! Попросили – не мог отказать. Думаю, к зиме вернусь на завод. Надеюсь, моя новая служба не изменит наших отношений?
– Совершенная глупость! – фыркнул Меллер. – Дружба есть дружба. Мы-то с тобой – ладно, а вот некоторые могут не понять… Кое-кто, ну… так сказать, недолюбливает чекистов.
– Кому-то и литераторы поперек горла, – рассмеялся Андрей. – Кадочкину, например.
– Ну, нашел кого помянуть! – вскочил со стула Меллер. – Это ж совершенный троглодит, он даже при коммунизме будет ворчать и дебоширить. Намедни пройдоха сделал мне новую пакость – стал говорить всем по телефону, будто я пьян. Представляешь, звонит Нистратов из редакции, а ему отвечают: не можем, мол, позвать товарища Меллера к аппарату, он в хмельном беспамятстве валяется! Ну не подлец ли, а?
Андрей усмехнулся:
– Так ведь явно неспроста он хулиганит.
– Шутишь? Я веду себя тише воды, ниже травы, – возмутился Наум. – Нет уж, у Кадочкина ко мне определенно стойкая неприязнь. Не любит он, темнота, независимых творческих людей.
– Ты, кажется, говорил об откликах на статью о беспризорниках, – напомнил Рябинин.
– Ах, да! Вот еще одна совершенная мерзость! – скривился Меллер и стал что-то искать в карманах пиджака. Он вытащил помятую газету: – Вот, послушай, воскресная «Рабочая культура»…
Наум принял позу чтеца-декламатора и ехидно улыбнулся:
– Статья Чеботарева, завдетдомом номер один, называется: «Куда нас зовут? Ответ на публикацию Н. Меллера „Беспризорник – тоже человек“ в газете „Юный коммунар“, номер пять от 16 июня 1924 года». Пасквиль весьма объемистый, потому прочту тебе самое едкое:
«…Неужто мы не знаем пресловутого Мишку Ужакина по прозвищу Змей? Этого изощренного хулигана и мошенника! Нам, педагогам, он хорошо знаком. Именно Змей в мае 1922 года „увел в побег“ из детдома восемнадцать воспитанников. Год спустя все тот же Змей устроил „чемпионат“ по городкам. Победителю обещался приз аж в десять рублей. Участники состязаний платили Змею взнос в тридцать копеек, в результате мошенник-организатор получил более тридцати рублей (а это – месячная зарплата молодого рабочего!). Несмотря на обещания, победителю „чемпионата“ был вручен мешок сладостей, похищенный в бакалейной будке на Перекопской улице.
А в какую зависимость от себя Ужакин-Змей ставит наших детей? Наивные подростки, нуждающиеся в игрушках и безделушках, словно глупые галчата, попадаются в сети Змея. И неудивительно, ведь Мишка может достать все! Кому куклу, кому перочинный нож, костяные шахматы, милицейский свисток, редкие книги, награды и даже оружие. На этом „обмене“ Змей тоже делает свои спекулятивные барыши. Вспомните недавнюю историю с кинотеатром „Жемчужина“, где один из подручных Ужакина организовал на чердаке показ фильмов по сниженным ценам. А продажа без патента наловленной беспризорниками рыбы (заметьте, во время икрометания!)? И уж совсем грозными и настораживающими являются слухи о том, что Змей пристрелил юного налетчика Орлика в сентябре 1923 года…
Присутствие в городе Михаила Ужакина с его лживой и пустой авантюрной романтикой, ко всему прочему, тлетворно действует на наших дочерей. Не секрет, что в притонах беспризорных много девочек, которые находятся с парнями в весьма предосудительных отношениях…»
Наум закончил читать и торжествующе посмотрел на Андрея:
– А? Каково! Ну не подлец ли? На что он, собственно, намекает, говоря о «предосудительных отношениях» беспризорных парней и девчонок? Ему же в психиатрической лечиться надо! Этот Чеботарев – определенно развратный тип. В своей статье я писал об организации трудколоний для беспризорных, о нелегком детстве, о том, что необходимо вести работу не только с малышами, но и с такими взрослыми бродягами, как Змей. Ну разве я не прав? – Меллер раскинул руки в стороны и ждал ответа.
– Ты прав, Наум. Безоговорочно, – согласился Андрей. – Статья Чеботарева – вещь провокационная. Кстати, а что по ее поводу думает твой главный редактор Нистратов?
– Он полностью разделяет мое негодование, – важно ответил Меллер. – Мы написали опровержение.
– Маловато, – покачал головой Рябинин. —
В губком идти надо. И в наробраз. Руководствуясь статьей Чеботарева, некоторые сердобольные родители вполне могут начать травлю беспризорных.
– И мы в редакции так считаем, – подхватил Наум. – Даже ответную статью озаглавили «Нас призывают к „охоте на ведьм!“»
– Ежели Нистратов тебя поддержит (а за ним, не забывай, губкомол), значит, правду свою докажете, – уверенно заключил Андрей.
– Главное – чтоб люди поняли, – вздохнул Меллер. – Таким жестоким личностям, как Чеботарев, не место в педагогике.
Наум задумчиво поглядел в окно:
– Я ведь его, субчика, давненько знаю, еще с детства в Житомире…
– Так ты не местный? – удивился Андрей.
– Да нет. Родился я на Украине, в маленьком местечке. Происходили мы из крещеных в католичество иудеев. Отец был музыкантом. В 1907 году семья переехала в Житомир. Папа стал служить при костеле, играл на органе. В 1910-м мы с братом поступили в гимназию, а в семнадцатом перешли в коммерческое училище. Так вот, в этом самом училище и служил Чеботарев, преподавал географию. Быть может, по детской категоричности мы, ученики, считали Чеботарева плохим человеком, даже «ослом жирным» прозвали. Был у меня тогда дружок, Пашка Бойко, мы вместе увлекались драматургией. В декабре семнадцатого бросили мы захолустный Житомир и подались в Харьков. Там в ту пору собралось множество людей искусства, театры ломились от публики. Пристроились мы к одной труппе, бегали в массовках, пописывали пьески, спорили ночи напролет. Весной наш театрик поехал со спектаклями по городам и весям. К зиме 1919-го оказались в Москве. В столице, конечно, было жутко интересно. Шаг ступи – на знаменитость наткнешься. В феврале стало совсем плохо с хлебом, труппа принялась разъезжать по уездам, где с продовольствием было получше. Случайно занесло сюда. Познакомился с местными ребятами, поступил работать в газету. Когда к городу подошли белые части, я подался в армию, ушел простым красноармейцем на фронт. Мне тогда еще восемнадцати не исполнилось. В армии вновь столкнулся с Чеботаревым. Он служил «по снабжению» в одной из дивизий. Пристроился, как говорится, на теплое местечко. А в двадцатом он всплыл в качестве завдетдома! Так что знакомы мы не первый год.
Андрей покачал головой:
– Судя по твоему рассказу, Чеботарев – субъект изворотливый. И в роли моралиста он пытается выступить неспроста.
– Да просто хочет выделиться, чтобы выглядеть принципиальным, – махнул рукой Меллер.
Он о чем-то вспомнил и стал собираться:
– В «Музы» со мной пойдешь? Сегодня Лютый новые стихи читать будет. Вот повеселимся!
– Пойдем, прогуляемся ненадолго, – согласился Андрей.
Глава XVII
Черногоров вызвался лично проводить Андрея в рабочий кабинет «особой группы». Шагая по широким коридорам Управления и здороваясь с подчиненными, зампред приговаривал: «Кстати, знакомьтесь: товарищ Рябинин, наш сотрудник». Новые сослуживцы Андрея почтительно кивали, прикладывая руку к козырьку. «Заботлив папочка! И хитер! – думал Рябинин. – Умеет обозначить место человека в своем учреждении. Уверен, далеко не каждый удостаивается подобной милости».
Кирилл Петрович привел Андрея на третий этаж и остановился перед маленькой дверкой под самой крышей.
– Дальше действуй сам. Удачи! – напутствовал он Рябинина и поспешил откланяться.
В сводчатой свежевыбеленной комнате Андрея ожидали Непецин и немолодой усач в старорежимном пенсне.
– Здравия желаю! – кивнул Андрей.
Непецин поднялся из-за стола.
– А вот и товарищ Рябинин! Выходит, вся группа в сборе. Знакомьтесь, Андрей Николаевич, – Борис Борисович повернулся в сторону усача: – Деревянников Алексей Андреевич.
Старый эксперт вскочил, молодецки щелкнул каблуками и пожал протянутую руку. Андрей окинул взглядом застегнутый на все пуговицы пиджак, аккуратно выбритую голову Деревянникова и удовлетворенно улыбнулся: «Педантичные люди в сыскном ремесле – находка».
Рябинин предложил подчиненным без обиняков приступить к работе:
– Товарищи Медведь и Черногоров возложили ответственность за ход следствия по «делу Гимназиста» на меня. Оперативные действия поручены вам, товарищ Непецин; на Алексее Андреевиче – экспертиза и анализ. Верно?
Непецин и Деревянников кивнули.
– Кроме того, – продолжал Андрей, – товарищ Черногоров сказал, что вам поручено разрабатывать недавно арестованного Басманчика и его банду. С материалами «дел» на Гимназиста я, в основном, ознакомился, давайте подытожим наши выводы.
Он поглядел на Деревянникова. Тот подвинул к себе папку:
– Здесь у меня общие замечания и соображения по материалам «дел», – ровным, густым баритоном проговорил эксперт. – Начнем с того, что весьма скудные вещественные доказательства с мест преступлений ни в коей мере нас в расследовании не продвинули. Агентурная информация и свидетельские показания также скупы и противоречивы. Мы с товарищем Непециным решили обратить более пристальное внимание на транспорт. Банда Гимназиста часто использовала конные экипажи, похищала для совершения налетов автомобили. Надо отметить, что следователи уголовного розыска, которые вели «дела» в 22—23 годах, тоже обращали внимание на средства передвижения преступников.
В ряде случаев даже были найдены экипажи и лошади, используемые в налетах и при отходе с места преступления. Я свел результаты расследования воедино и получил довольно бесхитростную, но эффективную схему получения и использования бандитами транспортных средств. Пролетки и подводы покупались Фроловым через подставных лиц в различных уездах губернии. Те мелкие жулики, коих Федька подряжал для приобретения транспорта и лошадей, помогли расследованию немногим, однако в одном из «дел» зафиксированы показания некоего Хвостова, который по приказу Фролова доставил пролетку в каретную мастерскую Степченко, где экипаж привели в порядок и перекрасили. Хозяина мастерской, конечно же, допросили, но результат оказался нулевым – заказ был оплачен неизвестным Степченко человеком, который и забрал экипаж по окончании работ. Следователь Урванцев на сем успокоился, а заместитель губернского прокурора Изряднов вскоре закрыл дело.
Упомянутый мною Степченко опять предстал перед нами в ходе расследования последнего преступления Гимназиста – налета на казино «Парадиз». Как выяснилось, бандитский экипаж вновь прошел ремонт в мастерской Степченко, и вновь следствие сие обстоятельство не насторожило. Мы же с товарищем Непециным решили повнимательнее присмотреться к хозяину каретной мастерской. Конечно, можно упрекнуть нас с Борисом Борисовичем в излишней придирчивости и резонно заметить, что частнику нет разницы, кто ставит экипаж на поправку, однако проверить не поленились.
Деревянников заглянул в записи:
– Вот что выяснено: Степченко Геннадий Игнатьевич, 1898 года рождения, из крестьян Екатеринославской губернии, прибыл в наш город в 1922 году «по демобилизации из действующей армии», как значится в его анкете в окружном отделении милиции. В декабре того же года Степченко купил дом на посаде, со временем жилище свое перестроил, поставил мастерскую, расширил дело. Соседи считают его зажиточным и оборотистым. Впрочем, сам Степченко экипажей не чинит, а лишь руководит работниками. Наиболее занимательно то, что он имеет весьма обширные знакомства в различных слоях общества. Степченко знается с нэпманами, адвокатами, кустарями. Не гнушается и дружбой с уголовниками. Правда, прямых указаний на принадлежность Степченко к преступному миру нет, но один из подручных Басманчика – Петька-Воробей – на допросе показал, что хозяин мастерской близко знаком с Фроловым.
Более того, сославшись на некоего Аптекаря, барыгу-марафетчика, Воробей поведал о том, что Федька даже иногда гостил в доме Степченко. Посоветовавшись с товарищем Гриневым, мы с Борисом Борисовичем установили за Степченко наблюдение. Приданное нашей группе звено Елизарова сутками следит за мастерской.
– Есть какие-нибудь результаты? – спросил Рябинин.
– Пока нет, – покачал головой Деревянников. – Однако товарищ Гринев считает, что получение прямых доказательств причастности Степченко к злодеяниям банды Гимназиста не столь уж существенно. Делу присвоен статус «особо важного», посему достаточно нам самим убедиться в том, что Степченко действительно преступник, и тогда – его судьбу решит «тройка» коллегии ГПУ. Тот же случай и с Фролом: его вину, как я понимаю, руководство органов доказывать не собирается. В отношении розыска Фролова товарищ Непецин уже предпринял ряд оперативных действий, однако Федька как в воду канул.
– Так точно, – подтвердил Непецин. – В городе о нем ни слуху ни духу. Поговаривают, будто в кочевку подался.
– А что с Басманчиком? – справился Андрей.
Непецин кашлянул в кулак:
– Вторично, после следователей угро я допросил всех членов его банды. Вина их окончательно установлена, а вот связей с Гимназистом – не наблюдается. Товарищ Гринев лично допросил Басманчика, но он – калач тертый, все отнекивается да выкручивается. Вот Пал Александрыч и решил его помариновать в «одиночке», дать подумать. Затем вновь вызвал на допрос, предъявил показания подельников, – впустую. Тогда Кирилл Петрович разрешил товарищу Гриневу применить «активные действия».
Непецин опустил глаза:
– Ну… иные, так сказать, методы воздействия. Сегодня после обеда Басманчика должны передать для допроса мне. Присутствовать, Андрей Николаевич, будете?
– Интересы дела того требуют, – пожал плечами Рябинин. – Итак, подведем предварительные итоги. Установлен подозреваемый в связях с бандой – Степченко. Наблюдение за ним продолжим. Неплохо было бы потолковать с этим… барыгой-марафетчиком…
– Аптекарем, – подсказал Непецин.
– Да, с ним. Может статься, что-либо и прояснит. Поговорим с Басманчиком, спросим о Гимназисте. Ко всему прочему, я по материалам на Гимназиста заметил некую халатность прокуратуры в ведении ряда дел. Вы упомянули Изряднова, я тоже обратил внимание на его мягкое отношение к свидетелям из преступной среды.
Деревянников поднял брови и поглядел на Рябинина с нескрываемым удивлением:
– Прошу прощения, Андрей Николаевич, вы довольно проницательны! – усмехнулся он. – Однако сей вопрос резоннее переадресовать непосредственно товарищу Черногорову.
– Да-да, – подхватил Непецин. – Не наша это забота.
– Согласен, – кивнул Андрей и поглядел на часы. – Составьте подробные отчеты о проделанной работе, затем познакомимся с Басманчиком.
* * *
Добрых два часа Андрей бегал по всевозможным службам ГПУ – встал на учет в профсоюзе, комсомольской ячейке, служебной столовой, клубе, получил разрешение на доступ во внутреннюю тюрьму и оформил свой «браунинг» как табельное оружие.
В обеденный перерыв спустился перекусить.
В столовой для сотрудников было шумно, как на вокзале – чекисты гремели стульями, шутили и смеялись. Обедали торопливо, на скорую руку проглатывали гороховый суп и картошку, запивали стаканом-другим чая и устремлялись дальше по делам службы.
Рябинин уселся в уголок и с интересом наблюдал за ними. Коллектив преимущественно был молодым и на первый взгляд мало чем отличался от служащих заводской конторы. Одежда так же пестрила разнообразием фасонов, хотя в отличие от обычных городских парней, чекисты все же казались более подтянутыми и аккуратными. Гимнастерки и рубахи были свежевыглаженными, сапоги до блеска начищены, да и прически не удивляли экстравагантностью – предпочтение отдавалось гладко выбритым головам и коротким стрижкам «под бобрик». Газет за обедом не читали, привычной для заводов и фабрик политинформации тоже не проводили. Новости и анекдоты переходили от стола к столу под дружный смех и возгласы.
«Наверняка первым обедает оперсостав», – заключил Андрей и оказался прав. Через четверть часа в столовой стали появляться кабинетные затворники – следователи, технический персонал и машинистки. Эти предпочитали неброские, но добротные костюмы и ладную военную форму. Женщины имели подчеркнуто деловой вид: светлые батистовые кофточки и длинные узкие юбки. Явился и некий мужчина в полном армейском облачении – фуражке со звездой, при портупее и пистолетной кобуре. „Комендатура“ отобедать пожаловала», – смекнул Андрей.
«Кабинетные сотрудники» вели себя потише, реже бегали к баку с горячим чаем и тут же обратили внимание на незнакомое лицо.
Рябинин уловил испытующие взгляды и легкое перешептывание. Он предпочел не лишать чекистов удовольствия разглядывать нового сослуживца и принялся вылавливать из супа кусочек говядины. «А гепеушные повара куда лучше красноленинских, – подумал Андрей. – Хоть в этом выиграл».
* * *
Вернувшись в кабинет, Рябинин узнал, что его вызывает Гринев. Андрей спустился со своей «голубятни» на второй этаж и нашел нужную дверь:
Член коллегии ГубОГПУ
Начальник контрразведывательного отделения
тов. Гринев Павел Александрович
Если кабинет Черногорова отличался богатым чернильным прибором, кожаными креслами и деловым беспорядком, кабинет Гринева представлял собой небольшую портретную галерею партийных вождей. По правую руку на стене висели «основоположники» и высшие руководители РКП(б) – Маркс, Энгельс, Ленин, Троцкий и Сталин; по левую – местные большевистские кумиры – Луцкий, двое неизвестных и Медведь с Черногоровым. Прямо над головой Гринева нависал болезненный лик верховного ведомственного патрона – Феликса Дзержинского. Под ним, сидя на кончике стула, точно гимназист подготовительного класса, застыл молодой брюнет в армейском френче с неподвижными серыми глазами.
– Вы ко мне, товарищ? Прошу, – пригласил он.
Андрей притворил дверь и, отдав честь, отрекомендовался.
– Знаю, знаю, – Гринев тонко улыбнулся. – Наслышан. Присаживайтесь.
Говорил Павел Александрович не мигая, с подчеркнутым безразличием.
«Скользкий тип», – разглядывая Гринева, решил Андрей.
– Я позвал вас для краткой беседы, – начал Гринев. – Вверенная вам «особая группа» напрямую подчинена товарищу Черногорову, однако структурно она включена в Контрразведывательное отделение, за которое отвечаю я. Посему я обязан дать вам некоторые общие указания. Главным правилом наших органов является строжайшая секретность. О целях и ходе вашей службы не должен знать никто, включая близких родственников, знакомых и сотрудников других подразделений ГПУ. У нас вообще не принято в частных беседах распространяться о работе. В то же время не замыкайтесь в решении оперативных вопросов только на своей группе, чаще советуйтесь с вышестоящим начальством и не стесняйтесь просить помощи. Следите за собственным моральным обликом, не допускайте предосудительных связей и поступков, необдуманных сиюминутных решений в повседневной жизни. И еще. Старайтесь использовать личные связи в интересах дела, формируйте собственную агентуру и информаторов.
Гринев еле заметно пожал плечами:
– Вот, пожалуй, и все, Андрей Николаевич.
* * *
Для допроса Басманчика Рябинин и Непецин спустились в подвал, где, по словам Бориса Борисовича, находились «специально приспособленные» камеры. Чистота и ухоженность верхних этажей здесь сменились неоштукатуренными кирпичными стенами и полумраком. Вдоль стен длинного коридора тянулись ряды металлических дверей с небольшими зарешеченными оконцами посредине.
– Сюда, наш номер восьмой, – останавливаясь у одной из них, оповестил Непецин.
В камере стоял обыкновенный канцелярский стол с лампой и три грубых табурета. Пол был влажным от недавней уборки, пахло потревоженной плесенью и сырым цементом.
Непецин установил один из табуретов в центр камеры; другой, для себя, поставил за стол; на третий, в углу, усадил Андрея. Затем Борис Борисович зажег лампу, направил абажур на табурет в центре комнаты и выключил верхний свет.
– Так подследственный нас не увидит, – свет лампы будет бить в лицо, – объяснил он, раскладывая на столе бумаги. – Проверенный ход, давит на психику весьма основательно.
– Это из практики угро? – уточнил Андрей.
– Да нет, – изобретение чекистов, – усмехнулся Непецин.
– Перенимаете лучшее?
– Приходится. Сами увидите, какого фрукта приведут.
Дверь скрипнула, конвоир ввел в камеру человека в помятом костюме и рубахе навыпуск. Он вошел усталой походкой, придерживая рукой брюки и волоча ноги по полу.
– Арестованный Басманов доставлен, – козырнув, отрапортовал конвоир и удалился.
Человек прошел в центр камеры, опустился на табурет и уставился безучастным взглядом куда-то в сторону. Ему было около двадцати пяти, и он совсем не походил на бандита, скорее на измученного бродягу. Бледное лицо покрывала давно не бритая щетина, нечесаные спутанные пряди темно-русых волос падали на глаза. Басманчик подобрал ноги под табурет, запахнул пиджак и обхватил бока руками, будто стараясь согреться.
Непецин обмакнул перо в чернильницу, набросал на листе несколько строк, сверил по часам время начала допроса и обратился к арестованному:
– Я – оперуполномоченный Непецин, мне поручено вести ваше дело. Назовите свое имя, год рождения и происхождение.
Арестант разлепил сухие губы и, не глядя на Непецина, ответил:
– Басманов Леонид Васильевич, 1902 года, из пролетариев.
– Имеете место постоянного проживания?
– Нет.
– На прошлой неделе вас ознакомили с показаниями членов вашей банды – Головина, Симонова, Вострякова и Кобелева. Вы с ними согласны?
– Да.
Непецин хмыкнул и удивленно посмотрел на Андрея.
– Вину свою признаете?
– Н-да.
– По всем пунктам обвинений?
– По всем.
Непецин застрочил пером по бумаге. Записав вопросы и ответы, вновь обратился к Басманчику:
– Очень хорошо, Леонид Васильевич, что вы переменили отношение к следствию, решили признать свою вину и дать показания. Чем больше вы чистосердечно расскажете, тем мягче будет приговор, – суд учтет вашу помощь следствию.
– Нечего больше рассказывать. Все уж… – глухо кашлянул Басманчик, – …дружки верные выложили.
– Мы не ограничиваемся одним только вашим делом, – сказал Непецин. – Вы должны помочь в расследовании других.
Басманчик поднял голову и, щурясь от света лампы, постарался разглядеть следователя.
– Не было никаких «других», – медленно проговорил он. – Не знаю ничего. А стучать на корешей не буду, за ссученного не держите.
– Никто и не собирается вас заставлять «стучать»! – рассмеялся Непецин. – Вы – авторитетный в своей среде человек, мы тоже вас, в определенном смысле, уважаем.
– Угу, – хмыкнул Басманчик. – Как тот кошак, что пташке песни пел.
– Нас, в сущности, интересует одно: что вы знаете о Гимназисте?
Басманчик поморщился:
– А-а, это… И хотел бы – не помог, потому как сроду его не видал.
– Ну ведь вы слышали о нем? – напирал Непецин.
– Так и вы слышали. Что ж, байки будем перемывать?
– А куда нам торопиться? Давайте попробуем! – весело отозвался Непецин.
– Пиши, малюй, мне бумаги твоей не жалко, – мрачно хохотнул Басманчик. – Только водицы пусть принесут – пить охота.
– Ладно, – согласился Непецин и крикнул в сторону двери: – Конвой! Где ты там?.. Зайди-ка.
Вошел караульный.
– Попить принесите, – распорядился Борис Борисович.
– Ага, только кипяченой, – не оборачиваясь, добавил Басманчик.
Минуты через три конвоир вернулся с большой кружкой в руках. Криво улыбаясь, он поднес арестанту воду:
– На!
Басманчик глянул на конвоира недобрым глазом и, принимая кружку, буркнул:
– «На!» Небось не мерина поишь, в морду-то не пихай!
Непецин махнул конвоиру, и тот удалился.
Басманчик напился, поставил кружку рядом с табуретом и опять уставился в сторону.
– Вернемся к Гимназисту, – напомнил Непецин. – Слухи, само собой, перебирать не станем, а вот мнение о нем человека из криминальной среды хотелось бы услышать.
Басманчик пожал плечами:
– Гимназист – фигура авторитетная.
– А кто так считает?
– Да, почитай, все.
– Фрол, например? Уж с Фролом-то ты знаком?
– Приходилось встречаться.
– А кто он, Гимназист, по твоему мнению?
Басманчик вздохнул:
– Трекают, князь!
– Говорят, он не местный?
– Говорят.
– А что слышно, откуда он?
– Кто знает? Трепались, что из Ростова, будто в тех местах был он важной птицей.
– Из Ростова? Ой ли? – недоверчиво протянул Непецин. – Да небось врут.
– Может, и так, – криво усмехнулся Басманчик. – Я не уголовка, чтоб допытываться. А только узнал я это от верного человека.
– От кого же?
– Отчего не сказать? Человек тот давно на том свете мается. От упокойника Бурого узнал, того, что зимой ваши смарали [110].
– Ах, Бурый! – вспомнил Непецин. – Фармазонщик, убит при попытке к бегству. Так он – известный врун!
– Хм, трекнул бы ты, начальник, ему такое в лицо, коли он рядом сидел! – покачал головой Басманчик. – Не-ет, Бурый законный уркаган был, не трепло.
– А почем ты знаешь, что он не брехал про Гимназиста? – недоверчиво спросил Непецин.
– Потому как знал он его по Ростову, когда сам туда камешки скидывать мотался. Брякнул Бурый мне раз в хмарах [111], будто имел Гимназист в Ростове великий авторитет. Только он тогда не Гимназистом был, а каким-то «Поручиком», что ли.
– Поручиком? – задумчиво проговорил Непецин. – А что Бурый еще рассказывал?
– Ничего. Треп случайный вышел. Бурый, бывало, если захочет – скажет, а не захочет – никакому легашу не расколоть.
– Ну, да будет с ним, с Гимназистом, – махнул рукой Непецин. – Все одно, нам его не поймать.
Басманчик залился хриплым булькающим смехом:
– Признал? Говорил тебе – князь он!
– Кстати, – словно что-то припоминая, сказал Непецин. – Тебе некий Степченко, каретник с посада, не знаком?
– Степченко? – почесал лоб Басманчик. – Мордатый такой? Геня-Хохол, знаю. А этот чего натворил?
– Да ничего, бричку мы у него присмотрели…
– Я не гужак [112], чтоб советовать, – фыркнул Басманчик.
– Ну, а что он за личность?
– А кто его знает? Наши Хохла не признают, хоть он и со многими корешится. Есть такие людишки: «И нашим, и вашим – черта спляшем», как говорится.
– Оно и верно, – согласился Непецин. – Ладно, хватит нам беседовать, иди, читай протокол.
Басманчик поднялся, подошел к столу и, не глядя, подписал протокол.
* * *
Сидя на подоконнике в кабинете «особой группы», Рябинин думал о недавнем допросе. Непецин подшил протокол в папку и спросил у Андрея его мнение о Басманчике.
– Странный он какой-то, – пожал плечами Рябинин. – Вы утверждали, будто Басманчик – «тертый калач», что он долго упрямствовал на предыдущих допросах, а тут…
– Что ж, – усмехнулся Непецин, – методы товарища Гринева подействовали.
Борис Борисович оглянулся на дверь и шепотом добавил:
– Думаю, его хорошенько отдубасили по ребрам, мало кормили, держали в карцере. Затем предъявили показания подельников. Ну и пораскинул Басманчик умом, с какой стати упираться-то? Срок, один черт, накрутят, а здоровье терять ради упрямства глупо. Вот и смягчился.
– Неужели в органах до сих пор используют методы «чрезвычайки»? – удивился Андрей.
Непецин приложил палец к губам:
– Потише, товарищ Рябинин, услышат! Мало ли, что там пишут в газетах о либеральности ГПУ, – кадры-то, в основном, прежние, времен «красного террора». Попривыкли к простым и действенным мерам. Это у нас, в угро, – крутишь-вертишь подозреваемого, фактами да ухищрениями добиваешься признания, а здесь – все просто. Обломали Басманчику бока, прошлись коваными сапожищами по почкам да селезенке, вот он и стал покладистым.
– М-да-а, – покачал головой Андрей. – Хваткий товарищ этот Гринев! А я гляжу: отчего Басманчик за бока держится? Холодно ему, что ли, в такую-то жару или захворал?
Непецин рассмеялся:
– По морде только в милиции бьют, да и то в крайних случаях, для успокоения. В ГПУ обрабатывают нижние части тела, чтобы на суде клиент был свежим и чистеньким, как огурчик. Впрочем, я не особенно осуждаю товарища Гринева: Басманчик – тоже не сахар, своими руками душ загубил немало. Поделом ему.
– Может быть. Однако, мы представляем закон! – слезая с подоконника, заключил Рябинин.
Он сел к столу, открыл папку и нашел протокол допроса Басманова:
– Как вы относитесь к информации о том, что Гимназист прибыл к нам из Ростова?
– Пока не думал. Надо бы Деревянникова спросить.
– Кстати, а где Алексей Андреевич?
– Побежал проверять успехи наблюдения за Степченко. С минуты на минуту должен вернуться.
Андрей сунул в рот папиросу и взял свежие «Губернские новости»:
– Ладно, подождем.
* * *
Деревянников не заставил себя долго ждать. Коротко объяснив, что у Елизарова и сегодня – ничего замечательного, он внимательно прочел протокол допроса.
– Ну-с, думается мне, что «Дело банды Басманова» мы вскорости завершим, – окончив, проговорил он. – Пущай этими голубчиками теперь товарищи народные судьи занимаются.
– Андрей Николаевич обратил внимание на информацию о том, что Гимназист прибыл из Ростова, – подал голос Непецин.
Деревянников пожал плечами:
– Ссылаясь на Бурого, Басманов связывает ростовское прошлое Гимназиста с кличкой «Поручик». Мне представляется, что здесь есть некая неточность, смещение сведений. Помните, в феврале 1923‑го был убит один из членов банды Гимназиста, некто Артемьев, бывший поручик царской армии. Его знали в криминальной среде, он действительно бандитствовал когда-то в Ростове. Думается, что Бурый имел в виду именно Артемьева.
Алексей Андреевич снял пенсне и протер носовым платком уставшие глаза:
– Долгое время я придерживался версии о гениальном, образованном и хитроумном налетчике Гимназисте, а теперь считаю, что его вообще нет.
– Как так? – опешил Андрей.
– Повторяю, это лишь мое мнение. И оно таково: в Ростове, или где-то еще, орудовала банда во главе с налетчиком по кличке Поручик. Преступники появились в нашем городе в 1922-м, а год спустя атаман шайки был убит. Фрол, оставшийся за старшего, продолжал раздувать славу мифического главаря, более страшного и авторитетного, нежели он сам.
– Минуточку! – перебил Деревянникова Непецин. – Урки знали, что один из членов банды по кличке Поручик убит!
– А многие ли доподлинно знали, что Гимназист и царский поручик Артемьев – одно лицо? – Деревянников тонко улыбнулся. – Вспомните информацию осведомителей: тогда, в начале 1923-го, впрочем, как и сейчас, городские жиганы очень мало знали о банде Гимназиста, а те скудные сведения, что имелись, преступникам поставлял все тот же Фрол! Вот он и удумал прикрыться фантомом авторитетнейшего уркагана. А в городе продолжали считать, что погиб лишь рядовой член банды.
Поймите, за два года преступной деятельности Гимназист, будь он реально существующим лицом, наверняка сумел бы где-нибудь засветиться. В криминальном мире идет постоянная борьба за власть и влияние, за дележ и сбыт добычи. Архиважные вопросы решаются исключительно на уровне высших главарей. Глубокая законспирированность банды и ее атамана возможны в случае либо высокого профессионализма, либо – связи с правоохранительными органами.
– Вы исключаете и то, и другое? – жестко спросил Рябинин.
– Отчасти – да.
Андрей задумчиво постучал пальцами по столу:
– Однако в одной из глав своей книги, с которой я внимательно ознакомился, вы, Алексей Андреевич, пишете о Леньке Пантелееве, легендарном питерском налетчике. Его долгое время ловили все органы сыска, в том числе и ГПУ, а попался он по чистой случайности. Неужели у нас в губернии не может быть второго Пантелеева?
– У нас – вряд ли, – снисходительно улыбнулся Деревянников. – Обычно преступники честолюбивы. Высокопрофессиональным тесно в провинции, им нужен столичный простор.
– А может статься, они здесь промышляют как «гастролеры»? – вставил Непецин.
– Есть и такая версия, – согласился Алексей Андреевич. – Однако сейчас мы говорим о банде, члены которой постоянно проживают в городе.
Я утверждаю, что если рассматривать банду Гимназиста как местную, находящуюся здесь постоянно более двух лет, оснований искать именно Гимназиста нет. Разыскивать же иногородних преступников следует не губернским, а союзным структурам ГПУ и НКВД. Как вы считаете, есть логика в моих рассуждениях?
– Логика есть, – кивнул Андрей. – И все же стоит проверить информацию Басманчика. Пошлем запрос в ростовское ГПУ, пусть проверят по картотеке, найдут сотрудников ЧК или угро, что-либо знающих о налетчике по кличке Поручик. Вы, товарищ Деревянников, составьте запрос, я его у товарища Черногорова подпишу, и завтра же отправим срочную шифротелеграмму. Далее – необходимо навестить барыгу-марафетчика Аптекаря и выведать, что он знает о связях Степченко с Фроловым.
– Для начала нужно сделать оперативную проверку, – вставил Непецин.
– Что это значит?
– Ну, разузнать, когда Аптекарь бывает дома, чем занимается. Нельзя прийти к нему наобум, неподготовленными.
– Хорошо, – кивнул Рябинин. – А завтра займемся Степченко. Посмотрим, как там дела у Елизарова.
– Он пока только приглядывается, – пояснил Непецин. – В дальнейшем можно опросить соседей под видом инспекторов пожарной охраны или съемщиков жилья.
– Мне пришла в голову неплохая идея, – добавил Деревянников. – Что, если Андрею Николаевичу снять поблизости от мастерской Степченко квартиру или комнату? Человек он в городе новый, никто ничего не заподозрит. Наши-то физиономии всем давно примелькались.
– Принимается, – согласился Рябинин.
Глава XVIII
Весь следующий день Андрей провел в разговорах с соседями Степченко и проверке работы звена Елизарова. Возвращаясь вечером домой, он заметил у парадного сидящего на корточках человека, в котором с удивлением узнал Мишку-Змея.
– Здравствуй, Михаил! Какими судьбами? – поприветствовал его Рябинин.
– Дело у меня к вам. Срочное. Битый час дожидаюсь, натурально, – выпалил Змей.
Он выглядел обеспокоенным и удрученным.
– Забегал к товарищу Меллеру – он в отлучке, решил к вам заскочить. Кроме вас у меня грамотных знакомых нету.
– Что стряслось, Миша? Говори, не стесняйся.
– Помните мою Катю, ту, что вы догоняли?
– Отлично помню.
– Так вот, захворала она. Огнем горит, заговаривается. Не знаю, что и делать, надо бы врача или в больницу…
Глаза Змея стали непривычно беспомощными и испуганными.
– Где она? – сосредоточенно спросил Андрей.
– На реке, в шалаше, верстах в трех от города. Мы там последнее время обитаем.
Рябинин схватил Мишку за локоть:
– Бежим на Губернскую, там полно извозчиков. Нужно отвезти Катю в больницу.
* * *
Извозчик довез встревоженных пассажиров до указанного места. Змей соскочил на землю и повел Рябинина через кусты к реке. Недалеко от воды, в зарослях стоял шалаш. Андрей отстранил Мишку и вошел первым.
Катя лежала на соломенном тюфяке с закрытыми глазами и тяжело дышала. Рябинин положил руку ей на лоб – девочка даже не почувствовала прикосновения, она вся горела. «Плохи дела, – подумал Андрей. – Температура высокая». Он потрогал горло Кати: «Гланды распухли, наверняка ангина».
Андрей вылез из шалаша.
– Что вы ели-пили из холодного? – бросил он Змею.
– Мороженого с полдюжины я вчера притащил, Катя все и слопала, – удрученно буркнул Мишка.
– Берем ее за руки за ноги, и – в пролетку, – приказал Андрей. – В больнице разберутся.
– А как же там, в больнице-то? – шмыгнул носом Змей. – Начнут пытать, кто такая да откуда?
– Не твоя забота.
* * *
Дежурный фельдшер губернской больницы поначалу было воспротивился:
– Детское отделение переполнено. И доктор уже ушел. Везите в городскую больницу.
Андрей отвел фельдшера в сторону и прошептал:
– Я – сотрудник ГПУ Рябинин. Не примешь ребенка – тотчас закатаю в карцер! Понял?
Фельдшер побледнел и побежал за носилками.
Катю определили в палату, послали за доктором и пообещали присмотреть.
– Завтра же загляну, проверю, – пригрозил Андрей фельдшеру.
Змей нервно курил на ступеньках крыльца.
– Порядок, – Рябинин с облегчением вздохнул. – Ангина – не самое страшное в жизни, вылечат. Заходи ко мне завтра вечером, сходим справиться о здоровье Катерины.
Он вдруг вспомнил о собрании «Союза молодых марксистов», на которое его приглашал Венька Ковальчук.
– Кстати, знаешь, как быстрее добраться до электростанции? – спросил Андрей.
– Само собой.
– Не в службу, а в дружбу – проводи.
* * *
В «красном уголке» электростанции собралось около пятидесяти человек. У импровизированной, составленной из ящиков трибуны возился с бумагами Венька. Увидев Андрея, он помахал рукой и указал на места во втором ряду. Рябинин устроился и оглядел собрание.
Просторная комната, стены которой были сплошь увешаны плакатами времен гражданской и агитками «Окон РОСТА», напоминала обычный комсомольский клуб. Отсутствовали, правда, положенные для протокольных заседаний стол президиума, стеклянный графин и колокольчик председателя. Публика, довольно юная, по виду пролетарская и студенческая, была преимущественно мужской.
Серьезный парень в темной холщовой рубахе встал перед первым рядом и открыл собрание:
– Товарищи! Сегодняшнее заседание координационного совета и актива «Союза молодых марксистов» не совсем обычное. Осенью минет год, как образовалось наше сообщество; почти год мы, придерживаясь выработанной на первом съезде «Союза» программы, занимаемся культурно-просветительской деятельностью по изучению трудов Маркса, Энгельса, их современников, противников и последователей. Мы стремимся вернуться к истокам, вновь начать дело Плеханова и группы «Освобождение труда» по пропаганде истинного марксизма.
Несмотря на достигнутые со времени первого съезда успехи, жизнь заставляет нас обратиться к задачам более практическим и приземленным. В советском обществе множество вопросов, которые мы, люди молодые и политически активные, обязаны решать. Еще весной координационный совет постановил организовать рабочие группы по изучению наиболее острых проблем действительности. На сегодняшнем заседании мы выслушаем руководителей трех таких групп. Все доклады и резолюции по ним мы обобщим на втором съезде в сентябре, где предстоит выработать и принять новую программу «Союза». Итак, доклад «Безработица и современное экономическое положение» подготовил член координационного совета Ковальчук Вениамин; «О создании Боевой организации „Союза“» доложит зампредседателя координационного совета по работе в армии товарищ Варламов; далее – товарищ Самохвалов из секции университета расскажет о перспективах агитационной работы «Союза» в деревне. Выступающим в прениях по каждому вопросу – не более двух минут, иначе просидим до петухов.
Председатель вернулся на свое место в зале, а к трибуне вышел Венька с кипой листов в руках:
– Товарищи! Проблема безработицы чрезвычайно болезненна для советского общества. Она напрямую касается и нашей организации, ведь около трети членов «Союза» – безработные.
На городской бирже труда зарегистрировано более четырех тысяч безработных граждан. Откуда, спросите вы, взялись эти лишние для народного хозяйства люди? Большая часть из них – демобилизованные бойцы Красной армии. Они были призваны на войну совсем юными ребятами, не получив специальности и навыков квалифицированного труда. Другие – вчерашние подростки, которые уже не могут находиться на иждивении у родителей. Третьи пришли из сел и деревень, где с недавних пор ощущается переизбыток рабочих рук. В условиях хозяйственной разрухи вследствие недавней войны все эти люди остались не у дел.
Даже мало-мальски образованный человек понимает, что решение проблемы безработицы лежит в сфере производства. Сельское хозяйство, при всем сегодняшнем динамизме его развития, с задачей не справится – расширение крестьянского мелкотоварного производства идет крайне медленно, без освоения новых земель, привлечения машин и дополнительных рабочих рук. Поэтому тяжесть решения проблемы безработицы целиком ложится на городское промышленное хозяйство. Мелкие предприятия (кустарные мастерские, артели), которые довольно быстро восстановили свою деятельность, тем не менее с проблемой справятся очень нескоро – в среднем на каждом таком предприятии занято по пять—десять человек. Выход из ситуации видится только в возрождении крупной машинной индустрии, там, где в совокупности по России были когда-то заняты миллионы рабочих.
Однако здесь положение наиболее тяжелое. Мои друзья-рабочие подтвердят, что львиная доля станков и оборудования на заводах и фабриках выпущена до империалистической войны и даже в прошлом веке, обновления и ремонта парка почти не происходило. Многие из вас помнят, как еще недавно целые цеха занимались изготовлением зажигалок для продажи на толкучках.
Производство машин, сапог, кирпича и стекла в нашем городе заменил ремонт примусов, «керосинок», замков и ведер. Промышленный пролетариат превращался в сборище мелких кустарей. Добавьте ко всему прочему уравниловку, натуральные пайки, и – получите полный развал заводов и фабрик.
Сегодня большевики взялись за восстановление экономики. Предприятия уже не подчиняются главкам, ведут собственное планирование и хозяйствование. Все это напоминает брошенного в пустыне калеку. Разрушенные, полупустые заводы, лишенные квалифицированных кадров, теперь должны самостоятельно браться за возрождение производства. Помощь государства и местных властей минимальна и эпизодична, ставка делается на сознательность, энтузиазм и остатки былых ресурсов. Хорошо, если на предприятии остались хоть какие-нибудь станки, налаженные хозяйственные связи и грамотные работники, как, например, на «Красном ленинце».
А что делать кирпичному заводу или стекольной фабрике, где разграблено или пришло в упадок почти все оборудование? Выход партийные вожди видят в одном: идти на поклон к западным капиталистам и доморощенным нэпманам. Большевики твердят о сохранении в их руках «командных высот» экономики, а сами по крупицам теряют хозяйственные объекты. Да, пока крупные заводы и железные дороги – в руках государства. А завтра? Капиталисты и нэпманы поднимут на должный уровень взятые ими в концессию предприятия, и вскоре объекты «командных высот» станут неконкурентоспособны.
Если сейчас не хватает средств на их восстановление, то завтра – и подавно, потому как предстоит не только поднять их до уровня 1913 года, но и реорганизовать в соответствии с новыми требованиями времени. Большевикам ничего не останется, как сдать и «командные высоты» нэпманскому капиталу. Новые хозяева, конечно, быстро ликвидируют безработицу – им нужна выгода, прибавочный продукт! Только вот будет ли рад такому способу решения проблемы рабочий класс? Сомневаюсь. Пролетариат вновь окажется под гнетом капиталистической эксплуатации. Тогда уже не государство, не профсоюзы будут определять уровень зарплаты и заниматься социальной политикой, – опять все вернется в руки хозяина-буржуа.
Впрочем, кое-кто считает, что подобного не произойдет: концессионные предприятия не передаются нэпманам и западным капиталистам в собственность, но и здесь мой оппонент окажется не прав. Концессионеры и арендаторы выкачивают прибыль, скрывают ее от государства и переводят за границу (примеры тому известны). Соберись государство взять предприятия обратно – и что оно получит? Капиталист отдаст только то, что получил по договору концессии, купленное им дополнительное оборудование и машины исчезнут вместе с ним. Состояния работников частник не улучшит, условий труда – тоже. Вот и подумайте, есть ли у Советской России перспектива развития производства при сохранении политики нэпа.
Может ли государство быстро ликвидировать безработицу и улучшить жизнь трудящихся? Ответ один: без подъема крупной машинной индустрии – нет. Возрождение на современном уровне заводов и фабрик, строительство новых предприятий создаст рабочие места не только на них самих, но и существенно увеличит категорию строительных рабочих.
К слову, примеры успешного восстановления крупных промышленных предприятий и строительства новых объектов народного хозяйства уже есть. Вспомните, в каком плачевном состоянии были еще три—четыре года назад российские текстильные мануфактуры, кожевенные фабрики и железные дороги. О последних хочется сказать особо. Большевики быстро поняли, что единство страны, как хозяйственное, так и политическое, ее безопасность в немалой степени зависят от транспортных коммуникаций. Теперь наши железные дороги не хуже хваленых «императорских»! Можем, значит, товарищи, если нужда возьмет за горло.
А электростанции? План ГОЭРЛО? Волховская гидроэлектростанция – лишь первая ласточка в создании крупных индустриальных объектов.
Однако все эти примеры – слабое утешение четырем тысячам безработных нашего города. Они-то уж точно завтрашним утром работы не получат. Что бы мы тут ни говорили, город по-прежнему страдает от безработицы, нищеты, разгула преступности и беспризорщины. Сложился ужасающий порочный круг: сократили Красную армию – увеличили армию безработных, соответственно поднялся и уровень преступности; беспризорных ловят, а им в детдомах нечего кушать; отдают старших детдомовцев в фабзавуч, по окончании учебы – иди на биржу, значит – вновь на улицу: воровать, заниматься проституцией и грабить.
Вы знаете, недавно произошел дичайший случай: группа отбывших наказание преступников вернулась в город. Они решили начать новую жизнь, встали на учет на биржу, ждали работы. Когда после бесчисленных явок и перекличек терпение лопнуло, кинулись в гневе громить контору биржи, жечь бумаги и бить служащих. Прибывшие на шум гепеушники, вместо того чтобы разобраться и успокоить отчаявшихся, стали стрелять и хватать безработных. И благополучно вернули их в уголовный мир. Спасибо, товарищи чекисты!
Как видите, проблема безработицы тянет за собой целый воз других. Решив ее, мы сумеем во многом улучшить тяжелое положение трудящихся.
Что может в этой связи предложить «Союз молодых марксистов»? Чем помочь безработным? Во-первых, наиболее нуждающимся мы уже делаем выплаты из общей кассы. Не секрет, они весьма скромные. Ну, как говорится, чем богаты; хоть какая-то, да прибавка к биржевому пособию.
Во-вторых, моя рабочая группа предлагает создать несколько кружков по обучению отдельным специальностям для профессиональной подготовки кадров. Среди членов «Союза» есть несколько хороших слесарей, кузнец, лудильщик, скорняк, электрики. Пусть они возьмут по два—три ученика. Ребята будут заниматься, а как подготовятся должным образом, попросим фабзавуч принять у них экзамены на разряд.
Следующий шаг – создание собственной биржи труда. Тем членам «Союза», которые являются безработными, предлагается сдать в координационный совет заявки с указанием специальности или того, что они умеют делать. Остальные должны собирать сведения, где появилась вакансия.
Сами знаете, покуда информация о работе дойдет до биржи труда, пройдет день-другой. Нередко работодатели, особенно мелкие, не утруждают себя поисками рабсилы на бирже, – просто вывешивают объявление на столбе или заборе. Мы с вами – ребята шустрые, внимательные, где что увидим, где услышим от знакомых, – надобно вмиг сообщить в координационный совет. Я вот уже могу похвастаться: добыл две вакансии на должность курьера в редакции газеты «Юный коммунар». Использовал личные связи с товарищем Меллером. Так что прошу желающих прийти завтра к девяти утра в редакцию на собеседование.
Венька поклонился аудитории и под аплодисменты спустился в зал.
Большинство собравшихся Венькин доклад поддержало.
Перешли ко второму вопросу. Место на трибуне занял Варламов – зампредседателя совета по работе в армии, совсем юный, но чрезвычайно уверенный в себе человек.
– …Мы должны быть готовы к любому развитию событий, – говорил Варламов. – Глубокие противоречия между трудом и нэпманским капиталом, между народом и оторвавшейся от жизни партией большевиков могут привести к возмущению. Нам необходимо иметь боевую организацию, способную устранить беспорядки и направить массы по правильному пути. Такая структура будет призвана проводить в секциях «Союза» обучение навыкам обращения с оружием и коллективному взаимодействию в условиях революционной ситуации. Нам нужна мобильность и четкое подчинение координационному совету…
Окончание доклада Варламова покрыли шум и громкие выкрики.
– Попахивает эсеровщиной! – возмущались одни.
– Не хватало еще, чтобы мы по чьей-то указке маршировали и отдавали честь! – вторили другие.
Представители секции университета дружно затопали ногами и засвистели. Сторонники создания боевой организации между тем горячо доказывали свое.
– Нас необходимо объединить и мобилизовать! – размахивал руками парнишка лет шестнадцати. – Комсомольцы сильны сплоченностью, а мы рассредоточены и слабы. Нашу секцию имени Марата даже пытались побить во время диспута!
– Да вы просто струсили! – кричали студенты. – Может, тебе на комсомольские диспуты с «наганом» ходить?
– Даешь боевой «Союз»! Хватит уж нам читать Маркса и дебатировать! – орал суровый молодец. – И нечего, братва, возражать. Вам позволительно и книжками ограничиться, вы – домашние, за мамкой-папкой живете, а я – безработный, мне каждый день – как ножом по горлу!..
Председатель долго добивался тишины. Когда все желающие высказались и страсти улеглись, поднялся невысокий паренек.
– Суть, ребята, не в эсеровщине или солдатской муштре, – задумчиво проговорил он. – Главное в том, что наш «Союз» после создания боевой организации просуществует не более месяца. Студенты уже бросили координационному совету упрек в эсеровщине, а ГПУ – тем паче. Нас всех непременно пересажают, дайте срок. Поймите, нельзя давать органам повода разгромить «Союз»! Мы – оппозиционная, но мирно настроенная, культурно-просветительская организация.
– Мы не ставим целью боевые акции! – подал голос Варламов.
– А вот чекисты могут подумать иначе, – покачал головой невысокий.
В конце концов договорились назвать боевую организацию «Союза» менее угрожающе – «Военно-учебным клубом».
Председатель призвал вернуться к повестке дня и предоставил слово некоему Самохвалову из секции университета. Широкоплечий и угловатый, он выглядел гораздо старше своих товарищей. Выступал Самохвалов без бумаг:
– Верно сказал Вениамин: деревня в самом деле стала жить лучше. Но будет ли так и дальше? Сельский труженик рад продналогу, он развивает личное хозяйство, торгует, набирает вес. А законы Маркса продолжают действовать! Нынче много середняков, совсем мало кулаков и бедноты. Завтра же дифференциация усилится, – с политической экономией не поспоришь. Кто-то из середняков станет кулаком, а кто-то и разорится. Вновь укоренится эксплуатация, бесправный наемный труд.
Разоренные крестьяне повалят в города и принесут сюда свою психологию, свою мораль личной наживы и отстраненности от интересов других классов. Уже сейчас нужна пропаганда истинно марксистских идей. Я вот часто бываю в родном селе и вижу, каково мужикам без правды. Привозят только большевистские газеты, – кроме как комсомолу и партийным, некому подымать уровень сознательности в народе. А большевики гнут свое, толкуют о мудрости РКП(б), возвеличивают вождей.
Мужик, конечно, верит, – чего ему нынче мешает на земле работать? Воля, говорят, всем вышла. Простили большевикам и поборы, и беззаконие. Однако ж и власти понимают, что нельзя оставлять крестьянство без идеологического присмотра, без агитации. Понимают и то, что голыми-то руками мужика не возьмешь, в лоб об истинных целях не скажешь. Вот и стараются вбить в головы свои идеи с дальнего, так сказать, захода. К примеру, в резолюции последнего съезда очень хитро говорится о задачах партии в деревне, – предлагают развивать сеть селькоров и юнкоров, привязывать местных грамотных людей к уездным газетам. К чему? А к тому, чтобы в печать не попадали неугодные статьи. Написал какой-нибудь селькор заметку, принес редактору. Тот глянул – нет, не вяжется она с «линией партии». Заметку – под сукно! Селькор – давай возмущаться: где, мол, моя чудесная статья? А ему в ответ: неправильно, дорогой товарищ, пишешь; не так надо, а вот как! Ну и начинает уму-разуму поучать. Селькору – тому обидно, но потерять возможность печататься еще хлеще. А тех, которые будут упрямствовать, вообще отвадят от газеты. На их место подыщут новых, попокладистее.
Нашему «Союзу» надо бы поучиться у большевиков работе с несознательной массой. Хороший пример – антирелигиозная агитация. В городе как? Соберут стар и млад на диспут «Есть ли Бог?» – и давай доказывать!
В деревне совсем по-другому. Хитрее. Там взрослых мужиков и баб агитировать против Бога – пустое дело. Подбираются от молодняка! Проводят лекции среди малышей, причем практикуют простой и верный способ: читают антирелигиозные сказки, стишки, высмеивают сельских попов. Нам надо перенять этот опыт. Не в лоб бить своей критикой власти, а исподтишка, где смехом и шуткой, где через детвору, где через концерты и представления. Вы уж мне поверьте, ребята, мужик не станет читать наших листовок, не будет и слушать долгие речи умных студентов. Предлагаю разработать и принять программу культурных мероприятий, плюс – создание секций в больших селах. Активной молодежи в деревне полным-полно, и далеко не вся она ходит в комсомольцах. Непаханое, как говорится, поле для агитационной работы.
Нынче на дворе летняя пора, скоро студенты сдадут экзамены и разъедутся на каникулы. У нас в университете шестьдесят три человека из села, восемнадцать из них – члены «Союза». Неплохо бы прикрепить к каждому по три-четыре «молодых марксиста» для работы в деревне. Сельские студенты с радостью дадут им приют и пропитание, я уже поговорил с ребятами и получил согласие.
Это будет и отдых, и полезная агитационная работа.
Речь Самохвалова всем пришлась по душе. Никто даже не выступал в прениях, многие тут же проявили инициативу ехать на агитацию крестьян. Председатель подвел итог, попросил остаться докладчиков и редакционную группу для составления резолюции и закончил собрание.
* * *
Двигаясь в толпе «молодых марксистов» к выходу, Андрей поискал глазами Веньку. Он вынырнул откуда-то сбоку и, подхватив Рябинина под руку, вытянул на свежий воздух.
– Ну, как впечатление? – спросил Ковальчук-младший.
– Занимательно. Однако какова была цель приглашать на собрание именно меня? – Андрей пожал плечами. – Желаете вовлечь в «Союз»?
– Не совсем, – Венька хитро улыбнулся, – хотя членом организации может стать любой желающий.
– И все же?
– Была некая корыстная цель, – Ковальчук опустил глаза. – Отец говорил мне о вашем переходе в ГПУ, так вот я и решил пригласить нового сотрудника органов для знакомства с нашим «Союзом», дабы впоследствии, если вас спросят, вы смогли рассказать правду. Чекисты регулярно засылают к нам агентов, а кто знает, что они могут написать в отчетах? Разные люди попадаются…
– А я, по-вашему, должен составить лестный для «Союза» отзыв? – резко оборвал Веньку Рябинин.
– Вы известны как человек справедливый и принципиальный, – быстро заговорил Ковальчук. – Вот и батяня вас хвалил… Не сердитесь, прошу!
– Ребячество, да и только! – возмущенно фыркнул Андрей. – Кучка мальчишек плетет заговор, хитростью вовлекает в него офицера ГПУ, а потом – извольте, просит прощения! И подобным образом вы пытаетесь добиться успеха? Да известно ли вам, милейший Вениамин Егорович, что начальство может и не спросить меня о «Союзе марксистов»? Допускаете ли вы, что я могу заниматься совершенно иными вопросами, нежели составлять рапорты о сборищах вдохновенных идиотов?
Венька подавил удрученный вздох.
– Никакого заговора нету, – буркнул он. – Сами слышали. Мы лишь критикуем большевиков и готовимся к действиям в момент полного кризиса власти.
– Да ну! – расхохотался Андрей. – А вот вы объясните это на улице Советской, двадцать три, в здании губернского ГПУ! Растолкуйте, что ваш «Союз» безобидно штудирует Маркса, ломает копья в дебатах с комсомольцами и со злорадством дожидается краха большевизма, падения «слабых», «недальновидных», «безграмотных», «предавших идею» правителей… полумира!
– А разве не так? – Венька пожал плечами. – Мы мирно следим за действиями РКП(б), критикуем и даем советы…
– …Копите силы, создаете боевую организацию, дабы при удобном случае не оказаться в стороне от революционных битв, – подхватил Рябинин.
– Так это ж не против власти! – Венька запальчиво взмахнул руками. – А для того, чтобы капиталисты не застали нас врасплох, неподготовленными.
– Ах, до чего же ловко, Вениамин! – покачал головой Андрей. – Мы, видите ли, ягнятки, а не волки, но – с боевой организацией! Так, на крайний случай. И вы в самом деле считаете, что вам поверят?
– Потому я и пригласил вас. Думаю, человеку вашей репутации должны поверить.
Андрей поморщился:
– Бесполезный разговор. Когда люди пребывают в состоянии навязчивых иллюзий, нет смысла переубеждать.
Венька добродушно улыбнулся:
– Однако согласитесь, что наш «Союз» не представляет угрозы правящей партии, ГПУ и всему народу. И уж тем более не является контрреволюционным.
Рябинин достал папиросу и, прикуривая, сквозь зубы бросил:
– Декабристы паршивые… Идейные романтики…
Он дунул на спичку и спросил:
– Кстати, Венечка, кто вам подал мысль пригласить меня? Наверняка ваш угрюмый председатель.
– Грачев? Да нет! Придумал я сам, а с Романом только согласовал.
– Как, вы сказали, его фамилия? – усмехнулся Андрей. – Ткачев? Знаменательно!
– Иронизируете? Никакой он не Ткачев и уж никак не Нечаев [113]. Тем не менее Роман – товарищ серьезный, грамотный и беззаветно преданный делу рабочего класса…
«Самая великая российская глупость – лезть в политику вот с такими чистыми одухотворенными глазами», – невольно подумал Андрей.
– …Роману всего-то девятнадцать лет, а послушали бы вы, как он рассуждает! Какая глубина, быстрый ум и смекалка!..
«С другой стороны, чего еще ожидать от горячих, неравнодушных парней, небезразличных к судьбе Родины? Быть может, именно в таких ребятах спасение России, искупление грехов народа? Только бы не сломали их, не заставили отречься от поисков справедливости».
– Ладно, – прервал Венькин монолог Рябинин. – Принимаю ваши извинения и обещаю при случае рассказать вышестоящему начальству об истинных целях «Союза молодых марксистов». Вы останетесь для вынесения резолюции?
– А что?
– Хотел пригласить на прогулку. Раз я теперь поверенный в делах тайной организации, будьте любезны поведать мне о ней все без утайки.
– Добро, – кивнул Венька. – Я только сбегаю предупрежу Грачева.
* * *
Дорога от электростанции к центру шла под гору. В конце спуска далеким маяком мерцал фонарный огонек. Ноги сами несли вперед по твердой земле. Не было видно ни темных домишек по краям улицы, ни самой дороги, только изредка в стороне ярким пятном проплывало зашторенное окошко. Невольно взгляд останавливался на нем, словно там, за ситцевой занавеской, ждал путника тихий благодатный уют и счастье. Но вот слышался из дому смех и будничный стук посуды – чужая радость, чужие хлопоты; и уже хотелось бежать прочь, туда, к далекому маячку.
– …«Союз» наш год назад организовал Женька Орехов, студент-химик, – рассказывал Венька Ковальчук. – Он потом в Москву уехал, а «Союз» нам оставил. Поначалу было нас немного, а теперь – больше трехсот действительных членов.
«Союз» разделен на секции по территориальному или ведомственному принципу. В городе пять секций, и три – в уездах. Всей деятельностью организации руководит координационный совет из председателей секций, плюс – ответственные за отделы и коллегии. Каждый действительный член «Союза» платит ежемесячный взнос в размере десяти копеек. Средства идут на поддержку особо нуждающихся, безработных членов организации, закупку литературы, поездки инструкторов в уездные секции.
– И где вы постоянно собираетесь? – спросил Андрей.
– Студенты – в аудиториях и общежитии, рабочие – на предприятиях, остальные – где придется. Чаще всего, как и сегодня, на электростанции. Тамошний технорук, молодой инженер Игнатьев, – руководитель фабричной секции, он неплохо ладит со станционным начальством.
– Ну, а каковы отношения с комсой?
– Сложные, – вздохнул Венька. – Мы настаиваем на диалоге и партнерстве, они – тычут в лицо резолюциями своих съездов, ссылаются на авторитет РКП(б). Там, где коллектив смешанный, состоит из беспартийной молодежи, комсомольцев и членов «Союза», – проще. Как в университете, например.
А вот если комсы больше – держись! Как у вас на «Ленинце», где нет ни одного члена «Союза».
Ваш Самыгин – личность непримиримая, враз бойкотами, проработками и агитацией выживет. Случалось, и до рук доходило. У вас там есть некто Лабутный, одиозная фигура, в прошлом году он создал комсомольский отряд «Борьбы за чистоту молодежных рядов», или «Борчисмор», а по-нашему – «Забор». Так-то. А вы говорите, что не нужна боевая организация! Еще как нужна, иначе дубовые «заборовцы» нас живьем сожрут!
– Наверняка в губернии имеются и другие некомсомольские организации?
– Сколько угодно, – кивнул Венька. – В уездах штуки три левоэсеровского толка, ориентированные на деревню и красноармейцев из крестьян; в городе – сильная «Корпорация анархистов-кропоткинцев». Без малого человек сто объединяет. Анархисты – народ тихий, безобидный. Есть еще заумный кружок «Мировой идеи Освобождения» и расхлябанный, плохо организованный «Союз инвалидов гражданской войны», целью которого является унизительное выбивание льгот и подачек от губкома и всякие там сборища с песнями и ностальгией. Руководит «Союзом инвалидов» Глухов, бывший пролетарий, партиец и герой войны, а нынче – частник. В голодном двадцать первом, когда на его родной стекольной фабрике лишь ветер гулял, взял Глухов в аренду землю и два сарая, развел скотину и – вовсю заторговал мясом. Дом построил, женился, заимел собственный экипаж. Пару раз губком всерьез собирался вычистить его из партии, да не за что – товарищ проводит ленинскую политику нэпа, обогащается! Опять же, налог платит. Ну, я думаю, с третьей попытки сумеют у Глухова отобрать билет.
Андрей и Венька вышли на Перекопскую и прошли мимо распахнутых настежь дверей «Встречи муз». Из трактира доносились завывания скрипки и чей-то высокий гнусавый речитатив:
– Ни-когда-а, никогда-а не забыть мне той страсти,
Не забыть тех ми-ну-ут безмятежной любви.
Мы купались в по-токе пья-ня-щего счастья,
И звуча-ли в ночи вос-хи-щенья моль-бы…
– Хм, к слову, как относится к «Союзу молодых марксистов» наш общий друг Наум Оскарович Меллер? – перейдя на противоположную сторону улицы, спросил Андрей.
– С пониманием. И снисхождением, – догоняя Рябинина, ответил Венька. – Наума больше интересует творчество, а не политика; поэтому мы и не конфликтуем.
«Хе, старина Меллер хоть и старше тебя, Венечка, всего на три года, просто повидал больше твоего, – мысленно возразил собеседнику Андрей. – Его ранимой творческой душе безопаснее не занимать голову тревожными мыслями о высшем благе человечества».
Между тем Венька перешел к рассказу о съемках «Вандеи». Андрей узнал о долгих репетициях в амбаре-студии Землячкина, о выездах в поисках натуры, о сооружении декораций, об утомительной беготне Меллера по учреждениям в надежде получить мало-мальские средства, о целой куче чиновных запретов и рогаток, и о «методе» Меллера в работе с труппой, заключавшемся в плавном переходе от назидательных угроз и криков в рупор до истерик и топанья ногами.
* * *
На ближайшей трамвайной остановке Андрей посадил Веньку в вагон и неторопливо направился к дому.
«Что ни говори, великое все же событие – революция! – думал Рябинин. – Какой невиданный заряд она сообщила российской молодежи! Ведь эта деятельная, кипучая масса может, как весенний поток, свернуть горы, только пожелай. Нам с Жоркой до них далековато – „жизненные цели“ безусых питерских юнкеров по сравнению с такими, как Венькины, – мишура. Мы „всего лишь“ мечтали побыстрее научиться военному делу, служить верой и правдой Отечеству, ну и, конечно, с удалой легкостью покорять девичьи сердца. А „Венечки“ берут на себя смелость решать задачи вселенского масштаба!
Действительно, что в сравнении с освобождением мирового пролетариата чтение романов, любовные интрижки или даже командование взводом солдат? Мелочь… Не зря большевистские вожди пытаются охватить влиянием своей партии всю молодежь страны! Понимают, хитрые правители, что завтра власть будет в руках у тех, кто сможет управлять могучим молодым океаном. Потому и проникнута вся резолюция XIII съезда призывами к работе с молодежью, к выдвижению молодых на руководящие посты, к обучению их думать и работать по-ленински… М-да, хорошо еще, что попадаются такие, как Венька, иначе – держись! Готовься к новому военному коммунизму…»
Глава XIX
Дежурная медсестра приемного покоя слегка удивилась виду посетителей, пожелавших навестить поступившую накануне больную Катерину Мещерякову. Тот, что постарше, высокий подтянутый молодец в военной форме, казался вполне респектабельным советским гражданином; его спутник, нахальный и разбитной парнишка лет четырнадцати, выглядел рядом со старшим товарищем нелепо.
Посетителей проводили в палату, где находилась больная. Ее поместили в углу, отгородив от пятерых взрослых соседок занавесом из простыни. Заслышав шаги у кровати, Катенька открыла глаза и увидела Змея и того самого человека, что догонял ее в затоне.
– Привет, Катюша, – снимая кепку, улыбнулся Мишка.
Она недоуменно покосилась на Рябинина и прошептала:
– Здрась-те.
– Не пугайся, – усаживаясь на краешек кровати, успокоил ее Змей. – Это – товарищ Андрей, он помог мне устроить тебя в больницу. Ты была в беспамятстве, потому и не помнишь.
Андрей приблизился и поклонился:
– Вижу, вам уже лучше. Еще несколько дней, и снова будете играть и веселиться. А мы, со своей стороны, обещаем вам шоколад и пирожные.
Катенька смущенно покраснела.
– Ну как ты здесь? Не обижают? – доставая из-за пазухи бумажный пакет со сладостями, справился Змей.
– Все хорошо, Миша, – ответила Катенька. – Доктора ласковые. И соседки добрые. Мне уже легче, голова не горит.
– Кормят, надеюсь, сносно? – спросил Рябинин.
– Ага. Кашу дают, молоко. Только мне неохота – глотать больно.
– Питаться необходимо, – посоветовал Андрей. – Вам, Катерина, понадобятся силы. Не будете есть – так и останетесь здесь лежать до Нового года.
Он глянул на напряженную спину Змея и стал прощаться:
– Вы, ребята, беседуйте, а я пойду на крылечко, покурить. Выздоравливайте, Катенька, мы с Мишей будем заходить каждый день.
Змей вышел из больницы счастливым и удовлетворенным.
– Ну, глядишь, дня через три и выпишут, натурально! – он хлопнул в ладоши.
– Не торопись, ангина – вещь коварная, – предостерег Рябинин. – Девочке еще долгое время будет нужен уход и забота, потому шалаш на реке – не самое подходящее для нее жилище.
Мишка тяжело вздохнул:
– Придется вернуть ее в детдом. Пусть учится. Хватит уж ей кочевать.
– Давно она «в бегах»?
– С весны. Когда стало худо с продуктами, многие приютские подались на волю. В этом гнилом детдоме и так-то жрать нечего, а по весне и вовсе братву декофт пришпиливает [114]. Заведующий – натуральное падло, демон жестокий [115], ворует, гад, припасы. Катюха – она, вообще, девчонка домашняя, раньше в побег никогда не уходила. Так уж вот получилось, сошлись мы по-приятельски, осталась она при мне. Не могу я ее бросить, беззащитная она какая-то, тонюсенькая… Наши-то, вольные девчата, – те шустрые, оборотистые. Как поднимут бузу – любого фраера взять на характер [116] смогут, натурально. А Катюша не такая! Тихая, все думает о чем-то. Ну, а если развеселится – держись! Сумеет и спеть, и сплясать. Ей бы в артистки пойти, она способная. Не верите – у ребят спросите.
– Верю, – улыбнулся Андрей и стал прощаться.
Им с Непециным еще предстоял визит к марафетчику Аптекарю.
* * *
Непецин поджидал Андрея на углу Коминтерна и Красной армии: Аптекарь жил неподалеку, на улице Луговой.
Поглядев на мокрое от пота лицо начальника, Борис Борисович пошутил:
– Вы прямо как из парной, товарищ Рябинин!
– Торопился, боялся не успеть, – утирая лоб, отозвался Андрей. – Выполнял общественно-полезную нагрузку.
– Ну так зайдем в пивную, примем по кружечке, – предложил Непецин.
Они спустились вниз по улице Коминтерна и расположились в уютной пивной Товаркова. Несмотря на урочный час, посетителей в заведении оказалось немного. Непецин принес две кружки и тарелку соленых сушек, пожелал Рябинину успешной службы в ГПУ и принялся за пиво. Сделав несколько глотков, он отставил кружку:
– Хорошо!
– В самом деле, отменное пиво, – согласился Андрей.
Приметив кого-то в сторонке, Борис Борисович рассмеялся:
– Посмотрите-ка туда, Андрей Николаевич! Видите во-он того нищего полудурка?
– В рваном армяке?
– Ага. С виду – круглый идиот от рождения. Ан, нет, он – пример наказания Божия за преступление!
– Да ну?
– Истинно говорю. Этот юродивый бродяга – Семка Червяк, бывший вор-могильщик.
– Могильщик? – надкусывая сушку, переспросил Андрей.
– Именно, тот, что совершает кражи из могил.
– И такие есть? – удивился Рябинин.
– Кого только у нас нет! – хмыкнул Непецин. – Этот самый Червяк когда-то подвизался в шайке мародеров, а потом так и не смог работать без присутствия рядом мертвеца.
Шучу. Но факт есть факт: стал Семка грабить могилы. И вот в апреле 1921 года случилось у одного местного богатея несчастье – померла в расцвете лет красавица-дочка. Отец был при старом режиме гильдийным купцом, потом, конечно, денежки пришлось отдать в пользу неимущих классов, но кое-что осталось.
Приходишь к нему, бывало, с обыском, – он плачется, прибедняется, на судьбу жалуется. Сильно его не притесняли, потому как жил старик тихо, не бунтовал. Жена купца долгие годы не рожала, оттого дочь Настя стала ребеночком безмерно любимым. Может, по причине поздних родов или просто по природе своей, а только вышла Настя какой-то странной – вечно бледная, нелюдимая.
И при этом красива до жути: глазищи огромные, голубые; волос черный, смоляной; сложение правильное. В том самом злосчастном для нее году исполнилось Насте семнадцать лет. Наступила весна, и она вдруг без всякой причины померла. Поубивались родители и собрались дочку хоронить. Отец достал кубышку и закатил царские похороны. Гроб украсили цветами и золотыми фигурками, одели Настю в белое платье, расшитое драгоценными камнями. Весь город ходил прощаться с Настей. Доктора навещали, качали головами – сомнительной им казалась скоропостижная смерть, предлагали они отцу осмотреть Настю, старик – ни в какую. «Не дам, – говорил, – дочку тронуть. Бог дал – Бог взял».
Слухи о богатом убранстве покойной вмиг разнеслись по округе. Мы с чекистами пришли проверить. Старик встретил нас сурово: «Неужто будете с мертвого тела ценности обирать?» Мы отступили – грех, как-никак. Похоронили Настю на третий день. Вот тут-то и настал черед Семки-Червяка! Он с приятелем удумал обокрасть покойницу. Ночью дружки пробрались на кладбище, раскопали могилку и сняли крышку с гроба. Конечно, Червяк немало повидал на своем подлом веку, однако таких богатств он получить и не мечтал. Обезумели мерзавцы от радости, собрали золото, камешки и тут же, у гроба, стали делить добычу. Вдруг почуяли они рядом шорох, оглянулись, – а покойница поднимается из гроба, садится и открывает глаза! Воры заорали так, что слышали их за добрых две версты. Побросали они драгоценности и – кто куда. Подручный Червяка помер от разрыва сердца в пяти саженях от могилы, а сам Семка свихнулся.
Настя же так испугалась незнакомого страшного места, что умерла по-настоящему. Оказалось, она заснула летаргическим сном, а отец сдуру и от упрямства не дал врачам должным образом установить факт смерти. Ну, а Червяка мы утром нашли в канаве. Он сидел и лепил глиняные фигурки. Суд определил его в «психиатрическую», через два года он освободился за приличное поведение, теперь вот – шастает по кабакам, канючит на выпивку.
И заметьте, стал совершенно другим человеком! Вовсе непохожим на прежнего злобного ворюгу.
– М-да, история, – допив пиво, покачал головой Рябинин. – Жорж Санд, да и только.
– Не понял.
– Есть один роман, где герой часто засыпает летаргическим сном. Как-нибудь расскажу. Пойдемте, Борис Борисович, пора на рандеву с Аптекарем.
* * *
Непецин долго водил Андрея какими-то темными закоулками, пока не остановился у ветхого забора.
– Мы обошли дом Аптекаря стороной, – шепнул Борис Борисович. – Зайдем сзади, так все его хорошие знакомцы делают.
Непецин отодвинул одну из досок и протиснулся в лаз. Андрей последовал за ним.
Они прошли заросшим неухоженным садом и очутились перед покосившимся домом. Борис Борисович стукнул в окошко, вытащил револьвер и встал у двери. Когда она приоткрылась, Непецин сунул ствол в щель и приказал впустить. Человек со свечой в руке испуганно забормотал и попятился. Он пропустил непрошеных гостей и запер дверь на крепкий засов.
Непецин, не церемонясь, пригласил Андрея в комнату. Аптекарь покорно предложил им стулья.
– Чем могу в столь поздний час, товарищи дорогие? – хозяин натянуто улыбнулся.
Ему было около сорока, – розовощекий и чисто выбритый, он походил на кабатчика. Маленькие колючие глазки ощупывали лица ночных визитеров.
Непецин снял фуражку, выдержал длинную паузу и проговорил:
– Есть нужда потолковать с тобой, Антон Фомич, полюбовно.
– Вижу, что полюбовно, – Аптекарь поклонился. – Уж я вас знаю, коли захотите по-серьезному зайти, так понятых приведете, ордер предъявите. Чем могу служить уголовному розыску?
Непецин покачал головой:
– Мы к тебе, Фомич, пришли от имени Государственного политического управления. Вот товарищ Рябинин, следователь.
Аптекарь вздрогнул и мелко засеменил:
– Зачем же ГПУ, товарищи дорогие? У меня с ГПУ – полное взаимопонимание. Можете спросить,– Коростылев перед органами чист.
– Знаем-знаем, – отмахнулся Непецин. – Потому и хотим, чтобы ты, как… добропорядочный гражданин, оказал чекистам посильную помощь.
– Какой уж там «добропорядочный»! – смутился Аптекарь. – Это с моей-то, Борис Борисович, анкетой…
– Ну, за прошлые подвиги ты свое еще от Николашки [117] получил. Покамест ты вне подозрений, вот и выходит «добропорядочный»! – Непецин рассмеялся.
– Шутить изволите, – Аптекарь покачал головой. – Старые времена припомнили. А только не один Николашка меня миловал, после царской-то дачи меня и ваша власть привлекала.
– Не «наша», Антоша, а народная! – назидательно поднял палец Борис Борисович. – В том числе и твоя, как трудового, по происхождению, элемента. Папаша твой замечательным кузнецом был, многие еще его помнят.
– Вон кого помянули! – фыркнул Аптекарь.
Непецин кивнул:
– Я ведь, Антон Фомич, с семейством вашим близко знаком. Не забыл, как братца твоего непутевого по детской дружбе от тюрьмы избавлял?
– Как не помнить? За добро – вечная вам благодарность и поклон, – поспешно проговорил Аптекарь. – Дурак мой младшой, а все ж родная кровь, жалко.
– То-то, что дурак, – согласился Непецин. – Говорил я ему: пьянство и невежество приводят к преступлению, – не послушал. Ну да наказание получил мягкое, глядишь – осенью освободится.
– Благодаря вам, – поддакнул Аптекарь. – Мы у вас в долгу.
– Какие там счеты! – пожал плечами Борис Борисович. – Наш долг – помогать заблудшим. Однако и ты нам помоги, Антоша.
– Так чем же я… – Аптекарь развел руками и покосился на Андрея. – С контрреволюционерами не знаюсь, живу тихо…
– ГПУ интересует, что вы, гражданин Коростылев, знаете о Геннадии Игнатьевиче Степченко, владельце каретной мастерской, – подал голос Рябинин.
– А-а, вон оно что! – облегченно вздохнул Аптекарь. – Интересуетесь Геной-Хохлом?
Он задумался.
– Знаюсь я с ним издалека, шапочно. По всем видам – делец, капитал наживает. Неужто классовый враг? – Аптекарь сделал озабоченные глаза.
Андрей подивился его актерскому мастерству.
– А вы как считаете? – с улыбкой переспросил он.
– Чужая-то душа – потемки… – пожал плечами Аптекарь.
– В потемках тоже кое-что видно, – перебил его Непецин. – В особенности тебе, мужику глазастому и придирчивому. Ну-ка, колись без утайки, что ты рассказал Воробью из банды Басманчика?
Аптекарь скривился:
– Ах, падла кукливая, открыл-таки шлюзы!
– Не сокрушайся, Антоша, никто не узнает о нашей беседе. Товарищ Рябинин – тоже не из болтливых.
– Не о себе пекусь, о… других людях.
– О Фроле, что ли?
В глазах Аптекаря метнулся неподдельный страх.
– Понимаю, что в вашем мире – свои законы, – сказал Борис Борисович. – Потому и обещаю хранить наш разговор в тайне. В конце концов, нас интересует не Федька, а Степченко.
Аптекарь поджал губы и запыхтел.
– Ну, коли так…– буркнул он. – За полкан [118] я вас не тянул – сами слово дали… Правду вам Воробей сказал – видел я у Хохла Фрола. Мельком, по случаю. Зашел я к нему прошлым месяцем одну вещь предложить, – досталась мне одна рыжая безделица…
– Клиент за марафет расплатился? – ухмыльнулся Непецин.
– Да что вы! Так, пустячина, и светиться с ней резону не было, вот и решил Хохлу смыть. А он все равно не взял, – без надобности, говорит, мне побрякушки… Ну, стоим мы в горнице, трекаем себе, а дверь в светелку чуть приоткрыта. Чую я, там кто-то шастает, половицы скрипят, дым, опять же, табачный в щель лезет. Зекнул я украдкой, никак – Федька! Виду, понятно, не подал, однако ж, уходя, на гвоздике его кепку приметил. А Федькину лондонку [119] в клетку я знаю.
– Э-э, да сколько в городе таких кепок! – разочарованно протянул Непецин.
– Не скажите, Борис Борисыч, – обиделся Аптекарь. – Лондонку ту Федор при мне у Нерытьева покупал, на майский праздник. Он был за дверьми-то, точно.
– Говорят, Степченко не только Фрола привечает, – сказал Непецин.
– Он со многими в дружбе, – кивнул Аптекарь. – Бобров, адвокат видный, к нему таскается, купцы [120] разные, кустаришки захаживают…
– …И урки заглядывают, – добавил Борис Борисович.
– Чуют люди денежного человека, бегут, как плотва на приманку, – Аптекарь пожал плечами.
Непецин покачал головой:
– Неужто и Бобров к нему ходит?
– Ну, уж этого я, как вас, видел. Еще осенью. Нос к носу столкнулись.
– Странно, – нахмурился Непецин.
– Отчего ж? От знакомой я выходил, гляжу: Бобров из ворот «каретной» выкатывается. Хохол его провожает, ручку на прощанье жмет.
– Да я не о том… – отмахнулся Борис Борисович. – Кого еще ты видел у Степченко?
– Из каких?
– Из всяких. Начнем с жиганов.
– Вот из них – никого.
– Кроме Федьки?
– В точности.
– А прочие?
Непецин вытащил из кармана блокнот и карандаш. Аптекарь с опаской покосился на писчие принадлежности, будто это были револьвер и патроны.
– Итак? – приготовился Борис Борисович.
Аптекарь судорожно сглотнул:
– Холмкина видел, рыботорговца; Шульца с биржи; потом этот, гешефтмахер носатый из торговых рядов…
– Бритиков, – подсказал Непецин.
– Он. Прочих не упомню.
Борис Борисович подвел черту под последней фамилией:
– Ясно. Что еще знаешь о Степченко со слов своих знакомых, клиентов?
– А ничего. О нем разговор редко когда заходит. Гена-Хохол, как говорится, «не при делах» [121], я же кареты не чиню и лошадям подошвы на копыта не ставлю.
– Может, слышали о каких-либо конфликтах, спорах, связанных со Степченко? – спросил Андрей.
Аптекарь почесал лысину:
– Помнится, трещали людишки, будто хотели как-то раз деловые ребята Гене гиман устроить [122], пощупать его достояние. Ночку выбрали удачную (Хохол в отлучке был), забрались на бат, взяли барахлишко. А днем позже возвернуть весь дуван [123] пришлось: говорят, авторитетные люди попро-сили.
– О-го! – присвистнул Непецин. – И кто же посмел гимануть уважаемого гражданина Степченко?
– Сказывали, Кудлатый налетал, шустрый лощенок [124].
– Знакомая личность. Мы его по зиме взяли, – пояснил Андрею Непецин.
– А как вы думаете, Антон Фомич, что из себя представляет Степченко? – спросил Рябинин.
Аптекарь с уважением поглядел на него, точно благодаря представителя ГПУ за вопрос:
– Случается, гражданин начальник, что некоторые людишки хотят себя передо всеми «поставить», заиметь некий авторитет. Знаются с видными докторами, судейскими, дельцами. Каждый своим умишком кумекает, плавает да изворачивается, как бес пред алтарем.
– Как вы считаете, имеет ли Степченко устойчивые связи в криминальной среде и является ли сам уголовным элементом? – уточнил Андрей.
Аптекарь тонко улыбнулся:
– По Закону нам не велено промышлять фраерским ремеслом. Законный уркаган крутить колеса телегам не будет. Хотя нынче и фраера пошли – палец в рот не клади, враз авторитета обставят.
– А может, он замерз? [125] – бросил Непецин.
– Быть на лаване [126] и при этом вертеть делишки на виду у всей округи? – усомнился Аптекарь. – Впрочем, слыхал я о таких рыбах [127]. В позапрошлом годе, когда я по вашей, извиняйте, милости на кичеване [128] отдыхал, баяли мне об одном вольном князе, который прошел сорок пять дуг с бубенцами [129], повидал всякого и имел весомый авторитет, а вот взял да и перекрестился в гешефтмахеры, разжился кредитно, заделье [130] сгондобил с какой-то гагарой [131] и даже прикупил авто.
– Э-эх ты, Аптекарь! – рассмеялся Непецин. – Видишь, как умные-то люди живут. А ты? Прозябаешь, туз колыванский [132], в бедности и страхе. Ведь неглупый же мужик! Сколько раз советовал за ум взяться, новую жизнь начать? А тебе милее Закон свой паршивый чтить.
– «Dura Lex, sed Lex» [133], – невольно вырвалось у Андрея.
– Как? – недоуменно спросил Непецин.
– Это старинная юридическая формула. К делу не относится.
Непецин понял слова начальника по-своему:
– И в самом деле, пора нам, Андрей Николаевич.
Он поднялся и хотел было уже проститься с Аптекарем, как в дверь настойчиво постучали.
– Ага! Клиент к тебе, Антоша, пойди отворить, – шепнул Борис Борисович. – Не пугайся, хватать никого не станем, посмотрим только из-за печки. Лады?
Хозяину ничего не оставалось, как согласиться. Непецин взял Андрея за локоть и утащил за занавеску у печи.
Сдвинув фуражку на затылок, Борис Борисович прильнул к довольно нечистой тряпке и приготовился наблюдать.
От спертого сухого воздуха в закутке было трудно дышать. Андрей обливался потом и в душе бранил нежданного посетителя.
В комнате послышались тяжелые шаги и громкий нетерпеливый голос:
– Не ждал, пройдоха? – хрипло забасил невидимый гость. – Дружков, что ли, сволочей, принимал? Стулья-то, вишь, как у стола расставились, прямо для обеду!
– Какие там гости! – зашелестел Аптекарь. – «Керосинку» я хотел с потолка снять, все примеривался, как половчее влезть.
– Врешь поди, язва, – проворчал собеседник.
Непецин оторвался от щели, припал к уху Рябинина и зашептал:
– Уполномоченный отделения милиции Центрального округа Мигунов завалился. Выходить не стоит – мы Аптекарю обещали.
Андрей кивнул.
Чиркнула спичка, Мигунов с причмокиванием выпустил дым:
– «Малинка» [134] найдется, отравитель?
– Не держим, в завязке мы, – отозвался Аптекарь.
– Как же, знаем мы вашего брата, – хмыкнул Мигунов. – Доложили мне, будто намедни были у тебя двое. Ушли с марафетом! Один из них – вор Резвый. Аль не так? Молчишь? О чем задумался, идейный мыслитель? Тащи «малинку», душа просит. Готовая есть?
– Имеется.
– А! Верно я смекнул: гостей поджидал, стервятник. А может, они и здесь, по углам попрятались?
Непецин сощурился и расстегнул кобуру револьвера.
– Нету в доме никого, – твердо ответил Аптекарь.
– Значит, ждешь. Только зря они придут, их долю я заберу. Тащи поживей!
Рябинин мягко отстранил Непецина от занавески и глянул в щель. На стуле, развалясь, сидел худощавый человек лет двадцати в гимнастерке и портупее. На бледном лице лихорадочно блестели большие темные глаза.
Андрей повернулся к Непецину. Борис Борисович удрученно понурил голову и развел руками: «Потом разберемся», – понял по судорожному движению его губ Рябинин.
Тем временем Аптекарь принес склянку и отдал Мигунову. Уполномоченный хлопнул барыгу по плечу и, бросив: «Живи пока», – вышел.
– Ну и преподнес ты нам сюрпризец, Антоша! – выходя из укрытия, сказал Непецин. – Весьма занятные у тебя гости. Посиди мы тут до утра, – столько б замечательных личностей встретили!
Аптекарь мрачно улыбнулся:
– Спалите вы теперь меня.
– Потерять тебя – излишняя роскошь, – Непецин покачал головой и, кивнув Андрею, пошел к двери. – А вот от удовольствия видеть товарища Мигунова, думаю, избавим.
* * *
До самого дома Рябинина они шли молча. Прощаясь у парадного, Непецин, глядя в сторону, спросил:
– Доложим о Мигунове по начальству или как?
– Завтра же напишем рапорт. Уверен, подобное должно быть наказано.
Борис Борисович облегченно вздохнул:
– Уф, ну и вечерок выдался на нашу голову!
Андрей предпочел воздержаться от замечаний и сменил тему:
– Как думаете, сведениям Аптекаря стоит доверять?
– Пожалуй. Он, хоть и продувная бестия, однако меня чтит. В свое время я немало поваландался с его братцем, форменным оболтусом и хулиганом. Получил срок по глупости, ну и пришлось помочь, дабы не вкатили парню «по всей строгости».
– Значит, информация о Фроле, об адвокате Боброве и налетчике Кудлатом верная?
– Выходит, так.
– А кто таков этот Бобров?
– Известный адвокат. Уголовными делами не занимается, обслуживает нэпманов, в совнархозе крутится. Вхож к заместителю губернского прокурора Изряднову. Говорят, даже дружат они.
– Надо бы это проверить. Подключите Деревянникова.
Андрей глубоко задумался. Непецин подождал несколько минут и, кашлянув, попросил разрешения идти.
– Завтра помозгуем, – добавил он.
– Может, поднимемся ко мне, выпьем чаю? – встрепенулся Андрей.
– Благодарю, но мне пора. Жена заждалась, – извинился Непецин.
Рябинин пожал ему руку и простился.
Глава ХХ
Четыре первых дня на новой службе несколько утомили Андрея. Закончив «ударными», как выразился Непецин, темпами «дело банды Басманова», Рябинин отсидел битый час на совещании руководителей следственных групп и направился в гости к Старицкому.
Андрей застал друга за сборами. Георгий укладывал вещи в огромный кованый сундук.
– Никак приданое собираешь? – рассмеялся Андрей.
– Почти, – кивнул Старицкий. – Готовлю походный сундучок. Решил вот перебраться на дачу.
В городе летом душно и суетно.
– Да-да, припоминаю, ты как-то приглашал меня на свою «милую дачку».
Георгий захлопнул крышку и стряхнул с ладоней невидимую пыль:
– Готово. Отужинать, Андрей Николаевич, не желаете?
– Благодарю, сыт. Руководство ГПУ трепетно заботится о желудках сотрудников.
– Ну что ж, – Старицкий картинно развел руками, – тогда предлагаю кофе с коньяком.
Он достал из шкафчика бутылочку:
– Благоволите, – настоящий «Martel».
Георгий зубами вытащил пробку и осторожно понюхал горлышко:
– М-м! Тлетворный аромат эмиграции и парижских закатов. Однако не стоит забывать и о Родине! – Старицкий налил коньяк в большую винную рюмку и выпил залпом. – Так-то лучше, – поморщившись, бросил он. – Бодрит.
Андрей покачал головой:
– Э-э, да я вижу, у тебя нервишки пошаливают!
– Есть немного. Последнее время не могу удержаться от легкого озноба перед любым ответственным шагом. Наверное, старею, пора на покой.
– Брось, – Андрей хлопнул его по плечу. – Просто устал.
Старицкий прошелся по комнате:
– Как тебе сказать? Порой стоишь перед выбором и, несмотря на то что все рассчитано, страшишься неизвестности. Прежде такого не бывало, а теперь вот трясусь в истерике, как институтка.
– Оно и понятно, – хмыкнул Андрей. – Дела купеческие! Большие деньги – большой риск.
– В нашем любимом Советском государстве всюду риск, не только в коммерции, – скривился Георгий. – Встанешь утром и не знаешь, доживешь ли до вечера.
– Неужели фининспекторы дополнительным налогом обложили? – предположил Андрей.
– Да нет. Этих кровососов я кормлю досыта… Решил я закрыть пекарню и начать новую жизнь. Надоело. Выгода от выпечки хлеба при наших налогах невелика, а возни много. Хочу пару недель отдохнуть, рассчитать работников и – махну в Питер. Устроюсь где-нибудь при госучреждении, раздобуду подряд. Денег хватит. Опять же, мачеха стала хворать, нужно за ней приглядеть. Надоест – до границы недалеко, может, удастся проскользнуть. А уж там – совсем другие порядки.
Андрей растерянно похлопал глазами:
– Гм, я-то считал, ты здесь неплохо устроил-
ся… Мечтал старинного друга на свадьбу пригласить…
Георгий подошел к Андрею и обнял за плечи.
– Думаешь, я не рад, что мы встретились? Думаешь, не мечтал остаться рядом, помогать посильно, вместе радоваться жизни? – В глазах Георгия стояла отчаянная тоска.
– Так что же мешает? – Андрей робко улыб-нулся.
Старицкий опустил голову:
– В этой стране благополучие зависит не от талантов граждан, а от наличия грехов перед властью. У меня их предостаточно: белогвардейское прошлое, темные купеческие делишки… Всякого хватает, что попусту говорить. Ты – чекист, заставят пощупать закрома нэпмана Старицкого, и – никуда не денешься, придется приказ выполнять. Не хотелось бы мне потерять лучшего друга, поверь.
Рябинин побагровел:
– Как ты мог так подумать? Разве я посмею?
И… и потом, не такие уж тяжкие твои «грешки», чтобы ими занимался начальник особой группы по борьбе с бандитизмом! Анкета твоя чистая: бывший партизан, помогаешь детям хлебом, с фининспекторами, сам говорил, умеешь ладить. Понимаю, тебе не совсем приятен род моих занятий, да я и сам не в восторге от своей службы. Однако моя работа скоро завершится! Срок моего пребывания в ГПУ закончится через полгода. Вот поймаю Гимназиста и – вернусь на «Ленинец», сыграю свадьбу, учиться пойду на механический факультет.
– А что ты предлагаешь мне? – Георгий криво усмехнулся. – Возиться с булками в этом скучном городишке, ходить к вам с Полиной по воскресеньям в гости, крестить детишек и умиляться вашей семейной идиллии?
Он стал насупленным и колючим, темные непроницаемые глаза отталкивали и пугали.
– До смерти надоело каждый день получать плату за давно проданную душу, – Старицкий похлопал себя по карману. – Достаточно! Можно ехать на все четыре стороны.
Георгий натянуто улыбнулся:
– Буду навещать тебя от времени, справляться об успехах, вспоминать былое.
Он поманил Андрея на кухню:
– Идем, кофе сварю. Помогать будешь.
* * *
Друзья устроились на террасе.
Андрей, не отрываясь, пил кофе крошечными глотками и внимательно следил за Афанасием, убиравшим в сарай садовые лейки и лопаты. «Хозяйственный он мужик, – думал Рябинин, – работящий и неболтливый. Как тургеневский Герасим. За садом ходит, Жорке-то все эти деревца да цветочки вряд ли нужны».
Он вспомнил о застарелом споре с Георгием на чердаке их дома в Петербурге: «Жаль мне его. С детства мечтал человек о военной карьере, потом разочаровался; теперь остается только бежать от самого себя. Тщетно! Как от собственной тени. В эмиграции от такого сплина, говорят, стреляются».
Андрей осторожно посмотрел на друга. Георгий уставился куда-то в угол, в сумрачную темноту.
– Жо-ра! – негромко позвал Андрей. – А может, тебе жениться, детишками обзавестись?
Старицкий на секунду застыл в недоумении и вдруг взорвался задорным раскатистым смехом:
– Ай да Мишка, ну загнул, так загнул! Мне?
И жениться?! Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Аллюр – три креста [135]: товарищ командир приказывает срочно создать семью!
– Ничего особенного, – Андрей пожал плечами. – Появился бы интерес к жизни, новый смысл.
Георгий резко оборвал смех и, навалившись локтями на стол, проговорил:
– Я, братишка, максималист. Если и женюсь когда-либо, так по обоюдному согласию со своей совестью и житейскими принципами. Пока в душе моей нет готовности к подобному испытанию. Я – бродяга. Такие женятся уже успокоенными, с сединой в волосах…
– …С подагрой, дрожью в коленях, грудной жабой и потребностью в уходе, – улыбнулся Андрей. – Мальчишка ты, питерский разбойник, вековая шпана!
– …Кроме того, – словно не замечая реплики друга, продолжал Георгий, – я дал множество обещаний до срока не жениться.
– Кому?
– Себе… окружающим.
Андрей махнул рукой:
– Дурак. Говорю тебе как друг и твой ротный командир.
– Бывший, – уточнил Старицкий. – Я же как друг и твой дворовый атаман говорю: сам ты дурак!
Они весело рассмеялись.
– Поостерегись, Жорка, поколочу! – шутливо пригрозил Андрей. – Может, хоть силой удастся научить тебя уму-разуму.
– Не дождешься! – вскакивая на ноги и принимая боксерскую позицию, отозвался Георгий. —
Я всегда был сильнее. Ну-ка, выходи на честный бой, маменькин сынок!
– Изволь, – медленно поднимаясь, согласился Рябинин.
– Давай-давай, разомни косточки, – подзадоривал его Старицкий. – Посмотрим, сумел ли ты обойти друга и учителя.
Увесистый кулак Георгия просвистел у плеча Андрея.
Рябинин отскочил, неуловимым движением выхватил из кобуры «браунинг» и направил в грудь Старицкого:
– А так?
– Ну ты смотри! Научился, – восхищенно всплеснул руками Георгий.
– А ты как думал? Меня всегда было непросто взять голыми руками, – фыркнул Андрей.
– Верю-верю. Мир? – Старицкий протянул руку.
Они обнялись.
– А не пойти ли нам в сад, костер разжечь? – предложил Георгий. – Помнишь, как тогда, на Островах?
– Когда мы сбежали на целых два дня, а родители чуть с ума не сошли?
– Ага, даже из гимназии хотели выкинуть. Золотые деньки!
* * *
Они сидели у костра, запекали в углях картошку и вспоминали детство. Безжалостно разбуженный Тимка получил приказ принести из погреба красного вина.
– Помнишь, как мы в первый раз напились? – отхлебывая из бутылки, спросил Старицкий. —
В седьмом классе гимназии, когда забрались в винный погреб отца Сашки Бобылева?
– Как не помнить? – кивнул Андрей. – Федот Тихонович торговал славными винами.
– Не то слово – превосходными! – подхватил Георгий. – Сколько мы тогда проглотили «Клико»? Дюжину?
– Девять бутылок, – уточнил Андрей. – На десятой нас выворотило.
– Точно! – засмеялся Старицкий.
«Вот он, мой милый Жорка, – радостно подумал Андрей. – Вот они, знакомые счастливые глаза, удалые и беззаботные. Как же далеко ты запрятал самого себя, дружок! А может, и почти растерял, забыл и вот только сейчас наконец-то вспомнил».
Георгий будто уловил мысли друга, оборвал смех и негромко проговорил:
– Все эти темные годы, Миша, ты был для меня единственным светом, надеждой, что есть где-то брат мой, родная чистая душа.
– Ты словно отходную молитву читаешь, – Рябинин покачал головой. – Перестань нагонять тучи, все образуется, ведь мы снова вместе.
– Если бы, – помрачнев, бросил Старицкий. – Давай-ка выпьем за добрую память!
Глава XXI
В пятницу Рябинин попросил аудиенции у Черногорова.
– А-а, на ловца и зверь бежит! – усаживая Андрея в кресло, улыбнулся Кирилл Петрович. – Я и сам хотел тебя расспросить об успехах.
Рябинин протянул Черногорову папку:
– О результатах проделанной работы я подробно написал, однако…– он многозначительно посмотрел на дверь, – речь пойдет о другом.
– Вона как! – удивился Кирилл Петрович. – Ну изволь.
Он поднял телефонную трубку:
– Зиночка, потрудись, голубушка, чтобы нас не беспокоили… Никто, – Черногоров повернулся к Андрею. – Слушаю.
Рябинин уселся поудобнее, собрался с духом и решительно начал:
– Видите ли, в ходе расследования «дела Гимназиста» появились некоторые факты, позволяющие сделать, мягко говоря, довольно странные выводы. Подозреваемый в связях с бандой Степченко весьма близок с неким Бобровым, известным в городе адвокатом и другом заместителя губернского прокурора Изряднова. Мы сделали проверку, опросили знакомых с Бобровым людей и поняли, что последний не просто знается со Степченко по роду службы, но и имеет с ним доверительные, приятельские отношения. Ежели принять версию о том, что Степченко является членом преступной группы, подобный факт сильно настораживает. В наличии же у Степченко контактов с бандой Гимназиста мы почти не сомневаемся. Сделав эти выводы, я вновь обратился к материалам на Гимназиста. По странному совпадению, ряд дел 1923 года были закрыты за недостатком улик именно Изрядновым.
Руководствуясь невесть чем, очевидно, интуицией, я взял карту города и пометил на ней места последних преступлений Гимназиста. Все они совершены в Центральном округе. Здесь же проживает и Степченко. И заметьте именно здесь служит уполномоченным окружного отделения милиции Мигунов, двоюродный брат Изряднова!
В переданных вам бумагах имеется рапорт о Мигунове, застигнутом нами в доме марафетчика по кличке Аптекарь при весьма странных обстоятельствах. Все эти совпадения показались мне не случайными. И последнее. Вчера товарищ Непецин получил информацию, будто в городе появился Фрол. Сведения подтвердились: три дня Федька жил на квартире у гражданки Рябовой, на улице Маркса, опять же, – в Центральном округе. Судя по картотеке Деревянникова, Рябова – сводня, не раз судимая за мошенничество; в настоящее время промышляет гаданием и не теряет контактов с преступным миром. И при этом за последние два года ее дом ни разу не проверялся милицией Центрального округа. Хотелось бы, Кирилл Петрович, услышать ваше мнение по вышеизложенному.
Андрей затаил дыхание и испытующе поглядел на Черногорова. Зампред беззвучно рассмеялся. В его глазах мелькнул неподдельный восторг.
– Ай да молоде-ец! – протянул Кирилл Петрович. – Уважаю, Рябинин. Хвалю!
Черногоров встал, обошел стол, подвинул ближе к Андрею второе кресло и сел.
– Не ожидал от тебя такой прыти, – хлопнув подчиненного по голенищу, сказал он. – Ловко ты вывел всю эту мразь на чистую воду.
Кирилл Петрович сиял:
– Тому и быть, Андрей, – откровенностью за откровенность. Посвящу тебя в мои самые секретные планы. Ну, а ты не подведи, теперь нам вместе идти до конца, иначе – говенные мы с тобой коммунары!
Он стал серьезен и сосредоточен.
– Пойми, сам по себе Гимназист для органов ГПУ великой опасности не представляет. Да, преступник, да, дерзкий налетчик, так мало ли я их передушил? Рано или поздно и его бы прищучили. Конечно, нельзя отмахиваться от недовольства общества, от состояния страха у граждан перед неуловимым бандитом, но для ГПУ подобные задачи мелки. Партия, само собой, ставит их нам в обязанность, как и борьбу с беспризорностью. И мы эту работу ведем, и довольно успешно.
Однако главное для нас – борьба с контрреволюцией, саботажем, подрывом основ пролетарского государства. То, что совершают Изряднов с Мигуновым, есть предательство интересов рабочего класса, более того, – контрреволюция! Подлецы спелись с уголовными элементами, выпачкали в грязи чистое имя партийцев, репутацию прокурора и работника милиции. Услышанное меня не удивило, я только не знал мелкие детали, например, о связях прокурора со Степченко через Боброва и далее – с бандой. Скажу больше, у меня имеются сведения о преступном попустительстве прокуратурой Торжецкого уезда недобитой банде Мирона Скокова. А знаешь ли, кто там уездный прокурор? Апресов, давний кореш Изряднова. Чуешь связь? Вот и я почуял. Поехал как-то раз зимой один мой сотрудник в Торжец к родителям на побывку. Пользуясь случаем, наказал я ему заглянуть в прокуратуру, взять у Апресова материалы на местного контрреволюционера-черносотенца, который проходил у нас по одному из дел. Сотрудник мой где-то в пути замешкался и прибыл в Торжец уже в потемках. Само собой, в прокуратуре в столь поздний час, да еще вечером пятницы, никого быть не могло.
Однако ж сотрудник мой – парень добросовестный: «дай, думает, загляну на всякий случай». И за-глянул. Свалился, как говорится, что снег на голову. Из передней – прямо в кабинет прокурора, а там сидит Апресов и пьет водку с неизвестным гражданином. На первый взгляд – ничего предосудительного, каждый имеет право в неслужебное время потолковать с приятелем за рюмочкой. Только вот «приятель» тот был весьма определенного свойства. Мой сотрудник виду не подал, взял пакет и пошел себе прочь, а мне по возвращении передал, что признал в собутыльнике прокурора известного бандита по кличке Золотник, давно скрывающегося в лесу у Мирона Скокова. Мы не стали подымать шума, решили приглядеться, тем более что Апресов с Золотником ничего не заподозрили. Постепенно я сделал вывод, что в губернии сложилась преступная сеть, поддерживаемая работниками прокуратуры, милиции и кое-кем из чиновных хозяйственников. Когда тебе была поставлена задача искать Гимназиста, я еще не знал, что и его банда вовлечена в эту паутину… Хотя предположения имелись. Не исключено, что Гимназист – главное звено цепи.
Черногоров взял графин, налил в стакан воды и сделал несколько глотков.
– Не так страшен черт, как его малюют. Справимся, – поглядев на окаменевшего Андрея, проговорил он. – Твои сведения – ценная помощь следствию. Приказываю: первое – никому не разглашать слышанного тобой; второе – продолжать следить за Степченко, Бобровым и искать Фрола. Людей я тебе в помощь подкину. Докладывать о ходе расследования лично мне. И последнее. Это не приказ, а вопрос…
Кирилл Петрович пристально посмотрел Рябинину в глаза:
– Не подведешь?
– Нет.
– Верю, кавалерист, верю, как сыну, – Черногоров кивнул. – А спрашиваю, потому как схватка предстоит жестокая. Коли Изряднов и те, кто ему покровительствует в губкоме, узнают о расследовании, – жди рапортов не только Луцкому, но и в Москву. Я, само собой, тебя в обиду не дам, однако будь готов к сплетням, потокам грязи и даже провокациям.
– Мы боремся с врагами государства. В любой стране разоблачить служителей закона, связанных с уголовными преступниками, – долг гражданина. – Андрей презрительно усмехнулся. – И потом, гадко все это, Кирилл Петрович.
Нетерпеливо задребезжал телефон. Зампред чертыхнулся и снял трубку:
– Зина, я же просил!.. Гринев просится?.. Что, прямо-таки рвется?.. – Он подмигнул Рябинину. – Ну зови, мы с Андрей Николаичем уже закончили.
Рябинин поднялся:
– Разрешите идти?
– Иди… Постой-ка! – вспомнил о чем-то Черногоров. – Тебя о завтрашних стрельбах проинформировали?
– Так точно.
– Вот-вот, не забудь. Едем не только мы, но и доблестная милиция. Так уж ты покажись во всей красе, я ведь помню твою стрельбу на даче!
– Постараюсь, – улыбнулся Андрей.
– Да, и вот еще, – не отпускал зампред. – В понедельник помоги Особому отделению: они, как будто, выявили в Имретьевской бригаде бывшего беляка. По официальной анкете он воевал на Волге, почти рядом с тобой. Помоги ребятам разобраться, может, выплывут какие-либо расхождения или вранье в наименованиях частей, названии городов, фамилиях войсковых начальников.
* * *
– Ну, что ты так распарился? От серьезного разговора оторвал, – недовольно бросил Гриневу зампред.
Павел Александрович невозмутимо улыбнулся:
– Есть два срочных сообщения, Кирилл Петрович; надо бы обсудить.
Черногоров знал, что Гринев допускал величать его по имени-отчеству только в исключительных случаях, когда чувствовал важность информации и необходимость быстрого принятия решений.
– Давай, выкладывай, – кивнул Кирилл Петрович.
– Во-первых – вот! – Гринев положил перед начальником исписанный печатными буквами лист бумаги, подколотый к обычному почтовому конверту. – Получено полчаса назад с утренней почтой. Ознакомился и – сразу к вам.
Черногоров взглянул на письмо:
«Руководству территориального ГПУ.
Как сознательный, преданный делу рабочего класса гражданин, спешу уведомить Вас о намерении некоторых контрреволюционных элементов совершить акт подлого вредительства. Утром 1 июля с. г. враги Советской власти предполагают взорвать железнодорожную водокачку у вокзала. Данная диверсия имеет целью подорвать хозяйственный потенциал губернии, парализовать движение эшелонов и вызвать панику среди населения.
Прошу Вас принять самые решительные меры.
По понятным причинам, остаюсь неизвестным.
Честный патриот Советского государства».
– Анонимка! – хмыкнул Черногоров. – Наверняка чья-то злая шутка.
– Не скажите! – Гринев покачал головой. – Обратите внимание на специфику текста.
Зампред вновь пробежал глазами по строчкам:
– Верно говоришь, на детскую шалость не похоже. Текст грамотный, написан ровно. К тому же попахивает старорежимным образованием. Видишь, обороты какие: «уведомить», «имеет целью», «потенциал». Взрослый человек писал, и отнюдь не пролетарий. А обыватели у нас – люди пуганые, боязливые, попусту беспокоить ГПУ не станут. Значит, и впрямь готовится диверсия!
Кирилл Петрович еще раз обратился к письму:
– Не исключено, что автор – человек военный. Обрати внимание, как пишет: «движение эшелонов», заметь, «эшелонов», а не поездов… А может, и намеренно ошибку допустил.
Черногоров задумался:
– Сигналов о подобных акциях, как будто, не поступало…
– Так точно, – кивнул Гринев. – Информации о каких-либо боевых контрреволюционных организациях у нас в губернии уже два года как в помине нет.
Зампред покачал головой:
– Вот потому-то и странно. Наиболее опасных врагов мы давно сгноили, а немногочисленные недобитки много болтают: чуть организуются в какой-нибудь «Центр» или «Союз» – тут же и мы в курсе дела.
Черногоров внимательно рассмотрел почтовый конверт:
– Интересная вещь! Адрес ГПУ указан верно, тютелька в тютельку, а получатель – весьма расплывчато – «Руководству». Что сие означает?
– Не могу знать, – Гринев пожал плечами.
– А то, Паша, что отправитель очень хочет, чтобы мы отреагировали на его анонимку вовремя. Не понимаешь? Ну подумай, коли напишут, к примеру: «Товарищу Медведю», «Товарищу Черногорову» или, скажем, тебе? Кто получит пакет?
– Соответственно, секретарь Платона Саввича Леонтьев, либо Зинаида Сергеевна, либо мой помощник Иванов.
– Пра-авильно, – хитро улыбнулся зампред. – А сколько всевозможных жалоб, заявлений, доносов, кляуз и прошений получают наши секретари? Сотни. У них порой от этой галиматьи голова кругом идет. Откровенную чушь они отправляют в корзину для мусора, а интересные бумаги пускают по отделениям. Коли жалуется гражданин на бюрократизм и взятки – отписывают в ЭКО [136]; сообщают о вредной агитации какого-нибудь попа – летит бумага в СО [137]; напишет завистник-сослуживец о пьянстве и гулянках с бабами своего воинского начальника – пожалуйте, товарищ, в Особое отделение! [138]
– Теперь ясно, – просветлел Гринев. – Адресованное конкретному руководителю письмо пройдет несколько инстанций, пролежит в папках секретарей день—два, а то и более. Здесь же отправитель хотел оперативного реагирования в кратчайший срок. Он знал, что письмо окажется в канцелярии, где больше привыкли к служебным бумагам, счетам за дрова и переписке с совнархозом. Письмо подобного содержания сразу же должно отправиться наверх.
– Ну конечно! – Черногоров пожал плечами. – Однако хитрость, Паша, не только в желании быстрого реагирования на сообщение. Автор анонимки хотел, чтобы о его сигнале знал каждый сотрудник ГПУ.
– Справедливо, – согласился Гринев. – Когда письма поступают конкретному адресату, секретность намного выше, информация не выходит за пределы отделения. Здесь же об угрозе взрыва водокачки будут знать и канцелярские, и дежурный по городу, и мы с вами.
– Вот! – Черногоров погрозил пальцем. – Это говорит либо о важности информации и желании доносителя вовремя упредить ГПУ, либо о большом желании привлечь наше внимание к водокачке.
– Простите, зачем? – нахмурился Гринев.
– Вот ты и попробуй узнать. Посвяти выходные поиску. Пошерсти по городу, опроси агентуру. Коли ничего не узнаешь, придется блокировать вокзал и водокачку, будем проверять каждую щель, искать адскую машину. Ну, а не найдем – подымем милицию, оцепим район до среды. А что прикажешь делать? Может, сей пасквиль и шутка, а может, и… – зампред закусил губу, – …провокация! – медленно проговорил он.
– В каком смысле? – насторожился Гринев.
– Сам не пойму. Чую я что-то недоброе… Впрочем, не обращай внимания, у меня порой случается.
– И – второй вопрос, Кирилл Петрович, – напомнил Гринев.
– Неужто еще одна диверсия? – помрачнел зампред.
Павел Александрович загадочно улыбнулся:
– Утверждать наверняка не берусь, однако возможна связь между анонимкой и моими наблюдениями за некоторыми постояльцами гостиницы «Республиканская».
– Вона как! – усмехнулся Черногоров. – Ты меня прямо-таки интригуешь.
Гринев извлек из служебной папки напечатанный на машинке текст:
– Это – мой рапорт о проделанной работе. Зачитаю самое главное: «…20 июня 1924 г. секретным агентом № 48, служащим гостиницы „Республиканская“, мне было доложено о двух подозрительных личностях, проживающих в означенной гостинице, – мужчине и женщине. Подозрительность их поведения заключалась в попытках установить довольно разнообразные контакты с жителями города. Они приглашали к себе в номера гостей из обывателей, работников суда и прокуратуры, совнархоза, извозчиков и даже отбывших наказания преступников (в частности, известного в прошлом мошенника и спекулянта А. Петрова). Наличие столь странных контактов побудило меня провести проверку и установить наблюдение.
Сотрудники КРО выяснили, что проживающие в №№ 211 и 212 гражданин Гордеев Федор Николаевич, 1890 года рождения, и гражданка Каллистратова Маргарита Станиславовна, 1896 года, прибыли в служебную командировку в наш губсовнархоз из Москвы по поручению наркомвнуторга для заключения договоров на поставку кожевенных и скобяных изделий, на что имеются соответствующие документы…»
Гринев перевел дух.
– Ну и? – криво улыбнулся Черногоров.
– «Оперативное наблюдение установило факт посещения вышеуказанными гражданами совнархоза и их бесед с товарищами Кадышевым, Сидоркиным, Батуриным и Незнамской. При этом суть разговоров носила весьма поверхностный характер, лишь отдаленно соответствующий официальной цели посещения Гордеевым и Каллистратовой нашего города…» Вот вкратце и все, Кирилл Петрович. Что прикажете предпринять?
Черногоров рассмеялся:
– У меня нынче прямо-таки день чудес! Вы с Рябининым меня не перестаете удивлять.
– Не понял, – смутился Гринев.
– Поймешь. Позже, – лицо зампреда приняло строгое выражение. – Слушайте приказ, товарищ начальник Контрразведывательного отделения! Наблюдение немедленно снять. Проживающие в гостинице «Республиканская» граждане – секретные агенты ОГПУ из Москвы. Я намеренно вызвал их для выполнения особой миссии. Риту Каллистратову я знаю с восемнадцатого года – стойкий, умный, принципиальный товарищ и опытный чекист; о Гордееве тоже отзывались положительно. В губернии выявлены значительные злоупотребления, московские коллеги должны помочь собрать материал для возбуждения уголовного дела. Каллистратова и Гордеев подчинены лично мне, в поддержке и тем паче в досужем внимании твоих людей не нуждаются. О сказанном мною – молчок! Есть вопросы?
– Никак нет! – вытянулся в струнку Гринев.
– Ну так ступай, ищи бомбу под водокачкой, – Черногоров махнул рукой. – И еще, Паша. По первому требованию Рябинина давай ему столько оперативных работников, сколько возможно.
Глава XXII
Море только перед рассветом успокоилось и теперь с усталым ворчанием накатывалось на берег. Свежий ветерок игриво трепал пляжные зонтики, пробегал по лицам счастливых отдыхающих и уносился к зеленым горам, пытаясь прорваться в душные крымские степи.
Полина в войлочной панаме с мохнатой опушкой сидела в шезлонге и писала:
«29 июня 1924 г. Вот уже неделя, как мы с мамой устроились. Санаторий ОГПУ полупустой и будет таковым до конца месяца, что ужасно радует. Наши соседи – в действительности те, кто нуждается в лечении. Среди них нет записных курортных ловеласов и шумных компаний.
Добрались мы до Симферополя быстро и весело. На маленьких станциях поезд встречали летучие митинги с гармошками, плакаты с поздравлениями делегатам Конгрессов Коминтерна и КИМа. Наверное, в больших городах и без того хватает развлечений, а в уездной глуши любое столичное событие отмечается как праздник.
В Крыму довольно дешевы продукты. Мы с мамой сделали вылазку на базар и были приятно удивлены ценами на мясо и картошку. Торговцы-греки потчуют отдыхающих жареной кефалью и вином, один добрый татарин каждое утро приносит мне корзиночку черешни. Она лежит в хрустальной вазе и заманчиво поблескивает.
Всю неделю стояла замечательная погода, и только вчера пронесся легкий шторм. Море уже прогрелось, и я купаюсь по дюжине раз на дню. Безделье умиляет и затягивает. Читать нет ни малейшего желания.
Здесь у меня достаточно времени подумать об Андрее и наших отношениях. Сейчас у нас пора страстного наслаждения и безграничного счастья. Хотелось бы, чтобы она длилась бесконечно. Меня не покидает чувство, что Андрей всегда рядом со мной.
Я выхожу ранним утром к морю и встречаю рассвет. Андрей, как и я, любуется этой первозданностью: несмелыми, нежными красками, ощущает каждой клеточкой восхитительную, робкую тишину и легкий бриз, готовый подхватить нас и унести за горизонт.
Андрею сейчас нелегко, но я знаю, что могу помочь ему, пробравшись быстрой невидимой тенью к изголовью кровати, стереть усталость морщинок, потрепать по волосам, коснуться милых губ.
Там, на реке, в нашу первую ночь я тоже охраняла его сон. Он спал как ребенок: доверчиво прижимался к моему плечу и ласково улыбался. Никогда прежде мне не был так близок мужчина, словно знали и любили мы друг друга от века, не расставались никогда и составляли нечто цельное и неделимое. Я слышала, как стучит его сердце, понимая, что если оно остановится, то не будет биться и мое.
Даже здесь, на пляже я закрываю глаза и ощущаю его прикосновение, тепло рук.
Он обязательно напишет мне, уже очень скоро долетит его письмо. Андрей не станет писать впопыхах, где-нибудь в обеденный перерыв или на коротком отдыхе. Я знаю: он придет домой, выпьет любимого чаю, облачится в свои смешные старенькие шаровары и тапочки, сядет за стол и предастся письму увлеченно и деловито, с улыбкой на губах. Он не будет курить, щурясь от едкого дыма, и торопиться, и даже не поднимется отворить, заслышав стук в дверь.
А я напишу ему, как резвятся вдалеке дельфины, догоняя одинокий парус; как пахнут мокрые сети в поселках рыбаков и как падают мне в ладони ночные звезды.
А еще я напишу о необыкновенном человеке, последнем русском волшебнике и великом мечтателе. Я повстречала его вчера, во время бури. На пустынном побережье, среди рева стихии были только мы одни. Он наблюдал, как разбиваются о гранитный причал волны, и сам казался таким же строгим и неприступным в своем черном пальто и широкополой шляпе. Незнакомец заметил меня и окинул недовольным взглядом, словно возмущаясь тем, что я нарушила его одиночество. Я хотела было уйти, но вдруг уловила в глазах человека нечто замечательное. Там, в глубине сурового взора, искрилась робкая, похожая на мягкое пушистое существо, доброта; за внешней суровостью угадывалась прекрасная душа и горячее сердце. Непонятно почему, он напомнил мне Грэя.
Каково же было мое удивление, когда за ужином мамуля с улыбкой спросила меня: „Так ты познакомилась с ним?“ – (Она, оказывается, видела нас у причала!) „С кем?“ – не поняла я. – „С отцом твоей трогательной Ассоли!“
Ну кто бы мог подумать, что мой незнакомец написал „Алые паруса“? Александр Грин! Я представляла его совсем иным, очень похожим на Блока: с романтичными кудрями, пышным бантом. С бездонной голубизной глаз. Говорят, он довольно нелюдим, и потому мне придется ждать новой бури, чтобы его повидать».
Глава XXIII
Поработав с утра часа полтора, Кирилл Петрович Черногоров имел обыкновение пить черный кофе. Секретарша зампреда, как всегда в таких случаях, принесла прибор и соленое печенье. Кирилл Петрович взял в руки чашечку и подошел к окну.
Внизу на тротуаре оживленно беседовали двое мужчин. Один подобострастно склонял голову и делал скорбное лицо, другой нетерпеливо пыхтел и порывался уйти. Видя стремление собеседника, первый осторожно придерживал его за рукав рабочей тужурки и продолжал умолять. «На выпивку канючит, – глянув на кирпичное лицо просителя, заключил Черногоров. – Ну ничего, сегодня можно дать взаймы: нынче у всех тружеников города праздник – первое число месяца, день получки. Под такое дело приятель наверняка сумеет вымолить на опохмелку».
Будто услышав доводы Черногорова, неприступный мастеровой картинно плюнул, извлек из кармана горсть мелочи и сунул забулдыге, весьма красноречиво погрозив при этом у его носа пальцем. Кирилл Петрович вспомнил, что и у них в ГПУ сегодня день выдачи зарплаты. «По правде говоря, глупая практика. Чистой воды формализм выдавать деньги в один день. – Зампред поморщился. – Сколько лишних хлопот Госбанку!»
Он вдруг почувствовал непонятное волнение и постарался удержать мысль, от которой почему-то встревожился: «Всем выдают в один день… Само собой, неразумно держать к выдаче столь огромную сумму наличности».
Черногоров повернулся к висевшей на стене карте города и нашел квадратик, обозначавший Госбанк. Он, как и здания губкома, ГПУ, прокуратуры и оружейных складов, был отмечен красной звездочкой – «особо охраняемый объект». «А ведь кому-то может прийти в голову напасть на банк именно первого, – нахмурился зампред. – Этакая силища денег собирается в кассовом зале!.. Впрочем в день получки у банка дежурят усиленные патрули, – успокоился Черногоров. – Не посмеют сунуться».
Дверь без стука распахнулась, и на пороге возник Гринев.
– Теракт, товарищ зампред! – судорожно сглотнув, выпалил он.
– Неужто все-таки водокачка? – Кирилл Петрович чертыхнулся.
– Нет, – мотнул головой Гринев. – Горит здание депо, совсем рядом с водокачкой. Ошибся немного информатор.
– Так что же ты!.. – подступая к подчиненному, крикнул Черногоров.
Глядя начальнику прямо в глаза, Гринев отчеканил:
– Два дня подряд безуспешно проверяли водокачку и вокзал. Как и условились, со вчерашнего дня поставили оцепление из милиционеров и наших агентов…
– Ладно, – махнул рукой зампред. – Что там сейчас творится?
– Сигнал поступил в 9.37, три минуты назад. Возгорание началось с дровяного склада. Туда немедленно выехали пожарные, начальник милиции Зотов снимает все свои патрули и посылает к депо…
Телефонный звонок оборвал рапорт.
– Слушаю! – раздраженно ответил Черногоров. – Да, товарищ Медведь, уже знаю… М-м, необдуманное распоряжение… Уж предоставьте решать мне!
Зампред в сердцах швырнул трубку на рычаги:
– Этот идиот распорядился послать весь наличный состав ГПУ на пожар!
Он прошелся по кабинету, стараясь взять себя в руки. Остановившись перед картой города, бросил Гриневу:
– Бери машину и – дуй к депо. Отзывай всех наших, кроме дежурной опергруппы. И возвращай людей Зотова в центр, на места штатного патрулирования!
– Не понял? – недоуменно выдавил Гринев.
– Иди сюда, – поманил его пальцем Черногоров. – Видишь, где депо? Собрав все силы там, на окраине, мы оголяем центр города, оставляем особо охраняемые объекты без защиты. На пожаре и без того людей хватает.
Гринев щелкнул каблуками:
– Как прикажете.
– И вот еще, – добавил зампред. – Всех, кто остался в Управлении, немедленно привести в состояние боеготовности. И ждать приказа.
– Есть! – Гринев кивнул и вышел.
Черногоров, не отрываясь, смотрел на карту: «Чуяло мое сердце. Ах, как бы хотелось ошибиться!»
Вновь зазвонил телефон. Кирилл Петрович взял трубку:
– Я, товарищ Луцкий… Знаю, принимаем все возможные меры… Не думаю, что это акт политической диверсии, скорее провокация уголовных элементов…
* * *
В начале десятого утра в кабинет «особой группы» заглянул сотрудник СПЕКО [139] Назаров.
– Здравия желаю! – козырнул он и протянул Рябинину конверт. – Утром поступило из Ростова. Только что расшифровали.
Андрей расписался в получении и вскрыл депешу:
«Секретно.
Начособгруппы
тов. Рябинину.
В ответ на Ваш запрос по СШ [140] № 310 от 23.06.1924 г. относительно уголовного преступника, известного в г. Ростове под кличкой Поручик, сообщаем, что в картотеке РостОГПУ за № 3218 ф. № 2/б числится разыскиваемый органами ВЧК—ОГПУ с января 1920 г. за разбойные нападения Немов Юрий Викентьевич, предположительно 1894 г. р., известный в криминальных кругах как „Черный Поручик“.
Согласно имеющимся в картотеке данным, Немов Ю. В. в 1919 – нач. 1920 г. возглавлял банду из 52 активных членов, занимавшуюся нападениями на граждан, торговые заведения, рестораны и квартиры. Установлено, что в бандформирование входили такие преступники, как Фролов Ф. Д. (Фрол), Артемьев А. И. (Головатый), Водовозов М. К. (Мотя-Одессит) и другие. В результате оперативно-розыскных действий РостЧК и угро 24.02.1920 г. Немов был арестован. Из допроса Немова Ю. В., проведенного 24.02.1920 г. оперуполномоченным угро Садовским Т. М., следует, что родился он в 1894 г. в Москве, в мещанской семье.
В 1918 г. выехал к родственникам в Ростов. В 1919-м организовал преступную группу. Оперуполномоченным Садовским Т. М. составлено описание внешности и особых примет Немова: на вид 26– 28 лет (на 1920 г.), рост – 2 аршина и семь с половиной вершков [141]; лицо правильное, глаза светло-карие, волосы темно-русые, брови тонкие, изогнутые, нос широкий, короткий; губы немного припухлые; сложение крепкое, но не плотное. Особые приметы: на левом плече полувыведенная кислотой татуировка „ЧУ. Б“, значение которой Немов объяснить отказался.
Следствие по делу Немова Ю. В. не было завершено ввиду того, что 25.02.1920 г. при халатном попустительстве охраны допра он бежал со внутреннего двора тюрьмы.
Других сведений о Немове Ю. В. в картотеке Рост-ОГПУ и угро нет.
При аресте вышеуказанного преступника в вашей губернии просим этапировать его в распоряжение РостОГПУ для идентификации и проведения следственных действий.
Начальник ИНФО [142] РостОГПУ
Горбач Л. И.»
«М-да, эти данные мало что могут прояснить, – подумал Рябинин. – Разве что опрокидывают версию Деревянникова, что Гимназист и Артемьев – одно лицо». Он решил дождаться возвращения своих подчиненных и посоветоваться.
Размышления Андрея прервал телефонный звонок:
– Рябинин у аппарата!
– Говорит Гринев. Срочный приказ товарища Черногорова: личный состав вашей группы надлежит немедленно привести в состояние боеготовности и ждать дальнейших распоряжений! Непецин и Деревянников на месте?
– Никак нет. Отлучились в бухгалтерию получать карточки июльского доппайка, – ответил Андрей.
– Позвоните туда и немедленно верните сотрудников! – скомандовал Гринев.
– Есть.
Рябинин спрятал депешу из Ростова в карман, проверил «браунинг» и сделал звонок в бухгалтерию.
* * *
Здание Госбанка по праву считалось гордостью местных градостроителей. Неподалеку от Старой заставы улица Губернская вдруг расширялась, и перед глазами возникало огромное сооружение, украшенное по фасаду колоннами и длинной гранитной лестницей, ведущей от парадного подъезда к тротуару.
Каждое утро в 9.30 банк открывался для обслуживания клиентов. Каждый первый день месяца на мостовой у подножия лестницы выстраивалась шеренга инкассаторских автомобилей и пролеток, доставлявших к банку кассиров многочисленных предприятий и учреждений. Вдоль строя машин и экипажей прогуливался милицейский наряд, который следил за безопасностью доставки денежных мешков до транспорта, отгонял докучливых мальчишек и праздных зевак.
1 июля 1924 года, во вторник, привычная работа постовых была нарушена. В 9.40 к банку, визжа тормозами, подскочил грузовик, из кабины выпрыгнул начальник милиции Центрального округа Бурмистров и, подбежав к подчиненным, распорядился:
– Трое – в машину, живо! Еремеев! Остаешься здесь за старшего.
Удивленные милиционеры забрались в кузов, где их уже ждал десяток товарищей, снятых с патрулирования Губернской.
Постовой Еремеев, парень лет восемнадцати, поправил кобуру «нагана» и тревожно огляделся. По улице буднично сновал народ, грохоча и позванивая, прополз мимо трамвай. Еремеев решил, что начальство удумало провести какие-нибудь учения и успокоился. Однако через минуту из-за угла Госбанка, с Малой Фоминской вывернула забитая милиционерами подвода и понеслась вниз к Старой заставе.
«Наряды от кирпичного завода сняли, – смекнул Еремеев. – Что-то неладно!»
Занятый своими мыслями, милиционер не обратил внимания, как неподалеку, у афишной тумбы собралась кучка молодых людей в низко надвинутых на глаза кепках.
– Че там стряслось-то, а? – справился у Еремеева водитель одной из инкассаторских машин.
– Сам не знаю, – скривился постовой. – Сиди себе на месте и не высовывайся, вскорости деньги начнут выносить.
Теряясь в догадках, Еремеев посмотрел на вертящиеся стеклянные двери Госбанка, где в кассовом зале дежурили три его товарища: «Ребята наверняка знают, в чем дело, там телефон имеется». В который раз пробежав взглядом по периметру своего поста, Еремеев посмотрел на часы: 9.45.
В этот самый момент к банку подъехала расхлябанная, влекомая сивой клячей телега. Из нее вылезли пятеро бородатых мужиков в забрызганных известью и краской робах. Они извлекли из телеги стремянку, рогожные свертки, холщовые мешки и неторопливо стали подниматься по лестнице.
– Стой! – скомандовал мужикам Еремеев. – Куда направляетесь?
– Карыдор белить, – кивнув на стремянку, ответил передний и протянул постовому мятую бумажку.
Еремеев стрельнул глазом по синему штампу «Губ. С. Н. Х.», придирчиво оглядел бородатое чумазое лицо и сурово справился:
– В мешках чего тащите?
– Струмент! – мужик важно поклонился.
– Валяйте, – махнул рукой Еремеев и отвернулся. «Там внутренний наряд проследит, – заключил он, – мое дело – улица».
Мужики-строители поднялись по лестнице, прошли вертушку стеклянных дверей и очутились в кассовом зале. Путь им преградил старший внутреннего милицейского наряда, громогласный верзила Кошкин:
– Кто такие? Зачем? – уперев руки в бока, спросил он.
– Белить потолки, – ответил чумазый бригадир и предъявил бумагу со штампом губсовнархоза.
Кошкин погрузился в изучение предписания, а бригадир быстро осмотрел зал. У длинной застекленной стойки – очередь кассиров и инкассаторов; позади, за спинами банковских служащих, – второй постовой; в углу у окна, на стульчике у телефона, – третий.
Бригадир кивнул спутникам, вытащил из кармана револьвер и выстрелил в грудь Кошкина. В руках остальных «строителей» тоже появились револьверы. Грянули выстрелы. Милиционеры замертво повалились на пол. Налетчики бросились к инкассаторам.
– Руки вверх! Лицом к стойке! – рявкнул один из бандитов.
Крепыш в рваном армяке сбросил с длинного свертка рогожу, вытащил ручной пулемет «льюис» и полоснул короткой очередью по потолку.
– Хахальни [143] на замок! – крикнул он.
Три дюжины посетителей застыли в ужасе. Налетчики подбегали к инкассаторам и срывали ремни с оружием.
– Мы возьмем только деньги. Ляжьте на пол, и вам не причинят вреда, – громко сказал «бригадир».
Кассиры послушно распластались по полу. Женщины тихо плакали. Кто-то шепотом молился.
Когда и обезоруженные инкассаторы были уложены лицом вниз, крепыш с пулеметом перекрыл выход во внутренние помещения банка, другой встал у стеклянных дверей. Главарь заглянул за стойку, где прятались испуганные банковские служащие:
– Всем встать! Кто старший? – он вынул из кармана золотой хронометр. – Даю две минуты собрать деньги. Не уложитесь – всем конец!
Трое налетчиков с мешками в руках бросились за стойку.
– Ка-ра-ул! – истошно заголосил смешной мужичок и полез под стол.
Высокий бандит, не раздумывая, хватил его рукоятью «нагана» по голове, и человечек затих. Остальные служащие, обливаясь холодным потом, принялись судорожно опорожнять сейфы.
– Россыпь-то оставь! – прикрикнул на молодого клерка один из бандитов. – Пачки, пачки сваливай.
– Быстрее, граждане банкиры, быстрее, – прохаживаясь по кассовому залу, приговаривал атаман. – Стрелки бегут!
От стеклянных дверей парадного входа наблюдатель громко докладывал о происходящем снаружи:
– Шухер поднялся… Народ растуриваться [144] начал… Тубан [145] приличный!.. Пошло в ход прикрытие…
Стоявший на карауле у входа во внутренние помещения пулеметчик крикнул:
– Атанда! По коридору отара [146] прет. С берданами! [147] Вохра [148] банковская, как будто.
– Дай им пугача, – распорядился главарь.
Караульщик выпустил в коридор длинную очередь, швырнул ручную бомбу и захлопнул дверь. Где-то за стеной ухнуло, с потолка посыпался известковый снег.
– Мой сидор [149] – под завязку! – бросил атаману один из тех, кто собирал деньги за стойкой.
– Плетовать [150] пора, – взваливая на плечо туго набитый мешок, сказал другой.
Главарь взглянул на часы:
– Алмазно! Слепили грант за пять с половиной минут.
Он кивнул пулеметчику на лежащих на полу людей:
– Подымаем этих фраеров и – выходим!
* * *
Заслышав глухие звуки выстрелов, милиционер Еремеев рванулся вверх по лестнице, но что-то больно ударило его в спину, ноги стали ватными и непослушными, сознание помутилось, и он рухнул на ступени.
Перепуганные водители инкассаторских машин высыпали на мостовую и, обнажив револьверы, двинулись к банку. Истошно закричала толстая лоточница, и улица замерла. Подозрительные молодые люди у афишной тумбы побежали по тротуару, стреляя на ходу в спины водителей-инкассаторов. Не ожидавшие засады несчастные не сумели ответить ни единым выстрелом.
Прохожие вдруг поняли, что вокруг нет ни одного милиционера и что улица находится во власти бандитов. Началась паника: люди разбегались кто куда; извозчики осаживали лошадей и круто разворачивали их назад; губисполкомовский «фиат» наскочил на фонарный столб, – из развороченного радиатора вырвались густые клубы пара. Спокойным и невозмутимым среди этого хаоса и десятка трупов оставался только Володька Умник. Прислонившись к тумбе, он со зловещей усмешкой курил папиросу.
– Ну че, Вова, сработали, а? Сгондобили дельце? – крикнул, подбегая к нему, Музыкант.
Его била лихорадочная дрожь, глаза бешено вращались, на губах играла сумасшедшая улыбка. Умник вынул изо рта папиросу и пустил на булыжник длинную слюну:
– Дело только начинается. Счас легавые подскочат. Вели ребятам схериться промеж карет [151] и тыхтунов.
* * *
Сообщение о налете на Госбанк поступило в 9.48. Дежурный по городу губернского управления Рабоче-крестьянской милиции в отчаянии бросился в кабинет опергруппы, но, вспомнив, что все отправились на пожар, побежал к банку…
Черногоров приказал группе Рябинина двигаться на место происшествия.
Во внутреннем дворе уже поджидал открытый голубой «рено».
– Скорее! – поторапливал сидевший рядом с водителем начальник Особого отделения ГПУ Свечников.
Андрей, Непецин и Деревянников забрались в машину, на подножки прыгнули два «особиста» и Титушкин из «комендантской».
У здания Госбанка кипел настоящий бой. Прибывшие чуть раньше милицейские патрули Портового округа отбивались от засевших среди экипажей и автомобилей бандитов. Не имевшие укрытия милиционеры несли большие потери и отступали в сторону Старой заставы.
– Лево руля! Ставь машину боком! – скомандовал Свечников. – Все – за борт.
Пригибаясь и закрывая головы руками, гепеушники спрятались за автомобилем. Пули застучали по металлу, со звоном осыпалось лобовое стекло.
– Да чтоб вас, в самом деле! – вскричал Свечников, рванул из кармана две ручные бомбы и, изловчившись, бросил их в сторону бандитов.
– Вперед! – подтолкнул Непецина Андрей.
Им в лицо ударила теплая смрадная волна дыма и пыли, за спиной ухнуло что-то большое и тяжелое. Рябинин добежал до развороченного автомобиля, упал на мостовую и огляделся.
Непецин, стоя на коленях, стрелял поверх капота машины, шагах в семи корчилась в конвульсиях умирающая лошадь. Налетчики медленно отступали вдоль экипажей к углу Губернской и Малой Фоминской. Андрей почувствовал, как кто-то схватил его за сапог. Он обернулся – рядом лежал, держась за живот, один из «особистов». Очевидно, он побежал вслед за ними и получил пулю.
– Не подвезло, – криво улыбнулся чекист и сунул Рябинину «лимонку». – На, жахни по гадам!
Андрей оглянулся назад, туда, где из-за обезображенного пулями «рено» отстреливались его товарищи: «А ведь может и горючее рвануть!» Однако, размышлять об этом не было времени. Рябинин выдернул чеку и бросил бомбу.
– Прикрой меня! – крикнул он на ухо Непецину и, согнувшись, засеменил вдоль тротуара.
* * *
Подталкивая стволами плачущих, умоляющих о пощаде людей, Фрол и Геня вышли из здания Госбанка первыми. Затем появился нагруженный мешками с деньгами Никита, следом – Агранович и Кадет.
Аркадий добежал до угла и махнул рукой:
– Карета подана!
Налетчики бросились на Малую Фоминскую, где у будки «Свежее пиво» их ожидал закрытый пароконный экипаж. На козлах восседал закутанный до бровей шарфом Профессор, в извозчичьей шапке и кафтане, внутри – упакованный в пеньковую бороду Гимназист.
– Бог в помощь, ребятушки! – Профессор тряхнул кнутом. – Оборотите декчу [152] взад – у нас фараоны на хвосте!
От Старой заставы приближался отряд конной милиции в полтора десятка всадников.
– Эх, не удержала Володькина шарага! – посетовал Гимназист. – Геня, Яшка – за бокач [153], Федор – под арку напротив.
– Пора когти рвать! – Профессор схватил его за рукав.
– Не оторвемся.
Гимназист достал из-под сиденья ящик с ручными бомбами:
– Будет им фейерверк!
Тем временем конники сняли с плеч карабины и на скаку открыли огонь. В ответ из-за будки «Свежее пиво» посыпался град бомб, застучал пулемет Степченко.
– Геня! Возьми левее, сверху легавые маячат, – крикнул Кадет.
Степченко стеганул очередью в сторону банка, где наверху лестницы появились две фигурки. Преследователи бросились наземь.
Через минуту стремительный натиск милицейской конницы был сломлен.
– Все в карету! – скомандовал Гимназист. – Где Яшка?
Кадет и Степченко волоком тащили Аграновича к экипажу:
– Кончился Яша, – выдохнул Аркадий. – Достал-таки, стрела! [154]
Гимназист глянул в лицо покойника. Оно было счастливым и безмятежным, выпуклые карие глаза упрямо смотрели в небо. Его портила разве что маленькая дырочка посреди лба, глупая и несуразная.
– Кладите в ноги, покройте рогожей, – отвернулся Гимназист. – Федор, скорее!
Фрол бежал с противоположной стороны улицы. Профессор хватил лошадей кнутом, экипаж понесся по улице. Федька впрыгнул уже на ходу и повалился на тело Аграновича.
– Федя, ты что? – Гимназист тряхнул его за плечо.
Фрол не поднимал головы, только судорожно цеплялся за рогожу, покрывавшую тело Яшки. Никита и Геня подхватили Федьку под мышки и усадили на скамью.
– Схлопотал маслину… [155] – морщась, проговорил Фрол.
Он был бледен, губы кривились, грязная строительная рубаха насквозь пропиталась кровью.
– Да как же это, Федя? – покачал головой Степченко, распарывая финкой одежду Фрола.
Федька бессильно откинулся на спинку скамьи и, с трудом разлепив сухие губы, прошептал:
– Из арки… к карете я… уж близко совсем был… а он, легаш, – сверху… от банка… Шмяк, и потек кагор из кишок…
Никита скинул одежду, нарвал из исподней рубахи бинтов и перевязал Фрола.
Экипаж во весь опор пронесся по Малой Фоминской, свернул на Кожевенную, затем попетлял по многочисленным переулкам и остановился перед глухими воротами. Кадет выскочил наружу, юркнул в калитку, отвалил засов и распахнул ворота. Экипаж въехал во двор, посреди которого возвышался просторный бревенчатый сарай.
– Меняем хламиды [156], карету и – в растурку, – распорядился Гимназист.
В сарае налетчиков поджидала снаряженная подвода и ларь с чистой одеждой. Бандиты сняли накладные бороды, умылись из бочки и облачились в неброские пиджаки и рубахи.
Покончив, собрались вокруг атамана. Гимназист переложил деньги в два больших чемодана, один вручил Профессору, другой – Кадету.
– Оттащите аржан [157] на галинники [158], как условились. Вы, Геня и Никита, подскочите с Федором и телом Якова на нешухерной карете на хазу в Слободке. Там до вечера перекантуетесь и – аллюром: Никита с Федором к доктору Решетилову, на Кропоткина, 22, а Геня – к слободскому штуцеру [159], на кладбище…
– Не спалит Фрола этот дохтор? – нахмурился Профессор.
– Если кто и сможет Федору помочь, так только он, – Гимназист повернулся к Степченко. – Как отвезешь Якова, сплетывай в Торжец, к Мирону Скокову, замерзни у него на время.
Глава XXIV
В 10.07 на место происшествия прибыли Медведь, Черногоров с Гриневым и начальник губернской милиции Зотов. Здание Госбанка было оцеплено плотным милицейским кордоном, за который пропускались только санитарные кареты, судмедэксперты и сотрудники ГПУ. Пожарная команда суетилась вокруг горящих автомобилей. Санитары 1-й городской больницы собирали и укладывали в рядок на тротуаре трупы. В изрешеченном пулями «рено» был устроен временный командный пункт – начальник Особого отделения Свечников отдавал приказания милицейским патрулям; здесь же Андрей Рябинин беседовал с управляющим Госбанка Пимановым.
– Э-э, да тут прямо-таки бойня! – выходя из машины и оглядываясь, протянул Медведь.
Он поманил пальцем Свечникова:
– Ваня, доложи-ка обстановку.
Свечников вкратце рассказал о налете. Невесело усмехнувшись, Черногоров подвел итог:
– Видишь, Платон Саввич, какие бандиты пошли – маскировочка, тыловое прикрытие…
– Угу, – буркнул Медведь, – обвели нас жиганы вокруг пальца, жди теперь упреков на бюро губкома.
– Ну, это мы еще посмотрим, – Черногоров упрямо поджал губы и кивнул Свечникову. – Погоню организовали?
– Так точно, – подтвердил Свечников. – В десять к нам на помощь прибыл на автомобиле товарищ Сухов с сотрудниками, начособгруппы Рябинин придал ему оперуполномоченного Непецина, и они отправились вдогонку.
– Что еще предприняли? – спросил Черногоров.
– Так как часть уличного прикрытия бандитов разбежалась, мы немедленно отправили четыре наряда милиции для обследования ближайших улиц и дворов. Арестованы и отконвоированы в больничный изолятор внутренней тюрьмы ОГПУ трое раненых налетчиков, начали поиск свидетелей. Эксперт Деревянников подсчитывает потери, данных у меня пока нет.
– Позови-ка его сюда, – распорядился Медведь.
Свечников кликнул Деревянникова. Медведь придирчиво оглядел помятый, испачканный в грязи и крови костюм эксперта и справился:
– Каковы наши потери?
Деревянников вытер руки носовым платком и раскрыл записную книжку:
– Четверо постовых из охраны банка, трое милиционеров Портового округа, семеро конных патрульных. Довольно много раненых, мы их не считаем, сразу грузим в санитарные кареты и отправляем в больницу. Думаю, их не меньше двух десятков, некоторые – очень тяжелые. Кроме того, погибли водители-охранники инкассаторских машин, девять человек. Посетители и служащие банка пока за помощью не обращались…
Слушая доклад Деревянникова, Медведь становился все мрачнее и мрачнее.
– А где эти трусы? – резко оборвал он эксперта.
– Простите? – нахмурился Деревянников.
– Ну, эта сволота, инкассаторы хреновы! – взревел Медведь.
– Здесь, на лестнице.
– Пошли, товарищи, посмотрим на этих горе-вояк.
Вся компания направилась к банку. На ступеньках лестницы расположились измученные кассиры и инкассаторы. Банковские служащие принесли им чай и бутерброды.
– Отставить еду! – подойдя к потерпевшим, рявкнул Медведь. – Граждане кассиры и персонал банка – марш в помещение! Инкассаторов прошу остаться.
Он подступил к ближайшему из них:
– Встать! Как фамилия?
– Травников, товарищ полномочный представитель ОГПУ!
– Почему не оказали сопротивления бандитам? – яростно дыша в лицо инкассатору, спросил Медведь. – Вы ведь имели оружие, а? Скажи, имели?
– Так точно, – Травников опустил голову.
– А где же был твой «наган», скотина? В задницу с перепугу засунул?
– Понимаете… Они… Ворвались так неожиданно… мы не успели… У них пулемет был…– торопливо оправдывался инкассатор.
Медведь схватил его за шиворот:
– Да ты – враг! Пособник! Я же тебя собственными руками порешу!
Черногоров подскочил к Медведю и что есть силы стиснул запястье начальника.
– Оставь, Платон Саввич, – сквозь зубы процедил он.
Медведь свирепо глянул в лицо заместителя, смутился и отпустил Травникова.
– Разбирайся, Петрович, сам, – бросил он. – Поеду я, пожалуй…
Черногоров похлопал Медведя по плечу:
– Добро, Платон Саввич.
После того, как Медведь уехал, Черногоров собрал подчиненных в кабинете управляющего Госбанком.
– Несмотря на то что бандиты заманили нас в ловушку, отчаиваться не будем и начнем действовать по единому плану, – начал зампред. – Во-первых, весь личный состав милиции и ГПУ немедленно переводится на круглосуточный режим несения службы. Необходимо отозвать всех сотрудников из отпусков. Товарищу Зотову приказываю усилить патрули, прочесывать все улицы, проверять каждый двор, чердак, подвал. Не забудьте подвергнуть досмотру все поезда, крестьянские возы на базаре, поклажу торговцев. Арестовывать всех подозрительных! Зотову также надлежит к 12.00 выделить в распоряжение ГПУ лучших агентов и сотрудников угро для создания оперативных групп. Гриневу: к 12.00 подготовить список оперативников ГПУ для руководства этими группами. Рябинину и его людям: продолжать разработку Гимназиста, арестовать всех подозреваемых в связях с бандой.
– Хм, вы считаете, что сегодняшний налет на совести Гимназиста? – подал голос начальник милиции Зотов.
– Нисколько не сомневаюсь, – кивнул зампред.
Он повернулся к Гриневу:
– Тебе, Паша, еще велю к 14.00 провести опознание всех раненых из бандитского прикрытия. Затем – копай связи. Лечить и кормить налетчиков, как членов ЦК. Кстати, товарищ Свечников! Ты отрапортовал Платон Саввичу, будто кое-кого из тех, кто орудовал внутри банка, подстрелили?
– Так точно, – согласился Свечников. – Командир конного патруля доложил, что видел, как один из бандитов свалился замертво.
– И я одного зацепил, – вставил Рябинин.
Присутствующие удивленно посмотрели на Андрея.
– Товарищ Свечников в горячке не спросил, – Рябинин пожал плечами. – Когда преступники бросились за угол банка, мы с товарищем Непециным побежали следом. На Малой Фоминской уже кипел бой с кавалерийским патрулем. Бандиты швыряли бомбы, стояла такая пыль, что было не разобрать, где свои, где чужие. Нас заметили и дали очередь из пулемета. Мы залегли и попытались оценить обстановку. Тем временем налетчики стали садиться в шарабан, один из них побежал к экипажу с противоположной стороны, из арки. Я попал ему в живот, но он сумел прыгнуть в экипаж. По-моему, он тяжело ранен.
– Молодец, Рябинин, – похвалил Черногоров. – Выходит, стоит проверить все больницы, навестить на дому всех врачей, фельдшеров и ветеринаров. Гринев! Поручи это Сухову, плюс – опросите осведомителей из медиков. И последнее. Все собранные на месте преступления вещдоки передать эксперту Деревянникову. Оперативные совещания членов коллегии ГПУ и начальника милиции с заместителями – у меня в кабинете в 8.00, 15.00 и 23.00; руководителей отделений и групп, соответственно, в 7.00, 14.00 и 22.00. И еще. Никакой информации прессе без согласования со мной!
В дверь деликатно постучали.
– Да! – крикнул Черногоров.
Вошел милиционер.
– Старший патруля Козлов! – отчеканил он. – Разрешите доложить?
– Ну давай. Что еще там? – зампред махнул рукой.
– По приказу товарища Свечникова проводили досмотр близлежащих дворов. В парадном дома № 72 по улице Советской обнаружен раненный в грудь неизвестный, по всем видам – налетчик.
– Он в сознании? – подобрался Черногоров.
– Так точно.
– Пойдемте, товарищи, полюбопытствуем!
На усыпанном битым стеклом и штукатуркой полу кассового зала сидел человек. Он прижимал к груди окровавленную тряпку и раскачивался из стороны в сторону. Конвоир-милиционер придерживал раненого за шиворот пиджака.
– Ну-ка, кто тут у нас? – заглядывая в лицо арестованному, проговорил Черногоров.
Раненый приподнял голову и тупо уставился на зампреда.
– Вот те на! – хмыкнул Зотов. – Так это ж Володька Умник!
Начальник милиции схватил арестованного за волосы:
– Ты, значит, на крупное дело вздумал пойти? Давно я хотел твоей шайке хвост прищемить, да вот не успел.
– Подожди-ка, Илья Ильич, – остановил Зотова Черногоров.
Он опустился на корточки и, найдя глаза Володьки, спросил:
– Кто организовал налет?
Умник клюнул носом, надул губы и шепнул:
– Ф-федь-ка подбил… По двадцать косых посулил… К-каждому.
Гринев тряхнул его за плечо:
– Сколько вас было? Кто участвовал? Ну!
– Потом, Паша, – отстранил подчиненного зампред. – Видишь, он «плывет», может сознание потерять, или того хуже…
Черногоров обратился к конвоиру:
– Немедленно отправьте арестованного в больничный изолятор тюрьмы ГПУ. Сдайте лично главврачу Гурко. Отвечаете головой!
В кассовый зал вбежал помощник Гринева Иванов и что-то быстро зашептал ему на ухо. Павел Александрович кивнул и попросил Черногорова «отойти в сторонку».
– Член бюро губкома Щеголев прибыл! – негромко доложил Гринев.
– Вона как! – фыркнул зампред. – Ну, сейчас попытается мне мозги прочистить.
* * *
Звуки выстрелов и взрывы бомб у здания Госбанка не на шутку встревожили город. Любопытные хозяйки побросали все дела, чтобы своими глазами посмотреть, что же случилось, но были остановлены непреклонными милиционерами из заградительного кордона. Обыватели ломали головы и строили догадки, заверяя друг друга, что непременно узнают правду от живущих по соседству с банком знакомых и родственников.
– У-у, знать, причина сурьезная, коли такая беготня поднялася! – качали головой одни.
– А, может, снова революция? – с ужасом предполагали другие.
– Да куда уж еще, окститесь!
– По всем видам диверсия, враги Советской власти зашевелились.
– Не-ет, – крутила у лиц собеседников сложенным в фигу кулачком бойкая старушенция. – Как есть говорю вам: комета свалилася! Поначалу-то депо загорелося, потом и в банк кусок попал. Давненько об ентом предупреждали!
– Одно ясно – наказание Божие, – со вздохом заключил сумрачный деревенский мужик.
Женщины подхватили его мысль. Вспомнилось недавнее разрушение монастыря, жаркая погода и пророчества известной гадалки с посада. Уличную дискуссию нарушил окрик милиционера из оцепления:
– Расходитесь по домам! Не велено здесь шататься.
Однако обыватели попытались «подмазаться» к представителю власти.
– Милок, а, милок! – заискивающе улыбаясь, подступила к милиционеру молодая баба. – Не томи народ, скажи, что приключилось?
– Не велено, – отмахнулся караульщик.
– Так мы ж не чужие, – напирала баба. – Свои, пролетарочки. Ты не думай, не выдадим. Парень ты красивый, порядочный; супруга, небось, не нарадуется. Есть жена-то, служивый?
– Есть, – краснея и оглядываясь по сторонам, отозвался милиционер.
– Уже? А с виду – такой молоденький!
– Хм, как сказать! – важно парировал караульщик. – Мне недавно двадцать первый год пошел.
– А не дашь! Не дашь! – дружно замотали головами женщины. – С виду – так старше кажесся, прямо мужик в самом соку!
– Мужик и есть!
– Да будет вам, – милиционер опустил глаза.
– Ну уж мне-то, как матери, скажи, что за шум? – подмигнув парню, спросила женщина средних лет.
– Бандиты налетели, – нехотя бросил милиционер. – Давайте-ка, гражданочки, расходитесь.
* * *
В 13.50 Рябинин докладывал Черногорову о результатах расследования:
– Брошенный экипаж обнаружили около полудня во дворе некоего Ремизова, безработного. Его сарай два дня назад зафрахтовал человек, схожий по описанию со Степченко. В шарабане много крови, бинтов. В углу сарая – рабочая одежда, бутафорские бороды, холщовые мешки. На место выехала группа экспертов во главе с Деревянниковым. Мы с Непециным отправились брать Степченко, однако его и след простыл. Обыск в доме не дал ничего. Бегло допросили всех домашних и работников мастерской на предмет того, куда мог податься хозяин. Один из них вспомнил, что Степченко не раз ездил по делам в Торжец и что у него там имеется пристанище и связи.
– К Мирону-разлюбезному —к Скокову подался, – кивнул Черногоров. – Видишь, как моя версия подтверждается? Все укладывается в четкую связь. Нельзя, чтобы Степченко выскочил из города! До сумерек он вряд ли рискнет, а вот ночью попытается.
Я выдам тебе грозное предписание, не поленись, проверь посты на дорогах и вокзале. К вечеру милиционеры от кутерьмы изрядно подустанут, начнут зевать да ушами хлопать. Проворонить могут!
Андрей задумался:
– Я плохо знаю город, особенно окраины. Какие наиболее выгодные места для лазеек?
Зампред подошел к карте:
– По дороге, пешим ли, конным, он не сунется. Задами, через поля и огороды – медленно, далеко не уйдешь, – он почесал лоб, что-то припоминая. – Лет двадцать семь назад я уходил от жандармов… Обложили меня тогда, как волка. А ушел я, заметь, по реке! Взял лодку, лег на дно и поплыл самоходом вниз по течению.
Кирилл Петрович рассмеялся:
– Чем черт не шутит, вдруг Степченко знаком с моей революционной биографией! Сделаем вот что: я прикажу усилить патрули вдоль реки. Пусть проверяют все баржи и лодки. Особенно же следует смотреть за железной дорогой! Транзитные пассажирские поезда мы, конечно, проверим, а вот товарняки, дрезины ремонтных бригад – вряд ли. Людей не хватит. И еще. Неплохо было бы отпечатать и раздать старшим патрулей и постов приметы Степченко. Я дам приказ машинописному бюро, пусть постараются.
* * *
Облачившись в любимую фланелевую пижаму и колпак, Александр Никанорович Решетилов собрался уже почивать, как услышал нетерпеливый звонок. Доктор вышел в переднюю и, не отворяя двери, спросил, что угодно посетителю в столь поздний час.
– Здесь больной, доктор, впустите, – ответил глухой голос.
– Я не практикую на дому, пожалуйте завтра к девяти часам в больницу, – объяснил Решетилов и повернулся было уйти.
– Помогите раненому, помирает, – отозвались из-за двери.
Александр Никанорович чертыхнулся, зажег в передней свет и загремел замками.
На пороге, прислонясь к дверному косяку, сидел, свесив голову на грудь, человек. Решетилов сразу определил, что он без сознания. Доктор оглядел пустую лестничную клетку, сокрушенно покачал головой и наклонился над раненым.
* * *
Весь день и всю ночь Андрей мотался по городу на выделенном Черногоровым «бенце» и проверял посты. Под утро он сидел в конторе начальника товарного двора железнодорожной станции и помечал на карте те караулы, которые успел повторно проверить. Карта была армейской, довольно подробной: кроме переулков, дворов, дорог и трамвайной линии – на ней пометили схему электро– и водоснабжения города.
– Гм, водопровод действует только в центре, а как же обходятся люди на посаде и в Рабочей слободе? С реки, что ли, берут? – вслух подумал Рябинин.
– И с реки, и из колодцев, да и водовозы снабжают, – подал голос сидящий в углу дежурный. – Речная вода у нас тяжелая, все больше с озер возят. За городом озера чистые, водица мягкая, ключевая.
– Водовозы? – насторожился Андрей и глянул на конторские «ходики». – В котором часу они выезжают?
– Затемно, чтоб к утру поспеть.
– Сейчас половина четвертого. Как думаете, водовозы уже тронулись?
– Да наверняка!
Андрей сорвался с места и побежал к «бенцу».
– Заводи, быстро! – крикнул он водителю. – Гони к выезду из города.
– Куда именно? – уточнил шофер.
– Туда, где водовозы проезжают.
– А-а, Биркинский тракт, знаю.
* * *
В милицейском патруле на Биркинском тракте стояли трое. На ходу выпрыгнув из автомобиля, Рябинин спросил старшего.
– Вы, Андрей Николаич, гляжу, из железа сделаны, – козырнув, бросил старший поста. – Почитай, третий раз проверяете.
Он был зелен лицом от усталости, сотоварищи сидели на корточках у потухшего костерка.
– Водовозы проехали? – резко спросил Андрей.
– Так точно, четверть часа назад. Шесть бочек.
– Проверяли?
– Как положено. Осмотрели телеги со всех сторон, в рожи фонариком посветили. Так ведь мужики-то все знакомые.
– А сами бочки, внутри, проверили? – не отступал Андрей.
– Ну конечно. Постучали, – снисходительно улыбнулся милиционер.
– Постучали или поглядели?
Старший поста пожал плечами.
– Ясно, – кивнул Андрей и вскочил на подножку «бенца». – Жми вдогонку!
Бочки водовозов автомобиль нагнал версты через полторы. Повозки стояли у обочины, мужики собрались в кружок и что-то оживленно обсуждали.
– Кто прятал пассажира? – соскакивая на землю, наугад выпалил Рябинин.
Водовозы беспорядочно загалдели.
– Тихо! – прикрикнул Андрей. – Кто прятал?
Вперед выступил испуганный мужичок лет сорока:
– Дык, товарищ начальник, он ливольвером пригрозил…
– Он в бочке сидел? – спросил Рябинин.
– Ага…
– Митюха не виноватый, – вступился за товарища бородатый молодец. – Мы и сами не знали, гад тот Митюху у дома подстерег…
– Ну струхнул я! – заныл Митюха. – Ребятишки у меня, жена год как померла, четверых оставила… Не губите!
– Вас никто не осуждает, – успокоил мужичка Рябинин. – Почему не подали знак милиционерам?
Водовозы возмущенно закричали:
– Ага, скажи! А он – внутрях, все слышит! Бочка-то открытая.
– Апосля драки все смелые!
– Жизня-то одна, начальник!..
– Где он сошел? – оборвал мужиков Андрей.
– Дык здесь и вылез, прямо на ходу! – отчаянно воскликнул Митюха. – К «железке» через поле подался.
– А мы как увидали, что с Митюхина воза ктой-то упал, так и остановились, – поддакнул бородач. – Решили в обратку, к посту милицейскому катить.
– Далеко здесь до железной дороги? – вглядываясь в рассветную мглу, уточнил Андрей.
– С версту, не боле, – отозвались мужики.
– Приметы попутчика – быстро! – нетерпеливо потребовал Рябинин.
Митюха мучительно наморщил лоб:
– Э-эм… Выезжал я из дому в потемках, вывожу, значит, лошадь со двора под уздцы, а он тут и подваливает. Ливольвер – в бок…
– При-ме-ты! – напомнил Андрей.
– Крепкий, мордастый…
– Сегодня же, к 9.00 явитесь в ГПУ, на Советскую, 23, к Рябинину. Поняли?
– Как не понять? Приду! – засеменил Митюха.
Андрей уже не слушал его.
– Разворачивайся! – бросил он на бегу шоферу. – Мчи во весь опор в управление, доложи обо всем товарищу Черногорову. А я – к железной дороге.
– Левее берите, товарищ начальник, левее! Там полустанок! – крикнул вдогонку Рябинину бородатый водовоз.
* * *
Пожилой путевой обходчик только вышел осматривать свой участок дороги, когда на насыпь со стороны овсяного поля взобрался военный в мокрой от росы одежде.
– Видели здесь кого-либо в ближайшие полчаса? – с ходу спросил он.
– Никого не видал, – железнодорожник пожал плечами.
– А поезда через полустанок проходили? – переводя дух, поинтересовался военный.
– Аккурат десять минут назад товарный на Колчевск проследовал, – ответил обходчик.
Военный снял фуражку, вытер лоб и сел на рельс:
– Как быстро он двигается?
– Тут участок не скоростной, машинист дает двенадцать верст ходу. Я, мил человек, сам шестнадцать годков локомотивы водил, весь «профиль пути» помню! – улыбнулся железнодорожник.
Глава XXV
Вторые сутки доктор Решетилов пытался спасти жизнь неизвестного пациента. Ранение оказалось крайне тяжелым, – пуля пробила левый бок в области поясницы. Несмотря на неподобающие условия, доктор рискнул сделать операцию. Он промыл и зашил рану, однако в благополучном исходе сильно сомневался – больной потерял слишком много крови и долго пролежал без медицинской помощи. Состояние его ухудшалось. Понимая, кем мог оказаться пациент, Александр Никанорович все же решился утром доставить раненого в больницу.
Несчастный бредил, бормоча несвязные фразы, то прося у кого-то прощения, то угрожая жестокой расправой.
К утру он на минуту пришел в себя и попросил воды.
– Вам не следует пить, – устало проговорил Решетилов. – Потерпите, скоро перевезу вас в стационар, там станет легче. А пока могу предложить только это!
Александр Никанорович взял в руки шприц с морфином. Пациент сделал нечеловеческое усилие, чтобы сосредоточиться.
– А я… вас… видел, – прошептал он. – Прошу… не надо в больницу… Сдадут меня…
«Будь что будет», – подумал Решетилов, сделал укол и отправился спать.
Весь следующий день Александр Никанорович не отходил от пациента. К вечеру температура спала, черты лица заострились. Доктор провел осмотр и покачал головой: «Так и есть, отходит».
Решетилов сделал укол. Вскоре больной пришел в себя. Он огляделся, нашел глазами доктора и свистящим шепотом хрипло спросил:
– Кончаюсь?
Александр Никанорович вздохнул.
– Чайку бы, а?.. С сахарком… Если можно, – пациент попытался улыбнуться.
– Теперь можно, – доктор поднялся с кресла. – Разве что холодненького.
– Оно и лучше.
Сделав два глотка, больной поморщился:
– Не принимает душа… Который нынче день?
– Четверг, третье июля. Сейчас половина десятого по полудню.
Раненый уставился на глухо зашторенные портьеры кабинета.
– Растворить? – угадал его желание Решетилов.
Больной долго смотрел на закатный горизонт и наконец проговорил:
– Спасибо вам, доктор… Вот всю жихтаровку свою непутевую прожил без счастья… а теперь – счастлив… А ведь я и не знаю, как звать вас.
Решетилов представился и, в свою очередь, спросил имя пациента.
– …А то я, знаете ли, по долгу службы завел историю вашей болезни, так уж извольте и вы назваться, – добавил он.
– Они… все одно, вас пытать будут… так уж лучше я сам, – скривился пациент. – Вы запишите, чтоб без ошибки…
Доктор взял лист бумаги и карандаш.
– …Звать меня Фроловым Федором Дмитриевичем. Родился я в 89-м году, в Питере. Отец поначалу жил в деревне, землю пахал, потом подался на фабрику. Как помер он, мы с матерью остались, я и двое сестричек… Рос в бедности, беспутстве. Дурил, воровал. Затем и серьезные дела стал вершить. Лихо-то – оно как по маслу катится, не удержать. Пензы шальные – их только получи, пуще гонори пьянят.
Любил я риск, когда фортуна тебя за горло держит, а ты ее – за хвост. Куражился, пил сок земной от самого нутра… Уважали меня людишки.
И боялись. По ранним-то годам – оно приятственно… Потом схлопотал каторгу, надолго. Там, у царя-батюшки за пазухой, и ум, и рассудительность появились.
Да только не те, что у вас, у фраеров, в ходу. Вольный человек умен своим правилом, ловкостью рысьей, законным расчетом. Не понять вашим хлипким душам чести варнацкой. Иной долдон жалится на судьбу, сопли распускает по ветру, а мы не жалобим никого, сами берем свое… Повидал я на каторге всякого народца. Был у нас политический один, эсерик-бомбист, покушался увачкать какого-то вельможу. Ледащий такой, худосочный, на этапе казалось, кандалы его волокут, а не он их. Однако ж уважала эсерика вся шарага. Силен он оказался нутром: от холода-голода не ныл, побои конвойных терпел стойко, потешал нас на привалах байками да историями разными. А все ж презирали его законные варнаки, те, что постарше годами, опытом мудреные. Почему так? Да потому, что сила его великая была от прежней хорошей жизни да «убеждений» глупых, будто страдает он за «народ расейский». Там, дома, осталось крепенькое хозяйство, папашка-богатей, акряный [160] купчина. Сытым наш эсерик рос с молодечества, жир с губ капал. Потому и не тумкал о куске хлеба, а стал бомбы кидать, людей рвать ради забавы геройской. А ведь даже зверь лесной, коли сыт, не станет губить себе подобных! Законный уркаган – тот же волк, которого гонит промышлять голод лютый. Мы матереем на пустой желудок, нам кроме нужды, тюрем да ветра в лицо, и вспоминать-то нечего. Нету у нас хат с пожитками, деньжищ великих, жен с дитями. И бестолковых идей тоже. Смысл один: выжить. Вопреки всему…
Как-то раз на «пересылке» пел мне тюремный поп: «Для чего живешь?» Да не для чего, а как! Важно жихтаровку красиво прожить. Я свою так и прожил. Помню, поп тот тюремный спросил: «Неужто, заблудшая душа, Суда Божия не боишься?» А чего бояться? Это ему, патлатому, в рай попасть охота, мне же туда дорога заказана. Грешки, все одно, не смоешь, потому как начали они набираться с молодечества, с безмозглых лет. Куда уж теперь с ними? Их с души-то, как поклажу с воза, не сбросишь.
Фрол помолчал.
– Да вот, главное запиши, – что-то припоминая, добавил он. – Все, что вешали в этом городе на Гимназиста, я проворачивал. Не было никакого «Гимназиста»… И Умника… на грант… я подбил, – голос Федьки стал совсем тихим и слабым. – Хватит трекать… давайте, господин доктор, свечу… помирать мне пора.
Решетилов отложил карандаш:
– В вашем костюме были деньги. Очень много денег, десять тысяч. Может, их надлежит кому-то передать?
Федька прикрыл глаза:
– Себе оставьте… Это плата… за меня… Кореша отблагодарили… Все ваше… Чистое…
Он хотел еще что-то сказать, но только негромко захрипел. Ладони стали мелко шарить по простыне.
Александр Никанорович сходил за свечой. Наклоняясь к умирающему, он услышал:
– Попа не зови… Не простит.
– Бог простит, – доктор со вздохом перекрестился.
– Бог?.. – прошептал Фрол и осекся.
На его лице застыло выражение легкого удивления. Решетилов сложил руки покойника, вставил горящую свечу и пошел одеваться.
Облачившись в свежую рубашку и костюм, Александр Никанорович присел на кончик стула в гостиной – на дорожку. Ему предстоял визит в учреждение, предназначение и сущность которого доктор глубоко презирал. Он уже собирался выходить, когда в дверь позвонили.
На пороге стоял милиционер.
– Прошу прощения, доктор, – он козырнул. – Имеется приказ проверять всех медиков в городе.
А вы к тому же, как нам стало известно, который день отсутствуете на работе, сказались больным.
– А я и сам к вам собирался, – Решетилов почему-то обрадовался. – Вернее, не к вам, а в ОГПУ. Думаю, органы заинтересует мой пациент и его «исповедь».
* * *
Ближе к полуночи в камеру внутренней тюрьмы ГПУ, где Рябинин допрашивал одного из оставших-
ся в живых молодчиков – Умника, постучал посыльный:
– Вас срочно спрашивает товарищ Черногоров!
Андрей застал его за чашкой кофе.
– Не желаешь? Не отказывайся, сам варил, – предложил Кирилл Петрович. – Которую ночь не спишь?
– Третью.
– То-то. Присаживайся скорей.
Рябинин с удовольствием сделал глоток.
– Ну как? – справился Черногоров. – Теперь точно взбодришься до утра. На вот, прочти.
Он передал Рябинину запись последних слов Фрола и объяснения Решетилова.
Дойдя до утверждения Федьки о том, что именно он и являлся Гимназистом, Андрей удивленно посмотрел на Черногорова.
– Сомневаешься в искренности покойного? – усмехнулся зампред. – Согласен, на исповедь не тянет. Однако формально мы можем закрыть расследование «дела Гимназиста».
Рябинин покачал головой:
– Закрыть? В налете на банк участвовало семнадцать человек – десятеро были снаружи в прикрытии, двое правили экипажем, и пятеро действовали внутри. Нами установлены личности налетчиков из прикрытия, пятеро оставшихся в живых арестованы. Из той же группы, что орудовала в самом банке, нам известны только Фрол и Степченко (да и то, участие последнего в налете пока под сомнением).
А других членов банды мы не установили!
– Знаю, знаю, – нетерпеливо отмахнулся Черногоров. – А что прикажешь, и впредь держать город на осадном положении? Поиски остальных членов банды зашли в тупик. Прочти объяснения Решетилова, потом обсудим дальнейшие действия.
Кирилл Петрович отошел к окну и, стараясь убедить самого себя в правильности решения, вспомнил события последних дней. Третьи сутки в городе велись нескончаемые облавы, бессонные патрули прочесывали улицы и дворы. Было арестовано более трехсот человек, связанных с криминальной средой, двадцать находящихся в розыске уголовников, попутно раскрыто около полусотни совершенных ранее преступлений.
Перепуганные владельцы трактиров и ресторанов закрывали заведения, беззаботных гуляк заметно поубавилось. Губком был завален жалобами на действия органов, однако партийные ячейки, комсомол и профсоюзы дружно поддержали меры ГПУ. Партийные руководители многих учреждений и предприятий звонили Медведю, выражая «глубокое удовлетворение возвращением к революционному порядку и законности». Кое-кто требовал даже «расстрела на месте» для захваченных с поличным преступников, но Луцкий просил «товарищей чекистов» «не перегибать». Секретарь губкома опасался не столько непопулярных в среде обывателя мер, сколько усиления в результате «массовой расчистки» авторитета и влияния Черногорова. Луцкий требовал от Медведя личного вмешательства в ход дела, скрупулезного контроля за всеми действиями органов милиции и ГПУ и ежедневного отчета. Однако ленивый полпред ОГПУ отвечал полученными со слов Черногорова сводками и заверениями в бдительности.
Уже с обеда вторника газетчики осаждали приемную Черногорова в надежде получить объяснение происходящих событий. Зампред отмахнулся от репортеров, ограничившись сухим бюллетенем о налете и заявлением об успешном ведении расследования. И все же упорные слухи о том, что бандиты унесли из банка чуть ли не пять миллионов рублей и погубили полсотни сотрудников милиции, заставили Кирилла Петровича рассказать правду. В среду из свежих газет горожане узнали, что в действительности преступники похитили пятьсот восемьдесят девять тысяч рублей из шестисот двенадцати тысяч трехсот восьмидесяти двух рублей двенадцати копеек, находившихся на момент налета в кассовом зале.
Ниже помещался список погибших милиционеров, водителей инкассаторских машин и трех жертв из числа мирных граждан (двух извозчиков и случайного прохожего). На следующее утро на стене губкома была обнаружена написанная красной гуашью листовка:
Т О В А Р И Щ И ! Бандиты вонзили пятьсот восемьдесят девять ножей в спину революции. Кто защитит нас от разгула уголовного отребья?
А между тем наиболее ярких представителей этого самого «уголовного отребья» продолжали педантично свозить в и без того переполненные допр, губернский исправдом и внутреннюю тюрьму ОГПУ. Ширмача Никольку Тыхтуна взяли вечером вторника на «малине». Пьяненький Тыхтун безмятежно дремал на обнаженной груди своей молоденькой подружки, когда в дом нагрянули гепеушники. Пронырливая девица успела надеть на шею сонному кавалеру подаренный ей ворованный медальончик, чем помогла Никольке претендовать на два года дальнейшего существования за государственный счет.
Лялю-Кремень прихватили после предварительного допроса Умника. Под горячую руку попали Мишка-Змей и целая свора беспризорных воришек. Марафетчика Аптекаря арестовали прямо в «мастерской», где он, будто средневековый алхимик, колдовал над своими колбами и спиртовками. Так и не дождавшийся положенной порции дурмана уполномоченный Мигунов весь следующий день бродил по городу бледной тенью. В конце концов он попался на глаза Черногорову. Зампред тут же вспомнил о рапорте Рябинина и приказал «убрать с улицы эту сволочь до особого распоряжения».
Впрочем, арестовать продажного милиционера не удалось – прибывшая за ним опергруппа обнаружила его мертвым, с ножом в сердце. Бесследно исчезли также несколько связанных с Фролом воров и барыг. «Работает Гимназист, подчищает город не хуже нашего», – заключил Кирилл Петрович. Когда в среду оперативники пришли за Мамочкой, королева базара встретила непрошеных гостей во всеоружии. Облачившись в скромное, мышиного цвета платьице, повязав на голову ситцевый платочек, Марья Ивановна восседала у стола с выражением крайней покорности судьбе. У ног Мамочки лежал узелок с припасами и сменным бельем. Пахана Лангрина арестовали для выяснения «кое-каких деталей» прямо в день налета, однако уже в четверг главного уголовного авторитета губернии пришлось отпустить. В переполненной камере допра, куда попал Лангрин, доселе творились всяческие безобразия: пол покрывал многодневный слой грязи, резко пахло нечистотами, частенько возникали потасовки. С водворением в камеру Пахана ситуация круто изменилась: помещение было до блеска отмыто, параша регулярно выносилась дежурными, прекратились драки и гвалт. Когда же запущенный руководством тюрьмы сексот был найден поутру мастерски задушенным, начальник милиции Илья Ильич Зотов распорядился Пахана выпустить. «Этак он мне всех осведомителей передушит», – решил Зотов.
Не избежали арестов и городские проститутки. «Жриц любви» собрали одним махом, погрузив в специально выделенный Зотовым фургон. Теперь их клиенты по вечерам не засиживались на «внеурочной работе» и «чрезвычайных совещаниях», а, позевывая, читали дома прессу, с тоской поглядывая на давно наскучивших жен.
Чтобы опустевшие улицы не наводили жителей на гнетущие мысли, в среду губкомол организовал массовое факельное шествие с приветствиями V Конгрессу Коминтерна. Комсомольцы распевали революционные песни, созывали народ на митинг солидарности с угнетенными пролетариями капиталистических стран. Ко всему прочему комса и Спортивный союз перенесли на четверг физкультурный праздник, намеченный на воскресенье.
Рябинин дочитал объяснение Решетилова и предупредительно кашлянул.
– Закончил? – Черногоров обернулся. – Возвращаясь к началу разговора, предлагаю до времени прекратить активные поиски Гимназиста. Попытаемся подобраться к нему с другой стороны. Будем искать Степченко, начнем охоту на прокуроров. Полагаю, расследование выведет нас не только на Гимназиста, но и на многих губернских бандитов. За неделю заканчивай допросы, закрывай следствие и отправляйся-ка в Торжец.
Местные ребята наконец-то нашли выход на банду Мирона Скокова. Тебя в Торжце никто не знает, это нам на руку. Истинных целей командировки не раскрывай. Ребята помогут разместиться, скажешься каким-нибудь заготовителем кожи или зерна. Накапливайте информацию. Как станет ясно, где искать Скокова, – дам тебе кавалерийский отряд из Имретьевской кавбригады, вспомнишь былые годы, разомнешься. Надо постараться добыть Скокова и Степченко живьем, от них ниточка потянется к Апресову и Боброву и далее – к неподкупному прокурору Изряднову.
Андрей кивнул:
– Решение о разработке банды Скокова и всех прочих правильное. Однако и здесь, в городе, многое предстоит выяснить.
– Закончи с протоколами и пиши заключение о том, что так называемой бандой Гимназиста в действительности руководил Фролов, вербовавший для совершения преступлений подручных из уголовной среды города. Подобным резюме мы успокоим прокурора Изряднова! А спящий, потерявший бдительность враг втрое слабее, сам знаешь. Более того, я уже приказал снять усиление – с ноля часов для ГПУ и милиции действует обычный режим несения службы.
Завтра начнем выпускать из заключения тех, чья вина в пособничестве налету и иных преступлениях не просматривается. Тюрьмы переполнены всяческой швалью, попусту кормить их средств нет. Некоторых, конечно, посадим, кое-кого отправим на общественные работы, остальных – в шею. До поры-до времени. Кстати, и твоя «особая группа» с десятого июля будет расформирована. Пусть все думают, что с Гимназистом покончено.
Черногоров допил остывший кофе:
– Много у тебя сегодня работы?
– Завершу допрос Лыкова из банды Умника, затем поговорю с самим Володькой. К утру примусь за Алевтину Клементьеву. Думаю, к восьми кончу. Этот Умник, хоть и ранен, но находится в ясном сознании, куражится и затягивает допрос насколько возможно. Опять же, часто делаем перерывы – так велят врачи.
– С Алевтиной тоже порядком провозишься, – заверил Черногоров. – Ее Кремнем кличут. Тертая баба.
Он поглядел на землистое лицо Андрея:
– Как закончишь – отправляйся спать. И не в кабинет, – домой. Отдохни два дня, затем – снова за работу.
– Благодарю.
– На том свете отблагодаришь, – усмехнулся Кирилл Петрович.
* * *
Старики Аграновичи отправились на покой, как обычно, в половине десятого. Однако сон не шел, мысли о местонахождении непутевого сына Яши лезли в голову. Конечно, младшенький нередко пропадал из дому, к чему родители уже порядком попривыкли. Теперешний трехдневный загул обеспокоил их не на шутку – в городе шли повальные облавы, милицейские патрули проверяли всех запоздалых гуляк.
Намедни сосед Йося, возвращавшийся от любовницы, провел ночь в отделении. Абрам Моисеевич покрутился с боку на бок, поднялся с постели и с ворчанием поплелся на кухню. Он зажег лампу и с хмурым упрямством принялся перечитывать июньский номер «Рабочего корреспондента». Он прочел беседу товарища Сталина с сотрудниками журнала; согласился с тезисом Генсека о том, что рабочие и сельские корреспонденты способны «сыграть роль проводника пролетарского общественного мнения», и перешел к статьям. Сообщения рабкоров об успехах восстановления отечественной индустрии и опытах по смычке с деревней путались с засевшей в мозгу беспокойной злобой на сына: «Люди вот доменную печь пустили, а этот негодник шляется невесть где…» Из спальни послышался сдавленный вздох Беллы Львовны.
– Ты-то хоть, мать, спи. Не береди душу, – крикнул в дверь старик Агранович.
Он продолжил чтение, время от времени отрываясь и прислушиваясь к звукам из спальни.
К полуночи Белла Львовна заснула. Абрам Моисеевич на цыпочках пробрался к спальне и притворил дверь.
В половине первого в окошко легонько постучали. От недоброго предчувствия у старика мелко задрожали руки – Яшка всегда отпирал дверь своим ключом, соседи в такую пору заходить не имели обыкновения, а милиционеры привыкли подымать грохот на всю округу. Агранович подошел к двери:
– Проходите себе, граждане, дома только я и злая собака, – сурово буркнул он.
– Отоприте, Абрам Моисеевич, мы – Яшины знакомые, – отозвался молодой голос.
Старик откинул «собачку» и приоткрыл дверь. На крыльце стояли двое.
– Кто вы? – справился Агранович.
– Не беспокойтесь, мы – добрые приятели Яши, – на свет выступил стройный большеглазый парень.
– Известие есть для вас, – глухо добавил второй из темноты.
– Прошу, – кивнул Абрам Моисеевич и ткнул пальцем на лакированные ботинки первого. – Шибко не топайте, жена спит.
Хозяин проводил гостей в кухню и вопросительно поднял брови. Молодые люди сняли кепки, со вздохом опустили глаза.
– Принесли мы, отец, дурные новости, – начал обладатель шикарных ботинок. – Яша погиб… Несчастный случай.
Старик бросился к гостю, нервным, отчаянным движением дернул за карман пиджака и испуганно отскочил назад.
– Не-ет! – потрясенно воскликнул он. – Как же так?!
Молодые люди подхватили Аграновича под руки, усадили на стул, плеснули в стакан воды. Абрам Моисеевич тупо смотрел перед собой и беззвучно бормотал полузабытую молитву.
– Крепитесь, отец, – проговорил второй гость, тот, что пониже, типичный русак. – Якова уже не воротишь. Гепеушники его третьего дня застрелили, там, у банка. По ошибке, приняли за налетчика.
Слова не доходили до сознания Аграновича.
– А тело, тело сына моего где? – вдруг отчаянно взвизгнул он.
– Предано земле на Еврейском кладбище, по закону вашему, – поспешно объяснил большеглазый щеголь.
Взяв в свои ладони слабую руку старика, он строго добавил:
– Место вы узнаете потом. И службу раввин пусть отслужит позже, как все окончательно успокоится. Власти до сих пор, по ошибке, считают Яшу налетчиком, могут выкопать тело, осквернить.
Абрам Моисеевич в ужасе уставился на гостя.
– Послушайте совета, – продолжал убеждать молодой человек. – И о нашем визите молчите.
А соседям скажите, что Яша уехал к родственникам. Поняли?
Агранович послушно кивнул. Большеглазый перевел дух и подмигнул товарищу. Тот извлек из заплечного мешка объемистый сверток:
– Здесь Яшины деньги. Все, что осталось.
Абрам Моисеевич покосился на сверток. Он хорошо знал счет деньгам и вмиг определил, что даже если внутри мелкие купюры, все одно – не меньше тридцати тысяч.
«Откуда у Яшеньки столько?» – хотел спросить старик, но почему-то не осмелился.
– Девяносто тысяч, – пояснил щеголь. – Как узнаете, где могилка, поставьте богатый памятник. И помяните, как положено.
– Простите нас, не уберегли, – проговорил русый.
Гости поклонились и пошли к выходу.
Абрам Моисеевич не слышал, как хлопнула дверь, он думал о сыне. Старик никак не мог вспомнить его взрослым.
…Был ясный февральский полдень, когда Беллочка родила ему младшенького. Доктор Зельцер с улыбкой вышел из спальни и возвестил о благополучных родах. Илюшка и Сарочка бросились к отцу, а он, счастливый и молодой, целовал их и говорил о братике…
Он был самым красивым и смышленым ребенком на улице – розовые бархатные щечки, смоляные, пахнущие свежей росой кудри, лучистые глаза… «Папочка, я скоро вырасту?» – топая ножкой в сделанном руками отца голубом ботиночке, спрашивал пятилетний Яша. – «Очень скоро, сыночек», – отвечал Абрам Моисеевич. «Завтра?» – «Нет, чуточку попозже». – «К субботе?» – «К субботе – точно», – заверял отец. – «А большой я вырасту? Как ты или выше? Как Голиаф?» – «Не обязательно стать большим, как Голиаф, – улыбался Абрам Моисеевич, – лучше быть смелым, как Давид, и умным, как Соломон…»
Старик оторвался от воспоминаний и тоскливо огляделся. Ему стало холодно и неуютно. Совсем недавно в этом доме звенели голоса его детей.
Взгляд упал на сверток. Всю жизнь Агранович уважал деньги, чтил их, как любой человек, трудившийся смолоду до седьмого пота, по крохам наживавший добро во благо семьи. Сейчас он глядел на них с отвращением. «Разыщу могилку сыночка, отдам поклон и – конец, – подумал Абрам Моисеевич. – Забрал Бог деток моих, и мне здесь задерживаться нет нужды».
Старик схватил сверток и со злобой швырнул его в ящик кухонного буфета, туда, где стояли лубяные короба с мукой и крупами.
Глава XXVI
Рябинин закончил допросы к девяти утра. Выйдя из здания ГПУ, он полной грудью вдохнул свежего утреннего воздуха и с удовольствием закурил. Только сейчас он понял, как устал. Будто свинцом налитые ноги ступали тяжело и неохотно, спина гудела. Андрей подумал о завтраке, но тут же с отвращением отогнал эту мысль – хотелось спать, надолго забыться, отойти от мучительной суматохи последних дней.
– Эй, товарищ мрачный демон, очнитесь! – раздался откуда-то сбоку знакомый голос.
Андрей обернулся и увидел Старицкого, сидящего в грациозной, красного дерева бричке. Каурый жеребчик-трехлетка нетерпеливо бил копытом о булыжник мостовой.
– А-а, Жора, – Рябинин устало улыбнулся. – Какими судьбами? Ты же укатил на дачу!
– Верно, – соскакивая наземь, подтвердил Старицкий. – Вернулся за провизией и – обратно. Говорят, у вас тут большой скандал случился – налет на Госбанк?
– Одна из жертв – перед тобой, – кивнул Андрей.
– И куда же сие обессиленное, измученное сыском создание направляется? – рассмеялся Георгий.
– С-пать! —тряхнул головой Рябинин.
– А поехали-ка со мной на дачу! – хлопнув друга по плечу, предложил Старицкий. – Там и выспишься, и отъешься на славу.
– В самом деле, почему нет? – Андрей пожал плечами. – У меня впереди два выходных. Надеюсь, не стесню?
– Полезай в экипаж, – подтолкнул его Георгий. – Вот только заскочим ко мне, возьмем продукты и – в путь.
* * *
По словам Старицкого, его «загородный домик» стоял на краю небольшого дачного поселка, у озера, верстах в десяти от города. Развалясь на скамье, Андрей вкратце рассказал о налете.
– Все, кончено дело, – заключил он. – Мифическим Гимназистом оказался известный преступник Фрол. Кстати, он наш, питерский.
– Помер он, говоришь? – щелкнув кнутом, бросил через плечо Георгий.
– Как не помереть? – хмыкнул Рябинин. – После такого ранения мало кто выживает… Это ведь я, Жорка, ему пулю в живот вкатил.
– А-а! – протянул Старицкий. – Из «браунинга» достал? Справная машинка.
Он подхлестнул коня:
– Ну давай, не ленись, Малыш!
Андрей приподнял козырек фуражки и огляделся. Бричка ехала краем ржаного поля. Ярко-голубое небесное марево слепило глаза. Пахло сухим колосом и парной утренней землей.
– Ночью дождичек пробежал, а уже душно, – задумчиво проговорил Георгий.
– Да, жара стоит лютая, – лениво согласился Андрей.
– К крови, – жестко добавил Старицкий.
– Это почему же?
– А вот повстречал я недавно мужичка из соседней деревни: стоит, колос щупает, зерна по ладони раскатывает. А потом и говорит: «У нас засуха – завсегда к крови». Я подумал – и правда, неурожайным год обещает быть, много горя людям испытать придется.
– Оптимистично, – поморщился Рябинин.
– После твоих рассказов – неудивительно, – усмехнулся Георгий. – Выпустил кишки несчастному жигану и похваляешься.
– Да будет тебе, – отмахнулся Андрей. – Неужто бандита пожалел?
Старицкий вытянул жеребца кнутом вдоль спины:
– О чем ты? Для меня, брат, как писал великий драматург, «ничего заветного нет». Каждому – свое.
– А я бы сказал: по Сеньке – и шапка.
Георгий со смешком покачал головой:
– Поднабрался ты гепеушных метафор! На глазах растешь.
* * *
«Милая дачка» оказалась воздушным строением в два этажа с верандой. Домик утопал в зелени, выше крыши покачивали кронами полувековые березы и липы.
– Поселок стародавний, – пояснил, въезжая в ворота, Георгий. – На этом месте была дача заслуженного земского врача, дряхлая и запущенная. Лачугу разобрали на дрова, поставили новый дом. Соседи – по большей части нэпманы и совчиновники.
Он обратился к домику и крикнул:
– Таня! Встречай дорогого гостя.
На крыльцо выбежала среднего роста темноволосая девушка в летнем сарафане.
– Жена?! – опешил Андрей.
– Да нет, – Старицкий подмигнул другу. – Хозяюшка. Знакомьтесь!
Георгий никогда не распространялся о своих амурных делах. Юнкером он тайком бегал на свидания к своим пассиям, неизвестным для приятелей.
Андрей с интересом разглядывал его девушку. Она была неплохо сложена, подтянута и ловка в движениях, как все, приученные с детства к физическому труду люди. На смуглом, покрытом легким загаром лице блестели живые серые глаза. Тяжеловатый подбородок и высокие скулы немного портили ее, но не настолько, чтобы не восхититься грациозной линией бедер, пикантным носиком и прелестными губками. В ней все казалось не вполне совершенным, как тот гениальный набросок, что так и не превратился в бессмертное полотно.
– Предлагаю легкий завтрак, – поманив Андрея на веранду, сказал Георгий.
– Уволь, дружище. Мне лучше отправиться в постель, – ответил Рябинин.
– Тогда идем в душевую, затем Таня покажет тебе комнату и принесет чаю. Как выспишься, будем обедать.
* * *
Андрей проснулся и увидел на стуле рядом с кроватью Георгия.
– Очнулся? – встрепенулся Старицкий. – Подымайся, обед стынет.
– А который час?
– Четвертый уже.
Обедали друзья вдвоем. Андрей осторожно справился, отчего за столом нет Татьяны.
– Зачем? – безапелляционно ответил Старицкий. – Она – девушка способная, научилась понимать, что не нужно мешать, когда в доме мои личные друзья.
– По «Домострою» практикуешь? – улыбнулся Рябинин.
– Скорее – по ситуации. В любых взаимоотношениях должны присутствовать определенные границы и запреты. Несмотря на возвышенные чувства, каждый человек по-своему относится к счастью.
– Вы давно знакомы?
– Полтора года. Татьяна – часть моей новой жизни. Помнишь, я всегда был максималистом. И в амурном вопросе – не исключение. Мальчишкой мечтал об ослепительной красавице, непременно графине! Умной, чувственной, образованной, преданной… А теперь – вот, нашел пролетарочку, дочь погибшего комиссара. Она умна тем неразвитым, пытливым и не засоренным предрассудками умом, который вершит в мире простые и великие дела; в ней – истинная природная чувственность, без сплина и родовых изъянов; она преданна не только в угоду любви, но из разумной благодарности. А что еще нужно? Воспитать ее при подобных задатках было совсем нетрудно.
– Вульгарный материализм! – сунув в рот зубочистку, хмыкнул Андрей.
– Быть может, – Георгий пожал плечами. – Однако и меня, и ее, похоже, устраивает.
Он глянул на прибор Андрея:
– Насытился? Идем к озеру.
* * *
– Купаться будем на дальнем пляже, – объяснил Старицкий. – Там народу поменьше.
Он привел друга на крошечный песчаный пятачок, обрамленный зарослями осоки и камыша. Крепкая цепь держала у берега новенький белый тузик.
Георгий разделся догола и пошел пробовать воду. Разомлевший от обильного обеда и зноя, Андрей уселся в лодку, не торопясь снял ремень с кобурой и гимнастерку. Он поглядывал на искрящуюся солнечными бликами гладь озера, прислушивался к далеким крикам невидимых купальщиков.
– Рыба здесь ловится? – Рябинин томно потянулся.
– Рыба? – обернулся Георгий. – Ты зачем ствол на пляж прихватил? На рыб охотиться?
Он звонко рассмеялся.
– По инструкции не положено оставлять без присмотра, – буркнул Андрей. – Сам знаешь.
Взбивая ногами пенную волну, Старицкий подошел к лодке:
– А ведь из тебя выйдет хороший чекист!
Георгий указал на шрам на груди Рябинина:
– Это – та самая красноармейская граната?
– Ага, – Андрей в свою очередь оглядел крепкое мускулистое тело друга. – У тебя, я вижу, тоже боевая отметина осталась.
– Ах это! – проведя большим пальцем по шраму на правом боку, улыбнулся Старицкий. – Подранили малость, – пуля скользнула по ребру.
«Локш», – мысленно добавил Рябинин. Он вдруг вспомнил, что где-то уже слышал подобное выражение. «Локш?.. Словечко какое-то воровское». – Андрей старался вспомнить, кто же сказал ему эту фразу: «Нет в самом деле интересно!»
– Так ты идешь купаться? – тряхнул его за плечо Георгий.
– Ныряй, я следом, – кивнул Рябинин.
Старицкий пошел в воду.
Внезапно перед глазами Андрей возникла полутемная каюта на заброшенном пароходе и лицо Змея: «…Я знаком с самим Гимназистом. Никто его не видел, кроме меня!.. Я его спас, натурально… Прошлым летом он утекал от оперов после гранта и схоронился в подвале, где я обитал в то время. Накинулся на меня, хотел кокнуть, но я увидал, что он раненый, и предложил помощь… Подранили его малость. Пуля скользнула по ребру, локш!..»
Дремотная сонливость мгновенно улетучилась. Рябинин зачерпнул в ладонь воды и умылся. «Вот чертовщина!.. А Жорке и впрямь подходят приметы Гимназиста! – любуясь широкой спиной друга, подумал он. – Как там, в телеграмме из Ростова: „…рост – два аршина и семь вершков; лицо правильное, глаза светло-карие, брови тонкие, изогнутые, нос короткий, волосы темно-русые…“ Похож, подлец! Вот ведь, напишут приметы – каждый курносый подпадает… Там еще было о татуировке…»
– Жора, а что у тебя на плече? – наугад спросил Андрей.
Старицкий уже по грудь стоял в воде.
– То же, что и у тебя, – повернувшись к другу левым плечом, отозвался он. – Пытался свести кислотой, да не удалось.
Рябинин с ужасом увидел то, чего так не хотел увидеть. Похолодев, он посмотрел на свое собственное плечо – там, над четкой татуировкой в виде двух перекрещенных мечей значилось: «4 У. Б.» Лишь у офицеров их 4-го Ударного батальона, воевавшего на германском фронте, имелись такие татуировки.
Сердце бешено рвалось из груди, голова гудела. «Спокойствие, необходимо успокоиться…» – убеждал себя Рябинин.
– Ныряй же! – хрипло крикнул он Старицкому.
– Терпение, – зябко поежившись, отозвался Георгий. – Ты знаешь, я боюсь воды. Ничего вот не боюсь, а воды…
«Никто лучше Жорки не подходит для роли Гимназиста! – думал Андрей. – Он – бывалый вояка, грамотный, подготовленный, жесткий и циничный. Как говорит Деревянников, нет хуже преступника, чем преступник умный и образованный».
Андрей потянулся к кобуре, достал пистолет и осторожно взвел курок.
– Жо-ра! Иди-ка сюда, – позвал он.
Старицкий слишком хорошо знал Нелюбина. Так друг Мишка мог звать его только в исключительных случаях. Георгий оглянулся и увидел направленное ему в грудь дуло «браунинга».
– Ты что, свихнулся? – нахмурился Старицкий.
– Выходи из воды, – зловеще проговорил Андрей.
– Шутишь? – натянуто улыбнулся Георгий.
Рябинин посмотрел другу в глаза и понял, что последняя надежда на ошибку рухнула: «Он, гад, Гимназист и есть!»
– На берег, быстро! – в голосе Андрея зазвенел металл. – Руки!.. Выше!
– Миш, «браунинг» – опасная игрушка! – нервно хохотнул Старицкий.
– Ежели не хочешь получить пулю, как твой приятель Фрол, выходи.
Георгий побледнел, в глазах блеснули злобные искорки.
– Ты о чем, Миша? – прошептал он.
Андрей залился долгим истеричным смехом:
– Боже мой! Наказание какое-то! Самый страшный налетчик губернии, легендарный Гимназист, неуловимый Черный Поручик, он же – Юрий Немов, он же – бывший партизан, бывший корниловец, геройский офицер-разведчик, нэпман-хлеботорговец – мой друг детства, верный друг навеки, Георгий Старицкий! Стоять, сволочь!!!
Он утер слезы с лица и взял себя в руки.
– Стреляю я прекрасно. А уж с пяти шагов – в десятку. Не будешь слушаться – вмиг отправлю к Фролу на свиданье.
Георгий покачал головой:
– Так стреляй, Миша. Лучше принять смерть от тебя, чем от других.
Рябинин сунул пистолет в карман.
– Не для того я тебя, мерзавца, на германском фронте тащил три версты раненого, чтобы вот так, как собаку, кончать.
– Тем паче, – подходя к лодке, сказал Старицкий. – У тебя есть право. Как и право работника органов.
– Для тебя я – не работник ГПУ! – отрезал Андрей. – Ты хоть понимаешь, что произошло?
Георгий сел на борт лодки:
– Я знал о том, что между нами будет размолвка, с того момента, как ты перешел служить легавым. Помнишь наш последний разговор? Мне давно пора было убираться из города…
– Одевай штаны и пойдем-ка в тень, – выбираясь из лодки, бросил Рябинин.
– А здесь что, неудобно? – хмыкнул Старицкий. – Боишься тузик кровью запачкать?
– Хочу услышать историю чудесного превращения боевого офицера в бандита.
* * *
– С чего прикажете начать, Андрей Николаевич? – покусывая сухую былинку, спросил Георгий.
– Михаил, – поправил Нелюбин. – Мы расстались в январе восемнадцатого в Петрограде, так вот и поведай о том, что случилось дальше.
– Душу заставляешь бередить? – Старицкий опустил голову.
– Переживешь. Ты же – легенда. И нашего двора, и 4-го Ударного, и преступного мира.
Георгий пристально посмотрел ему в глаза:
– Жесток ты, Миша! А я и не знал.
– Есть у кого поучиться.
Старицкий тяжело вздохнул:
– Изволь. Сначала так сначала…
Я прибыл в Ростов в конце февраля. Красные части Сиверса рвались к городу. В штабе первой Добровольческой дивизии на меня посмотрели как на кудесника: «Как вы только пробрались через позиции противника! – удивился полковник-штабист. – Большевики напирают, на счету каждый штык. У вас оружие есть? Не имеете. Ну, у нас таких патриотов – хоть отбавляй. Город все равно не удержать, ступайте в обоз, отходите к станции Аксай, там разберемся».
На следующий день Ростов был оставлен. «Добровольцы» закрепились в Ольгинской. Станица походила на огромный цыганский табор: улицы и дворы заставлены возами со скарбом беженцев; в каждой хате у печи дамы из общества в бриллиантах и мехах готовят еду защитникам Отечества; в штабе – очередь змеей, затылок в затылок: бывшие министры, депутаты, заводчики. Всюду гвалт, грязь и толчея. Штабные офицеры охрипли от уговоров, позеленели от обещаний. Рядом – строевые добровольцы, сумрачные и отстраненные. Кому-то нужно вывезти больную жену, а им завтра умирать. С трудом добился аудиенции у генерала Маркова. «Служить, голубчик, хотите? Похвально. Определяйтесь рядовым в мой офицерский полк… Ах, вы боевой командир, поручик? Да у нас, братец, там полковники с винтовками наперевес бегают! Впрочем оружия не хватает, довольствия тоже…»
Марковский полк компактно разместился в центре станицы. У каждого кадрового военного по два, а то и три «денщика» из юнкеров, кадетов и гимназистов. Последние ждали зачисления в добровольцы, стремились получить оружие и поскорее погибнуть за Россию.
Спустя несколько дней Корнилов созвал Военный совет и предложил двинуться на Кубань. Многочисленный обоз из беженцев было решено оставить для облегчения передвижения.
Армия в составе четырех тысяч человек, весьма разношерстная по составу и плохо экипированная, немедленно вышла в поход. Противник передвигался по железной дороге на бронепоездах и в эшелонах, поэтому Корнилов приказал идти пешим маршем через степь. Я очень порадовался, что прихватил из Питера теплое белье, иначе пропал бы на пронизывающем ветру. Прибывшие в Добровольческую еще осенью, многие – прямо с фронтов империалистической, офицеры мерзли без теплых вещей. Неунывающие юнкера даже сочинили жалостливую песенку: «Знаешь, мама, как продрог я на ветру!..»
Так начался наш «Ледяной поход», последний подвиг генерала Корнилова и первое испытание его армии.
Мое боевое крещение на гражданской случилось у села Лежанка. Путь добровольцам преградил Дербентский полк 39-й пехотной дивизии красных. Большевики не ожидали, что наше немногочисленное, измотанное в переходах, полуголодное и оборванное войско сможет оказать достойное сопротивление.
Однако, как только поступил приказ атаковать неприятеля, офицерские полки вышли из маршевого оцепенения, рассредоточились по полю и с отчаянным воодушевлением набросились на врага. Безоружным добровольцам велели добывать винтовки прямо в бою. Одного из офицеров сразила пуля, я схватил его «трехлинейку», но патронов в ней не оказалось. Лобовая атака для меня не в новинку, и все же, когда чувствуешь, что идешь со штыком на пулеметы, становится не по себе. Тут за спинами подчиненных не спрячешься и в воронке не отлежишься! Впереди – смерть от пули, позади – от холода и голода в степи. Здесь не до мыслей о Родине и свободе! Победа принесет теплый кров, горячую похлебку, трофейные боеприпасы…
После успеха под Лежанкой дух армии поднялся. Вчерашние мальчишки, юнкера и гимназисты превратились в воинов; офицеры вспомнили былую выучку, сплотились в одну семью.
На отдыхе между боями и походами добровольцы частенько вели разговоры о своей собственной миссии на этой войне. Лишенные нормальной человеческой жизни, оторванные от близких, огрубевшие в бесконечных сражениях люди постепенно привыкли к ореолу мучеников за родную землю, неких «ангелов освобождения», которым ради борьбы за «святую идею» дозволяется все. Офицеры-добровольцы стали почитать себя особой кастой, избранными. На мобилизованных крестьян смотрели свысока, казаков и интеллигентов презирали. Недовольство мирного населения подавлялось просто – «запороть», «повесить, чтоб другим не повадно было», «реквизировать». Кадеты и юнкера, храбростью дослужившиеся до офицерских погон и оставшиеся при этом сентиментальными детьми, ввели свирепую моду на дуэли. Стрелялись по малейшему поводу, а иногда и вовсе ради скуки. В других полках таковых было немного, а вот наши «марковцы», особые любители револьверных забав и смертельной рулетки, не раз вызывали гнев командования. От военно-полевого суда новоявленных фаталистов спасал только беспримерный героизм в боях.
Я часто думал, что связывает меня с «белой идеей» и этими людьми? Еще полгода назад, как и многие из добровольцев, я кипел злобой на поправшую вековые устои чернь, на беспринципную горстку выскочек, возымевших наглость повелевать Святой Русью.
Позже я понял, что нас, «белую гвардию», на самом-то деле объединяет и кое-что еще: все мы, русские офицеры, оказались выброшенными новой властью на свалку. Волею большевиков и разнузданной толпы, мы оказались рядом с жандармами, помещиками, спекулянтами. Мы, русские офицеры, просто ничего другого не умели делать, как стрелять, рубиться в сабельной и штыковой, водить в атаки солдат. Мы привыкли выполнять приказы, привыкли побеждать.
Начиная с поступления в училище и далее на фронте, я твердо знал, что мне делать, как поступать сообразно чести и присяге. Мою душу никогда не грыз червь вольнодумства или сомнений; всю жизнь я, словно маленький, но крепкий кораблик, шел знакомым фарватером, путь по которому указывали ясные маяки – государь, отчизна, долг.
В июле восемнадцатого вера в основы святая святых пошатнулась. Поступило известие, что большевики казнили императора и его семью. Будучи человеком, верующим в Бога лишь формально, я верил в государя, видя в нем средоточие высшего блага для народа и страны, некоего истинного смысла и вековых традиций всего русского. Узнав о гибели императора, добровольцы принялись изрыгать яростные проклятия коммунистам, давать ужасные клятвы.
Я же сидел и думал о том, что теперь в России нет высшего закона, ибо народ сам погубил государя, помазанника Божия.
Император поклонился взбунтовавшимся подданным, принял отречение, с христианским смирением отдался жизни рядового гражданина, не вступил в борьбу с народом своим. И этот самый народ, за который монарх молился и просил у Бога прощения, растерзал своего повелителя, словно презренного вора! Три столетия назад не знавший идей гуманизма костромской крестьянин мученической смертью во имя Государя и России искупил грехи Великой смуты. А его правнуки осознанно погубили помазанника Божия. Теперь любой мог нарушить завет, отбросив в сторону «гнилые предрассудки». Куда подевались совесть, справедливость, право и всевозможные «общественные договоры»? Их заменила сила, как высшее право и абсолют.
Что же мог противопоставить этому я? Обыкновенный, слабо разбирающийся в «идеях», но при этом молодой, способный, сильный и волевой человек? Такую же силу! Силу, направленную на сохранение самого себя, на борьбу за существование маленького живого организма со своими страстями, взглядами, невесть какой, но все же душой и сердцем. Подобная философия не могла мириться с моей прежней моралью и пусть поверхностной, но верой в Бога. И я их выбросил, очистил себя от ставших ненужными побрякушек, как очищают от золы очаг.
Зимой девятнадцатого Деникин договорился с командованием Донской армии о совместных действиях против красных. Добровольческая армия стала грузиться в поезда и перебрасываться в область Войска Донского.
Вскоре обстановка на фронтах начала меняться. Закаленные в боях соединения добровольцев начали теснить противника на всех направлениях. Однако командование не желало закреплять успехи, а стремилось побыстрее покончить с большевиками. Спешным порядком началась мобилизация, под ружье ставились тысячи крестьян и даже пленные красноармейцы. Сплоченные, монолитные офицерские полки превратились в дивизии и бригады. Не избежал подобной же участи и Марковский полк, опора армии, составленный из ветеранов «Ледяного похода»…
В мае я получил короткий отпуск. Поехал с приятелем в Ростов поглядеть на безмятежную тыловую жизнь, покрасоваться в парадном мундире, погулять с барышнями. Как-то вечером мы с капитаном Щегловым пошли в разгул по ресторанам и кафе. Закончили далеко за полночь в небольшом, пользующемся дурной славой заведении на берегу Дона. Уже был выпит штоф водки и завязано знакомство с весьма благосклонными к добровольцам дамами, как в ресторан ввалилась шайка налетчиков. Бандиты потребовали от посетителей без принуждения отдать им бумажники и драгоценности. Честные буржуа струхнули, а пьяные господа офицеры вообще не поняли, в чем дело.
Мой визави Щеглов, мужчина тучный и вспыльчивый, несмотря на изрядное подпитие, сумел резко вскочить и рвануть из кобуры «наган». Бандиты отличались завидным терпением – не стали устраивать стрельбу, а только лишний раз объяснили, что подымать шум не стоит. Я понимал, что на стороне налетчиков вместе с силой оружия еще и трезвое состояние. Выхватив у Щеглова револьвер, я попытался его урезонить. Атаман шайки подошел к нам. «Господин капитан неделю, как с фронта. Нервы сдают, – объяснил я бандиту. – Наши кошельки вас вряд ли заинтересуют – мы восьмой час в кутеже». – «Добро, ваше благородие», – кивнул атаман и отошел. Мне запомнилось его лицо – неглупое, решительное; лицо человека, способного на отчаянный поступок, но и, в своем роде, на благородный – тоже. Ведь он вполне мог нас погубить – только мигни подручным!
Три дня спустя, уже под утро, я возвращался на квартиру. Прямо у дома меня обогнал человек и скользнул в мое парадное. Где-то за спиной, у перекрестка затопали сапоги, звонкой трелью залились свистки патрульных. «Офицеров-дебоширов ловят. Или солдат без „увольнительной“», – подумал я и вошел в парадное. Там, прижавшись к стене, стоял беглец.
– Какого полка? – скуки ради спросил я.
Человек не отвечал. Я зажег спичку. Передо мной мелькнуло лицо недавнего бандита из ресторана.
– А, старый знакомый! – улыбнулся я. – Вижу, сегодня фортуна тебе изменила.
В его глазах я не заметил страха, только легкую досаду.
– Стой здесь, – сказал я. – Отплачу тебе добром за Щеглова.
Я вышел на улицу. Патруль уже был рядом с моим парадным. Представившись, я спросил старшего, в чем дело.
– Жиганы в «ювелирный» залезли, – выдохнул низенький фельдфебель. – Соседи приметили свет в окошке, забили тревогу. А мы и тут как тут! Один сюды побег. Все отстреливался, да патроны кончились. Не видали, ваш-бродие, куда он делся?
– Дальше по улице, в проходной двор нырнул.
Патрульные козырнули и бросились вдогонку. Спасенный налетчик покуривал на ступеньке парадной лестницы.
– Заячьих тулупчиков вы мне, барин, в прошлый раз не подарили, ну уж я-то за добро отблагодарить смогу! – прищурившись, сказал он.
Бандит вытащил из-за пазухи холщовый мешок. Внутри оказались золотые украшения из «ювелирного». Налетчик, не глядя, зачерпнул горсть побрякушек и сунул мне.
– Думал, откажусь? – усмехнулся я, засовывая драгоценности в карман. – Ошибаешься. Любая услуга должна оплачиваться.
Уже собираясь идти, я вспомнил:
– Кстати, откуда знаешь о «заячьем тулупчике»? Неужто Пушкина читал?
– Читать не читал, – ответил мой бандит. – «На казенке» был у нас политический, вечерами потешал шарагу разными историями. Так вот все книжки и выучил.
Он выглянул на улицу:
– Никак пронеслись, черти. Ну, бывай, ваше благородие, может, свидимся. А мне еще, по твоей милости, генералу Кукушкину гамуру ставить! [161]
– Звать-то тебя как? – вдогонку спросил я.
– Федькой.
Так я и познакомился с Фролом.
3 июля Деникин отдал свой знаменитый приказ № 08878 о походе на Москву. Отборным частям Добровольческой армии – Корниловской, Марковской и Дроздовской дивизиям доверили честь наступать на столицу. Начались упорные бои. 20 сентября мы взяли Курск; 6 октября 3-й Кубанский корпус Шкуро ворвался в Воронеж. Казалось, до Белокаменной – рукой подать!
Опытные офицеры понимали, что наступление Деникина – авантюра, отчаянный, дерзкий ход ва-банк. Шаткая договоренность с казачеством не могла быть долгой, и потому Главнокомандующий хотел ее побыстрее использовать. Время играло против нас – в тылах развернул настоящую войну Махно, лютовали сотни других банд, плело заговоры большевистское подполье. Новобранцы воевали из-под палки и при первой возможности дезертировали целыми полками. Склоки и вражда раздирали офицерский корпус. Заносчивые кадровые вояки не выносили произведенных в чин вчерашних лавочников и сынков фабрикантов. Последние с презрением называли нас «ландскнехтами» и «джентльменами удачи». И, по правде говоря, они не ошибались. Осознавая свою исключительность, ветераны-добровольцы тем не менее начинали понимать, что они– бездушное пушечное мясо в руках высших командиров и тыловых политиков.
С казачеством заигрывали, интеллигентов убеждали, с фабрикантами и помещиками считались; нас же просто гнали вперед под пули и снаряды, бросали на самые трудные участки, не обращая внимания на превосходство сил противника, нашу усталость и потери. Ничем мы были не лучше ландскнехтов и «джентльменов удачи». Как и для них, единственным средством существования кадровых офицеров стала война, каждодневная игра в «орлянку» с судьбой.
Между тем успех Добрармии продолжал развиваться. Красные несли громадные потери. По словам пленных, в отдельных дивизиях оставалось не более пятисот штыков, а некоторые вообще разбежались. Учитывая это, противник спешно перегруппировывался, подтягивая резервы, и бешеными темпами мобилизовал новые соединения. Вскоре мы поняли, что победы Добровольческой оказались пирровыми.
В ожесточенных боях за Орел один только Корниловский полк потерял четыреста бойцов. Героический порыв выдыхался, а подкрепления не прибывали.
13 октября под Орлом меня легко ранило в руку. Полковые и дивизионные лазареты были переполнены до отказа. Раненых эшелонами отправляли в тыл, но поездов не хватало, и поэтому многих размещали в походных госпиталях вдоль железной дороги. Я очутился в селе, где находилось на излечении около шести тысяч человек, треть из которых валялась в тифу. Условия там были самые кошмарные, не хватало даже бинтов. А между тем госпиталь все пополнялся. Наконец через неделю на близлежащую станцию подали санитарный поезд. Тифозных грузить не разрешили, – тащить заразу в глубокие тылы никто не хотел.
Эшелон доставил раненых в Курск. «Тяжелых» поместили в гарнизонный лазарет, остальных – по квартирам. О шикарных апартаментах здесь не могло идти и речи – поставили на постой в обыкновенную избу с печным отоплением и удобствами во дворе. Хозяин дома, молчаливый слесарь, выделил мне койку в слегка облагороженном чулане. Эту тесную для проживания даже одного человека клетушку мне предстояло разделить со вторым постояльцем – хрупким большеглазым мальчишкой с унтер-офицерскими нашивками на погонах.
На вид ему было лет двенадцать, хотя он уверял, что уже исполнилось четырнадцать. Мальчишка походил на отпрыска фамилии «голубых кровей»: хорошие манеры, вбитые с пеленок гувернерами, начитанность, знание языков. Он и в самом деле был сыном графа Ристальникова, крупного землевладельца, расстрелянного большевиками. Звали его Аркадием. До октября семнадцатого состоял в кадетах, потом болтался при всяческих антибольшевистских формированиях, вплоть до бандитских. Последние полгода Аркадий служил вестовым при офицере связи курского градоначальника.
В действующей армии и тыловых гарнизонах подобных юношей хватало. Офицерских званий до достижения положенного возраста им не давали. По большей части они таскали донесения, иногда несли караульную службу и даже участвовали в боях. Все эти мальчишки либо просто красовались в военной форме, либо, очертя голову, искали приключений, не считаясь с опасностью и не разбирая средств для достижения своих целей. Аркадий являлся исключением. Он презирал штабную рутину и позерство и при этом со здоровым сарказмом смотрел на бесшабашных фронтовых удальцов. Юный граф оказался не по-детски ироничным и во многом разочаровавшимся человеком. Причиной тому было вовсе не стремление выделиться – юноша успел многое повидать на своем коротком веку. В минуту откровения он рассказал мне, как полгода назад, будучи в дозоре, в одиночку оборонял железнодорожный разъезд от конной разведки красных. Завидев неприятеля, взрослые сослуживцы Аркадия разбежались, а мальчишка не оставил пост и начал отстреливаться. Противник, по всей видимости, не хотел задерживаться у никчемного разъезда и, уклонившись от боя, продолжил свой путь.
– Трое взрослых мужиков драпанули [162], а я, которого они за глаза называли «довеском», остался выполнять долг! – с горькой усмешкой говорил Аркадий. – После перестрелки я плакал, как девчонка. Не от страха или слабости, – от сознания того, что с такими солдатами, как мои однополчане, нам никогда не победить. Стоит ли дорожить бестолковой, подлой жизнью, если в ней нет чести и красоты?
Сам Аркадий жил красиво и с размахом, какой только мог позволить себе четырнадцатилетний унтер-максималист. Он отчаянно играл в карты и на бильярде, нередко обыгрывая взрослых; водил дружбу со всяческими темными личностями, знающими, где достать дефицитные продукты, спички, самогон и «марафет»; регулярно упражнялся в стрельбе. При этом мой юноша соблюдал некоторые жесткие запреты – не курил, не употреблял спиртного, тщательно следил за внешним видом и чурался девочек.
– Я, как-никак, граф! – начищая до блеска сапоги, приговаривал он. – Уподобляться пьяным солдафонам мне не к лицу. А девчонки? Их на мой век еще хватит, успею.
Так мы прожили недели две. Я бездельничал, ходил в лазарет на осмотр к докторам, слонялся по городу. Аркадий с утра пропадал на службе, вечером коротко пересказывал мне новости и пропадал до петухов. С рассветом он будил меня и пускался в философские разговоры.
В начале ноября мы узнали, что красные прорвали фронт. С каждым днем в город прибывали тысячи беженцев. Население и гарнизон обуяла дикая паника. Я ходил к коменданту за распоряжениями. Там отвечали: ждите отправки в часть. Рана на моей руке уже зарубцевалась, почти зажила и напоминала о себе лишь тоскливым нытьем «под погоду».
Как-то раз мой сосед вернулся около полуночи и без церемоний улегся спать. Впрочем, я слышал, что сон ему не шел – Аркадий ворочался и тяжело вздыхал. Поднялся он чуть свет и принялся собирать вещи. Не успел юноша уложить чемодан, как в дверь нашей клетушки постучали. Аркадий тревожно заметался и даже попытался выпрыгнуть в окно.
– Это за мной! Сейчас меня арестуют! – ответил он на мой вопрошающий взгляд.
Я схватил мальчишку за шиворот, толкнул в погреб и пошел отворять. На пороге стояли офицер и караульный наряд. Командир спросил о Ристальникове. Представившись, я ответил, что уж сутки его не видал. Офицер поверил и, козырнув, ретировался. Я вытащил Аркадия из подвала и справился, в чем дело.
– Обыграл вчера одного молодого прапорщика, – буркнул он, – обидно ему стало. Вызвал меня на улицу и попытался отнять деньги. Я – за пистолет, прапорщик – тоже. В какой-то момент я испугался, что он выстрелит, взял да и выпалил первым. Ну и…– труп.
Дальнейшее мне представилось четко и ясно: покойник-офицер, старший по званию; немедленный трибунал и – к стенке. Мне стало жаль Аркадия.
Я решил ему помочь выбраться из города.
– Мне бы только в эшелон сесть, – сокрушался мальчик. – А там уж я сам до Махно доберусь.
– Так ведь он – бандит! – парировал я.
– Пусть, – упрямо мотнул головой Аркадий. – Скоро нам ничего не останется, как податься в бандиты. «Свалят» нас большевики, и останемся мы без работы.
В душе я понимал, что парень прав: «Пусть стойкие борцы за идею да полоумные идиоты продолжают обороняться до конца. Факт налицо: война проиграна. А раз так, „ландскнехты“ жалованья не получат и могут сами выбирать свою судьбу». Я предложил Аркадию вместе попробовать добраться до Ростова.
Какова будет моя дальнейшая судьба, я не представлял, но отчетливо понимал, что моя военная карьера закончилась.
Глава XXVII
– Приказав Аркадию сидеть дома, я отправился на станцию. Там собрались тысячи людей в ожидании свободных мест в поездах и эшелонах. До темноты я промотался, ища среди командиров отбывающих от станции частей знакомых, да все без толку.
Наутро пошел в комендатуру. Гарнизонное начальство ответило все тем же – ждите. Пришлось вернуться на вокзал. К обеду сбился с ног от беготни вдоль составов, устал от разговоров с офицерами и унизительных просьб. Наконец плюнул и отправился на квартиру.
На привокзальной площади мне почудилось в толпе знакомое лицо. Я пригляделся. По площади, в окружении пятерых молодцов, одетый в дорогую шубу, шагал мой ростовский налетчик Федька! Заметив меня, он приблизился.
– А-а, ваше благородие! – осклабился он. – Шинелишка рваная, ручка на привязи. Никак ранены? Не шибко?
Узнав о моих планах, Фрол великодушно предложил подвезти нас с Аркадием. Оказалось, Федькина шарага подрядилась охранять местного дельца, следующего в Мариуполь.
Через час Федька встретил нас с Аркадием в условленном месте. Поезд из трех вагонов поджидал на дальнем пути. Вид состав имел весьма внушительный – спереди к паровозу была прицеплена платформа с установленной на ней пушкой, вокруг стояло оцепление из местной комендатуры, внутри поезда дежурили восемь парней при оружии. Фрол пояснил, что «хозяин поезда» – подрядчик Добрармии, который «вандает» со всеми капиталами в Севастополь, и что штабное начальство «подмазано рыжьем до глотки».
Федькиной шайке выделили хвостовой вагон, отгородили от прочих владений запертой дверью и обвешанным пистолетами верзилой. Трое подручных Фрола притащили кованый сундук, приставили к нему караульщика и отправились закусывать. Нас с Аркадием пригласили разделить ужин.
К вечеру поезд тронулся и через полчаса благополучно выбрался из паутины привокзальных путей. Насытившись, напившись самогона, бандиты разошлись по купе отдыхать. Федька подозвал меня к сундуку и похвастался, что внутри – его добыча. Месяц назад в одном из ростовских ресторанов сын курского промышленника «под марафетом» рассказал Фролу о спрятанных отцом в подвале их дома в Курске ценностях. Федька собрал «верных поддужных» и покатил «на гастроль». По его словам, в сундуке находились не только малопригодные «катеньки» [163] и «керенки» [164], но и «булатные червонцы» [165], а также куча дорогой посуды.
Провернуть «операцию» оказалось задачей не из легких; шайка с большой осторожностью пробралась в Курск, где вела себя тихо, дабы не возбуждать подозрений среди местных жиганов и военных властей. То, что им удалось улизнуть из города с поездом дельца-подрядчика, Федька считал редкой удачей и знаком судьбы. Я отважился спросить, почему делец рискнул взять с собой незнакомых, явно лихих людей.
– Этот змей фраерам не доверяет – считает всех продажными, кроме своих восьмерых барбосов, – ответил Фрол. – От военного конвоя тоже отказался – видать, побаивается, что кто-либо узнает о награбленном добре. А сложилось-то у нас вот как: в том самом сундучке из подвала нашлись статуэтки старинные – барахло для нас никчемное, того и гляди, разобьешь в куски. Сунулись к одному барыге, а тот говорит: антиквариат – послал к человечку, который падок на такую дрянь, к этому самому дельцу. Видит, что мы нездешние, «на гастроле», хотим свандать отсюда побыстрее.
«А много ли у вас старинных вещиц?» – хитренько так спрашивает делец. «Да еще штуки три-четыре», – отвечаю я. – «Вот вы мне их отдайте, а я вас до Мариуполя доставлю».
Заодно взял, скотц [166], с меня варнацкое слово, что при нужде помогу его кодле отбиться от недобрых людишек. На том и порешили…
Поезд шел медленно, с многочисленными остановками и задержками. Несмотря на то, что состав был не воинский, локомотивные бригады нам меняли исправно, – очевидно, делец запасся нужными бумагами от высоких покровителей из Ставки.
Утром «воровской вагон» пришли проверять двое парней из охраны. Придирчиво оглядев нас с Аркадием, они поманили меня с собой. В одном из купе второго вагона скучал за книгой человек средних лет, с желтым болезненным лицом. Он заявил, что знает о неожиданных попутчиках Федора и желает с ними познакомиться. Я представился и поведал байку о «секретном пакете» для Главнокомандующего. Делец как будто не поверил, но предложил мне и «мальчонке», как людям «с виду приличным», перебраться в его вагон, подальше от «вольной братии». Я не преминул воспользоваться его любезностью, так как, в свою очередь, считал нашего хозяина человеком приличным и менее опасным, нежели бандиты.
Ночью меня одолевала бессонница и тревожные мысли о будущем. В соседнем купе делец совещался со старшим охраны. Дверь щелкнула, главный страж прощался с хозяином на пороге. Я чуть-чуть приоткрыл дверь и прислушался.
– Значит, понял? Как только проскочим махновские рубежи – кончайте всех, – негромко напутствовал подчиненного делец.
Я понял, что его слова относились к Федькиной компании. А может, и к нам с Аркадием? Бандиты не сделали мне ничего дурного, более того, Федор был мне даже симпатичен. Я ни секунды не колебался и пошел в «воровской вагон».
Фрол сразу оценил ситуацию и крепко задумался. Я решил взять инициативу на себя:
– Делец меня не опасается. Давай-ка пару бомб, второй револьвер и отправь двоих-троих ребят по крыше к окну моего купе. Я зажгу свет.
– По крыше? – испугался Федька.
– Жить хочешь? – в упор спросил я. – Не уверен в своих молодцах – иди сам. Двое охранников стоят «на часах» в коридоре, остальные дрыхнут в разных купе. Двое в первом и трое – в последнем; старший – в пятом, по соседству со мной. Сам делец едет в третьем. Рискнем подстрелить их всех.
Вернувшись к себе, я разбудил Аркадия и объяснил обстановку.
– Сядь в угол и жди, – приказал я.
Мальчик не испугался, напротив, деловито проверил свой «манлихер» и обещал «быть в резерве».
Вскоре в окно постучали. Я опустил раму и втащил внутрь Федьку и двоих его товарищей.
– Остальные ненадежные, – шепотом пояснил Фрол.
– Я пойду покурить, – оборвал я его, – по пути «сниму» одного из охранников и брошу бомбы в последнее купе. Вы тут же бегите по вагону, бейте остальных. Охрана дверей не запирает, я заметил. Дельца в расчет не берите, он нам не помешает.
– У него «шпалер» имеется, – покачал головой Фрол, – сам видал. Такая рысь [167] на любую падлу готова.
Я глянул на Аркадия:
– Подстрахуешь?
Юный унтер-офицер невозмутимо кивнул:
– Разумеется, Георгий Станиславович.
Я вышел в коридор, лениво прошел в конец вагона, бросив охраннику, что иду на тормозную площадку – покурить на свежем воздухе. Как только он отвернулся, я выхватил «наган» и выстрелил ему в голову. Тут же бросился к последнему купе, рванул дверь, швырнул на каждую полку по бомбе и повалился на пол.
В другом конце вагона трещали выстрелы, грохотали взрывы, истошно кричали люди. Пролежав до тех пор, пока не наступила тишина, я поднялся и осторожно пошел по вагону. Коридор освещала единственная оставшаяся целой лампа. Пороховая гарь резала глаза. Навстречу, держась за плечо, ковылял Федька.
– Всех уложили, – бросил он. – И моих двух корешей – тоже. Успели, фраерки, взяться за игрушки!
В этот момент в коридоре показался делец. В его трясущейся руке был маленький пистолет. Не успели мы опомниться, как дверь четвертого купе приоткрылась и раздался выстрел. Делец упал навзничь.
– «Манлихер»! – по звуку определил я. – Не подвел Аркашка, подстраховал.
Юноша неторопливо вышел в коридор и осмотрелся. Шутливо перемигнувшись, мы с Федором внимательно наблюдали за ним. Аркадий не выказывал ни малейшего волнения. Он прошелся по вагону, с брезгливой миной заглядывая в изуродованные взрывами и пулями купе.
– Мертвяков надо бы выбросить. И окна открыть, – сказал он.
– Сходи за моими пугливыми корешами, пускай они покорячатся, – крикнул ему Федька.
Я осмотрел руку Фрола и сделал перевязку. Беспокоиться не стоило – пуля лишь немного задела плечо.
Федьке не терпелось посмотреть богатства дельца. Мы отыскали у него в кармане ключи и отправились в первый вагон.
Два купе были забиты сундуками, корзинами и чемоданами. Кроме домашнего скарба, вороха дорогой одежды, коробов с едой и выпивкой делец вез ящик с золотыми слитками и восемь мешков бумажных денег и облигаций. Нашелся и увесистый ларец с драгоценностями. Федька сиял:
– Ну, ваше благородие, я у тебя в вечном долгу! Не только жизнь мне спас, но и оделил по-царски. Половина дувана [168], законно, твоя.
– Рано радуешься, – возразил я. – Надо еще до Ростова добраться. А это нелегко! На станциях – патрули и караулы, всюду полно войск. Нам потребуется менять локомотивные бригады.
– Да наверняка у дельца на такие случаи мудреные бумаги имеются! – отмахнулся Фрол. – Авось проскочим.
– С вашими-то, извиняюсь, бандитскими рожами? – расхохотался я. – Кто вам поверит? Любой станционный комендант сразу почувствует подвох. Без моей помощи вам не обойтись. Не довезти тебе, господин Федор, до Ростова ни людей своих, ни добычи.
– Так командуй, ваше благородие, мое слово! – Фрол шутливо поклонился. – Мы теперь одной веревочкой повязаны.
– Вот, значит, как: распорядился! – Я продолжал смеяться. – Нет, голубчик, так мы не договоримся. Предлагаю следующее: ты и твои люди поступают в мое полное распоряжение. Приказам подчиняться беспрекословно. Добычу будем делить поровну по приезду в Ростов. По рукам?
– Выходит, ты будешь мне законным партюром? [169] – уточнил Федька.
Он ухмыльнулся и протянул руку:
– Уговор, согласен.
Среди бумаг покойного дельца мы отыскали предписание, подписанное самим генералом Романовским, начальником штаба Деникинской армии, в котором приказывалось всем начальникам станций и гарнизонов содействовать в продвижении состава полковника интендантской службы Суханова В. К., «выполняющего особо важное и секретное поручение Ставки». Это и был наш драгоценный пропуск.
Нашлось и новенькое полковничье обмундирование, несколько комплектов формы рядового состава Добрармии со знаками различия интендантской службы. Я облачился в полковничий мундир и приказал переодеться своим бандитам. Аркадий хихикал и острил на французском языке.
На рассвете поезд подошел к станции Купянск. Здесь наша локомотивная бригада должна была смениться. На путях – не меньше полусотни эшелонов, сумасшедшая беготня солдат, крики и брань. Строго приказав своей компании сидеть в вагонах и не высовываться, я отправился на разведку.
Через пару часов утомительной толчеи в здании станции из разговоров с офицерами стало ясно, что часть эшелонов двигается в сторону линии фронта для обеспечения контрудара, остальные в противоположном направлении везут раненых и многочисленных беженцев. В первую очередь пропускались воинские эшелоны, в промежутках, с большой волокитой и скандалами, отправляли составы «тылового направления». Рано или поздно мой паровоз должны были загрузить углем и водой, а вот получить локомотивную бригаду пришлось бы не скоро.
Я вернулся к своим и потребовал у Федьки выделить из богатства дельца золотой слиток, банку зернистой икры и шампанского.
– Да ты что, ваше благородие, с ума спятил? – Фрол округлил глаза. – За такой капитал можно новый паровоз заиметь!
– Паровоз – может быть, – согласился я. —
А кому прикажешь уголек в топку швырять?
Уложив в симпатичную корзинку дары, я пошел к станционному начальству. Размахивая предписанием Романовского, после ругани, посулов и угроз мне удалось-таки прорваться к коменданту. Бумага начштаба Вооруженных сил Юга России и щедрое подношение сделали свое дело: в течение ночи нас обещали отправить, правда с непременным условием, что к нашему составу прицепят пять санитарных вагонов.
Это тоже было неплохим пропуском, и я горячо поддержал коменданта. Срочно вызванного начальника санитарного эшелона я строго-настрого предупредил, что выполняю особо секретный приказ Ставки и не потерплю появления его подчиненных на своей «территории». Тот согласился.
Около четырех утра мой локомотив загрузили топливом. Битый час ждали бригаду. Наконец, я приказал Аркадию отнести коменданту ящик коньяку и полмешка бумажных денег. Не успел мальчишка вернуться, как появились железнодорожники, и был дан зеленый свет.
Та же история, только значительно «малой кровью», повторилась и на других станциях…
Не доезжая верст семидесяти до Горловки, наш машинист неожиданно дал протяжный гудок. Я выглянул в окно. Через степь к железнодорожной насыпи приближался конный отряд. Спешно созвав свою команду, я велел Аркадию выставить в окно пулемет и начинать стрелять, когда отряд подойдет ближе трехсот сажен [170]. Мои бандиты занервничали.
– У нас всего-то-навсего две пулеметные ленты! – орал, тыча в грудь Аркадия, Мотя-Одессит. – Или этот шкет собьет всю ораву?
Оторвавшись от бинокля, Федька доложил:
– Без погон. Как есть махновцы!
Он испытующе заглянул мне в глаза:
– Может, попробуем договориться с братвой, а?
– Бесполезно, – отрезал я. – Марш за мной на платформу!
Мы побежали к паровозу. Вся локомотивная бригада металась с лопатами от тендера к топке.
– Поддай, ребята! Уйдем от банды – озолочу! – крикнул я машинисту.
На прицепленной спереди к паровозу платформе я быстренько осмотрел полевое трехдюймовое орудие, проверил боеприпасы, приказал развернуть пушку в сторону неприятеля и поднести снаряд.
– Берите из ящиков слева, шрапнельные, – пояснил я моим «бойцам».
– Так ведь тут всего-то-навсего восемь штук! – возопил Мотя-Одессит.
Конники шли наперерез и были уже в полуверсте от нас. Раздался мерный стук пулемета: Аркадий начал стрельбу. Откуда-то сзади из окон санитарных вагонов затрещали винтовочные выстрелы, – забеспокоилась немногочисленная охрана санитарного состава. Выпустив два снаряда для пристрелки, я стал накрывать идущих в хвосте отряда всадников.
– Передние! Передние-то совсем близко! – кричал Фрол.
Когда вылетел седьмой снаряд, отряд начал откатываться. Федька утер мокрый лоб и с уважением посмотрел на меня:
– А я уж решил: пропадем, – улыбнулся он. – С тобой рядышком, ваше благородие, и впрямь в Бога уверуешь – второй раз нас спасаешь!
Мне вдруг стало ясно, какой властью, сам того не ведая, я стал обладать над Федькой и его шайкой: «А все-таки прав был покойный делец: уголовники не продадут, коли решили, что обязаны кому-либо по гроб жизни…»
Поезд нес меня по бескрайней степи. Никакие обязательства, правила и запреты уже не связывали меня с прошлым; я ощущал непостижимую доселе свободу, пусть эфемерную, недолговечную, но безмерную и опьяняющую…
Комендант станции Горловка, несмотря на предписание Романовского и подарки, предупредил, что сможет отправить мой поезд не раньше, чем через сутки. Вся честная компания предалась безделью и игре в карты на «доли» причитающейся каждому добычи. Федька наведывался в поселок, принося пищу и последние новости. К вечеру он притащил с собою разбитного брюнета лет тридцати, объявив, что это – его «киней во веки вечные», Фима-Габардин. Фрол пояснил, что Фима с шарагой кочует из Екатеринослава в Таганрог и что здесь, в Горловке, они по причине острых проблем с транспортом «встали на якорь прочно». Фима просил взять его в сотоварищи: «хошь до Таганрогу, а хошь – ваще, коли есть фартовые дела», – однако Федька кивнул на меня:
– У нас, Габардин, только атаману такое решать.
Аркадий многозначительно присвистнул, а Федькины жиганы согласно покивали.
Я согласился взять «Фимкину шарагу» «на борт» при условии безоговорочного подчинения. Вскоре к поезду подвалило дюжины полторы мужиков, откровенно жуликоватого вида. Компанию сопровождала нагруженная узлами телега с тремя весьма живописными юными «маркитантками».
– Ну-у, пошло веселье! – закатив глаза, расхохотался Аркадий.
Наши новые попутчики оказались ворами-майданщиками. Они почитали обычаи «вольной братии» и, следуя данному их главарем слову, отнеслись ко мне с подобающим уважением.
Среди этой лихой, но в целом довольно симпатичной ватаги неприятным казался лишь один: брюзгливый, согнутый в три погибели старец лет под семьдесят, в видавшей виды лисьей шубе. Меня заинтересовало, как попал сей древний мухомор в компанию удалых молодцов.
Фима-Габардин терпеливо объяснил, что ворчливый дед – легендарный разбойник Васька Голый, непререкаемый авторитет уголовного мира, за плечами которого были беспримерные налеты времен царя-батюшки Александра Миротворца, десять лет тюрьмы, два побега и, наконец, бессрочная сахалинская каторга, с которой Васька сумел-таки вернуться живым. По словам Фимы, Голый давно считался «старшим шлиппером», то есть вором, прекратившим деятельность, но поддерживающим связь с уголовным миром. Фимкина шарага, к которой старый разбойник прибился еще весной, уважала его, помогала деньгами и ласково величала «дядей Васей».
На следующее утро нам разрешили ехать. Выбравшись в чистое поле, воровская братия пожелала устроить праздник. Я спросил совета у Федьки.
– Пусть гуляют, – он махнул рукой. – Ребятки они шумные, но безвредные. Опять же, слово дали. Да и мы с ними подгорчим за счастливое окончание трудов.
Очень скоро мой поезд напоминал пиратский фрегат на отдыхе: рекой лилось вино и самогон, отчаянно заливались гитара и гармошка. Сквозь табачный дым, пение воровских песен и визгливый смех девок настойчиво пробивался трескучий, менторский голос старшего шлиппера дяди Васи, поучавшего кого-то уму-разуму.
– Вот она, Георгий Станиславович, птица-тройка двадцатого века! – с улыбкой бросил мне Аркадий. – Несемся невесть куда, а – хорошо!
Я справился о причинах его приподнятого настроения.
– Печалиться-то не о чем, – юноша пожал плечами. – Мосты сожжены. Тем не менее из всего следует извлекать пользу. Жиганы – люди опасные, но и мы с вами – не овечки. Я слышал, как они вас добрым словом поминают. С вашим умом легко стать настоящим атаманом!
В душе я с Аркадием согласился, и все же спросил:
– Зачем?
– Доберемся до Ростова, скопим побольше денег и – за границу!..
На подъезде к Иловайской наше движение было остановлено скопившимися впереди эшелонами. Ко всему прочему разъезды славной белогвардейской конницы проверяли составы. Я запер «вольную братию» в последнем вагоне и приказал вести себя тихо. Однако это не помогло: явившийся со станции есаул принял предписание Романовского и поехал с ним к начальству, приставив к поезду охрану. Федька предложил найти в округе тачанки и ехать к Ростову через степь – напрямую оставалось верст сто пятьдесят. На том и порешили.
Тем временем вернулся недоверчивый есаул и объявил, что, хотя мои документы в порядке, ждать отправки придется не меньше трех дней.
Фрол и Аркадий поспешили к станции. Вскоре они возвратились с хорошими известиями. Федька нашел какого-то «буржуя», желавшего купить поезд! Фрол пояснил, что этот «акряный делец» [171] не может расстаться с многочисленным фамильным добром, для вывоза которого ему понадобился целый состав.
Впрочем, как добавил Аркадий, и трех вагонов было вполне достаточно. О покупке «тачанок» с лошадьми Федька тоже сумел договориться.
На закате подъехали мужики с бричками и «буржуй» в запыленном автомобиле. Наш состав из трех вагонов дельца, санитарного эшелона, паровоза, платформы с пушкой и даже с машинистом и кочегарами был продан скопом за пятьсот «булатных» червонцев и два фунта кокаина. В придачу покупателю достался старший шлиппер дядя Вася, не пожелавший сменить уютный вагон на зыбкую тачанку. За доставку «милого старичка» дяди Васи в Таганрог «буржуй» получил мешок облигаций и пять последних бутылок «Клико».
Погрузив добычу в экипажи, мы покатили в степь.
До Ростова добрались без особенных приключений. На полпути Фимкина шарага все-таки приняла решение двигаться к Таганрогу, а мы с Аркадием, Федькой и тремя его подручными поехали дальше.
В Ростове Фрол помог нам с Ристальниковым выправить фальшивые документы и сбыть часть добычи. Беглые поручик-корниловец и юный унтер-офицер предались безудержному «отдыху». Я беспробудно пил и транжирил деньги на красоток, благо их в ту пору можно было найти любых титулов и состояний; Аркадий совершенствовал свои навыки в карточной игре и на бильярде.
Недели через две, будто фантом в винном мареве моей квартиры, возник Федька.
– Этак вы, ваше благородие, весь аржан [172] проюродничаете [173], – оглядев заваленную бутылками и букетами живых цветов комнату, проговорил он. – Собирайтесь, дело есть. Только нам вместе его и провернуть.
Замысел состоял в организации «народного патруля», или «разгонки». С конца ноября Ростов буквально переполнился беженцами. День и ночь их доставляли поезда, речные пароходы и баржи, кареты и крестьянские телеги. Прибывая в город, несчастные искали постоя. Круглые сутки бродили они по улицам, отягощенные пожитками. Нередко беженцев останавливал воинский патруль – проверял документы, а явно подозрительных задерживал и препровождал в комендатуру «для выяснения».
Иногда патрульные оказывались не теми, за кого себя выдавали: под прикрытием армейской формы действовали опытные преступники. Федька не во многом отошел от принятой бандитами практики: он достал воинское обмундирование и снял в центре города квартиру, которая была обустроена под «комендантский пункт». Несмотря на весьма банальный, по воровским меркам, способ грабежа, Фрол имел достаточно оснований, чтобы к нему прибегнуть.
– Фраер, которого надлежит гимануть, непростой, – рассказывал Федька. – С виду обычный фусан, что драпает от Совдепа. Всего добра – три чемодана, жена да пацаненок. Однако ж в поклаже не кружевное барахло, а чистое рыжье! Фраер тот – видный ювелир из Миллерова, один мой поддужный его признал – он по малолетству у того сазана [174] в истопниках корячился.
Покамест наш ювелир поселился у кореша своего, протоиерея Полидора. Только вот у патлатого жить – что на майдане [175]: у святого отца детей пятеро душ, да попадья горластая в придачу; потому решил наш сазан отдельно квартироваться, съезжает завтра после обеда. Мои ребятки его стерегут, даже подрядились воду носить. Вот от кухарки об отъезде-то и прознали.
Я поинтересовался, отчего Федору понадобилось именно мое участие.
– Помню, ваше благородие, слова твои о том, что рожи у нас с корешами «явно бандитские», потому и не хочу рисковать. Ваша-то офицерская стать никого не смутит! Ты только скажи – сей момент притащим и мундир нужный, и аксельбанты. Да и сами прилатаемся [176], как положено.
Вечером я спросил совета у Аркадия. Он только пожал плечами:
– Мы уже влезли в этот промысел по уши, остается лишь глотнуть воздуха и – нырнуть с головой. Меня в свою компанию взять не желаете? А то я, знаете ли, вчерашней ночью вдрызг проигрался.
На следующий день ювелир из Миллерова собрался переезжать на новую квартиру. Горничная его приятеля, отца Полидора, выбежала на улицу за извозчиком. Зафрахтованная Федькой пролетка ожидала неподалеку, на козлах сидел Мотя-Одессит.
Ювелир с семьей и вещами спустился к экипажу и покатил. В условленном месте стоявший на тротуаре патруль подал вознице знак остановиться. Капитан и двое солдат подошли к экипажу. Офицер приказал главе семейства предъявить документы. Придирчиво рассмотрев их, командир патруля предложил «господину и его домочадцам» проехать «для выяснения некоторых деталей». Попыхтев и посетовав на казарменный формализм, ювелир согласился. Патрульные попросили пассажиров потесниться, уселись в пролетку и велели извозчику трогать.
Когда экипаж остановился у обыкновенного трехэтажного дома, ювелир справился, куда же их привезли. Офицер объяснил, что в одной из квартир находится «комендантский пункт». Капитан обещал выяснить все формальности касательно документов по телефону.
Внутри «комендантского пункта», имевшего вид полковой канцелярии, дежурил молоденький унтер. Он предложил задержанным подождать в соседней комнате, а вещи оставить на его ответственное попечение. Как только несчастные вошли в комнату, дверь за ними замкнули на запор, патрульные перенесли чемоданы в пролетку и уехали.
Доподлинно известно, что успех опьяняет. В особенности, если человек к нему не привык. И дело вовсе не в самолюбии – вкус успеха очень уж сладок. Мы с Аркадием быстро втянулись в «Федькину работу». Его банда была довольно крупной, в восемьдесят человек, но плохо организованной и чересчур демократичной. Я постарался навести порядок. И это удалось: авторитет Фрола и мое упорство превратили наше сообщество в четко отлаженный преступный механизм. Неуемной жадности и всеядности шайки я противопоставил принцип целесообразности, тщательной подготовки дела и применения «крайних мер» только в особых случаях. Банда отказалась от мелких и глупых налетов, стала заводить знакомства с чиновниками и офицерами контрразведки. (Подкуп процветал всюду: каждый представитель власти понимал, что через месяц-другой в город войдут большевики, и поэтому бессовестно брал взятки.)
Рьяные сторонники «воровской вольницы» были изгнаны, их ряды я восполнил беглыми и отчаявшимися офицерами-добровольцами. Верной опорой мне стали Аркадий (именовавшийся теперь Кадетом) и поручик-дезертир Алексей Артемьев.
Поначалу только варнацкий авторитет Фрола «освящал» наше сообщество и давал ему «легитимность» по сравнению с многочисленными шайками фраеров и залетных удальцов. Однако очень скоро и моя собственная фигура стала представлять значительный вес. Паханы, «старые» варнаки и скороспелые уркаганы-«законники» относились ко мне с уважением и почетом. Впрочем, в условиях, когда исход любого дела решала сила и слаженность, достичь этого было нетрудно.
Тем не менее мысли об уходе за кордон я не оставлял. Фрол отмахивался и заверял, что располагает «надежной переправой»:
– Есть у меня верный фраинд, тот при нужде свезет нас по морю куда угодно. Не беспокойся, атаман, сделает в ажуре.
Очевидно, не у всех жителей Ростова была такая уверенность. Красные упорно рвались на юг, и потому огромные массы непролетарского населения всеми возможными средствами старались покинуть город. Наступала самая благодатная для всех преступников пора – «междуцарствие».
Сразу же по наступлении нового, 1920 года стало ясно, что вскоре Ростов будет сдан. И действительно, вечером 8 января в город вошла Красная армия.
На некоторое время, опасаясь рейдов ЧК, направленных на поиск оставшихся белогвардейцев, жизнь словно замерла. Через неделю все вернулось на круги своя. Разве что теперь, при Совдепе, торговля не велась так открыто, как раньше. Справедливая большевистская власть уравняла честных негоциантов со спекулянтами и барыгами, а значит, сделала их частью нашего, преступного мира. Мы с Федькой быстро поняли, что поддержка некоторых подпольных дельцов стала очень выгодной, как и реальный контроль над ними. Мы вновь сократили шайку и отошли от налетов. Мы старались прибрать к рукам самогоноварение, торговлю табаком, керосином и мылом. Конечно, мы нарушали воровской Закон, занимаясь такого рода «промыслом», но кто бы посмел нас в этом упрекнуть? Правда, Федька иногда терзался муками своей варнацкой совести, но послушно внимал моей железной логике:
– Большие деньги утекли с отходом белых армий, – поучал я его в минуты благодушия. – Заводчики, биржевики, праздные кутилы с туго набитыми кошельками убежали. Учись, братец, у кумиров большевиков – Маркса и Энгельса! Эти мудрые старцы писали, что только труд и умение приспосабливаться к заданным условиям превратили обезьяну в человека. Вот и ты, милейший, трудись и приспосабливайся.
Федька же только ворчал, обижаясь, что ему, видному уркагану, записали в прародители какого-то «черта хвостастого»…
Между тем гражданская война продолжалась. Положение на фронте оставалось сложным. Несмотря на явные победы красных и отступление Деникина на Кавказ, белогвардейцы все-таки готовились к контрнаступлению.
За два дня до возвращения в Ростов белых случилась неприятность: большевистский уголовный розыск накрыл одну из наших «хаз», где в тот момент находился я сам. В тюрьме кто-то рассказал следователю, что выдававший себя за случайного посетителя квартиры мещанин Юрий Немов – известный в городе главарь банды по кличке Черный Поручик. Меня стали усиленно допрашивать.
И тут произошло чудо: в тюрьму прибыл член Реввоенсовета армии, оборонявшей Ростов. Красный чиновник собрал во дворе арестантов и предложил выйти вперед тем, кто знаком с военным делом и не запятнал себя преступлениями против рабочего класса. Я вспомнил, что большевикам милее самый отъявленный бандит, нежели слезливый дворянчик или буржуй, и тоже вышел вперед. Член Реввоенсовета предложил нам в «грозный для народной власти час» проявить сознательность и помочь в отражении наступления врага. Услышав такое, вся арестантская ватага рванула было вперед, но суровый «реввоенсоветовец» приказал конвойным отделить настоящих, чистых сердцем коммунаров от мнимых. Сотня «избранных» тут же покаялась в грехах, вспомнила рабочее-крестьянское происхождение и пожелала записаться добровольцами в Красную армию.
«Пролетарский батальон перековавшихся преступников», как нас образно именовали, освободили из тюрьмы и повели в казарму. Там всех переписали, выдали винтовки и пешим маршем отправили на передовую. Однако наш славный батальон разбежался при первом же столкновении с противником. Уже вечером я сидел в кругу моих подручных и пил за торжество социальной философии большевизма.
Может, оттого, что в рядах красных бойцов оказалось чересчур много «перековавшихся», или оттого, что белые еще сохранили удаль и воинский пыл, а только в тот самый день, когда я позорно бежал с передовой, деникинцы вновь вошли в Ростов.
– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! – Фрол подмигнул Аркадию. – Опять ступай, Кадет, гонять шары с господами офицерами.
Впрочем, порезвиться Аркадию не удалось: уже на третий день красные отбили город.
– Тьфу, чтоб им ни дна, ни покрышки, – ворчал Федька, собираясь на прогулку. – Не успел чаю досыта напиться, – самовар уносят! Ну и порядки, прямо как на царском вертепе [177] – что ни день, то новости.
Аркадий ехидно посоветовал ему прицепить на грудь алый бант.
Так понемногу мы становились советскими гражданами.
В марте я собрался оставить Ростов. Проворачивать интересные дела становилось все сложнее, а отдыхать и пьянствовать мы могли и в более безопасном месте. Аркадий предложил уходить за кордон. Федькина «переправа» продолжала действовать. За умеренную плату нас обещали доставить в Феодосию.
– Поглядим, как живется «под Врангелем», и – в Париж! – мечтал Кадет.
Мне его идея не очень нравилась. Ходили слухи, будто берега Крыма строго охраняются, и что порядки там, установленные генералом Слащевым, самые свирепые.
«От пожаров валит дым – так Слащев спасает Крым», – горько шутили обыватели. Я решил немного «отсидеться» и подождать развития событий. Барон Врангель с армией не мог вечно сидеть в «Крымской бутылке» и мириться с властью соседей-большевиков.
Рассказывали, что русская армия получает вооружение от союзников, а поляки готовят наступление на Москву. «Если Врангель в союзе с Антантой и Пилсудским захватит Украину, – рассуждал я, – откроются границы, и легче будет улизнуть». Поэтому я убедил своих самых близких товарищей пока остаться на Родине и ехать в Киев.
Мы легко затерялись в большом городе. Там я повстречал Степченко, бывшего пулеметчика-махновца. Мне понравились его ум и крепкая хватка. Геня согласился пойти за мной, лишь бы не сидеть без дела, скрываясь от чекистов.
В конце апреля польские войска атаковали советские границы. Красная армия лихорадочно отступала. Повсюду воцарились беспорядок и паника, большевиками распускались ужасные слухи о предстоящих бесчинствах поляков. В эту болтовню мы, конечно, не верили и все же сочли лучшим отсидеться где-нибудь в тихом местечке.
Недалеко от Киева у Степченко имелись дальние, но весьма ему обязанные родственники. Мы быстренько переместились в небольшой гостеприимный городок и стали ждать развития событий. Вскоре пал Киев. Казалось, еще один удар – и ничто уже не спасет большевиков. Я выстроил довольно бесхитростный план ухода на Запад: после разгрома Советов и установления хотя бы относительного порядка сесть на поезд и выехать во Францию.
В середине мая в наш городок встал на переформирование довольно потрепанный в боях полк легионеров. При командире находился его брат, бывший до революции банкиром в Гомеле. Наши соседи сплетничали, что этот банкир имеет при себе неплохой капитал для возрождения своего дела. Мои удальцы загорелись идеей прибрать к рукам его денежки. Пытаться их отговорить было бесполезно: всем хотелось схватить «верный куш» и уж тогда – «катиться за кордон». Фрол провел тщательную разведку. Он поведал о том, что в лесу поблизости от города скрывается красный партизанский отряд, командира которого Федька хотел убедить посодействовать своему замыслу.
Степченко заявил, что командир этот, некий Ковтун, – его давний и хороший приятель. Скрепя сердце я согласился с решением шайки. Мы без труда отыскали проводника и пошли в лес.
Попросив аудиенции у командира отряда Ковтуна, я довольно безапелляционно заявил, что являюсь секретным агентом ВЧК и имею для партизан «особо важное» поручение большевистского командования:
– Под охраной польского полка находятся значительные средства. Вам приказано захватить деньги и передать их Советским властям. Для руководства этой операцией я и прибыл вместе с группой товарищей. По имеющимся сведениям, деньги банкира хранятся в штабе польской части. Дайте мне десяток бойцов, побольше динамита и строго следуйте плану.
Штаб польского полка размещался в старинном шляхетском доме, огороженном высокой кирпичной оградой. Внутри всегда находились несколько офицеров и караульный наряд. Здесь же, во втором этаже, проживал банкир. В назначенный день отряд Ковтуна ворвался в городок и ударил по казармам легионеров. Как только стали слышны выстрелы у казарм, штаб полка атаковала группа городских подпольщиков. Коммунары завязали бой, уложили неожиданным натиском добрую половину охраны и залегли за забором дома напротив. Перестрелка длилась уже добрых четверть часа, когда мы с выделенными нам партизанами подъехали к штабной ограде со стороны двора. В приготовленную еще ночью яму под оградой был заложен сильный заряд динамита, – Степченко запалил шнур, остальные залегли в уличной пыли. Едва прогремел взрыв, я послал в пролом партизан, мы же отправились следом.
Охрана опомнилась, когда партизаны уже пересекли двор и ворвались в штаб с заднего крыльца. Внутри здания послышалась беспорядочная пальба. Через минуту-другую все стихло, и мы с ребятами смело вошли в штаб. Старший из партизан, весь в крови и побелке, бросился ко мне с кулаками:
– Чого ж ви, мать вашу, застрялы! – возмущался коммунар. – Мы тут дило зробилы, перебилы усю стражу, потерялы половину хлопцив, а ви!
– Нашим, из уличного заслона, подали сигнал о прекращении стрельбы? – оборвал я негодующего партизана.
– Чого? Сигнал? Трошки не успелы! – коммунар нервно расхохотался.
Я кивнул своим жиганам. Фрол, Артемьев и Степченко тотчас перестреляли партизан и добили всех раненых.
– Ложись за пулемет и веди огонь по подпольщикам из заслона, – сказал я Гене. – Пусть они думают, что мы еще не взяли штаб. Да не высовывайся, просто пали без разбора.
Приказав остальным наблюдать за улицей, – как бы не подвалили раньше времени бойцы Ковтуна – я взял Фрола и побежал искать банкира.
Он заперся в одной из комнат второго этажа и попытался отстреливаться. Федор подорвал дверь ручной бомбой. Оглушенного и испуганного банкира выволокли из дыма и спросили о деньгах. Опасаясь за свою жизнь, он повел нас в подвал, отомкнул кованые двери и сейф.
– Сколько здесь? – справился я.
– Полмиллиона франков, – вздохнул банкир, – двести пятьдесят тысяч банкнотами, остальное – в золотых слитках.
Я приказал Фролу взять половину, перетащить в одну из подвод и отправляться в соседнее село; банкира же выкинуть где-нибудь в лесу, снабдив сотней франков.
Когда ценности были перенесены в телегу и Федька уехал, Степченко бросил пулемет. Мы постреляли в стены, пошумели, выкинули в окно белый платок и вышли наружу. Подпольщики из заслона поняли, что штаб взят.
Тем временем прискакал Ковтун со свитой. Партизаны объявили о полном разгроме поляков. Радость от быстрой победы, захват денег и золота затмили в глазах честных коммунаров гибель двадцати их товарищей у казарм и семерых в здании штаба. Никто не обратил внимания и на таинственное исчезновение Фрола. Ковтун, правда, поинтересовался, куда подевался пресловутый банкир. Я объяснил, что отпустил его с миром после того, как буржуй добровольно открыл хранилище и сейф.
– Нехай тикает, – благодушно махнул рукой командир отряда.
Меня и мою шайку стали почитать как героев. Нам выделили квартиры, до отвала накормили и обещали, что наши заслуги перед трудовым народом должным образом зачтутся. Я принимал поздравления и подумывал, как бы побыстрее улизнуть. Посоветовавшись, мы решили уходить следующим утром.
Однако уже вечером планы переменились. На «пир победителей», устроенный партизанами прямо на базарной площади, явился никому не известный запыленный кавалерист. Пошептавшись с ним, Ковтун объявил, что прибывший – связной из Особого отдела Западного фронта. Посланец сообщил, что Красная армия начала наступление и что он имеет для партизан приказ о немедленном захвате города.
– А мы его уже оттяпали! – крикнул Ковтун под радостные возгласы коммунаров.
Выступивший следом «особист» пояснил, что наступление идет так стремительно, что со дня на день следует ждать красных. Партизаны загорланили «ура», а мы с приятелями погрустнели. Если большевики находились в двух дневных переходах от города, значит, нам не суждено было оторваться от их передовых частей.
Поздно ночью я отослал Аркадия к Федору с приказом отложить отъезд до особых распоряжений.
Наутро я сказал Ковтуну, что, как человек образованный и преданный делу революции, готов ему помочь в формировании местной большевистской власти. Командир отряда обрадовался и тут же включил меня в состав городского ревкома.
До осени мы жили, наслаждаясь плодами своего «подвига» во имя пролетариата. Федька незаметно вернулся и, ради забавы, даже стал председателем какого-то комитета.
Наконец идиллия нам надоела. Фрол, Аркадий и Артемьев, с рождения жители больших городов, тяготились «местечковой дремучестью» населения и отсутствием приятных их душе развлечений. Я, в свою очередь, тоже понимал, что отсюда нужно убираться: когда-нибудь, с укреплением Советской власти, ЧК должна была непременно заинтересоваться невесть откуда появившимся героем-партизаном и членом ревкома. Я попросил Ковтуна дать мне рекомендации и отпустить. Решение уехать я обосновал тем, что нуждался в лечении больного сердца и необходимостью пристроить учиться Аркадия (которого я представлял своим племянником).
Бесхитростный Ковтун погоревал о потере «истинного коммунара», выправил мне нужные бумаги и дал письмо к своему деверю, начальнику одной из киевских типографий. В Киеве, покуда остальная шайка проматывала деньги, я заводил полезные знакомства.
Вокруг продолжала бушевать война: поляки отбили наступление красных, отстояли Варшаву и вновь погнали неприятеля на восток; русская армия, которая еще летом выползла из «крымской бутылки», сражалась с большевиками в Северной Таврии. Уверенности в победе ни у одной из сторон не было; далекий от противоборства обыватель затаился и покорно ждал окончания войны и хоть какой-нибудь определенности.
Очень скоро Красной армии удалось разгромить войска Врангеля и взять Крым, чуть позже Советская Россия заключила мир с Польшей. Понемногу хаос войны отступал, установились четкие государственные границы. Я поручил Степченко связаться с контрабандистами для переправы за кордон.
Впрочем, единого мнения об уходе среди моих бандитов уже не было. Фрол и Степченко мечтали о продолжении своей удалой карьеры на родине, да и Аркадий стал меня не на шутку тревожить. Юноше уже исполнилось пятнадцать, и он стал необычно молчалив и задумчив. В марте он неожиданно заявил, что желает поехать в Екатеринослав навестить могилу отца и матери. По возвращении Аркадий сказал, что пока не намерен покидать отечество.
Передо мной встала дилемма: либо принять условия подчиненных и сохранить наше сообщество, либо уезжать одному. Я опять решил выждать.
В конце весны Фрол нашел «фартовую работенку». Он познакомился с весьма солидным спекулянтом, который предложил провернуть несколько дел в Москве. В июне вся шайка подалась в столицу.
Поздней осенью я взял в компанию Никиту Злотникова, человека редкого хладнокровия, вчерашнего антоновца, исполненного лютой ненависти к большевистской власти. Выбитый из привычной крестьянской среды, он обрел в нашем лице новую семью и стал мне безоговорочно предан.
В декабре МУРовцы стали серьезно наступать нам на пятки. Многие конспиративные «хазы» оказались провалены. Аркадий и Степченко чудом ушли от преследования оперативников. Бросив пожитки и взяв только деньги и золото, мы спешно прикатили на вокзал и сели в первый попавшийся поезд. Маршрут следования проходил через город, где когда-то жила моя покойная тетушка. В детстве я не раз бывал у старушки на каникулах. Мне пришло в голову здесь осесть, обосноваться прочно и надолго.
Решение укрепилось, когда выяснилось, что в городе «идет за пахана» старый Федькин кореш по каторге Семен Лангрин по прозванию Кувалда. Мы с ним встретились и нашли общий язык. Пахан был строгим «законником» и сетовал на засилье в городе «шелупони» и молодых скорохватов.
Лангрин сказал, что среди «вольной братии» нет «сильной шараги», способной постоять за варнацкую честь. Мы пообещали Пахану поддерживать его авторитет. Тут я и придумал легализовать некоторых членов банды в качестве мирных обывателей, а часть оставить для связи с урками.
Мне представлялось, что жить по старинке, налетами, стало весьма бесперспективно. Во-первых, с объявлением нэпа появилась возможность получать деньги относительно безопасно. Во-вторых, в стране устанавливался порядок, шла упорная борьба с преступностью. Конечно, доказывать моим мазурикам преимущества сытого и тихого существования было бессмысленно – они привыкли брать свое силой, по своим законам; мой приказ к «выходу на свет» могли расценить не только как отступление от правил, но и как предательство. В таких случаях – не до личных привязанностей и симпатий, с «порчами» в нашем кругу разговор короткий!
Требовалась «золотая середина», некий разумный баланс, при котором шайка поймет преимущества стабильности, привыкнет к постоянному достатку, пустит крепкие корни. Тогда, как я полагал, они сами потянутся к иной жизни. Скажу честно, в моих замыслах не было места альтруизму, филантропии и прочей подобной дряни – лишь рациональное чувство самосохранения, сохранения себя и нужных мне людей. Главарь, по моему мнению, должен быть «иваном», то есть скрывать свое действительное лицо. Роли внутри шайки я строго распределил: Федька и Артемьев общались с ворами, содержали многочисленные хазы, галинники и склады; Кадет и Никита должны были жить тихо и «ходить на дело» только по моему приказу; мы со Степченко превратились в честных негоциантов-нэпманов.
Появились и новые компаньоны: рекомендованный Паханом медвежатник высшего класса Профессор и, чуть позже, лихой стрелок Яшка Агранович. Мало-помалу нашлись помощники и на противной стороне. Через жадного до денег адвоката Боброва Степченко вышел на милицейских чинов и даже заместителя губернского прокурора. Впрочем, сам Изряднов и не предполагал, кого именно он поддерживал. За полученные от Боброва взятки он прекращал «дела» и освобождал связанных с нами людей. Мы занялись легальной и полулегальной коммерцией: открыли каретную мастерскую и пекарню; давали кредиты начинающим нэпманам; через Артемьева и найденных им барыг делали капиталы на курсе старых и новых денег, а через Кадета – на подпольных игорных домах. Однако вряд ли мы смогли бы утвердиться в городе, не зарекомендовав себя с позиции силы. Поэтому, едва прибыв сюда, мы взяли парочку касс и магазинов, дав понять и Пахану, и местным уркам, что люди мы – серьезные.
Мое личное участие в этих делах, как правило, ограничивалось планированием. Исключение – налет на кассу в двадцать втором, взятие броневика летом следующего года (когда меня задело пулей), наказание Осадчего, ну и наше последнее дело – с Госбанком. Многие «подвиги», приписываемые нашей шайке, совершались лишь отдельными ее членами, которые вербовали подручных от имени Гимназиста. Удержать таких, как Федька или Артемьев, до поры до времени не представлялось возможным. Впрочем, довольно скоро мои буйные головы угомонились – Артемьев погиб, а за Фролом началась постоянная охота милиции. Постепенно тот заветный баланс, к которому я стремился, был установлен: мы с Паханом контролировали блатную среду и наши полулегальные промыслы; средств для тихой безбедной жизни накопилось предостаточно; и, главное, необходимость такой жизни стали понимать мои самые «законные» дружки-приятели по шайке.
Как ни прячь, шила в мешке не утаишь. Некоторые опытные уголовники предполагали, что Гимназист, атаман известной в губернии банды, является авторитетным в Ростове Черным Поручиком. Однако никто не знал его в лицо и уж тем более не мог связать с незаметным пекарем Старицким, бывшим партизаном и весьма лояльным к Советской власти гражданином.
Глава XXVIII
Георгий и Андрей долго молчали. Старицкий напряженно вглядывался вдаль, туда, где по сверкающей глади озера скользила легкая прогулочная лодка. Рябинин старался осмыслить услышанное.
– Как я понял, разбойный промысел принес тебе немалые барыши, – наконец проговорил Андрей. – Почему же теперь, когда на всей территории России установился мир, когда большевики заключили дипломатические договоры и свободно торгуют с Западом, когда можно беспрепятственно уехать в любую страну, ты продолжаешь здесь оставаться? Что это, привычка жить в мире лжи и постоянной опасности или все же любовь к Родине?
– Какие громкие слова! – усмехнулся Георгий. – Ты, я вижу, так и не избавился от интеллигентского пафоса… Все намного банальнее, Миша. Денег у меня действительно немало, побольше, чем у любого ушлого нэпмана. И уехать за границу теперь никто не запретит: выправляй паспорт и – скатертью дорога! А вот как вывезти капиталы? Многие советские граждане, имеющие солидные средства, хотели бы перебраться в благополучный буржуазный рай. Думаешь, им нравится здесь унижаться и прикидываться простачками? Не все, брат, так легко. На границе багаж отъезжающих за кордон старательно проверяют: стоит только найти драгоценности или валюту, – вмиг потащат в ГПУ для объяснений. Там быстренько прочистят мозги и обчистят карманы. Денежки конфискуют, а уж потом – лети белым лебедем в свой Париж!
Андрей пожал плечами:
– Однако ходят упорные слухи о возможности перевести капиталы в западные банки…
– Э-э, дружок, это по силам только серьезным дельцам! Они работают с каким-нибудь Внешторгом или даже ВСНХ. За спиной таких воротил – «верные друзья» из высоких советских бюрократов. Да и за теми крепко следит ГПУ.
Есть один способ оставить родину: уйти контрабандными тропами. Слышал я, будто некоторым удалось выскользнуть на волю. На Балканах, в Финляндии преспокойно живут себе фартовые воры и налетчики, именитые жулики и оборотистые спекулянты. И все же недобрая молва идет о румынской и польской границах. Поговаривают, что полно на кордоне легавых, а некоторые шайки контрабандистов даже управляются агентами ГПУ и существуют только для того, чтобы обманом схватить барыгу с золотишком или белогвардейского шпиона. Я посылал людей приглядеться к проводникам этих тайных троп.
Крестник твой, покойный Федька, после третьей поездки в приграничные с Польшей и Румынией места сказал: «Не верю я проводникам, атаман, хоть убей. Немало среди них ссученных и легашей. Трекают важно [178], забожиться честью варнацкой могут, а только не урки они!» Так что мы отказались уходить через западные границы. Подумывал я прощупать финскую, да пока не успел.
Георгий повернулся к Андрею и шутливо подмигнул:
– Вот если бы я, как товарищ комэск, служил на китайской границе, так уж сумел бы найти лазейку. Верно?
– Да, – кивнул Рябинин. – Там я все тропы знал, хоть армию мог провести.
– Вот видишь! А мы – люди в этом не сведущие, боялись просчитаться.
– Не беда, – Андрей невесело улыбнулся. – Банде Гимназиста и без того неплохо живется. Кстати, ты как-то сказал, что собираешься переехать в другой город!
Старицкий вздохнул:
– Была мысль выйти на свет, покончить с лихим промыслом…– Его лицо скривилось. – Хотел обосноваться по-человечески, дела вести честным образом… Только вот не верю я большевикам. Упрямо ворчат по углам «стойкие партийцы», что нэп – «отступление». А отступать коммунисты ох как не любят! Рано или поздно начнется их победоносное наступление!.. Кто знает, как получится?..
В голове у Андрея мелькнула неожиданная догадка.
– Скажи честно: дерзкий налет на Госбанк – это часть продуманного плана, способ разделаться с такими махровыми уголовниками, как Фрол? – в упор спросил Рябинин.
– А как же иначе? – Георгий рассмеялся. – Это была игра по-крупному, ход ва-банк. Или легавым пришлось бы уложить всех нас, пусть даже и меня, или – фортуна склонялась в мою сторону. В новой жизни, жизни честных обывателей, нет места для таких, как Фрол и Агранович.
Федька никогда бы не смог зарабатывать деньги честным трудом, со временем он вновь стал бы налетчиком. А Яшка – и того хуже. Задолго до нападения на Госбанк Фрол получил приказ прикончить Аграновича; не зацепи ты Федьку – пришлось бы его убирать мне.
– Вот, значит, как решил «высший судия» – Гимназист! – покачал головой Андрей.
– Зря смеешься. Кем и где были бы эти «видные жиганы», не будь меня? Давным-давно гнили бы в тюрьме или в могиле. Не забывай, что только благодаря моему уму, воле, осторожности шайка пятый год жирует, покупает себе лучшие гардеробы и баб, каждое лето нежится на курортах. Я сломал их разнузданную лихость железной дисциплиной, воровское легкомыслие – продуманной конспирацией. Я создал организацию, каких мало осталось в России!
– Уголовную организацию! – уточнил Рябинин. – Банду, промышлявшую грабежом, разбоем, темными махинациями и убийством. Почетно для дворянина!
– Как и то, что потомственные дворяне лижут сапоги гепеушникам, убийцам своих отцов, – жестко парировал Георгий.
– Не смей! – грозно прикрикнул Андрей. —
И давай-ка оставим этот спор.
– Хорошо, – Старицкий пожал плечами. —
А только, хочешь, обижайся, хочешь нет, но придется согласиться, что мы живем в непростые времена, двуличные. Не мы одни скрываемся за масками, обращаем одно лицо к людям, а другое внутрь себя, – все кругом лгут! Большевики – от желания сохранить и укрепить власть, остальные – от страха или ради корысти. Это время лицемеров, время Януса.
– Насчет Януса ты прав, – Андрей нахмурился. – Однако не забывай: Янус – бог всякого начала; одно его лицо обращено в прошлое, другое – в будущее.
Ему вспомнилось, как в раннем детстве он случайно наблюдал избиение строптивой собаки. Хозяин обучал ее командам, а пес упрямился и с жалобным воем сносил удары сыромятного поводка. Маленький Миша зажмурил глаза и наугад побежал по аллее. Вот и сейчас ему захотелось закрыть глаза и не видеть окружающего, забыть неприятный и мучительный разговор.
Рябинин отмахнулся от гнетущих мыслей, поднялся и пошел к воде. Он с шумом умылся, отплевываясь и фыркая, затем причесался и вернулся к Старицкому.
Георгий же старался понять, отчего на душе его стало вдруг легко и спокойно. Захотелось выпить клюквенного киселя с пирогом или, на худой конец, похлебать постной окрошки.
– Так как же мы поступим, Миша? – искоса глядя на Андрея, спросил Георгий.
– А никак, – вздохнул Рябинин. – Пусть все останется как есть. С одним условием, на котором я буду настаивать.
– Изволь.
– Ты должен распустить свою шайку, но при этом остаться в городе. Как поступить с подручными, решай сам. Только чтоб о банде Гимназиста никто больше не слышал. А там – посмотрим.
– Договорились, – вставая с земли, кивнул Старицкий.
Он заглянул Андрею в глаза:
– А что будет с нами, Миша?
Рябинин коротко обнял Георгия и, с трудом преодолевая подкативший к горлу комок, прошептал:
– Не знаю, Жорка… Прости меня… За то, что не сдержался и завел этот… никому не нужный разговор…
Старицкий уткнулся в плечо друга и отрывисто бросил:
– Ты меня прости… За все.
Андрей почувствовал, что еще мгновение, и его нервы не выдержат. Он оттолкнул Георгия и быстро пошел к поселку.
– Куда же ты? – крикнул ему вслед Старицкий.
– В город. Доберусь поездом, – не оборачиваясь, отозвался Рябинин. – Не провожай меня.