
Игорь Ефимов
Свергнуть всякое иго
Повесть о Джоне Лилберне
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Против епископов и министров
Декабрь, 1637
Амстердам-Лондон


— Капитан! Вы обещали к утру быть в устье Темзы.
— Да, синьор.
— Сейчас уже за полдень.
— Ветер, синьор. В нашем деле все зависит от ветра.
— Что значит «ветер»? У вас корабль или щепка, которую носит по воле волн? Вот он, хваленый голландский флот. Чиллингтон, вы помните ту шхуну, на которой я вернулся из Генуи?
— Бесподобное судно, синьор. Таких моряков, как в вашей Генуе, нет больше в целом свете. Сам Колумб был генуэзец.
— Вы неисправимый льстец, Чиллингтон. Если б я знал за вами этот порок, ни за что бы с вами не связался. Для меня нет ничего опаснее лести — я поддаюсь ей безотказно.
Итальянец засмеялся, откинув голову, и бросил быстрый взгляд на третьего пассажира — долговязого юношу в черном плаще, сидевшего неподалеку спиной к борту. Он сидел там уже давно, подтянув острое колено к подбородку, сцепив жилистые руки на голенище сапога. Мелкие брызги, занесенные ветром, блестели на его шляпе.
— Прошу простить мою… Чиллингтон, как это слово, которое упорно вылетает у меня из головы?
— Назойливость.
— …простить мою назойливость, мистер… сэр… но я в большой тревоге и хотел бы спросить вас…
— К вашим услугам.
— Что вы можете сказать о нынешних ценах на зеркала в Англии?
— Вы везете зеркала?
— Превосходный венецианский товар, два больших ящика. Но я так неопытен в торговых делах и так доверчив, что всякий сможет надуть меня при желании.
— К сожалению, не смогу назвать вам точных цифр. Моя сфера — сукно. Сукно и шерсть.
— И отчасти бумага?
— Бумага?
Юноша поднял голову и пристально посмотрел на итальянца. Тот беспечно улыбался, борясь с прядями завитых волос. Ветер вытягивал их вперед и, распрямляя, трепал перед его лицом.
— Мои ящики грузили в тот же отсек трюма, что и ваши тюки, и мне показалось…
— Да, вы правы. Из Англии мы вывозим сукно, а обратно, чтобы не возвращаться с пустыми руками, — что подвернется. На этот раз — голландскую бумагу. У лондонских печатников она идет нарасхват.
— Конечно, мне следовало расспросить заранее, а не пускаться так наобум в эту зеркальную авантюру. Но гордость, фамильная гордость Джанноти. Унизиться до расспросов? Бр-р… Англичане — люди замкнутые, разговаривают, по большей части, сами с собой, поэтому, желая видеть собеседника, покупают зеркала в огромных количествах — вот что плел мне этот венецианский жулик, навязывая свой товар. Не знаю почему, но эта чушь меня тогда убедила.
— Одно в этой логической цепи несомненно. То, что многие англичане нынче предпочитают говорить сами с собой.
— Нет, все равно. Я уверен, что страшно прогорю в этой сделке. Ах, гордость, гордость… Слишком дорогой товар в наше время. Генуэзские Джанноти вечно несли на нем убытки. Последний отпрыск не исключение. Кстати, это Чиллингтон — ваш соотечественник и мой… мм-м… консультант. Тоже чем-то торгует и тоже без большого успеха.
— Пуговицами, синьор, я много раз повторял вам — пуговицами. Лавка на Кэннон-стрит.
Юноша наконец поднялся с ящика, на котором сидел, и снял шляпу. В движениях его не было никакой мягкости, каждый жест обладал какой-то угловатой завершенностью; распрямиться — во весь рост, руку со шляпой уронить — до колена, поклониться — подбородком о грудь.
— Джон Лилберн. Из тех Лилбернов, что в епископстве Дарем. Это на самом севере, почти граница с Шотландией.
Все трое раскланялись.
— Мы с вами уже встречались, мистер Лилберн, — сказал Чиллингтон, придерживая у ворота оторвавшуюся застежку плаща. — В Амстердаме, у книготорговца Харгеста.
— Да? Ваше лицо показалось мне знакомым, но я не мог припомнить — откуда. Вы тоже интересовались его книгами?
— Я? Нет, не то чтобы… но вообще… иногда…
На мостике капитан подозвал к себе боцмана и, посоветовавшись с ним, прокричал по-голландски несколько команд. Матросы, пересмеиваясь, полезли на мачты, другие на палубе взялись за канат. Боцман начал поворачивать штурвал, и нос корабля медленно покатился влево, нацелился на видневшийся уже неподалеку берег, затем развернулся еще дальше, и паруса, было потерявшие ветер, снова наполнились, так что палуба резким толчком рванулась из-под ног.
Трое пассажиров, ловя равновесие, перешли на подветренную сторону, укрылись за рубкой.
— Хочу вам сказать, мистер Лилберн, — говорил Джанноти, — что я ищу в Англии не барышей. О нет! Дьявол с ними — с деньгами, с торговлей, с зеркалами, — извините, — с бумагой и шерстью тоже. Я хочу отдохнуть от войны. Вы единственная страна, не захваченная этой проклятой войной, которая полыхает по всей Европе вот уже двадцать лет и конца которой не видно.
— Вы ошибаетесь, — сказал Лилберн с горькой усмешкой. — Несколько тысяч англичан уже погибли в этой войне.
— О, знаю, знаю. Вы имеете в виду ваши несчастные экспедиции в Кадикс и под Ла-Рошель. У вас были склонны во всем обвинять Бекингема. Быть может, герцог, упокой господи его душу, и не был великим полководцем, но суть не в нем. Суть в том, что вы разучились воевать на суше. Сколько лет вы вкушаете мир? Сто? Сто пятьдесят? Но вы не цените его. Только тот, кто сыт кровью по горло, как я, может оценить то, что у вас есть, — покой и безопасность.
Лилберн хотел что-то сказать, но в это время сверху раздался такой громкий и злой хохот, что все трое невольно подняли головы.
Смеялся боцман.
Он повисал на ручках штурвала, подмигивал капитану и показывал большим пальцем в сторону Джанноти, кашлял и захлебывался слюной:
— Безопасность!.. Ха, слыхали? Я вам могу говорить их безопасность… Я вам могу показывать ее на глаза. — И он протянул сквозь перила мостика руку с наискось обрубленной кистью. — Так — видали? Они падали в грязь, да, лежали там… Мои пальцы… отдельно от меня. Вот здесь они росли — так… За что?
— Где это произошло, приятель? — спросил Лилберн.
— Кембриджшир, будь он проклят. Мы работал там пять лет назад, голландский мастер, осушивать топь… Да, учили английский дурак делать хороший поле из мокрый болот. Мы работал весь недель, а воскресенье молился. И мы не хотел молиться их англиканский церковь. И построил свой маленький деревянный часовня, и слушали свой проповедник, настоящий святой старик. Он говорил так, так он говорил, что сердце делалось мягкий и слезы текли с глаз. А когда приходил стража от епископ, он учил из Писания подставлять левый щека, если бьют правый. Но они хватал его за ноги и тащил по грязь лицом, и я не мог на это смотреть, я хотел поднимать его лицо из грязь, но солдат рубил моя рука, и я видел эти мои пальцы отдельно там, на земле. А наша часовня они поджигал с трех сторон. И тогда мы сказал: пусть они потопнут свой болота, эти англичане и их епископ Лод.[1] И уехал, все мы уехал прочь. Теперь я не хочу никогда сходить английский берег, только сижу на корабль.
Капитан, слушая, качал головой, вздыхал и вычесывал из бороды табачные крошки. Лилберн взял изуродованную руку боцмана и показал ее Джанноти:
— Он еще счастливо отделался.
— Но неужели закон распространяет власть архиепископа и на иностранцев?
— Закон — нет. Но кто сейчас считается с законом? Всюду есть специальные суды, не обязанные считаться с общим правом Англии. Так что если вы не хотите подчиняться идолопоклонству, вводимому в церкви, у вас единственный выход — уехать. В Америку, в Голландию, в Швецию. Еще несколько лет, и не только торговля, но вся наша промышленность переместится с порогов Темзы на берега Зунда.
— Вы преувеличиваете. Всякая власть вынуждена использовать… как это… карающая десница — так? Возможны злоупотребления, конечно. И все же это не война. Я профессиональный солдат, но я скажу вам: нынешняя война убивает не только тело, но и душу. Когда столько крови, все становится безразлично. Война всех со всеми.
— Расскажите про битву под Лютценом,[2] — сказал Чиллингтон.
— А-а, нет желания вспоминать.
— Вы сражались под Лютценом? — воскликнул Лилберн.
— Лишь в самом начале. Мы погнали их конницу, потом повернули на пехоту и считали уже, что дело выиграно, но не тут-то было. Нам оставалось доскакать до их рядов ярдов пятьдесят, когда эти хитрые бестии вдруг разом упали на землю и открыли две батареи с зажженными фитилями. Мелкие, невзрачные пушчонки. Но когда они залпом бьют картечью на таком расстоянии в сплошную массу кавалерии… Я даже не понял, что произошло. Гора окровавленной конины вперемешку с мундирами, саблями, сапогами. Бр-р! Только шведы могли додуматься до такого.
— Как?! Значит, вы… Значит, это была… Вы атаковали шведскую пехоту?
— Простите?..
— Вы сражались на стороне папистов.
Лилберн отступил на шаг, и гримаса неподдельного отвращения исказила его лицо.
— Видите ли, я солдат и не привык спрашивать, как молится тот, кто мне платит. — Джанноти говорил с вызовом, хотя было заметно, что он смущен своим промахом. — Кроме того, впоследствии я перешел в протестантскую армию племянника вашего короля. Этим летом я принял участие в походе в Вестфалию вместе с принцем Рупертом.
— Вы сражались за папистов… За этих убийц… инквизиторов… за их палачей… иезуитов…
Лилберн продолжал пятиться, тяжело дыша и отирая ладони о рукава камзола. Потом подскочил к итальянцу, сжав кулаки, открыл рот, но, не найдя слов, вдруг протянул руку и крепко дернул того за ухо.
— Диабло! — Джанноти вырвался и схватился за шпагу. — Он обезумел, этот суконщик.
Чиллингтон, прижимаясь спиной к деревянной обшивке, отступал за угол рубки. Капитан и боцман молча глядели через поручни мостика. Матросы, привлеченные шумом, придвинулись поближе. В руке одного из них мелькнул пистолет.
Джанноти оглядел всех и медленно разжал пальцы. Шпага со стуком скользнула обратно в ножны.
— Ваше счастье, что вы безоружны, — процедил он сквозь зубы.
Лилберн стоял, скрестив руки на груди, широко расставив ноги, чуть пружиня ими на каждый взлет палубы, и насмешливо смотрел с высоты своего роста на маленького итальянца.
— Вы не должны на меня обижаться, синьор. Но каждому человеку при въезде в Англию необходимо проверить, крепко ли сидят уши на его голове.
— Беспокойтесь о своих.
— Одно неосторожное слово — и уши падают к ногам палача. Вы не поверите, но есть такие мастера, которые ухитряются дважды отрезать уши одному и тому же человеку.
— Значит, это правда? — Чиллингтон высунулся из-за угла рубки. — Доктор Принн?..
— Да. Я был в этот день на площади и видел собственными глазами. Они проделали это над ним второй раз. Нынешним летом. Всем троим: Принну, Баствику и Бертону. У Принна оставались лишь розовые отростки. Палач отхватил их вместе с кожей черепа. Так он и стоял у столба с шеей, красной от крови.
— О боже милостивый! — охнул Чиллингтон.
— А знаете, что сделала жена Баствика? Подобрала его уши, завернула в платок, потом стала на табурет и поцеловала мужа. Все трое говорили о том, что они пожертвовали своей свободой ради нашей. Палач так и не посмел заткнуть им рот.
— А-а, теперь я вижу, — протянул итальянец. — Вы отнюдь не сумасшедший. Вы просто из этих… Сектант, так? Чиллингтон, дайте-ка мне книжонку, которая выпала из тюков этого джентльмена. Давайте, давайте, она у вас в нагрудном кармане.
И так как Чиллингтон медлил, он подбежал к нему и сам извлек из его кармана тонкую брошюру в мягкой обложке.
— «Литания». Молитва? О чем же молится этот… доктор Басту-ик? Ага, тот самый, который не сберег своих ушей. Значит, мы везем не только чистую бумагу. Но и бумагу, покрытую печатными знаками. Чиллингтон, и много там таких книжечек?
Можно было подумать, что они сравнялись ростом. Торжествующий Джанноти расхаживал, приподнимаясь на носки, Лилберн, согнувшись, следил за ним, будто выбирал момент для прыжка. Губы его сходились и расходились на каждом вздохе. Капитан сделал незаметный отстраняющий жест матросам. Те попятились.
Итальянец остановился перед Лилберном, откинул за спину свои локоны и швырнул брошюру к его ногам.
— Успокойтесь. Джанноти — не доносчики. Но и обид они тоже не прощают, запомните это.
Лилберн секунду колебался, потом поднял экземпляр «Литании», спрятал его под плащ и сделал угрожающий шаг вперед.
— Джентльмены, синьор, — сказал капитан. — Прошу вас помириться. Мы уже в Англии.
Берег теперь был виден совсем близко с обоих бортов. Судно входило в устье Темзы.
— Дьявол его дери, ваше корыто, капитан! Долго ему еще тащиться до Лондона?
— Ветер, синьор. Все будет зависеть от ветра.
Но ветер был неблагоприятным. Они плыли, лавируя в речных изгибах, еще двое суток и лишь утром третьего дня увидели впереди огоньки в окнах домов на лондонском мосту, тяжелые силуэты арок, лес мачт у левобережных причалов. Башни Тауэра еле проступали сквозь мглу. Несколько судов разом снялись с якоря и прошли мимо них, торопясь, видимо, выйти в море. По такой погоде река со дня на день могла покрыться льдом.
Их шхуна протиснулась на освободившееся место, матросы бросили сходни.
Заспанная таможенная стража появилась сразу, но чиновников пришлось ждать долго — они были заняты на других кораблях. Лилберн, расхаживая вдоль борта, всматривался в толпу, месившую снежную грязь на берегу. Грузчики, плотники, матросы, мелочные торговцы, всякий сброд с Чипсайда, девки, подрядчики, скупщики, подростки с бледными лицами и ловкими пальцами, собаки, негры, повара, лекаря, шарлатаны… В такой ранний час приличная публика еще не появлялась. Из портовой таверны с хохотом вывалилась компания ночных забулдыг, за ними с визгом бежала хозяйка и сковородкой на длинной ручке лупила их по каменным спинам. Под горой тюков с пенькой примостилась семья бедных эмигрантов, ждавших посадки; ночной снег тонким слоем лежал на их сундуках и узлах. От складов был проложен деревянный настил, и по нему с грохотом катились пустые бочки. Один из грузчиков, завидев Лилберна, ошалело уставился на него, так что следующий чуть не сбил его своей бочкой; потом оба исчезли в трюме грузившегося рядом судна, вернулись и, оживленно переговариваясь, протиснулись поближе к сходням.
Лилберн тоже заметил их и, перегнувшись через борт, провел ладонью черту около горла.
Оба понимающе закивали, зашептались, и один, тот, что был помельче и попроворней, юркнул в толпу.
Тем временем Джанноти с Чиллингтоном тоже выбрались на палубу. Они держались в стороне и на Лилберна старались не глядеть.
— Поразительно не то, Чиллингтон, что мы в Лондоне, а то, что все на свете имеет конец. Даже путешествие на голландской развалюхе. Кстати, знаете ли вы, как говорят у нас в Италии про вашу страну? Англия — это рай для женщин, чистилище для слуг и ад для лошадей. Не знаю, как насчет слуг, но женщин и лошадей я поменяю местами.
И он закатился заразительно-беспечным смехом — голова откинута, глаза полуприкрыты, пышная волна волос стекает за спину. Чиллингтон почтительно подхихикивал. Рука, сжимающая плащ у горла, придавала ему просительный вид.
Наконец невдалеке над толпой появились шляпы таможенных чиновников. Люди как будто не обращали на них внимания, но в последний момент неуловимым движением освобождали дорогу. Стража у сходен приосанилась и выровняла алебарды.
Таможенников было двое. Тот, что постарше, двигался, чуть танцуя, и вид имел франтоватый и светский — пестрый камзол с прорезными рукавами, штаны с бантами под коленом, зеленый плащ. Отвороты его невысоких сапог ярко-красными пятнами скользили над снегом. Младший был во всем черном, сапоги подняты до бедер, белый ворот рубашки еле виден из-под плаща. Короткие волосы оставляли шею открытой. У старшего волосы лежали по плечам — французская мода. Только королевский герб на шляпах у обоих был одинаковый.
Лилберн напряженным взглядом следил за их приближением. Руки его, вцепившиеся в бортовую обшивку, посинели под ветром, глаза слезились. Таможенникам оставалось пройти до сходен какой-нибудь десяток ярдов, когда тучный старик, протолкавшись вслед за маленьким грузчиком сквозь толпу, поравнялся с ними и начал что-то горячо шептать на ухо младшему.
Лилберн перевел дух.
Таможенник слушал внимательно, хотя головы почти не повернул и шага не замедлил. Старик, задыхаясь, все говорил, опасливо косясь вперед на зеленый плащ и красные отвороты.
Стража оторвала древки алебард от земли.
Капитан судна ждал наверху со шляпой в руке.
Джанноти встретился взглядом со старшим таможенником. Они оценивающе оглядели наряд друг друга, слегка улыбнулись и обменялись поклонами. Казалось, оба были довольны, что у них есть столь безотказный способ находить людей своего круга.
— Капитан Джанноти, к вашим услугам. У меня есть письма ко двору от ее величества королевы богемской.
— Так вы из Гааги? О, я не выпущу вас на берег, пока вы не расскажете мне все новости. Что там происходит? Есть ли известия от принца Руперта из-под Бреды? Знаете, в прошлом году он всех очаровал здесь в Лондоне.
Он взял Джанноти под руку, и они, болтая и пропуская друг друга вперед, пошли в сторону кормы. Младший двигался за ними в почтительном отдалении. Лилберн не отрывал от них взгляда, и в какой-то момент ему показалось, что Джанноти говорит о нем. Во всяком случае, явно мотнул головой в его сторону. Его собеседник подозвал к себе своего помощника и что-то приказал. Тот повернулся и твердым шагом направился в сторону Лилберна.
Тучный старик и оба грузчика все еще торчали внизу задрав головы. Борт возвышался над настилом причала ярда на два, не больше. Одним движением можно было перемахнуть через него, спрыгнуть вниз, метнуться в толпу, затеряться, дождаться темноты, назавтра уехать из Лондона к себе на север, в Дарем. Отец и дядя держали всю округу в руках, они бы уж нашли способ спрятать его на некоторое время.
— Мистер?.. — таможенник стоял перед ним.
— Лилберн, сэр. Торговый дом Хьюсона.
— У вас есть какой-нибудь груз?
— Голландская бумага. Девять тюков. Они лежат в носовом трюме.
— Я должен осмотреть их.
Несколько матросов, забежав вперед, подняли крышку грузового люка. Таможенник спустился вниз, ноги его привычно находили в полутьме ступени лестницы.
— Вот эти?
— Да.
Лилберн чувствовал, как кровь тугими ударами вздувает ему жилы на шее, приливает к голове.
— Здесь не меньше тысячи фунтов.
— Почти тысяча сто.
— Прекрасная упаковка. Нам еще многому надо учиться у голландцев.
— Они гарантируют полную водонепроницаемость.
— И полную чистоту веры Христовой от папистского идолопоклонства, — протянул таможенник негромко, как бы для себя. — О, смотрите: крысы все же проели снизу дыру. Досадно будет, если сегодняшняя слякоть подпортит вам товар.
— Это обойдется мне в кругленькую сумму.
— Прикажите погрузить дырой вниз — до склада довезете. С вас… Сейчас я подсчитаю… Его величество месяц назад вновь повелел повысить пошлину на ввоз. Пятью восемь, да еще один… Два фунта, пять шиллингов. Будете платить в конторе?
— Я готов уплатить прямо сейчас, наличными.
— Как вам будет угодно.
Таможенник отстегнул от пояса большую печать и двинулся вдоль тюков, оттискивая на каждом витиеватый красный вензель: «К» и «Т» — королевская таможня.
У Лилберна тряслись пальцы. Только с третьего раза ему удалось отсчитать нужную сумму. Вылезая из трюма, он споткнулся и разбил колено о край палубы, но боли не почувствовал. Джанноти и старшего таможенника не было видно за кормовыми надстройками. Он махнул рукой, и оба грузчика, обгоняя друг друга, ринулись вверх по сходням. Старик попятился и исчез в толпе, но когда Лилберн спустился, он появился снова как из-под земли.
Они пожали друг другу руки, потом обнялись.
— Сюда, брат, сюда! Твоя колымага вполне протиснется и в эту щель. Въезжай, не бойся.
Старик, оторвавшись от Лилберна, показывал путь пароконной подводе. Меньший из грузчиков, сразу утративший под тяжестью тюка всю свою юркость, пятился ей навстречу. Потом, распрямившись, забросил тюк на самую середину, выпростал веревочную петлю и умчался за следующим.
— Это они? — прошептал старик.
— Точно не скажу. Они в трех тюках из девяти, а в каких — я не метил.
— Сколько же их всего?
— Десять тысяч, мистер Вартон! И оттиски отличные.
— О боже милостивый, простри благодать свою на этого юношу. Десять тысяч! Значит, прочтут их по меньшей мере тысяч сто.
— Это просто чудо, что я не попался сейчас.
— Господь простер десницу свою. Кто, как не он, обратил к нашим проповедям сердце младшего таможенника? И не он ли дал силу моим ногам поспеть в порт? Уже лет тридцать не бегал я с такой прытью.
Грузчики уложили последний тюк и теперь приматывали всю груду веревками.
— Есть какие-нибудь новости, мистер Вартон? Ведь меня не было почти полгода.
— Говорят только о двух вещах: процессе Гемпдена[3] и шотландских делах. Процесс только начался, и неизвестно, чем он кончится, но шотландцы…
В это время подвода тронулась, и он бросился вслед за ней, проверяя веревки и поглаживая тюки. Лилберн расплатился с грузчиками и нагнал его у портовых ворот.
— Так что вы начали про Шотландию?
Вартон повернул к нему сияющее радостным возбуждением, по-стариковски румяное лицо и сказал, перекрикивая грохот колес:
— Шотландцы отвергли молитвенник Лода! Они выбросили его туда, где он сочинялся и печатался, — в преисподнюю! В Эдинбурге созывается ассамблея.
Несколько дней спустя часов около трех пополудни старый сапожник, живший на Боу-лэйн к северу от Флит-стрит, выглянув из окна, увидел, что двое мужчин, с утра торчавших в лавке напротив, вышли наконец из дверей и двинулись вслед за высоким молодым человеком, только что миновавшим их укрытие. С другого конца проулка появился еще один, в такой же синей куртке с пуговицами из кожи, но сам гораздо мельче и суетливей тех двоих, с лицом серым, как некрашеное дерево. Завидев его, молодой человек замедлил шаг, пальцы сами потянулись к эфесу шпаги.
В ту же минуту полы его плаща взлетели, подхваченные сзади ловкими руками, и через мгновение он оказался туго спеленат, обезоружен, прижат к стене.
— Именем короля! — вопил серолицый. — Джон Лилберн, я арестую вас именем короля!
Бумагу с приказом он почему-то показывал не Лилберну, а окнам и дверям окружающих домов. Несколько зевак молча глазели на происходящее.
— Это из вартоновской шайки, — объяснял хозяин лавки, служившей местом засады. — Видать, шел к нему за новой порцией книжонок. Моя бы воля, все бы они уже давно болтались на Тайбернских воротах.
И все же, когда Лилберна уводили, он подобрал с мостовой его шляпу, отряхнул и водрузил ее на голову арестованного. Потом вздохнул неизвестно чему.
1638 год
«За десять лет беспарламентского правления произвол, притеснения и насилия обрушились на нас без каких-либо ограничений и преград. Грузовой и весовой сбор взимался без всякого предлога или ссылки на закон. Много других непомерных пошлин были настолько неразумны, что размер их часто превышал стоимость ввозимого или вывозимого товара. Был изобретен новый неслыханный налог под названием „корабельные деньги“; и хотя он взимался под предлогом строительства флота для охраны морей, тем не менее купцы были оставлены настолько беззащитными против нападения турецких пиратов, что много больших кораблей с ценным грузом и тысячи подданных его величества были захвачены в плен, где и остаются до настоящего времени в злосчастном рабстве. Были объявлены монополии на мыло, соль, вино, кожу, уголь, перевозимый морским путем, и на многие другие товары и предметы первой необходимости. Пахотные земли продолжали обращать в пастбища путем так называемого огораживания».
Из антиправительственной Ремонстрации[4]
Январь 1638
Или, Кембриджшир
— А вы, мистер Кромвель? Что вы думаете о шотландских делах?
Кромвель поднял глаза от сочащейся гусиной ноги и еще раз оглядел сидевших за столом. Воскресные обеды устраивались членами местного филантропического общества по очереди. Сегодня принимал мистер Пэйдж. Справа от него сидел вислощекий, плешивый доктор Фуллер — декан собора святой Троицы. Нэнси, его племянница, от возбуждения и любопытства все время забывала о еде. Дальше Оливер, Элизабет — Кромвель взял только их, хотя приглашали его со всей семьей. На дальнем конце стола аптекарь Гудрик, ближайший друг Пэйджа, бубнил себе под нос что-то невнятное, ни к кому не обращаясь. Мистер Хэнд поддевал ножом коричневую корочку гусиной кожи с такой сосредоточенностью, словно заданный им вопрос был сущей безделицей и мало его занимал.
— Беспокойство шотландских подданных его величества можно понять, — медленно начал Кромвель. — Молитвенник Нокса[5] стал для них не только делом их веры. С ним у них впервые появилось нечто общее, объединяющее. Впервые они могли почувствовать себя не сборищем диких кланов, а народом. И когда кто-то теперь покушается на их молитвенник, им кажется, будто у них хотят отнять веру и душу саму.
— Вы называете это беспокойством? Почему бы не сказать попросту — бунт?
— О, я не одобряю тех бесчинств, которые творились в церкви святого Джайльса. Думаю, английские девушки никогда не позволили бы себе таких безобразий, как эти эдинбургские горничные. Кидать табуреты в священника! Вам бы и в голову не пришло такое, не правда ли, Нэнси?
— Нэнси — плохой пример, отец, — сказал Оливер-младший. — Всем известно, что она способна растоптать ногами совершенно новую шляпу человеку только за то, что он случайно отдавил хвост ее котенку.
Старшие засмеялись, припомнив этот эпизод. Нэнси сделала вид, будто хочет заколоть Оливера вилкой. Оливер послушно подставил ей сердце. Все опять засмеялись.
— За английских женщин ваше преподобие может быть спокойно, — сказала Элизабет. — Если завтра архиепископ Лод прикажет вам обращаться к богу другими словами, они это стерпят. Ибо все равно каждая молится в душе по-своему.
— Не все так миролюбивы в делах веры, миссис Кромвель. Вы не представляете, сколько фанатической нетерпимости таится в душах многих англичан. Среди них есть такие, что не простили бы нам этой бутылки вина к воскресному обеду.
— Вино здесь ни при чем, доктор Фуллер, — вскинулся на своем конце аптекарь. — Вы отлично знаете, что не в вине дело.
— Мистер Гудрик?..
— …Но есть такие формы идолопоклонства, которые люди не могут выносить. Даже самые правоверные англикане. Вспомните хотя бы судью Шерфильда.
— Кто это?
— Вы не слышали про Шерфильда из Солсбери? Он был еще более строгим судьей, чем вы, мистер Кромвель. И особенно для сектантов. Но он был также искренне верующим и не мог стерпеть того, что в витраже их церкви был изображен бог-отец. Седовласый румяный старичок — бог-отец! Как вам это понравится?
— «Не сотвори себе кумира», — процитировал хозяин дома, подняв палец. — «Не делай никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу… Не поклоняйся им и не служи им…»
— Вот именно, мистер Пэйдж, вот именно. И однажды совесть заговорила в судье Шерфильде так громко, что он не выдержал: взял у церковного сторожа ключи, заперся ночью в храме божьем и с палкой в руке полез к витражу. Он был старый человек и несколько раз срывался вниз. Но, несмотря на боль и ушибы, он лез снова и снова, пока, наконец, не дотянулся и не расколотил палкой весь витраж.
Голос аптекаря от возбуждения сделался тонким, почти визгливым. Копна волос свесилась на лоб и закрыла на минуту глаза.
— Его схватили?
— Он и не собирался бежать. Суд Звездной палаты приговорил его к штрафу в пятьсот фунтов.
— Пятьсот фунтов?! — мистер Хэнд с недоверием покачал головой.
За столом притихли. Звездная палата была слишком скользкой темой, чтобы касаться ее при посторонних.
Вошел слуга и стал собирать опустевшие блюда. Где-то далеко, за подмерзшими топями, за бурыми полосами кустарников, на краю земли, лежало малиновое закатное солнце, и отпечатки оконных переплетов едва заметно ползли вверх по стене столовой. Снизу, из кухни, шел запах дров, дыма, кипящего жира, тепла.
— Я рад был заметить, мистер Хэнд, что вы спокойно восприняли окончание осушительных работ, — сказал декан, ковыряя в зубах обломком пера.
— Спокойно? Я просто устал бороться. Двадцать лет — с меня хватит. Разве что мистер Кромвель подменит меня теперь, когда он унаследовал имение дядюшки.
Все головы повернулись к Кромвелю. Вот уже год, как он обосновался здесь, в Или, обосновался прочно, перевез всю семью, но к нему все еще присматривались, привыкали. И в то же время будто чего-то ждали от него, чего-то такого, на что у самих уже не хватало сил.
— Как, мистер Кромвель? Неужели вы тоже противник осушения?
— На церковные доходы осушение, конечно, не повлияет, доктор Фуллер. Я буду так же исправно уплачивать вам ту же ренту за арендуемую у вас землю. Для всей же округи оно может обернуться полной катастрофой.
— Дядюшка Вильям, я вас умоляю! — Нэнси сложила ладони перед грудью. — Раз и навсегда растолкуйте мне эту загадку: почему все кругом так против осушения? Король и граф Бедфорд и эти купцы-сукноторговцы вкладывают огромные деньги, вместо болот и топей в графстве появятся сотни акров пахотной земли. Говорят, впервые в этом году не будет наводнения и наш Или не окажется на острове. Что в этом плохого?
Декан пожал плечами и откинулся на спинку стула, как бы открывая племяннице единственного человека, знающего ответ на этот трудный вопрос.
— Да то, милая Нэнси, — сказал Кромвель, — что это будет уже не наша земля. Она попадет в руки спекулянтов и придворных фаворитов, которые немедленно огородят ее и начнут вздувать цены.
— Но ведь сейчас от нее нет никакой пользы.
— О нет. Топь — неважное место для посева и для прогулок, но летом это — прекрасное пастбище. За право пользоваться им наши крестьяне платят мне треть шиллинга с коровы и очень довольны. На сухих участках они выкашивают столько сена, что им хватает его почти до марта.
— В хорошие годы — до новой травы, — вставил Пэйдж.
— Землей же владеют их преподобия, и они продают эти пастбища казне по цене болота. То есть отдают даром.
— Вы же знаете, мистер Кромвель, что мы не можем противиться распоряжениям королевского казначея.
— Я знаю только одно: крестьяне, оставшись без болотной травы, будут разорены. Очень небольшая часть их сможет арендовать осушенную землю по той цене, которую с них будут требовать за нее. Они еще не научились хозяйствовать по-новому, как в Эссексе или Кенте, и не сумеют извлечь из земли столько, сколько нужно на покрытие увеличенной ренты. Может, лет через двадцать осушение и начнет приносить пользу. Но неужели ради этого ныне живущие должны помирать с голоду?
Огромный яблочный пирог, внесенный тем временем слугой, застыл в воздухе, потом проплыл над головами гостей и опустился на стол заметно ближе к Кромвелю, чем к хозяину. Слуга жил в доме давно, ему многое позволялось. Он взял салфетку и зачем-то начал обтирать спинку стула, на котором сидел Кромвель, бормоча при этом:
— Золотые слова, сэр, мистер Оливер, да благословит вас бог… золотые слова…
— Поверьте мне, джентльмены, я-то смогу обойтись без этих коровьих шиллингов. Я даже думаю, что, арендовав часть этой осушенной и огороженной земли, я смог бы найти для нее крепких йоменов[6] и мои доходы возросли бы. Но, — Кромвель указал пальцем в сторону окна, — мы не должны забывать, что все разорившиеся крестьяне превратятся в нищих и бродяг, которые лягут на плечи нашего же прихода. Что люди, доведенные до отчаянья, перестают слушать всякие резоны и убеждения. Что в тюрьме ли, в богадельне ли — кормить их придется нам же. Милая Нэнси, если мы не сумеем помешать тому, что происходит… у нас не будет наводнения, зато будет бунт. Как тридцать лет назад здесь, по соседству — в Нортгемптоншире. Восставших называли тогда левеллерами.[7] Они обижались на эту кличку, но она точно выражала суть дела: на дне своей нищеты они ничего другого не хотели, как сравнять всех, кто побогаче, с собою, все тучные поля — с своим запустеньем, все высокие дома — со своими, то есть практически с землей. Сравнять — в этом есть огромный соблазн!
На протяжении всего этого разговора аптекарь Гудрик, ни на кого не глядя, то усмехался, то с сомнением склонял ухо к плечу, то вопросительно поднимал бровь, то одобрительно кивал головой, будто вел беседу с кем-то невидимым. Но тут он резко повернулся к Кромвелю и крикнул своим тонким голоском:
— А откуда же король взял деньги на осушительные работы и скупку земель?
Мистер Пэйдж перестал резать пирог и развел руками, словно прося у всех прощения за манеры своего друга. В комнате стало светло — слуга зажигал свечи.
— Его величество — крупный предприниматель, мистер Гудрик. Монополия на торговлю табаком, порохом, игральными картами, таможенные сборы, продажа патентов, продажа баронских и рыцарских титулов… Я не могу вам перечислить все источники доходов казны, но всякому ясно…
— Нет! На этот раз вы, мистер Кромвель, вы сами снабдили его деньгами.
— Мистер Гудрик! — В голосе Пэйджа укоризна пыталась прикинуться строгостью.
— И вы тоже, мистер Пэйдж. Вы оба уплатили в этом году корабельную подать, хотя отлично знали, что налог этот — незаконный.
— Вы хотите сказать…
— Именно! Я хочу сказать, что вы должны были поступить, как ваш кузен, мистер Гемпден. Ему тоже ничего не стоило уплатить эти несчастные двадцать шиллингов и жить спокойно. Но он отказался подчиняться произволу, не побоялся пойти под суд за отказ. И не говорите мне, что у вас семья, дети, хозяйство. У него тоже есть семья и чувство долга перед ней. Но есть же, в конце концов, и долг перед Англией!
— Неужели двадцать шиллингов могут что-то изменить?
— Речь идет не о двадцати шиллингах, доктор Фуллер, а о свободе государства. За последние три года корабельный налог из чрезвычайного сделался постоянным. Скоро король сможет на эти деньги не только скупать за бесценок земли, но и нанять армию. Наемную армию, джентльмены! И мы окажемся под властью такого же деспотизма, как испанцы, турки, русские. Мистер Гемпден прекрасно это понимал. И вот он под судом, а король содержит судебную стражу за счет его родственников. Браво! превосходно!
— Я слышал, что пока суд не вынес никакого определенного решения. Дело передано на рассмотрение двенадцати высших судей королевства.
— Судьи королевства? Хотел бы я посмотреть, что станет с тем из них, кто посмеет вынести решение не в пользу короны.
— Вы думаете, что в стране вообще не осталось честных и мужественных людей?
— Ах, мистер Кромвель. Десять лет назад эти люди собрались в парламенте — и что? Вы были среди них, вы голосовали за Протестацию. О, я помню наизусть. «Если какой-либо купец или какое-либо другое лицо добровольно внесет или уплатит в качестве подати означенный выше потонный и пофунтовый налог, не утвержденный парламентом, тот должен быть признан предателем вольностей Англии и врагом отечества». Разве корабельные деньги утверждены парламентом? Вашими же словами могу сказать вам теперь, мистер Кромвель. — Он запнулся и произнес тихо, но решительно: — Вы предатель и враг отечества.
Оливер-младший с грохотом отодвинул стул, вскочил, сжимая кулаки, но Кромвель ухватил его за плечо и усадил на место.
Тягостная тишина нависла над столом.
Нэнси разглаживала скатерть перед собой, хозяин сидел, прикусив губу, Элизабет сверлила аптекаря тяжелым, ненавидящим взглядом. Трещала, не желая разгораться, свеча. Кромвель согнулся, опершись лбом на сцепленные руки, потом поднял налившееся кровью лицо и сказал — в голосе его была усталость, боль и в то же время что-то угрожающее:
— Мне нечего возразить вам на это, мистер Гудрик.
Аптекарь тоже вдруг обмяк, нервное возбуждение оставило его, глаза в чаще волос погасли.
— Я прошу меня извинить… Мистер Пэйдж, в вашем доме… И вы, мистер Кромвель… Только мое искреннее уважение к вам позволило… толкнуло меня… Но мне пора. Я совершенно забыл, срочная работа… лекарство для жены мэра… Прошу извинить…
Он, кланяясь, встал из-за стола, повернулся и быстро пошел к дверям. Развязавшаяся шнуровка чулка свешивалась сзади из штанины. Когда он вышел, слуга с сердитым видом убрал его стул к стене.
Зима, 1638
«Суд Звездной палаты много раз допускал вынесение приговоров, присуждавших к непомерным наказаниям, не только для поддержания и содействия монополиям и связанным с ними незаконным сборам, но и по различным другим предметам. Посредством этого подданные его величества были притесняемы путем наложения отяготительных штрафов, задержания, клеймения, изувеченья, наказания плетьми, выставления к позорному столбу, забивания кляпа, тюремного заключения, изгнания».
Из антиправительственной Ремонстрации
Март, 1638
«После того как суд Звездной палаты вынес мне приговор — штраф, бичевание и позорный столб, — смотритель Флитской тюрьмы запер меня в камере и вплоть до дня экзекуции не выпускал даже на прогулки в тюремный двор, говоря, что за мое дерзкое поведение перед судом и этого наказания мало».
Джон Лилберн. «Дело зверя»
18 апреля 1638
Лондон, Вестминстер
— Вы видите перед собой новоиспеченного капитана конвоя его величества, мистер Хайд. — Джанноти сделал стремительный пируэт — плащ, шпага, кружева, локоны на минуту перешли в горизонтальное положение. — Он умоляет, он настаивает, он жаждет видеть вас сегодня на небольшом дружеском банкете, посвященном торжественному событию.
Хайд, улыбаясь, приподнял шляпу и слегка развел руками:
— Синьор! Если вы умеете делать с лондонскими поварами такие же чудеса, как с лондонскими портными, было бы глупо не принять приглашение.
— Не скрою, я нашел одно довольно приличное заведение за Чаринг-кросс. «Петух и кошка». Сбор гостей через три часа.
Хайд щелкнул крышкой карманных часов и передвинулся поближе к окну. По утрам даже в самые солнечные дни западная сторона Вестминстерского дворца бывала темноватой. Галерея постепенно заполнялась посетителями, клерками, адвокатами и прочим судейским людом. С площади нарастал неровный гул, прерываемый резкими лопающимися звуками, — будто кто-то рывками раздирал бумагу лист за листом.
Хайд и Джанноти выглянули наружу.
Толпа двигалась по проезду от Кинг-стрит, окружая пустую телегу с одиноким возницей на козлах. Сзади шел голый по пояс человек, руки его были привязаны к телеге, лицо поднято к небу. Палач, почему-то тоже по пояс голый, с кожей по-весеннему белой, блестящей от пота, поднимал кнут и с каждым ударом как бы прыгал на свою жертву.
Помощник шерифа, распоряжавшийся экзекуцией, пришпорил коня, обогнал телегу и знаком показал вознице, чтоб ехал помедленней. Сверху казалось, будто на спину осужденного накинуто что-то красное и лохматое. Он жадно ловил ртом воздух и, похоже, не слышал подбадривающих криков, не замечал толпы, почти не чувствовал ударов, но весь был сосредоточен на какой-то трудной работе, происходившей внутри него.
— Дева Мария, да ведь это Лилберн! — воскликнул Джанноти. — Ох-хо-хо, это он, мистер Хайд, уверяю вас.
Хайд с брезгливым недоумением посмотрел на радостное лицо итальянца и отвернулся.
— Значит, он все же допрыгался со своими книжонками! Какой подарок к торжественному дню. О, не смотрите так осуждающе. Это единственный человек в Англии, которому я желаю зла. И поверьте, у меня есть к тому основания. Нет, не могу отказать себе в удовольствии. Какой спектакль! Я должен досмотреть его до конца.
Телега, продвигаясь в сторону здания Звездной палаты, исчезла из поля зрения, и Джанноти, помахав Хайду, кинулся к противоположному окну.
— Джентльмены, умоляю, потеснитесь немножко. За место в первом ряду плачу фунт. Мне нельзя пропустить заключительную сцену, прошу вас.
— Не горячитесь, капитан. Похоже, что продолжения не будет.
— Разве? — спросил кто-то. — А позорный столб?
— Судьи решили, что бичевания достаточно. Позорный столб отменят, если молодчик признает себя виновным.
Джанноти наконец протиснулся к окну и успел увидеть, как Лилберна отвязали от телеги и увели в какую-то дверь под вывеской. Толпа с глухим гулом заливала площадь. Справа, в открытых окнах Звездной палаты, зрители устраивались поудобней, окликали знакомых.
Шлемы выстроенных стражников образовали вокруг помоста сверкающий квадрат.
Прошло около получаса.
Вдруг раздалась барабанная дробь, дверь открылась, стража раздвинула толпу, и по образовавшемуся коридору Лилберн — рубаха накинута на плечи, в открытом вороте видны наспех наложенные бинты — прошел к помосту.
— Глядите, — он отказался признать себя виновным!
— А вы что думали? Все пуритане упрямы как ослы.
— Разве он пуританин?
— Во всяком случае, какой-нибудь сектант.
— О, вы еще не знаете этого типа. Я же обещал вам, что представление будет занятным.
— Капитан, вы говорите с такой гордостью, словно он ваш близкий родственник.
— Хуже. Он… Не знаю, как это сказать по-английски… Он мой самый близкий враг.
— Все же это немного дико: бить человека до полусмерти, потом передавать его в руки врача только для того, чтобы можно было мучить его дальше.
— Смотрите, еще одного выводят.
— Это книготорговец, продававший вредные книжонки. Их судили вместе.
— Хорошая компания — один желторотый, другой на ладан дышит. А туда же еще.
Мистер Вартон, поддерживаемый палачом, с трудом влез на помост и, растерянно улыбаясь, что-то сказал Лилберну. Тот ничего не ответил, только кивнул, не глядя нашел плечо старика, пожал. Казалось, он по-прежнему старался сосредоточить все силы на невидимой внутренней работе и не хотел отвлекаться ни на что другое.
Палач снял верхний брус с колодки позорного столба и велел обоим вложить головы в полукруглые вырезы нижнего. Лилберну пришлось для этого сильно нагнуться. Рубаха плотно облепила спину, и в нескольких местах на ней проступили красные пятна. Палач положил верхний брус на место, примотал его ременной петлей и отошел к краю помоста, отирая руки о кожаные штаны. В тот же момент голова Лилберна ожила, приподнялась, насколько позволяла колодка, и крикнула голосом сдавленным, но громким и настойчивым:
— Братья мои!
Толпа всколыхнулась, качнулась вперед, застыла.
— Братья мои! К вам, кто любит господа нашего Иисуса Христа и желает, чтоб он царствовал и правил в сердцах и жизнях наших, ко всем, кто слышит меня, обращаю свою речь.
Над площадью воцарилась полная тишина. Только в дальних воротах было заметно какое-то движение — люди продолжали протискиваться внутрь и вдоль стен пробирались на свободное место.
— Братья! Не по божьему закону, не по закону нашей страны, не по воле короля терплю я это наказание, а только по злобе и жестокости прелатов. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы». Не о прелатах ли это сказано?
— Придержи язык! — крикнул помощник шерифа. — Тебя судили по закону, и ты получил меньше того, что заслужил.
Толпа глухо зашумела и сдвинулась плотнее.
— По закону? В каком английском законе сказано, что от обвиняемого можно требовать показаний против самого себя под присягой? А когда я отказался дать эту безбожную и незаконную присягу, судьи Звездной палаты бросили меня в тюрьму. Они говорили, что меня обвиняет какой-то Чиллингтон, но ни разу не поставили меня лицом к лицу с обвинителем. Даже римские язычники не позволяли себе такого. Они хуже язычников, хуже книжников и фарисеев, эти наши мучители — епископы, забравшие над нами такую страшную власть.
— Аминь! Аминь! — откликнулось несколько голосов. Помощник шерифа раздвинул стражников конем и, подъехав к помосту, протянул плетку к самому лицу Лилберна:
— Замолчишь ты или нет? Еще одно слово, и я прикажу содрать с тебя рубаху и выпороть второй раз.
— Не замолчу! Я буду говорить, хоть бы вы грозились повесить меня на Тайбернских воротах. Я не богохульствую и никого не оскорбляю. У меня нет злобы ни на одного из епископов лично — я нападаю на их сан, на должность, на непомерную власть.
— Заткни ему рот! — приказал помощник шерифа.
Палач посмотрел на него сверху и покачал головой:
— У меня нет такого приказа.
— Я! Я приказываю тебе!
— Письменный приказ их светлостей — вот что мне нужно. Я подчиняюсь только их распоряжениям.
— Ну хорошо же! — Помощник шерифа в бешенстве соскочил с коня, быстро прошел между рядами стражников и исчез в дверях Звездной палаты.
У Лилберна больше не было сил держать голову поднятой. Он видел теперь только доски помоста, но голос его, будто отражаясь от этих досок, далеко разлетался над замершей площадью. Потом он сунул руку в карман, достал оттуда несколько экземпляров «Литании» и неловким, но сильным движением швырнул их в сторону. Книжки перелетели через ограду из алебард и тут же исчезли, расхватанные десятками жадных рук.
— Вот книга, за которую я страдаю! Возьмите ее, прочтите и рассудите сами, есть ли в ней что-нибудь против законов божьих, или законов нашей земли, или блины короля и государства.
Помощник шерифа появился в дверях и почти побежал по проходу, держа перед собой свернутую в трубку бумагу.
— Братья мои! Не бойтесь принять страдания за свободу духа. Сегодня я на себе испытал, сколько душевной силы приливает тому, кто верит в свою правду, как отступает перед нею всякий страх и боль. Облекитесь и вы во всеоружие божие, чтоб вам можно было стать против козней дьявольских. Помните, что наша война не против плоти и крови, но против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы…
В этот момент руки палача ухватили его за волосы, задрали кверху лицо и сунули в открытый кричащий рот тугой комок пеньки; потом пригнули голову и затянули завязки кляпа на затылке.
За оставшиеся полтора часа на небе так и не появилось ни одного облака, и толпа молча стояла под палящим солнцем, не расходилась, чего-то ждала. Пятна на спине Лилберна расползлись, почернели, засохли. Только когда положенное время истекло и осужденных стали вынимать из колодки, поняли, что старик Вартон без сознания.
Хайд вернулся в Вестминстер, когда все уже было кончено и площадь опустела. В переходах и галереях дворца возобновилась обычная деловая суета, и лишь новоиспеченный капитан конвоя одиноко и задумчиво стоял у окна.
— Синьор Джанноти, вы еще здесь? Значит, я напрасно спешу на банкет?
Джанноти оторвал взгляд от опустевшего помоста и виновато улыбнулся:
— Да-да, пора. Мы как раз успеем к назначенному часу.
Они вместе спустились по лестнице, вышли на улицу.
— Варварская расправа все же отравила вам праздник? Это меня радует. Сознаюсь, мне давеча стало не по себе, когда я увидел, с каким злорадством вы разглядывали спину этого бедняги..
— Расправа? Нет, мистер Хайд. Тому, кто видел костры в Испании, четвертования в Париже, колесования в Кельне, такое зрелище не может подействовать на нервы. Но люди… эта толпа… Народ…
— Что же вас так в них поразило?
— Как они слушали. И как молчали. Я в жизни своей не видал ничего подобного.
— Боюсь, я не совсем вас понимаю.
— Их лица… И это терпеливое ожидание. В других странах я видывал толпу глумящуюся, хохочущую, грозящую осужденному. Или в тех редких случаях, когда она была на его стороне, могла начаться свалка, кто-то мог попытаться отбить его у стражи. Но это… Какая-то смесь законопослушности и упрямого отпора, несогласия, непризнания. Вы бывали за границей, мистер Хайд?
— Не довелось.
— Значит, вам не с чем сравнивать. Для вас английская толпа — зрелище привычное. Но для меня… Сознаюсь, мои мечты о спокойной жизни на вашем острове сильно поколебались. Скажу вам даже более прямо: вы живете на притаившемся вулкане.
— Полноте, — засмеялся Хайд. — Во всей Европе вы не найдете сейчас власти более прочной и устойчивой, чем власть его величества короля Карла Первого.
При этих словах он отвесил поклон Уайтхоллу — королевскому дворцу, мимо которого они как раз проходили.
— Дай бог, дай бог… А чего они, в сущности, хотят, эти сектанты? Кажется, их еще называют «пуритане»? Ведь Англия вот уже сто лет — протестантское государство. Ни папы, ни кардиналов, ни инквизиции, ни иезуитов. Чего им еще надо?
— Во-первых, они уверяют, что существует опасность возвращения к папизму. Что реформы в области богослужения и церковного убранства, предпринятые его преосвященством архиепископом Лодом, все направлены на это.
— Есть тут доля правды?
— Католикам, конечно, делаются сейчас некоторые потачки. Но ведь и сама королева — страстная католичка. В высшем обществе это становится даже модным. Говорят, одна знатная дама недавно перешла в католичество и, когда архиепископ спросил ее, зачем она это сделала, отвечала: «Все спешат к Риму, ваше преосвященство, в том числе и вы; а я не люблю идти в толпе, поэтому решила обогнать вас».
— Очень мило.
— Мило, но неверно. Я встречался несколько раз с его преосвященством и говорил с ним. Его настоящая цель — придать англиканской церкви окончательное единообразие в организации, в формах богопочитания, в учении. Тогда всем этим полуграмотным крикунам, доморощенным проповедникам не останется уже никакой возможности нести, как они выражаются, божий свет людям. Это-то их и бесит, из-за этого-то они и нападают на новый молитвенник, на облачения священников, на епископат. Папизм! происки Рима! сатанинские искушения! Темный народ с готовностью слушает эти вопли. Но что поразительно — сектанты находят поддержку и среди людей достойных и образованных. Некоторые даже берут их к себе домашними учителями.
— Воображаю, каких унылых ханжей вырастят подобные наставники.
— Вообще говоря, пуританам нельзя отказать в некоторых достоинствах. Как правило, они честны, воздержанны, не корыстолюбивы. Многим прелатам епископальной церкви следовало бы поучиться у них жизни скромной и целомудренной, вместо того чтобы предаваться чревоугодию, пьянству, охоте. Но эта узость мысли! Этот тупой фанатизм! Долой театр, долой танцы, долой праздники и развлечения, долой наряды и маскарады, долой стихи, музыку, живопись, долой все книги, кроме Библии!..
— Неужели и английскую поэзию?..
— Безусловно. «Пред тем, как тихо испустить дыханье, я огласить хотел бы завещанье…»
— «…глаза дам Аргусу, пока смотрю, — подхватил Джанноти, — ослепнут — их Амуру подарю. Слух — дипломатам иностранным, а слезы — женщинам иль океанам».[8]
— Вот видите. Вы, найдя у меня на столе эти стихи, лихорадочно заучиваете их наизусть, пуританин же вышвырнул бы их в огонь. Ибо для него Джон Донн такой же гнусный источник соблазна и совратитель душ, как Спенсер, Шекспир, Бен Джонсон.
— Кстати, я все хотел спросить вас: известно ли, почему сам Джон Донн при жизни не публиковал своих стихов? У книготорговцев я видел только его проповеди.
— Величие Джона Донна, может, в том и состояло, что он умел наполнить свои обращения к богу поэзией и свою поэзию — обращением к богу.
Они были уже у дверей «Петуха и кошки». Хайд, двигаясь с тем особым бальным изяществом, какое бывает свойственно молодым, но рано располневшим людям, взбежал на крыльцо и прочел, подняв руку к небу:
Входя в Твою священную каюту,
Где музыкой по милости Твоей
Я сделан в вечном хоре, в ту минуту,
Свой инструмент настроив у дверей,
Я жизнь иную вижу в жизни сей.[9]
Хозяин таверны с поклонами проводил их в заднюю комнату, где уже собрались почти все приглашенные.
— Джентльмены, — сказал Хайд, — наш храбрый капитан в ужасном расположении духа, но, поверьте, не я его расстроил. Просто в его сердце засело тягостное предчувствие… Вы никогда не догадаетесь какое.
— Что мы съедим и выпьем сейчас вдвое больше того, на что он рассчитывал.
— Что капля томатного соуса упадет на его новый мундир.
— Что красотка забудет его, пока он будет стоять в ночных караулах.
— Что его величество отправит его до скончания дней посланником к русскому царю.
— Что кончится мода на высокие каблуки.
— Нет, нет и нет. Но он со всей серьезностью уверяет меня, что вся Англия не сегодня-завтра будет охвачена мятежом.
Собравшиеся разразились в ответ дружным смехом.
Апрель, 1638
«Шотландские представители, собравшиеся в Эдинбурге, решили возобновить торжественную клятву — Ковенант. Всякий, кто подписывал эту клятву, обязывался защищать чистоту реформированной религии против папизма и любых нововведений. Посланцы с огненными крестами везли текст от селения к селению, от города к городу, и к концу апреля в Шотландии едва ли оставался хоть один протестант, не принявший Ковенанта».
Мэй.[10] «История Долгого парламента»
Лето, 1638
«Что касается созываемой ими Генеральной Ассамблеи, то хотя я и не жду от нее никакого добра, однако надеюсь, что вы помешаете большему злу, во-первых, если возбудите между них прения насчет законности их выборов во-вторых, если станете протестовать против их неправильных и насильственных действий. Если же вы могли бы распустить ее под каким-нибудь ничтожным предлогом, то ничего лучшего нельзя было бы и желать».
Из письма Карла I маркизу Гамильтону
Ноябрь, 1638
«Король назначил шесть лордов своего Тайного совета в помощники маркизу Гамильтону на Генеральной Ассамблее в Глазго. Их не впустили на заседания; в праве голоса им было отказано, и члены Ассамблеи заявляли, что, если бы и король явился сюда собственной персоной, он имел бы всего лишь один голос, и этот голос отнюдь не был бы правом вето. Столь свирепая решимость вынудила королевского комиссара поставить под вопрос законность Ассамблеи и выпустить прокламацию о ее роспуске. Ковенантеры отказались разойтись, изгнали из своей среды епископов, отлучили некоторых из них от церкви и вскоре совсем упразднили епископат. Маркиз Гамильтон вернулся в Англию, ковенантеры же приступили к вербовке солдат, установлению налогов, строили одни укрепления и крепости, захватывали другие и срочно готовились к войне».
Уайтлок.[11] «Мемуары»
11 ноября 1638
Лондон, Флитская тюрьма
О том, что происходило за стенами тюрьмы, он не знал почти ничего. Летом ему иногда удавалось подслушать обрывки разговоров заключенных, бродивших во дворе, но и в них лишь изредка мелькали обрывки городских новостей. Свары из-за грошовой милостыни, приносимой сердобольными лондонцами в общий ящик, хриплое пение, брань, дешевые шутки… Большинство сидело за долги и ничем, кроме денег, вина, еды, не интересовалось.
Один раз старшему брату, Роберту, все же разрешили навестить его. Они вышли вместе во двор, сам Лилберн еле передвигал ноги и почти ничего не видел — болезнь глаз началась уже тогда. Роберт нес его на себе и срывающимся голосом говорил только об одном: о горе и возмущении отца, о том, что он должен пожалеть его и обещать вести себя более смирно. У отца была крупная тяжба за земли в Дареме, он угрохал на нее уже больше тысячи фунтов, и дело должно было как раз слушаться в Тайном совете, когда сын все погубил ему, попав в руки Звездной палаты.
Летом он помирал от жары. Он начал ненавидеть солнечные дни, эти ясные утра, поднимавшие волну испарений от речушки, протекавшей под стенами. Два месяца он не мог разуться из-за кандалов на ногах. Когда же ему удалось разрезать сапоги, он чуть не задохся от вони. Мухи слетались на него, покрывали раны черной шевелящейся повязкой. Он мечтал о дожде, о прохладе, о наступлении зимы. Зима наконец пришла, и теперь он не мог решить, что страшнее. Пытка жарой была мучительна, но при ней наступало какое-то расслабление, отупелость, полузабытье. Холод забыть было невозможно, он сидел в теле, в костях, острый, как стекло, заставлял помнить о себе каждую секунду, не давал отвлечься ни на что другое, и это было унизительно. Три пары чулок не спасали от ощущения мерзлого железа на щиколотках. Несмотря на холод, он чувствовал, что воняет так же, как летом, потому что горячей воды ему не давали. Клопы сползались на него со всей камеры.
Он лежал на кровати под одеялом и пытался руками растопить ледяную пробку в горлышке бутылки с водой. Небо за окном понемногу очищалось от облаков, синело. Возможно, сегодня ему удастся наконец закончить письмо, над которым он трудился уже неделю. Он никогда не видел той, к кому писал, но, как всегда, при одной мысли о ней горячая волна радости плеснула в нем от сердца к глазам. Он поспешно откинул одеяло, глотнул ледяной воды и спустил ноги с кровати.
Кандалы глухо звякнули о каменный пол.
Он лег животом на камни, подполз под кровать и, упершись локтями и коленями, приподнял край ее на несколько дюймов. В одной из ножек была невидимая снаружи полость, в которой он прятал пузырек с чернилами. Старый Ховс показал ему этот тайник, а он — он отплатил ему черной неблагодарностью. Конечно, он писал «Дело зверя» в лихорадке, на следующий же день после бичевания и позорного столба. И все же можно было сообразить, что не следует рассказывать, как тюремный привратник пронес ему в камеру те книжки, которые он потом разбрасывал в толпу. Тем более называть его по имени. Беднягу Ховса выгнали сразу же после того, как «Дело зверя» было напечатано. Каждый раз, доставая пузырек с чернилами, он мысленно каялся перед добрым стариком.
Зато тайник для писчих принадлежностей он придумал сам. Под комодом была узкая щель, и, если засунуть туда руку, можно было снизу хлебным мякишем приклеить ко днищу несколько листков бумаги и за них спрятать перо. И кровать, и комод двигали при всех обысках, но так ничего и не нашли.
Он достал свои листки и, пока чернила оттаивали в кулаке, перечитывал написанное.
«Дорогой и любимый друг, ваше сладостное письмо, которое я получил, мне удалось прочесть с большим трудом, ибо зрение мое настолько ослабло, а на некоторое время я вообще утратил его, так что не мог читать даже Библию. Не могу выразить, как освежена была им душа моя, как возросла благодаря ему та радость, которая постоянно живет во мне. Оно стало самым дорогим подарком из всего, что доходило до меня сюда, в эту темную камеру».
Он вернулся глазами к слову «постоянно» и задумался. Ему хотелось, чтобы письмо было предельно правдивым, и он начал мелочно допытываться у собственной памяти — всегда ли он знал в себе эту радость? А долгие часы полного отупения и нежелания жить? А вспышки отчаяния? А муки голода, а боль в руках, а гноящаяся спина? Нет, честнее было бы сказать, что то состояние пьянящего душу восторга, ощущение своей безусловной избранности и предназначенности чему-то большому, когда он переставал чувствовать свое смердящее, истерзанное тело, приходило к нему лишь в самые трудные минуты. Да он и не мог бы выдержать его долго. Жило скорее воспоминание о нем, уверенность, что это чудо может повториться с ним вновь и вновь. Может, воспоминание-то и ощущалось как неизбывная, длящаяся во времени радость, придавало сил. В этом смысле слово «постоянно» не шло в разрез с истиной — он не стал его вычеркивать, только подправил покосившееся «о».
«Вы пишете, что увидели меня впервые у входа в тюрьму, когда я был еще без кандалов, и что при виде той смелости, спокойствия и бодрости, с какою бог даровал мне силы выносить страдания, вы еле могли сдержать ликование, переполнявшее вас, и что вы увидели во мне, как в самом ясном зеркале, всемогущество божие, дарующее такое мужество и непреклонность…»
Он смутно припоминал, что, когда его привезли обратно в тюрьму после позорного столба, у ворот привратник Ховс разговаривал с какой-то девушкой. Почему-то ему хотелось теперь, чтобы это оказалась именно она, хотя он не запомнил ни лица ее, ни голоса и наверняка не узнал бы при встрече. Не до того ему было тогда, когда главным казалось — удержаться на ногах, дойти до камеры самому. Но, видно, какой-то знак, какая-то искра пробежала между ними и отпечатала в памяти ее локоть, оттянутый тяжелой корзиной, белый, до земли, передник, просвет шеи над широким подсиненным воротом платья.
Чернила оттаяли, он поставил их на стол и немеющими пальцами взял перо. Из-за кандалов левая рука его должна была постоянно двигаться за правой, правая — за левой. Даже волосы он вынужден был причесывать обеими руками.
«Когда же вы пишете, что при воспоминании обо мне слезы радости текут по вашим щекам, о навеки возлюбленный друг и сестра моя, мне кажется, что образ самого Иисуса Христа запечатлен в душе вашей; и хотя, насколько я понял, мы по-разному исповедуем Евангелие, сердце мое так расширяется навстречу вам, что я был бы счастлив увидеться с вами и поговорить обо всем этом и хотел бы, чтобы вы познакомились с некоторыми из моих дорогих собратьев, которые открыто проповедуют ту же истину, за которую я принял страдания».
Стопка мелко исписанных листков все росла, но он никак не мог остановиться. Ему казалось, что если он что-то упустит, это что-то — кусок его жизни, кусок души, — не переданное ей, умрет навеки. Неизвестно еще, представится ли когда-нибудь другой случай передать ей письмо. Сегодня же служанка ее, Кэтрин Хэдли, обещала прийти снова, принести обед и что-нибудь из белья.
«…И я не знаю, удалось ли мне в нескольких строках выразить всю глубину моих чувств и любви к вам и поведать о той радости и утешении, какие бог посылает порой узнику. Я боюсь, что мои друзья, которые тоже просят, чтоб я писал им о себе, будут в обиде на меня, но писать отсюда очень трудно, и я вижу особый знак в том, что бог даровал мне силы писать именно и только к вам. Помните же о моей вечной любви и признательности, о моя неизвестная, которую я видел лишь мельком и из уст которой слышал лишь несколько слов, давным-давно, сказанных моему тюремщику».
Он с трудом заставил себя закончить наконец, скатал письмо в плотную трубку, убрал на место чернила и перья. И вовремя — в коридоре раздались голоса, шаги, женский хохот. Дверь распахнулась, Кэтрин, увернувшись от привратника, ввалилась в камеру и с порога закричала:
— Раны Христовы, господь всемогущий! Что же эти изверги делают с человеком? Мало им было его крови — теперь заморозить решили.
От нее веяло таким здоровьем и крепостью, что даже пар, вылетавший изо рта, казалось, тут же нагревал воздух. Все вещи вокруг нее стремительно вовлекались в летучий круговорот: корзина плюхалась на стол, принесенная провизия — хлеб, сыр, сухари, жареная рыба перелетали в комод, кусок мыла — на полку над тазом, грязное белье — обратно в корзину. Привратник, молодой незнакомый парень, не обращая внимания на Лилберна, ходил за ней по всей камере, тщетно пытаясь ухватить и облапить.
— Ну нет, ничего ты от меня не добьешься, Смит, Джонс или как тебя, коли не притащишь немедленно сюда хорошую печь и не растопишь ее самыми лучшими дровами. Слышишь ты или нет? Не дам я тебе так ни за что загубить такого славного молодого человека, которого вы сговорились тут извести до смерти.
— Как же, изведешь его! Надзиратель Хопкинс клянется, что такого упрямого и живучего дьявола он в жизни своей не видел. Если, говорит, ты допустишь кого-нибудь говорить с ним наедине, я самого тебя засуну в пятую мышеловку. А знаешь ли ты, что это такое?
— Не знаю и знать не хочу, а ты немедленно неси сюда печь. Не то я донесу твоему Хопкинсу, что ты сам таскаешь заключенному бумагу и всякие вредные книжки, что ругаешь вместе с ним архиепископа и что тебя его друзья купили с потрохами за три пенса, ибо большего ты и не стоишь. В двадцать пятую мышеловку тебя засунут тогда, вот как. Ну-ка, марш, живо, пошел!
Она повернула изумленного привратника за плечи и вытолкала за дверь. Потом обернулась к Лилберну.
— Быстро, быстро, любезный юноша, давайте, что у вас там есть. Ого, да это целый свиток! Вы, видно, хотите, чтобы меня схватили и тоже протащили привязанную к телеге по всему Лондону. Смеетесь вы, что ли? Как я его пронесу? Разве что здесь в рукаве.
— Нет, умоляю тебя… — Лилберн запнулся, покраснел. — Это письмо к твоей хозяйке. Мне непременно надо, чтоб оно дошло. Спрячь его как-нибудь получше… не в рукаве…
— Он еще будет меня учить! Я могла бы вам рассказать, где они будут меня обыскивать, а где не станут, да уж ладно. Пощажу вашу пуританскую невинность. А вот и Смит-Джонс — ай да молодец!
Привратник ударом ноги распахнул дверь и внес жаровню с горящими углями.
— Пусть греется, пусть поджаривает себе зад, пусть готовится к вечному адскому пламени. Не жалко. Что я получу в награду?
— Награду? Вы только поглядите на этого наглеца! Пеньковый галстук ты получишь в награду. Бесплатную качалку под перекладиной Тайбернских ворот. Это ж надо, до чего распустились нынешние юнцы, боже правый! Нет, в наше время…
Подхватив свою корзину, она вышла из камеры. Привратник поспешил за ней. Прогрохотал засов на дверях, шаги и голоса быстро покатились прочь по коридору. Лилберн отошел к стене и протянул руки к горящим угольям. Тепло хлынуло в его намерзшееся тело пьянящей струей.
Весна, 1639
«Король сам объявил набор в армию против шотландцев, и, хотя знать и джентри тоже помогали ему, больше всех старались прелаты, поэтому война получила название „епископской войны“; однако большинство англичан, будучи сами придавлены тягостным гнетом, не имели желания выступать против народа, который поднялся только ради того, чтобы отстоять свои законные вольности».
Люси Хатчинсон,[12] «Воспоминания»
Лето, 1639
«Авангард королевской армии утром 31 мая продвинулся на 12 миль в глубь Шотландии в районе местечка, именуемого Дунс. Когда граф Голланд с кавалерией оторвался далеко вперед, он увидел шотландцев, выстроившихся на склоне холма, и там, как ему доложили, был генерал Лесли со всей армией. Эта армия, говорят, была очень малочисленна и плохо вооружена. Но генерал Лесли расположил полки так искусно, что они производили впечатление весьма грозной силы, чему также способствовали большие стада скота, пасшиеся на флангах. Так что граф Голланд одного за другим начал слать гонцов к королю с докладами и сам, посовещавшись с офицерами штаба, отступил к своей пехоте. В конце концов измученные жарой и усталые войска вернулись в лагерь, где находился король.
После начавшихся вскоре переговоров королевская армия была распущена, а шотландцы вернулись в Эдинбург, добившись всего, чего они желали, и обзаведясь в Англии гораздо большим количеством друзей, нежели раньше».
Хайд-Кларендон. «История мятежа»
Декабрь, 1639
Берфорд, Оксфордшир
За окнами едва светало, когда Хайд спустился из отведенной ему комнаты в библиотеку. Хозяин дома, виконт Фокленд, уже причесанный после сна и одетый в шелковый халат, при свете двух свечей выписывал что-то из толстого фолианта. Последний год его главным увлечением был греческий.
— Милый Люциус, — сказал с порога Хайд, — просьбу мою можно было бы назвать требованием, если бы гость имел право что-то требовать от хозяина. Поэтому…
— Дорогой Эдвард, вы знаете, что нет такой вещи, в которой я мог бы вам отказать.
— Тогда прогоните меня наконец из вашего дома. Скоро неделя, как я гощу здесь и не могу заставить себя уехать.
— Как глупо я попался, — Фокленд засмеялся и отложил перо. — Чего не могу, того не могу. И что вас всех так тянет в Лондон?
— О, вы не знаете Френсис. Она не скажет ни слова упрека, даже не пожалуется, но будет делать вид, что она сосредоточена исключительно на детях и на домашних делах и не очень понимает, откуда вернулся в дом этот полнеющий мужчина и что он там бормочет о причинах своей долгой отлучки. Кроме того, меня ждет в суде гора неоконченных дел.
— Нет, о суде ни слова. Охота вам тратить свою жизнь, этот бесценный дар божий, на сутяжническое ремесло. Я уверен, что рано или поздно вы почувствуете к Лондону такое же отвращение, как и я, и тоже переберетесь в деревню.
— Милый Люциус, чем больше людей, подобных вам, будет покидать Лондон, тем большее отвращение он будет вызывать. И, смею сказать (бог с ней, со скромностью), чем больше людей, подобных мне, будет брезговать сутяжническим ремеслом, тем страшнее будет процветать в наших судах произвол, взяточничество, интриганство. Только не притворяйтесь, будто все это, как не касающееся литературы и богословия, вас не интересует. Ваша маска стороннего наблюдателя и деревенского сибарита больше никого не обманет. Не вы ли этим летом бросились простым волонтером на войну, хотя никто вас не звал?
— Ну, то другое дело. Когда враг подступает к границам Англии…
— Те враги Англии, которые находятся по эту сторону границ, гораздо страшнее, уверяю вас. Чиновник-хапуга, жестокий судья, бесчестный сборщик налогов — каждый из них откладывает в сердцах людей такую злобу… Накапливаясь капля за каплей, она сливается в море недовольства, которое рано или поздно затопит страну, подступит и к порогу вашего уединенного дома.
— Я ненавижу произвол и жестокость не меньше вашего, дорогой Эдвард. — Фокленд встал из-за стола и в задумчивости отошел к большому медному глобусу, стоявшему в простенке между книжными шкафами. — Но так ли велики их размеры? Истории, привозимые вами из судейского змеюшника, действительно, омерзительны. И все же в целом страна благоденствует. За последние девять лет Англия ничем другим не занималась, кроме как богатела. Торговля, колонии, промышленность — все цветет. Посмотрите, какие здания строят в городах, как одеваются.
— Но разве вы не замечали, что, чем богаче человек, тем больше он жаждет гарантий для сохранения своего богатства. Когда одного купца штрафуют за нарушение селитровой монополии на пять тысяч — вдумайтесь, на пять тысяч фунтов! — вы полагаете, армия недовольных увеличивается на одного человека? О нет. Тысячи торговцев и предпринимателей переживают в этот момент толчок щемящего сердце страха. И постепенно страх перерастает в злобу. «Английских лавочников, глядишь, скрутили не хуже турецких». И за эту невинную фразу другого купца приговаривают к уплате двух тысяч. А в поместьях? За отказ купить рыцарское звание — четыре тысячи штрафа. За нарушение прав королевских лесов с графа Солсбери — двадцать тысяч! А что делает наместник Ирландии, новоиспеченный граф Страффорд?
— Не говорите мне об этом человеке! — поморщился Фокленд.
— Считается, что, сменив вашего отца на этом посту, он смирил наконец непокорное королевство. Действительно, жалоб оттуда почти не слышно. Лишь время от времени до ушей двора доносится какой-нибудь невнятный вопль, стон, хрипенье очередной жертвы. Тогда Страффорда вызывают, он дает объяснения или просто присылает круглую сумму, чтобы подмазать кого нужно при дворе. Ужасно сказать, но иногда эту сумму передают прямо королю. Да и кто посмеет открыть рот? У всех на памяти сэр Дэвид Фуллис: пять тысяч за несколько осуждающих слов в адрес ирландского наместника…
— Про англичан не скажешь, что они отзывчивее других, отнюдь нет. Но они как-то поразительно все умеют примерить на себя. «А вдруг и со мной сделают то же самое?» Тут вы, пожалуй, правы.
Фокленд легонько толкнул глобус, и очертания Европы медленно поплыли из-под его ладони. Португалия, Испания, Франция, Ирландия… Однажды он написал стихи, в которых сравнивал силуэт Англии с бригом, летящим на всех парусах. Теперь ему пришло в голову, что Шотландия в таком случае не что иное, как флаги на мачтах. Сравнение явно было неудачным.
— Как вы полагаете, кампания против шотландцев возобновится?
— Но на какие средства? — воскликнул Хайд. — Казна пуста. Судьи признали корабельный налог законным, но люди, подстегнутые примером Гемпдена, упорно отказываются платить.
— Даже на отражение вражеского нашествия? Я готов отдать королю половину своих доходов для набора армии.
— Вы, я, еще несколько десятков, пусть даже сотен человек. Все это капля в море. Знаете, сколько стоит содержание армии в двадцать тысяч человек? Сорок тысяч фунтов в месяц, не меньше. Необходимо прямое обложение налогом по графствам. Но без постановления парламента народ откажется платить, а о парламенте, судя по тому, что происходило в королевстве последние десять лет, нам следует забыть.
Небо постепенно светлело, и силуэты голых садовых деревьев проступали на нем все отчетливее. Темная полоса дороги сразу за воротами сворачивала в сторону Оксфорда. Фокленд остановил вращение глобуса и грустно улыбнулся:
— Можете торжествовать, милый Эдвард, вам удалось расстроить меня глубоко и надолго. А я так надеялся с утра погрузиться в Ксенофонта.

Хайд умоляющим жестом протянул к нему руки, но тут же почти отдернул их, положил на край стола и упрямо нагнул голову.
— Нет. Я не стану жалеть об этом. Позволить вам залезть в свою раковину и закрыть створки? Этого вы от меня не дождетесь. Довольно того, чтобы вокруг короля собралось два-три человека, подобных вам, и положение дел в королевстве сильно изменилось бы.
— Вокруг короля будут всегда находиться только те, кого согласится терпеть королева. А это значит — сегодня одни, завтра другие, послезавтра третьи.
— Может, мне удалось бы убедить вас, если б нам чаще доводилось спорить с глазу на глаз. Ваши друзья и гости люди замечательные, я ценю и люблю их каждого по отдельности. Но когда их так много, любая беседа неизбежно распыляется. Вчера вечером еще кто-то приехал?
— Да? Я не слышал. За обедом увидим всех. Впрочем, мне кажется, сейчас в доме не наберется и десяти человек гостей, О-о! А вот и еще один.
Оба, заслышав с улицы стук колес, подошли к окну. Обшарпанная университетская карета въехала в ворота, и не успела она свернуть к подъезду, как дверца распахнулась и тощая нога пассажира высунулась из нее, ловя откинутую ступеньку.
— Да это мистер Шелдон! — воскликнул Фокленд. — Что с ним стряслось? Можно подумать, что он отыскал неизвестный евангельский манускрипт или, по меньшей мере, пару Демосфеновых речей.
Шелдон влетел в библиотеку, не сняв ни плаща, ни шляпы, задыхаясь, выпучивая глаза, и прохрипел:
— Милорды! Прокламация… Его величество… Вечером доставлена из Лондона… Я не мог дождаться утра… Прокламация о парламенте. Король созывает парламент… Это абсолютно достоверно… Я видел… сам держал в руках…
Он упал в кресло и стал рвать завязки ворота, душившие его.
Хайд обернулся к Фокленду и, схватив его обеими руками за локоть, вскричал:
— Знак! Это знак свыше. Люциус, обещайте мне. Ведь вы не упустите такой возможности? Вы нужны там, в Вестминстере, а не в окопах с мушкетом в руке. Обещайте, что вы примете участие в выборах!
Фокленд, не отвечая ему, смотрел в окно и свободной рукой машинально перебирал страницы оставленного Ксенофонта.
— Я подумаю об этом, — произнес он наконец. — Я подумаю очень серьезно, обещаю вам.
Весна, 1640
«Парламент собрался 13 апреля. Король дал обещание, что все жалобы подданных будут впоследствии удовлетворены, но сначала требовал денег, ибо необходимо было спешить с подготовкой к войне против шотландцев, чтобы не упустить возможностей летней кампании. На это многие отвечали в своих речах, что народу будет непонятно, на каком основании он должен платить за войну, которой не желал и которой не дал никакого повода; и что, без сомнения, многие заплатили бы больше и с большей готовностью за то, чтобы эта несчастная война была предотвращена, страна умиротворена, а виновники междоусобицы наказаны.
Мистер Пим, джентльмен достойный и религиозный, в длинной двухчасовой речи привел перечень всех тягот и бедствий, лежавших в то время на плечах государства. Сокращенные копии этой речи с большой жадностью читались по всему королевству.
5 мая король собственной персоной явился в парламент и объявил о его роспуске; при этом он говорил милостиво и обещал управлять в соответствии с законами; однако на следующий же день несколько членов распущенного парламента были арестованы».
Мэй. «История Долгого парламента»
Лето, 1640
«Епископы к тому времени в своем совете сочинили эту омерзительную присягу, известную под названием „эт сетера“, которую должны были принести все священники, в том числе и шотландские, обязуясь поддерживать епископат как единственно возможную форму управления церковью. В ответ на это армия шотландцев вторглась в Англию. Король снова отправился против них на север, но его командиры были неопытны, а солдаты вялы и необучены».
Люси Хатчинсон. «Воспоминания»
Август, 1640
«Не успел еще новый главнокомандующий, граф Страффорд, прибыть к армии, как она потерпела постыдное, непоправимое поражение под Ньюборном; враг явился в том месте и в то время, где и когда его ожидали, пересек реку, достаточно глубокую, и двинулся вверх по склону холма, на гребне которого наша армия была выстроена в боевой готовности. Вопреки всем этим трудностям и невыгодам, не получив и не нанеся ни одного удара (ибо те несколько человек, которые были убиты у нас, пали от артиллерийского огня еще до форсирования реки), противник обратил всю нашу армию в позорнейшее замешательство и бегство.
Так как солдаты и офицеры были сильнее воспламенены против графа Страффорда, нежели против неприятеля, он, при такой дезорганизации, нашел необходимым отступить в Йоркшир, оставив графство Нортумберленд и епископство Дарем в руках шотландцев, каковые, будучи свыше всякой меры удовлетворены тем, на завоевание чего они и не надеялись, не спешили двигаться дальше».
Хайд-Кларендон. «История мятежа»
Сентябрь, 1640
«Движимые чувством долга и повиновения, мы почтительно представляем вашей государевой и благоверной мудрости ряд удручающих нас неустройств, а именно: отяготительные и необычные налоги на товары ввозимые и вывозимые; многочисленность монополий, патентов и привилегий, вследствие которых торговля в Лондоне и других местностях королевства пришла в большой упадок; всякого рода нововведения в делах религии; редкие созывы и внезапные роспуски парламента без удовлетворения жалоб ваших подданных; всеобщее смятение и опасения, вызываемые ведущейся ныне войной, каковые повлекли с собой столь большой застой и замешательство в торговле, что ведут к полному разорению жителей, упадку мореплавания, а также промышленности английского королевства.
Ваши почтительные просители, считая, что указанные неустройства не могут быть исправлены обычным порядком, настоящим весьма почтительно просят вашу высокую особу сделать распоряжение со всей возможной поспешностью о созыве нового парламента».
Из петиции граждан города Лондона
11 ноября, 1640
Лондон, Вестминстер
Уже на ступенях лестницы, выходя из предутренней мглы в неровный свет лестничных фонарей, поднимаясь в Большой зал, а оттуда в зал заседаний, Кромвель почти физически ощутил ту сгущенную атмосферу напряженности и тревожного ожидания, которыми была охвачена палата общин в этот день.
Слухи ползли по рядам, круглые шляпы членов парламента то там, то здесь на минуту сдвигались гроздью вокруг говорившего и тут же рассыпались, чтобы образовать вверху, внизу, сбоку новые грозди. Гул поднимался к резным балкам потолка, давил на узорные переплеты высоких окон.
Достоверно было известно лишь то, что первый министр, главнокомандующий армией, лорд-лейтенант Ирландии граф Страффорд за день до этого вернулся в Лондон. Что вчера он имел длительное совещание с королем. Что сегодня он должен появиться и занять свое место в палате лордов. И что король назначил смотр гарнизону Тауэра.
Все остальное были домыслы.
Как всегда, говорили о папистских заговорах. О том, что армия, набранная Страффордом в Ирландии, готова сесть на корабли и плыть в Англию, где король примет над ней командование. О том, что королева уговаривает своего супруга искать помощи на континенте — у ее брата, короля французского, у испанского короля, даже у папы. Что смотр войскам Тауэра лишь предлог — просто королю необходимо иметь под рукой вооруженную силу к тому моменту, когда Страффорд сегодня выдвинет против самых активных парламентариев обвинение в государственной измене и потребует их ареста. Последнее было весьма похоже на правду.
В восемь часов спикер[13] Лентал объявил заседание открытым.
Первым встал член парламента от лондонского Сити и описал военные приготовления, виденные им в Тауэре. Он также добавил, что верные люди слышали вчера, как Страффорд хвастливо обещал в ближайшее время привести Сити к полной покорности королевской воле. После него депутат от Вигана, пуританин, огласил содержание перехваченного письма, в котором католиков королевства призывали быть твердыми в поддержке истинной веры ее величества. Кто был автором письма, установить не удалось, но ясно было, что здесь действует рука Рима, — королева-католичка находилась в постоянной переписке с папой. Возбуждение палаты возросло еще больше. Прошел слух, что Страффорд, явившийся с утра в палату лордов, вскоре покинул ее. Одни верили, что причиной тому — болезнь, мучившая графа вот уже несколько месяцев, другие считали, что это неспроста и, конечно, включено в тайный сговор между королем и его министром.
В это время поднялся Джон Пим и в наступившей тишине объявил высокому собранию, что он имеет сообщить ему нечто очень важное и просит запереть двери палаты, чтобы никто не мог покинуть ее до принятия решения.
Спокойная уверенность, с которой этот человек говорил, готовность, с которой ему подчинялись (сарджент[14] пошел закрывать дверь сразу, не дожидаясь распоряжения спикера), вызывали всегда в Кромвеле смесь восхищения и зависти, желание возразить, поступить наперекор и в то же время порыв поддаться, исполнить самому, заслужить одобрение. Сам он все еще так же мало умел владеть собой, как и двадцать лет назад, во времена своего короткого студенчества. Вчера, выступая перед парламентским комитетом в защиту этого несчастного юноши (Лилберн — кажется, так значилось в поданной ему петиции), он опять сорвался на крик. Плохо было то, что говорить перед большой аудиторией всерьез он мог, лишь чувствуя подлинную страсть в душе, но именно кипение страсти делало его косноязычным.
— Мистер спикер, — начал Пим. — За истекшие дни мы выслушали много речей, в которых бедственное состояние нашего несчастного королевства было представлено во всей ужасающей полноте. Мы слышали о произволе судей, о жестокости тюремщиков, о разоренных семьях, об опустевших деревнях. Мы слышали о том, как незаконные монополии разрушают торговлю, как незаконные налоги служит обогащению бесчестных казнокрадов, как достойные люди вынуждены искать за морем спасения от произвола. Перед нами раскрылась та бездна, на грань которой была приведена наша церковь в угоду тщеславию и корыстолюбию высокопоставленных прелатов. Они хотели бы вытравить из душ людей подлинный и искренний религиозный пыл и свести веру к исполнению торжественных и пышных церемоний, к красочному идолопоклонству, возвращающему нас шаг за шагом назад к папизму. Всякий, кто отказывался плясать по воскресеньям, кто подчинял свою жизнь каким бы то ни было правилам — божеским или человеческим, клеймился именем «пуританина» и подвергался преследованиям.
Он, действительно, повторял то, что всем уже было известно, то, что говорили до него и другие, но в его устах интонация жалобы совершенно исчезала из перечисления бедствий. Неуловимым образом всякое сетование преображалось в пункт обвинения, и так же неуловимо тревога и озабоченность на лицах слушателей перерастали в гнев.
— …Мы слышали о том, как в течение одиннадцати лет беспарламентского правления Тайный совет нарушал все древние законы страны и попирал народные вольности. Эти люди без конца говорили о служении королю, но на самом деле служили только себе; они превозносили до небес величие королевской власти, а сами довели страну до полной беспомощности; они делали вид, будто хлопочут об увеличении доходов казны, но растрачивали все собранные с подданных деньги на бесплодные и опасные авантюры. Каким же образом могло случиться, что все эти ужасные несчастья обрушились на нас в годы правления монарха столь набожного и добродетельного, столь чтущего законы и справедливость?
Голос оратора заполнил все пространство высокой залы. Два клерка, сидевшие посредине за широким столом, писали не останавливаясь.
— Где же источник этих нескончаемых горестей, тягот, потрясений? Король, в великой мудрости и благости своей, не может ни в малейшей степени быть ответственным за все вышесказанное. Отсюда со всей очевидностью вытекает: вина лежит на дурных, злонамеренных советниках его величества!
Палата ответила неясным шумом и снова стихла.
— После того как перед нами была развернута картина болезни, пора приступить к изысканию лекарств. Мы должны тщательно расследовать деятельность тех людей, которые, втершись в доверие к лучшему из королей, извращали самые благие его намерения и начинания; которые доводили состояние дел до крайности, а затем, ссылаясь на эту крайность, предлагали меры исправления в десять раз худшие. С горечью надо признать, что этих злокозненных советников, употребивших во зло королевское доверие и королевский авторитет, было немало. Но среди них есть один — один, превзошедший всех своим влиянием, властью, гордыней, своекорыстием! Многие из присутствующих помнят, как двенадцать лет назад этот человек заседал среди нас в этой зале и был самым горячим сторонником законности, самым преданным охранителем английских вольностей. Но, изменив этим благим целям и перейдя в лагерь противников правого дела, он, по обыкновению всех перебежчиков, превратился в наиболее рьяного поборника тирании. Всюду, куда простиралась его власть и влияние, приносил он горе, страх и невыносимые страдания подданным его величества, вынашивал и осуществлял планы, долженствующие опрокинуть веками освященный уклад государственной жизни Английского королевства. Я говорю о лорде-лейтенанте Ирландии, о члене Тайного совета, Томасе Уэнтворте, графе Страффорде!
Кромвель почувствовал, как у него пересыхает гортань. Он знал, что вожди оппозиции что-то готовят, что на общих обедах каждый день вокруг Пима собирается группа преданных друзей. Но он не думал, что удар будет направлен так высоко. Весь мирный облик говорившего: его брюшко, аккуратная седенькая бородка, мягкий взгляд — совершенно не вязался со столь ошеломительной смелостью. Ибо было ясно: если удар не достигнет цели, если Страффорд устоит, Пиму не сносить головы. И на что, на кого он надеялся? На кого мог положиться в этой палате?
Кромвель скользил взглядом по рядам, по напряженным лицам. Вот знаменитый Гемпден, герой борьбы против «корабельных денег». Да, в нем можно быть уверенным — он пойдет хоть на эшафот. Дензил Холлес. Тот самый Холлес, который одиннадцать лет назад силой удерживал в кресле перепуганного спикера, пока палата не проголосовала за Протестацию. Эдвард Хайд. Пим почему-то искал его поддержки и часто доверительно беседовал, отведя в сторону; наверно, не зря. Неразлучный с ним Фокленд, человек, о котором ни друзья, ни враги не говорили дурно; молчаливый знак приязни к этим двоим был виден в том, что опоздавшему всегда оставляли место рядом с другом. Кто еще? Сент-Джон, Мартен, Селдон, Генри Вен-младший, Уайтлок, Редьярд, Строд… Может быть, еще десять-двадцать человек. Но остальные четыреста? Все эти деревенские сквайры, провинциальные юристы, мировые судьи из гнилых местечек? Понимали они смысл происходившего? Могли оценить критичность минуты, опасность ситуации?
— …И на основании всего вышесказанного я предлагаю немедленно представить палате лордов обвинение графа Страффорда в государственной измене, заключавшейся в попытке нарушить государственный строй, ввести на территорию Англии иностранные войска и в других преступлениях. Предлагаю также выразить горячее пожелание нижней палаты о немедленном заключении графа под стражу на все время, необходимое для ведения следствия.
Палата ответила одобрительным гулом. Белый дневной свет лился во все окна и, казалось, придавал всем уверенности, разгонял утренние страхи.
— Найти козла отпущения — прекрасная мысль, — произнес насмешливый голос за спиной Кромвеля. Он хотел обернуться, но в это время поднялся Фокленд.
— Мистер спикер, джентльмены! Надеюсь, вы знаете, что у меня нет никаких оснований любить графа Страффорда или защищать его. Но простая справедливость требует, чтобы столь тяжкое обвинение было подкреплено вескими доказательствами. Не лучше ли нам, в согласии с парламентской традицией, создать специальный комитет, который мог бы тщательно рассмотреть каждое деяние, вменяемое графу в вину, опросить свидетелей и лишь после этого…
— Ни в коем случае! — Пим не дал Фокленду договорить. — Джентльмены, не будем обманывать себя. Влияние Страффорда на короля так велико, что любая отсрочка может погубить все дело. Стоит ему узнать о том, что кто-то взялся расследовать цепь его злодеяний, и нечистая совесть подскажет ему единственный возможный исход подобного расследования. Он станет спасать себя любой ценой, даже ценой окончательной гибели государства. Он убедит короля в необходимости распустить парламент и потом разделается с нами поодиночке. Мы не можем этого допустить, мы должны опередить его. Что же касается юридической стороны дела, наши действия остаются строго в рамках закона. Только лорды могут судить Страффорда — им и будет принадлежать решающая роль в этом деле. Мы не судьи, мы только обвинители. Наша задача — представить обвинительный материал, для беспрепятственного собирания которого мы и просим заключить обвиняемого под стражу.
Казалось, ссылка на закон была именно тем, чего ждала палата, чтобы дать себя убедить окончательно. Крики: «Вотировать! вотировать!» — понеслись в сторону спикера со всех сторон.
Предложение Пима прошло почти единогласно.
Тут же была выбрана комиссия для составления текста обращения к лордам, но по тому, с какой быстротой она справилась со своей задачей, стало ясно: текст был написан заранее.
Двери палаты распахнулись, и Пим, в сопровождении целой толпы своих приверженцев, держа на вытянутой руке лист обращения, двинулся из зала. Кромвель вскочил с места и, спотыкаясь о чьи-то ноги, о шпаги и трости, ринулся за ним.
Казалось, что и сарджент палаты лордов был уже кем-то предупрежден. Не успела толпа парламентариев пересечь Большой зал, как он выбежал ей навстречу, почтительно проводил Пима вверх по лестнице и объявил лордам о его прибытии.
Остальные сгрудились перед дверью.
Здесь были только единомышленники, понимавшие друг друга с полуслова. Негромко переговаривались, называли имена лордов, в чьей поддержке были уверены. Сэй, Бедфорд, Эссекс, Брук, младший Манчестер, Уорвик, Говард — эти были открытыми противниками двора. Может быть, без их нажима король не согласился бы созвать нынешний парламент. Среди остальных многие имели личные причины ненавидеть и бояться Страффорда. Граф обладал поразительным искусством наживать себе врагов. Кроме того, лорды тоже люди, а среди людей всегда найдутся такие, что будут действовать по принципу «падающего — подтолкни».
Пим вышел на площадку лестницы, поднял руку:
— Джентльмены! Лорды немедленно приступают к обсуждению нашего обращения. Мы сделали все, что могли. Теперь время разойтись на заседания комитетов.
Своим самообладанием и сдержанностью он словно пригасил крики радостного возбуждения, вот-вот готовые сорваться с уст. Толпа пошла вниз за своим вождем.
Кромвель замешкался наверху, отстал.
Он не мог понять, что им двигало, — желание хотя бы в пустяке не подчиниться так сразу этой властной воле или просто у него не было сил уйти оттуда, где, как ему казалось, решалась судьба всего их дела, страны, его собственная судьба.
Прошло десять минут, пятнадцать.
Он начал медленно спускаться, и в это время с улицы донесся цокот подков. Дворцовая карета остановилась у главного входа, и человек в роскошном камзоле вступил в зал и двинулся вверх по лестнице.
Лицо его было в желтых складках, рот жадно ловил ускользающий воздух. Каждая ступенька давалась с трудом. Проходя мимо Кромвеля, он пронзил его ненавидящим взглядом и пошел дальше, громко повторяя:
— Где же они? Где мои обвинители? Я хочу видеть их лица. Пусть они посмеют при мне повторить свою клевету. Куда же они попрятались?
Двери палаты лордов были закрыты, и он гневно застучал в них эфесом шпаги. Влажные от пота волосы выбивались из-под шляпы и облепляли шею. Видимо, болезнь брала свое, и только тревожная весть заставила его подняться с постели. Два стражника, замерев спиной к стене, глядели мимо него в пространство глазами, полными ужаса.
Наконец его впустили.
Кромвель поднялся на несколько ступенек вверх и замер, прислушиваясь. Стражники стояли не шевелясь, но по их лицам было видно, что они тоже — затылком, кожей — ловят каждый звук.
Некоторое время за дверьми было тихо. Потом донесся гул голосов, он стремительно нарастал, крики: «Долой!», «Пусть убирается!», «Вон!» — отчетливо прорывались из общего хора.
— Постановление!
— Читайте ему постановление!
— Государственная измена!
— На колени!
— Пусть слушает на коленях!
Когда несколько минут спустя Страффорд вышел обратно, Кромвель инстинктивно сделал шаг вперед — ему показалось, что этот человек вот-вот упадет. Желтизна переползла с лица на белки глаз, губы дрожали, испарина блестела на лбу и щеках. Два темных пятна отчетливо были видны под коленями на светлых чулках. Осторожно нащупывая ступени, он начал спускаться, но сарджент, сделав знак стражникам, быстро догнал его и стал ступенькой ниже со шляпой в руке:
— Граф! По приказу их светлостей я должен арестовать вас.
Страффорд отвел глаза и левой рукой протянул ему шпагу вместе с ножнами. Голубая атласная перевязь зацепилась, сарджент, не заметив этого, потянул на себя, и Страффорду пришлось поспешно нагнуться. Перевязь, соскользнув с плеча и головы, сбила с него шляпу. С непокрытой головой он сошел вниз к карете, кучер уже распахнул дверцу, но сарджент снова забежал вперед:
— Вы мой арестант, граф, и должны ехать в моей карете.
Толпа зевак молча расступилась, дала им дорогу.
— Да что, собственно, происходит? — донесся из задних рядов недоумевающий голос.
Страффорд на минуту остановился и попробовал усмехнуться:
— О, ничего особенного. Сущие пустяки, уверяю вас.
— Вот уж верно, — откликнулся кто-то. — Государственная измена для него сущий пустяк.
— А и больно, должно быть, падать с такой высоты, — сказал другой.
Сарджент, все еще держа шпагу арестованного, влез за ним в карету. Кучер Страффорда в растерянности смотрел вслед отъезжающему экипажу. Кусок голубой перевязи, прищемленный дверцей, полоскался на ветру.
Толпа начала расходиться.
Кромвель двинулся через площадь в сторону Кинг-стрит, потом передумал и свернул к реке. Ему хотелось как-то остудить голову. Если бы ребенок на его глазах детской лопаткой опрокинул собор святого Павла, это было бы менее неправдоподобно, чем то, что он увидел сегодня, сейчас. И раз уж в какие-нибудь полдня могущественного министра можно было сбросить с высот власти, не значит ли это, что и в остальном…
— Мистер Кромвель! Мистер Кромвель!
Он оглянулся.
Человек, догонявший его, видимо, тратил немалую часть дня на то, чтобы иметь вид типичного торговца из Сити. Возможно, он и был таковым. За ним, подобрав подол, шлепала по лужам миловидная девушка в меховом жакете и с муфтой в руке.
— Мистер Кромвель, мое имя Дьюэл, ювелир Дьюэл. Мы не хотим показаться назойливыми… Всякое дело требует времени, я понимаю… Но не можете ли вы уже сейчас что-либо сообщить друзьям Джона Лилберна?
— А, это вы. — Кромвель положил руку на плечо ювелира и ободряюще улыбнулся. — Не далее как вчера я зачитал вашу петицию парламентскому комитету и кое-что добавил на словах. Комитет постановил требовать пересмотра его дела, а до того времени — освободить. Полагаю, уже завтра он будет на свободе.
— Элизабет, ты слышишь? Иди же сюда. Он будет свободен! Боже, какое счастье! Парламент! Я всем говорил — надейтесь на парламент. Элизабет, да где же ты?
Девушка приближалась к ним, и выражение ее лица было почти строгим: «да, я слышу, он будет свободен, прекрасно, нечего так кричать», — но в последний момент она выпустила подол платья, кинулась к руке Кромвеля, все еще лежавшей на плече ее отца, и припала к ней губами.
Ноябрь, 1640
«В эти дни в парламенте шли длительные дебаты по вопросу о „корабельных деньгах“, которые были признаны палатами совершенно незаконным налогом и недопустимым отягощением подданных; все судьи, высказавшиеся в свое время в пользу „корабельных денег“, были объявлены нарушителями закона».
Мэй. «История Долгого парламента»
Ноябрь, 1640
«Я хочу обратить ваше внимание еще на одно злоупотребление, которое заключает в себе многое. Это гнездо ос или рой паразитов, обирающих страну, — я имею в виду монополистов. Они, как египетские лягушки, завладели нашими жилищами, и мы едва находим местечко, ими не занятое. Они тянут из нашего кубка, едят из наших блюд, сидят у нашего огня, мы находим их в нашем красильном чане, в умывальнике и в кадке для солений, они пробираются в кладовую, они покрыли нас с головы до ног клеймами и печатями, мистер спикер, они не оставляют нам даже булавки, мы не можем купить куска сукна, не уплатив им комиссионных. Они — пиявки, которые высасывают государство до такой степени, что оно почти впало в состояние полного истощения».
Из речи члена парламента против монополий
28 ноября, 1640
Лондон, Чаринг-кросс
К двум часам дня толпа на Стрэнде начала густеть, заливать мостовую и одновременно приобретать какую-то непривычную одноцветность. Людей в пестрой и яркой одежде становилось все меньше, людей в темном — все больше, и все они двигались в сторону Чаринг-кросс. Многие несли в руках охапки зеленых веток, кое-кто сумел раздобыть цветущий розмарин. Лилберн и Эверард вышли из таверны и, не сопротивляясь, отдались движению людского потока. Зрители глазели из окон, с порогов пивных; один, отирая мыльную пену со щек, выбежал из цирюльни. Кое-где в переулках виднелись небольшие группы молодых щеголей. Эти смотрели презрительно, негромко переговаривались между собой.
— Джентльмены не боятся опоздать? — насмешливо крикнул Эверард. — Пропустить такое событие! — Вам не о чем будет точить лясы на променаде у святого Павла.[15]
— Проваливай, — нехотя откликнулся один.
— Заткнуть бы ему глотку.
— Хороший променад по ребрам — вот что ему нужно.
— Похоже, что без потасовки сегодня не обойдется. — Эверард явно был доволен.
— На меня пока не рассчитывайте. Я все еще так слаб, что буду только обузой.
— С самого открытия парламента я обзавелся одним надежным приятелем. С тех пор с ним не расстаюсь.
Эверард похлопал себя по левой стороне груди, потом расстегнул две пуговицы камзола и показал рукоятку кинжала.
— Откуда их ждут?
— Говорят, они высадились в Саутгемптоне. Почти неделю назад. Но каждый городок на пути встречает их торжественной процессией и пытается устроить праздник в их честь. Оттого так долго.
— Доктор Баствик тоже с ними?
— Нет, только Принн и Бертон. Баствика держали на Силли. Очевидно, он скоро причалит в Дувре.
— Я не видел их больше трех лет. Вряд ли они еще помнят меня.
— Не помнят вас? Им не помнить вас? — Эверард покрутил головой. — Вы, должно быть, считаете их неблагодарными, бесчувственными чурбанами.
— Они столько натерпелись за эти годы, что могли забыть родную мать.
— А вы? Вы меньше терпели? И за что — за их же писания.
— Скорее, за правду, которая в них содержится.
Они достигли Чаринг-кросс и медленно проталкивались в толпе. Щуплая продавщица оранжада пристроилась за ними, как шлюпка за бригом, и бойко распродавала свой товар направо и налево. Ее визгливый голос, казалось, способен был просверлить затылок. По Кинг-стрит со стороны Уайтхолла подъехала карета, кучер было замахнулся кнутом, требуя дорогу, но толпа сомкнулась, ощерилась. Кто-то вскочил на козлы, вырвал кнут, кто-то полез на крышу. В это время дверца распахнулась, маленький человек в епископском облачении выскочил на мостовую и бросился назад к дворцу. Его провожали хохотом, свистом, угрозами, однако не гнались и камнями не швыряли. Настроение было скорее умильно-торжественным, чем агрессивным.
Волна приветственных криков прокатилась, нарастая со стороны Сент-Джеймса. Толпа качнулась вперед, запрудила площадь, потом распалась на две части, оставив посередине узкий проход. Лилберна понесло в сторону, к стенам домов, но он собрал силы, уперся и шаг за шагом стал продираться вперед.
Ему надо было увидеть этих людей.
Когда-то он боготворил их. В его глазах мученичество окружало их ослепительным ореолом. В тот вечер, когда ему впервые удалось пробраться к ним в тюрьму, говорить с ними, от счастливого волнения его начало лихорадить. Потом, сам оказавшись в тюрьме, он припоминал подробности этих встреч, и ореол понемногу тускнел; тон Принна, каким он говорил с ним об основах пресвитерианства,[16] всегда оставался повелительным и высокомерным, шутки Баствика, любившего высмеивать его северный диалект и простоватые манеры, часто были безжалостны. Читая в тюрьме книгу Принна, он не мог не заметить, как часто непреклонность веры вытеснялась в ней непреклонностью гордыни. И все же он до сих пор любил их. Любил, может быть, только за то, что было в его глазах самым бесценным человеческим свойством, — за радостную готовность к самопожертвованию.
Ликующие крики звучали все громче, кое-кто утирал слезы. Гремели трубы. Голова процессии вступила на площадь, и охапки зеленых веток полетели на землю под копыта лошадей. Отряд пеших лондонских ополченцев двумя параллельными рядами раздвигал толпу, оставляя узкий проезд. Бертон, седой и улыбающийся, тяжело навалившись на луку седла, кивал и время от времени поднимал руку с зажатым в ней венком. Его сын и дочь шли по обе стороны лошади, держась за стремя. Принн ехал молча, полуприкрыв глаза. Казалось, он впитывал в себя эти волны радости и ликования, столь щедро изливавшиеся на них, и все не мог насытиться ими. Сквозь качающиеся копья было видно, как его волосы, откидываемые ветром, время от времени открывали страшные шрамы, оставшиеся на месте ушей.
— Долой епископов!
— Свободу проповеди!
— Да здравствует Ковенант!
— Мистер Принн! Мистер Принн! — Лилберн протиснулся уже в первые ряды и шел рядом с ополченцами. — Лондонские эпрентисы[17] приветствуют вас. Мистер Принн!
Тот не слышал. Темные клейма отчетливо были видны на тюремно-бледной коже щек. Конские гривы, украшенные цветами и зеленью, уплывали вперед. Процессия сворачивала на Стрэнд. Все еще крича, улыбаясь и размахивая рукой, Лилберн остановился, и толпа всосала его. От давки ли, от волнения дышать было трудно, в горле саднило.
Бесконечная вереница всадников, мужчины и женщины, те, кто выезжал встретить освобожденных узников еще за Брентфордом, двигались по оставшемуся проезду. В толпе мелькали береты шотландцев. С тех пор как переговоры о мире были перенесены в Лондон, их можно было видеть довольно часто. Заполучить шотландца в качестве гостя — об этом мечтал каждый пресвитерианин. Шотландцы могли завтракать в одном доме, обедать в другом, ночевать в третьем. Немудрено, что все они явились теперь на встречу: Принн в их глазах был пророком, мучеником, святым. Что ж, сегодня они имели право гордиться. Если б не их решимость, ему, как и прочим, еще долго пришлось бы гнить за решеткой.
За кавалькадой всадников двигались пешие, тоже с зеленью и цветами в руках. Толпа постепенно сливалась с ними, устремлялась обратно по Стрэнду в сторону Сити. Там была назначена торжественная встреча в ратуше, приветствия старейшин, банкет. Ни о какой потасовке теперь, конечно, не могло быть и речи — такой поток способен был разбить, смять, уничтожить любого, кто стал бы на его пути. Лилберн шел вслед за остальными, постепенно отставая, ища взглядом потерявшегося приятеля.
— А-а, вот он где! Ну нет, теперь уж вам от меня не вырваться.
Кэтрин Хэдли выросла перед ним, раскинув руки, оттеснила в переулок.
— Хорош, нечего сказать. Ну, мистер пуританин, много я слышала гадостей про вашего брата, ничем, казалось, меня не удивишь, но такое!.. Больше двух недель на свободе, побывал уже у всех дружков, во всех книжных лавках, посидел во всех тавернах, послушал всех проповедников, повылезавших нынче из щелей, навестил всех печатников — и только в один дом не удосужился зайти. Конечно! Зачем ему теперь эти скромные людишки, которые два года изощрялись то так, то эдак, чтобы подбросить ему немного еды и чистого белья. Что у него общего с мирными, послушными обывателями. Он жаждет увидеть клейменных знаменитостей, он так и норовит снова засунуть голову в колодку позорного столба. А я-то, дура…
— Кэтрин, Кэтрин. Даже если ты и права, зачем же вопить на всю улицу?
— Буду вопить! Эй вы там, в верхнем этаже! Платите по два пенса за представление или убирайте свои физиономии из окон! Когда я рисковала для вас своей шкурой, мистер смутьян, когда разбрасывала ваши послания на лугу среди слоняющихся оболтусов, вам хотелось, чтобы я орала во всю глотку. И я таки дооралась до того, что угодила под стражу. А теперь вы вдруг полюбили тихие, вежливые разговоры. Пусть бы все только благоговели перед вашими страданиями, и никто бы слова не смел сказать поперек, никто бы не назвал ваше поведение, как оно того заслуживает.
— Чего ты хочешь? Чтобы я завтра отправился с благодарственным визитом к мисс Дьюэл?
— Да, да, да! И не завтра — сегодня же. Сейчас.
— Да ты посмотри, на кого я похож. Меня ветром шатает. Два часа на ногах — и я уже без сил. А этот землистый нос, а гноящиеся глаза, а камзол с чужого плеча? Я до сих пор пахну тюрьмой — ты разве не чувствуешь этого смрада?
Кэтрин вдруг прижала руки к груди и произнесла почти шепотом:
— Мистер Джон, клянусь вам, — ей все равно.
— Зато мне не все равно.
— День за днем, день за днем она не выходит из дома, боится пропустить ваш приход. По вечерам ее невозможно загнать в постель, пока ночные сторожа не выйдут на улицу.
— Кэтрин, мне двадцать два года, и я не святой. Явиться в таком виде? С пустыми руками? Почти нищим?
— Да почем вам знать! Может, так-то и лучше. Может, на разодетого и здорового она на вас и глядеть не захочет.
Лилберн махнул рукой и зашагал прочь. Кэтрин, подхватив подол платья, погналась за ним.
— Мистер Джон, послушайте, поверьте тому, кто знает толк в этих делах. Ведь так бывает, что ждешь вас, ждешь, злодеев окаянных, а потом что-то натянется в душе — да и лопнет. И как отрежет. Не опоздать бы вам, вот я о чем толкую.
— Кэтрин, не терзай хоть ты меня. Разве не видишь, что творится кругом? В любую минуту все может обернуться вспять. Король разгонит парламент, армия движется на Лондон, и я снова окажусь за решеткой. Есть у меня право связать ее судьбу со своей?
— Как же, двинется армия. А шотландцы на что? Так они ей и позволят. Они будут сражаться за этот парламент, как за самого апостола Павла. Да и не верю я вам и всем вашим отговоркам не верю.
— Не веришь?
— Кабы все дело было в серой коже и чужом камзоле, разве бы я так боялась? Разве бы гонялась за вами по всему городу? Но я же вижу — вы просто с облаков спуститься боитесь.
— Не Флитскую ли кутузку ты называешь облаками?
— А хоть бы и ее. Вы за два эти года так привыкли мечтать о Лиззи… о мисс Дьюэл, что теперь боитесь, как бы она живая — и выговорить-то трудно, но на вас похоже, — как бы она не разбила вам эту мечту.
Лилберн от изумления остановился. Кэтрин воспользовалась этим и снова попыталась загородить ему дорогу.
— Нечего! Нечего пялить на меня глаза и ухмыляться. Думаете, для меня любовь это только то, что в постели, больше я ни про что не понимаю? Ошибаетесь. Ох, мистер Джон, поверьте мне: ничего она вам не разобьет. Я же вас обоих знаю. Она такая же, как и вы, а порой и хуже вашего может призадуматься. Приходите и сами увидите.
Лилберн засмеялся и отодвинул Кэтрин с дороги:
— Хорошо, я приду. Обещаю тебе. Только не сегодня и не завтра. Пойми, раз ты такая умная, на это нужно много сил. Почти столько же, сколько на допрос в Звездной палате.
— Но можно, я хоть скажу ей, что вы нездоровы? Что вам голову пробили, или что у вас чума, или что нога отнялась от радости?
— Говори что хочешь, милая Кэтрин. Ты меня столько раз выручала — наверно, не подведешь и сейчас. А мэра, который тебя засадил тогда, мы теперь привлечем за это к суду, так и знай.
Кэтрин еще некоторое время шла вслед за удаляющимся Лилберном, но говорила уже скорее для себя, чем для него, просто бормотала себе под нос: «глядите, как распетушился этот вчерашний колодник… как он расхвастался… мэра — к суду!.. Надо же такое выдумать… Сам, смотри, не попадись им снова в лапы… того и довольно было бы… того и довольно».
Декабрь, 1640
«18 декабря Дензил Холлес поднялся в палату лордов и, будучи приглашенным войти, от имени английской палаты общин обвинил архиепископа Кентерберийского Лода в государственной измене и других преступлениях. После чего бедный архиепископ, несмотря на то, что он стойко отстаивал свою невиновность, был доставлен к свидетельскому барьеру палаты лордов, поставлен на колени и затем отдан под стражу и заключен в Тауэр».
Хайд-Кларендон. «История мятежа»
Март, 1641
«22-го числа начался этот громкий процесс графа Страффорда. Множество дурных деяний, совершенных им как в Ирландии, так и в Англии, день за днем вскрывались на суде. Но граф, будучи человеком красноречивым, строил свою защиту таким образом, чтобы отвести от себя удар обвинения в государственной измене; из преступлений же, вменявшихся ему в вину, он одни отрицал, другим находил извинения и смягчающие обстоятельства, упирая при этом главным образом на то, что, сколько бы преступлений человеку ни приписывалось, из них нельзя получить одной государственной измены простым складыванием их вместе, если ни одно из них само по себе не является изменническим деянием.
Мнения судей и зрителей разделились. Придворные кричали в пользу графа, и дамы, голоса которых довольно сильно могут порой влиять на дела государства, все, как один, были на его стороне».
Мэй. «История Долгого парламента»
26 апреля, 1641
Лондон, Пиккадилли
— Милорды! Чем же провинились добрые жители Севера, что только их оказалось необходимым лишить всех привилегий, гарантированных «Великой хартией вольностей» и «Петицией о праве»?[18] К чему все наши статуты и законы, если чуть не треть населения острова оказывается изъятой из-под их действия? Что такого натворили эти лояльные подданные его величества, что их оказалось возможным разорять штрафами и губить тюрьмой без всякой ссылки на закон, единственно «по благоусмотрению» королевских судей?
По напряженной тишине, царившей в Расписной палате, Хайд чувствовал, что красноречие его приносит плоды: слушатели заражались. Северный суд он ненавидел какой-то особой, личной ненавистью. Конференция между делегациями верхней и нижней палат подходила к концу.
— «Действовать по благоусмотрению»! Большинство судей понимало и понимает это как «делайте что хотите». В 1628 году, когда президентом Северного суда был граф Страффорд, инструкции раздвинули их полномочия еще далее. Было поставлено единственное ограничение: чтобы наказания и штрафы были не меньше предусмотренных законом. Больше — сколько угодно, лишь бы не меньше. «Благоусмотрение», как сыпучий песок, поглощало жизнь, свободу и имущество жителей, давало безграничный простор наглости, злобе, дурному настроению, личной вражде судейских чиновников. От имени палаты общин я обращаюсь к вашим светлостям с просьбой спасти население северных графств от подобного «благоусмотрения». Мы не видим никакой возможности реформировать Северный суд или заниматься исправлением судей. Его следует отменить целиком раз и навсегда и умолять его величество в будущем не создавать особых судов нигде в королевстве.
Председатель конференции пошептался со своими соседями и поднялся:
— Мистер Хайд! Пожелание нижней палаты будет завтра же передано палате лордов. Ваша речь была настолько убедительной, что не оставила у слышавших ее никаких сомнений в неправомочности Северного суда. Не согласились бы вы предоставить мне копию текста, чтобы завтра я мог повторить все слово в слово?
Польщенный Хайд поклонился и вложил пачку листов в протянутую руку.
Собрание начало расходиться.
На ступенях лестницы Хайду передали записку — граф Бедфорд просил его встретиться с ним в Пиккадилли для разговора по важному делу. За последние месяцы Хайд чувствовал, как постепенно менялось отношение к нему, как возрастало число людей, искавших его поддержки, помощи, совета, но только теперь ему стало ясно: он сделался заметной фигурой. Получить подобное приглашение от графа — это было уже настоящее признание.
Нынешней весной деревья зазеленели раньше обычного, и, соответственно, раньше начался сезон в Пиккадилли. Лужайки сделались пригодными для игры в шары еще до распускания листвы, но покуда деревья и кусты стояли голые, место было лишено своего главного достоинства — тенистых аллей, укромных, вымощенных гравием тропинок, где можно было встретиться как бы невзначай, свести вместе нужных людей, завязать знакомство. Даже те встречи, которые в частных домах выглядели бы как начало заговора, здесь могли состояться, не вызывая никаких подозрений. Члены парламента, судейские, лондонская знать, придворные из Уайтхолла и Сент-Джеймса после четырех часов дня стекались сюда со всех сторон и исчезали в зарослях шиповника и сирени, клубившихся по краю рощи.
Хайд нашел графа Бедфорда на верхней площадке. Шар, только что пущенный им, катился на желтевшие вдали кегли, и граф тянулся за ним всем телом, словно пытался еще сейчас поворотом плеча, силой взгляда изменить его направление. Было видно, как крайняя слева кегля пошатнулась, но устояла — удар был неважный.
— За зиму рука забывает все, чему ее учили глаза прошлым летом. Но к июлю я буду опять сбивать десятку с одного шара, вот увидите.
Они отошли от играющих и углубились в одну из аллей. Каждый раз при встрече с этим человеком Хайду приходилось напоминать себе, что перед ним — богатейший вельможа, строитель Ковентгардена, осушитель гигантских болот в восточных графствах, признанный закулисный лидер обеих палат парламента. Если подобная простота манер и была искусственной, то это было искусство высокого класса.
— Мистер Хайд, нужно ли мне тратить время на комплименты и рассказывать, как высоко я ценю вашу парламентскую деятельность? Думаю, вы ясно увидите это из сути дела, с которым я решил к вам обратиться. Вашего имени нет в списке тех, кто голосовал против билля, осуждающего графа Страффорда, это мне известно. И все же я позволю себе спросить вас: верите ли вы, что этот билль может быть утвержден палатой лордов и королем?
— Я предвижу много серьезных затруднений, тем более что…
— Нет, бог с ними, с затруднениями. Затруднения — это то, что так или иначе можно преодолеть. Но можете ли вы представить, чтобы король дал согласие на казнь человека, который — что бы мы о нем ни думали — двенадцать лет был вернейшим слугой короны, довереннейшим лицом, безотказным исполнителем любых повелений?
— Вы считаете, что обвинения, выдвинутые на суде против лорда-лейтенанта, не были доказаны?
— Дело не во мне. Для меня его вина была ясна и до суда. Лично я готов голосовать в палате лордов за билль об осуждении. Но остальные? Но король? Мы все передеремся на этом проклятом деле. Все, чего нам пока удалось достигнуть, держалось на взаимном согласии и солидарности верхней и нижней палат. Если мы не сумеем теперь обогнуть эту скалу, если дадим нашему кораблю налететь на нее, она расколет нас на две части и пустит ко дну.
— С вами говорил сам король?
Бедфорд на минуту остановился и пристально посмотрел Хайду в лицо.
— Да. И я не скрываю этого. Ибо аргументы его величества меня убедили. Он признает, что Страффорд во многих случаях действовал недопустимыми средствами. Что страсть часто туманит его ум и выплескивается на окружающих так, что это вызывает всеобщую ненависть и озлобление. Он согласен и с тем, что ни личные качества, ни репутация графа не позволяют в будущем предоставить ему какую бы то ни было должность. Даже должность шерифа. Но он не может признать, что в действиях или намерениях лорда-лейтенанта содержалось то, что можно было бы назвать государственной изменой. Его величество готов санкционировать ссылку, конфискацию, пожизненное заключение. Но смертного приговора он не подпишет никогда.
— Что же вы предлагаете?
— Мы должны убедить наших — нет, скорее, моих — друзей в обеих палатах убавить пыл. В настоящий момент кровожадность ни к чему хорошему не приведет. Они не вправе требовать от короля того, чего никто из них на его месте не мог бы совершить.
— И вы хотите, чтобы я убедил их?
— Да, да, именно вы. На меня уже косятся, считают чуть ли не ренегатом. Вы же с самого начала держались в стороне от всяких партий и заслужили репутацию человека беспристрастного. Вы голосовали за осуждение Страффорда. Вы ему не родственник, не друг, вы ступили на политическое поприще уже тогда, когда он был в Ирландии, значит, личные мотивы исключаются. Кроме того, вы красноречивы, честны, настойчивы, умны. Умны настолько, что мне даже нет нужды извиняться перед вами за эту необходимую лесть.
— Признаюсь, я разделяю ваши опасения. Я мог бы попробовать начать прямо с головы.
— С мистера Пима? Нет, с ним обещал поговорить Холлес.
— Как? Неужели и Холлеса король надеется сделать своим союзником?
— Конечно, он понимает, что Холлес не забыл, как его бросили без суда в тюрьму за участие в оппозиции. Но, во-первых, с тех пор прошло десять лет. Во-вторых, Страффорд все-таки женат на его сестре. Король же очень верит в силу родственных уз. Нет, для вас я имел в виду другого собеседника. Вон того.
И он кивком головы указал в просвет между кустами на нижней аллее. Высокий человек в ярко-черном камзоле отделился как раз от группы беседовавших там и двинулся по пологому склону, отводя ветви чубуком своей трубки.
— Графа Эссекса? Вы сразу хотите послать меня на штурм главного бастиона.
— Сознаюсь вам, я убил вчера на него полдня — и совершенно безрезультатно.
— Придворные сплетники утверждают, что он мечтает сменить Страффорда на посту главнокомандующего.
— Логика прохвостов. Они не представляют себе, что человеком могут двигать иные мотивы, кроме корыстных. Но вы — вы представляете, и поэтому у меня есть надежда, что граф не останется глух к вашим увещеваниям.
— После того, как не стал слушать ваших?
— У меня нет того аргумента, который есть у вас. Раскол нижней палаты — вот единственное, чем можно испугать Эссекса. Он свято верит в парламент. Если вы докажете ему, что общины из-за дела Страффорда вот-вот распадутся на фракции и начнут междоусобную грызню, он поколеблется. Мне он уже не верит, но вам… Сейчас он появится из-за поворота. Я оставляю вас одного и заклинаю: найдите те слова, которых не удалось найти мне.
Бедфорд сжал его локоть и свернул на боковую тропинку. Парк в этом месте был особенно тенистым. Выстриженная стена жимолости поднималась выше человеческого роста, а над ней еще нависали сверху кроны дубов. Коричневая, по-весеннему мелкая и мясистая листва их блестела на солнце, сотрясалась от птичьей толкотни.
— Мистер Хайд, поздравляю вас. Своей превосходной речью вы вбили сегодня еще один гвоздь в эшафот лорда Уэнтворта. Или, как его принято нынче называть, графа Страффорда.
Казалось, только глазам Эссекса было разрешено нарушать величие его осанки и манер — быстро двигаться из стороны в сторону, смеяться, блестеть.
— Честно говоря, это не входило в мои намерения, милорд.
— В том-то и парадокс, в том-то и ирония. Человек и в мыслях не держал обидеть графа, он только хотел бросить свой честный камень в Северный суд, а попал в Страффорда. Другие кидают во взяточников, в ирландские дела, в «корабельные деньги» — и снова попадают в Страффорда. Какой-то вездесущий граф.
— Действительно, его влияние было непомерным. Но король обещает отныне лишить его всех должностей, если ему будет оставлена жизнь. Об этом я и хотел говорить с вами.
— Вот как? А я наивно думал, что мы столкнулись с вами случайно. Впрочем, ради бога. Из уважения к вам я готов выслушать все сначала.
Глаза его скользнули вниз на разгоревшийся в трубке огонь, потом проводили в небо столбик табачного дыма. Хайд начал говорить, но сразу почувствовал, как горячие доводы Бедфорда тускнеют и вянут в его пересказе. От воодушевления, которым была проникнута утренняя речь, не осталось и следа.
— Совесть короля? — перебил его Эссекс. — Ему придется согласовывать ее впредь с мнением обеих палат парламента.
— Но, милорд, вы не можете не признать, что большинство деяний, вменяемых Страффорду в вину, совершались им по прямому повелению его величества или из искреннего желания исполнить их наилучшим образом. Как же может теперь король отправить такого человека на казнь? Это было бы все равно, что казнить себя самого.
— Мистер Хайд! Вам не хуже меня известно, что английский король не бывает не прав. Если в управлении государством случаются какие-то злоупотребления, если вольности подданных нарушаются, а власть монарха вырастает выше власти закона, виновны в этом его советники и министры — только они! И они должны всякий раз нести заслуженную кару. Они должны бояться гнева парламента больше гнева короля.
— Пусть так, согласен. Но зачем непременно казнь? Ссылка, изгнание, пожизненное заключение — все это тоже весьма тяжкие наказания. И они точно так же освобождают все ключевые посты в государстве для людей более достойных и послушных закону.
Эссекс полоснул его гневным взглядом, но сдержался:
— Я пропускаю ваш намек мимо ушей, мистер Хайд. Он не достоин вас. Я только хочу обратить ваше внимание на тот странный факт, что совесть короля, столь бурно протестующая против казни министра Страффорда, почему-то с большой охотой готова примириться с пожизненным заключением невиновного. Вы не задумывались — почему? Да потому, что король прекрасно знает: когда казна будет наполнена, парламент распущен, а шотландцы уберутся восвояси, он всегда найдет повод отменить свой приговор и вернуть графу все его должности и титулы. И тогда уже полетят наши головы — одна за другой. Король расправится с нами, как расправился с Элиотом:[19] обдуманно, хладнокровно, без шума. Да, он прекрасно понимает, что лишь смертный приговор отменить будет невозможно. Потому-то он так и уперся.
— Король был очень несправедлив к вам во время последних кампаний. Ваши действия были безупречны, это признают даже враги.
— А-а, оставьте. К чему ворошить прошлое? Достаточно взглянуть на то, что творится сейчас. Утром король ведет неофициальные переговоры с лидерами парламента, взывает к законам, к правам обвиняемого, а вечером в компании авантюристов планирует побег Страффорда из Тауэра. На словах — привилегии парламента, неприкосновенность его членов, а на деле — вербовка отрядов, таверны, набитые офицерами, какие-то тайные гонцы, шныряющие между армией и спальней королевы. Нужно быть слепым, чтобы не видеть всего этого.
Они теперь стояли лицом к лицу, и Эссекс, рассыпая искры из трубки, постепенно наступал на Хайда, теснил его к шелестящей зеленой стене.

— Ну а вы? — Хайд перестал пятиться и упрямо нагнул голову. — Вы не хотите оглянуться на то, что у вас за спиной? На эти толпы, собирающиеся каждый день на улицах Лондона? На этих молодцов со сжатыми кулаками, бычьим взглядом и ножом за поясом? Это вас не пугает? Недавно кто-то пустил по рукам список членов нижней палаты, голосовавших против осуждения Страффорда. Теперь им страшно появиться на улице. Толпа преследует их свистом, угрозами, оскорблениями, бьет стекла в их домах. «Страффордисты! Предатели отечества!» Может ли быть более чудовищное нарушение привилегий парламентской неприкосновенности?
— Страсти толпы — это стихия. Сегодня она неожиданно разбушевалась, завтра так же неожиданно стихнет. В отличие от воли властолюбца, она не обладает целеустремленной последовательностью. Ею, по крайней мере, можно управлять.
— Только до определенной черты, милорд. Дальше она вырвется из берегов, и все мы, продолжая наши споры и распри, погибнем в огне пожара.
— Мистер Хайд, не кажется ли вам, что из страха перед безумством толпы вы уже готовы отдать деспотизму все, что нам удалось вырвать у него за последние полгода? Трусость и свобода — вещи несовместимые.
— Зато упрямство и близорукость — вещи настолько же совместимые, насколько и гибельные.
Последние слова Хайд почти прокричал.
Лица обоих покрылись пятнами, зрачки чернели в прищуренных глазах, как амбразуры. Удары шаров и голоса играющих глохли в вечернем воздухе, тонули в шуме листвы. Эссекс первый совладал с собой, гордо откинул голову — волосы легли на кружево воротника, рука сделала отстраняющий жест.
— Оставим этот разговор. Я с самого начала знал, что он ни к чему не приведет. Вы видите главную угрозу существованию закона и парламента в вольностях разошедшейся черни, я — в союзе Страффорда с королем. Время покажет, кто из нас прав. Прощайте. — Он повернулся, отошел на несколько шагов, потом оглянулся и сказал, указывая чубуком в сторону верхней площадки: — И передайте тем, кто вас послал, мои слова: лишь смертный приговор отменить невозможно. Даже король не властен воскресить мертвеца.
Апрель, 1641
«Страффорд! Несчастное положение, в которое ввергли вас недоразумения и смуты последнего времени, столь серьезно, что я вынужден оставить всякую мысль о возможности использовать вас впредь на своей службе; однако честь и совесть требуют, чтобы именно сейчас, в разгаре ваших бед, я заверил вас словом короля в том, что ни жизнь ваша, ни доброе имя не потерпят никакого ущерба. По справедливости, это слишком ничтожная награда слуге, показавшему себя столь способным и преданным; и хотя нынешние времена не позволяют мне сделать для вас большего, ничто не помешает мне оставаться
вашим неизменным, верным другом, королем Карлом».
2 мая, 1641
«Капитан Биллингслей с двумя сотнями солдат явился в Тауэр с приказом от короля впустить его в крепость якобы для усиления гарнизона; но комендант, подозревая, что они явились освободить графа Страффорда, отказался открыть им ворота. Впоследствии комендант признался (и граф подтвердил это), что ему предлагали две тысячи фунтов за то, чтобы он не препятствовал побегу арестованного на нанятом корабле, уже стоявшем на Темзе, но что он остался верен своим соотечественникам и друзьям в парламенте».
Уайтлок. «Мемуары»
3 мая, 1641
«Город потерял терпение, и около пяти тысяч горожан явились к Вестминстеру, криком требуя осуждения Страффорда; они накидывались на лордов, жалуясь на застой в делах и упадок торговли, вызванные оттяжкой приговора. Лорды говорили с ними примирительно и обещали обо всем сообщить королю. Но на следующий день толпа явилась снова с теми же жалобами; слухи о попытке устроить бегство графа из тюрьмы взволновали народ еще больше, и поэтому несколько лордов было послано в Тауэр на помощь коменданту».
Мэй. «История Долгого парламента»
Maй, 1641
«Мистер Пим сообщил палате общин, что у него есть достоверные известия о существовании самого страшного заговора против парламента, который когда-либо имел место, и что в нем замешаны весьма высокие особы при дворе; что несколько офицеров вели в Лондоне вербовку солдат якобы для службы в Португалии, но португальский посол, будучи спрошен об этом деле, заявил, что ему об этом ничего не известно и никому он таких полномочий не давал. Был назначен комитет для расследования, но те, кто занимался вербовкой солдат, решили не вверять себя судьям, метода которых состояла в том, чтобы сначала арестовать, а потом на досуге расследовать, и сочли за лучшее бежать во Францию.
Известия об их бегстве придали большой вес и убедительность сообщению мистера Пима и привели все умы в такое смятение, что сильно облегчили прохождение билля, осуждающего Страффорда, через парламент.
И вот в полдень 8 мая, когда из 80 лордов, принимавших участие в суде над Страффордом, в палате присутствовало лишь 46, а добрый народ под окнами криками требовал правосудия, билль был поставлен на голосование и прошел при одиннадцати голосах против, после чего оставалось получить лишь согласие короля».
Хайд-Кларендон. «История мятежа»
9 мая, 1641
Лондон, Уайтхолл
Толпа под окнами дворца то притихала, затаивалась во мраке, то начинала бурлить, накатываясь на стены, то разражалась диким криком, то вновь отливала в глубину улицы и потом снова сгущалась к главным дверям. Подсвеченный снизу дым факелов заполнял безветренный воздух, копотью оседал на лица. Иногда казалось, что люди движутся по кругу, сменяют друг друга бесконечной чередой, что весь Лондон стекается сюда из темноты, окружая дворец многотысячной удушающей спиралью.
Джанноти поднялся и в сотый раз пошел вдоль баррикады, устроенной в вестибюле. Никто из солдат не спал, некоторые молились. Он подумал, что скамьи, которыми была подперта парадная дверь, не так уж прочны, и приказал укрепить завал мешками с землей. Мушкетов было в избытке — по три на человека, но вряд ли солдаты успеют дать второй залп, если нападающие ворвутся разом во все окна. На галерее у него была расставлена вторая линия стрелков — двадцать человек, половина всего отряда. Со стороны реки дворец охраняли конногвардейцы, человек пятьдесят. Итого, если считать с придворными, с теми, кто не побоится ввязаться в драку, сотни полторы защитников. Что ж, при удаче можно продержаться часа два, а потом…
— Синьор Джанноти! — старый Верни, личный знаменосец короля, неслышно появился через боковую дверь и поманил его пальцем. — Во внутренних покоях капеллан королевы принимает тех, кто хочет исповедаться. Вы ведь католик. Я мог бы подменить вас на полчаса.
Растроганный Джанноти пожал руку старика и покачал головой.
— До сих пор, встречаясь со смертью, я делал вид, будто не готов к ней. Мне кажется, это действует на нее отталкивающе. Может, отпугнет и на сей раз.
— Во дворце никто не спит. Пишут завещания, молятся, зашивают бриллианты.
— У меня нет бриллиантов, а что касается завещания… Пусть мои кредиторы перегрызутся за ту малость, что останется после меня.
— Вы не женаты?
— Нет.
— У меня четверо сыновей. За старшего я спокоен, но второй, Томас… Я боюсь, что после моей смерти братья махнут на него рукой и дадут окончательно опуститься. Сейчас мы отправили его в Америку, но вряд ли из этого выйдет толк. В письмах он только требует присылки денег и джина.
— Ваш старший сын заседает в палате общин?
— Да. От Эйлсбери. — Верни вздохнул и развел руками. — Я виделся с ним вчера. Он сказал, что слухи о нападении французского флота на острова в Ла-Манше не подтвердились. Но народу этого не докажешь. Люди так озлоблены, темны. Они убеждены, что ее величество призвала своих соотечественников вторгнуться в Англию.
Будто в подтверждение его слов, толпа за окнами взревела, прихлынула к дверям; тысячи глоток, словно повинуясь невидимому дирижеру, разом издали свой клич: «Правосудия! Правосудия!» Потом запели псалом. Солдаты схватились за оружие, заняли свои места. Верни взял свободный мушкет, присоединился к ним и простоял за баррикадой до тех пор, пока всплеск ярости на улице не утих.
Утром по Темзе один за другим начали прибывать члены Тайного совета, вызванные королем. Проходя по галерее, они невольно старались держаться подальше от окон. Пронесся слух, что королева делала приготовления к бегству, намереваясь достичь с детьми Портсмута и оттуда отплыть во Францию, и что французскому послу с трудом удалось отговорить ее от этого безумного шага. Кое-кто намекал на привязанность ее величества к одному из бежавших заговорщиков. Не это ли заставляло ее так страстно стремиться за Ла-Манш? Говорили также, что сам Страффорд прислал королю из Тауэра письмо, в котором освобождал его от данного слова и просил подписать роковой билль, и что новый комендант, ярый пресвитерианин, грозил в случае оттяжки казнить графа, не дожидаясь приказа.
При свете дня толпа осмелела еще больше. Даже из окон второго этажа нельзя было увидеть, где кончалось море голов. Многие были вооружены палашами, кое-где торчали наконечники пик. Некоторые купцы из Сити явились в латах, другие привели с собой трубачей и барабанщиков.
— Проклятье! Голову даю на отсечение, что это опять он! — Джанноти схватил за руку стоявшего рядом Верни. — Видите, тот высокий, без шляпы?
— Который произносит речь?
— Видимо, судьба решила рано или поздно столкнуть нас лоб в лоб. Некий Джон Лилберн. Он способен произносить речи даже с головой, зажатой в колодки.
— Я слышал о нем.
— Господь всемогущий, если они пойдут на приступ, сделай так, чтобы он ворвался среди первых. Надеюсь, я не промахнусь. Похоже, и компанию он подобрал под стать себе.
— Эпрентисы, ученики гильдий. По большей части они из младших сыновей сквайров и купцов. Наследства не ждут, поэтому привыкли полагаться только на себя. Я тоже подумывал, не отдать ли мне Томаса в эпрентисы в какой-нибудь торговый дом. Но, честно говоря, его нельзя подпускать к большим деньгам.
Они услышали за спиной детские голоса, обернулись и оба склонились в поклоне. Королева в сопровождении младших детей шла к королю. Девятилетняя Мэри смотрела прямо перед собой, старалась держаться как взрослая, остальные со смесью страха и любопытства вслушивались в гул, шедший от окон.
— Ужасно, — вздохнул Верни. — Что сейчас должно твориться в сердце короля? Я не могу этого представить. Господи, избави нас от подобного искушения.
— Скажите… — Джанноти замялся, подбирая слова. — Быть может, мы говорим в последний раз. Лично вы… если бы король спросил вас, что ему делать?..
— Судьи, советники — все советуют ему уступить. Боюсь, что на карту поставлена даже жизнь ее величества. Народ крайне озлоблен против нее. Честно говоря, мне тоже не хотелось бы умирать за графа Страффорда. Но сказать своему королю: возьмите этот грех на душу, пошлите его на эшафот? Нет, язык не повернется.
Час спустя королева прошла обратно к себе с лицом мокрым от слез. Дети не плакали, но шли тесно прижавшись друг к другу, очень серьезные и притихшие. Еще час спустя король отпустил советников и призвал к себе епископов. Один из советников, проходя мимо Джанноти, встретился с ним взглядом и молча покачал головой.
К пяти часам дня солнце перешло на западную сторону и ударило разом во все окна. Начнись штурм сейчас, ослепленные защитники даже не увидят, куда стрелять. В вестибюле и на галерее стало нестерпимо душно, но никто не решался открыть хотя бы одно окно и впустить вместе со струей свежего воздуха рев труб, крики, барабанную дробь. Казалось, что толпа не знает усталости, что с каждым часом ее решимость и возбуждение только нарастают.
Неясный шум раздался за боковой дверью. Джанноти распахнул ее и столкнулся с человеком в измазанной одежде, бившимся в руках двух конногвардейцев. Его лицо было покрыто засохшей грязью, и Джанноти едва узнал знакомого артиллерийского офицера из портсмутского гарнизона. Куртка лодочника разорвалась на груди, открыла кусок алой перевязи.
— Отпустите его!
Освобожденный артиллерист кинулся к Джанноти и, припав к его уху, начал что-то быстро шептать пересохшим ртом. Джанноти кивал, мрачнел, рука его бессознательно отмеривала эфес шпаги.
— Я немедленно доложу его величеству.
Он стремительно взбежал наверх и свернул к покоям короля. В суматохе, царившей во дворце, было невозможно отыскать кого-нибудь из придворных, имевших право доклада. Даже Верни куда-то запропастился. Пришлось отстранить часовых и войти в кабинет самому.
Шум почти не проникал сюда, но духота висела такая же как и повсюду. Человек в епископском облачении, стоя спиной к дверям, протягивал руки перед собой и говорил просящим, срывающимся голосом:
— …и если судьи и лорды, в великой своей мудрости, опытности и знании законов, признали графа виновным, совесть короля оказывается тем самым избавлена от малейшего угрызения. Грех падает на судей, если они ошибаются, и только на них, король же…
— Грех состоит в том, чтобы поступить против своей совести, — вмешался другой епископ. — А его величество ясно объявил нам: совесть говорит ему — граф не виновен в измене. И вы, епископ Вильямс, в глубине души не можете не знать, что все толки об измене — вздор и клевета.
Вильямс беспомощно развел руками, сел, и тогда наконец Джанноти увидел короля. Король тоже увидел его, и на минуту выражение тоски, растерянности и бесконечной усталости на его лице сменилось подобием надежды. Он поспешно поднялся и сделал несколько шагов ему навстречу:
— Капитан? Вы принесли нам какие-нибудь известия?
Его обычное заикание в минуты волнения делалось особенно заметным, Джанноти приблизился и, стараясь говорить так, чтобы слышал только король, произнес:
— Очень печально, государь. Лорд Горинг предал вас и сдал Портсмут парламентским комиссарам. Крепость, арсеналы, порт — все. Граф Манчестер принял командование от имени парламента.
Король прикрыл глаза и едва заметно отшатнулся. Веки его, красные от бессонницы, выглядели такими тонкими и прозрачными, что, казалось, не могли уже заслонять от света расширенные ужасом зрачки.
— Известие достоверное?
— Увы, да. Офицер, привезший его, видел вчера все собственными глазами. Я могу привести его.
— Не надо. Ступайте… И не говорите пока никому.
Джанноти, пятясь и избегая тревожных взглядов епископов, вышел из кабинета.
К вечеру людское море под окнами дворца стало еще гуще, плотнее; словно прежнее движение по кругу прекратилось, и началось стекание к одной точке — к дверям. В криках теперь звучал не только гнев и возмущение — к ним примешивалась еще и ясно слышимая нота торжества, упоения собственной силой. Солдаты, изнуренные духотой, ожиданием, безнадежностью, все еще стояли на своих местах, но оружие их выглядело почти неуместным, лишь по ошибке оказавшимся в руках этих усталых, утративших волю людей. Вторые сутки несли они караул, и сменить их было некому. Они были побеждены уже до боя, раздавлены мощью и грохотом накатывавшегося на них вала.
Наконец, около девяти часов вечера, епископы оставили кабинет короля и появились на галерее. Все, кто был в вестибюле и наверху, замерли, повернув к ним головы, ища на лицах ответа на свой единственный вопрос. Вильямс, епископ линкольнский, отделился от остальных и жестом показал, что просит открыть окно. Никто не решался. Джанноти первым пришел в себя и, взявшись за фигурные ручки — вид огненной реки внизу ослепил его, — распахнул обе створки.
Улица взревела единым коротким криком и замерла.
Епископ, прошептав поспешную молитву, ринулся к окну и стал в нем, раскинув рукава своей мантии.
— Честные лондонцы! Его величество по своей несказанной милости, по любви к законам и справедливости, по преданности благу подданных своих повелел мне объявить… — искушенный оратор, он не мог упустить момента этой завороженности, не мог не затянуть паузу до невыносимого напряжения, — …объявить, что он согласен на билль, осуждающий графа Страффорда!
Казалось — не сам епископ отпрыгнул от окна, но ликующий вопль, взлетевший к темному небу, слился в тугую волну и мощно толкнул его в грудь. Он пытался что-то еще говорить обступившим его придворным, но слова тонули в оглушительном реве труб, криках, пальбе. Выражение бесконечного облегчения можно было прочесть на многих лицах, некоторые, не в силах сдержать счастливых улыбок, отворачивались. Один солдат плакал, утирая слезы рукавом куртки. Джанноти, поймав на себе презрительный взгляд артиллериста из Портсмута, понял, что и он не сумел сохранить подобающую мину. Старый Верни, печально качая головой и вздыхая, протиснулся к окну, прикрыл его и, ни на кого не глядя, отправился во внутренние покои дворца.
12 мая, 1641
«В среду 12 мая графа Страффорда повели на эшафот, устроенный в Тауэр-хилл; и проходя под окнами той камеры, где находился архиепископ кентерберийский, он поднял голову и воскликнул: „Милорд, вашего благословения и молитв!“ Архиепископ простер обе руки, но горе его было так велико, что он тут же упал без чувств; граф поклонился и произнес: „Прощайте, милорд, бог да будет защитой вашей невиновности“. Видевшие его в этот момент признавали, что он был больше похож на генерала во главе армии, чем на осужденного. Комендант Тауэра предложил ему ехать в карете из опасения, что народ набросится на него и разорвет на куски. „Мистер комендант, — отвечал тот, — если вы не боитесь, что я убегу, то мне безразлично, как умереть, — от руки ли палача или от ярости и безумия народа“.
С эшафота он обратился с длинной речью к зрителям, потом, попрощавшись с родными и друзьями и помолившись, подозвал палача. Тот подошел и просил простить его, на что граф сказал, что прощает его и что он сам подаст знак, выбросив руки вперед. Уже положив голову на плаху, он снова долго молился, затем подал условленный знак. Палач отсек ему голову с одного удара, поднял ее и, показав народу, воскликнул: „Боже, храни короля!“»
Из отчета о процессе и казни графа Страффорда
Май, 1641
«Парламент, почувствовав свою силу и обезопасив себя актом о непрерывности заседаний обеих палат, лишавшим короля права роспуска, вплотную занялся главными делами королевства; но первой их задачей было освободить себя от непосильного бремени — содержания двух армий.
Армия шотландцев ждала уплаты жалованья так долго, что ей причиталось теперь 120 тысяч фунтов стерлингов, не считая 300 тысяч, обещанных в качестве дружественного дара. Вот какие тяготы готов был принять на себя парламент, лишь бы не допустить ухода шотландцев из страны до тех пор, пока положение его не станет более прочным; что давало повод многим прелатам и прочим недовольным не только в разговорах, но и в клеветнических писаниях обвинять парламент в преступном недоверии к королю и в удержании иностранной армии в качестве угрозы собственному монарху».
Мэй. «История Долгого парламента»
Июнь, 1641
«Один из друзей мистера Пима в разговоре со мной заверил меня и просил запомнить, что, если король решил защищать епископов, это будет стоить королевству много крови и явится причиной такой страшной войны, какой в Англии еще не бывало. Ибо есть слишком много честных людей, которые решили скорее пожертвовать своей жизнью, нежели смириться с нынешней формой правления».
Хайд-Кларендон. «Жизнеописание»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Против короля и кавалеров
1 ноября, 1641
Лондон, Чипсайд
В безветренном воздухе дождь падал отвесно, не доставая до узких тротуаров. Верхние этажи домов нависали над нижними, и под их прикрытием люди перебегали из лавки в лавку, прижимая к груди свертки с покупками. Торговля на Чипсайде шла бойко в любую погоду. Вода стекала к середине улицы и тугим потоком неслась по проложенной там канаве, унося с собой мусор, нечистоты и грязь, накопившиеся за ясные дни. Экипажи, извозчичьи подводы, грузовые телеги с грохотом катили по очищенной от пешеходов мостовой.
Лавка полотняных товаров помещалась через улицу наискосок, и Лилберн старательно вглядывался в ее двери сквозь прозрачные струи, змеившиеся по оконному стеклу. Не было никакой нужды так напрягать свои многострадальные глаза — Кэтрин сказала, что Элизабет вот-вот должна вернуться, разве что еще забежит за табаком для отца, — но простое «увидеть ее» обрело для него за последнее время такую непомерную важность, что и десять минут стали что-то значить.
Все дни теперь делились на те, когда «видел» и когда «нет».
Ему было дико представить себе, что еще полгода назад он не хотел идти в этот дом, находил для неотступной Кэтрин какие-то объяснения и отговорки. Хотя, может быть, это и к лучшему, что он дотерпел, дождался-таки пересмотра своего дела в парламентском комитете. Приговором Звездной палаты он только гордился, но оставаться на положении заключенного, выпущенного под залог, при парламенте — в этом ему виделось что-то постыдное. Не мог он появиться перед ней с таким камнем на шее. И хорошо еще, что он пришел сразу после пересмотра, в начале лета, когда был без гроша, а не потом, когда приехал дядя Джордж с деньгами и они вдвоем обзавелись пивоварней и начали преуспевать в торговле.
Он вспомнил, как уже через неделю после начала его визитов она стала говорить про себя и про него — «мы». «Нет, завтра у нас не будет времени», — говорила она отцу; «Мы не нуждаемся в няньках», — Кэтрин; или соседям: «Слушать проповедника, назначенного епископами? Нам и подумать об этом тошно». Еще он вспомнил, с какой откровенной радостью и гордостью она привела его в свою комнату, откинула подушку и показала спрятанный там сафьяновый футляр с пачкой листков — его письмом из тюрьмы. Однажды он услышал, как она в сердцах кричала на Кэтрин: «Что ты пристала ко мне — скромность, застенчивость! Нет их во мне перед ним, понимаешь? Да и откуда взяться — не от тебя ли?»
Ей доставляло огромное удовольствие защищать его от каких-нибудь мелких нападок, например, со стороны отца или открыть в нем несуществующую болезнь и разыскивать в аптеках или у шарлатанов с Эльзаты безотказные эликсиры и снадобья. Кэтрин, посмеиваясь, утверждала, что ей теперь сильно недостает той корзинки с бельем и провизией, которую она раз в неделю собирала ему в тюрьму, на что Элизабет, тоже смеясь, но с грустью говорила: «Ах, боюсь, мистер Джон еще не раз предоставит нам такую возможность». Как-то летом они бродили в мурфильдских полях, и компания подгулявших эпрентисов начала отпускать шуточки на их счет, довольно безобидные, хотя и не без перца; нужно было видеть, с какой яростью она обрушилась на них, сколько желчи нашла для дурацкой шляпы одного, шепелявости другого, тучности третьего, прыгающей походки четвертого. Лилберн возмутился тогда и сделал ей выговор: уж не думает ли она, что он сам не в силах защитить себя? Она долго молчала, потом серьезно спросила, каково бы ему было услышать от бога, которого он носит в своей душе и за которого готов пойти на любые испытания, «я достаточно могуществен и в твоей защите не нуждаюсь»? Он смущенно сказал, что такое сравнение — кощунство и грех, но сам почувствовал, как невольная нежность прорвалась в его голосе и лишила эти слова силы и убедительности. Внизу раздались женские голоса и смех — видимо, он все же проглядел ее за дождем. Она вбежала, не сняв жакета, лишь откинув на спину мокрый капюшон, и пошла к нему, протягивая руки и улыбаясь. Теперь, когда до назначенной свадьбы оставалась всего неделя, они разрешили себе целовать друг друга при встрече и каждый раз при этом делали вид, будто дыхание у них не перехватывает и слова не выносит напрочь из головы горячим сквозняком.
— Дождь… Вы видите… Такой дождь! Купленные простыни… Их уже придется сушить… Злые языки будут говорить — ее приданое было подмочено…
Кэтрин уверяла, что однажды в детстве она за какое-то дурное слово («у меня же и подхваченное? возможно, возможно») слегка шлепнула маленькую Лиззи по губам и будто с тех пор они и сделались такими — вдвое больше и ярче, чем у других людей.
— А-а, новая книга… Вы принесли ее для меня? «Рассуждение о природе епископата, установленного в Англии». Это вы написали! Нет?.. Жаль. А кто же? Лорд Брук? Но вы согласны с тем, что он пишет?.. С каждым словом?.. О, тогда я прочту немедленно. Или нет — можно, я сначала дам отцу? Нас он отказывается слушать, но книга, написанная лордом, его пробьет. В глубине души он благоговеет перед знатью.
От одного звука ее голоса у него порой так кружилась голова, что он переставал понимать смысл слов. То, что происходило с ним за последние месяцы, было похоже на бунт двух чувств — зрения и слуха. Они словно бы требовали возвращения своих прав, не давали ему, как прежде, надолго сосредоточиваться, уходить в себя; любое случайное впечатление: пролетевшая птица, крик разносчика, звук текущей воды, свеже-красный разруб в окне мясной лавки — могло вдруг властно отвлечь его, сбить с налаженного хода мыслей. И это властное требование — смотри! слушай! дыши! — не воспринималось им больше как что-то чуждое. Он будто заново учился пользоваться этими дарами, и запах дождя, частокол черных крыш на розовом небе, конское ржание, звук ночных шагов, липкий от типографской краски лист бумаги, вкус первого глотка пива, внезапная тяжесть в чреслах, грохот дверного засова, бой часов пронзали его порой таким острым чувством полноты бытия, что на секунду ему делалось страшно. Ибо он инстинктивно боялся так любить эту плотскую жизнь, боялся, что такая привязанность к ней сделает его уязвимым, беспомощным, негодным для чего-то более высокого; что тот, кто так привязан к радости, уже не сумеет достичь спасительного жертвенного самозабвения, бывшего для него до сих пор главным стержнем, опорой, убежищем души. Но потом испуг проходил, и он снова сполна отдавался потоку звуков, картин и ощущений. В такие минуты жизнь казалась ему бесконечным морем света, и был в этом море еще яркий проблеск — Элизабет.
Когда пришло время садиться за стол, мистер Дьюэл опять появился с тем обиженно-недоуменным выражением на лице, которое предвещало продолжение его бесконечного спора с будущим зятем.
— Ну хорошо, — говорил он, — я готов признать, что с идолопоклонством нужно бороться, что указы парламента об удалении икон, распятий и статуй преследуют цели благородные и набожные. Но значит ли это, что все церкви надо ободрать дочиста, что пришло время бить витражи, ломать алтарные решетки, срывать облачения со священников? Или парламенту неизвестно о подобных бесчинствах? Один мой знакомый вчера вернулся из Кента. Он своими глазами видел, как компания хохочущих молодчиков крестила свиней и лошадей.
Руки его при этом машинально двигались над столом, подносили к глазам тарелку, ощупывали печать на буханке (из той ли пекарни?), ножи и вилки (хорошо ли начищены?). Все еще густые каштановые кудри торчали в обе стороны из-под рабочей шапочки.
— Парламент не может отвечать за каждого деревенского дебошира, мистер Дьюэл. — Лилберн старался говорить спокойно, но невольно спешил — ему не хотелось, чтобы Элизабет снова успела кинуться на его защиту. — Нынешнее положение его очень сложно и полно опасностей. Заговоры папистов, угроза иностранного вторжения, внутренний раскол по поводу устройства церкви. Общины требуют лишить епископов права заседать в палате лордов. Чем отвечает на это король? Назначает туда пять новых на место изгнанных. Не значит ли это, что он решил защищать епископов до конца?
— Я только и слышу что о заговорах, опасностях. Но где они? Покажите мне этих заговорщиков. Пока единственное, что мы видим, это круглосуточная стража, ни с того ни с сего выставленная у парламента. Сотня вооруженных бездельников, содержание которых мы должны оплачивать из своего кармана.
— Не далее как вчера мистер Пим сделал подробное сообщение о раскрытии нового армейского заговора. Допрошенные свидетели…
— Армейского? Насколько мне известно, обе армии распущены еще в сентябре?
— Но большинство офицеров так или иначе стекается в Лондон. Они толкутся по тавернам и весьма громогласно хвастают друг перед другом, как они будут разгонять круглоголовых болтунов, засевших в Вестминстере. «Король вернется из поездки в Шотландию, и тогда мы им покажем». На жизнь мистера Пима было совершено покушение. Он получил письмо и, когда распечатал конверт, нашел в нем листок с угрозами и кусок ткани, пропитанный гноем чумного.
— Господь всемогущий! — Кэтрин чуть не выронила внесенное блюдо с фаршированной щукой. С тех пор как Лилберн исполнил свое обещание и высудил у бывшего мэра десять фунтов компенсации «в пользу мисс Хэдли за незаконное и жестокое взятие под стражу», она перестала относиться к нему с иронией и свято верила каждому его слову.
— Дорогой Джон, я не менее вашего желаю мистеру Пиму здоровья и благополучия. Но я так же страстно желаю, чтобы раздоры между королем и парламентом прекратились. Неужели нельзя найти какой-то компромисс? Поймите — вы человек, искушенный в вопросах веры и политики, но в делах вы еще младенец. Знаете ли вы, что такое пошатнувшийся кредит? Это когда обстановка в стране так неспокойна, что никто не рискует одалживать другому деньги. Или вкладывать их в какое-нибудь дело. Когда каждый старается придержать золото, а если и пускать его в оборот, то только за границей. Деньги перестают оборачиваться, начинается застой в делах, безработица и голод. А вслед за этим — бунты. Вот почему я говорю вам: восстановление авторитета королевской власти необходимо. Только она сможет предотвратить разруху, спасти нас всех от разорения.
— Отец, но ведь вы сами!.. — Элизабет умоляюще схватила Лилберна за руку — «дайте же и мне сказать». — Не вы ли год назад, прошлым летом, сидя вот на этом же стуле, стучали кулаком и грызли пальцы от ярости? Неужели вы не помните, что было тому причиной?
— При чем тут это? Зачем вспоминать случай, не имеющий ничего общего… Тогда были другие обстоятельства…
Ювелир досадливо морщился, отмахивался от дочери обеими руками, но было видно, что на самом деле он смущен.
— Обстоятельства? О, конечно! Обстоятельства были таковы, что вы доверяли королю и хранили свое золото на монетном дворе. И когда он одним махом загреб все, что там было, — 130 тысяч фунтов! — чтобы нанять армию против шотландцев, вы, весь ваш цех золотых дел мастеров стенал и рвал на себе волосы. Вот когда вы впервые начали кричать о пошатнувшемся кредите, разве я не помню! А ваш вечный страх перед штрафами, а «корабельные деньги», а пошлины, которые порой бывали дороже самих товаров? На все это вы плакались друг другу вот в этой самой комнате, а теперь… Теперь вы ничего не желаете вспоминать. Вы готовите возвращающемуся королю торжественную встречу, вы возлагаете на него все надежды, как будто этот человек когда-нибудь…
— Дочь моя, ты не должна говорить о его величестве в таком тоне. Что бы там ни было, король всегда король, а мы — его смиренные подданные. Между нами возможны, конечно, недоразумения, но никогда…
Мистеру Дьюэлу не удалось докончить свою нотацию. Чей-то громкий голос с улицы, перекрывая стук телег и крики разносчиков, несколько раз выкрикнул имя Джона Лилберна.
— Эгей, Сексби! — Лилберн высунулся в окно и помахал рукой. — Я здесь. Что у вас там стряслось?
Человек внизу поднял залитое дождем лицо и жестом спросил, можно ли ему подняться. Лилберн кивнул, и через минуту тот уже входил в комнату, кланяясь и стараясь как-то показать всем своим видом, что угрюмое выражение, застывшее на его лице, не относится ни к кому из присутствующих. Под плащом его блеснула наспех застегнутая кираса.
— Это Сексби, — сказал Лилберн. — Он будет заправлять у нас с дядюшкой пивоварней.
— Садитесь к столу, мистер Сексби, — сказал ювелир. — Кэтрин, налей гостю стаканчик.
— Прошу прощения у хозяина дома. Мне сказали, что мистер Лилберн на Чипсайде, но я не знал, где именно. Страшные вести доставлены в Лондон, потому я позволил себе так кричать. Трудно поверить, что христиане способны на подобные зверства. Но, я надеюсь, ни у кого из вас нет близких родственников или друзей в Ирландии?
— В Ирландии?!
— Да, почтенные, да, — паписты восстали в Ирландии, и кровь честных протестантов заливает землю. Трупы плывут по рекам, валяются не погребенные у дорог, и голодные собаки поедают их. Горят дома, виселицы стоят на площадях, женщины и дети замерзают в поле. «Смерть англичанам! — кричат их попы. — Кто даст приют хоть одному, будет гореть в аду!» И так по всей стране, повсюду, в деревнях и городах.
Он говорил монотонно, смотрел неподвижным взглядом и раскачивался, как от зубной боли. Забытый в руке стакан с вином просвечивал красным сквозь пальцы.
— Но что же армия? Где все эти замки, пушки, форты? Где склады оружия, запасенные Страффордом?
— Взяты, захвачены обманом или изменой. Только Дублин удалось спасти. Заговор там был раскрыт в ночь накануне восстания, и меры приняты. Но в остальных частях острова… В Ольстере резня идет днем и ночью. Говорят, те, кто спасся по милости божьей, приползают к дублинским стенам раздетые догола, измазанные грязью и кровью и уже в воротах накидываются на хлеб, как безумные. Говорят еще, что королева…
— Ну?
— Возможно, это и ложь, но главари восставших уверяют, будто королева обещала им свою поддержку.
— Проклятая папистка!
— Ирландские собаки!
— Нож в спину — вот все, что можно от них ждать.
— В Лондоне волнение, мистер Лилберн. Опасаются, что и местные католики поднимут голову. Назначен сбор милиции — вот зачем я искал вас. Наша рота заступает в караул с восьми вечера.
Но Лилберн уже и без того поспешно надевал плащ и шляпу, принесенные Кэтрин. В движениях его снова появилась угловатая завершенность, лицо стало злым и острым. Обняв на прощанье Элизабет, он вдруг выбросил руку в сторону ее отца и сказал:
— Вы просили заговоров, реальных угроз. Теперь вы довольны? Или вы признаете положение опасным только тогда, когда членов парламента за ноги поволокут к Темзе?
Мистер Дьюэл прижал руки к груди жестом возмущенным и покаянным одновременно, но когда Лилберн и Сексби в сопровождении женщин оставили комнату, скептическая мина снова появилась на его лице и он негромко пробормотал, скребя пальцами под шапочкой:
— Во всяком случае, пока в Ирландии правил Страффорд, никаких бунтов там не бывало.
Декабрь, 1641
«По возвращении короля из поездки в Шотландию лондонское Сити устроило ему такую пышную и торжественную встречу, что он воспрял духом и стал энергично препятствовать всем действиям парламента, направленным на облегчение участи англичан в Ирландии. Прошло очень много времени, прежде чем его удалось заставить объявить тамошних убийц бунтовщиками, но и тогда было отпечатано всего сорок прокламаций и даны специальные указания против широкого их распространения; каковые действия убедили всех добрых протестантов в Англии в том, что ирландское восстание произошло не без соучастия короля и королевы.
После этого лондонское Сити выступило с петицией, выражавшей полную поддержку парламенту и недоверие королю; король же окружил себя многочисленной стражей из кавалеров, которые убили и ранили нескольких бедных безоружных людей, собравшихся около его дворца Уайтхолла».
Люси Хатчинсон. «Воспоминания»
3 января, 1642 (утро)
«Член палаты лордов граф Манчестер и члены палаты общин Пим, Гемпден, Холлес, Строд и Хэзльриг обвиняются в том, что они: 1) изменнически замышляли ниспровергнуть основные законы и управление Английского королевства, лишить короля его монаршей власти; 2) злобно клевеща на его величество, предательски пытались очернить его в глазах народа; 3) подстрекали армию его величества не подчиняться его приказаниям и соединиться с ними в злодейских умыслах; 4) предательски призывали и ободряли войска другой страны вторгнуться в Англию; 5) покушались на права и само существование парламента; 6) возбуждали бунты и беспорядки против короля и парламента; 7) изменнически сговаривались развязать войну против короля и, по сути дела, уже развязали ее».
Из текста обвинительных статей и приказа об аресте, представленного королевским поверенным в парламент
3 января, 1642 (вечер)
«До нас дошло, что палата общин послала просить у Сити охранную стражу. Поскольку сегодня некоторые члены этой палаты были обвинены в государственной измене, сообщаем вам нашу королевскую волю, чтобы ни одна рота лондонской милиции не была поднята без специального приказа от нас. Если же на улицах начнут появляться буйные толпы и мятежные сборища, мы повелеваем вам вызвать столько рот, сколько найдете нужным, и, буде собравшиеся откажутся мирно разойтись по домам, приказать капитанам, офицерам и солдатам стрелять по ним пулями и уничтожить тех, кто будет упорствовать в сеянии мятежа и беспорядка».
Из приказа короля лорд-мэру города Лондона
4 января, 1642
Лондон, Вестминстер
С утра пять обвиненных членов парламента, как и было условлено накануне, заняли свои места на скамьях палаты общин. Быстро пронесся слух, что сарджент палаты успешно исполнил полученный приказ: сорвал печати, наложенные королевскими чиновниками на их дома и бумаги, а самих чиновников взял под стражу за незаконные действия, нарушающие привилегии парламентской неприкосновенности. Но одновременно с этим стало известно о нескольких десятках артиллеристов, прибывших в Тауэр для усиления гарнизона, и о приказах короля, разосланных в Сити и в адвокатские подворья,[20] — быть готовыми выступить на защиту королевском особы. Новоиспеченный государственный секретарь Фокленд встал, чтобы доложить о результатах вчерашних переговоров с королем, голос его звучал глухо, на лице застыло выражение недоумения и досады. Король обещал дать ответ на протест палат не позже сегодняшнего утра — вот все, что он мог сообщить.
— Государственный секретарь пытается сделать вид, будто ему ничего не было известно о замыслах короля, — прошептал Кромвель сидевшему рядом Гемпдену. — А его приятель вообще не кажет носа.
— Вы думаете, Хайд приложил к этому руку?
— Судейская лиса! Пусть мне отрежут язык, если он не состоит в тайном сговоре с королем.
— Возможно. — На узких губах Гемпдена мелькнула усмешка. — Однако, если бы замысел принадлежал ему, наши враги не совершили бы столь грубых ошибок. Хайд достаточно умен и слишком хорошо знает законы.
— Что вы имеете в виду?
— Король не имел права посылать своего поверенного с обвинениями и приказом об аресте прямо сюда. Ему следовало обратиться с этим требованием к лордам. По закону распоряжение должно было исходить от них. То, что он сделал, — грубейшее нарушение прав и привилегий верхней палаты. Я говорил вчера с некоторыми из них. Их возмущению нет границ.
Оба повернули головы в сторону Пима, который поднялся со своего места, держа в руках перечень обвинительных статей.
— Мистер спикер! В первом пункте обвинений, выдвинутых против меня и четырех других членов нижней палаты, сказано, что мы замышляли ниспровергнуть основные законы этого королевства и установить над подданными его величества власть тирании и произвола. Можно ли назвать подобное деяние изменой? О да, как никакое другое! За подобную попытку нынешний парламент отправлял на эшафот могущественных министров. И если признать основным законом все те страшные злоупотребления, которые были перечислены в Ремонстрации, принятой нами недавно, тогда всякий, кто выступал против них — и я в том числе, — виновен в государственной измене.
— И мы! И мы тоже! — прокатилось по рядам.
— Если признать участие в свободном парламентском голосовании за напечатание данной Ремонстрации, разоблачившей злонамеренных советников его величества, епископов, пытавшихся извратить религию, несправедливые преследования, чинившиеся ими, жестокость их судов, покровительство папистам, — если все это включается в понятие «сеять раздор между королем и его подданными», тогда — да, я признаю себя виновным и по этому пункту обвинения! И если подача голоса за учреждение постоянной охраны для членов парламента, окруженных столькими опасностями, означает попытку поднять оружие против короля, я, безусловно, виновен и в этом.
Возбуждение, владевшее палатой, прорвалось взрывом одобрительных криков.
— Славно сказано! Славно сказано! — кричал Кромвель вместе со всеми.
Ревнивое чувство его, былое стремление вырваться из-под власти этого человека за прошедший год постепенно шло на убыль, слабело, по мере того как рос его собственный авторитет и влияние в палате. Они не раз уже заседали теперь вместе в различных парламентских комитетах, и был уже один или два случая, когда не красноречие Пима приносило их партии победу, а именно яростный напор и несдержанность «этого болотного лорда» — так его прозвали за борьбу с осушителями. Поистине, король плохо знал своих противников. Выбирая жертвы для удара, он вполне мог бы заменить безобидного горлопана Строда им, Оливером Кромвелем.
Холлес, Хэзльриг, Строд один за другим поднимались и, под одобрительные крики палаты, с гневом отвергали возведенные на них обвинения. Попытка напугать парламент, арестовав неугодных членов, — да можно ли представить себе более грубое покушение на парламентские привилегии? Подобное посягательство на освященные веками права гораздо легче подвести под определение государственной измены.
Затем очередь дошла до Гемпдена.
Он начал, по своему обыкновению, негромко, но в голосе его было столько сдерживаемой страсти, такой пронзительный свет шел со дна глубоких глазниц, что палата притихла.
— Мистер спикер! Джентльмены! Надо ли еще говорить о фальшивости этих обвинений — их вздорность ясна каждому из нас. Я хочу сказать о другом. Долг каждого подданного — повиноваться своему королю. И каждый из нас до последней возможности хотел бы оставаться добрым и лояльным подданным. Но что бы мы сделали, спрашиваю я вас, если бы не дурные советники и злокозненные министры, а сам король отдал приказ, явно направленный против истинной веры или древнейших и главных законов нашей страны? — Рот его сжался в короткую черту, почти исчез на бледном, гладко выбритом лице. Пауза тянулась невыносимо, натягивала напряжение до звона в ушах. — Я глубоко убежден, что повиноваться такому приказу было бы преступлением. Добрым и лояльным подданным мог бы считать себя только тот, кто решительно отказал бы в повиновении.
Наступила мертвая тишина.
Высказать вслух подобное — на это до сих пор никто еще не осмелился. Открыто призвать к сопротивлению королевской воле! Для этого нужно было либо впасть в отчаяние, либо чувствовать за собой реальную силу; говорить так имело смысл лишь в том случае, если бы на площади перед Вестминстером стояли полки лондонской милиции, откликнувшейся на призыв парламента.
Но полков не было.
Они не появились и в полдень, когда в заседании был объявлен часовой перерыв.
Правда, и королевского приказа они тоже не выполнили — не выставили патрулей на улицы Сити. Но могло ли такое пассивное сопротивление послужить защитой против вооруженной толпы кавалеров, стекавшихся сейчас к Уайтхоллу? Офицеры распущенной армии, личные вассалы короля, искатели приключений, профессиональные рубаки, солдаты конвоя. Вернувшийся оттуда Файнес насчитал до четырехсот человек, вооруженных до зубов. Судя по репликам, которыми они обменивались, по негромко отдаваемым командам, по взглядам, бросаемым в сторону дворца, они ждали только знака.
Потом пришла страшная весть: король решил лично явиться в парламент и арестовать пятерых обвиненных.
Поднялся страшный шум.
Никто не высказывал сомнения в достоверности известия — тому, что сообщал Пим, привыкли верить. Кроме того, все уже считали короля способным и на такое. Спорили о том, что следует делать пятерым.
— Удалиться! — кричали одни. — Укрыться в Сити!
— Остаться! Мы будем защищаться! Они не посмеют! — кричали другие.
Смятение было таким всеобщим, что лишь сидевшие у самого входа обратили внимание на офицера, который тяжело дыша взбежал по лестнице, ведшей из Большого зала в палату, и стал в дверях. Файнес поспешно подошел к нему, обменялся несколькими словами и побежал через весь зал к креслу спикера. Тот, выслушав его, побледнел и поднялся:
— Джентльмены! Король во главе вооруженного отряда идет сюда. Он будет с минуты на минуту. Предлагаю пятерым обвиненным немедленно удалиться.
Лес рук поднялся в ответ на его слова.
Пим, Гемпден, Хэзльриг, Холлес один за другим быстро двинулись к задним дверям, через которые можно было попасть к реке, к причалу, к заготовленной лодке.
Там, где сидел Строд, началась какая-то возня — друзья пытались оторвать его от скамьи.
— Я не уйду! — кричал он. — Своим уходом мы признаем себя виновными. Оставьте меня. Пусть моя кровь на этом полу запечатлеет мою невиновность!
Со стороны Большого зала раздался глухой шум, топот множества ног, звон оружия. Строда наконец оторвали и силой увлекли вслед за ушедшими. В наступившей тишине было слышно, как вооруженная толпа заполняет лестницу, вестибюль. Потом всем знакомый, с легким заиканием голос произнес:
— Под страхом смерти запрещаю кому бы то ни было следовать за мной дальше!
Двери распахнулись, вошел король.
Кавалеры теснились за его спиной в маленьком вестибюле, задние напирали на передних. Многие скинули плащи, открыто держали руки на эфесах шпаг, на рукоятках пистолетов. Разгоряченные лица дышали злобой и любопытством. Волна холодного воздуха, принесенного с улицы, прошла по залу, подхватила бумаги на столе парламентских клерков.
Общины обнажили головы.
Король тоже снял шляпу и прошел вперед.
— Мистер спикер, на некоторое время я должен занять ваше место.
Он поднялся по ступеням мимо кланяющегося спикера, но в кресло не сел, а повернулся и обвел ряды долгим взглядом.
— Джентльмены! Я огорчен случаем, приведшим меня сюда. Вчера я послал своего поверенного со стражей с поручением арестовать некоторых лиц, обвиненных по моему повелению в государственной измене. Я ожидал от вас повиновения, а не послания с протестом. Ни один английский король не заботился так о поддержании ваших привилегий, как я. Но вы должны знать, что в случае государственной измены привилегий не остается ни для кого. Есть здесь кто-нибудь из обвиненных?
Никто ему не ответил. Кромвелю с его места было видно, как молодой Рошворт, помощник клерка, стараясь остаться незамеченным, записывает речь короля.
— У меня нет уверенности в том, что, пока этим людям позволено будет здесь оставаться, палата общин сможет вернуться на тот прямой путь, на котором я бы искренне желал ее видеть. Я прибыл сказать, чтобы мне их выдали, где бы они ни находились. Мистер спикер, где они?
Рука спикера дернулась, словно пытаясь прикрыть его от удара; потом, подняв лицо, он неловко рухнул перед королем на колени:
— Ваше величество! Здесь у меня нет глаз, чтобы видеть, и языка, чтобы говорить, пока это не прикажет мне палата, которой я служу. Всеподданнейше умоляю простить мне, что я не могу дать иного ответа на ваш вопрос.
Он поник, склонив голову, прижав руку к груди.
— Ну хорошо, хорошо, — отмахнулся король. — Мои глаза не хуже ваших. Здесь ли мистер Пим?
Снова гробовое молчание.
— Мистер Гемпден?.. Мистер Холлес?..
Толпившиеся в дверях кавалеры вытягивали головы, чтобы лучше видеть ряды сидевших на скамьях.
— Итак, я вижу, что птицы улетели. — Королю с трудом удавалось за небрежностью тона скрывать смущение и растерянность. — Надеюсь, вы их пришлете мне, как только они возвратятся. Заверяю вас королевским словом, что я не имел намерения употреблять силу и буду действовать против них законными средствами. Не хочу более мешать вам, но повторяю: если вы не пришлете их, я приму свои меры.
Он надел шляпу и двинулся к выходу.
Спикер, не вставая с колеи, смотрел ему вслед.
Словно туча шла за королем по рядам — общины покрывали головы. Кромвель чувствовал, что еще немного, и бессильное бешенство, клокотавшее в нем все это время, задушит его, раздавит гортань. Пересохший язык не слушался его, и он едва узнал свой голос, хрипло прорезавший тишину:
— Привилегию!
— Привилегию! Парламентскую неприкосновенность! — раздалось в других концах зала. — Наши права!
Король, не оглядываясь, прошел между расступившимися кавалерами. Они сомкнулись за ним и, бормоча угрозы, попятились прочь из вестибюля, вниз по лестнице, смешались с теми, кто ждал в Большом зале.
Файнес, отирая пот со лба и щек, опустился рядом с Кромвелем на свободное место и прошептал:
— Они отплыли благополучно. Народ на причале отвязал все остальные лодки, чтобы никто не мог пуститься в погоню.
Ошеломленная всем происшедшим, палата разошлась, не обсуждая больше никаких вопросов, не сделав даже распоряжений насчет следующих заседаний.
6 января, 1642
«Город и обе палаты парламента находятся в таком смятении, что мы опасаемся восстания. Вчера его величество прибыл в Сити без конвоя и обратился с милостивой речью к лорд-мэру и собравшимся в Гилд-холле членам городского совета. Многие стали кричать, прося его величество восстановить привилегии парламента, на что он мягко отвечал, что и сам не имеет иных желаний, но что он должен делать различие между парламентом и некоторыми недостойными членами его, злоумышлявшими против его особы и против доброго согласия между ним и народом. Поэтому он должен найти их и найдет, чтобы предать правосудию, которое будет осуществляться законным порядком, и никак не иначе. Когда он возвращался потом из Сити в Уайтхолл, враждебная толпа следовала за его каретой, выкрикивая снова и снова „Привилегии парламента!“, что произвело, я полагаю, тягостное впечатление на короля, так что он рад был вернуться к себе во дворец».
Из частного письма
10 января, 1642
«Приготовления к возвращению пяти обвиненных обратно в парламент делались в городе с таким великим шумом, что его величество счел за лучшее удалиться из Уайтхолла и отбыл с королевой и детьми в Хемптон-корт.
На следующий день, около двух часов пополудни, пять членов парламента покинули дома в Сити, служившие им убежищем, и под охраной шерифов и отрядов милиции отправились водой в Вестминстер; тысячи сопровождали их по берегу, выкрикивая угрозы в адрес епископов и папистских лордов, и многие, проходя мимо Уайтхолла, спрашивали с великим презрением: „Что сталось с королем и его кавалерами? Куда они подевались?“
От Лондонского моста до Вестминстера Темза охранялась сотнями барок и шлюпок, на которых развевались вымпелы и арбалетчики стояли за щитами, словно готовые к бою. И по прибытии обвиненные члены, прежде чем занять свои места, воздали хвалу „благорасположению и усердию, выказанному городом делу парламента“. Затем шерифы и капитаны судов были приглашены в палату общин, и спикер выразил им благодарность за их великое радение и объявил их действия, направленные на охрану лордов и общин, законными и правомочными».
Хайд-Кларендон. «История мятежа»
Февраль, 1642
«Из Хемптон-корта король и королева отправились в Кентербери и оттуда в Дувр вместе с принцессой Мэри, выданной недавно за принца Оранского. Вскоре королева, под предлогом необходимости сопровождать свою десятилетнюю дочь ко двору ее супруга, отплыла в Голландию. Но при этом она увезла с собой большую часть коронных бриллиантов Англии, которые немедленно заложила там ростовщикам, и на вырученные деньги начала скупать оружие и снаряжение для короля».
Мэй. «История Долгого парламента»
27 февраля, 1642
Гринвич
Придворных в зале было еще немного, но все они сгрудились у огня и не давали полюбоваться гирляндами мраморных цветов, безупречными пропорциями каминной отделки.
Хайд перевел глаза на потолок.
Лепка и роспись завораживали взгляд. Дворец в Гринвиче был самым «молодым», Иниго Джонс[21] закончил его лишь пять лет назад. То, что стали теперь называть итальянским стилем, было доведено здесь до предельного совершенства, подняться выше, казалось, уже невозможно.
Король появился одетый для верховой прогулки, оглядел собравшихся:
— Здесь ли депутация от парламента?
— Только мистер Хайд.
— Где он?
Хайд с поклоном выступил вперед.
— Это вы. А где остальные? Впрочем, неважно. Передайте им, что я дам ответ на послание парламента во время дневного приема. — Тон его был надменным, внимание, казалось, целиком поглощено натягиванием перчатки. — Как погода? Похоже, поднимается ветер. Егеря говорят, что сильный ветер может взломать лед на Темзе. Что вы на это скажете?
Он постепенно отходил к окну, и Хайд поневоле двигался за ним. Редкие деревца тянулись от дворцовой аллеи до белевшей вдали реки. Жар камина не доставал сюда, стена дышала холодом.
— Позавтракайте внизу у дворецкого, — прошептал король, — потом поднимитесь сюда. Я буду один. — И снова громко: — Парламент засыпает меня неслыханными просьбами и требует немедленных ответов. Даже школьникам дают время подумать над задачей. Надеюсь, право обдумывания у меня еще осталось. Или оно тоже будет объявлено нарушением парламентских привилегий?
Он вышел, сопровождаемый сочувственными вздохами и поклонами придворных. Хайд слышал перешептывания за своей спиной, ловил враждебные взгляды. Для них он был посланцем обнаглевшего, взбунтовавшегося парламента — и только.
Следовало отдать должное королю — он вел игру безупречно.
Со времени их первой тайной встречи прошло уже больше полугода, но до сих пор ни один добровольный или наемный шпион, которыми кишели все дворцы, не смог ничего пронюхать. Если бы в парламенте стало известно об этих секретных совещаниях, о том, что даже ответ короля на Ремонстрацию сочинен им, Хайдом, он уже сейчас сидел бы в Тауэре или на скамье подсудимых. Государственная измена! Подумать только — служить своему королю верой и правдой стало самым опасным делом. Они приписали бы ему даже попытку ареста пяти членов, и он никогда не смог бы доказать, что такой безумный совет просто не мог исходить от него — от знатока и защитника закона. И все же в словах Гемпдена, брошенных ему недавно («я знаю, вы желали бы видеть всех нас в тюрьме»), была доля правды, и немалая. Он ненавидел их.
Завтрак прошел в тягостно вежливом молчании, прерываемом одними «прошу вас», «вы очень любезны», «не желаете ли отведать?». Когда час спустя Хайд снова поднялся в залу с камином, она была пуста, догорающие поленья потрескивали на решетке. Король вошел через несколько минут и сделал ему знак следовать за собой. Боковая галерея, в которой они оказались, была увешана охотничьими гобеленами, в простенке висело полотно Ван Дейка — дети королевской четы.
— Здесь нам не помешают. — Король запер дверь собственным ключом. — Я рад видеть вас снова, мистер Хайд, и рад случаю выразить вам лично благодарность за ответ на Ремонстрацию парламента. Он был составлен блистательно.
Хайд молча поклонился. Он уже знал, что даже самые искренние изъявления монаршей признательности будут произноситься таким вот ровным, почти надменным тоном, и не удивлялся. Другой тон, другое выражение лица существовали у короля только для одного человека — для королевы.
— Я знаю, вы считали, что мне не следовало давать согласия на билль об удалении епископов из палаты лордов.
— Эта уступка только разожгла аппетиты противников вашего величества и обескуражила сторонников.
— Но у меня не было выхода. Без этого они ни за что не позволили бы королеве отплыть на материк. Зато теперь, когда она в безопасности, руки у меня развязаны. Я не вернусь в этот мятежный город и завтра же отправляюсь на север. В Йорк. Могу ли я по-прежнему полагаться на вашу помощь, мистер Хайд?
— Я готов сделать все, что будет в моих силах.
— Поверьте, я отлично понимаю, какой смертельной опасности вы себя подвергаете. Королевским словом заверяю вас, что все ответы на послания парламента и все прокламации, которые вы составите и пришлете мне, я буду переписывать своей рукой и только тогда передавать для печати. Оригиналы же — сразу в камин. Никто не должен быть посвящен в нашу тайну.
— Ваше величество, мой почерк… Вы уже довольно намучились с ним. Нельзя ли поручить эту работу секретарю Николасу? Я вполне ему доверяю.
— Если бы речь шла о моей собственной безопасности, я был бы готов довериться мистеру Николасу всецело. Но когда дело идет о жизни другого… Ваши «т» и «ю» распознать было труднее всего, но теперь я приспособился и к ним.
Неожиданная нежность прорвалась в его голосе, и Хайд с удивлением поднял голову. Но нет — взгляд короля был устремлен не на него, а на лица детей на портрете.
— Угодно ли будет вашему величеству использовать подготовленный мною ответ на нынешнюю петицию парламента? На ту самую, которую доставила моя депутация?
— Конечно, конечно, давайте его сюда. Хотя вы не можете себе представить, каких сил мне будет стоить сдерживать себя и переписывать ваши отточенные фразы, вместо того чтобы высказать прямо этим господам… чтобы бросить им в лицо… Теперь, когда королева в безопасности, а Чарльз со мной… — Глаза его не отрываясь скользили по холсту. — Ван Дейк писал эту картину лет пять назад. Чарльзу было тогда восемь, сейчас уже тринадцать. Он умеет держаться в седле не хуже любого драгуна. Мы должны сделать все возможное, чтобы ему досталось королевство, очищенное от изменников. Воображаю, какой крик поднимут в Вестминстере, когда узнают, что я взял его с собой на север.
В это время из залы донеслись громкие голоса и смех. Король вздрогнул, встревоженно оглянулся.
— Это граф Эссекс. У него есть свой ключ от галереи. Прощайте, мистер Хайд. Нас не должны видеть вместе. — Горькая усмешка тронула его губы. — Ваш король вынужден прятаться от собственных придворных — прекрасная сцена.
Он повернулся и исчез в противоположном конце галереи.
Когда Эссекс заглянул в дверь, Хайд стоял у гобелена и, казалось, всецело был поглощен игрой зеленых и коричневых пятен — свора, несущаяся по лесу за оленем.
— С каких пор вы стали интересоваться охотой, мистер Хайд?
— Если она изображена на французском гобелене — с ранней юности.
— Вы не видели короля? Его нигде не могут найти.
— Я видел, как он уезжал на прогулку. Но это было часа два назад.
Ему удавалось говорить почти небрежно. То, что сердце от перенесенного испуга колотилось больно и часто, внешне ничем не проявлялось. И тем не менее Эссекс, уходя, смерил его взглядом, в котором не понять, чего было больше — подозрения или насмешки.
Известие о том, что король завтра отбывает на север, быстро разлетелось по дворцу. Всадники один за другим отъезжали от ворот — готовить квартиры на пути следования, закупать провизию, доставать сменных лошадей. Слуги суетились внизу с тюками, укладывали дорожные сундуки. Со стороны Лондона прибывали кареты с членами Тайного совета, с придворными, остававшимися до сих пор в Уайтхолле. В поднявшейся суматохе Хайду с трудом удалось отыскать только что подъехавшего Фокленда и затащить его в пустую караульную.
— Мой друг, вы видите — то, чего мы опасались, произошло. Это разрыв. Король не считает безопасным для себя оставаться вблизи парламента. Я надеюсь, что и вы в ближайшее время последуете за ним. Как никогда раньше, он нуждается в преданном и разумном советнике. Я не смогу пока оставить свое место в палате, но вы, как государственный секретарь…
— Государственный секретарь? — Фокленд усмехнулся и отвернулся к окну. — Вы думаете, король все еще спрашивает моих советов? Он упорно избегает меня. Но, сознаюсь вам, я рад этому. После того, что он сделал в тот день… Явиться в парламент с батальоном головорезов! Запугивать! Грозить! Я был бы счастлив не видеть его больше никогда в жизни.
— Люциус, Люциус. Вы всегда с такой терпимостью относились к человеческим слабостям и ошибкам. Каким только балбесам и прохвостам вы не читали мораль, не пытались объяснить их заблуждения. Почему единственным человеком, в исправление которого вы отказываетесь поверить, должен быть именно король?
— Вы не были там, Эдвард, вы не видели этого позора своими глазами. И это неправда, будто я с самого начала поставил крест на короле. Но, поверьте, он из тех людей, которые слышат лишь то, что им по вкусу. Когда я говорю о необходимости уступок, о том, что нет ни в церковном, ни в государственном устройстве ничего, чем бы жалко было поступиться ради предотвращения всенародной смуты, глаза его стекленеют. При виде меня он уже заранее обиженно поджимает губы.
— Но, может, вы говорите с ним слишком резко? Есть вещи, на которые он реагирует весьма болезненно, которых следует касаться очень бережно. Королевская прерогатива. Англиканская церковь. Ее величество. Быть может, из страха показаться самому себе льстецом вы в разговоре с ним нарочно отказываетесь от всего, что могло бы смягчить вашу речь?
Фокленд, не отвечая, вертел в руках белую голландскую трубочку, оставленную кем-то из солдат на столе. В прорезях черных рукавов рубашка казалась голубоватой. Из алого пятнышка на конце забытого в медной чашке фитиля рос тонкий стебелек дыма.
— Ах, Эдвард, зачем я послушался вас, зачем дал уговорить себя? Ведь я знал, что этот пост не для меня, что я не гожусь для придворной жизни. Эти люди… Их жадность, мелкость, интриги. Их бесконечное лицемерие, часто даже ненужное, какое-то инстинктивное. Высокомерие вперемешку с угодничеством, лесть в глаза и клевета за спиной.
— Но ведь и для меня… — начал было Хайд и осекся.
Фокленд повернул голову и грустно посмотрел ему в глаза:
— Да, и для вас. И ваше положение кажется мне ужасным. Стать добровольным шпионом короля, днем заседать в парламенте, а по ночам сочинять ответы на его петиции… Мы все погружаемся в трясину лжи, из которой нет спасения. Даже наша дружба отравлена ложью, даже мне вы уже не можете говорить всей правды.
На этот раз Хайду не удалось совладать с собой. Жаркая волна прихлынула к лицу, окрасила лоб, щеки, шею, выдавила слезы из глаз. У него мелькнула мысль, что так глубоко, так больно обидеть может только друг — от врага всегда успеешь защититься. Фитиль догорел, вместо дымного цветка из чашки поднимался теперь запах паленой пеньки. Беготня за дверьми продолжалась, с улицы по-прежнему неслись выкрики конюхов, стучали копыта, колеса карет с хрустом давили тонкий ледок на лужах.
— Видит бог, Люциус, если я что-то скрываю от вас, то лишь для того, чтобы не отягощать вашу щепетильность еще больше. Я знаю, что многие оппозиционеры в палате кажутся вам умнее, порядочнее, самоотверженнее сторонников короля. Но поймите: каковы бы ни были их личные достоинства, в политическом отношении они безумцы. Покушаясь на права и власть короля, они выбивают камень из свода, на котором держится весь государственный порядок Англии. Если им это удастся, погибнет не только все, что дорого нам с вами, но и они сами. Ибо прав Монтень, когда говорит, что сеющие смуту не успевают пожать плодов ее, но первые погибают под развалинами.
— Так неужели ради отдаленных умозрительных опасностей…
— Да, Люциус, да! Нет таких средств, которые я не решился бы применить в борьбе с этими людьми. Пусть даже средства будут казаться отталкивающими для разборчивой совести — сейчас не время с этим считаться. Когда дело дойдет до кровопролития, никому не удастся остаться незапятнанным. Поэтому я взываю к вашему разуму…
— Не тревожьтесь, я не покину вас и короля в такую минуту. Если б арест пяти членов удался ему, я бы немедленно подал в отставку. Но теперь, когда он окружен врагами со всех сторон, когда превратился чуть ли не в беглеца в собственном королевстве… Бросить его сейчас — такой низости я бы никогда себе не простил. И все же…
— Да?
— Я не могу скрыть от вас, какой тяжестью это ложится мне на сердце. Вам, старому другу, мне не стыдно признаться: ничего, кроме гибели, я не жду для себя на этом пути. — Он покачал головой, все так же печально глядя Хайду в глаза, и повторил: — Ничего, кроме гибели.
Апрель, 1642
«23 апреля в сопровождении нескольких дворян король появился во главе небольшого отряда под стенами Гулля и потребовал впустить его. Но ворота оставались закрыты, а мосты подняты по приказу сэра Джона Готэма, члена палаты общин, которого парламент назначил быть комендантом этого города, содержавшего большие арсеналы. Сэр Джон Готэм вышел на стену и, опустившись на колени, просил короля не приказывать ему ничего такого, в чем он вынужден был бы ему отказать в настоящее время, ибо он не может впустить его величество, не нарушив тем самым доверия парламента, и просит дать ему отсрочку, чтобы снестись с палатами и узнать, каковы будут распоряжения на этот счет.
Король, получив отказ, пришел в бешенство и потребовал, чтобы была предоставлена письменная инструкция парламента, запрещающая ему въезд в собственный город, иначе он отказывается этому поверить. Но сэр Джон Готэм только повторял свою просьбу не приказывать ему того, чего он не может исполнить. Тщетно прождав у стен города несколько часов, король объявил сэра Готэма изменником и вернулся ни с чем.
В ответ на жалобу, посланную королем, парламент вынес постановление, что сэр Джон Готэм лишь исполнил свой долг повиновения обеим палатам; объявлять же его, члена палаты общин, без всяких законных оснований изменником, есть не что иное, как новое нарушение парламентской привилегии».
Мэй. «История Долгого парламента»
Август, 1642
«Как то было объявлено заранее, 22 августа королевский штандарт, призывающий всех вассалов на защиту своего государя, был поднят около шести часов вечера в Ноттингеме, при бурной штормовой погоде. Король в сопровождении небольшой свиты выехал на вершину занятого замком холма, за ним знаменосец Верни вез штандарт, который и был водружен там, причем вся церемония свелась единственно к барабанной дроби и звукам труб. Люди, склонные к меланхолии, томились дурными предчувствиями. Ни один пехотный полк не был еще набран, так что в распоряжении короля для охраны его персоны и штандарта не было другой силы, кроме отряда милиции, приведенного местным шерифом; оружие и амуниция не были еще доставлены из Йорка, в городе царила всеобщая подавленность, и сам король казался печальнее обыкновенного. Штандарт в ту же ночь сорвало штормом, и его не удалось закрепить снова до тех пор, пока ветер не утих».
Хайд-Кларендон. «История мятежа»
23 октября, 1642
«В воскресенье обе армии встретились на поле битвы у Эджхилла в графстве Уорвикшир. Король с холма смотрел на парламентские войска, которые салютовали ему тремя залпами из пушек; королевские батареи ответили двумя.
Битва началась в два часа пополудни. Даже генералы принимали участие в бою с пиками в руках, хотя окружающие настаивали чтобы они вернулись на подобающие им места. Главнокомандующий роялистов был взят в плен и вскоре умер от ран; знаменосец, сэр Эдмонд Верни, убит. И пехота, и конница с обеих сторон проявили отменное мужество. Ночь разделила сражающихся; кавалеры отступили обратно на вершину холма, армия графа Эссекса — в ту же деревню, которую занимала накануне, причем и те, и другие считали себя победителями».
Уайтлок. «Мемуары»
12 ноября, 1642
Брентфорд
Подъезжая в сумерках к Брентфорду, Лилберн все еще надеялся исполнить обещание, данное утром Элизабет, — вернуться к вечеру домой.
Весь день у него ушел на передачу пивоварни, новый арендатор оказался цепким выжигой, совал нос во все щели; наконец сговорились на 55 фунтов в год, и 10 из них он тут же получил в виде аванса, но домой занести не успел, потому что застрял в Гилд-холле, в городском комитете по вербовке. Казалось бы, дело его — перевод из пехоты в кавалерию — должно было занять две минуты. Не тут-то было. Члены комитета, уставшие от бесконечного потока новобранцев, набросились на него, уже понюхавшего пороха, с расспросами, не хотели отпускать. Много ли солдат из его роты полегло при Эджхилле? Видел он самого принца Руперта?[22] Кто же все-таки победил — мы или они? Правда ли, что на утро была возможность добить кавалеров? Чем его ранило? Почему он решил перейти в кавалерию?
Надо было бы им ответить: потому, что кавалерийскому капитану платят вдвое больше, чем пехотному, и дело с концом. Но шутливо-небрежный тон, необходимый для такого ответа, никогда ему не давался. Он начал подробно и серьезно объяснять им ход битвы, как он его себе представлял, доказывал (в который уже раз!), что парламентская пехота держалась бесподобно и почти выиграла сражение, конные же полки были рассеяны Рупертом с первой атаки и поэтому к концу дня кавалеры, прискакав обратно после преследования и грабежей, смогли напасть на расстроенные ряды пехотинцев и отбить часть пленных и несколько знамен. Теперь ясно, что без крепкой конницы войну не выиграть, поэтому-то он и решил перейти в драгуны, и друзья, сложившись, уже достали ему коня. Так что, коль скоро комитет не возражает, он немедленно отправится к командиру своего полка, лорду Бруку, и доложит ему о переводе; если же есть какие-то сомнения в его способностях или преданности парламенту… Сомнений у членов комитета не было, они слушали его с жадным возбуждением, но, в то же время, и чуть беспечно, будто он говорил о деле уже завершенном, о закончившейся войне.
Мирные переговоры, начавшиеся сегодня, — вот что сбивало всех с толку.
Казалось, никто в городе не верил, что война может продлиться дальше, после того, как обе стороны показали такую решимость в бою. Хорошо хоть, что и Элизабет разделяла эти иллюзии. Утром, меняя ему повязку на руке, она была почти весела и напевала подхваченную у солдат песенку: «Тропа вольна свой бег сужать, кустам сам бог велел дрожать, а мы должны свой путь держать, свой путь держать, свой путь держать». Рана его понемногу затягивалась, краснота вокруг исчезла, и Элизабет была так горда результатами своего врачевания, что, похоже, не помнила уже, как испугалась, увидев ее первый раз «Три дюйма от сердца! Ты видишь — всего три дюйма!», — повторяла она тогда с искренним ужасом. Ее страшно сердило, что он никак не хотел признать себя беспомощным. Даже ночью, когда легли, ей удавалось утихомирить его, только опережая каждый его порыв. Он бы никому, наверно, не признался, что теперь, после их женитьбы, она все чаще вспоминалась ему не голосом, не милым лицом с припухшими губами, но вот этим ночным жаром, прохладой и мягкостью, невнятицей бормотания и вскриков, что он порой острее помнит ее руками и кожей, чем глазами и сердцем, и в то же время он верил, что и эта радость дарована ему не зря, что и она есть тайный знак, чудо, призыв. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, стан твой похож на пальму, и груди — как виноградные кисти».
Лорд Брук встал ему навстречу от стола, заваленного картами и бумагами, с облегчением вздохнул.
— Счастлив видеть вас снова, капитан. Вы не могли вернуться более кстати. Как ваша рука?
— Почти зажила.
— Прекрасно. Боюсь, она очень понадобится вам уже завтра.
— Но, милорд…
— Я не знаю, о чем думают в парламенте. Затевать мирные переговоры, не добившись победы! Король в девяти милях отсюда. Рупертовские головорезы могут доскакать до Вестминстера за два часа, а наши офицеры, ссылаясь на перемирие, отправляются в Лондон повеселиться. Они все еще смотрят на войну, как на пикник с фейерверком.
— Но, милорд, я тоже приехал лишь для того, чтобы сообщить вам о своем переходе в кавалерию.
Брук, сразу помрачнев, взял протянутый Лилберном приказ комитета, быстро прочел его, потом отвернулся к окну. Со стороны моста через Брент донесся стук копыт, окрик часового, потом дружный хохот. Около коновязи кто-то звенел лошадиной сбруей и негромко напевал.
— Капитан, я не могу вам больше приказывать. Но я взываю к вашей чести и прошу: отложите свой отъезд хотя бы до завтра. Здесь на три роты нашего полка осталось два сержанта. В полку Холлеса положение не лучше. Без офицеров солдаты не выстоят в завтрашнем бою. А бой будет — это я чувствую всем нутром.
— Могу я отправить кого-нибудь с письмом к жене?
Брук сделал несколько шагов к нему, с облегчением вздохнул и улыбнулся:
— Конечно, капитан, конечно. Пишите прямо сейчас. Я захвачу его с собой в Торнхэм-грин, а оттуда отправлю с нарочным. Если завтра здесь что-нибудь заварится, немедленно шлите ко мне за помощью.
— Что у нас есть под рукой?
— Остальные роты моего полка и к северу еще Гемпден.
— Думаю, часа два мы продержимся.
— В вас я буду уверен, как в себе. Может, еще ничего и не случится, тогда к полудню пришлю вам замену. Прощайте. Городок переполнен, так что оставайтесь прямо здесь, в этом доме. Полагаю, местные клопы так пресытились мною, что вас уже не тронут.
Он собрал бумаги со стола, отдельно в карман положил записку, написанную Лилберном, еще раз сжал ему плечо и пошел к дверям.
— Милорд, — голос Лилберна звучал не совсем уверенно, — у меня до сих пор не было случая спросить вас…
— Да?
— Судя по вашей книге, вы полагаете, что человек может достичь спасения души различными путями?
— Как сказано в Писании: «В доме Отца Моего обителей много».
— Не следует ли отсюда, что вы стоите за полную веротерпимость, за свободу совести, за отделение церкви от государства?
— О, на эту опасную тему я готов говорить с вами два часа, два дня, две недели. Но сейчас у меня нет и двух минут. Желаю удачи, капитан. Мы непременно еще вернемся к этому разговору.
Он кивнул, надел шляпу и вышел. Фонари, вынесенные на крыльцо, осветили всадников, седлающих коней, уроненное ведро с овсом, кусок мостовой. Потом темнота снова прихлынула к стеклу.
Ночь прошла спокойно. Утром густой туман потек от Темзы, залил все улицы, так что проснувшийся Лилберн лишь по шуму шагов, по оживленному говору за окном смог понять: войска оставляют город. Плеснув на лицо водой из кувшина и натянув штаны, он выбежал на крыльцо:
— Что происходит?
Солдат в красном мундире (полк Холлеса) мрачно покосился на него и ткнул надкушенной луковицей в сторону шедших по улице.
— Похоже, ваши молодцы решили выйти из игры.
Лилберн, застегивая на ходу колет, уже бежал к конюшне. Солдат шел за ним и жаловался набитым ртом.
— Не по совести это, сэр. Мы тоже дома не были три месяца. Приказ-то, он для всех один, верно я говорю, сэр?
— Какой приказ? — Лилберн распутывал поводья, не глядя, ловил ногой стремя.
— Приказ пришел от парламента — прекратить огонь. Начинаются переговоры, чего ж нам тут торчать? Вы бы поговорили с мистером Холлесом, сэр, втолковали ему, что и нам не худо бы наведаться домой.
Голова растянувшейся колонны уже оставила позади последние домишки, ступила на лондонскую дорогу. Лилберн, свесившись с седла, всматривался в лица обгоняемых им солдат, искал тех, кого запомнил по Эджхиллу. На глаза ему попался знаменосец — он вырвал у него штандарт и с криком: «Стой! Стойте!» — помчался вдоль рядов.
— Эге, да ведь это сам Лилберн! — раздались голоса. — Наш капитан, долговязый Джон. Откуда он взялся?
— Плевать на него! — кричали другие. — Пусть проваливает откуда пришел. Был приказ парламента, и кончено. Домой!
Ловкие тени справа и слева проскальзывали мимо коня, которым Лилберн пытался перегородить дорогу.
— Солдаты! — ему с трудом удавалось подавить клокотавшую в нем злобу, найти нужные слова. — Ваши дома, жены, дети! Кровь ваших братьев, пролитая под Эджхиллом!.. Ваша слава!..
В это время треск мушкетного залпа прорвался сквозь туман со стороны Брентфорда. Передние в растерянности попятились.
— Ага, вы слышите, слышите! Король изменил своему слову, он наступает. Неужели мы дадим кровавым кавалерам ворваться в Лондон? В наши дома! В парламент!
Изумление, страх, гнев, досада перемешались в невнятном гуле голосов, прозвучавшем в ответ. Один солдат все же попытался проскользнуть незаметно за лошадиным крупом. Лилберн повернулся в седле и что было силы двинул его древком между лопаток. Солдат упал на четвереньки, прополз немного вперед, потом вдруг описал на дороге полукруг и так же, не вставая, быстро-быстро прошмыгнул обратно. Видевшие это не могли сдержать хохота. Их смех подхватили другие, дальние, он прокатился по рядам, и как-то сами собой роты повернули и быстрым шагом, выравниваясь на ходу, пошли назад, навстречу стрельбе.
На улочках Брентфорда теперь было полно солдат. Никто толком не знал, что происходит, сержанты хриплыми голосами выкликали своих. Лилберн, не выпуская штандарта из рук, носился вдоль шеренг, пока сбоку на него не вылетел другой всадник — сам Холлес.
— Капитан! За мостом сверните налево. Надо прикрыть дорогу на Кингстон.
— Будет исполнено, сэр.
— Держитесь, пока не пройдет артиллерийский обоз. Дьявол! Из-за этих доверчивых олухов мы остались без артиллерии.
— Но мирные переговоры?
— Его честнейшее величество, видимо, решил перенести их прямо в Лондон.
— Лорд Брук, мистер Гемпден?..
— Я уже послал к ним. Держитесь, сколько сможете, потом отступайте сюда. Кавалерию мы, кажется, отбили, но когда подойдет их пехота, будет тяжко.
Он дал шпоры коню и, перемахнув через баррикаду, перегораживающую улицу, исчез в тумане.
Когда роты достигли западной окраины Брентфорда, стрельба уже прекратилась. Метров через пятьдесят на дороге начали попадаться трупы. Раненый кавалер сидел, прислонясь к убитой лошади, закрыв лицо руками. Кровь текла между пальцев, заливала голубой камзол. Солдаты молча косились на него, обходили стороной. Справа за обочиной были видны ряды красномундирников, спешивших продвинуться вперед, занять отвоеванное пространство. Лилберн приказал своим сворачивать налево, идти полем, сам ехал метров на двадцать впереди, всматриваясь в туман.
Так никого и не встретив, они пересекли кингстонскую дорогу и стали за ней растянутой тройной шеренгой — сначала копейщики, за ними в два ряда стрелки с мушкетами. Откуда-то появился Эверард, ведя в поводу вьючную лошадь с запасом пороха и пуль. Между солдат прошел слух, что атака была случайной, видимо, какой-то эскадрон кавалеров заблудился под утро и, получив хорошее угощение, убрался восвояси. Тем не менее приказ «заряжай» они выполнили охотно и быстро, огоньки зажженных фитилей замелькали тут и там. Туман скрадывал звуки, и в этом тихом утреннем безветрии была такая безмятежность, что неясный гул, донесшийся до них, можно было принять скорее за шум теплого дождя или воды на мельничном колесе, но только не за то, чем он был на самом деле, — приближающимся топотом сотен копыт по мягкой земле.
Видимо, кавалеры тоже не ожидали нарваться на противника так быстро.
После первого залпа они еще некоторое время скакали по инерции вперед, второй заставил их смешаться, лишь несколько всадников доскакало до ощетинившихся копьями рядов, но и они не стали дожидаться, когда мушкеты будут перезаряжены вновь, и, выкрикивая угрозы и ругательства, умчались обратно.
Казалось, внезапная пальба разорвала не только тишину, но и прорвала белесую пелену, застилавшую с утра всю окрестность. Туман быстро начал подниматься, кавалерийская масса, разделившаяся на два потока, словно бы уволакивала за собой две половины белого занавеса, открывая черные поля с остатками старой изгороди, кирпичный домик вдали, деревья и солнечное пятно на склоне холма, через вершину которого тоненькая ниточка Оксфордской дороги изливала в равнину бесконечный поток всадников, шлемов, знамен, пик, пушек.
Сомнений не оставалось — король наступал со всей армией.
Лилберн оглянулся в сторону Кингстона. Артиллерийский обоз пылил вдали, милях в полутора от них. Справа тоже началась стрельба, долетали звуки труб, барабанная дробь. Первые ядра взрыли землю, не долетев до шеренг. Солдаты попятились, невольно втянули головы в плечи. Конница кавалеров, заворачивая широкой дугой, нацеливалась наперерез обозу.
— Налево! Бегом! — закричал Лилберн.
Они пробежали ярдов триста, остановились, тяжело дыша, и с ходу дали залп, потом еще один. Уже можно было разглядеть лицо передового возницы, мелькание руки, нахлестывавшей бока лошадей.
— Братья мои! — кричал Эверард, бегая за рядами, раздавая порох и пули. — Стойте крепко, врастайте как пеньки. Рубят только бегущих, помните это. Бейте по лошадям. Кавалер без лошади — что собака без ног: лает, но укусить не может.
Наконец обоз прогрохотал за их спинами, достиг развилки и свернул в сторону Брентфорда. Две или три разбитые ядрами повозки остались на дороге. Лошадь без возницы, скользя ногами, пыталась вытащить сползшую в канаву кулеврину. Густые колонны пехоты надвигались на них спереди, конница обходила слева. Отступая, растянувшиеся роты словно бы погружались в вершину острого угла между улицей городка и Темзой, уплотнялись, густели. Несколько раненых, поддерживая друг друга, брели к домам, на отданном Лилберном коне увезли барабанщика с оторванной ядром ступней.
К полудню кавалеры, видимо примирившись с тем, что прорыв силами одной конницы не удался, подтянули артиллерию и начали выкашивать ряды защитников с безопасного расстояния. Потом пошли в атаку по всему фронту.
Остаток дня сохранился в памяти Лилберна цепью несвязанных обрывков, выкриков, картин, мелькнувших в просветах порохового дыма. Упавший кавалерист с задранной, зацепившейся за стремя ногой… Развороченное пулей лицо солдата… Горящий дом и крик женщины из окна… Сверкающие ряды шлемов, надвигающиеся на них…
Потом он сидел на земле, и кто-то бинтовал ему колено, а он кричал то ли от боли, то ли от злости.
Потом жадно пил воду, принесенную из реки.
Потом снова стоял в рядах и шомполом заколачивал в раскаленный ствол пулю за пулей.
Между домами ему была видна затянутая дымом баррикада и красные мундиры солдат Холлеса на ней. С каждым разом, как он бросал туда взгляд, красных мундиров становилось все меньше. Вскоре они совсем исчезли, сменились чужими, зелеными.
Пальба теперь доносилась и с восточной окраины.
Он понял, что это подоспевшие Гемпден и Брук ввязались в бой, но королевская пехота уже окружила остатки его рот, отрезала их от моста через Брент, теснила к Темзе.
Солдаты, расстреляв все заряды, пятились, выставив копья, потом побежали. Увлекаемый ими, он тоже сбежал вниз с обрыва и прыгнул в воду. От холода сразу перехватило дыхание, сдавило грудь. Мышцы рук и ног быстро немели, отказывались повиноваться ему, течение выносило назад на берег. Казалось, что в обе раны — старую и новую, на ноге — ввинчиваются бесконечно длинные ледяные сверла. Он захлебнулся, судорожно заработал ногами, нащупал дно, оттолкнулся, сделал несколько гребков и стал на мелкоте, согнувшись в мучительном, судорожном кашле. Не в силах распрямиться, поднять глаза, он видел только ноги подходивших к нему, поднятые выше колен сапоги, потом тупой удар обрушился на голову — и все исчезло.
Очнулся он в смрадной темноте, наполненной стонами, духотой, шевелением человеческих тел. Кто-то поддерживал его за спину, пытался всунуть в рот горлышко фляжки, вылить остаток джина. Обжигающая струя хлынула на язык, вышибла слезы из глаз. Озноб бил его с такой силой, что он не мог выговорить ни слова, только пожал руку, державшую фляжку. Потом снова впал в забытье.
Утром первое, что он увидел, была забинтованная голова на фоне окошка под самой крышей сарая. Солдат стоял на куче жерновов и борон, сваленных у стены, и негромко переговаривался с кем-то снаружи.
— Если у вас есть деньжата, капитан, этот парень может достать какой-нибудь еды и даже выпивки.
Лилберн оперся о жернов здоровой рукой, подтянулся, сел. Во рту было сухо и вязко, затылок ныл, мокрая одежда ползала по телу, как змея, леденила кожу. Он вспомнил, что последний раз ел вчера утром, — печеную рыбу и хлеб, сунутые Элизабет в седельную сумку. Рука его сама собой поползла по карману, но не смогла в него проникнуть — он был вывернут наизнанку и пуст. Десять фунтов, должно быть, достались тем, на берегу. Как знать, может, именно это и спасло ему жизнь.
Тугой звук пушечного выстрела приплыл издалека, за ним другой, третий. Пленные подняли головы, оживились, полезли к окнам. Спорили о том, где стреляют — у Торнхэм-грина или уже у самого Лондона? Канонада продолжалась полчаса, потом стихла. Лица помрачнели, разговоры смолкли.
Вскоре дверь сарая распахнулась, было приказано выходить.
По улице непрерывной вереницей двигалась пехота, потом потянулся обоз. Конвойные дождались просвета и втиснули колонну пленных между телегой с палатками и стадом овец, шедших под охраной фуражиров. День был пасмурный, обгоревшие и побитые ядрами дома казались неузнаваемыми, и Лилберн не сразу понял, в какую же сторону движется этот поток. Лишь почувствовав под ногами доски моста через Брент, увидев остатки баррикады с неубранными трупами, он понял и начал тихо смеяться.
Их гнали на запад. Армия короля отступала.
Ноябрь, 1642
«Всю ночь с 12 на 13 ноября от Лондона в сторону Брентфорда стекались вооруженные горожане, лорды и джентльмены, числившиеся в армии, так что наутро перед королем стояло войско, способное проглотить его армию целиком. Кроме того, силы его оказались окруженными со всех сторон, так что у многих явилась надежда, что эта печальная война наконец-то закончится.
Но вдруг дверь судьбы распахнулась перед королем.
Три тысячи парламентских солдат, прикрывавшие Кингстон на Темзе, получили внезапный приказ оставить этот город и спешить на защиту Лондона. Так что король смог отступить через кингстонский мост, перевести всю пехоту и артиллерию, оставив позади лишь небольшой заслон; после чего у него было достаточно времени, чтобы привести свои войска в порядок и безопасно отойти на зимние квартиры в Оксфорд, изрядно опустошив и ограбив всю местность на пути следования».
Мэй. «История Долгого парламента»
Декабрь, 1642
«Так как Лилберн был уже человеком известным по своим взглядам и духу, в Оксфордской тюрьме с ним обращались довольно жестко, что вряд ли могло настроить его на миролюбивый лад; и, будучи приведен к верховному судье по обвинению в государственной измене, он вел себя с такой дерзостью и так открыто превозносил власть парламента, что было ясно: он твердо решил стать мучеником за это дело. Парламент, однако, в самых решительных выражениях объявил, что наложит на пленных кавалеров такое же наказание, какому подвергнут его пленников в Оксфорде; поэтому исполнение смертного приговора, вынесенного Лилберну, было отложено».
Хайд-Кларендон. «История мятежа»
Февраль, 1643
«Долго страшился я, что чаша ужасов, которая обошла на наших глазах все европейские народы, не минует и нас; вот она наконец между нами, и, может быть, нам суждено испить ее до дна, испить самую страшную горечь. Земля наша, сжатая со всех сторон морем, похожа на тесную арену, где происходит петушиный бой; нам нечем отгородиться от наших врагов, кроме как собственными черепами и ребрами. В этой палате было сказано, что совесть обязывает нас не оставлять без наказания невинно пролитой крови; но кто даст ответ за всю ту невинную кровь, которая потечет, если мы не добудем мира, безотлагательно приступив к переговорам? Кровопролитие есть грех, вопиющий о высшем возмездии; но пятнает он всю страну. Поспешим же положить ему конец».
Из речи, произнесенной в палате общин
14 марта, 1643
Лоустофт, графство Суффолк
— Внесите это в свои записки, мистер Гудрик, — сказал Кромвель, не поворачивая головы. — И непременно упомяните в реляции парламенту, что перед штурмом мы предлагали противнику избежать кровопролития. Впрочем, партия мира все равно проклянет нас и объявит смутьянами. Эти господа считают, что наш священный долг — отложить меч, расстегнуть ворот и подставить голое горло под нож врага.
Аптекарь, сидя боком в седле и макая перо в чернильницу, пристегнутую к поясу, записывал его слова, усмехаясь и по привычке проборматывая невнятно все, что проносилось при этом в его голове. Бурый склон холма полого уходил вниз из-под копыт их коней, прерывался вдали сетью канав, за которыми видна была дорога и два всадника, быстро удаляющиеся в сторону Лоустофта. Белый квадратик над их головами бился на ветру. Еще дальше, за городскими стенами и крышами, разрезанная надвое церковным шпилем, темнела тяжелая спина моря.
Кромвель спешился и, подозвав к себе сына, медленно пошел вверх по склону. Оливер-младший двинулся за ним с видом подчеркнуто почтительным и отчужденным — послушание, исполнительность, но ничего больше.
— Не помню, рассказывал ли я тебе про один из своих разговоров с мистером Гемпденом, сынок. Это было уже после битвы при Эджхилле. Он спросил, что я думаю о поражении нашей кавалерии, и я отвечал, что, коль скоро ни в вооружении, ни в численности она не уступала роялистам, все дело в боевом духе. Кого мы пытаемся противопоставить кавалерам? Ремесленников, лодочников, арендаторов, приказчиков и прочий мелкий люд, посаженный на коней и одетый в латы. Нет, сказал я ему, пока мы не найдем людей, равных джентльменам по чувству чести и силе духа, нас будут бить постоянно.
— Где же их найдешь, отец?
— То же самое спросил у меня мистер Гемпден. И вот что я ответил ему: только те, кем движет страх божий, искренняя и глубокая вера, могут сравняться в мужестве с теми, кем движет чувство чести. Поистине, кто боится бога, от всякого другого страха уже свободен. Ты, наверно, замечал, что последнее время при вербовке в наш полк я почти не обращаю внимания ни на звания, ни на состояние человека, ни на то, откуда он родом, ни где его братья и не служат ли они у короля. Только одно меня интересует, только одному я придаю значение — глубока ли его вера, сможет ли он жизни своей не пожалеть за нее.
— Да, отец, я замечал это.
Оливер-младший говорил, поджав губы, в глаза по-прежнему не смотрел. Кромвель обнял его одной рукой за плечи и притянул к себе.
— Ты все еще дуешься за то, что я выпустил солдата, посаженного тобой под арест?
— Я не дуюсь, но согласитесь, отец, трудно командовать людьми, если первые же твои приказы по эскадрону отменяются.
— Видишь ли, этот Сексби как раз из таких, какие мне нужны позарез. Он не станет хвастать, клясться, уверять в преданности, но пойдет за божье дело, не дрогнув.
— Человек, который способен обнажить меч в храме?
— Насколько я знаю, он только защищался. Толпа прихожан набросилась на него, как свора бешеных псов.
— Его кощунства и богохульства могли агнца вывести из себя. Там происходили крестины, и он пытался помешать священному обряду.
— В чем же состояло богохульство? Он только спросил, могут ли они указать ему место в священном Писании, где сказано, что следует крестить несмышленых младенцев. Сознаюсь тебе, мою религиозную совесть этот вопрос тоже немало смущает. Иоанн Предтеча крестил водой взрослых, приходивших к нему с осознанным желанием покаяться. В деяниях апостолов тоже нет упоминаний о крещении детей.
— Ересь анабаптизма[23]…
— Анабаптизм — это лишь удобное ругательство. Уверяю тебя, ненависть прихожан к нашему честному Сексби была гораздо больше подогрета тем, что мы по приказу парламента убрали иконы и распятия из их церкви. Все они, в большинстве своем, горячие идолопоклонники и еще долго будут такими. Неужели же мы должны теперь стать на их сторону и посадить в тюрьму солдата, который служит нашему делу с такой преданностью.
— Ваши друзья из пресвитериан, отец, тоже не жалуют сектантов. Сам достопочтенный Принн обрушивает на их головы такие проклятья, какие не снились даже Лоду.
— Неблагодарность и слепота. Люди льют за него кровь, а он призывает на их головы громы небесные только за то, что они по-другому слышат глас божий, запечатленный в Писании. Взгляни. — Они поднялись уже на вершину холма, и зрелище походного бивака, разбитого полком на опушке осиновой рощи, открылось их взору. — Ни одного пьяного, ни драк, ни брани. Ты не припомнишь ни одного случая, чтоб кто-нибудь из них взял дюжину яиц в деревне, не уплатив хозяину. Они знают в себе бессмертную душу и страшатся запятнать ее. Да если б у меня было хоть пять таких полков, я, не задумываясь, двинулся бы прямо на Оксфорд! Я бы… Ага, вот и он. Наконец-то. Сейчас мы увидим, чего стоит наш Сексби!
Оливер-младший с недоумением проследил за взглядом отца. Сгорбленный крестьянин выбирался из заросшей кустами лощины, гоня перед собой хилую коровенку. По мере того как он приближался, спина и плечи его распрямлялись, походка делалась уверенней и шире. У подножия холма он отбросил палку, пнул коровенку в последний раз и быстро взбежал наверх, отряхивая на ходу грязь с колен, отдирая приставшие колючки.
— Ну что, мистер пастух, каковы нынче цены на скот в Лоустофте?
Глаза Кромвеля смеялись, руки в нетерпении сдвигали и раздвигали подзорную трубу.
Сексби поклонился обоим, слизнул кровь с царапины на губе:
— Не хотят торговать, ваша милость, лучше и не просить. В город не пускают, порт тоже закрыт. Видать, ждут купцов побогаче нас с вами.
— Уж не принца ли Руперта?
— Его-то, конечно, встретят с цветами и музыкой, тут же ворота распахнут. Нам такого почета не дождаться, так что придется, думаю, через боковую калитку.
— Где она?
Сексби протянул руку. Кромвель вложил в нее подзорную трубу, и оба, прижавшись головами и по очереди припадая к окуляру, начали вглядываться в городские стены, серевшие вдалеке.
— Видите дом под черепицей? А левее вроде стена пошла из другого кирпича, потемнее. Так вот там пролом. И подъем к нему не очень крутой и ширина подходящая, человек восемь в ряд могут въехать. Чем не калитка?
— Не хочешь ли ты сказать, что в городе живут одни олухи, которые про эту дыру ничего не знают?
— Мало того что знают — они ее так любят, что приспособили для самой крупной из своих батарей. Пушки скрыты за насыпью в глубине, вашей милости их не видать. Но те, которые въедут наверх, непременно увидят их, прежде чем отправиться на тот свет.
— Значит?..
— И еще отсюда не видать, что на земле лежит цепь. Одним концом заделана в стену, другой накинут на ворот. Ворот поворачивается, и цепь в последний момент натягивается как раз на уровне лошадиных шей. Гости поневоле останавливаются и получают порцию картечи в живот.
— Чума тебе в печень! Ты расписываешь все эти трюки с таким самодовольством, точно сам их придумал.
— Нет, сэр, куда мне. Но не доводилось ли вам замечать странную вещь: если из-под человека внезапно выбить одну из двух ног, он никогда не успевает перенести свою тяжесть на другую, а тут же валится на землю. Хотя вообще-то на одной ноге может простоять довольно долго. Вот, полюбуйтесь.
Сексби попытался продемонстрировать, сколько можно простоять на одной ноге, но потерявший терпение Кромвель трахнул его по спине так, что тот едва удержался.
— Кончишь ты свои притчи или нет!
— Уже, уже кончаю. И батарея, и цепь — не слишком ли много всего, подумал я. Не две ли это ноги, на которых желает стоять противник? А если внезапно убрать цепь, не потеряют ли равновесие те, что стоят у пушек? Так что, если ваша милость не пожалеет бочонка пороха, я мог бы с тремя приятелями отнести его по той уютной расщелине почти к самому пролому.
Кромвель несколько секунд сверлил его прищуренным взглядом, потом расхохотался и с торжеством обернулся к сыну. Тот с сомнением улыбнулся, потом развел руками и полез в карман за кошельком. Лицо Сексби оставалось невозмутимым.
— Если вы решили меня наградить, сэр, — сказал он, отводя руку Оливера-младшего, — то не сочтите за труд отложить это доброе дело на часок-другой. Судя по тому, как заливается их милость, ваш батюшка, мне придется лезть обратно в лощину. А тамошние колючки могут выдрать из кармана любую сумму вместе с куском штанов.
Кромвель, призывно подняв подзорную трубу, повернулся лицом к биваку. Командиры эскадронов, захватив с собой барабанщиков и трубачей, с разных сторон двинулись к нему на вершину холма. Но еще раньше подоспели вернувшиеся парламентеры.
Кромвель слушал их рассеянно — похоже, ответ был известен ему заранее. Мэр и городской совет объявили, что в распре между королем и парламентом они не участвуют, поэтому не откроют ворота незваным пришельцам, на чьей бы стороне они себя ни объявляли. Однако, судя по всему, кавалеров в городе полно, а в порту есть суда под королевским флагом.
Когда командиры столпились вокруг Кромвеля, Сексби, сопровождаемый тремя солдатами, тащившими тяжелый сверток, уже исчез за кустами.
Вскоре хриплый звук трубы пронесся над пустыми полями и тяжкий шум поднялся ему навстречу из-за холма. Эскадроны один за другим выезжали на равнину, веером растягивались против стен и укреплений. Ровный морской ветер поднимал плащи над спинами солдат, натягивал полотнища штандартов, относил в сторону поднятую копытами пыль. По мере приближения к городу основная масса кавалерии нависала над главными воротами, лишь часть драгун постепенно оттягивалась влево, в сторону пролома.
Первые комочки дыма появились на стенах, слабо долетел треск мушкетов.
Кромвель, привстав в стременах, припал к окуляру подзорной трубы. Голландские линзы придавали картине какую-то акварельную прозрачность, подкрашивали голубоватым цветом камни стены, кустарник, угол дома, видневшийся за проломом. Конец расщелины тоже попадал в поле зрения, темным клином врезался в круглую картинку. Даже когда вспышка пламени вырвалась наконец из-под темного участка стены, ей не удалось одолеть эту все покрывающую голубизну.
Казалось, звук взрыва стал невидимой преградой на пути кавалерийского отряда, несшегося внизу. Всадники разом повернули коней и помчались наверх. Невооруженным глазом можно было разглядеть, как ряды их, подернутые сабельным блеском, один за другим исчезают в проломе, затянутом дымно-пыльным облаком.
Батарея молчала.
Остальные эскадроны, круто свернув от главных ворот, вытягиваясь черной струей, ринулись туда же. Мушкетная пальба слилась в последний отчаянный залп, потом начала быстро слабеть, рассыпаться на отдельные редкие хлопки.
Аптекарь Гудрик, воздев к небу руку с пером, визгливо кричал «ура».
Кромвель отер платком красные, мясистые щеки, спрятал трубу в седельную сумку и дал шпоры коню.
Март, 1643
«Со стороны парламента были выдвинуты следующие предложения для ведения мирных переговоров: чтобы король подписал билли, уже одобренные парламентом; чтобы с пяти членов палаты общин и графа Манчестера было снято обвинение в государственной измене; чтобы были подтверждены привилегии парламента; чтобы был издан акт о полной амнистии сторонников парламента; чтобы были привлечены к суду все лица, обвиненные палатами с прошлого января; чтобы было установлено двухнедельное перемирие для обсуждения этих предложений.
Король, со своей стороны, предложил, чтобы его казна, арсеналы, города, крепости и корабли были возвращены ему; чтобы обложение его подданных налогами без его согласия и заключение в тюрьму за неуплату долгов были объявлены недействительными; чтобы лица, исключенные из общей амнистии, были преданы суду.
20 марта граф Нортумберленд, сэр Джон Голланд, сэр Вильям Армин, мистер Пирпойнт и мистер Уайтлок были посланы палатами в Оксфорд для обсуждения предложений, выдвинутых обеими сторонами».
Мэй. «История Долгого парламента»
Апрель, 1643
«Когда мы прибыли в Оксфорд, некоторые солдаты и городская чернь и даже люди с достатком кричали нам на улицах: „Предатели! Бунтовщики!“ Мы не отвечали им, но пожаловались офицерам короля, которые, казалось, были возмущены этим.
Около того времени принц Руперт напал на Чиринчестер, разбил полк графа Стрэмфорда, захватив около тысячи пленных и много оружия. Этих пленных с большим триумфом провели по улицам Оксфорда, где король и лорды взирали на них, смеясь и радуясь их несчастному виду, ибо они были почти наги, избиты, изранены, связаны друг с другом веревками и влекомы по улице, как собаки. Подобная жестокость англичан к своим же соотечественникам становилась тогда уже делом обычным».
Уайтлок. «Мемуары»
15 апреля, 1643
Оксфорд
— Не могу, синьор, как хотите, не могу. — Тюремщик говорил громко, хотя и не очень уверенно. — Строгий приказ коменданта. Всякий раз, как приводят новых пленных, он напоминает нам: «Суйте их куда угодно, только не к этому бешеному Лилберну». И правда, синьор, бывает, в плену человек оробеет, пораскинет мозгами, поймет свою ошибку и, глядишь, уже готов вернуться к повиновению его величеству. Но стоит ему хоть день провести в камере Лилберна, и он снова превращается в злобного парламентского пса.
Второй голос тоже казался знакомым, но слов было не разобрать. Лилберн усмехнулся, отошел от дверей к топчану, сел. Что они еще задумали? Высоко под потолком голуби на подоконнике, отталкивая друг друга от рассыпанных им крошек, стучали крыльями по прутьям решетки, мешали вслушиваться. Лишь когда дверь распахнулась и человек вслед за тюремщиком вошел в камеру, он вспомнил: Джанноти. Ну конечно же он.
В первый месяц плена, когда его таскали в суд и обратно, они столкнулись разок во дворе замка, и теперь Лилберн припоминал, что крикнул ему тогда что-то обидное или угрожающее. Неужели он пришел теперь отомстить? Смешно. Что можно сделать человеку, который уже почти полгода в одиночном заключении ждет исполнения смертного приговора?
— Насколько я помню, синьор, вы прибыли в Англия для того, чтобы отдохнуть от войны. Позвольте спросить, как проходит отдых?
Джанноти стоял, заложив руки за спину, раскачивался с носка на пятку.
— Ваше злорадство преждевременно. Смута и раздор, посеянные вами, не принесут вам ничего, кроме позора и гибели.
— Мы не сеем смуту. Мы боремся за свои прирожденные права и вольности, если вы можете понять, что это значит. Боюсь, в наши времена слово «свобода» при переводе на итальянский утрачивает свой смысл.
— Уже тогда, на корабле, мне следовало бы догадаться, чего можно ждать от страны, населенной фанатиками вроде вас. Но хватит об этом. В последнюю нашу встречу вы осмелились бросить мне упрек в доносительстве. Накануне расстрела человек имеет привилегию кричать что ему вздумается, и я не придал значения вашим словам. Но теперь у меня есть возможность пристыдить вас, и я не желаю от нее отказываться. — Он сделал шаг назад и махнул кому-то рукой. — Давайте его сюда.
В коридоре застучали сапоги, и двое кавалеристов втолкнули в камеру обросшего щетиной человека в лохмотьях, которые когда-то были голубым мундиром лондонского ополчения.
— Оставим их вдвоем, — усмехнулся Джанноти. — Им есть о чем потолковать.
— Но только до завтрашнего утра, синьор, не дольше, — сказал тюремщик. — Я и так ради вас нарушил инструкции. Хотя, конечно, ваша щедрость…
Дверь захлопнулась, ржавый замок коротко взвизгнул.
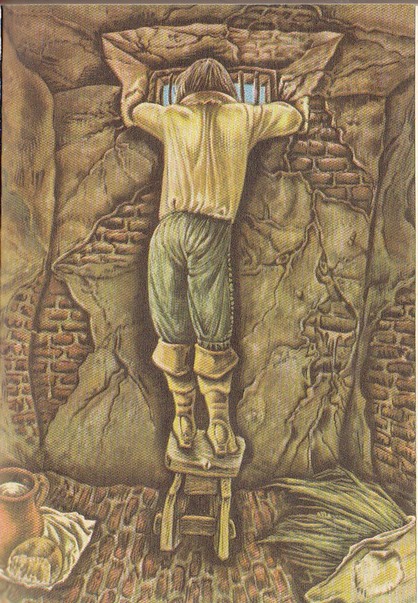
Человек, прижимаясь спиной к стене, пятился от Лилберна в дальний угол, прикрывал лицо рукой. Глаза его метались по сторонам, словно ища лазейки или укрытия, ноги разъезжались на каменном полу. Из порванного сапога торчали грязные пальцы.
— Чиллингтон! — охнул Лилберн. — Вот где довелось встретиться. Значит, и вы попали к ним в лапы?
— Нет! Не подходите! Я буду кричать!
Лилберн остановился на полпути, с изумлением глядя на забившееся в угол, раздавленное страхом существо.
— Вы не имеете права… Я докажу… Вы должны понять… Выслушайте меня сначала… Я ранен, не могу защищаться…
Чье-то лицо появилось в зарешеченном окошке дверей, горящий любопытством и ожиданием взгляд перебегал с одного пленника на другого.
— Прекратите, Чиллингтон, — тихо сказал Лилберн. — Прекратите и успокойтесь. Нашим сторожам очень бы хотелось, чтобы мы сцепились, как двое голодных псов. Неужели мы доставим им такое удовольствие?
Он отошел к сундуку, стоявшему в углу, достал из него краюху хлеба и сыр. Кувшин с водой, кружка, горсть сушеных слив и, как главное украшение, подсохшая половинка лимона. Ножа не было, сыр приходилось распиливать натянутым куском дратвы.
— Садитесь, поешьте и расскажите, что происходит в старой доброй Англии. Где вас взяли?
Воспаленные глаза Чиллингтона были прикованы к еде, кадык ходил вверх и вниз, вздымая покрытую щетиной кожу. Косясь по сторонам и благодарно кивая, он присел на край табурета, взял придвинутый ему кусок левой рукой — правая бессильно висела вдоль тела — и впился в него зубами. Лилберн с грустью смотрел на него, маленькими глотками отпивая воду из кружки.
— Извините, у меня все так спуталось в голове… Где взяли? На западе, мистер Лилберн, да, около Монмута. С неделю назад. Генерал Уоллер отступал к Глостеру, и наша рота шла в арьергарде… Еще сыру?.. Да, благодарю вас. Там тоже очень было голодно, и мы все время отставали, пытались добыть чего-нибудь в деревнях. У кого были деньги, те платили, а если нет… Я не могу назвать это мародерством, не помирать же, на самом деле. Там-то нас и накрыли. Большая часть отбилась и ушла, а я замешкался в доме, и вот… — Он показал на правую руку. — Кость, кажется, цела, но боль такая, что не могу спать. Нет, не пуля и не сабля. Обидно сказать — лошадиное копыто.
— Значит, Глостер еще наш. А что в других местах? Восток, север? Что в Лондоне? в Ирландии?
— Все вперемешку, очень трудно понять. Сегодня город за нас, назавтра уже сообщают — за кавалеров. Вроде бы в восточных графствах дело обстоит прочнее всего. Часто поминают какого-то Кромвеля, берет город за городом. Зато на севере, в Йорке, кавалеры делают что хотят. У Ферфакса[24] слишком мало сил, поговаривают, что ему придется совсем уйти оттуда.
— А в средних графствах?
— То так, то эдак. В Ноттингеме некий Хатчинсон объявил себя за парламент и захватил замок. Личфильд наши взяли штурмом, но когда осадили собор святого Чадвика, — такое горе! — был убит лорд Брук.
Лилберн издал короткий стон и прикусил костяшки пальцев.
— Боже мой, лорд Брук…
— Как раз второго марта, в день святого Чадвика. Пленные из кавалеров говорили, что пулю послал глухонемой солдат. Врут, наверно, хотят показать, что само провидение на их стороне, что святой покарал осквернителя храма. Многие верили им, народ был испуган.
— Непостижимо! Льется кровь, страна горит, а здесь, в Оксфорде, парламентские комиссары вымаливают мир у короля. Что это — глупость? трусость? измена? Предать дело, за которое уже погибло столько людей. И каких людей!..
Лилберн чувствовал, что слова эти были для площади, для речи перед большой толпой, что в тесной камере с единственным слушателем они были неуместны, почти смешны. Но других у него не было. Он сидел, сжав голову руками, острые локти — на острых коленях. Чиллингтон поглядывал на него украдкой, словно боясь встретиться взглядом, поджимал черные пальцы, торчавшие из сапога. Рот его несколько раз открывался и закрывался беззвучно, прежде чем он решился снова заговорить.
— Мистер Лилберн, с того самого дня… Я хочу сказать, все эти годы я со страхом ждал встречи с вами. Думал, что вам скажу, готовил целую оправдательную речь. Если, конечно, вы стали бы вообще слушать меня.
— Я ни о чем не спрашиваю, Чиллингтон. Время ли сейчас ворошить старое.
— Нет, дайте мне сказать! Поверьте… Я знаю, мне нет оправданий, и все же… Это была слабость, а не злой умысел, не коварство. Когда они арестовали меня, я решил, что итальянец все рассказал им про тюки и что запираться бесполезно. Они получили мои показания под присягой, и только тогда я понял, что про книги в тюках они ничего не знали. Этот Джанноти и не думал доносить. Нас всех предал слуга мистера Вартона, тот, который заманил вас в засаду. Я пытался отказаться от своих показаний, мистер Лилберн, клянусь вам, требовал порвать их — они только смеялись. А в день экзекуции… В тот день, когда вас… Я хотел руки на себя наложить. И не смог… Не смог…
Он уронил голову на грудь и заплакал громко, по-женски. Немытые волосы свесились вниз, закрыли его лицо, здоровая рука шарила по карманам в поисках платка. Лилберн, не вставая с места, смотрел на него со смесью недоумения и досады, потом заговорил негромко, будто для себя:
— Да, сознаюсь, бывали моменты, когда при мысли о вас волна ненависти готова была задушить меня. Особенно первое лето в тюрьме. Но вскоре это прошло. Порой мне начинало даже казаться, что в моей жизни вы сыграли роль слепого орудия, что вы были посланы просветить меня. Да-да, есть знание особого рода, его не добудешь и из тысячи книг. Опыт страдания, опыт тюрьмы — это своего рода университет. Боюсь, что и вам предстоит теперь получить в нем образование.
— Все-таки я отказался выступить обвинителем на суде, — всхлипнул Чиллингтон. — Они не могли представить живого обвинителя, только мои показания. А как они стращали меня! Чем только не грозили! Мысль, что я им все-таки не поддался, только она и держала меня. Мне было очень тяжело, мистер Лилберн. После появления вашего памфлета прежние друзья отступились от меня, даже у родных я не мог найти сочувствия. Не дай вам бог перенести такое. Да, не смейтесь, иногда я готов был поменяться с вами местами.
Лилберн встал с топчана, подошел к Чиллингтону, легонько потряс за плечо.
— Полноте, оставим это. Вы видите, я не держу на вас зла. Крепитесь. Вам понадобится теперь все ваше мужество, иначе здесь не выжить. Среди пленных есть лекарь, я постараюсь, чтобы его допустили к вам. Мы должны ждать, надеяться и помогать друг другу. Вот, возьмите. — Он выгреб из кармана несколько монет и сунул их в руку Чиллингтону. — Без денег вы не добудете здесь и глотка воды. Когда мне пришлют еще…
Он замолчал, прислушиваясь к шуму в коридоре, — топот сапог, громкий спор, пьяное пение.
— Ханжи и канальи, вперед, вперед! — орал кто-то. — Вы гимны святые поете; избранники неба, вас слава зовет, но кончите на эшафо-о-о-те!
— Сэр, вы обещали вести себя тихо, — урезонивал поющего тюремщик. — Вся эта рвань ничего, кроме виселицы, не заслуживает, ваша правда. Но ведь и некоторые кавалеры сидят у них в Лондоне в плену, вот беда. Вы пристукнете здесь одного, отведете душу, а вдруг и там кого-нибудь из наших…
— Нет, ключник, не держи меня. Хоть одному я должен отстрелить сегодня нос. Или хотя бы палец. Ба-бах! Бью без промаха. Ты видишь, я лишился в бою мизинца. Эй, круглоголовые! Вылезайте-ка из углов, мне надо получить с вас должок!
— Остановитесь, сэр! Вам потеха, а отвечать-то мне.
— Ох, ключник, лучше бы тебе не вставать между мной и круглоголовыми. А то начну прямо с тебя.
— Что вы делаете?!
— Считаю до трех…
— Опомнитесь!
— Раз…
— Ну хорошо же, вы еще пожалеете…
Дверь в конце коридора хлопнула, пьяный хохот и пение начали приближаться.
Ну, вшивые праведники, вперед, на бой!
Изменники в грязных лохмотьях,
Бунтуйте, громите, чините разбой,
Но кончите — на эшафоте![25]
Каменные своды ломали, отбрасывали, множили звуки. Казалось, что движется целая толпа.
— Так… А здесь у нас кто?
Дуло пистолета просунулось в зарешеченное окошко, за ним мелькнуло усатое лицо. Чиллингтон, пригнувшись, метнулся от стола к стене, прижался к ней спиной. Лилберн стоял, расставив ноги, развернувшись грудью к двери. Голова его постепенно наклонялась, шея раздулась, тонкий рот начал складываться в презрительную гримасу. Потом вдруг вспыхнул счастливой улыбкой.
— Эверард! Наконец-то…
Он кинулся к дверям, припал к окошку.
— Ну, мистер Лилберн, если вы так быстро меня признали, дело плохо. Пора мне убираться из Оксфорда. Живо давайте письмо, пока меня не вытащили отсюда за эти шикарные локоны. Знаете, сколько я за них заплатил хозяину «Глобуса»?
Лилберн, отбежав к топчану, лихорадочно рылся в соломе тюфяка. Чиллингтон с изумлением смотрел то на одного, то на другого.
— Круглоголовые собаки! — завопил Эверард. — Попрятались! А ну, выползайте на середину! Неужто вам неинтересно поглядеть, как стреляют драгуны его величества?
— Вот, — Лилберн просунул в решетку две бумажные трубочки. — Это к друзьям, можно напечатать. Это для Элизабет. Как она? Вам удалось ее повидать?
— Здорова, мистер Лилберн. Я бы даже сказал, здорова за двоих.
— Что вы несете?
— Вам надо готовиться к роли отца.
— О боже милостивый…
— Прислала немного денег — держите. К сожалению, я больше не смогу появиться. Оксфордский климат становится не для меня. Того и гляди, действительно отправят стрелять в своих.
— Но мирные переговоры?
— Прерваны сегодня. Парламент отверг условия короля и отозвал своих комиссаров. Теперь свалка пойдет всерьез.
— А мы в это время должны гнить здесь заживо.
— Ваши друзья не оставят вас. Я сам постараюсь захватить какого-нибудь маркизика, чтобы вынудить их к обмену.
Воспаленное лицо Чиллингтона поднялось над плечом Лилберна.
— Сэр, могу ли я просить?
— Только живо. Моя свита, кажется, уже у дверей.
— Кэнон-стрит, лавка торговца пуговицами Чиллингтона. Умоляю, передайте моей жене, что я здесь, что жив, но совершенно без денег.
В дальнем конце коридора хлопнула дверь, шаги и голоса угрожающей волной покатились по каменной кишке.
— Джентльмены, ну что вы, ну зачем? — Эверард отвалился от окошка, пошел навстречу. — Этот тюремный хорек напрасно вас потревожил. На счастье парламентских крыс, мой пистолет оказался не заряжен. Зато в одной из камер произошла прелестная сцена. Один из них как раз спускал штаны около параши…
Конец фразы он произнес вполголоса — в ответ грянул раскатистый хохот.
Лилберн отошел от дверей, опустился на колени у топчана и принялся собирать и прятать на место выпавшие соломинки. Растерянная улыбка блуждала на его лице.
Весна, 1643
«После того как переговоры были прерваны, главнокомандующий парламентской армии, милорд Эссекс, выступил к Редингу, где у короля был гарнизон, и осадил его. Королевская конница попыталась снять осаду, и произошло столкновение, в котором пало много видных джентльменов с обеих сторон. Несколько дней спустя Рединг сдался графу Эссексу на условии, что город заплатит осаждавшим, но не будет отдан на разграбление. К этому времени в Англии уже не оставалось такой местности, где бы человек мог считать себя сторонним наблюдателем, но все они превратились в сцены, на которых разыгрывалась трагедия гражданской войны; только Ассоциация восточных графств, благодаря энергии мистера Кромвеля, сумела подавить все замыслы роялистов; в других же местах сторонники короля добились таких успехов и положение парламента стало настолько отчаянным, что многие члены верхней и нижней палат бежали к королю».
Люси Хатчинсон. «Воспоминания»
18 июня, 1643
«В то утро, получив известие о рейде принца Руперта, мистер Гемпден не стал дожидаться, пока подойдет его собственный полк, но возглавил ту часть, которая уже находилась на марше. Хотя характеру его, при несомненном мужестве, были свойственны известная осмотрительность и осторожность, на этот раз он решил напасть на противника еще до подхода главных сил. Авторитет его был так велик, что ни один офицер не посмел оказать ему неповиновения. При первой же атаке выстрелом из пистолета ему раздробило плечо, и шесть дней спустя он умер в тяжких мучениях. Смерть его явилась причиной такого всеобщего горя среди сторонников парламента, какого не вызвало бы и поражение целой армии; в Оксфорде же известие о ней было встречено с великой радостью».
Хайд-Кларендон. «История мятежа»
16–19 сентября, 1643
«Суббота, шестнадцатого. Мы шли 8 миль. В это утро были принесены известия, что кавалеры пришли в Чиренчестер, захватили и убили многих из наших людей, которые оставались позади, предаваясь пьянству и не заботясь о том, чтобы идти со своими офицерами; их много жалеть нечего. Сегодняшний день мы гоним вместе с армией около тысячи овец и шестидесяти коров; восемьдесят семь овец предназначено нашему полку, но впоследствии, когда началось сражение, мы всех их потеряли. Вторник, девятнадцатого. Главнокомандующий предполагал расположиться в эту ночь в Ньюбери, но король уже вошел в город за день до нас и прислал вызов дать бой на следующее утро».
Из дневника сержанта парламентской армии
19 сентября, 1643
Ньюбери
Фруктовые сады на южной окраине города выглядели такими ободранными, что можно было подумать, будто гигантская саранча пронеслась здесь недавно, обломала ветви, содрала листву. В проломе забора мелькнули фигуры двух солдат, с азартом рубивших развесистое дерево. Каждый удар сабли по стволу отзывался глухим стуком яблок о землю. Костры уходили в покрытые сумраком поля, терялись вдали. Огни армии Эссекса должны были быть где-то правее, но, видимо, их скрывали холмы.
Джанноти свернул к крайнему дому, спешился, привязал коня. Дежурный офицер пошел доложить о нем и почти сразу вернулся:
— Его светлость ждет вас.
Фокленд, только что закончивший бритье, изучал в зеркале свое исхудавшее лицо.
— Милорд, — поклонился Джанноти, — я принес вам свою повинную голову. Вот письмо, которое вы просили передать мистеру Хайду. К сожалению, я так и не смог попасть в Оксфорд за эти две недели. Мы шли за их арьергардом по пятам, и не было дня, который обошелся бы без стычки.
— Да, я знаю, — Фокленд улыбнулся ему. — Похоже, вашей повинной голове уже досталось?
Джанноти машинально потрогал толстый кокон бинтов, сдавливавший ему шею.
— Вчера под Олдборном было довольно жаркое дело. Рана неглубокая, но крайне неприятная, — вынуждает смотреть собеседнику прямо в глаза, даже когда совесть требует отвернуться. Если в письме было что-то очень важное и срочное…
— О нет, не тревожьтесь. Мистер Хайд писал мне под Глостер, упрекая в легкомыслии и бравировании опасностью, я счел необходимым послать ему какие-то оправдания. Только и всего. Судьба распорядилась так, чтобы письмо не попало ему в руки, — тем лучше.
— Быть может, судьба тем самым хочет показать, что вашему поведению нет оправданий.
— Да?
— Государственный секретарь не должен просиживать дни в первой линии траншей. Осажденные стреляют, как правило, с поразительной меткостью — им приходится беречь порох.
— Не вынуждайте меня пересказывать вслух содержание письма. Смысл его сводится к тому, что человек, который твердит о мире столько, сколько я, который без конца умоляет, требует, взывает к миру, должен постоянно доказывать, что миролюбие его вызвано отнюдь не личной трусостью.
— Милорд, не сочтите мои слова дерзостью, но я видел вас под Глостером своими глазами и верю им больше, чем любым объяснениям. Вы ничего не доказывали. Вы упрямо искали только одного — смерти.
Фокленд поднял на него унылый взгляд, долго молчал, потом вздохнул и жестом пригласил его сесть. На столе в свете двух свечей поблескивал покрытый чеканкой поставец. Он открыл его, извлек графин с вином, два кубка, отодвинул в сторону бумаги.
— Я давно хотел спросить вас, милый Джанноти: каким образом вам удалось в таком совершенстве овладеть английским?
— Приказчик моего отца был родом из Дувра. Страстный католик, он все надеялся, что Англия одумается, припадет к папской туфле, и тогда он сможет вернуться на родину. Я провел в его доме половину детства и всю юность. Вместе с его детьми мы разыгрывали сцены из Шекспира. Он с женой были единственными зрителями, но слезы лили за полный зал.
— Да, Шекспир… — Фокленд сжал виски ладонями, натянул до блеска кожу на щеках. — Не знаю, чего во мне было больше, — восхищения и зависти к нему или злости, отвращения, даже презрения. Но может быть, именно сейчас я созрел для того, чтобы перечесть его заново. «Распалась связь времен. Ужели я связать ее рожден?» Раньше эти строки казались мне многозначительной бессмыслицей.
— А теперь?
— Мы воочию видим, что значит «распалась связь времен».
— Милорд, я отказываюсь понимать, что происходит в вашей стране, и душа моя в полном смятении.
— «Душа в смятении, а стало быть, жива…»
— Нет, на такое стихи уже не могут дать ответа. Поймите, у вас всех есть родные места, родные люди, имущество, почва под ногами, мне же приходится летать в безвоздушном пространстве, и я устаю ужасно. Я способен на личную преданность, но не способен на преданность идее. Мне безразлична идея королевской власти — я предан лично королю Карлу со всеми его слабостями и недостатками. Но я предан также и вам и поневоле заражаюсь вашими мучениями и раздвоенностью. Вы виновник моего смятения — ответьте же мне. Вы не доверяете королю, не любите королеву, презираете двор. Почему же вы здесь, в этом лагере, а не в том, за холмами? Почему в глазах у вас тоска, а грудь полна тяжких вздохов? Почему даже лучшему другу — лорду-канцлеру — не удается заразить вас уверенностью в правоте и близкой победе нашего дела?
— Да, мистер Хайд не знает сомнений. Ему удалось внушить себе идею, будто все нынешние мученья и раздоры вызваны кучкой дьявольских интриганов и властолюбцев, засевших в Вестминстере. Будто разумное большинство ненавидит их власть и только и ждет случая скинуть ее. Сидя безвылазно в Оксфорде, легко поддерживать в себе такую иллюзию. Но если б он провел хоть неделю под стенами Глостера, если б посмотрел на этих высохших от голода горожан, кидавшихся с остервенением на вылазки, увидел женщин, таскавших мешки с землей, детей с горящими от ненависти глазами… Нет, капитан, мы плохо знали свою страну. Выпьем же за эту бедную истерзанную Англию и за то, чтобы завтрашняя битва оказалась для нее решающей и последней.
Шея Джанноти была как деревянная — он смог пить, только откинувшись назад всем корпусом. Фокленд промакнул батистовым платком усы, поднял графин к свету и снова наполнил кубки.
— А что творилось в округе! За три недели мы превратили все окрестности в пустыню. Дикие турки вели бы себя милосерднее. Военная необходимость требует добывать продовольствие для армии, но не требует жечь дома и насиловать женщин. Фуражиры, врываясь в поместье, не спрашивали хозяина, за короля он или за парламент. Нет, они приставляли пистолет к его голове и спрашивали, где зарыта его кубышка, а если он медлил с ответом… Не краснейте, капитан. Я знаю, что и вам довелось оказаться замешанным в подобных сценах. Но там, где англичане грабят англичан, какой может быть спрос с иностранца. Мы двинулись в Глостершир лишь потому, что считалось — там полно роялистов. Боюсь, теперь их не осталось ни одного. Стыд — я чувствую его почти физически, он заполняет грудь, раздувается в горле, как черная жаба.
— Старый Верни накануне своей гибели под Эджхиллом сознавался мне в подобных же чувствах. И когда я спросил, что же удерживает его около короля, мешает вернуться в Лондон к сыну — члену парламента, он только развел руками и показал глазами на небо.
— Вернуться в Лондон? И что? Бить витражи в церквах, сбрасывать статуи и распятия, резать иконы? Топить в Темзе картины Рубенса? Говорят, крест на Чипсайде уже срыт до основания. В своих так называемых мирных предложениях они требуют суда над «изменниками», то есть над теми, кто пытается защитить достоинство королевской власти. Вы хотите, чтобы я принял участие в этих процессах, послал на эшафот мистера Хайда и десятки других?
— Но должен же быть какой-то выход!
— Видимо, он был… где-то раньше… Мы проглядели его. Теперь же, когда все охвачено пожаром войны… Помните, как там у Донна:
Корабль пылал… Спасенья нет нигде!
Лишь разве там, за бортом, — меж волнами…
Но вмиг сжигало из орудий пламя
Тех, кто искал спасения в воде.
Вот так…
Он, сощурившись, искал на потолке выскользнувшие из памяти слова, и Джанноти закончил за него:
Вот так все моряки и погибали:
В огне тонули иль в волнах сгорали.[26]
— Волшебный, непостижимый дар! С чем действительно жаль расставаться, так это со стихами. «По ком звонит уж колокол прощально…»
— Милорд, если б вы знали, каким тяжким грузом уныние командира ложится на души подчиненных.
— Уже ночь, милый Джанноти, и у меня нет больше подчиненных. Перед вами не государственный секретарь, но рядовой кавалерийского полка лорда Байрона.
— Значит, и в завтрашней битве вы будете лезть на рожон?
— Да. И, я надеюсь, моим терзаниям настанет конец. Если эти надежды сбудутся, передайте лорду-канцлеру, что чувство моей сердечной привязанности к нему оставалось неизменным, несмотря ни на какие размолвки, что я просил его не оставить без поддержки моих детей, и если придется…
Он обернулся на шум отворившейся двери. Слуга вошел со стопкой чистого, свежевыглаженного белья и остановился в нерешительности.
— Прощайте, капитан. — Фокленд поднялся из-за стола. — Я хочу помолиться перед завтрашним днем. Желаю вам пройти через все невредимым и вновь увидеть мирную Англию. Надеюсь, его величество не отпустит вас завтра от себя. Вы не можете сражаться, глядя только вперед, — первый же удар сзади станет для вас последним.
— Прощайте, милорд, и храни вас бог.
Джанноти поклонился слишком низко, наткнулся на боль в ране, вышел на крыльцо и, стоя под черными несущимися облаками, потирая бинты ладонью, повторил несколько раз про себя: «Храни вас бог».
20 сентября, 1643
«Утром накануне битвы при Ньюбери лорд Фокленд выглядел бодрым и весело занял свое место в первом ряду полка лорда Байрона. „Противник, — рассказывал впоследствии его командир, — выбил нашу пехоту из огороженных участков холма и занял позицию неподалеку от изгороди. Я подъехал посмотреть, как обстоят дела, и приказал расширить проход в ограде для атаки, но тут пуля попала в шею моей лошади и мне пришлось потребовать себе другую. В это же время милорд Фокленд, проявив больше доблести, нежели благоразумия, дал шпоры коню и ринулся в узкую брешь, где оба — и конь его, и он сам — были немедленно убиты“. Он получил смертельную рану в низ живота, и тело его не было найдено вплоть до утра следующего дня, так что еще оставалась слабая надежда, что он взят в плен; но близкие друзья, хорошо знавшие его характер, не могли тешить себя подобной надеждой».
Хайд-Кларендон. «История мятежа»
20 сентября, 1643
«Они открыли огонь из всех батарей еще за полчаса до того, как нам удалось подвезти хоть одно орудие. На правом фланге у нас стоял голубой полк городского ополчения, который вел себя в высшей степени храбро. В этот день вся наша армия носила на шляпах зеленые ветки, чтобы отличаться от противника. Пушки неприятеля обстреливали главным образом красный полк городского ополчения. Несколько ядер попали в наши ряды; было ужасно видеть, как человеческие внутренности и мозги летели нам в лицо. Если бы я попытался восславить поведение двух упомянутых полков, я бы скорее только затемнил славу того мужества, которое бог вложил в них в этот день: они стояли под артиллерийским огнем, как столбы, показав себя людьми бесстрашного духа, что даже враги наши должны были признать».
Из дневника сержанта парламентской армии
Сентябрь, 1643
«Когда спустилась ночь, королевская конница и пехота все еще удерживали свои позиции на другом конце луга, где мы и ожидали найти их на следующее утро, решив либо прорваться, либо умереть. Но ночью они ушли. Наутро наша армия беспрепятственно прошла по тому самому полю, где кипела битва, и несколько дней спустя вернулась в Лондон.
Лорд-генерал Эссекс был принят городом с великой радостью и почетом. Милиция и вспомогательные части маршировали поротно, на улицах друзья приветствовали возвращающихся солдат, а лорд-мэр и старейшины устроили торжественную встречу в Тэмпле. Теперь чаша весов переместилась, и значение парламента сильно возросло. К тому же в те самые дни был заключен союз — Священная лига и Ковенант — с нашими шотландскими братьями для защиты и укрепления религии, закона и народных вольностей в обоих королевствах».
Мэй. «История Долгого парламента»
Октябрь, 1643
Лондон, Бишопсгейт
Посреди ночи в одно из коротких полупросыпаний Лилберн машинально потянулся пощупать тот угол подушки, где у него обычно хранились бумага и перо, не нашел их и в испуге проснулся. Глаза его попытались отыскать зарешеченный просвет окна — его тоже не было на привычном месте. Вместо него поблескивала грань зеркала, и потолок уходил непривычно высоко.
Тогда он все вспомнил и сел, откинув одеяло.
События последних двух дней пронеслись в его памяти радостно-беспорядочной толпой, он попытался выстроить их, связать во времени, пережить заново. При выходе из тюрьмы им не было сказано, куда и зачем их повезут, и по злобным лицам конвойных можно было подумать что угодно, но когда по выезде из Оксфорда свернули не на север, а на лондонскую дорогу, надежда впервые больно кольнула сердце. Потом в Рединге была волокита с формальностями обмена, всплыло обиженное лицо виконта, оскорбленного тем, что его обменивают на какого-то нетитулованного капитана, потом — шумные улицы Лондона, трубы и цветы в их честь, счастливые лица друзей, где-то сзади, за спинами — Элизабет с младенцем на руках, и он пытается прорваться к ней, но посланец, доставивший дар Эссекса — триста фунтов, удерживает его, все тянет свою путаную речь о героях Брентфорда, о долге и верности, и потом, наконец, дома бесценное, забытое блаженство — горячая вода, много горячей воды, из которой не вылезти, не расстаться, провести в ней всю жизнь, и все это сразу, слишком сразу.
Лилберн оглянулся, понял, что Элизабет тоже лежит с открытыми глазами и смотрит на него. Руки их поднялись, скользнули навстречу друг другу, друг по другу, и они снова стали муж и жена, одна плоть.
Потом лежали, прижавшись, и Элизабет рассказывала, что было без него. Как она ждала в ту ночь, год назад, хотя и получила его записку, а наутро пошла в сторону Брентфорда, но ее не пустили. Как они хлопотали и умоляли парламент поспешить с декларацией о заложниках, чтобы спасти пленных в Оксфорде от расправы. Как холодно и голодно стало зимой, а арендатор не давал им денег, уверяя, что должники Лилберна долгов не возвращают, говорят, что не собираются платить человеку, осужденному королем за измену. Вскоре арендатор и вовсе бежал, бросив пивоварню и все оборудование гнить под снегом и дождем. И каким счастьем было для нее получить весной весточку, доставленную от него Эверардом. И как страшно стало в городе летом, когда король всюду побеждал, мистер Гемпден погиб, роялисты устраивали заговоры, а народ требовал мира и проклинал парламент. В августе женщины устроили настоящий бунт, двинулись к Вестминстеру большой толпой с петицией о мире и отказывались разойтись, пока им не дадут ответа. Это счастье, что сама она была так слаба после родов, что не могла к ним присоединиться. Потому что для разгона толпы вызвали кавалерию, а женщины стали кидать камни, и началась такая свалка, что многих ранило, а двоих убило. Кэтрин вернулась оттуда вся в грязи, с разбитым коленом и так поносила членов парламента, что слушать было невозможно и пришлось ее прогнать на неделю обратно к отцу.
На улице шел дождь, и корыто, поставленное в углу комнаты, позвякивало под падающими каплями. Лилберн вспомнил, что и окно ему вечером не удалось закрыть до конца, что двери скрипели, стулья шатались, а одна ступень лестницы оказалась выломанной. Всего лишь год без хозяина — и дом уже разваливается на части. Но все же это был дом, его дом, благословение божие, с теплым очагом, чистыми простынями, с ножами и вилками в буфете, с просторными окнами без решеток, с дверьми, которые можно запереть изнутри и нельзя — снаружи. Ему вдруг остро захотелось остаться здесь хотя бы на месяц, отдохнуть от душной и томительной пустоты тюремной жизни. Голос Элизабет втекал в него ровной завораживающей струей, становился почти монотонным, и он не сразу понял, что она тоже говорит о передышке — о каком-то месте на государственной службе, и о том, как трудно было его выхлопотать, и только отец с его связями и знакомствами…
— Какая служба? — Лилберн поднял голову от подушки.
— Младшим таможенником в порту. Они платят сто фунтов в год, по нынешним временам это немало, но главное, ты сможешь оставаться в Лондоне и, найдя компаньона, восстановить пивоварню, а это уже будет вполне приличный доход, и я могла бы вести ваши книги.
— Элизабет, опомнись. Как ты себе это представляешь? Чтобы я спокойно рылся в чужих тюках и ящиках, в то время как страна тонет в крови? Или ты думаешь, что Оксфордская тюрьма сделала со мной то, что оказалось не по силам Флитской?
— Ох, Джон, не надо. Конечно, я знала, что первый твой ответ будет таким. Но, умоляю, не распаляй себя. Оглядись сперва, поживи здесь немного, и ты увидишь, как все переменилось. Еще год назад выбирать было просто: за короля или за парламент. Теперь все гораздо сложнее.
Она села, охватив колени руками, прижалась к нему плечом.
— Те самые люди, которые осыпали тебя сегодня цветами и кричали «ура», знаешь, что они сделают с тобой, когда ты заикнешься о свободе совести? Снова засунут за решетку.
— При власти парламента? Ты сама не понимаешь, что говоришь.
— Спроси у тех, кто уже там оказался. Их пока немного, пресвитериане сейчас слишком заняты войной. Но когда ты и тебе подобные добудут им победу, вот тогда они покажут вам свой оскал. Судя по всему, в нетерпимости они собрались перещеголять даже епископов.
— Пресвитериане, индепенденты[27] — я не желаю слышать этих кличек! Есть свобода Англии, и все, кому она дорога, должны стоять за парламент до последней капли крови. Разжигать сейчас внутреннюю рознь — это почти измена. Пусть отец не морочит тебе голову.
— Отец как раз очень доволен пресвитерианами. Он был доволен, когда они летом провели закон, устанавливающий цензуру. Он радовался запрещению театров и игр. Он первый побежал подписывать Ковенант с шотландцами.
— Что плохого в союзе с шотландцами?
— Ничего — для тех, кто решит подписать его. Но те, кто откажутся, не получат в армии графа Эссекса даже чина сержанта. Это присяга, а зная твое отношение ко всякого рода присягам…
Странный скрипучий звук прервал ее слова. Элизабет нагнулась к колыбели, достала белый сверток, подняла к груди. Спокойная уверенность, с которой она это проделала, наполнила Лилберна почтительно горделивым чувством к ней, за нее, и в то же время — невольной ревностью. Плач начал перебиваться чмоканьем, потом перешел в ритмичное сопенье.
— Может, я не все понимаю про пресвитериан, зато на кавалеров я за этот год насмотрелся. И, знаешь, главная гнусность не в том, что они проделывали с нами в тюрьме, не издевательства, которыми они осыпали безоружных, а какая-то наглая беспечность ко всему на свете. Ты не поверишь — даже к королю. Даже храбрость их наполовину от беспечности. Представить себе, что эти люди получат в руки власть, — ничего ужаснее и унизительнее быть не может. Все, кто поразумней, посерьезней, бегут сейчас из королевского окружения, остаются одни искатели приключений. Для них бог, права, закон, вольности англичан — все пустой звук, адвокатская тарабарщина.
— Ничтожества и проходимцы есть в любой партии. И чем партия сильнее, тем больше их притекает.
— После гибели Фокленда у роялистов не осталось ни одного человека подобного Пиму, Эссексу, Холлесу, Принну.
— Но все эти люди — пресвитериане!
— Элизабет!
— А-а, мне ты не веришь. Ну хорошо, пойди завтра и убедись сам. Заикнись о веротерпимости, о свободе проповеди, напечатай брошюру без разрешения цензуры. А мы с Кэтрин тем временем соберем тебе белья и еды.
— Ты хочешь сказать…
— Да, Джон, да! Ты боролся вместе с ними против епископов, но хотели-то вы разного. Епископов назначал король, пресвитеров будет назначать их синод, но всякого, кто попробует выйти из-под их власти и молиться по-своему, они засунут в те самые камеры, из которых выпустили вас три года назад.
Она положила уснувшего младенца обратно в колыбель и осталась сидеть на краю кровати, закрыв лицо руками.
— Конечно, я не ждала спокойной жизни, выходя за тебя, Джон Лилберн. Но я молю тебя об одном: не лезь сломя голову в драку не за свое дело. Потому что ты не простишь себе этого потом, и душа твоя будет в разладе.
Он долго сидел молча, потом погладил ее по рассыпавшимся волосам и тихо сказал:
— Хорошо, Элизабет, я огляжусь сперва. Обещаю тебе. И если все обстоит так, как ты говоришь, я знаю, что делать. Отправлюсь в восточные графства к Кромвелю. Говорят, он смотрит сквозь пальцы на самые крайние взгляды, если только человек не показывает спину врагу. Но остаться здесь, поступить на службу — это для меня невозможно. Я скорее пойду простым солдатом в любой полк за восемь пенсов в день. В пресвитерианский, индепендентский, какой угодно. Потому что отдать сейчас победу королю — это гибель. Для меня, для тебя, для Англии, для него, — он кивнул в сторону колыбели.
Слабый рассвет откуда-то издали пробивался сквозь тучи, высветлял серые прямоугольники окон. Вода с потолка бежала в корыто тонко звенящей струей. Элизабет осторожно легла, натянула одеяло до подбородка и начала говорить тихим, чужим голосом, глядя в потолок.
— Ты знаешь, первые два месяца без тебя были бы очень тяжелы, если б я сразу не решила, что переживу тебя не намного. Я даже обещала себе покончить с собой тем же самым, чем они убьют тебя: веревкой — так веревкой, пулей — так пулей. Если б ты умер от болезни, я бы пошла ухаживать за чумными. По ночам я лежала без сна и всерьез раздумывала, как мне надо будет управиться с собой, если тебе отрубят голову. Перерезать горло? Или сунуться под колесо телеги? Но когда я поняла, что беременна и, значит, это все для меня закрыто, вот тогда начался настоящий ужас. Я столько об этом думала и так себе представляла твою гибель, что потом боялась взглянуть на новорожденного, — думала, он так и родится с красной полосой на шее. Молиться, как прежде, о даровании сил, о спасении души — на это уже слов не хватало; только о спасении тела, бренной плоти земной, тебя. Но кто расслышит такую молитву, когда идет война? Я все это говорю тебе, чтобы ты знал: второй раз мне такого не пережить. Пусть уж лучше убьют сразу, чем вот так, день за днем тянуть эту муку.
Он прикрыл ей рот ладонью, прижался губами к уху и начал жарко шептать, что да, он все понял, и с ним было похожее, мысли о ней, как тупая непрерывная боль, и ясно, что им надо вместе, раз уже бог даровал им так прилепиться друг к другу, им вместе надо ехать, и будь что будет. Она поначалу только качала головой: о чем ты? бросить дом? ехать неизвестно куда навстречу зиме с грудным ребенком? А деньги? — но он все говорил и уже не словами, не резонами, а одним напором и страстью переливал в нее избыток своих сил, своей убежденности, так что под конец она уже улыбалась сквозь слезы и целовала ему руку: ну хорошо, едем, пусть так, будь по-твоему, раз ты так хочешь, пусть что угодно, только чтоб вместе.
Март, 1644
«Я не могу себе представить, каким образом вы решаетесь предпочесть пьяниц, ругателей и порочных людей такому человеку, который боится клятвы, боится греха. Уволить столь верного и способного к службе офицера только за то, что он анабаптист! Да уверены ли вы в этом? А если это и так, что мешает ему с пользой служить обществу? Я думаю, сэр, что государство, выбирая людей к себе на службу, не должно обращать внимания на их религиозные воззрения; если они охотно и преданно служат ему, то и довольно. Я уже и прежде советовал вам быть терпимее к мнениям; берегитесь дурно обращаться с людьми, которые провинились только в том, что не разделяют ваших религиозных убеждений».
Из письма Кромвеля графу Манчестеру
Лето, 1644
«Граф Эссекс, начав военные действия, попытался осадить Оксфорд; но король с небольшим отрядом конницы ускользнул из города и присоединился к своим главным силам. Тем временем на севере сэр Томас Ферфакс, одержав победу над ирландской армией, призванной королем на подмогу, соединился с шотландцами; и граф Манчестер, собрав силы в ассоциации восточных графств и имея Кромвеля в качестве генерал-лейтенанта, вступил в Линкольн, а оттуда — в Йоркшир; и когда все три армии соединились, они осадили кавалеров в Йорке. Чтобы снять осаду, принц Руперт прибыл с юга с большой армией, осажденные тоже вышли из города, и на большой равнине, именуемой Марстон-Мур, завязалось кровопролитное сражение».
Люси Хатчинсон. «Воспоминания»
2 июля, 1644
«Это была самая крупная битва за всю гражданскую войну: никогда еще столь могучие по численности и силе армии не сходились друг с другом — каждая насчитывала более двадцати тысяч человек. Победа поначалу, казалось, уже была в руках роялистов, ибо их левый фланг смял и обратил в бегство правый фланг парламентской армии. Однако это поражение было уравновешено на другом крыле, где Кромвель атаковал с такой силой и яростью, что прорвал лучшие полки роялистов под командованием самого Руперта и обратил их в бегство; затем вместе с шотландцами Дэвида Лесли повернул свою конницу и бросился на выручку теснимым друзьям, и только тогда остановили они своих коней, когда добились полной победы. Вся артиллерия принца Руперта, все обозы и снаряжение попали в руки парламентской армии. Через несколько дней сдался город Йорк.
Однако в это же время граф Эссекс, теснимый в западных графствах армией короля, оказался в весьма опасном положении».
Мэй. «История Долгого парламента»
Июль, 1644
Тикхилл-кастл, Линкольншир
Жара поднималась волнами от цветущих лугов за ручьем и медленно переваливалась через заросли прибрежного ивняка. Крылья мельницы слабо вращались под ее напором. Время от времени раздавался чмокающий звук — очередная пуля впивалась в сухое дерево, — и сразу вслед за ним со стороны замка приплывал тугой хлопок выстрела. Лилберн сидел, скинув мундир, и, опершись спиной о сруб, писал донесение:
«Досточтимому генерал-лейтенанту Кромвелю. Сэр! Согласно вашему приказу я с четырьмя эскадронами обложил замок Тикхилл. В окрестностях захвачено восемь пленных, несколько лошадей, на мельнице — запасы муки. Чтобы удержать гарнизон замка от вылазок и других враждебных действий, мне понадобятся в самом ближайшем времени еще два бочонка пороха, двести фунтов пуль, три ящика фитилей…»
Он поднял голову от листа, огляделся. Его драгуны под прикрытием мельницы носили мешки с мукой за ручей. Дым нескольких костров поднимался оттуда — видимо, солдаты уже занялись завтраком. Недавно они научились у шотландцев печь лепешки на раскаленных камнях и теперь часто пользовались этим немудреным способом. Если бы Лилберн попытался перечислить все, чего им недоставало, от седел и сапог до пуговиц и бинтов, его донесение растянулось бы на несколько страниц. Раны зарубцовывались на них сами собой, но, чтобы починить мундир, нужны были хотя бы нитки. Трудно было представить себе, что эти оборванцы три недели назад разбили лучшие полки Руперта и получили от него прозвище «железнобоких». Даже Дэвид Лесли сказал, что подобных солдат нет сейчас во всей Европе, а уж он-то провоевал на континенте не один год. И вот с такими-то солдатами они болтаются здесь на севере день за днем без настоящего дела, вместо того чтобы спешить на выручку Эссексу в Корнуолл, или обрушиться на Оксфорд, или искать главные силы короля, чтобы вынудить его к решительному сражению.
Из-за угла появился Сексби с мушкетом в руке. Капли пота текли по его щекам, но выражение лица оставалось таким же замороженно-неподвижным, как обычно.
— Мистер Лилберн, длинноволосые хотят говорить с кем-нибудь из главных.
— Чего им надо? — Лилберн отложил донесение и потянулся к мундиру.
— Разве их поймешь. Может, хитрят. А может, правда хотят вступить в переговоры.
Они прошли к линии постов, наспех расставленных вчера вокруг замка. Солдаты постарше уже вырыли себе вполне приличные окопчики, молодежь беспечно довольствовалась кустами бузины и шиповника, росшими по склону. У некоторых на мундирах и шляпах до сих пор красовались цветные лоскутки — обрывки королевских знамен, захваченных под Марстон-Муром. На крепостной стене над воротами отчетливо была видна фигура человека, державшего белый платок в откинутой руке.
Лилберн дал знак трубачу.
Тонкий и острый звук сигнала заставил его сморщиться, он махнул рукой — довольно! — и вышел на открытое пространство. Сексби шел за ним, подняв над головой мушкет с привязанным клочком бумаги, и бормотал в спину:
— Сэр, прошу вас, говорите с ними, прогуливаясь. Собирайте землянику, например. Нет ничего труднее, чем целиться в человека, собирающего землянику, уж поверьте бывалому стрелку.
Они остановились, не дойдя до ворот ярдов сорок. Несколько голов появилось над зубцами стены. Человек с белым платком уступил место офицеру в зеленом камзоле с прорезными рукавами; тот перегнулся вниз, всматриваясь в подошедших, положил на парапет забинтованную руку.
— Сэр? Я комендант замка. С кем имею честь?
— Подполковник Лилберн, к вашим услугам.
— Ужасная жара, сэр, не так ли? Самая худшая погода для войны. Может, будет разумнее, если вы зайдете к нам распить бутылочку-другую и потолковать о том, о сем.
— Честно сказать, я уже погостил у ваших друзей в Оксфорде целый год и сыт этим по горло.
— Словом джентльмена обещаю вам полнейшую безопасность. В нашем положении было бы чистым безумием расставлять кому-то ловушки.
— Сэр, вся Англия вот уже несколько лет охвачена чистым безумием.
— Может, тогда вы разрешите моим офицерам прогуляться в деревенский погребок? Многие из них просто умирают от жажды. Одно дело воевать, другое — вариться заживо в каменном котле.
Лилберн с недоумением вглядывался в коменданта, пытаясь в то же время незаметно прикрыть рукой дыру на левой подмышке.
— Что ты об этом думаешь? — спросил он у Сексби краем губ.
— Похоже, настроение у них не драчливое. Медленная смерть от голода и скуки в этой мышеловке их, видать, не устраивает.
— Сэр! — крикнул Лилберн. — Я не имею полномочий для переговоров с вами. Но если вы изъявляете готовность к ним, я могу снестись с командующим.
Комендант на минуту замялся, видимо, не решаясь говорить столь открыто при подчиненных, но, не видя другого выхода, развел руками и поклонился:
— Разумный, спокойный разговор никому из нас повредить не может.
Вернувшись за мельницу, Лилберн взялся было за чистый лист бумаги, но потом передумал — потребовал коня. Он уже из горького опыта знал, что подобные дела бумажным ударам не поддаются. Ревнивая подозрительность, разгоравшаяся все пуще между парламентскими генералами, приводила к тому, что порой с собственным штабом договориться было труднее, чем с неприятелем.
До Донкастера было миль десять, он покрыл их за полчаса и поспел как раз вовремя: командующий армией, граф Манчестер, собирался уезжать на охоту. На его узком, гладко-оливковом лице сначала не выразилось ничего, кроме стандартной любезности, но, услышав про Тикхилл-кастл, он резко повернулся и закричал, откидывая голову:
— Замок?! Я не приказывал вам осаждать никакого замка! Я не позволю распылять силы армии, когда противник может появиться в любую минуту.
— Милорд! Но я получил приказ от генерал-лейтенанта Кромвеля.
— Кромвель еще ответит мне за это. А вы? Вы вознамерились захватить такой замок с четырьмя сотнями человек? Без артиллерии? Хороша армия, где подполковники так рассуждают о военном деле. Вы представляете, сколько людей должно будет сложить головы под его стенами? Да для меня он не стоит и десяти убитых!
Пытаясь сохранить на лице почтительное выражение, Лилберн упрямо шел за графом, ведя коня в поводу.
— Милорд, я говорил не о штурме, а о переговорах. Судя по всему, гарнизон был бы рад избавиться от замка. Они не видят смысла сопротивляться дальше, после того как Йорк пал.
— Предложить противнику просто так, ни с того ни с сего сдать неприступный замок? Почему бы тогда не пригласить врага записаться в нашу армию? Нет, вы хотите сделать меня посмешищем всей Англии.
Свита, пересмеиваясь, разбирала приготовленных лошадей. Лилберн, до белых костяшек стиснув поводья, тянул голову своего взмыленного недоумевающего коняги все ниже к земле.
— Милорд, я понимаю, затронута ваша честь. Позвольте мне предложить им капитуляцию от собственного имени. И пусть меня повесят, если они не сдадутся.
— Повесить столь известного смутьяна? — Манчестер уже сидел в седле и глядел сверху вниз. — Буду очень признателен, если вы дадите мне повод.
Он засмеялся, дал шпоры коню и выехал за ворота. Шотландские комиссары, адъютанты, окрестные сквайры, егеря со сворами собак повалили за ним, оттесняя Лилберна все дальше в глубь двора. Через минуту стало тихо и пусто, только двое слуг бродили с метлами по крепко утоптанной земле, сгребая в совки свежие ядра конского навоза.
Обратный путь к Тикхилл-кастлу занял у него вдвое больше времени. Мысли его скользили от одного к другому; он беспокоился, дошли ли до Элизабет деньги, посланные им с нарочным, и удалось ли ей устроиться в Линкольне так, чтобы в доме была корова и молоко для ребенка; всплывали какие-то сцены боев последнего года, осада Ньюарка и постыдное бегство оттуда, когда пришлось удирать, бросив все, что было в палатке, — одежду, деньги, бумаги; интриги и мелкие подлости губернатора Линкольна, полковника Кинга, которого он в свое время спас от гнева Кромвеля — а зря; брат Роберт в новой капитанской форме, довольный и в то же время, как всегда, скорый на обиды по пустякам; тревожило, что от него давно не было вестей. И только об одном, кажется, он не подумал ни разу за всю дорогу: о том, что ему делать с замком. Ибо вопрос для него был решен в тот самый момент, как он понял, что Манчестер угрожает ему не шутя.
В те редкие минуты жизни, когда он задумывался о себе, о своем характере, эта его постоянная готовность лезть на рожон не нравилась ему. Он спрашивал себя, не есть ли она проявление особого рода трусости — страха страха. Но времени для таких раздумий обычно не хватало, и он по-прежнему инстинктивно тянулся выбирать тот путь, на котором опасность блестела ярче всего. По крайней мере в счетах с самим собой здесь отпадали подозрения в мелкости, корысти, слабости, равнодушии. Он испытывал даже некоторое облегчение, когда эта путеводная звезда упрощала ему выбор. Поэтому, вернувшись к своим эскадронам, он немедленно засел за составление предложений о капитуляции, отправил их с барабанщиком и двумя солдатами к замку, а сам уселся обедать.
Ему подали жареную баранину и в ответ на строгий взгляд поспешно объяснили, что это дар местных жителей. Крестьяне были настолько изумлены появлением вооруженных людей, которые никого не грабили, что не знали, чем выразить свою благодарность. Бочонок сидра лично от себя прислал мэр городка.
Лилберн и Сексби потягивали сидр, стараясь не смотреть в сторону замка, не прислушиваться, говорить о постороннем. Один за другим зашли несколько солдат с одинаково смущенным выражением лица и просили одного и того же — денег в счет жалованья, которое, как обычно, было недоплачено за много месяцев. Последние пять шиллингов Лилберн отдал вместе с кошельком, приказав просителю предупредить остальных, чтоб больше не совались. Поголовная честность солдат на войне обходилась недешево. Жара все сгущалась и делала ожидание невыносимым. Оно словно скручивалось в груди болезненно напряженным жгутом, срасталось с плотью сердечной; ощущение тянущейся боли осталось там даже после того, как часа два спустя со стороны замка раздался звук трубы и появились два всадника — парламентеры.
Лилберн вышел им навстречу, стукнул подбородком о грудь:
— Джентльмены! Не знаю, огорчит вас это или обрадует, но командующий пожелал переговорить с вами лично. Если вы не против, мы отправимся тотчас же.
Те поклонились с некоторой растерянностью, старший буркнул что-то об удовольствии выразить свое почтение графу Манчестеру.
— Лошадей! — распоряжался Лилберн. — Командовать остается капитан первого эскадрона. Посты сменять каждые четыре часа. Сексби, подберите конвой. Двадцать человек.
Сексби попробовал намекнуть, что они справились бы и вдвоем, что если для пышности, то вполне хватило бы и пятерых, но Лилберн с такой непонятной яростью закричал: «Двадцать! И ни одним меньше!», что Сексби обиженно насупился и потом всю дорогу до Донкастера ехал молча и в стороне. Лилберн время от времени косился в его сторону, но тоже молчал. Не мог же он на самом деле сознаться, что число «двадцать» мелькнуло в его уме лишь потому, что он представил себе двор дома, занимаемого Манчестером, и машинально прикинул, сколько человек могут въехать и разместиться в нем без труда, чтобы стать свидетелями того, что там произойдет. Да, это так — ему всегда было нужно, чтобы люди знали. Кроме того, у него не было уверенности, что он сумеет еще раз вынести насмешливую презрительность свитской толпы, окажись он перед ней в одиночку.
Они уже различали занавески в окнах окраинных домов, когда на дороге показалась кучка всадников, скакавших им навстречу.
— Эге, да это сам старина Нол! — крикнул кто-то из солдат.
Взвизгнули выхваченные из ножен палаши, дружный приветственный крик разорвал воздух, как салют.
Кромвель подъехал вплотную, прижался конем, придвинул совсем близко красно-пропеченное лицо.
— Ну что там у вас? Мне донесли об утренней стычке с графом. Говорят, он пускал камни в мой огород? А это что за парочка? Пленные?
— Парламентеры.
— Из Тикхилл-кастла? О, раны господни! Значит, вы решились?.. — Он ухватил Лилберна за плечо и несколько раз встряхнул с такой страстью, что чуть не вырвал из седла. — Какая пилюля его сиятельству! Я знал, знал, что не ошибусь в вас.
Он жестом приказал остальным ехать поодаль и, развернувшись, пустил коня бок о бок с лилберновским. Тихо беседуя, они въехали рядом на улицы городка.

— Друг мой, — говорил Кромвель, — я восхищен вашим мужеством, но, умоляю, сдержите себя теперь, не реагируйте ни на какие оскорбления, как бы граф ни бесился. Я буду рядом и вмешаюсь при первом удобном случае.
— Хорошо, я постараюсь. Хотя согласитесь, генерал, от всего этого можно сойти с ума. Мыслимое ли дело — воевать, когда собственный командующий все время хватает тебя за руки. И кто? Человек, с которого до сих пор не снято обвинение в государственной измене. Он, видимо, уже забыл, как король пытался расправиться с ним два года назад.
— Я сам не могу понять, что с ним стряслось. Знаете, что он сказал мне недавно? «Мы можем победить девяносто девять раз, но король все равно останется королем и всегда найдет себе новую армию. Стоит же нам потерпеть хоть одно поражение, и все мы превратимся в бунтовщиков и изменников, которых ждет виселица».
— Интересно, о чем же он думал, берясь за оружие?
— То же самое я спросил у него — он только пожал плечами. Кроме того, его капелланы, его шотландцы, его друзья пресвитериане поют ему в оба уха о разложении армии сектантами, которых Кромвель собрал со всей Англии. Так или иначе — он растерян, испуган, он дрожит за свои лавры победителя под Марстон-Муром, он опасается своих больше, чем противника…
— …боится победить короля…
— …да, и, может быть, поэтому ни за что не хочет двинуться из пределов восточных графств. Однако для такой пассивности нужны какие-то предлоги. Парламент и «Комитет обоих королевств»[28] потребуют объяснений. Чего же лучше — вражеские гарнизоны, засевшие всюду в неприступных замках. Мы не можем тронуться с места, оставив такую угрозу за спиной.
— И в это время является наглец, утверждающий, что неприступные замки готовы сдаваться.
— …И хочет, чтобы его встретили с распростертыми объятиями.
Нет, на объятия Лилберн не рассчитывал. Но хотя бы надменная вежливость, хотя бы тень смущения, пусть спрятанная за насмешкой, за высокомерием. Казалось, они все успели обсудить и предусмотреть, проезжая по тихим вечерним улочкам, и все же к тому, что их ждало, они не были готовы.
— Я вас повешу! Бандит, проходимец! Кто командует армией — я или вы?! Стража, арестовать! Военно-полевой суд… завтра же!.. На первом суку!..
Лилберн настолько был изумлен переменой, происшедшей в этом всегда изящном, любезном и выдержанном вельможе, что поначалу не чувствовал ничего, кроме сострадательной брезгливости. Хорошо еще, что парламентеров и конвой они оставили на улице. Казалось, Манчестер в своей неумелой ярости хотел уподобиться кому-то очень грозному, но за сумятицей его криков, жестов и поз проступал капрал, разносящий новобранца. Потом смысл выкрикиваемых угроз и оскорблений стал доходить до Лилберна, он увидел перед собой брызжущий рот, выпуклые по-восточному глаза и не мог понять, Манчестер ли приблизился к нему вплотную, или он сам бессознательно двинулся на него, чтобы заставить замолчать. В это время тяжелая рука отодвинула его назад, и Кромвель стал между ними.
— Милорд! Парламентеры роялистов в двух шагах отсюда. Они могут слышать каждое слово.
— Это вы, вы наполняете армию такими смутьянами! — кинулся к нему Манчестер. — За вашей спиной они безнаказанно творят что им вздумается. Они богохульствуют, они позорят дело парламента, они…
— Милорд, вы не можете арестовать человека за то, что он исполнил прямой приказ командира — мой приказ.
— Я отменил ваш приказ!
— Те кто слышал ваши слова, не смогут подтвердить этого. Вы обещали повесить подполковника Лилберна, если Тикхилл-кастл не сдастся. Но парламентеры у ворот и готовы принять ваши условия.
— Мое главное условие, чтобы ваши люди научились наконец дисциплине. Чтобы они прекратили богохульствовать. Чтобы безграмотные солдаты не смели проповедовать и толковать священное Писание. Чтобы были запрещены изъявления радости по поводу поражений пресвитерианских генералов. Чтобы приказы главнокомандующего…
— Милорд! — голос Кромвеля мгновенно наполнился такой яростью, что рядом с ней гнев Манчестера поблек еще больше. — Милорд, я и мои люди шли на смерть за вас, не спрашивая о ваших религиозных убеждениях. Это я, покровитель сектантов, каждый день умоляю вас поспешить на выручку пресвитерианскому генералу, лорду Эссексу, и это вы, пресвитерианский генерал, под разными предлогами остаетесь на месте. Страна и парламент из последних сил наскребают на содержание нашей армии по тысяче фунтов в день, а вы позволяете себе потратить этот день на охоту.
— Воображаю, как вы распишете такой выигрышный эпизод в своих донесениях парламенту.
— Вы не хотите даже пальцем пошевелить, чтобы выбить кавалеров из Ньюарка, хотя это нам вполне по силам.
— Что бы вы ни измышляли для нападок на меня, теперь-то я знаю подлинную причину вашей ненависти. Да-да, вы сами проговорились на днях. Мой титул — вот в чем дело!
— Я сказал лишь, что дела в Англии не пойдут на лад, пока вас не будут звать просто «мистер Монтегю», но это не значит…
— Это значит! Вы не питаете никакого уважения к монархическим учреждениям, к традициям. Для вас права палаты лордов — пустая побрякушка, если они становятся поперек вашим страстям и тщеславию!
— Милорд, остановитесь!
— Ваши замыслы…
— Остановитесь! — Кромвель дышал со свистом, лицо его набрякло до блеска. — Мы слишком отвлеклись от нашего предмета. Приказываете ли вы мне отослать парламентеров? В этом случае я вынужден буду сообщить парламенту, что вы по непонятным причинам отвергли капитуляцию роялистской крепости.
Манчестер отступил на несколько шагов, обвел глазами напряженно ждущие лица своей свиты и, видимо, заметив и в них тень страха и сомнения, сумел, наконец, совладать с собой, взять обычный приветливо-небрежный тон. Палец его коснулся плеча начальника штаба.
— Генерал, займитесь этим делом. Согласуйте с противником условия сдачи полуразвалившейся твердыни, из-за которой столько шума. Только проследите, чтобы ничто из добычи не прилипло к недостойным рукам.
Он сделал изящный отпускающий жест, задержал презрительный взгляд на сапогах Кромвеля и исчез в дверях своего дома.
Жара незаметно перешла в теплые розоватые сумерки, деревья чуть шумели, расправляя листву, и Лилберн, проезжая уже четвертый раз за день все той же дорогой, вслушивался в настойчивый хриплый шепот Кромвеля, доказывавшего ему, что нельзя поддаваться порывам, что для победы над королем можно и нужно перетерпеть любых союзников и любых командующих, что если он, Лилберн, подаст завтра в отставку, это будет настоящей изменой их делу, божьему делу, что они не должны выпускать меча из рук; и хотя сердцем он поддавался этим уговорам и аргументы казались ему неодолимыми, смутное предчувствие того, что военная победа не будет концом пути, что меч сам по себе ничего не решит, проникало в него все глубже и наполняло тревожным и торжественным предчувствием новой борьбы — неизведанной, изнурительной, долгой, чреватой новыми страданиями, новым одиночеством, но, может быть, кто знает, и новым братством.
Сентябрь, 1644
«Из Пембрука пришло письмо, в котором было описано, как войска принца Руперта, особенно отряды, составленные из ирландцев, угоняли скот, съедали или уничтожали все запасы крестьян, сжигали их деревни и неубранный хлеб, резали всех от мала до велика. Людей пожилых и безоружных они раздевали догола, одних хладнокровно убивали, других подвешивали вниз головой или прожигали плоть до костей и оставляли умирать в страшных мучениях».
Уайтлок. «Мемуары»
Январь, 1645
«В это время шли переговоры с роялистами в Аксбридже, ведшиеся в основном по трем пунктам: 1) управление церковью, 2) командование милицией, 3) подавление восстания в Ирландии. Но еще до начала и во время переговоров король использовал все средства, чтобы получить иностранную помощь. В письмах к королеве, находившейся во Франции, он заклинал ее убедить короля французского, кардинала Мазарини и других католиков поддержать его войском и деньгами. Королева, со своей стороны, тоже убеждала его не уступать в вопросе о епископах и не покидать своих друзей — английских и ирландских католиков, столь верно служивших ему в этой войне. Поэтому переговоры кончились ничем. Даже о подавлении Ирландии у сторон не было согласия, ибо король заключил мир с тамошними бунтовщиками и не хотел идти против них».
Мэй. «История Долгого парламента»
Март, 1645
Оксфорд
Кипы бумаг, завалившие поначалу весь стол, диван, подоконник, стулья, теперь понемногу таяли, теряли свой пугающий вид. Часть их уже была разобрана, завязана в аккуратные пачки, уложена в дорожный сундук; другая часть, рассортированная начерно, ждала своей очереди в стопках, придавленных то книгой, то табакеркой, то подсвечником. Все остальное постепенно улетало горячим пеплом в каминную трубу. Но прежде чем бросить какой-нибудь листок на уголья, Хайд заставлял себя проверить, действительно ли он содержит лишь те даты, имена, сообщения, которые можно будет восстановить и по другим бумагам. Смутное ощущение того, что судьба постепенно относит его из центра событий на окраину и отныне, может быть, на долгие годы ему придется довольствоваться ролью свидетеля, не оставляло его последние дни. И об руку с этим предчувствием пришла вдруг острая, чисто свидетельская жадность ко всякому письму, черновому наброску, собственной дневниковой записи, к любому документу, сохранившему отблеск последних лет.
Впрочем, предчувствие могло и обманывать его.
Он все еще оставался лордом-канцлером, и король был к нему неизменно внимателен, приветлив, доверителен.
Намечавшаяся отправка его из Оксфорда в западные графства вместе с наследным принцем была в конечном итоге поручением почетным и ответственным. «Без вас я не смогу отпустить от себя принца со спокойной душой» — так сказал ему король.
То, что роялисты западных графств нуждались в признанном вожде, было чистой правдой. И то, что пятнадцатилетний Карл при поддержке своего совета мог возглавить их, было вполне вероятным. И то, что безопасность династии требовала в данный момент от короля на время расстаться с сыном, тоже не подлежало никакому сомнению; одновременный захват их мятежниками был бы катастрофой. И все же, когда Хайд перебирал в уме остальных членов назначенного принцу совета, сомнение снова закрадывалось в его душу. Все отсылаемые на запад придворные, столь разные по характерам, по личным связям, по влиянию на наследника, сходились только в одном — они отрицательно относились к ирландским планам короля. Не это ли послужило критерием для отбора?
О, эти ирландские прожекты! Как можно было при таком ясном уме верить, что полунищие, вечно грызущиеся между собой кланы оставят свои дома и пастбища и отправятся за сотни миль спасать дело короля, который не мог дать им ничего, кроме обещаний? Как можно было надеяться на иностранцев, когда даже роялистов Корнуолла или Йоркшира нельзя было заставить сражаться за пределами своих графств? Или здесь действовала все та же несчастная, подмеченная еще Фоклендом готовность верить по преимуществу всему приятному? Не эта ли способность обольщаться пустыми надеждами погубила в прошлом месяце все их усилия на переговорах в Аксбридже? Ведь король уже уступил, уже обещал согласиться на передачу командования милицией королевства комиссарам, назначаемым парламентом; уже за общим ужином вестминстерская делегация поднимала тосты за скорое возвращение короля в Лондон. И вдруг наутро снова — надменный вид, сухой тон, отказ от всех сделанных уступок. Всеобщее ошеломление, подавленность, слухи, перешептывания. Что произошло? Оказывается, ночью пришло письмо из Шотландии, сообщающее о стычке, выигранной тамошними роялистами. И как всегда, как бывало уже много раз, подвернувшаяся соломинка выдавалась не только за поворотный пункт, но за некий знак, поданный свыше, не уступать.
И все же переговорами в Аксбридже он, Хайд, мог по праву гордиться. Любой возникавший спор ему всегда удавалось перевести на строго юридическую почву и показать своим оппонентам, что, покушаясь на права короны, они превращают себя в узурпаторов и нарушителей древнейших английских законов и установлений. Даже старый его приятель Уайтлок, не менее его искушенный в юридических тонкостях, время от времени должен был почтительно умолкнуть, не имея что возразить. Да, если бы сила всегда оказывалась на стороне права, карта английского королевства не была бы сейчас похожа на пятнистую шкуру неведомого животного, на которой король мог насчитывать все меньше пятен под своей властью. Хотя, с другой стороны, если б не было парламентских армий, стал бы кто-нибудь при дворе считаться с голосом права? Много ли с ним считались во времена Страффорда и Звездной палаты? Но нет, здесь снова начиналась та опасная цепочка мыслей, которую нельзя было, которую он не позволял себе додумывать до конца.
Он как раз кончал увязывать в пачку копии прокламаций, написанных им для короля, за прошлый год, когда вошедший слуга объявил ему о приходе лорда Дигби. Если король хотел обсудить с кем-нибудь из советников скользкий вопрос, он всегда сначала высылал на разведку своего любимца. В случае отрицательного ответа обсуждения можно было и не затевать — королевское достоинство оказывалось не задетым. Терпело ли при этом какой-то ущерб достоинство лорда Дигби, мало кого интересовало.
Они поговорили немного о печальном положении дел, 0 грозящих опасностях, о вестях с континента, о предстоящей летней кампании, о состоянии западных графств.
— Я слышал, — сказал лорд Дигби, — что там все большую силу забирают шайки так называемых дубинщиков. Они устраивают регулярные сборы, имеют своих вождей, знамена, свои запасы пороха.
— За кого же они выступают?
— Ни за кого. Просто грозят напасть на всякого, кто попытается продовольствовать армию в их краях. Головорезам нашего любезного Горинга уже несколько раз крепко от них доставалось.
— Надеюсь, что они будут последовательны и парламентским войскам устроят такой же прием.
— Все же вам следует попытаться перетянуть их на свою сторону. Люди, деньги, продовольствие — со всем этим вам будет там нелегко.
— Если б только с этим.
— Мы не должны скрывать от себя: положение может сделаться настолько опасным, что дальнейшее пребывание принца Карла на английской земле станет нежелательным.
— Да, это дело решенное. Я скорее увезу его в Турцию, чем допущу, чтобы он попал в руки мятежников.
— Его величеству было очень отрадно узнать, что вы одного с ним мнения в этом важном вопросе. Однако может возникнуть и еще более сложная ситуация. Оксфорд тоже становится не вполне безопасным убежищем. Если он будет осажден всеми парламентскими армиями в самом начале лета, у нас не будет времени собрать достаточно сил.
— Если бы каждый из нас исполнял свой долг перед его величеством до конца, о такой ситуации нельзя было бы и помыслить.
— Все это так, мистер Хайд. Но люди остаются людьми. И если положение станет очень серьезным, они испугаются, забудут о долге и начнут требовать переговоров с парламентом. В этом случае королю не останется ничего иного, как уступить.
— Думаю, те, кто больше всего кричал о беспощадности в дни побед, теперь первыми постараются выслужиться перед мятежниками.
— Вполне возможно, что одним из условий заключения перемирия будет выставлено возвращение принца Карла в Оксфорд.
— То есть добровольная сдача наследника в плен? Его величество не должен соглашаться на такое условие ни под каким видом.
— Он сам того же мнения. Поэтому я хотел бы знать, увезете ли вы принца даже и в том случае, — лорд Дигби замялся и докончил вполголоса, — если у вас… если вам будет доставлен приказ за королевской подписью и печатью о его возвращении?
Хайду показалось, будто чьи-то холодные ладони пролезли к нему в грудь и разом сжали оба легких, не давая возможности вздохнуть. Чтобы прийти в себя, он отвернулся к окну и в тысячный раз принялся рассматривать мощеный двор колледжа, где он жил все эти годы, лепной фриз, высокие трубы, пронзавшие покатую черепичную крышу, окна библиотеки напротив, в которой он провел столько часов, роясь в старинных сводах законов и судебных отчетах, отыскивая цитаты, ссылки, толкования. Самые крупные фолианты хранились там на старинный манер — прикованные цепями к тяжелым столам, и запах сухого дерева и кожи, казалось, торжествовал над самим временем.
— Милорд… — Боль в груди все не проходила, воздуха хватало лишь на короткие фразы. — Вы знаете, чего стоила мне служба его величеству. Почти все мои имения конфискованы парламентом. Я и моя семья живем только на жалованье. Вы знаете состояние казны, знаете, как ненадежен этот источник. При всяких переговорах мятежники включают мое имя первым в список тех, кому будет отказано в какой бы то ни было амнистии. Единственное, что у меня оставалось, — сознание своей правоты перед лицом любого врага и любых обвинений. Теперь меня хотят лишить и этого. Хотят, чтобы я поступил против ясно выраженной королевской воли. Чтобы нарушил прямой приказ, повинуясь секретным инструкциям. Чтобы превратился в изменника, которого не сможет оправдать никакой суд. Чтобы стал изгоем, которого безнаказанно сможет прирезать первый встречный. Чтобы семья моя лишилась даже той жалкой доли имущества, которую узурпаторы из Вестминстера оставляют на поддержание детей своих врагов.
— Мистер Хайд, прошу вас!.. — Дигби прятал глаза, делая вид, что разглядывает чеканку подсвечника. — Мне очень жаль, что мои слова так задели вас. Но поверьте, ни о каких секретных инструкциях нет и речи. Я лишь хотел узнать ваше мнение насчет такого плана. До сих пор мы обсуждали с вами любые вопросы без обиняков. В минуты опасности поневоле хватаешься то за одно, то за другое, тут уж не до разборчивости.
— Да, милорд, я все понимаю. И ответ мой остается неизменным. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы избавить принца от рук мятежных подданных его величества. Но я буду страстно молить бога, чтобы мне не пришлось ради этого нарушить прямой приказ короля, отданный во всеуслышание.
Он встал, поклонился и, не дожидаясь, когда лорд Дигби покинет комнату, вернулся к своим бумагам. Сердце все болело, он не мог работать с прежней сосредоточенностью, и за оставшиеся до вечера часы рука его бессознательно обронила в огонь несколько бумаг, о которых он впоследствии, начав свой гигантский труд, горько сожалел.
На аудиенцию, назначенную ему королем накануне отъезда, лорд-канцлер явился понурый и настороженный. Однако король был так милостиво-внимателен к нему, так многократно выражал свою веру в него и в успех его миссии, так заботливо выяснял, уладились ли его отношения с воспитателем принца, что Хайд понемногу смягчался и уже начинал думать: да не от себя ли преподнес ему интриган Дигби безумный план с секретными инструкциями? Не надеялся ли он, заручившись его согласием, впоследствии выслужиться перед королем и перед парламентом? Весь облик короля, полный печального достоинства, его спокойный, ясный взгляд, безыскусная речь настолько не вязались с возможностью того хладнокровного предательства, которое заключалось в предложении, переданном Дигби, что к концу аудиенции Хайду удалось заставить себя забыть все множество подобных же историй, случившихся с людьми, преданно служившими королю (начиная с самого Страффорда), и окончательно уверить себя, что на этот раз королевский фаворит говорил самовольно и от себя. Толчок искреннего гнева и озлобления к неприятному человеку словно подтвердил правильность его выводов и помог укрепиться в удобном «вот кто виновен».
Свита, отряд охраны, кареты советников — все уже было готово, ждало под окнами. Король обнял сына на прощанье, потом вышел на балкон, стал там с непокрытой головой. Тяжелые мартовские облака, клубясь, надвигались на последнюю полоску ясного неба. Поезд тронулся. Хайд еще раз проверил, прочно ли привязан сундук, и усмехнулся при мысли, что у него не осталось более ценного достояния, чем сотня фунтов исписанной бумаги. Что ж, пусть так. Пусть он уезжал без денег, без семьи, почти без надежд, с подорванным здоровьем (приступ подагры заставил его пересесть с седла в карету), но по крайней мере у него оставалось, к нему вернулось после разговора с королем самое важное: вера в то, что избранное служение было правильным и для него единственно возможным.
Май, 1645
«Армия Нового образца[29] под командованием генерала Ферфакса была составлена из остатков прежних армий и заново набранных частей. Не было, кажется, еще войска, которое при своем выступлении в поход внушало бы так мало надежд своим и так много презрения врагам, и которое впоследствии бы так блистательно обмануло ожидания и тех, и других. Возможно, в какой-то мере это было предопределено поведением и дисциплиной солдат. Ибо среди них не были распространены пороки, обычные для военного стана. Не было ни воровства, ни буйства, ни брани, ни божбы, так что по их лагерю прогуливаться было столь же безопасно, как по хорошо устроенному городу».
Мэй. «История Долгого парламента»
14 июня, 1645
«Сэр! Сегодня наши армии сошлись на равнине близ Нэзби. После трех часов упорного боя, шедшего с переменным успехом, мы рассеяли противника; убили и взяли в плен около 5000, из них много офицеров. Также было захвачено 200 повозок, то есть весь обоз, и вся артиллерия. Мы преследовали врага за Харборо почти до самого Лестера, куда король и укрылся с остатками войска.
Сэр, генерал Ферфакс служил вам верно и доблестно; лучше всего его характеризует то, что в победе он видит перст божий и скорее умрет, нежели припишет себе всю славу. Честные солдаты тоже исполнили свой долг в этом бою. Сэр, это преданные люди, и я богом заклинаю вас — не обескуражьте их. Я бы хотел, чтобы тот, кто рискует жизнью ради свободы своей страны, мог бы смело вверить Богу свободу своей совести, а вам — ту свободу, за которую он сражается».
Из донесения Кромвеля спикеру палаты общин
Лето, 1645
«С самого начала войны многими отмечалась разница в дисциплине между войсками короля и теми, что находились под командой Кромвеля. Хотя первый натиск королевской конницы бывал очень силен и, как правило, прорывал ряды противников, солдаты так увлекались преследованием и грабежом, что их уже невозможно было собрать для новой атаки; в то время как эскадроны Кромвеля, независимо от того, побеждали они или были рассеяны, немедленно собирались снова и в боевом порядке ожидали новых приказов».
Хайд-Кларендон. «История мятежа»
Июль, 1645
«Письма короля, захваченные в битве при Нэзби, были прочтены вслух перед большим собранием лондонских горожан, и всякий желающий убедиться в их подлинности мог брать их в руки и рассматривать почерк короля. Много честных людей было возмущено тем, что открытые заверения короля так расходились с его подлинными намерениями. Из писем стало ясно, что было у него на уме, когда он приступал к мирным переговорам. Хотя на словах он всегда объявлял себя защитником своих подданных и протестантской религии, в письмах он призывал герцога Лотарингского, французов, датчан, даже ирландцев вторгнуться в страну с вооруженной силой, чтобы оказать ему помощь».
Мэй. «История Долгого парламента»
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Против лордов и пресвитериан
Декабрь, 1645
Лондон, Бишопсгейт
— Мистер Джон! Сэр, вы слышите меня? Ваш ленч остывает во второй раз. Подполковник Лилберн, спуститесь вы или нет?
Голос Кэтрин взлетал вдоль лестничных перил и проникал сквозь тонкую дверь мансарды почти неослабленным, донося все необходимые интонации — обиду, возмущение, насмешку и, главное, обещание бесконечного упорства в этих ежедневных приставаниях.
Вечером или ранним утром Лилберн обычно уступал и спускался на ее крики. Но пожертвовать хотя бы одной минутой дневного света — такого он не мог себе позволить. С тех пор, как год назад наконечник пики ударил его в скулу под самой глазницей, зрение его становилось все хуже и хуже. Практически он видел уже только одним глазом, и то с трудом. Печатник же Овертона набирал памфлеты таким мелким шрифтом, что и при дневном свете его оттиски он мог разбирать лишь при помощи лупы. Вот и теперь целая строка на пробном листе так заплыла типографской краской, что, лишь найдя это место в своей рукописи, он смог понять смысл слов: «…их существование несовместимо с миром, богатством и процветанием государства».
Работа его непомерно разрослась. Он сам чувствовал это, но не мог остановиться. А ведь поначалу ему казалось, что можно будет уложиться страниц в двадцать — обычный объем его памфлетов. Нужно было только выделить из всей сумятицы, брани, клеветы, арестов, интриг, допросов, которыми оказался заполнен для него весь прошедший год, самые основные события и связать их ясной логической цепью. И начать следовало прямо с того момента, когда его вызвали объясняться по поводу напечатания письма к Принну. («Сэр, вы и я приняли страдания от рук прелатов, и глаза народа божьего были на нас…»). Тогда он еще не чувствовал серьезности угрозы, не понимал глубины разбуженной им ненависти. Он знал многих среди сидевших перед ним в комитете расследований, знал их мелкие слабости, ограниченность, корысть, любовь к почестям, вернее, к почтительности и старался не раздражать по мелочам. Так или иначе, они были верными слугами парламента, соратниками его в небывалой борьбе с королем — он не мог увидеть в них врагов… Даже тогда, в июле, когда он привез им из-под Лангпорта сообщение о крупной победе армии Нового образца над Горингом и увидел их скисшие физиономии, он, в своем ослеплении успехом общего дела, не мог оценить, до какой степени дошел их страх перед всем, что они клеймили индепендентством. Но когда неделю спустя за ним прислали стражников, привели, недоумевающего, в комитет и спросили, правда ли, что он, Лилберн, обвинял спикера палаты общин в пересылке 60 тысяч фунтов в Оксфорд врагу, — вот тут, в это самое мгновение, он понял, какая пропасть лежит между ним и ими. Здесь проходила черта, которой они сами не замечали, но заходить за которую в потакании их слепоте он не мог.
Это был ключевой момент, и его надо было описать подробнее всего. Надо, чтобы читатель понял: он отказался отвечать «да» или «нет» не потому, что испугался нелепого поклепа, не потому, что растерялся и хотел оттянуть время, улизнуть. «Никто не может быть обвинен в каком-либо преступлении иначе как по суду, в соответствии с общим законом страны; никто не может быть понуждаем к даче показаний против самого себя». Четыре века назад это право всякого англичанина было внесено в «Великую хартию вольностей». Но правильно говорил Уолвин:[30] «Великая хартия» давно превратилась бы в клочок пергамента, если бы тысячи людей за эти четыре века не жертвовали своей кровью, безопасностью, жизнью за отвоеванные в ней права. И он, Джон Лилберн, свободнорожденный англичанин семнадцатого века, не колеблясь, готов был продолжить собою их ряд. Ему ничего не стоило ответить на допросе чистую правду: «Клянусь, я не обвинял спикера Лентала в пересылке денег в Оксфорд», — и спокойно вернуться домой, на Бишопсгейт. Членам комитета расследований на этот раз ничего другого не было нужно — лишь припугнуть крикунов, восстановить шатающийся авторитет палаты. Но то, что он вообще отказался отвечать, не укладывалось в их головах. Они не пожелали видеть в этом защиту законности, а лишь дерзость, вызов, покушение на их власть, провокацию. И отправили его в Ньюгейт.
Тюрьма была как тюрьма, не хуже Флитской, не страшнее Оксфордской. Тюремщики как будто даже помягчели, не грабили без меры, а к нему вообще относились с некоторым почтением, допускали друзей и Элизабет на свидания чуть не каждый день. Но все равно, такого чувства горечи он не испытывал ни в одной из прежних камер. Там было просто: он попал в руки врагов и был готов принять самое худшее, не прося пощады. Но отправиться за решетку по приказу парламента! Для него это было все равно что оказаться преданным собственным отцом. Всю жизнь для него слова «парламент» и «закон» были неразрывны. И тут ему объявляют: не закон над нами, но сами мы, создатели закона, — над ним и слугами его быть не можем. А в довершение всего становится известно, кто оклеветал его. Доктор Баствик.
Итак, семь лет назад он чуть не расстался с жизнью ради этого человека. Теперь получил от него в благодарность донос. Хорошо еще, что у автора «Литании» недостало злобы и наглости выступить открытым обвинителем, когда дело дошло до суда. «Мистер Лилберн, — заявил ему судья с плохо скрытым разочарованием, — против вас нет никаких формальных обвинений». Им не оставалось ничего другого, как выпустить его.
Не успел он выйти на свободу, как получил два ушата грязи, оскорблений, клеветы. Первый — от Принна, под названием «Разоблаченный лжец», второй — от того же Баствика. Оба памфлета лежали на его столе и только что не дымились. Его объявляли вечным смутьяном, раскольником, запевалой индепендентов, главарем сектантов, сеятелем анархии. Наконец-то он осознал всю меру их ненависти. Теперь он был готов ко всему. Его тайный издатель, Овертон, заходил вечерами, с наступлением темноты, и уносил написанное наборщику партиями. В случае внезапного ареста хотя бы часть работы будет спасена.
Под лестницей снова раздались женские голоса, потом шаги, скрип ступеней. Элизабет открыла дверь, подошла к столу, присела и, отодвинув локтем бумаги, поставила на освободившееся место поднос — хлеб, ветчина, чашка бульона. Когда он поднял глаза, она держала в руках листок пробного оттиска и взглядом спрашивала: «Можно?». Он кивнул и вернулся к работе, но сосредоточиться не мог, ждал, не скажет ли чего. За те два месяца, что он провел в тюрьме, она и сама замешалась в памфлетную войну: выпустила с помощью Овертона анонимную «Пилюлю для доктора». Написано было слабо, сумбурно, но все равно он был тронут. По отношению же к чужим писаниям ее чутье на фальшивый тон, на пустое бряцание словами оказывалось безошибочным. Несколько раз ему уже доводилось краснеть от ее замечаний. Пухлые губы сходились и расходились во время чтения, голова согласно кивала. Потом она отложила листок и, на минуту прижавшись к его темени щекой и погладив по волосам, вышла, так и не сказав ни слова.
Он вздохнул, отхлебнул бульона и снова взялся за лупу.
«Я свободный человек, да, свободный английский гражданин, и с мечом в руке на поле брани я проливал кровь и рисковал жизнью для защиты своих прав, и я не знаю за собой ни одного поступка, который давал бы вам основание лишить меня этой свободы и всех наследственных и врожденных прав, дарованных нам „Великой хартией вольностей“».
Сколько раз уже доводилось ему слышать упреки, что в своих статьях он слишком много говорит о себе, слишком часто подменяет анализ политического положения в стране бесконечными рассказами о собственных страданиях. Он слушал такие упреки, вздувая желваки, хотя внутренне соглашался и просто ничего не мог с собой поделать. Вот и теперь он не сумел вовремя поставить точку. История его последней схватки с пресвитерианами занимала лишь первые двадцать страниц. То, что следовало дальше, было похоже на раздерганное жизнеописание, захватывающее даже школьные годы. Описание стычки с Манчестером, оборона Брентфорда, свары в Линкольне зимой 1644-го, выход в отставку (не мог же он служить в армии, которая требовала от всех офицеров клятвы верности пресвитерианству), разбирательства в парламентских комитетах, где он пытался получить хотя бы частичную компенсацию, а председательствовавший Принн издевательски предлагал ему поклясться, что его расчеты верны, и вдруг снова прыжок назад, к временам заключения во Флитской тюрьме, когда он однажды, заподозрив покушение на себя, забаррикадировался в камере, — все это теперь катилось перед его глазами беспорядочной, горячечной сагой, набранной мелким шрифтом на семидесяти страницах. Тут и там торчали вставные документы: его петиции в парламент и лорд-мэру, резолюции комитетов, расписки, письмо к парламенту от Кромвеля в поддержку его требований («…горько видеть, как человек теряет все свое состояние, отдаваясь беззаветной борьбе за общее дело, и как мало людей принимает это близко к сердцу»).
— Дорогой Ричард, это невозможно! — Он с грохотом отодвинул стул и пошел навстречу входившему в дверь Овертону. — Вы гоните меня, не даете передышки, я не могу сосредоточиться. Это нельзя печатать в таком виде. Кто станет читать подобную мешанину? Я должен урезать все на три четверти. И предупреждаю: мне понадобится на это не меньше недели.
— Воля автора — святыня, закон. Как прикажете поступить с первой половиной, которая уже отпечатана? Сжечь? продать на обертки? Вы, очевидно, добыли денег, чтобы оплатить бумагу и расходы печатника. Но почему именно неделя? Вам твердо обещали, что за это время пристав со стражниками не постучат рано утречком в вашу дверь?
Овертон расхаживал по узкой мансарде со шляпой в руке. Вся его сухощавая фигура, казалось, была составлена из островытянутых треугольников, больших и маленьких, прочно сочлененных друг с другом в коленях, шее, локтях, запястьях. Некоторые фразы он сопровождал быстрыми, ироничными полупоклонами.
— К слову сказать, мне удалось, кажется, выяснить подоплеку вашего летнего ареста. Все, что они взвалили на вас, лишь довесок. Главное, им срочно нужно было нанести контрудар.
— Кому?
— Индепендентам. За две недели до вас парламент осудил рьяного пресвитерианина за клевету на Генри Вена и Сент-Джона.[31] Знаете, что он получил? Две тысячи фунтов штрафа и пожизненный Тауэр. Можно представить себе панику пресвитериан. Они искали, куда бы ударить побольней в ответ, и выбрали вас.
— Но я почти не связан ни с кем из ведущих индепендентов. К Сент-Джону я вообще отношусь с недоверием.
— Вы действуете на свой страх и риск — тем хуже. Кто нападал на Манчестера? Кто ведет процесс против полковника Кинга? Кто привел в Вестминстер свидетеля против Холлеса? Каждый месяц, проведенный вами в тюрьме, — важная передышка для всех этих джентльменов. И вы еще хотите, чтобы в подобной ситуации я дал вам неделю на переделки.
— Когда я читаю трактаты Мильтона,[32] я упиваюсь каждой фразой. Памфлеты мистера Уолвина я могу перечитывать по нескольку раз, даже те, которые кажутся мне слишком мягкими. У вас — бесподобная ирония. Свои же собственные писания мне хочется переделывать и переделывать.
— Мильтон — поэт. Над мистером Уолвином еще не висит дамоклов меч, как над вами, он печатается почти всегда анонимно. Но дело не в этом. Я давно хотел сказать вам… Вы позволите мне присесть?
— О, ради бога. Дайте-ка вашу шляпу, я повешу ее на ту стену, где потеплее. Тут проходит каминная труба.
— Мистер Лилберн, мне понятны ваши сомнения, но я не разделяю их. Поверьте, никто не стал бы читать вас, если б вы действительно писали только о себе. На самом же деле вы пишете о судьбе некоего английского гражданина — нашего современника. Чистая случайность, что его зовут Джон Лилберн и что вы знаете его, как самого себя. Важно другое: что он за всю жизнь ни разу не стерпел молча, как многие другие, ни единого покушения на свою свободу и прирожденные права. Что он кидался защищать их своею кровью, своим пером, мечом, собственной шкурой, наконец. Поэтому все, что происходило с таким человеком, важно до последней мелочи. Бы сами убедитесь в этом, когда памфлет начнет расходиться в тысячах копий. Кстати, что с названием?
— Пусть останется прежнее — «Невиновность и правда».
— Прекрасно. Я бы запустил что-нибудь поострее и потерял бы на этом половину серьезных читателей. А терять их для нас сейчас так же опасно, как ронять себя в мнении присяжных, когда речь идет о жизни и смерти. И право, что нынче происходит с вами, как не великая тяжба? Враги выступают с обвинениями и клеветой, вы произносите защитительную речь, но состав суда уже не ограничен палатами парламента. Весь народ! Да, весь народ должен выступить судьей в нашем споре. И он хочет знать ваше дело досконально. А дело ваше — вся ваша жизнь. Поэтому я настаиваю: пусть останется все, как есть, вплоть до записки вербовочного комитета о вашем переводе в кавалерию, хоть документ этот и не первостепенной важности.
— Ричард, Ричард… Я знал, что ваш язык умеет жалить, как оса, но не подозревал, что он может быть так медоточив. — Лилберн усмехался, качал головой, но при этом было заметно, как он польщен. — Берегитесь, я могу подвергнуть вашу терпимость и снисходительность ко мне такому испытанию, которого они не выдержат.
— Получите укус осы, только и всего.
— Вот прочтите, — Лилберн протянул ему пачку листов тем отбрасывающим, досланным до конца жестом, по которому близко знавшие его сразу опознавали изрядную степень волнения. — Я бы хотел это вставить вместо эпилога. Что скажете?
Овертон жадно схватил листки, придвинулся к окну. Крутой скат заснеженной крыши напротив лил в мансарду остатки дневного света. Две кошки крались по карнизу, время от времени заглядывая вниз, в уличную черноту. Лилберн зажег свечу, потом еще одну. Ему не было нужды всматриваться через плечо Овертона, обновлять в памяти текст — он сам переписал его прошлой ночью, когда решил, что будет печатать. Это было давнишнее письмо, переправленное им для Элизабет из Флитской тюрьмы. «…Дорогой и любимый друг, когда вы пишете, что при воспоминании обо мне слезы радости текут по вашим щекам…»
— Все же самое поразительное в этой истории — что вы остались в живых. Забаррикадироваться в собственной камере, выдерживать осаду! Вы бы могли составить полезное руководство для всех нынешних и будущих заключенных — «Как выжить в одиночке». А Принн напишет в ответ руководство к созданию абсолютно смертельной камеры.
— Ричард, не зубоскальте. Дело серьезное, и я хотел знать ваше мнение. Отрывок… письмо… С одной стороны, оно представляется уместным, но, с другой, барка и так перегружена. Этот тюк на двадцать страниц может окончательно пустить ее ко дну.
Овертон наконец соизволил заметить, в каком состоянии его собеседник, но сделал вид, что и сам он полон сомнений.
— Конечно, это продолжение саги о ваших страданиях. Вернее, начало, вставленное в конец. И это та самая тюрьма, в которой вы оказались, защищая нынешних своих гонителей. Это важный кусок вашей жизни, и я считаю, что он тоже должен быть представлен присяжным. Однако мне сдается, что главная причина, по которой вы хотите вставить письмо в памфлет, другая.
Он вдруг зашел за стол и упер оттуда в Лилберна прямой и острый взгляд из-под треугольничков бровей.
— Главная причина в том, что в вас уже нет такой возвышенной любви и такой пламенной веры, как раньше. Их вытеснила другая страсть, но вы по привычке цепляетесь за те, прежние, и хотите то ли воскресить их, то ли увековечить в печати, пока пресвитериане не покончили с вами окончательно. Вы уже не можете найти в душе былых чувств и решили по крайней мере воспользоваться былыми словами. Не вижу в этом ничего дурного.
— Замолчите! К дьяволу вашу хваленую проницательность, Ричард. Вы воображаете, что видите каждого человека насквозь, но уверяю вас — только на уровне своего носа. Дайте сюда письмо и не смейте никому рассказывать о нем.
Лилберн грохнул кулаками по столу и тут же выбросил их вперед растопыренными, требовательными пятернями. Но Овертон уже пятился к дверям, поспешно складывая листки и запихивая их за борт камзола.
— Не надо горячиться, подполковник, не надо спешить. Наберем, сделаем пробные оттиски, прикинем туда-сюда… — Он схватил шляпу и, наполовину исчезнув, докончил негромко и очень серьезно: — Единственное, чего я боюсь, — моя Мэри, прочитав, изгрызет меня за то, что ни разу в жизни не получила от меня подобного письма.
Март, 1646
«Даже если бы мне была предоставлена власть над всем миром, я бы согрешил, пытаясь в вопросах религии пойти дальше, нежели мягкое и дружеское разъяснение основ истины, пользы и добра. Пресвитериане оскорбляют всю нацию, утверждая, что дело реформации должно быть завершено за счет уменьшения человеческой способности суждения, за счет сведения религии к единообразию, в то время как главная задача состоит в уничтожении прелатско-папистского духа преследований за религиозные убеждения».
Уолвин. «Шепот в ухо мистера Эдвардса»
Апрель, 1646
«Сэр Томас Ферфакс осадил Оксфорд, но король, переодевшись, бежал оттуда. Некоторое время о нем ничего не было слышно; потом пришло известие, что он объявился в лагере шотландцев и отдал себя в их руки. Совершил ли он это под влиянием дурных советов, или судьба вела его — так или иначе, решение оказалось пагубным для него; ибо, если бы он отправился прямо в Лондон и внезапно предстал перед обеими палатами, он бы, по всей вероятности, погубил их — так велика к тому времени была распря между пресвитерианами и индепендентами. Но предпочтя сдаться на милость шотландцев, он явил перед всеми такое закоренелое озлобление против английского народа, что отвратил от себя многие сердца».
Люси Хатчинсон. «Воспоминания»
11 июня, 1646
Лондон, Виндмилская таверна
— Итак, господа военные, вы все же упустили его.
— Помилуйте, мистер Уолвин, если мы чего и боялись, так лишь того, что он попадется нам в руки. Что бы мы стали с ним делать? Поставьте себя на наше место. Что? Опуститься перед ним на колени? Целовать руку? Спрашивать повелений? Или посадить на первый попавшийся корабль и отправить куда-нибудь подальше? Или просто засунуть за решетку, как обыкновенного преступника?
Уолвин не спеша потянулся к кувшину с пивом и при этом незаметно оглянулся на нижние столики — слышат там или нет. Они сидели у самого окна на возвышении, отгороженном от остального зала деревянным барьером с резными колонками. Таверна была полна в этот час, и косые столбы солнечного света все гуще наливались табачным дымом. Хозяйка стояла у дверей кухни и короткими кивками рассылала своих подручных туда, где терпение посетителей, как ей казалось, готово было истощиться. Кое-кто из завсегдатаев время от времени, не чинясь, сам подходил к стойке с пустой кружкой, продолжая орать что-то в сторону собеседников, оставшихся за столом. К общему гвалту добавлялись звуки арфы, которую безжалостно щипали в углу две подвыпившие дамы.
— Проиграв все на поле боя, его величество, несомненно, попытается теперь что-нибудь отыграть на нашей распре с пресвитерианами, — сказал Уолвин, запуская руку с платком под седеющие пряди волос, закрывавших полную шею. — Кстати, дорогой Уайльдман, вы тогда были еще при штабе. Расскажите, как там приняли известие.
— Что касается самого Ферфакса, то он человек замкнутый и не любит обнаруживать своих чувств. Остальные же открыто выражали озлобленность и тревогу. Больше всего боятся, что король примет Ковенант, возглавит шотландцев и заключит союз с пресвитерианами. Тогда можно смело сказать, что вся кровь в этой войне была пролита зря.
— Пресвитериане здесь больше всего боятся обратного союза короля с индепендентами. Нас обвиняют в том, что мы давно вели тайные переговоры с Оксфордом.
— Но это же клевета!
— Страх ослепляет. Кроме того, с чисто объективной точки зрения такой союз даже более вероятен. Индепенденты, отстаивая свободу вероисповедания, не покушаются по крайней мере на англиканскую веру короля.
— А командование армией?
— Этого не уступят ему ни те ни другие. Да и смешно было бы с его стороны настаивать на сем пункте, находясь фактически в плену у своих почтительных подданных. Другое дело — управление церковью. Похоже, что он крепко усвоил любимую поговорку своего отца: «Нет епископа — нет короля».
— Довольно трудно отстаивать епископов, когда у тебя не осталось ничего, кроме двух-трех гарнизонов, запертых в дальних крепостях.
— Вы недооцениваете силы роялистских настроений. Причем не только среди знати. Для многих темных и бедных людей возвращение монархии означает возвращение к тем временам, когда не было разорительных налогов на содержание армии. Даже в данную минуту мы с вами тратимся на армию, переплачивая вдвое за это пиво. Так что у короля есть достаточно оснований продолжать свои интриги, тянуть время и ждать, когда враги его истощат силы во взаимной борьбе.
Уолвин выговаривал слова не спеша, часто сопровождая их скользящей полуулыбкой, собиравшей у глаз пучки тонких морщин. Было заметно, что, несмотря на грозную серьезность обсуждавшихся вопросов, он получал большое удовольствие от самого процесса обсуждения их, от точного отливания мыслей в слова, так же как и от вкуса прохладного пива и жареных говяжьих мозгов под ореховым соусом, и от всей атмосферы оживленного возбуждения, царившей в таверне. Уайльдман, наоборот, явно тяготился его неспешной манерой и сам говорил подчеркнуто быстро и отрывисто, словно спеша наверстать время, упущенное собеседником. Пышные, до плеч, волосы и полувоенный наряд привлекали к нему любопытные взгляды.
Какой-то человек, в расстегнутой рубахе, с корзиной на плече, пробрался между столиками и что-то негромко сказал хозяйке. Та кивнула и, колыхаясь, повела его за собой к резному барьеру.
— Мистер Уолвин! Принесли ваших цыплят.
— Благодарю, мой друг, благодарю вас. Сколько я вам должен? Держите. И передайте хозяину, чтобы завтра прислал столько же.
Он принял через барьер корзину, затянутую мешковиной, и поставил ее под стол. Слабый писк добавился к общему шуму. Уолвин не глядя запустил вниз руку, извлек из корзины тонкую брошюру и подвинул ее через стол Уайльдману:
— Это то, что я вам обещал. Там три пачки по пятьдесят экземпляров. Было бы очень славно, если б вы могли дать крюк и завезти одну из них в полк Роберта Лилберна, брата автора. Цыплят съешьте за мое здоровье или выкиньте — как пожелаете.
Уайльдман раскрыл брошюру и, не таясь от зала, впился глазами в неряшливый шрифт.
— «Оправдание справедливого»? Я прочел уже по вашему совету «Невиновность и правда» и должен сказать, что, несмотря на рыхлость, оторваться невозможно. Прекрасный пример того, как искренняя страсть может заполнить провалы в логике.
— О, эта совсем в другом тоне. По виду — жалоба главе суда прошений. По сути — горький укор всей системе нашего судопроизводства. Дайте-ка на минуту… Где это?.. Ага, вот: «Когда я наблюдаю практику судов в Вестминстере, со всеми неясностями, увертками, латынью, трескучими адвокатами, волокитой, потайными входами и выходами, я склоняюсь к убеждению, милорд, что практика эта не от бога и его закона, не от закона природы и разума, даже не просто от разумных и честных людей, а от дьявола и от воли тиранов». Упростить законы, перевести их на английский язык, учредить в каждом графстве суды присяжных и выездные сессии высших судов — без всего этого мы действительно никогда не покончим с произволом местных властей.
— На что тогда нужны будут судейские, если всякий человек сможет сам читать, понимать и толковать законы? Попомните мое слово — на него поднимется шип, как из разворошенного змеюшника.
— Если б еще только это. Я вас прошу внимательно прочесть четырнадцатую страницу. Как о чем-то само собой разумеющемся там говорится о вещи, по чести говоря, нами забытой. Мы так поглощены борьбой против власти короля и епископов, за власть парламента, что забываем спросить себя, в чем же вообще источник всякой власти в государстве. И здесь это впервые написано черным по белому: источник всякой власти — народ.
В ходе разговора Уолвин еще раз запустил руку в корзину, извлек оттуда сразу примолкшего цыпленка и теперь кормил его с ладони хлебными крошками.
— То, что для короля подобная идея всегда будет выглядеть абсурдом, само собой разумеется. Но с грустью следует признать, что и большинство членов нашего парламента изумятся и вознегодуют, если им сказать, что они не повелители народа, а слуги его. Верхняя палата вообще сочтет это за оскорбление. Вы заметили, как мелочно-строптиво она ведет себя последние месяцы? Сколько уже биллей, проведенных индепендентами в общинах, было отклонено лордами. Если так пойдет и дальше, мирное устроение государства снова сделается невозможным.
Он хотел еще что-то сказать, но тут взгляд его упал на деревянную решетку. Две тонкие руки сжимали точеные столбики, и закинутое женское лицо смотрело на него сквозь них, беззвучно шевеля полными губами.
— Миссис Лилберн?! Боже правый, что случилось? Подождите минуту, я сейчас.
Он вскочил и с проворством, неожиданным для всей его неспешной манеры, сбежал по ступеням, взял Элизабет за талию и повел ее вверх. Она никак не могла отдышаться, виновато кивала и показывала рукой на горло. Платье ее сильно круглилось на животе, и пятна под скулами после бега проступали особенно резко. Хозяйка таверны незаметно оказалась рядом, помогла довести ее до столика.
— Господь всемогущий, что еще стряслось? — приговаривал Уолвин. — Только сначала сядьте и придите в себя. Это друг, мистер Уайльдман. Да-да, вы слышали о нем. Выпейте немного. Пиво слабое, оно не повредит ни вам, ни младенцу. Уж поверьте отцу одиннадцати детей, как-никак, у меня есть опыт в этих делах. Ну, итак? Мистер Лилберн, да? Что-нибудь с ним?
— Ну да, конечно… С кем еще в нашем доме может что-нибудь случиться? Только с ним. — Элизабет убирала выбившиеся из-под чепца волосы и одновременно отирала пот со лба, щек, висков. — Утром они явились втроем, словно за каким-то опасным бандитом, и подняли такой стук, что Джон-маленький проснулся на втором этаже, а я, скажу вам по чести, чуть не выкинула от испуга. Джон им открыл, я тоже выглянула с лестницы. Офицер и двое стражников, приказ от палаты лордов: явиться к их светлостям сегодня же, дать объяснения по поводу памфлета. Ну, ясное дело, этого самого, что юный джентльмен держит в руке.
— А им-то он чем не по нутру? — всплеснула руками хозяйка.
— Милая матушка Вильямс. — Уолвин для пущей убедительности притянул ее за локоть. — То место в памфлете, где говорится о зловредных капелланах графа Манчестера, затуманивших ясность его взгляда на подчиненных, кажется вам образцом деликатности после всего, что вам приходится слышать здесь в таверне. Для их сиятельств то же самое место — прямое оскорбление спикера их палаты, покушение на привилегии, призыв к бунту.
— Экие чувствительные.
— Вы же знаете Джона, — продолжала Элизабет. — Он может взорваться от любого пустяка, но тут он вел себя поразительно. Вежливый, спокойный тон, каждое слово взвешивает, как ювелир — золотой песок. «Да, сэр, я явлюсь, но мне бы не хотелось быть неверно понятым. Я соглашаюсь прийти не потому, что считаю такой вызов законным, а из личного уважения к лордам и из благодарности за оказанную мне помощь». Хороша помощь, скажу я вам! Пять лет они не могли взяться, наконец проголосовали вернуть нам штраф, наложенный еще Звездной палатой. Но до сих пор из двух тысяч фунтов мы не получили ни шиллинга.
— И офицер ушел?
— Да, поверил на слово и стражников своих увел. А Джон сразу же пошел писать письменную протестацию лордам. Он так теперь начитался Кока,[33] что в знании законов может заткнуть за пояс самого верховного судью. И так убедительно он им там доказывает, что они не имеют права вызывать и судить никакого английского гражданина, а только самих себя, что я думала…
— Вы думали, что лорды поймут, застесняются и извинятся перед ним?
— Вроде бы я не очень похожа на наивную дурочку, мистер Уолвин. Я только хотела вам объяснить, насколько Джон владел собой. Ведь он не сразу отправился в Вестминстер, а зашел сначала домой к одному из членов палаты лордов, с которым они знакомы по армии, чтобы предупредить, что не будет отвечать на их вопросы. Что, если они хотят обвинить его в чем-то, пусть действуют через обычный суд, а так из их встречи ничего, кроме скандала, не выйдет. И вот он ушел из дома утром, а сейчас прибежал верный человек и сказал, что своими глазами видел, как его вводили в Ньюгейтскую тюрьму. Да нет, миссис Вильямс, я не плачу, но посудите сами, не обидно ли рожать и второго ребенка в тот момент, когда отец его за решеткой.
За время ее рассказа вокруг их столика собралось еще человек десять, теперь подходили новые, тихо спрашивали, что произошло. Тревожная весть быстро облетела таверну.
— Я вам скажу, миссис Лилберн, кого мне напоминает ваш муж. — Уолвин сделал паузу и обвел взглядом лица собравшихся. — Он похож на капитана самого отчаянного брандера, который при виде врага начиняет себя порохом и в одиночку летит на всех парусах прямо навстречу неприятельскому флоту.
— Причем нацеливается, как правило, на флагманский корабль, — вставил Уайльдман.
— Но поверьте, он не останется одинок. Честные люди сумеют оценить его мужество и придут на помощь. Помните, год назад его не смогли продержать в заключении больше двух месяцев. Теперь же его известность так возросла, что их сиятельства еще горько пожалеют о содеянном. Не будем терять времени. Мистер Уайльдман, вы проводите миссис Лилберн домой? Мне нужно срочно повидать кое-кого. Тогда, я думаю, уже завтра мы получим вести от нашего друга.
Он поднялся, кивнул головой двоим из собравшихся, приглашая их следовать за собой, и быстро пошел к дверям. Остальные расходились по залу, заметно посерьезнев и протрезвев, к ним кидались с расспросами. Уайльдман, держа в одной руке корзину, другой сводил Элизабет по ступеням. Забытый цыпленок с жалобным писком бродил по столу среди полупустых кружек, ореховый соус тянулся за ним по скатерти цепочкой извилистых следов.
Июнь, 1646
«Не будем же обвинять мистера Лилберна за избыток мужества, а скорее себя — за недостаток его. И если дело этого достойного джентльмена затрагивает лично меня, как любого человека, который сегодня ходит на свободе, а завтра окажется в Ньюгейте, коли это заблагорассудится палате лордов, то не затрагивает ли оно также и весь народ Англии? Не ставит ли оно его перед выбором: либо сунуть голову в это рабское ярмо, либо крепко задуматься о том, какими средствами быстрее и надежнее всего можно было бы освободить от него как себя, так и последующие поколения».
Уильям Уолвин. «Справедливый в цепях»
Июль, 1646
«Сэр, я свободнорожденный англичанин и, следовательно, не гожусь в рабы или вассалы их сиятельствам лордам. Я также человек, приверженный миру и покою, и желал бы не нарушать их, если только меня не вынудят к этому. Но бежать на цыпочках к свидетельскому барьеру их сиятельств было бы равнозначно для меня предательству своих прирожденных прав. Сэр, конечно, вы можете применить ко мне насилие и притащить меня из камеры на их суд силой, но я дружески советую вам со всей рассудительностью обдумать такой шаг, прежде чем вы решитесь совершить непоправимое».
Джон Лилберн. Из письма смотрителю Ньюгейтской тюрьмы
11 июля, 1646
Лондон, Ньюгейт и Вестминстер
Шляпа была как будто нарочно для такого случая. Тулья ее держалась на гибких пластинах из китового уса, которые быстро — хоть садись на нее, хоть спи на ней, хоть топчи ногами — возвращали ей правильную форму. Лилберн отвернулся лицом к стене, расстегнул камзол и запихал шляпу на живот, под пояс. Дверь камеры он задвинул столом еще с вечера и две ножки стола опустил в щербины в полу, которые сам же и расковырял железным гребнем. Нехитрый прием, но заставит их повозиться не меньше, чем в прошлый раз. Внутренний засов у него сняли еще в июне, когда им пришлось взламывать дверь, чтобы тащить его на первый допрос к лордам.
«Свобода свободному» проняла их тогда довольно крепко. На лицах было написано презрение, злоба, настороженность, но только не то высокомерное равнодушие, которое они так любили напускать на себя. Манчестер — тот вообще вел себя не как спикер палаты, а как бедная жертва клеветы, пришедшая просить защиты. Что ж, сегодня он тоже не собирался щадить их; они сами спровоцировали его на борьбу, теперь должны почувствовать, что кресла давно трясутся под ними.
— Мистер Лилберн! Эгей! Долговязый Джон, где ты там? Покажись-ка, тут кое-кто хочет перемолвиться с тобой словечком.
Он подошел к окну, выглянул во двор тюрьмы. Утренняя муть висела в воздухе, подсвеченная наверху солнцем, и двигалась так лениво, будто еще прикидывала, обернуться ли ей дождем или так и остаться влажной, постепенно разогреваемой духотой. Крик донесся снова. Лилберн понял, что кричат не со двора, а из окна напротив. Какой-то небритый проходимец махал ему просунутой сквозь решетку рукой, строил гримасы, посылал воздушные поцелуи. Потом лицо его пропало, за прутьями мелькнул женский чепец, и родной голос, полный ликования и испуга, прорезал сумрак двора:
— Джо-о-о-он!
— Лиз?! Что ты там делаешь, боже правый?
Лилберн вцепился в прутья и пытался растянуть их в стороны. Поврежденный глаз уже отказывался служить ему на таком расстоянии, да и здоровый неожиданно налился слезой, видел как сквозь туман.
— Я все-таки прошла, видишь! Они не пускают к тебе никого, но я узнала, кто сидит в камере напротив твоей, и назвалась женой этого джентльмена. У него их, похоже, так много, что одной больше, одной меньше — разница невелика.
— Элизабет, слушай…
— Это такой простой трюк, я даже не надеялась, что мне удастся.
— Элизабет, они все же потащат меня на свой фарсовый суд. Как раз сегодня. Ты успела очень вовремя.
— Боже, сегодня? Еще бы несколько дней! Ты не представляешь, какой крик поднялся в городе в твою защиту. Распечатана прокламация, тысячи подписей. Памфлеты так и летают из рук в руки, куда ни глянь. «Справедливый в цепях!», «Жемчужина в навозной куче!» Их рвут из рук. Жемчужина моя, ты сейчас знаменитей, чем генерал Ферфакс.
— Лиз, а ты-то как? Как младенец? Скоро ему на свет? Говори скорей, а то они, кажется, уже идут за мной.
— Джон, не бойся за меня. Это главное, что я хотела тебе сказать: за меня не бойся. Все помогают мне, да и у самой сейчас столько сил! Я прошу, и мне дается, прошу — и дается. И вместе с силами — радость. Кэтрин ругает меня бездушной за то, что я почти не плачу, но ты-то поймешь. Ты ведь сам мне рассказывал про такое. Будто вылетаешь из собственного тела, и только ветер свистит в ушах, и ничто-ничто уже не может тебя достать. Джон, я хотела, чтоб ты знал: я счастлива тобой. Слышишь? Все равно счастлива!
— Лиз! Мой столик трещит! Они сейчас ворвутся. Но я не дам им потачки. Так и скажи всем в Виндмилской таверне. Их власть держится лишь до тех пор, пока мы ее сносим. Пусть друзья шумят, пусть протестуют, но только пусть не просят пожалеть и помиловать бедного, израненного подполковника. Если они решатся сегодня…
Последние его слова были уже почти не слышны из-за грохота. Наконец ножки стола подломились, дверь распахнулась — он услышал топот сапог, почувствовал цепкие чужие пальцы на своих плечах, локтях, ногах. Его рванули, голубой квадрат зарешеченного окошка перевернулся в глазах, голова больно ударилась о пол.
Потом волокли по коридору.
Потом вниз по лестнице, на улицу, в повозку — лицом в солому.
Какая-то улюлюкающая компания, человек в сорок, окружила его и конвойных, двинулась рядом, впереди, сзади.
Сначала он не мог понять, куда его везут, не узнавал улиц. Почему не выезжают на Стрэнд? Почему эта отчаянная братия, которую уже кто-то подпоил с утра, вопит что-то о скучающем палаче и веревке под Тайбернскими воротами? Потом догадался: боятся. Боятся толпы, возмущения, свалки и везут в объезд, на Тайберн, словно обычного вора. Довольно громоздкий спектакль.
От соломы нестерпимо несло навозом и гнилью, голова гудела.
Он перевернулся на спину, вытер лицо, протянул поудобнее ноги. Какая-то старушка, высунувшись из окна верхнего этажа, грозила ему сухоньким кулачком. Полоскалось на веревках белье, голуби толклись на карнизах. Перемазанный сажей человек полз по черепице, держась за веревку, привязанную к каминной трубе. Стражник, сидевший на краю повозки, что-то сказал вознице, тот подобрал вожжи — колеса застучали реже. Видимо, подсудимого велено было доставить к определенному часу, не раньше, не позже; а то, чего доброго, у друзей его хватит наглости устроить сборище прямо под окнами Вестминстера.
Первое, что бросалось в глаза входящему в Расписную палату, было обитое алым бархатом пустое кресло, стоявшее посредине, сверкавшее золотым шитьем и шляпками мелких серебряных гвоздей, которые образовывали на спинке его витиеватый узор. Лилберн попытался вспомнить, видел ли он его месяц назад. Если нет, если это было новшеством последних дней, то, конечно, местоположение кресла должно было означать явную перемену политического ветра. Ибо предназначалось оно не для спикера (Манчестер уже сидел в глубине палаты, переговариваясь о чем-то с клерком), а для кого-то повыше. Но кто может быть выше спикера палаты лордов? Только король. Иными словами, все это должно было означать, что законного монарха ждут здесь с нетерпением и надеются на скорое возвращение его из шотландского плена.
Клерк отошел к столу, взял лист бумаги и тоном холодным, но вежливым предложил подсудимому приблизиться к свидетельскому барьеру и опуститься на колени для выслушивания предъявляемых ему обвинений.
Стало тихо.
Сарджент палаты дал знак стражникам. Двое из них, оставив алебарды товарищам, приблизились к Лилберну сзади на тот случай, если он начнет упираться, как в прошлый раз. Медленно, словно покоряясь неизбежному, он вышел вперед — те, обманутые его покорностью, остались на месте, — стал у барьера, спокойно расстегнул пуговицы камзола, достал шляпу и двумя руками нахлобучил ее на голову.
Клерк сморщился, как от зубной боли.
Кто-то из лордов вскочил, кто-то крикнул: «Негодяй!»
Манчестер качал головой словно бы с сожалением, пальцы теребили и тискали бахрому подлокотников. Стражники, опомнившись от замешательства, ринулись вперед, как кулачные бойцы, сбили с Лилберна шляпу, навалились в четыре руки. Он упирался, изворачивался, что-то кричал. Ноги его скользили по каменному полу. Еще двое стражников подоспели на помощь, кое-как прижали подсудимого к барьеру в нелепой, полусидячей, полусогнутой позе. Он затих, тяжело дыша, оскалившись в напряженной усмешке.
Торжественная атмосфера суда была безнадежно смята.
— Подполковник Лилберн! Вы обвиняетесь, первое: в печатании и распространении клеветнических измышлений, чернящих спикера верхней палаты, лорда Кимбольтона, графа Манчестера; второе: в недопустимом умалении власти и авторитета палаты лордов, выразившемся в отрицании за нею права суда над всяким подданным его величества; третье: в наглом и вызывающем поведении перед лицом означенной палаты; четвертое…
Клерк читал быстро, словно спеша воспользоваться минутным затишьем, не отрывая глаз от листа.
Лилберн извернулся, высвободил руки и заткнул уши пальцами. Стражники снова накинулись на него, опять началась возня, но Манчестер махнул рукой — «оставьте».
Губы клерка теперь шевелились беззвучно, но Лилберну не было нужды вслушиваться в произносимые фразы. Он знал заранее все пункты обвинения, знал их уже тогда, когда с пером в руке взвешивал слова своих памфлетов, сделавших этих людей его смертельными врагами. Обводя взглядом ряды лиц под роскошным балдахином, он подумал о том, насколько труднее была бы его задача, если б лорд Брук, живой, сидел среди них или Эссекс, одолев очередной приступ болезни, явился бы сюда, на суд. Но их не было, и это помогало ему ощущать свою правоту тем радостней и полнее, чем грубее с ним обращались, чем тяжелее нависал над ним приговор.
Клерк кончил, с поклоном передал лист спикеру. Манчестер рассеянно проглядел его и поднял взгляд на подсудимого.
Стражники отпустили Лилберна. Он встал, размялся, положил руки на барьер.
— Странный способ вы избрали, мистер Лилберн, для того чтобы показать нам, что с обвинением вы знакомы. Несмотря на ваше оскорбительное поведение, мы не собираемся подтверждать вашу клевету и нарушать английские законы. Поэтому предоставляю вам воспользоваться вашим правом: мы готовы выслушать все, что вы скажете в свою защиту.
Манчестер откинулся в кресле и забарабанил пальцами по подлокотнику. Потом снова склонился вперед и добавил:
— Хочу лишь заметить, что сказанное вами повлияет не только на вашу судьбу, но и на отношение верхней палаты к вашим друзьям и их идеям. Вы требуете терпимости? Не к тому ли, что вы нам только что продемонстрировали? Боюсь, что на такую терпимость нас не хватит.
Среди гобеленов, бархата, драпировок, ковров он чувствовал себя гораздо уверенней, чем посреди военного лагеря. Оливковое лицо, вобрав в себя красные отсветы тканей, выглядело еще моложе, восточные глаза чернели насмешливо. Пущенный им аргумент — «нельзя отпугивать верхнюю палату чрезмерными требованиями» — был довольно ходким последнее время и производил некоторое впечатление даже в Виндмилской таверне.
— Милорды! — Лилберн с облегчением услышал, что голос его звучит ровно, что ему по силам удерживать и скрывать то болезненное натяжение, которое накапливалось в его груди с самого утра. — Милорды, я достаточно ясно выразил свое отношение к этому суду. Вы не вправе судить никого, кроме самих себя. Вы или ваши предки получили свой титул от короля, вы не избраны народом и поэтому не можете обладать судебной властью ни над одним свободнорожденным англичанином. Это свое мнение я и раньше открыто высказывал некоторым из вас, и мы свободно обсуждали сей вопрос в дружеской беседе. Единственный правомочный судья в тяжбе между мной и вами — парламент.
— А мы, по-вашему, уже не имеем отношения к парламенту?
— Джентльмен, конечно, имеет в виду одну лишь палату общин, — усмехнулся клерк.
— Да, вы правы. И я надеюсь дожить до того дня, когда это будет ясно всякому так же, как и мне. Источник всякой власти — народ, и только тот, кто избран народом, может осуществлять над ним верховную власть.
— В каком-то из сочинений вы утверждали, что и король в свое время был посажен на трон народом, не так ли? — Манчестер делал вид, что говорит абсолютно серьезно. — В таком случае, можно ведь считать, что король, облекая нас полномочиями и титулом, просто делился с нами властью, полученной им от народа, то есть абсолютно законно, даже с вашей точки зрения. Не дает ли это нам некоторую надежду на оправдание в ваших глазах? Не согласитесь ли вы снять с нас хотя бы обвинение в узурпации?
Лорды разразились смехом, но самому Манчестеру удалось не улыбнуться; чуть выставив ухо вперед, он ждал ответа. За два года, которые прошли с той их стычки в Донкастере, он явно научился владеть собой. «Вы сильно изменились, граф, но желание повесить меня осталось в вас прежним», — Лилберн с трудом удержался, чтобы не сказать этого вслух.
— Вы сами, милорды…
Смешки и шум заглушили его слова, и он, пытаясь перекрыть их, незаметно для себя перешел на крик:
— Вы сами, милорды, подняв оружие против короля, признали его узурпатором, превысившим границы отпущенной ему власти. Вы сами многократно выпускали декларации, утверждавшие верховную власть парламента. Король оказался нынче на положении пленника. Не пугает ли вас его пример? Или вы думаете, что те, кто отказался выносить тиранию короля, смирятся с вашей тиранией?
В зале становилось шумно, гневные выкрики летели в Лилберна справа и слева.
— Что же касается до моей якобы клеветы на некоторых из вас, я не побоюсь повторить ее во всеуслышание. Да, граф Стэмфорд, рано или поздно на свет выплывут некоторые обстоятельства сдачи Эксетера. И, может быть, тогда уже вам придется предстать перед законным судом. Да, граф Манчестер, ваша голова не засиделась бы на плечах, если бы генерал Кромвель довел до конца свое обвинение против вас в парламенте. Можете мстить мне за эти слова, можете делать все, что будет доступно вашей тиранической власти и злобе, можете приказать…
Его уводили — он все кричал.
Кровь шумела в ушах, горло пересохло. Тупая боль тянулась сверху вниз по ноге — видимо, повредил во время возни со стражниками. А может, и еще раньше, в тюрьме. Усталость заливала все тело, проникала в грудь, вытесняла возбуждение и напряженность. Одна лишь память упрямо сопротивлялась нежданной апатии, закрепляла кусок за куском весь прошедший день, чтобы потом восстановить его на бумаге. Что бы там ни было, а Овертон должен получить для своего печатного станка продолжение того, что он назвал «повестью о прекрасной и трагической судьбе некоего английского гражданина». Вдруг вспомнилось лицо Элизабет за решеткой и этот ее крик: «Я счастлива тобой». За месяц заключения ему не дали ни одного свидания с ней, даже еду пришлось передавать через тюремщиков. Бессмысленная жестокость. Только судьи, не сидевшие сами в тюрьме, могли воображать, что узник, лишенный свиданий, не сумеет передать на волю нужных бумаг.
Усталость помогла ему выслушать приговор с неподдельным равнодушием. Четыре тысячи фунтов штрафа, заключение в Тауэр сроком на семь лет, запрещение до конца жизни занимать какой-либо пост на государственной службе. «Оправдание справедливого» и «Свободу свободному» сжечь рукой палача. Семь лет — неужели сами они надеются продержаться столько времени у власти? Они падут, как только пресвитериане потеряют большинство в палате общин. Или у них есть в запасе более прочные зацепки? Возвращение короля? Иностранная помощь? Неужели они с Уолвином недооценили их сил?
В Тауэр его везли водой.
Утренняя муть собралась в редкий теплый дождик, покрыла Темзу рябью и пузырями. Гребцы с их намокшими, прилипшими к плечам рубахами, с расстегнутыми воротами, продуваемые насквозь речным воздухом, гнали лодку с такой вольной и спорой веселостью, что Лилберн на мгновение испытал толчок острой зависти, почти злобы к ним. И не то чтобы сомнение, но как будто кто-то чужой в его душе, кому он позволил на минуту открыть рот, высунулся с невнятным, усмешливым бормотанием: «Прирожденные вольности? Права? Великая хартия? Законы? И для кого — для них? Вот для этих, кому так хорошо под летним дождем, на своей лодке, в своей реке, и никакие лорды и никакой король у них ее не отнимут. Разве нужно им что-нибудь еще?»
«Тропа вольна свой бег сужать, кустам сам бог велел дрожать, а мы должны свой путь держать, свой путь держать, свой путь держать». Привычная мелодия помогла заглушить, вытеснить усмешливый голос в душе (его держали в строгости, не часто давали открыть рот), и осталась лишь простая и понятная тоска — от этой белой реки, от голубеющих пятен между облаками, от блеска весел, от шумливых лодок, скользящих там и тут, невыносимо тяжело было вновь отправляться в камерную затхлость и вонь.
Новый комендант Тауэра, сухой и длинный пресвитерианин, долго читал приказ палаты лордов, потом поднял взгляд на Лилберна и издали показал ему лист в откинутой руке.
— Вас ознакомили?
— Что это? Приговор?
— Приказ о строгом содержании. Мне поручено проследить, чтобы вы не смогли в дальнейшем писать и публиковать свои, — он заглянул в бумагу, — «скандальные и клеветнические памфлеты, направленные к подрыву авторитета верхней палаты, к извращению истинной христианской веры, к сеянию смуты и возмущения умов…» Ну, и так далее.
— Вы хотите, чтобы я помог вам в этом трудном деле?
— Нет, я лишь ставлю вас в известность, что не вижу иной возможности исполнить приказ их сиятельств, как только запретив вам свидания с кем бы то ни было.
— Но, сэр! С таким же правом вы могли бы сказать: «Я не могу выполнить приказа иначе, как поместив вас в выгребную яму».
— Очень сожалею, мистер Лилберн, но запрещение свиданий будет распространяться и на ближайших родственников.
— Сэр, должен вам сказать по чести, — Лилберн говорил медленно, словно давая словам время проникнуть в сознание коменданта, — сказать, как солдат солдату: моя жена разделяла со мной все походы военных лет. Бог связал наши сердца и души такой горячей привязанностью и так приучил нас разделять тяготы друг друга, что я скорее позволю вам сию минуту размозжить мне голову, чем соглашусь лишиться свиданий с женой.
Комендант задумчиво смотрел на строчки приказа, потом пожал плечами:
— Самое большее, я могу разрешить, чтобы она разделила строгое заключение вместе с вами.
— Но она на седьмом месяце!
— Тут уж я ничего не могу поделать. Вы имели прекрасную возможность избавить себя от всех этих неприятностей.
— Какую же?
— Вести себя потише. Нет-нет, довольно препирательств! Уведите заключенного. О да, можете жаловаться на меня в парламент, можете натравить на меня столь послушную вам уличную чернь — я не боюсь. Камера 43. К вашему сведению, до вас ее занимал некий член парламента, позволивший себе неуважительно говорить о короле. Говорят, теперь он стал осторожнее в выражениях. Надеюсь, и ваш пыл она несколько остудит. Увести.
Июль, 1646
«Мы вполне убеждены, что, избирая вас быть членами парламента, мы преследовали единственную цель — освободить себя от всяких цепей и обеспечить мир и счастье государства. Мы — ваши принципалы, а вы — наши агенты. И если вы или кто другой попытается осуществлять над нами власть, имеющую другой источник, нежели наше доверие и свободный выбор, то это будет не чем иным, как узурпацией и гнетом, от которого мы будем стремиться избавиться всеми силами.
Вы же теперь выбрасываете из своей палаты всех, кто упомянет о жестокостях короля; ваши проповедники обязаны молиться за него; вы готовы принять его с распростертыми объятиями, в то время как он заслужил быть отвергнутым всем христианским миром. Неужели вы сотрясли всю нацию наподобие землетрясения лишь для того, чтобы предложить нам снова короля Карла? Не правильнее ли будет объявить его врагом и опубликовать твердое решение не иметь впредь никаких королей?»
Ричард Овертон. «Ремонстрация многих тысяч граждан Англии в их собственную палату общин по поводу незаконного и варварского заключения столь славного мученика за свободу своей страны — подполковника Джона Лилберна»
Лето, 1646
«Поверьте, религия есть единственное твердое основание всякой власти; если она слабеет или извращается, никакое правительство не может быть устойчивым; ибо откуда может взяться повиновение, если религия не будет учить ему. Я вполне уверен, что скорее религия может отвоевать для короны милицию, чем милиция — религию… Они ставят своей целью не изменение церковного правления, — хотя и это было бы слишком много, — но под этим предлогом намереваются лишить меня власти над церковью, что, должен сказать вам, по последствиям своим не меньше, чем утрата военной власти. Ибо во времена мира людей легче удержать в повиновении словом проповедника, чем мечом».
Из писем Карла I
Осень — зима, 1646
«Оба парламента, английский и шотландский, видя, что король затягивает переговоры и ищет лишь поводов для проволочек, и сознавая опасность раскола между двумя нациями, на который роялисты так рассчитывали, пришли наконец к соглашению, что по получении должной платы за помощь шотландцы очистят все английские крепости. В январе двести тысяч фунтов стерлингов были доставлены в Ньюкасл под сильной охраной. После этого шотландская армия удалилась к себе, передав крепости солдатам генерала Ферфакса, а короля — специальным комиссарам, присланным обеими палатами английского парламента».
Люси Хатчинсон. «Воспоминания»
14 февраля, 1647
Ноттингем
— Двести тысяч фунтов, мистер Уайльдман, двести тысяч! В двухстах запечатанных ящиках — по тысяче в каждом. На тридцати шести телегах. Мы должны были охранять эти сумасшедшие деньги денно и нощно на всем пути от Лондона до Ньюкасла, а потом своими руками отдать их — и кому? Шотландцам!..
Рассказывая, Сексби, по своему обыкновению, слегка раскачивался всем корпусом. Лицо его оставалось неподвижным, и лишь на последнем слове презрительно сжавшиеся челюсти потянули вниз кожу на лбу и вокруг глаз. Уайльдман перед зеркалом зашнуровывал на груди рубашку. Окна гостиницы смотрели на восток и, казалось, способны были вобрать в себя весь свет, какой уже был на небе в этот ранний час.
— Грех вам, Сексби, говорить про шотландцев таким тоном. Кто первый поднялся на епископов десять лет назад? А Марстон-Мур? Не от вас ли я слыхал, что именно отряд Лесли дал Кромвелю и железнобоким те четверть часа передышки, без которых им бы не собраться для новой атаки?
— Все это так, ваша правда. Но я только что с севера, и видели бы вы, сколько там голодных, несчастных, ограбленных. Можно подумать, что не союзные войска квартировали, а свирепый неприятель вторгся на погибель всему честному люду. Набожные шотландцы отбирали у человека последнюю овцу, а потом шли к своему пресвитеру, чтоб он подобрал им подходящее оправдание из Писания. Их ненавидят там люто.
— А вы как бы себя вели, если б вам не платили жалованье больше полугода? Впрочем, бог с ними. Они ушли наконец, и теперь мы сможем заняться своими делами.
— Ушли, подбросив нам напоследок коронованное сокровище — Карла Стюарта.
— Интересно было бы взглянуть, как его передавали. Тоже в запечатанном ящике? Или в просмоленном бочонке? А может, в зарешеченной карете?
— Я бы предпочел всему прочему хорошо заколоченный гроб. На самом же деле ни то, ни другое, ни третье. Просто в один прекрасный вечер шотландская стража у королевских покоев была заменена английской. «Я продан и куплен», — заявил его величество наутро. Что верно, то верно, сделка состоялась по всем правилам. Только денежки-то брали с тех, кому такой товар и задаром не нужен, вот в чем беда.
Уайльдман застегнул пояс, последний раз глянул на себя в зеркало — справа, слева — и достал из-под кровати седельную сумку.
— Могу вас порадовать кое-чем на этот раз. Просмотрите их и суньте в карман то, что не читали. Вот эта, думаю, особенно придется вам по вкусу.
— «Разоблачение королевской тирании». Анонимная?
— Вы хорошо знаете автора. Прочтите первую страницу, и от анонимности не останется и следа. К сожалению, не только для вас, но и для цензоров.
— Мистер Лилберн, так?
— Конечно. Наконец-то кто-то решился не прятать короля за спинами дурных советников. Карл Стюарт черным по белому назван предателем и чудовищем, которое заслуживает лишь суда и наказания.
— Это я прочту в первую очередь. Что еще?
— «Анатомия тирании лордов», того же автора. Здесь несколько экземпляров, возьмите для своих друзей. А вот эта очень занятная. «Несчастная игра в Шотландии и Англии». Тут достается и королю, и пресвитерианам, и шотландцам. Под большим секретом: писано в камере Ньюгейтской тюрьмы неким Овертоном.
— Как?! И он уже за решеткой?! Да вы что там в Лондоне — с ума посходили? Чего мы ждем? Чтобы виселицы были сколочены, веревки привязаны и надеты на шеи? Тогда уже поздно будет махать кулаками.
— Сексби, не будьте так простодушны. Не повторяйте того, что кричит на лондонских перекрестках каждый желторотый юнец. У вас есть реальная сила, чтобы действовать более решительно? Сколько человек в вашем собственном полку пошло бы за вами?
— Все-то вам надо заранее подсчитать и взвесить. «Сколько, сколько»… Ваши университетские мозги, мистер Уайльдман, слишком забиты математикой. Будто это можно вычислить заранее. Подполковник Лилберн кинулся на лордов в одиночку, а теперь, поглядите, сколько народу повалило за ним. У меня в эскадроне есть приятели, которые заучивают его памфлеты, как Библию.
— Не все созрели для мученического венца.
— Да и в палате общин лучшие люди — на нашей стороне. А у пресвитериан? После смерти Пима и Эссекса там не осталось ни одной стоящей головы.
Уайльдман, не отвечая, обернулся к окну. Звуки колокольного звона расплывались над городом. Из мясной лавки напротив стали выходить покупатели, за ними — хозяин, снимавший на ходу кожаный фартук и задиравший голову к облакам так, будто именно на них он надеялся разглядеть невидимого звонаря.
— Пора, — сказал Уайльдман. — Так вы идете?
— Только ради вас. Моя бы воля, его величество получил бы другую встречу.
— Неблагодарный. Вам надо бога молить за здоровье короля, который отказался принять пресвитерианский Ковенант.
— Он просто хочет содрать с них побольше и тянет время. Такой своего не упустит.
Они надели шляпы, накинули плащи и вышли на улицу. Пачка памфлетов как раз уместилась в патронной сумке Сексби. Народ шел по направлению к городским воротам не густо, но со всех сторон. Кто-то хлопнул Сексби по спине и пропел детским голоском:
— Ах, милый дядюшка, неужели вы привезли нам тот самый подарок? И сколько же вы за него заплатили? Ох, мы просто умираем от нетерпения взглянуть на вашу покупку.
— Всем-то вы хороши, Эверард, — сказал Сексби, не поворачивая головы. — И наружность у вас приятная, и нрав веселый, и сердце доброе. Если б вам еще дырку проткнуть в языке раскаленным железом, были б вы просто совершенством.
Эверард хихикнул и пошел с ними рядом.
— Жестокие наклонности, Сексби, вот с чем вам надо в себе бороться. Иначе так и не выслужитесь из рядовых. Нынче в офицеры пускают только самых добрых, приветливых и незлопамятных. Таких, которые умеют забывать про горы трупов и встречать убийц колокольным звоном.
Чем ближе они подходили к воротам, тем теснее становилось на тротуарах. Некоторые вели с собой детей, многие приоделись, как для праздника. Какая-то женщина, одиноко шедшая навстречу людскому потоку, свернула на мостовую и замерла, обводя идущих тяжелым взглядом. Тонкая рука, поддерживавшая над грязью подол платья, и тонкое, покрытое крупными оспинами лицо делали ее похожей на потерявшуюся девочку, но стоило перевести взгляд на гневный изгиб рта, и впечатление детскости сразу пропадало. Эверард сделал шаг в сторону, снял шляпу, поклонился. Она кивнула, обвела рукой вокруг, будто спрашивая: «что же это?», потом замотала головой и, так ничего и не сказав, пошла прочь.
— Кто эта дама?
— Миссис Хатчинсон, жена здешнего губернатора. Добрый ангел для многих из нас. Они с мужем удерживали город и замок для парламента все эти четыре года, даже когда вся округа отшатнулась к кавалерам. Раз их заперли в замке с двумя сотнями людей и предлагали золотые горы и графский титул за сдачу. Они в ответ только палили из пушек. Воображаю, каково им теперь любоваться на все это.
— Вы с ней знакомы?
— Да, довелось посидеть у них за решеткой.
— Вот тебе и ангел.
— Порой и тюрьма — самое надежное убежище. Местная шайка пресвитериан собиралась растерзать нас как злостных сектантов, и губернатор Хатчинсон решил, что будет лучше упрятать нас под замок. Жена его сама носила нам обеды. И книги. Никогда я еще так славно не отдыхал душой и телом.
— А после?
— Появился Руперт, понадобились хорошие канониры на стенах, и нас выпустили. Во-о-он там, правее той башни, пряталась моя пушчонка.
Они уже вышли из города, и замок, стоявший на холме, был хорошо виден на белом утреннем небе. Толпа народа растягивалась по обочинам дороги, кое-где уже завязывались мелкие стычки за место. Измученные бессонной ночной работой землекопы заравнивали последние выбоины. То там, то здесь в глаза бросались лица с пятнами экземы — золотушные собрались со всей округи. То ли они действительно верили в волшебную силу королевского прикосновения, то ли рады были случаю использовать единственное преимущество, которое давала им болезнь перед другими. Трое приятелей, оставляя на тонком снежке полосу черных следов, поднялись на придорожный откос и увидели, как вереница блестящих всадников и карет вывернула из-за облетевшей дубовой рощи.
Со стороны города, заглушая колокольный звон, долетел грохот салюта. Пять круглых дымов выросло на стенах замка. Потом еще раз и еще. Снизу раздались приветственные крики, самые нетерпеливые уже махали шляпами.
— Ничего, друзья мои, ничего, — сказал Уайльдман беря обоих солдат за локти. — Рано еще скрипеть зубами и стискивать кулаки. Толпа — ребенок. Для многих здесь это всего лишь зрелище, редкое развлечение. Другим кажется, что они празднуют наступление мира. Есть и такие, кто сердцем на нашей стороне, и я уверен — их немало.
— Из моей же пушчонки! — стенал Эверард. — Салют королю!.. Сколько кавалеров она отправила в преисподнюю! О господь вседержитель, как ты тасуешь свои карты, как запутываешь дела наши в этом мире!
Кавалькада быстро приближалась. Золотушные потянулись наперерез, конная стража ринулась расчищать дорогу, но король что-то крикнул — они натянули поводья. Кое-кто в толпе опустился на колени, приветственные крики становились все громче. Король ехал шагом, милостиво кивая в обе стороны. Лицо его казалось оживленным, приветливым, почти безмятежным. Самым смелым из больных удавалось поцеловать его руку, другие, подползая, цеплялись за край плаща, за сапог, за стремя.
— Глядите, глядите! — крикнул Сексби. — Главнокомандующий!
Со стороны города скакала другая группа всадников. Ликующие вопли набрали новую силу, шляпы полетели в воздух. Штабные офицеры были в парадной форме и при шпагах, начищенные шлемы охраны слепили глаза. Расстояние между обеими кавалькадами быстро сокращалось.
Король натянул поводья, лошадь под ним засеменила, нетерпеливо мотая головой.
Ферфакс, обогнавший своих спутников, остановился ярдах в двадцати, спешился и пошел вперед, волоча плюмаж шляпы по мокрому булыжнику. Моложавое лицо его было спокойно, взгляд не метался в пестрой сутолоке, кипевшей по сторонам, но, казалось, спокойно выбирал из нее достойное внимания и, подержав немного, отпускал. Встретившись с этим взглядом, король на секунду смешался — толпа почувствовала, притихла, — но он совладал с собой, снял перчатку и решительно протянул руку вперед. Ферфакс вгляделся в короля и в его свиту, в замершие, ждущие лица, затем, мягко ступая в высоких светлой кожи ботфортах, сделал еще несколько шагов и почтительно поцеловал протянутую руку.
Грянули трубы кавалерийского эскорта, новые волны колокольного звона поплыли от города. Люди плакали, обнимались, кричали. Некоторые громко молились. У тех, кто стоял молча, вид был потерянный и какой-то отупевший. Сексби, зажимая себе рот сорванной шляпой, рычал невнятные угрозы. Эверард смотрел, прищурясь, каблук его сапога елозил в заиндевелой траве.
— Это я запомню, — бормотал Уайльдман, — это я расскажу… В Лондон, сегодня же… Дальше ждать нельзя…
— И это — победитель при Нэзби! — завопил Сексби. — И это — железнобокие!
Но крик его только усилил собой приветственный и трубный рев, которым толпа провожала слившиеся кавалькады к городским воротам. Ферфакс ехал рядом с королем, и тот, полуобернувшись, время от времени что-то говорил ему. Вся осанка его при этом была так исполнена милостивого монаршего величия, что сами слова «плен», «пленник», «продан и куплен» при взгляде на него, казалось, должны были быть отброшены и забыты, как не идущая к месту шутка, как полная несуразность.
5 апреля, 1647
«Пришли письма, сообщающие об очередных выражениях недовольства в армии. Солдаты возмущены тем, что на их петиции наложен запрет, а петиция от графства Эссекс, направленная против армии, имеет свободное хождение. Кавалеристы поговаривают о необходимости устроить общее собрание армии, и генерал Ферфакс прилагает все силы к тому, чтобы удержать их от беспорядков».
Уайтлок. «Мемуары»
Апрель, 1647
«Тем временем армия избрала известное число офицеров, которые составили Главный офицерский совет — нечто вроде палаты лордов; и рядовые солдаты выбрали по два человека от каждого полка, в основном капралов и сержантов, которые составили другой совет — подобие палаты общин. И, по взаимном согласии, оба эти совета постановили, что они не подчинятся приказу о разделении или роспуске армии до тех пор, пока жалованье не уплатят полностью и не будет гарантирована свобода совести. Ибо, говорилось среди них, они не банда ландскнехтов, нанятых лишь для того, чтобы сражаться куда бы их ни послали, но они добровольно взялись за оружие, чтобы защищать свободу нации, частью каковой они являются, и не сложат его раньше, чем свобода будет обеспечена».
Хайд-Кларендон. «История мятежа»
29 апреля, 1647
Лондон, Друри-Лэйн
— Что это? — Кромвель поднял глаза от листа и впился взглядом в лица трех солдат, сидевших перед ним. — Зачем вы это мне принесли? Это бунт? Вы повредились в уме и хотите, чтоб я принял участие в вашем безрассудстве?
Солдаты молча смотрели на него, ждали. Видимо, они заранее знали, что разговор будет нелегким, и запаслись терпением. Огоньки свечей россыпью отражались на их пряжках, пуговицах, кожаных ремнях, шпорах. Все трое были без оружия.
— Любой англичанин нынче обращается с жалобами в парламент, — произнес наконец Сексби. — Неужели солдаты настолько хуже всех прочих, что им полагается жить не раскрывая рта?
— Это вы-то живете не раскрывая рта? Или вы, мистер Аллен? Вас я не знаю…
— Рядовой Шеппард, ваша милость. Полк вашего зятя, генерал-комиссара Айртона.
— Думаю, что и у вас язык подвешен не хуже и глотка такая же луженая, как у этих джентльменов. Сознайтесь — кто сочинял эту бумагу?
— Весь совет.
— Совет?
— От восьми кавалерийских полков выбрано по два представителя. Агитаторы — так нас назвали. Получился совет из шестнадцати человек. Нам поручено защищать интересы солдат. Для начала пришлось изложить на бумаге требования. Потом прочитали в полках, полки одобрили и велели отвезти вам.
— Превосходная идея! Отвезти мне? Чтобы я уплатил из своего кармана все, что вам недоплачено?
— Мы хотим, чтобы вы ознакомили с нашими требованиями палату общин.
— Я клятвенно заверял палату, что армия подчинится любому приказу парламента. Будет приказано сложить оружие и разойтись — сложит и разойдется. Воевать в Ирландии — отправится в Ирландию. Мне и в голову не пришло, что вы предпочтете взбунтоваться. И против кого? Против парламента. Не за него ли мы пролили столько крови?
— Изложить свои нужды и пожелания — это уже бунт? Перечтите письмо. Мы просим лишь честного расчета, пенсий вдовам и сиротам погибших, возмещения убытков за счет тех, кто причинил их нам, — за счет кавалеров.
— Вы не просите — вы ставите ультиматум. Вам следовало сначала исполнить приказ, сложить оружие, а уже потом что-то требовать.
— Кто бы тогда стал с нами разговаривать?
— А-а, значит вы полагаетесь только на свою силу. Вот откуда этот наглый тон. — Кромвель снова схватил солдатскую петицию, поднес к свече. — «Отправка войск в Ирландию — не что иное, как замысел, направленный на уничтожение армии Нового образца… Прикрываясь речами о необходимости расформирования частей, те, кто вкусил уже верховной власти, изыскивают пути к тому, чтобы превратиться из слуг народа в полновластных хозяев и сделаться настоящими тиранами». Кто же, по-вашему, эти тираны? Кто вкусил верховной власти? Вы оскорбляете членов парламента, вас всех надо отдать под суд за это.
— Мы только посланцы, генерал. Нам не поручалось истолковывать отдельные места петиции. Но если вы приедете в полки, там найдется с кем поговорить.
— Не-е-ет, меня вам не провести. Уж я-то знаю, где найти авторов этой бумаги. Только здесь, в Лондоне. Если заглянуть в Виндмилскую таверну, да в Тауэр, да в Ньюгейт, там они все и сидят. Я узнаю их по стилю, по словечкам. «Слуги народа», «тираны» — излюбленный лексикон моего старого приятеля, подполковника Лилберна. Вот с чьего голоса вы поете. Скажете, нет? А не желаете ли послушать, что он пишет мне из тюрьмы? Мне, который столько раз подставлял свою шею, чтобы вызволить его из беды. Сейчас… Сейчас я вам покажу…
Он начал ворошить бумаги, лежавшие на краю стола. Солдаты терпеливо ждали, сидели, не меняя поз. Тяжелые портьеры едва заметно вздымались и опадали под ночным ветерком.
— Ага, вот: «О дорогой Кромвель! Да откроет бог твои глаза и сердце на соблазн, в который ввергла тебя палата общин, даровав тебе две с половиной тысячи фунтов ежегодно. Ты великий человек, но знай, что если ты и дальше будешь хлопотать лишь о собственном покое, если и впредь будешь тормозить в парламенте наши петиции, то для всех нас, угнетенных и задавленных, слишком полагавшихся на тебя, избавление придет не от вас, шелковых индепендентов. Собери свою решимость, воскликни: „Если я погибну, пусть будет так!“ — и иди с нами. Если же нет, я обвиню тебя в низком обмане, в том, что ты предал нас в тиранические руки пресвитериан, против которых мы сумели бы защитить себя, если б не ты, о Кромвель. Да будет проклят день, когда им удалось купить тебя за две с половиной тысячи». Вот, что он смеет писать мне, этот ваш Лилберн!
Кромвель перегнулся через стол и провел письмом перед лицами солдат. Те сидели все так же неподвижно, в тех же позах, но невидимое напряжение, казалось, накапливалось в них. Сексби, сжимая челюсти, натягивал кожу на лбу и надбровьях. Кромвель вглядывался в солдат с изумлением, потом тихо спросил:
— Значит ли ваше молчание, джентльмены, что вы согласны с тем, что он пишет? Вы, бившиеся со мной бок о бок, вкусившие благодать победы, дарованной богом, вы тоже считаете, что я подкуплен? Я, вырвавший вас из прелатских тюрем, собравший вас вместе, давший свободно искать правды божьей, научивший драться за нее, я — предатель?!
— Ни у кого из нас язык не повернется сказать такое, сэр, — покачал головой Аллен.
— Вот генерал-комиссар Айртон…
Кромвель повернулся к Шеппарду и взревел таким голосом, словно ему надо было перекричать грохот батарей:
— Да будет вам ведомо!.. Да знаете ли вы, что генерал-комиссар Айртон защищал ваши интересы в палате с такой страстью, что взбешенный Холлес вызвал его на дуэль. Тут же, посреди заседания. Их с трудом удалось разнять.
Солдаты, пригнув головы, переглянулись с недоверчивой усмешкой. Сексби погладил себя по колену и произнес тоном примирительным и в то же время настойчивым:
— Генерал, мы все хорошо знаем друг друга, и нам нет нужды каждый раз объясняться в любви и клясться в дружбе. Мистер Лилберн, конечно, человек горячий. Да еще год, проведенный им в Тауэре, когда парламент не пожелал добиться его освобождения. От этого, я вам доложу, характер не делается лучше. Но с одним местом его письма каждый из нас согласится. Это то место, генерал, где он говорит: «Иди с нами, о Кромвель».
Двое других согласно закивали головами, подались вперед.
— Первое, о чем спросили парламентских комиссаров в полках: «Кто будет командовать в Ирландии?»
— Кричали, что если не дадут Ферфакса и Кромвеля, не запишется ни один человек.
— Довольно! — Кромвель хлопнул ладонью по столу, опрокинул песочницу. — Вы хотите превратить меня в заговорщика, злоумышляющего против парламента. Но поймите же, что слепое повиновение парламенту сейчас единственная наша защита от полной анархии, от новой войны. Английская земля мокра от английской крови. Она вопиет о мире.
— Мир?! — Сексби медленно поднялся. — Какой мир вы можете нам предложить? Тот, в котором нас по очереди пересажают, а кое-кого и вздернут? В котором страх будет держать нас за горло с утра и до вечера? Где снова править будут король и лорды? Генерал, неужели сами вы надеетесь уцелеть при их власти? Сколько пресвитериан в палате общин жаждут вашей крови! Не будь у вас за спиной наших мечей, с вами давно бы расправились. И когда им удастся нас разоружить… Подумайте, что станет с вами, с вашей семьей, с детьми.
Кромвель слушал его, понурив голову, седеющие волосы свисали вдоль щек.
— Сексби, Сексби… Неужели вы думаете, я сам не повторял себе все это тысячу раз. Душа моя скорбит смертельно. Господь отнял у меня уже двух старших сыновей. Каждый раз, когда Ричард заходит сюда, в эту комнату, я силюсь улыбнуться ему, а сам думаю: «Что с тобой будет завтра?» Я пытаюсь найти ответ в Писании, я молю бога, чтобы он просветил мой ум. Мы победили, но не нам достанутся плоды победы. Пресвитериане пересилили нас в обеих палатах, в их руках все крепости, лондонская милиция, за них шотландцы. Нам осталось лишь одно: покориться воле божьей.
Слезы заблестели в его глазах, мясистые ладони блуждали в листах раскрытой на столе Библии.
— Протестантские князья предлагали мне службу в Германии. Только там еще теплится огонек борьбы за истинную веру. Может, я и приму их предложение. Вы, Сексби, вы, Аллен, поехали бы со мной?
— В Германию? Ну уж нет.
— Они уже лет тридцать грызут друг другу горло.
— Говорят, там и воевать не на чем — съели всех лошадей.
— Я слышал, в Мюнстере идут мирные переговоры. Французы и шведы режут Европу, как рождественский пудинг.
— Нет, генерал. Мы англичане. Наша судьба — здесь сражаться, здесь и умереть. Да и у вас, по совести говоря, другой судьбы нет. Как сказано в Евангелии: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия».
Кромвель обвел всех влажным взглядом, отер лицо, отошел к темному окну. Некоторое время слышно было только его сопение, вздохи; потом он принялся ходить перед сидевшими, бросая отрывистые фразы себе под ноги:
— Идти с вами? Прекрасно. Но кто вы такие? Сколько вас? Шестнадцать человек? Знаю, знаю, другие полки уже последовали вашему примеру. Пехота тоже выбирает агитаторов. Пусть так. Вас выбрали, вы почувствовали какую-то власть в руках — и готово. У вас закружилась голова. Вы вообразили, что с вами вся армия. Но знаете ли вы, что стоит парламенту уплатить солдатам хотя бы месячное жалованье, и половина отшатнется от вас? Уплатят за два месяца — отшатнется четыре пятых. И тогда те же, кто послал вас сюда, сами выдадут вас как зачинщиков смуты. Я не хочу, чтобы моя голова покатилась вслед за вашими.
Речь его, словно набирая разгон, устремлялась на них со всех сторон, затягивала, как водоворот. Полы зеленого халата отлетали на каждом шагу, отбрасываемые ударами колен.
— Но допустим, что безумие будет продолжаться. Что пресвитерианские ослы в парламенте доведут всю армию до отчаяния. Что она пойдет за вами до конца. Как вы себе представляете этот конец? Вы научились соблюдать порядок в строю и возомнили, что этого достаточно. Но вам придется задуматься о государственном порядке, о государственном строе. И что вы сможете предложить? Походный строй эскадрона? Ротное каре? Англичане — не турки, они никогда не допустят над собою власти меча.
— Свободный, избираемый каждый год парламент — вот единственная законная власть.
— Веротерпимость!
— Церковную десятину — долой.
— Не сажать в тюрьму за долги.
— Законы перевести на английский язык.
— Отменить монополии.
— О-хо-хо! — Кромвель снова уселся за стол, откинулся в кресле. — Выучили наизусть! Значит, не врут мои информаторы, когда доносят, что лилберновские писания солдаты цитируют, как свод законов. Что, уже и последнее откровение добралось до вас?
Он вынул из груды бумаг тонкую брошюру и помахал ею в воздухе.
— «Достопочтенным общинам, собранным в парламенте, — верховной власти этой нации». Только общинам? Лорды, король — их, значит, на свалку. Вся программа государственного устройства на трех страничках. Завидная простота. Подполковник Лилберн не смог добиться компенсации потерь, был заключен в тюрьму лордами? И в программе его партии появляется пункт номер два: потери возмещать, законным считать только суд равных. Совесть подполковника не может примириться с присягами и ковенантами? Появляется пункт номер три: никаких присяг. Пытался подполковник торговать сукном в одиночку, наткнулся на монополию «Эдвенчерерс»? Пункт номер шесть: монополии отменить, полную свободу торговли. Мытарят его тюремщики в Тауэре? Появляется пункт номер одиннадцать: в тюремщики брать людей честных и порядочных, за жестокость к заключенным взыскивать по закону.
— Вы что-то напутали, генерал, — холодно сказал Сексби. — Мы пришли к вам совсем с другой бумагой. В нашей речь идет только о выплате задержанного жалованья, о пенсиях и о прочих солдатских нуждах. В государственные материи мы не вдаемся. Кстати сказать, у генерала Скиппона она не вызвала таких возражений.
— Что?! — Кромвель так резко перегнулся вперед, что ножки стола скрипнули под навалившейся на них тяжестью. — Генерал Скиппон?
— Письмо ведь обращено и к нему тоже. Он сказал, что, если вы не будете против, он огласит его завтра перед палатой.
— Скиппон, вот оно что! Генерал Скиппон… — Кромвель, чуть закатив глаза, почти беззвучно двигал губами, языком, носом. Все мускулы его лица будто пришли в движение, посылая волны нервной дрожи от лба к подбородку. — Это меняет дело. Раз Скиппон согласился… Пресвитериане считают его своим, они не станут вопить об интригах индепендентов. Но ему-то какой смысл? Чем это вы его подкупили? Занятно, занятно…
Солдаты смотрели на него, придерживая дыхание, как рыболов, у которого дернулся поплавок. Ночной ветерок стих, в тяжелых складках повисших неподвижно портьер застыли волны тени. Кромвель поднялся, ладонь, прижимавшая солдатскую петицию к крышке стола, побелела.
— Друзья мои, я ничего не обещаю. Мое положение в палате так шатко, что нынче мой голос может вам лишь повредить. Сердцем я на вашей стороне, и тем не менее… В одном будьте уверены: завтра я явлюсь в палату и буду ждать, чтобы господь просветил меня и направил. Ступайте теперь, я буду молиться. Если бы генерал Скиппон согласился опустить при чтении вступительную часть со всеми этими грубостями и намеками, было бы куда легче вести дело. Впрочем, мы с ним обсудим все заранее. Нет-нет, нечего скалить зубы. Говорят вам, я не обещаю. Я буду молиться и испрашивать совета у господа.
Май, 1647
«То, что генерал Ферфакс начал действовать заодно с солдатами, встревожило парламент; тем не менее общины решили не допускать, чтобы решения их опротестовывались, а действия контролировались теми, кто был нанят и служил им за плату. Поэтому, употребив много резких выражений в адрес самонадеянности некоторых офицеров и солдат, они постановили, что всякий, кто откажется подчиниться приказу об отправке на службу в Ирландию, должен быть разоружен и уволен».
Хайд-Кларендон. «История мятежа»
25 мая, 1647
«Сэр, нет сомнения, что те, кто с презрением отвергает нынче просьбы столь верного войска, впоследствии пожалеют об этом; раздражающие провокации толкают солдат на такое, о чем они раньше и не помышляли. Они не могут отделаться от мысли, что если ими так пренебрегают, когда оружие еще в их руках, какого же обращения им следует ждать после роспуска армии. Я пытаюсь и буду пытаться поддерживать порядок, насколько это возможно, но не знаю, долго ли это будет в моих силах. Если вам не удастся смягчить ту озлобленность, которой охвачены некоторые члены парламента, лондонские заправилы и духовенство, я, видя решимость солдат защищать себя и свои справедливые требования, не могу предсказать ничего иного, кроме бури».
Из письма Айртона Кромвелю
2 июня, 1647
Холмби, Нортгемптоншир
В окнах последнего этажа, на гипсовых вазах, расставленных по карнизу крыши, на каминных трубах еще лежал красный солнечный свет, но нижняя часть дворца уже погрузилась в вечерние сумерки. Вместе с волной тени снизу поднималась волна комаров. Часовые, отставив мушкеты, хлопали себя по лицам, по шеям, раскуривали трубки. Миниатюрные башенки, возвышавшиеся кое-где над оградой, едва вмещали в себя двух-трех человек. Но все же чугунные прутья были достаточно толсты и высоки, и наружный ров заполнен водой, и каменные ворота с поднятым на цепях мостом выглядели довольно внушительно. Казалось, дворец не хотел забывать, что он был когда-то крепостью, и лишь неохотно поддавался модным перестройкам.
Один из часовых в угловой башне зажал в руке кожаный стаканчик с костями, прошептал то ли молитву, то ли заклинание и уже собрался бросать, когда что-то легонько стукнуло его по щеке и упало к ногам. Он выругался и, нагнувшись, стал шарить по полу. Его напарник схватился за мушкет.
— Бедный, бедный Томми Форстер, — раздался снизу негромкий голос. — Убит прямым попаданием сосновой шишки в лоб.
— Эй, что за шутки!
Тот, кого звали Форстером, перегнулся через перила, всматриваясь в сумрак за оградой.
— Если ты собрался стрелять, Том, — донеслось снизу, — целься, прошу тебя, в большой палец правой ноги. По крайней мере ты избавишь меня от страшной мозоли.
— Да ведь это сам Эверард! — охнул часовой. — Ты ли это, Вилли, старина?
— Именно я. И если у тебя найдется веревка, способная выдержать двести фунтов мокрой амуниции и продрогшей плоти, ты сможешь убедиться в этом воочию.
Часовые переглянулись. Напарник Форстера покосился на окна дворца и пожал плечами. Потом как бы в задумчивости отстегнул ремень и протянул его приятелю. Двух ремней и куска фитильной веревки хватило как раз до земли — через минуту Эверард бесшумно вскарабкался наверх и перевалился через перила.
— Я бы спросил тебя, Вилли, откуда ты взялся, — протянул Форстер. — Только не помню, ответил ли ты хоть раз в жизни честно на такой вопрос.
— Лучше спроси, зачем я здесь.
— Зачем ты здесь, рядовой Эверард?
— Ты опять не поверишь, Том, но это чистая правда: чтобы спасти твою никчемную жизнь.
— И сколько я тебе буду должен за эту услугу? Имей лишь в виду, что этот бандит, мой лучший товарищ, едва ли оставил у меня в кармане три пенса.
Напарник осклабился и гостеприимным жестом протянул Эверарду стаканчик с костями. Но тот вдруг насторожился, будто прислушиваясь к чему-то, и спросил тоном резким, почти начальственным:
— Король во дворце?
— Вернулся час назад.
— А комиссары парламента?
— Они от него ни на шаг. А что, тебе назначена аудиенция?
— Назначена или нет, но думаю, она состоится. Вот что, Том, слушай меня хорошенько. И вы тоже. Через полчаса здесь будут гости. Славные ребята, все на конях и при оружии. Хотелось бы, чтобы их встретили приветливо и дружелюбно. Тем более, что их больше пяти сотен, а вас, насколько мне известно, не больше шестидесяти. И тем более, что они действуют по приказу армии.
— Их послал генерал?
— Нынче, когда говорят «армия», имеют в виду прежде всего совет агитаторов и лишь потом — генерала. Раскрыт заговор. Короля собираются похитить и увезти в Шотландию. Ваш комендант — предатель. Армия решила опередить заговорщиков.
— Господь всемогущий!
— Есть среди часовых ваши друзья? Хорошо бы предупредить их заранее. Да и всех остальных тоже. Если какой-нибудь дурак поднимает пальбу… Сам понимаешь, в темноте пуля может достаться и не тому, кому следует.
До часовых наконец дошло, что он говорит серьезно. Стаканчик с костями куда-то исчез, комары, на которых перестали обращать внимание, без помех наливались кровью.
— Мы давно подозревали, что дело нечисто, — сказал Форстер. — Недаром комиссары последнее время так извивались перед королем.
— Жаль, что не мы стоим на главных воротах, — протянул напарник.
— Есть у меня там парочка верных дружков. Пойду, пожалуй, продую им мозги.
— Хочешь оставить пост без приказа?
— Чего не сделаешь для старины Вилли, — усмехнулся Форстер, вынося ногу на первую перекладину лесенки.
— Считай, что приказ получен, Том. Нынче приказывает совет армии. А он за тебя, будь уверен.
— Коли так… — напарник потер шею и в задумчивости уставился на окровавленную ладонь. — На третьем посту у меня тоже есть хороший товарищ. Жаль будет, если он даст себя подстрелить за неправое дело.
Солдаты один за другим соскользнули по лесенке в сумрак двора.
Солнце уже зашло, и крыша дворца узорно чернела на светло-зеленом небе. В окнах нижнего этажа зажигали свечи. Из парадной двери вышел швейцар со связкой горящих фонарей и принялся развешивать их над входом. Чем ярче освещался фасад и полукруг мощеного двора перед ним, тем гуще казалась темнота, лежавшая на прутьях ограды. Все же, если всмотреться, в темноте этой можно было угадать какое-то начавшееся движение. Тени перебегали от одной башенки к другой, иногда собирались по две, по три; доносились приглушенные голоса, кого-то окликали снизу. Прогрохотал уроненный на камни мушкет.
Эверард беспокойно похаживал в тесном пространстве башенки. Потом свесился через перила наружу, прислушался. Над потоком ночных шорохов, как стальная проволока, вплетенная в пеньковый канат, проступал то тут, то здесь далекий стук копыт. Говор и движение во дворе делались все оживленнее, но вскоре смолкли: видимо, услышали и там.
Топот приближался.
Уже можно было понять, что едет человек десять, не больше. Всадники появились из-за отрога холма внезапно — по звуку казалось, что они скачут с другой стороны. Часовые замерли на своих местах. В башне над воротами мелькнул огонек зажженного фитиля. Дорога некоторое время шла параллельно ограде, и здесь кони пошли шагом.
— Эверард, эгей! — донесся хрипловатый голос. — Где вы пропали?
— Все в порядке, мистер Джойс. — Эверард стал во весь рост и для пущей заметности положил на плечо белый платок. — Король у себя. Я предупредил солдат, что вы прибыли с честными намерениями.
Всадники тем временем приблизились к воротам, вернее, к тому месту перед ними, где ров пересекал дорогу. Древко пики протянулось над водой и несколько раз сильно ударило в доски поднятого моста. Громко и резко пропела труба. И сразу (видимо, уже заметили и ждали) распахнулось окно в боковом крыле дворца, и человек в генеральском мундире возник там, освещенный сзади зажженным канделябром.
— Эй, кто там явился? Что происходит?
— Усталые солдаты просятся на ночлег, — долетел насмешливый голос.
— Какой полк? Кто у вас главный?
— Все главные, — ответил тот же голос. Один всадник выехал вперед и поднял руку:
— Мое имя Джойс. Корнет гвардейского полка генерала Ферфакса. Мне нужно немедленно говорить с королем.
— От чьего имени?
— От своего собственного.
Генерал уперся руками в подоконник и картинно захохотал. За спиной его появились другие люди, они вытягивали головы и тоже смеялись.
— Мое имя генерал Браун. Я комиссар, посланный парламентом к особе его величества. И я вам заявляю, что к королю вы допущены не будете. Убирайтесь отсюда, да поживее.
— Не будем терять времени на препирательства, генерал. Велите солдатам открыть ворота и известите короля о прибытии посланцев армии.
— Чей бы приказ вы ни исполняли, — закричал генерал, — я добьюсь, чтобы дело кончилось для вас полевым судом! Солдаты! Стреляйте по этим наглецам!
Тягостная тишина повисла в воздухе. В башне над воротами шла какая-то возня; кто-то выругался, потом снова все затихло.
— Солдаты! Вы присягали на верность парламенту. От имени парламента приказываю вам: стреляйте!
Всадники попятились от ворот, и резкий звук трубы снова взлетел вверх — на этот раз сигналом атаки. Из-за холмов ему ответила другая труба, и тонкий трубный звук, как натянутая леса, начал вытягивать из тишины что-то огромно-тяжелое, раздвигающее все прочие звуки, — мерный, нарастающий гул сотен копыт. Темная полоса кавалерийской колонны, выплывая из-за холмов, заливала белую дорогу, разливалась шире вправо и влево, охватывала дворец полукругом.
Браун и его свита исчезли; вспугнутыми птицами полетели за окнами огоньки свечей.
— Да здравствует армия! — Первый крик прозвучал нерешительно, но его сразу подхватили на других постах: — Да здравствует генерал Ферфакс! Армии и агитаторам ура! Долой предателей!
Мост, поскрипывая, начал опускаться под копыта набегающих коней. Ворота распахнулись, и голова колонны, смешавшись с передовым разъездом, въехала во двор. Шпаги оставались в ножнах, пистолеты — в кобурах. Солдаты гарнизона высыпали навстречу, перемешались с кавалеристами, хватали лошадей под уздцы, что-то возбужденно кричали.
— Какого полка?
— Что-нибудь случилось?
— Где Ферфакс?
— Ферфакс-то с армией, а вот где ваш комендант?
— Эй, земляк, никак ты из Нориджа?
— Созывают общее собрание армии!
— Вздумали водить нас за нос, ха!
— Придется им теперь потрясти мошной.
— Эй, ищите коменданта!
— Они хотели увезти короля и начать все сначала.
Эверард протискивался к крыльцу, таща за собой Форстера.
— Мистер Джойс! Мистер Джойс! Вот честный малый, о котором я вам говорил. Готов показать нам, где спальня короля.
Джойс повернул к ним тонкогубое лицо.
— Буду весьма признателен, друг. Идемте скорей, пока его величество не выкинул какой-нибудь глупости.
Они ринулись вверх по лестнице. Десятка три солдат побежали за ними, грохоча сапогами по ступеням, рассыпаясь по боковым коридорам, занимая посты у дверей. Испуганные слуги жались по стенам. С площадки второго этажа человек в одном белье ошалело смотрел на пришельцев. Проход к покоям короля был устлан толстым ковром, и в конце, на фоне малиновых драпировок, застыли два стражника с алебардами. Между ними метался бледный камердинер. Он то вздымал руки к небу, то протягивал их ладонями вперед, в сторону непрошеных гостей, то умоляюще прижимал к губам:
— Тише, прошу вас!.. Джентльмены, такой грохот… Кто вам позволил? Король уже спит.
— Придется разбудить. — Джойс деловито принялся счищать с колена пыльное пятно. — Доложите, что посланцы армии желают говорить с ним по важному делу.
— Какие посланцы? Вы сошли с ума! Врываться в королевские покои… в такой час, в таком виде!
— Для людей, проскакавших от самого Оксфорда, вид у нас вполне приличный. Но если вы предложите мне щетку, я не откажусь.
— Я не могу допустить вас к королю без разрешения комиссаров парламента.
— Они только помешают нашей беседе. Чтобы этого не случилось, я расставил часовых у их дверей.
— Но по чьему приказу?
— По приказу того, кто их не боится.
— Вы не понимаете, что такое оскорбление, нанесенное монарху, не может остаться безнаказанным.
— Никто не собирается оскорблять короля. Напротив, мы прибыли, чтобы вызволить его из бесчестных и предательских рук. И если вы доложите о нас, я уверен…
— Я доложу о вас утром, а до тех пор…
— Очень жаль, что мы вынуждены нарушить сон его величества…
— Нет, нет, нет! Об этом не может быть и речи.
— Слушайте, любезный! — Джойс повысил голос и грудью надвинулся на камердинера. — Или вы сейчас же исполните свою обязанность, или мы войдем всей толпой без доклада. Войдем, даже если для этого нам придется продырявить животы вашим молодцам.
Рука его легла на пояс и привычным коротким движением выдернула пистолет. Эверард и Форстер, ожидая знака, не спускали с него взгляда. У стражников были молодые, безусые лица, а глаза горели лихорадочным воодушевлением. Было ясно, что иначе как силой их не удастся оттащить с поста. Камердинер, тоже осмелев от отчаяния, прижимался спиной к дверям и упрямо мотал головой.
В начале коридора появилась новая группа кавалеристов. Джойс сделал шаг вперед, но в это время из спальни долетел тонкий звук колокольчика. Голова камердинера перестала мотаться, поднялась, прислушалась, потом испустила длинное «тс-с-с-с» и исчезла за дверьми.
— А парень-то не робок, — Эверард толкнул Форстера локтем. — Если король рассердится и уволит его, тебе бы стоило предложить ему местечко в своем взводе.
Через минуту камердинер вышел обратно, принял церемонную позу и произнес:
— Его величество ждет вас. Оружие можете сдать дежурным.
Джойс хмыкнул, повертел в задумчивости перед глазами пистолет и, видимо решив, что это не та вещь, с которой он хотел бы сейчас расстаться, решительно вошел в спальню — шляпа в одной руке, пистолет в другой. Камердинер, зашипев, исчез за ним.
Прошло около получаса.
Дворец наполнялся ровным гудением, солдаты, переговариваясь, сновали по всем проходам. Кое-кто уже тащил в комнаты второго этажа тюфяки, готовил ночлег. Пришло известие, что комендант бежал неизвестно куда. Эверард пытался расспросить о нем безусых алебардщиков, но они лишь косились на него и стискивали зубы.
Наконец портьера раздвинулась, выпустила Джойса — пистолет уже был спрятан, — а вслед за ним несколько успокоенного камердинера.
— Похоже, любезный, вы все тут крепко надоели королю. Он даже не поставил условием взять кого-нибудь из вас с собой. — Джойс усмехнулся, затем повернулся к солдатам, толпившимся в коридоре, и скомандовал. — Выставить часовых. У спальни короля — двойной караул. Остальным отдых до утра. В шесть быть готовым к выступлению.
Ряды неподвижных всадников заполняли двор, вытягивались и наружу, за ограду, когда наутро король в сопровождении парламентских комиссаров вышел на ступени дворца. У него был вид человека, не очень хорошо спавшего, но тем не менее с любопытством и оживлением готовящегося принять все, что несет ему наступающий день. Светлые, чуть навыкате глаза быстро оглядели построенный отряд, росистую зелень кустов у ограды, две кареты, запряженные четверкой, пока еще стоящие вдали, у конюшен, и остановились на выехавшем вперед Джойсе.
— Мистер Джойс! — голос короля звучал звонко и повелительно. — Скажите, кто дал вам право, кто дал вам полномочие вторгнуться в этот замок и увезти меня отсюда?
Джойс снял шляпу и, чуть пригнув голову, с видом человека, который устал повторять двадцать раз одно и то же, но ради приличия готов повторить и в двадцать первый, спокойно ответил:
— Армия, государь. Меня уполномочила армия, которая хочет предупредить своих врагов и помешать им произвести новое кровопролитие в нашем отечестве.
— Но армия не есть законная власть.
— Для меня приказы ее не подлежат обсуждению.
— Я признаю законной лишь свою власть, а после моей — власть парламента.
— Люди, которых видит перед собой ваше величество, отдали много крови для укрепления власти парламента.
— По крайней мере, есть у вас приказ сэра Томаса Ферфакса?
— У меня есть приказание армии, а генерал входит в состав армии.
— Это не ответ. Я спрашиваю, есть ли у вас письменное приказание?
— Государь, — в голосе Джойса проступало теперь откровенное раздражение, — прошу вас, избавьте меня от этих вопросов. Я достаточно разъяснил вам суть дела.
— Но вы так и не показали мне своего полномочия.
— Да вот же оно.
Кивок Джойса был таким неопределенным, что король не понял и переспросил:
— Где же?
Джойс поднял руку и ткнул большим пальцем через плечо.
Король чуть приоткрыл рот, будто хотел произнести «а-а», обвел ряды всадников долгим взглядом и рассмеялся:
— Ну, мистер Джойс, признаюсь, вы меня убедили. В жизни своей не видал более надежного полномочия, выписанного столь крупными буквами. Молодцы ваши вооружены на диво и выглядят весьма браво. — Он говорил громко, почти не заикаясь. — Но знайте, что лишь силой удастся вам увезти меня отсюда, если мне не будет обеспечена должная почтительность и возможность молиться богу, как того требует англиканская вера. Обещаете ли вы это?
— Обещаем! — донеслось из рядов. — Клянемся! Мы все клянемся!
— Не в нашем обычае, государь, стеснять чью-либо совесть. Веротерпимость должна распространяться и на королей.
Джойс сделал знак, и одна из карет подкатила к парадному въезду. Лакеи соскочили с запяток, откинули ступеньку, распахнули дверцу. Король начал спускаться, комиссары понуро пошли за ним.
Июнь, 1647
«Парламент проголосовал за то, чтобы король был доставлен в Ричмонд в сопровождении тех же комиссаров, которые находились при нем в Холмби; однако армия отказалась повиноваться и оставила короля при главной квартире. Со своей стороны, военный совет обвинил в государственной измене одиннадцать членов палаты общин, которых считал своими главными недоброжелателями в пресвитерианской партии. После долгих и страстных дебатов в общинах было постановлено, что эти одиннадцать добровольно удалятся из парламента на шесть месяцев».
Люси Хатчинсон. «Воспоминания»
26 июля, 1647
«Пресвитерианская партия представила в парламент петицию от Сити с требованием возвратить командование городской милицией пресвитерианам. По тону это была скорее команда, нежели петиция. Разнузданная толпа вломилась в зал заседаний, распахнула двери и кричала: „Голосуйте! голосуйте!“, грозя тем, что она не даст палате разойтись до тех пор, пока та не исполнит требований, изложенных в петиции. В конце концов общины уступили, но мятежникам показалось этого мало. Они схватили спикера, бросили его обратно в кресло (неслыханное насилие над парламентом!) и добились от него и от прочих членов постановления о том, чтобы королю было позволено прибыть в столицу.
В ответ на это генерал Ферфакс отдал армии приказ двинуться на Лондон».
Мэй. «История Долгого парламента»
6 августа, 1647
«Когда армия вступила в Лондон, в Хайд-парке мэр и старейшины вышли навстречу генералу, смиренно приветствовали его и просили извинить их за то, что благие намерения заставили их поступать опрометчиво; от имени города они поднесли ему большой золотой кубок. Генерал обошелся с ними неприветливо, отказался принять кубок и проехал мимо. Кавалерия, пехота и артиллерия прошли через город в величайшем порядке, не причинив никому ни малейшего вреда, не оскорбив даже словом, что создало офицерам и солдатам репутацию людей замечательной выдержки и дисциплины. По решению парламента Сити собрало заем на 100 тысяч фунтов стерлингов для покрытия нужд армии».
Хайд-Кларендон. «История мятежа»
6 сентября, 1647
Лондон, Тауэр
— Нет, генерал, не верю я тому, что болтают о вас в лондонских тавернах. Титул графа для себя и губернаторство в Ирландии для вашего зятя Айртона? Не может это быть пределом ваших устремлений. Не так уж вы близоруки. Но что же тогда? Чего еще вы надеетесь добиться от короля? Зачем эти постоянные встречи во дворце, эти придворные интриганы, носящие вам конверты с гербом, эти тайные совещания и переговоры? Вы растрогались, увидев, как король играет со своими детьми? И этого оказалось достаточно? Достаточно, чтобы забыть всю бесконечную цепь обманов, предательств, насилий, несправедливостей, которая тянется за этим человеком? Неужели вы не понимаете, что, вернувшись к власти, он первым делом начнет искать благовидный предлог, чтобы обвинить вас в измене и заменить этот изящный шелковый галстук пеньковым?
Лилберн расхаживал по камере, сжимая в руке измазанное чернилами перо и время от времени останавливаясь перед сидящим на топчане Кромвелем. По случаю визита высокого гостя пол с утра мыли горячей водой со щелоком, и запах влажного камня до сих пор стойко держался в воздухе. Тома «Институций английских законов» вздымались из моря бумаг на столе, как темный утес.
— Говоря вашим же языком, дорогой Лилберн, — в бурных волнах плывет наш корабль. — Кромвель вытянул вперед ногу в сапоге. — В бурных волнах, и пора бы ему пристать хоть к какой-то пристани. Лишь бы она могла дать укрытие людям истинной веры. Пусть даже эта пристань называлась бы «Король Карл Стюарт» — я был уже согласен и на это. Но теперь мне тоже думается по-вашему: пустые мечты. Король не хочет видеть очевидных вещей, принимает наши уступки и наши поблажки за проявление слабости. «Вы вознамерились быть судьей между армией и парламентом, государь, — сказал ему недавно генерал-комиссар Айртон. — Но вы ошибаетесь, — это армия будет судьей между парламентом и вами».
— Генерал, «укрытие для людей истинной веры» — разве это все? Гражданская война началась из-за того, что попирались английские вольности, народные права. Свобода совести — лишь одно из них. Если вы обеспечите только ее одну и дадите растоптать все остальное, война вспыхнет снова. И не надейтесь, что король или лорды отступятся от своего властолюбия, от своих привилегий из страха перед новыми реками крови.
— Не в лордах главная опасность.
— Позвольте спросить вас тогда: а почему мы с вами разговариваем здесь?
Кромвель поднял недоумевающий взгляд, потом слегка усмехнулся и отер платком мясистые щеки.
— Потому что в своем письме вы написали, что считаете меня не совсем еще пропащим и просите о встрече. Вот я и явился.
— Да я не о том. Почему наша встреча происходит здесь, в Тауэре? Почему не в штабе армии, не у вас дома, не у меня?
— Армия уже кое-что сделала для вас. Вам разрешили пользоваться письменными принадлежностями, книгами, пускают посетителей, даже камеру запирают только на ночь.
— Но почему же я до сих пор не на свободе?
— Терпение, мой друг, терпение.
— Я вам скажу почему: потому что вы, в прошлом самый горячий «анти-лорд», нынче ни за что не хотите ссориться с верхней палатой, не хотите стать на нашу сторону в борьбе против нее.
— Думаю, ваше освобождение теперь — вопрос нескольких недель. Палата общин создает специальный комитет для разбора вашего дела. Ему будет поручено выслушать вас, найти в прошлом прецеденты, собрать свидетельские показания.
— Прецеденты! — Лилберн схватился за голову, потом воздел руки к потолку: — Силы небесные! Они и здесь будут искать прецеденты. Ночью к ним подойдет бандит и скажет: я отнял кошелек у такого-то, и такого-то, и у такого; вот сколько у меня прецедентов; значит, ты уже должен отдать мне свой кошелек добровольно. Да не было таких прецедентов в истории Англии! Я вам заранее скажу: не было еще случая, чтобы человек осмелился открыто отказать лордам в праве суда над ним. Но разве это значит, что цепь творившихся беззаконий надо объявить законом?!.
— Я мог бы использовать свое влияние в палате лордов и добиться, чтобы вас выпустили под залог.
Лилберн ошеломленно уставился на него, затем сделал несколько шагов в сторону и тяжело опустился на табурет.
— Генерал, вы меня убиваете. Пятнадцать месяцев я сижу здесь в Тауэре, не видя белого света, оставив на произвол судьбы жену, детей, дела, постепенно умирая от неподвижности, от духоты, от этого камня кругом. Мне нет еще тридцати, а по виду — все пятьдесят. И единственное, что меня поддерживало все это время, была надежда: люди знают, ради чего я терплю такую жизнь. Но вот приходите вы и говорите «искать прецеденты», «выпустить под залог». Поистине, можно прийти в отчаяние от подобной близорукости.
Кромвель тяжело засопел, набычился, стиснул руками края топчана. Покачивание его головы можно было принять и за упрек, и за выражение сочувствия, и за терпеливую готовность слушать дальше.
— Неужели даже вам я должен объяснять, что все это время мое освобождение было в моих руках? Что стоило мне обратиться к лордам за помилованием, признать их суд, и двери Тауэра тотчас распахнулись бы для меня? Что, когда я призываю палату общин срочно заняться моим делом, мною движет не корысть, не слабость, не эгоизм? Я действительно убежден, что у них нет сейчас дел большей принципиальной важности, чем моя тяжба с лордами за права английского гражданина.
— Вы все еще ищете у общин защиты от лордов. А знаете ли вы, что в своем нынешнем составе верхняя палата гораздо решительнее склоняется на нашу сторону, чем нижняя?
— Какое мне дело до нынешнего состава палат! Я не могу и не хочу подчинять свои действия личным пристрастиям, личным связям, личным видам и выгодам. Да, нижняя палата сейчас наполовину состоит из трусов и предателей, пытавшихся поднять Лондон против армии. Что с того? Принцип, разум, закон — вот единственное, чему я готов подчиняться. Да я скорее соглашусь жить под властью самого строгого закона, чем под произволом милейших и добрейших людей.
— Личные выгоды, личные виды, говорите вы? — Кромвель весь перегнулся вперед, голос его быстро начал густеть, нарастать, пока не поднялся почти до крика. — Вот что я вам скажу на это. Вы вцепились в свои принципы зубами, потому что так вам удобнее не замечать, что творится вокруг. Вы выдумали какой-то народ — премудрый, всевидящий, способный бороться за свои вольности, способный управлять собой, контролировать своих правителей. Вам наплевать на то, что на самом деле бóльшая половина этого народа — отъявленные роялисты, а добрая треть — страстные пресвитериане. Вы ратуете за выборы нового парламента и не желаете даже задуматься над тем, что новый будет в десять раз хуже нынешнего. А так оно и случится, за это я голову дам на отсечение! И что тогда? Вы и этот новый парламент объявите изменническим и начнете войну против него?
Он так кричал, что охрана, оставленная в коридоре, распахнула дверь в камеру; мелькнули встревоженные лица двух корнетов. Кромвель досадливо отмахнулся от них и продолжал чуть тише, голосом, сдавленным от сдерживаемого напряжения:
— Вы вечно вопите о величии закона, но от ваших криков ничего, кроме смуты, не происходит. «Долой власть неправедную»? Прекрасно! А где взять другую? Об этом вы не желаете задуматься, а толпа из всех ваших призывов слышит лишь одно слово «долой»! Да, мы засиделись в палате общин, да, семь лет у власти могут развратить кого угодно. И все же это мы поднялись на борьбу с королем, мы разбили кавалеров, мы поддерживаем порядок в стране, насколько это вообще в человеческих силах.
— Самообман. В стране сейчас нет порядка и не осталось другой власти, кроме власти меча. Вскоре я перестану посылать свои апелляции и увещевания в Вестминстер, а разошлю их прямо в полки.
— И он еще хочет, чтобы я добивался его освобождения! Вы со своим Овертоном ухитряетесь мутить мозги солдатам, даже сидя за решеткой. Что же будет, когда вас выпустят на свободу?
— Если слуги, облеченные властью, ничего не делают для меня, я буду взывать к тому, кто облек их властью, — к хозяину, к народу.
— Интересно будет послушать, что вы запоете, когда этот хозяин покажет вам свое истинное лицо. Вы и его объявите предателем английских вольностей, как уже объявили меня и мистера Айртона? Неужели есть вообще кто-то, с кем бы вы могли жить в мире и согласии? Знаете, какой анекдот ходит о вас? Что если бы вы остались последним и единственным человеком на всем белом свете, то Джон немедленно сцепился бы с Лилберном, а Лилберн — с Джоном. Я хохотал от души.
— Хотите условие? Если парламент примет мою сторону в тяжбе с лордами, если признает, что нет у них права суда над свободным англичанином, я готов тут же отправиться в пожизненное изгнание и больше ни с кем не сцепляться. Тем более что жизнь в стране, где надо приносить присяги, платить десятину и подчиняться монопольным шайкам денежных мешков, привлекает меня все меньше и меньше. Такой вариант вас устроит?
Кромвель тяжело поднялся с топчана, пересек камеру и, нависнув над Лилберном красным лицом, несколько раз покачал головой. Голос его вдруг стал мягким и дружеским, в нем появились даже сердечные интонации, каких Лилберн не слышал с того памятного вечера, когда они ехали бок о бок по улицам Донкастера:
— Нет, мой дорогой долговязый Джон, старого Нола не устраивает, чтобы честные и мужественные люди покидали страну в такую минуту. Меня бы гораздо больше устроило, чтобы они перестали на минуту кричать о том, чего они «не хотят, не признают, не приемлют», и сказали бы наконец ясно и отчетливо, за что они стоят. Вы, Уолвин, Овертон, Уайльдман — неужели вы не можете изложить на бумаге ясно и четко, в каком виде должно предстать новое государственное устройство Англии? Мы бы могли тогда собраться все вместе и пункт за пунктом обсудить все детали, выявить расхождения, сойтись на главном. «Не вливают вина молодого в мехи ветхие». Так не пора ли нам заняться изготовлением мехов новых?
Лилберн поднял глаза, сглотнул сухим горлом. Было нелегко выносить лицо Кромвеля так близко от себя. От него несло жаром, взгляд давил, притягивал, привычно пытался подчинить.
— Генерал, с какой бы радостью и готовностью я согласился на ваше предложение. И не моя вина, что невольные сомнения закрадываются в душу. А не уловка ли это? Не пытаются ли армейские гранды получить передышку? Обнадежить, ослабить наш напор, выиграть время, а там поссорить нас с агитаторами, оторвать от солдат. Где у меня гарантия, что во время последней встречи с королем вы не обсуждали средств избавиться от нас?
— Что и говорить, с королем разговаривать куда приятнее, чем с вами, мистер Лилберн. Манеры у него не в пример вашим. Что бы он обо мне ни думал, воспитание не позволит ему высказать и десятой доли тех оскорблений, которые мне приходится выслушивать от вас. Одна беда — верить ему уже невозможно. Пеньковый галстук для меня, действительно, так и вьется в лучах его приветливого взгляда.
— В общем, мы уже начали работу над подобным документом. «Народное соглашение» — так он будет называться. В нем должны быть собраны основные принципы управления и статьи того верховного закона, которому надлежит оставаться неизменным при любом парламенте. Работу можно было бы ускорить. Хотя, сами понимаете, все обсуждения приходится вести заглазно, письмами. Очень тут не разгонишься.
— Я сделаю все возможное, чтобы добиться для вас каких-нибудь послаблений в тюремном режиме. Об одном лишь прошу: внушите своим друзьям, что бунтовать армию сейчас — значит рубить сук, на котором вы сидите. И еще. Составляя это свое «Народное соглашение», не давайте воли химерам. Примеряйте его на сегодняшнего англичанина, а не на тот манекен, который вы состряпали из всяких абстракций — разума, справедливости, вольнолюбия.
— На сегодняшнего? На того, которого согнуло и перекорежило веками рабства и угнетения?
Кромвель наконец убрал от него свое лицо, вздохнул, отошел к топчану. Взял шляпу.
— Управлять людьми — дело бесконечно трудное, дорогой Лилберн. Если вы внушите человеку, что он должен подчиняться верховной власти лишь до того момента, пока она его устраивает, ничего, кроме анархии, вы не получите.
— О, эту песню я слышал уже много раз. Что мы смутьяны, что мы разрушители, что мы ненавидим всякий порядок, что мечтаем уравнять всех и вся. Кличка «левеллер» теперь пристанет к нам так же прочно, как раньше «круглоголовый».
Кромвель уже стоял у дверей, расправляя слипшиеся пальцы перчатки.
— Вы не сможете отрицать, что до сих пор во всех ваших стычках я ни разу не стал на сторону ваших врагов. Очень во многом мы сходимся. Но знаете ли, в чем главная разница между нами? В том, что я умею выслушать других людей, а вы — нет. Вы всегда слышите только себя.
Он кивнул, вышел из камеры и, жестом отослав охрану вперед, пошел по коридору. Ему уже оставалось несколько шагов до поворота, когда высунувшийся из камеры Лилберн окликнул его и помахал пером.
— Генерал! — Издали было не понять, усмехается он или просто щурит в полутьме поврежденный глаз. — Генерал, я хотел сказать… Вы действительно умеете выслушать других. Но уж зато, когда вам доведется слушать себя, вы воображаете, что слышите самого господа бога.
Осень, 1647
«Всякая власть только доверена, дарована и передана совместно, по общему согласию. По природе же каждый индивидуум наделен правами, на которые никто не может посягать и которые не могут быть никем узурпированы. Для лучшего обеспечения интересов и власти народа все титулы, прерогативы, привилегии, патенты, право наследования титулов и привилегий сословия пэров должны быть полностью отменены, уничтожены и объявлены недействительными, и все те, кто на основе этих привилегий заседают в парламенте, должны быть оттуда удалены».
Овертон. «Воззвание»
Октябрь, 1647
«Теми трудами, которые мы понесли, и теми опасностями, которым мы себя подвергали в последнее время, мы показали всему миру, насколько высоко мы ценим нашу свободу. Теперь, когда бог столь подвинул наше дело, предав врагов в наши руки, мы считаем себя обязанными друг перед другом приложить все наши старания к тому, чтобы избежать в будущем как опасности снова впасть в рабство, так и прискорбной необходимости вести новую войну. Невозможно даже представить себе, чтобы такое огромное число наших соотечественников выступило против нас во время междоусобной войны, если бы они не заблуждались в понимании своего собственного блага. Мы можем поэтому с уверенностью полагать, что, когда наши общие права и вольности будут ясно установлены, любые усилия тех, кто стремится сделаться нашими господами, потерпят крах».
Из текста «Народного соглашения»
29 октября, 1647
Лондон, Патни
Небольшая церковь святой Марии в лондонском предместье Патни. Скамьи частью вынесены, частью отодвинуты к стенам. Посредине стоит длинный пустой стол, за которым сидят Кромвель, Айртон, полковник Рейнборо, Уайльдман, Сексби, Эверард, Аллен, штатские левеллеры, солдаты и офицеры, входящие в Генеральный совет армии, всего человек двадцать. На подоконнике, сняв шпагу и пистолеты, примостился проповедник Хью Питерс. В зале довольно светло, но рядом с секретарем Кларком, записывающим речи выступающих, торчит несколько оплывших огарков, оставшихся с предыдущего заседания.
Кларк (дочитывает «Народное соглашение»). «…И мы объявляем все вышеприведенное нашими прирожденными правами, которые мы решили отстаивать всеми силами от любых посягательств. Нас обязывает к тому не только кровь наших предков, часто лившаяся напрасно, но и наш собственный горький опыт. Ибо, хотя мы долго ждали и дорого заплатили за возможность провозгласить эти ясные принципы управления государством, нас до сих пор стараются удержать в подчинении тем людям, которые обращали нас в рабство и довели страну до жесточайшей междоусобной войны».
Кромвель. Я думаю, и те, кто сочинял «Народное соглашение», и те, кто слушал его сейчас, отдают себе отчет, что речь в нем идет о коренном изменении государственного устройства нашего королевства. Дело слишком важное и ответственное, чтобы мы могли решиться на него, не предусмотрев всех возможных последствий. Я бы хотел выслушать мнения собравшихся. Кто имеет что-нибудь сказать?
Сексби. Мне кажется, беда всех наших прежних попыток достичь справедливого мира в стране состояла в том, что мы пытались удовлетворить все стороны и вызвали лишь всеобщее озлобление против себя. Мы пытались поддерживать нынешний парламент, но он оказался домом из гнилых досок. Мы хотели угодить королю и слишком поздно поняли, что угодить ему можно только одним способом — перерезав глотки самим себе. Конечно, на пути предлагаемых изменений нас ждет много опасностей. Но оставаться при нынешнем положении дел еще опаснее. А генерал-лейтенанту Кромвелю и генерал-комиссару Айртону я хочу сказать одно: доверие к вам в армии сильно подорвано из-за тесных отношений с королем.
Айртон. Полагаю, я достаточно доказал всей своей жизнью, что у моих действий не было иных целей, кроме блага государства. Клянусь, мы не вынашивали никаких тайных помыслов о возвращении королю прежней власти. Но в то же время я всегда говорил и повторяю вновь: ни свержение короля, ни уничтожение парламента не представляются мне правильным выходом. И я никогда не пойду с теми, кто жаждет разрушения всех прежних порядков. Как сохранить их без ущерба для дела английской свободы — вот в чем проблема.
Кромвель. Кроме того, на нас лежат известные обязательства. Мы клялись служить этому парламенту верой и правдой.
Уайльдман. Разве человек должен исполнять принятое на себя обязательство и после того, как увидел, что оно нечестно, несправедливо, что другая сторона нарушает свое? Делом чести бывает отказаться от такого обязательства, даже если оно дано под присягой.
Айртон. Весьма опасный принцип. Так всякий человек может отказаться подчиняться закону, заявив, что находит закон недостаточно справедливым.
Уайльдман. А мне представляется гораздо более опасным обратное — ловить человека в сети прежних обязательств.
Эверард. Среди солдат ходит такая шутка: парламент и лорды будут держать нас в петле Ковенанта до тех пор, пока не придет король и не скажет, на чьем горле надо затянуть ее.
Полковник Рейнборо. Если меня спросят, справедливо ли держаться за прежние обязательства, давая врагу время собраться с силами, чтобы сокрушить нас, я скажу без колебаний: нет, несправедливо!
Айртон. Похоже, вы уже назначили себя верховными судьями в вопросах справедливости.
Кромвель. Кроме того, в тоне ваших речей явно видна озлобленность и предубежденность против нас. Я это заметил еще во время вчерашнего заседания. Вам кажется, будто мы так привержены к старым формам правления, что говорить с нами бесполезно, тем более надеяться на какое-то соглашение. Уверяю вас, это не так. Я нахожу много дельного и полезного в предложенном проекте. Я верю, что люди, сочинявшие его, стремились к тому же, к чему и мы, — к достижению общественного блага. Но готовы ли умы и сердца нашего народа принять предлагаемые перемены? Вы назвали свой проект «Народным соглашением». Как вы собираетесь узнать, согласен народ с ним или нет? А что будет, если какая-то часть народа откажется принять его? Если выдвинет свой собственный? И не один, а несколько? Вы будете уговаривать, урезонивать или силой заставите подчиниться себе? Или дадите нации снова разделиться на графства и области, как во времена Алой и Белой розы? Не превратимся ли мы тогда в клубок грызущихся кланов, наподобие диких ирландцев?
Полковник Рейнборо. Когда мы начинали войну против короля, опасного и неясного было еще больше. И тем не менее мы смело пошли в бой и победили.
Уайльдман. То, что мы предлагаем, основано на естественном праве, на идеях справедливости и разума. Разум же дарован каждому человеку. Пусть не в одинаковой мере, зато в одинаковых формах. Поэтому мы не ждем серьезных противоречий. Стоит лишь раскрыть людям глаза на их прирожденные права, на положение дел, на суть верховной власти, и никаким расхождениям и спорам не останется места.
Проповедник Хью Питерс (не вставая с подоконника). Не для того господь зажег в нас свечу разума чтобы мы пытались заслонить ею божественный свет. И похоти наши тоже весьма любят прикрываться разумом и пользой. Не лучше ли нам пытаться с терпением искать свет божий внутри нас и молиться, чтоб бог ниспослал нам согласие и единение в духе и слове своем?
Айртон. Давайте не будем вдаваться сейчас в общие рассуждения о разуме, справедливости, будущих опасностях, наших обязательствах и прочем. Давайте говорить о пунктах предложенного проекта, и тогда все эти понятия будут всплывать в наших рассуждениях сами собой. Я попрошу секретаря зачитать первый пункт.
Кларк (читает). «Английский народ в настоящее время очень неравномерно распределен для выборов своих представителей в парламент между графствами, городами и местечками; следует провести новое распределение пропорционально численности жителей».
Айртон. Что касается тех гнилых местечек, где и людей-то почти не осталось, а право послать делегата в общины все еще держится, тут спору быть не может. Но я хочу спросить, кто подразумевается в документе под словом «жители»? То есть кому будет предоставлено право голоса при выборе в парламент? Всякому желающему?
Уайльдман (после паузы). Да. Мы считаем, что всякий англичанин, не отказавшийся от своих прирожденных прав, должен иметь возможность голосовать, независимо от своего происхождения или своего состояния.
Айртон. Всякий родившийся на английской земле? За счет одного только факта рождения?
Уайльдман. Да.
Айртон. Отдаете ли вы себе отчет в том, что таким образом вы переходите целиком на позиции естественного права и отказываетесь признавать право гражданское?
Полковник Рейнборо. Разве не естественно, чтобы каждый человек, живущий под властью правительства, выразил сначала свое согласие подчиниться этому правительству? Беднейшему человеку жизнь так же дорога, как и самому богатому. Как же можно требовать от него подчинения тому правительству, в образовании которого он не участвовал?
Айртон. Я хочу, чтоб вы ясно поняли, что это значит — «перейти на позиции естественного права». Человек может брать все, что ему необходимо для жизни, где бы он это ни обнаружил, — вот что такое естественное право. Вы должны будете рано или поздно признать за ним право на любую еду, одежду, питье, жилище, которые он видит перед собой и которые так необходимы ему для поддержания его существования. Он получает право также и на землю — завладевать ею, обрабатывать, пользоваться плодами ее. То есть, стоя на позициях естественного права, вы неминуемо придете к отрицанию права собственности.
Полковник Рейнборо. Не вижу почему.
Айртон. Что можно признать основной, фундаментальной чертой английской государственной системы? То, что в создании законов участвуют лишь люди, кровно заинтересованные в государстве, имеющие в нем постоянный местный интерес. А такими могут быть лишь те, кто владеет землей или участвует в местных промышленных предприятиях. Пусть это будет простой фригольдер с годовым доходом в 40 шиллингов — важно, что он сидит на земле. Человек, владеющий только деньгами, может в любую минуту забрать их и уехать в другую страну. Такому я бы не давал избирательных прав. Но и тому, кто никак не заинтересован в охране собственности, я бы ни в коем случае не дал доли в управлении.
Сексби. Я отдал нашей борьбе не только кровь свою, но и почти все деньги. Возможно, у меня до конца дней уже не будет дохода в 40 шиллингов. И на основании этого меня и моих товарищей лишат права посылать представителей в парламент?
Проповедник Хью Питерс. Всем, кто сражался за божье дело, избирательные права нужно дать без всяких изъятий.
Полковник Рейнборо. Ни в законах божьих, ни в законах природы я не нахожу ничего, оправдывающего такой порядок, при котором лорд посылает двадцать представителей, джентльмен — двух, а бедняк — ни одного. Этот порядок создан людьми, и он должен быть изменен.
Уайльдман. Неправда, будто принятие «Народного соглашения» поведет к уничтожению права собственности. Наоборот, оно является самым верным средством сохранить эту собственность. Вводя всеобщее избирательное право, мы реализуем непреложную истину: власть принадлежит народу в целом, и лишь для удобства он передает ее своим представителям.
Полковник Рейнборо. Только из-за того, что человек отстаивает свое естественное право иметь голос при избрании представителей, ему приписывают желание все разрушить. Собственность установил господь своей заповедью «не укради», и никто не покушается на нее. Вы же хотите заставить весь свет поверить, будто мы стоим за анархию.
Айртон. Я полагал, что мы обсуждаем документ, и не будем выискивать в словах друг друга тайный смысл, которого там нет.
Кромвель. Вы не стоите за анархию, но меры, предлагаемые вами, могут привести к ней, вот о чем шла речь.
Проповедник Хью Питерс. Мне тоже в соображениях генерал-комиссара видится известный резон. Таких, что не имеют прочного интереса, у нас в Англии пять на одного. Возможно, получив право голоса, они сумеют без всякой анархии и смуты провести через парламент закон, устанавливающий равенство в движимом и недвижимом имуществе.
Сексби. Мы приняли участие в войне и подвергали риску жизнь нашу для того, чтобы восстановить наши прирожденные права. И что же выясняется?! Что для нас, не имеющих собственности, не будет и прав. О, смею уверить, если б вы предупредили об этом заранее, у вас было бы гораздо меньше солдат для защиты такого дела! Что касается меня, то я твердо решил: своих врожденных прав не отдам никому. Слышите? Никому! Какие бы последствия это ни повлекло. Я считаю, что самыми бедными и самыми жалкими в королевстве были те, кто не участвовал в деле защиты свободы. Их жизни стоили слишком мало, раз ими нельзя было оплатить благо для всех англичан.
Полковник Рейнборо. Пять неимущих на одного богатого? И что же отсюда следует? Что этих пятерых нужно сделать рабами одного? Они ведь такие же англичане, как и он.
Кромвель. Тише, джентльмены, прошу вас.
Айртон. Допустим, в нашу страну приехал иностранец. Он ведет свою торговлю, или занимается науками, или просто путешествует. Жизнь его, свобода, имущество находятся под охраной английских законов. Но при этом ни он, ни предки его согласия на издание этих законов не давали. Должен ли он подчиняться нашему законодательству? Или такое подчинение превращает его в раба?
Полковник Рейнборо. К чему вы клоните?
Айртон. К тому, что неучастие в законодательной власти еще не делает человека рабом. Он может свободно перемещаться по стране, заниматься любой деятельностью, растить потомство, передавать ему по наследству накопленное имущество, пользоваться всеми благами мира и порядка, даруемыми законом. Может даже покинуть страну, если существующие в ней стеснения кажутся ему обременительными. Но участвовать в издании законов могут только люди оседлые и обеспеченные, кровно заинтересованные в сохранении государственного здания, в этом я твердо убежден.
Проповедник Хью Питерс. Вы собираетесь предоставить избирательное право даже слугам и наемным рабочим?
Уайльдман. Безусловно.
Хью Питерс. Не думаете ли вы, что это приведет к еще большему неравенству, чем то, против которого вы восстаете? Всякий крупный наниматель сделается тогда полновластным распорядителем десятков и сотен голосов зависимых от него людей. Начнется купля-продажа голосов, и любой денежный мешок сможет иметь в кармане столько членов парламента, сколько пожелает.
Айртон. А вы помните, что в «Главах предложений армии», выдвинутых этим летом, было предложено распределять голоса по графствам не пропорционально количеству населения, а пропорционально сумме налогов, платимых графством в казну? По крайней мере, подобная основа не так текуча, как численность населения.
Кромвель. Должен заметить, что из всего сказанного здесь меньше всего мне понравилось ваше выступление, Сексби. Какой толк в добрых помыслах, если они вылетают в виде столь злобных слов.
Сексби. Я очень огорчен, что моя горячность в защите правого дела была неправильно понята. То, что я хотел сказать, сводится к следующему: недопустимо, чтобы люди, сражавшиеся за свободу, были лишены права голоса только из-за того, что они бедны. Меня могут обвинить в сеянии раскола в рядах армии, если я буду настаивать на своем. Но я послан сюда солдатами моего полка, и, если я буду молчать, вина моя окажется еще большей.
Эверард. Товарищи, посылая, предупреждали меня: «Они будут дебатировать, и аргументировать, и резонировать, и апеллировать, пока у тебя ум не зайдет за разум и ты не согласишься на все их предложения».
Айртон. Что бы вы ни говорили, для меня совершенно ясно, что от введения всеобщего избирательного права до отмены собственности — один шаг. Но тем не менее если я увижу, что большинство честных и самоотверженных людей, к каковым я прежде всего отношу полковника Рейнборо, стоят за него, я противодействовать не стану. Раскол в наших рядах — это самое страшное, что может случиться в данную минуту.
Кромвель. Все мы согласны с тем, что нынешняя система выборов нуждается в серьезнейших исправлениях. Возможно, ее следует расширить, предоставив значительные права крестьянам, владеющим землей. Слуги и нищие избирать, конечно, не должны. Но пусть уточнением деталей займется специальный комитет, который мы назначим из присутствующих здесь лиц.
Рейнборо. И следует созвать общее собрание армии для утверждения тех решений, к которым мы придем.
Кромвель. Обсудим и это. А пока нам следует перейти к другому важнейшему вопросу. Четвертый пункт «Народного соглашения», если я правильно его понял, лишает короля и лордов права накладывать «вето» на законопроекты, принятые палатой общин. Иными словами, нам предлагается решить: быть или не быть в Англии королевской власти?
Осень, 1647
«Лорды, еще заседавшие в парламенте, требовали себе всевозможных прерогатив, которые бы ограждали их от обычного правосудия, словно бы право на порок было особой привилегией знати. Благомыслящие же люди, которые стояли за равенство бедных и знатных перед законом и выступали с другими честными декларациями, получили прозвище левеллеров».
Люси Хатчинсон. «Воспоминания»
Ноябрь, 1647
«К этому времени в рядах армии сильно распространилось влияние людей, именовавшихся левеллерами. Они с большой дерзостью и уверенностью высказывались против короля и парламента и высших офицеров армии; выражали такую же озлобленность против лордов, как и против короля, и объявляли, что все степени людей должны быть уравнены. Стража у дверей короля была удвоена, как бы для лучшего обеспечения его безопасности, но часовые стали вести себя с посетителями грубо и вызывающе и производили много шума даже в ночные часы. Начальником над ними был поставлен офицер, который всякий раз, когда ему доводилось сказать вежливое слово или продемонстрировать хорошие манеры, совершал величайшее насилие над своей свирепой и грубой природой. И каждый день король получал письма от неизвестных доброжелателей с сообщениями о злодейских заговорах на его жизнь».
Хайд-Кларендон. «История мятежа»
10 ноября, 1647
«Дорогой полковник! Здесь ходят слухи о готовящемся покушении на особу его величества! Я умоляю вас позаботиться об усилении охраны, чтобы не дать совершиться такому чудовищному деянию».
Из письма Кромвеля начальнику охраны дворца Хэмптон-корт
12 ноября, 1647
Титчфилд-хауз, Гэмпшир
Ночная стража в Хэмптон-корте заступала только в полночь, и человек, вышедший из задней двери дворца в начале одиннадцатого часа, видимо, хорошо знал это! Он уверенно прошел по тропинке, усыпанной жухлой тополиной листвой, отворил калитку, отделявшую парк от леса, и, никем не замеченный, исчез в редком кустарнике, темневшем вдоль опушки. Отсюда до Темзы было три минуты ходу. Выйдя на берег, он вскоре разглядел в прибрежных камышах черный треугольник — нос причаленной лодки.
Лодочник протянул ему руку, помог перебраться через борт.
Камыши зашуршали, раздались, пошли назад, ломаясь под уключинами, потом снова сомкнулись темной стеной. Гребец сразу же направил лодку поперек течения и сильными рывками гнал до тех пор, пока она не оказалась в тени противоположного берега; потом повернул и осторожно двинулся вниз. Весло каждый раз будто прорывало черную пленку на поверхности, выплескивало спрятанное под ней серебро. В полном молчании проплыли они милю или две, пока с берега не долетел негромкий окрик.
Блеснул и исчез свет фонаря.

Три темных фигуры забрели в воду по колено, и лодка плавно вошла между ними, скрипнула днищем о песок. Двое приняли пассажира, на руках отнесли его на сухое место. Третий расплатился с гребцом и последовал за остальными. Со стороны полуразвалившегося сарая донеслось негромкое ржание. Четверо разобрали лошадей и гуськом въехали в тоннель лесной дороги.
— Сколько отсюда до Саттона? — негромко спросил один.
— Миль десять, не больше, — ответил другой. — Комнаты нам оставлены, так что можно будет немного передохнуть.
Но, видимо, в темноте они сбились с пути, потому что окраин городка смогли достигнуть лишь много часов спустя, на рассвете. Хозяин гостиницы, завернувшись в толстый стеганый халат, выбежал им навстречу и, не дав войти в дом, начал что-то горячо и встревоженно шептать, указывая на окна верхних номеров. Они некоторое время совещались между собой, потом уныло побрели к конюшням. Хозяин, не переставая беззвучно извиняться и кланяться, кинулся отвязывать им свежую подставу. Высокого черного жеребца подвели тому, кто плыл в лодке, остальным достались кони поплоше. Всадники выехали за ворота, быстро оставили позади пустынную улочку и у последнего дома свернули на саутгемптонскую дорогу.
Утренний свет прибывал медленно, и так же медленно и неуклонно набирал силу холодный восточный ветер. Желтая листва косо полетела с придорожных деревьев. Лошади бежали ровной рысью, и лишь на улицах попадавшихся навстречу местечек припускали в галоп. Всадник на черном жеребце замотал лицо шарфом, пряча его от окон просыпавшихся домов.
Так ехали час, другой, третий.
Миновали Гилфорд, Годалминг.
Питерсфилд объехали стороной и только здесь, укрывшись от ветра за холмы, устроили небольшой совет. Говорил в основном человек в шарфе. Двое других слабо и недружно возражали ему. Четвертый почти не принимал участия в споре, держал перед ними развернутую карту. Потом ветер прорвался в их укрытие, и карту пришлось держать в четыре руки. Наконец двое возражавших умолкли, почтительно поклонились, сели на коней и уехали в сторону Саутгемптона. Двое других немного погодя последовали за ними, но, дождавшись первого просвета в кустарнике, круто свернули на юг.
Еще около часа пришлось им кружить между холмами и дюнами, прежде чем усталые кони вывезли их на берег Ла-Манша. Продутый и прочищенный ветром воздух открывал широкую чернопенную полосу воды и за ней приземистую тушу — остров Уайт, Всадники свернули направо и после получаса езды въехали в высокие парковые ворота Титчфилд-хауза.
— Синьор Джанноти, вы опять будете говорить, что я пытаюсь обвязать детей подушками и соломой на все случаи жизни, что надеваю им шоры на глаза. Пусть так. И тем не менее я очень прошу вас: не давайте им в руки Тита Ливия.
Старая графиня замедлила шаг и, повиснув на локте своего спутника, пытливо и чуть испуганно заглянула ему в лицо. Из-за скверной погоды в сад выходить не хотелось, и они прогуливались вдоль западной стены дома. Ветер почти не долетал сюда, лишь время от времени маленькие водовороты палой листвы подкатывали к их ногам. Джанноти, стараясь не улыбнуться, повернулся всем корпусом к графине (некоторая деревянность в шее так и осталась у него после ранения) и спросил с деланным изумлением:
— Как? Неужели вы предпочитаете, чтобы ваши внуки изучали римскую историю по Светонию? Что может быть прямодушнее, благороднее, яснее доброго старого Ливия?
— В нем есть что-то такое жесткое. Да, что-то, напоминающее наших круглоголовых. Такое же упрямство, однобокость, такое же равнодушие к знатности, ко всему изящному. И не говорите мне, будто он всегда достоверен. Я слышала от знающих людей, что очень часто он вставлял в свои книги непроверенные легенды.
— Например?
— Например, эта история с удалением плебеев на Священную гору. Я не могу поверить, чтобы чернь, имея в руках оружие, вела себя так сдержанно и благоразумно.
— А в то, что сенат и без такого нажима даровал бы плебеям право иметь трибунов, — в это вы можете поверить?
— Изгнание царей тоже описано с явным сочувствием. А этот ужасный Брут,[34] казнивший собственных сыновей! Насколько было бы лучше, если б вы ограничились свободным пересказом, опуская самые жестокие места. Как хорошо вы пересказали им Гомера.
— Просто я слишком слаб в греческом, чтобы читать им подлинник.
Джанноти задумался, пытаясь выкатить носком сапога застрявший между плитами желудь, и в это время до них донесся звон подков. Они поспешили к концу тропинки, выглянули из-за угла дома и увидели двух всадников, въезжавших в ворота.
— Кто бы это мог быть?
Старая графиня, прикрываясь ладошкой от ветра, щурила слезящиеся глаза.
Джанноти всмотрелся, побледнел, потом сорвал с себя шляпу и, высвободив локоть, ринулся вперед. Он успел добежать как раз вовремя, чтобы помочь всаднику, устало слезавшему с черного коня. Потом припал губами к его руке:
— Ваше величество! Боже! Вы?.. В этих краях, в такую пору? Что случилось?
— Рад видеть вас вновь, Джанноти. Каким чудом вам и здесь удалось отыскать приличного портного? Этот камзол сидит на вас так же ладно, как в былую пору мундир. — Король повернул голову и слегка развел руками. — Графиня! Ваш король был вынужден бежать из собственного дворца, от собственной стражи, чтобы спасти свою жизнь.
Старушка приближалась к ним, сжимая сухими кулачками ворот у подбородка, отворачивая от ветра залитое слезами лицо.
— Ваше величество, вы же знаете… Всегда… Дом моего сына — ваш дом. В нашем роду все до одного… О господи! Что за страшное время!..
— Я знал, что найду здесь друзей. Возможно, если бы вы могли предложить мне какое-нибудь суденышко вместо дома, я выбрал бы его. Но сейчас — сейчас полцарства за стакан горячего грога.
Королю удавалось сохранять на губах приветливо-ироничную улыбку и говорить почти не заикаясь. Лишь оказавшись в теплой зале, опустившись в кресло у горячего камина, вытянув к огню закоченевшие пальцы, положив на край решетки ноги в грязных сапогах, он не смог больше сдерживать себя и издал то ли стон, то ли рыдание, в котором было все — тоска, страх, обида, отчаяние и бесконечная, все покрывающая усталость.
На следующий день ветер заметно ослаб, вода в проливе посветлела. С полудня король не отходил от южных окон Титчфилд-хауза, вглядываясь в дорогу, извивавшуюся между дюн, в морскую гладь. Тесная группа парковых сосен, кишевших белками и дятлами, закрывала часть горизонта.
— И все же вашему величеству не следует дожидаться посланных. — Джанноти сделал шаг вперед, стал рядом с королем. — Это просто опасно. Комендант острова никогда не даст им положительного ответа. Я видел его всего один раз, но этого довольно. Неважно, что он племянник вашего капеллана. Полковник армии Нового образца не перейдет на вашу сторону, не спрячет вас от погони.
— Мне говорили о нем как о человеке верном и благородном.
— Боюсь, при этом имелась в виду не его верность законному монарху, а скорее наоборот. В лучшем случае, он засыплет вас изъявлениями преданности и приставит к вашим дверям тройной караул. Вы только смените Хэмптон-корт на Кэрисбрук, тюрьму близ Темзы на тюрьму посреди Ла-Манша.
— Если он не пообещает полной преданности и готовности служить, посланные должны вернуться, не открывая ему моего местонахождения.
— Он не отпустит их. Иначе парламент обвинит его в измене.
— Что же вы предлагаете?
— Дайте мне все деньги, какие у вас есть при себе, и отправьте в Саутгемптон. Клянусь, я добуду вам корабль уже к вечеру. Самое позднее — к завтрашнему утру.
— Бегство на материк? Я всегда смотрел на это как на крайнее средство, которое можно использовать лишь в последний момент.
— Этот момент наступил, государь.
— Мои враги вот-вот передерутся между собой. Нужно только дождаться, когда они совсем потеряют рассудок и уничтожат друг друга.
— Безопаснее дожидаться этого счастливого дня на континенте. Здесь одно ваше присутствие и страх перед вами сплачивает их, мешает окончательному разрыву.
— Судьба изгнанника — не самый привлекательный удел.
— Мне ли не знать. И все же… О дева Мария! — глядите!
Они оба прижались лицом к холодному стеклу, вглядываясь в группу всадников, появившихся на гребне ближайшей из дюн.
Чайки низко стлались перед ними белыми черточками на фоне бурого песка.
— Это они! — воскликнул король. — Я вижу зеленый плащ моего камердинера!
— Но почему их четверо?
— Быть может, они нашли помощников. Или судовладельцев, готовых предложить свои услуги.
Всадники тем временем исчезли в низине и следующий раз появились гораздо ближе, уже у самых ворот. Лошади на подъеме шли шагом. При ровном пасмурном свете лицо каждого было отчетливо видно, и Джанноти почти закричал, вцепляясь пальцами в оконный переплет:
— Это не судовладельцы, государь! Это комендант острова со своим офицером!
Король отпрыгнул от окна, сделал несколько быстрых шагов, замер на середине зала, тяжело дыша. Джанноти побежал к дверям, попытался запереть их — ключа не было, да он, кажется, и так понял бессмысленность подобной попытки, — стал, уронив руки вдоль тела.
— Они предали вас?
Снизу, из вестибюля, донесся шум, голоса. Кто-то быстро поднимался по лестнице. Король сделал отстраняющий жест — Джанноти шагнул в сторону. Дверь распахнулась.
— Ваше величество, комендант почти наш! Лучшего нельзя было и желать.
Камердинер кланялся, улыбался, прижимал шляпу к груди, потом взмахивал ею перед собой, словно призывая невидимый хор подхватить и разделить его торжество. Однако и в жестах, и в тоне его было что-то лихорадочное. На зеленом плаще блестела черная полоса — должно быть, где-то прижало к просмоленному канату.
— Видели бы вы, как он испугался, увидев нас. «Джентльмены, что вы наделали?! Зачем вы привезли короля сюда! Как мне примирить теперь мой долг верноподданного и долг слуги парламента?» Он стал белее своего воротника.
— Ты меня доконал, Джек, — тихо сказал король. — Прикончил без ножа. Под страхом смерти вы не должны были выдавать моего убежища.
— Но комендант рассыпался в уверениях своей преданности вам! Говорил, что кровью своей готов защищать вас от всяких покушений и выполнит все, что не будет нарушением прямых приказов парламента. Потом он так потерялся, что предложил уже совершенную нелепость: чтобы один из нас остался с ним, а другой поехал бы к вам для переговоров. Конечно, мы наотрез отказались.
— Кому из вас он предложил остаться? — так же тихо спросил король.
— Мне, ваше величество. Но я знал, что соглашаться было бы глупо, что решительным напором можно добиться большего. И видите, я был прав. Он сам предложил поехать с нами, чтобы выразить свои верноподданнические чувства. Теперь мы можем диктовать ему условия, а не он нам.
— Ты очень испугался, Джек. Ты просто испугался остаться у них в руках и привел его сюда.
— Я?! Ваше величество, что вы говорите! Одно ваше слово — я спущусь вниз, и вы даже не узнаете, как выглядел комендант острова Уайт.
Король отошел к стене и, обессиленный, опустился в кресло. Лоб его лег на сцепленные пальцы, вьющиеся волосы свесились до колен.
— Ты хочешь убить его?
— В доме довольно слуг, чтобы справиться с двумя. Я был бы преступником, если б не держал в голове этого варианта.
— Чтобы потом обо мне говорили: кровавый Стюарт прирезал человека, доверившегося ему, приехавшего выразить свое почтение?
— Нет! Это будет казнь изменника за отказ служить своему королю.
— Замолчи. Поздно махать кулаками. Надо покориться судьбе.
— Но если вы не хотите его видеть…
— Нет, я приму его. Посмотрим, что он скажет. Хотя подожди… Может, отложим до вечера? Может, шхуна, обещанная тебе, все же появится?
Король поднял загоревшиеся надеждой глаза на Джанноти, потом перевел их на посветлевший, притихший пролив. Камердинер потупился, прижал шляпу к груди:
— Ваше величество, еще вчера вечером во все южные порты пришел приказ парламента. Полное эмбарго. Ни одно судно не может выйти без специального разрешения и осмотра.
— Уже? Если бы мои приказы доставлялись и исполнялись с такой же скоростью, я не оказался бы в столь жалком положении. Ступай. Скажи коменданту, что я приму его через полчаса.
Камердинер, пятясь и кланяясь, вышел из зала. Король откинулся в кресле, вытянул ноги, сжал виски.
— Видите, Джанноти, ваше предложение тоже было уже невыполнимо.
— Всегда можно отыскать человека, который не побоится эмбарго.
— Контрабандиста? Он возьмет деньги с вас, а потом перепродаст меня парламенту втридорога. Нет, я бы хотел, чтобы вы исполнили другое мое поручение.
— Все, что будет в моих силах, государь.
— При первой возможности отправляйтесь на материк. В Париж. Расскажите ее величеству, как все произошло. Скажите, что, несмотря на неудачу, я не теряю надежды. Предложения шотландцев делаются все щедрее и заманчивее.
— Они в ужасе от мысли, что Англия может попасть под власть индепендентов.
— Думаю, что их комиссары вскоре явятся ко мне еще более сговорчивыми. Но главное — и это под огромным секретом, — пусть она не принимает всерьез тех обещаний, которые я дам под давлением обстоятельств. Взгляды мои остаются неизменными, и пусть она рассматривает любую мою уступку как временную меру, как тактический ход.
— Я передам ей это с глазу на глаз. Но все же, быть может, некоторые настоящие уступки с вашей стороны могли бы…
— Не будем об этом говорить. У меня нет сил обсуждать в тысячный раз то, что решено раз и навсегда. Ступайте. Я не хочу, чтобы комендант застал нас вместе.
Джанноти взял протянутую руку, поцеловал влажные пальцы и попятился к выходу. Он уже был в дверях, когда король, видимо спохватившись и желая загладить сухость последних слов, сказал со слабой улыбкой:
— Садясь на корабль, постарайтесь все же перебороть себя и одеться во что-нибудь неприглядное. Иначе первый встречный шпион, увидев вас, смекнет, что вы за птица.
Ноябрь, 1647
«Получив известие о бегстве короля, парламент спешно послал верных людей во все морские порты, чтобы лишить его возможности скрыться за границу; и был выпущен приказ, грозивший смертной казнью и конфискацией имущества тому, кто укроет у себя короля и не сообщит об этом парламенту. Однако вскоре неопределенность рассеялась, ибо губернатор острова Уайт сообщил, что король отдал себя под его защиту, но что он, со своей стороны, готов выполнить все распоряжения парламента. Ему было приказано окружить короля подобающим почтением, снабжать его всем необходимым, но при этом охранять самым бдительным образом».
Мэй. «История Долгого парламента»
Осень, 1647
«Я советую вам постоянно контролировать и менять агитаторов, чтобы они не загнили под влиянием и уговорами офицеров, как загнивает стоячая вода; добивайтесь чистки нынешнего парламента, удаления всех, кто заседал в дни бегства спикеров к армии; настаивайте на выплате жалованья, ибо свободный постой озлобляет против вас население, вынужденное уплачивать при покупке хлеба, пива, мяса акциз на ваше содержание и тут же отдавать вам все эти продукты даром; требуйте уничтожения церковной десятины, отмены монополий, принятия „Народного соглашения“. Но главное — не доверяйте генералам. Ибо они стакнулись с тем самым парламентом, который в июне объявил вас предателями, а в августе затеял войну против вас».
Лилберн. «Совет рядовым»
14 ноября, 1647
«В то время как генерал и совет армии прилагали все усилия к справедливому устроению королевства в союзе с ныне существующим парламентом, появились некоторые личности, военные и штатские, которые вели себя как отделившаяся партия и выступали с фальшивыми и скандальными обвинениями против тех, кто хотел остаться верным принятым ранее обязательствам. И этим людям удалось посеять такой раздор и смущение в умах, что генерал счел необходимым ради восстановления единства созвать общее собрание армии. Для чего сначала разделить армию на три бригады и устроить отдельные собрания этих частей, с тем чтобы первое имело место на равнине в Коркбуш-Филд, неподалеку от Уэра».
Из манифеста Совета офицеров
15 ноября, 1647
Уэр, Гертфордшир
Выходя в темный тюремный двор, Лилберн машинально задержал дыхание, потом вдохнул полной грудью. Холодный утренний воздух больно ринулся в источенные легкие, голова закружилась. Несмотря на ранний час, комендант Тауэра уже поджидал его в караульной. Охрана поглядывала насмешливо, хотя и беззлобно. Было все же что-то унизительное в этих выпусканиях на день. Словно щенок на длинном поводке. А на ночь будьте добры обратно в конуру. Под замок.
Пока он подписывал очередную бумагу с обязательством вернуться не позже захода солнца, комендант пересказывал ему последние новости с острова Уайт, выспрашивал, что он думает о бегстве короля. Не сам ли Кромвель это подстроил? И как теперь сложатся отношения между армией и королем? А заседания совета в Патни уже закончились? И чем? Лилберн отвечал сдержанно, но про себя удивлялся: неужели он действительно стал настолько крупной фигурой, что комендант Тауэра готов вставать в шесть утра, чтобы поговорить с ним о политике?
Фонарь за воротами высвечивал мощеный полукруг на площади перед крепостью. Как только Лилберн ступил на камни, от дальней коновязи к нему ринулись две фигуры. Овертон добежал первым, обнял, ткнул треугольником носа в щеку. Уолвин долго мял руку в горячих ладонях, улыбался, заботливо вглядывался в лицо. Лилберн повел взглядом над головами друзей и вздохнул с облегчением — Элизабет не пришла. Вчерашний день он провел дома, и, видимо, ему удалось ее убедить, что страхи ее напрасны и ничего серьезного они не замышляют. В дальнем конце площади приоткрылась дверь пекарни, отсвет печей вырвался наружу, блеснул на спинах привязанных лошадей.
— Две тысячи экземпляров, мистер Лилберн. А может, и того больше. — Уолвин с гордостью оглядывал туго набитые седельные сумки. — Надеюсь, этого довольно? Печатники работали всю ночь.
— Неплохо было бы всунуть туда еще по пистолету, — буркнул Овертон. — Сегодня они могут оказаться нужнее.
Они уже отвязывали лошадей, когда за спиной у них раздался быстрый стук башмаков по камням и женский голос негромко и испуганно крикнул:
— Джон!
Лилберн сразу весь как-то отяжелел и нехотя обернулся. Элизабет остановилась в нескольких шагах, громко дыша, натягивая завязки чепца, переводя гневный взгляд с одного лица на другое.
— Нечего строить такую постную мину, Джон Лилберн. Вроде бы я не похожа на тех жен, которые только и умеют, что цепляться за стремя и бессмысленно вопить на всю улицу. И я не заслужила такого обращения. Господь свидетель, не заслужила.
Дыхание постепенно возвращалось к ней, но голос все равно слегка звенел от напряжения.
— Мы просто не были уверены, что его выпустят сегодня, и не хотели волновать вас прежде времени, — смущенно сказал Уолвин. — Но по их отъезде я немедленно собирался пойти к вам и все рассказать.
— «Выпустят»? Скажите лучше — «спустят со сворки». Уверена, что между собой тюремщики используют именно такой оборот. Джон, ты сам-то разве не видишь? Они просто спускают тебя на Кромвеля, как борзую на медведя. Но этот медведь свернет тебе шею. В Уэре собраны семь полков. Самых надежных, в которых ваши памфлеты почти не читают.
— Полк Роберта тоже придет туда.
— Ты все еще надеешься на своего братца? Да он побежит за генералами, куда бы они его ни позвали, и сделает все, что они прикажут.
— Мне не нужен сам Роберт. Мне нужен его полк.
— Хорошо, пусть даже полк придет. Хотя это будет прямой бунт, ибо им было приказано отправляться на север. И что? Сейчас, после бегства короля, солдаты снова тянутся к генералам, как овцы к пастухам. Как бы они ни опьянялись вашим «Народным соглашением», увидев себя один против семи, они протрезвеют. И что тогда? Вас выдадут как зачинщиков и подстрекателей и тут же передадут в руки полевого суда.
— В том, что вы сказали, много справедливого, миссис Лилберн, — Овертон говорил, не поднимая глаз, положив обе руки на спину коня. — Но при всем этом думаете ли вы, что мы имеем право не ехать? После всего, что мы писали и к чему призывали солдат?
Элизабет на минуту замешкалась с ответом, потом произнесла начало какой-то фразы: «Если бы все женщины на свете…» — но, видимо, почувствовав неубедительность того, что собиралась сказать, начала было искать другие слова, не нашла их и сердито умолкла. Лилберн подошел обнять ее — она отвернула лицо.
— Ты сама видишь, Лиз, не тот это случай, когда можно выбирать.
Он ткнулся лбом ей в плечо, потом быстро отошел и разобрал поводья.
— Кроме того, я дал расписку коменданту в том, что к вечеру буду в камере. Так что, хочешь не хочешь, мне придется вернуться целым и невредимым.
Она молча смотрела на него из полутьмы, качала головой. Похоже, только страх стать как «все женщины на свете» удерживал ее от того, чтобы вцепиться в стремя и завопить.
Овертон, уже сидевший в седле, дал Лилберну отъехать вперед, потом тронул коня. У въезда в улочку, ведшую к Бишопсгейту, они на секунду оглянулись. Две фигуры, освещенные печами пекарни, стояли рядом, отбрасывая длинную слитную тень через всю площадь, потом их скрыло углом дома.
Ночные сторожа уже разошлись, первые квадраты света упали на мостовую из загоравшихся окон. Двое всадников быстро достигли Северных ворот, выехали на кембриджскую дорогу, но здесь им пришлось натянуть поводья и ехать шагом. Встречный поток возов, телег, тачек втекал из окрестных деревень в ненасытное городское чрево, растекался по рынкам, лавкам, харчевням, тавернам, гостиницам. Только за Тоттенемом дорога стала свободнее и можно было снова пустить коней вскачь.
Лилберн, отвыкший от верховой езды, поначалу отставал, одрябшие мышцы ног быстро наливались болью. Но при этом от посветлевшего неба, от бескрайней стерни, уходившей в обе стороны от дороги, от малинового диска, проклюнувшегося вдали, от всей холодной утренней умытости мира, скользившего вдоль обочин, чувство счастливой легкости и полноты бытия постепенно наполняло его, пронзало счастливым предчувствием. Что-то должно было случиться сегодня, что-то похожее на конец долгого плавания, на благословенный берег. Стена поддавалась, нужен был лишь последний толчок, последнее усилие. Огонь, который жег его все эти месяцы в тюрьме и который ему удавалось разбрасывать наружу лишь мелкими печатными головешками, был таким сильным и неподдельным, что, казалось, никто и ничто, прикоснувшись к нему вживе, не сможет остаться невоспламененным. И когда после двухчасовой скачки, не доезжая нескольких миль до Уэра, они увидели за очередным поворотом густую колонну пехоты, выливавшуюся с проселка на главную дорогу, он, ни на минуту не усомнившись, что это они, те самые, к кому он так рвался, пришпорил коня, обогнал Овертона и, поравнявшись с рядами, весело закричал:
— Эгей, армия! На какого врага поднялись?
Несколько лиц повернулось к нему — настороженных, возбужденных, усмешливых, — и чей-то голос крикнул:
— Идем к друзьям, которые нас не ждут, на врагов, которых не видно!
Солдаты одобрительно загудели: замысловатый ответ понравился. Лилберн поехал дальше, высматривая знакомых офицеров, пытаясь понять, действительно ли это полк Роберта или какой-то другой. Но офицеров не было. Во главе рот шли сержанты, в лучшем случае корнеты. Далеко впереди над рядами возвышалась фигура всадника начальственного вида, но даже отсюда было видно, что это не Роберт.
— Не сам ли Джон-свободный пожаловал к нам? — раздался вдруг сзади изумленный голос. И сразу ему откликнулось несколько других:
— Джон Лилберн!
— Он!
— Откуда?
— Прямо из Тауэра!
— О, теперь дело пойдет!
— Джон-свободный прочистит им мозги.
— Вот кому бы командовать нами.
— С братом его каши не сваришь.
— Лилберну-младшему — ура!
Шеренги продолжали двигаться, не сбивая строя, но все лица оборачивались теперь в сторону Лилберна, словно ожидая, чтобы он объяснил им, против кого они поднялись, и в то же время уже гордясь своим единством и одержимостью.
— Солдаты! — Лилберн ехал шагом, развернувшись всем корпусом к рядам. — Там на равнине, впереди, собраны семь полков. Но это не враги, с которыми надо драться, а братья ваши, которых надо убедить. Как и вы, они кровью своей отстояли английскую свободу. И они не могут не понять того же, что поняли вы: свобода не протянет и дня, если вы отдадите ее судьбу в руки Вестминстерских предателей и лицемеров. Английские вольности! Ваши права! Только вы способны сейчас защитить их. Требуйте «Народного соглашения»! Стойте на своем так же крепко, как вы стояли под Эджхиллом и Брентфордом, Глостером и Ньюбери, Марстон-Муром и Нэзби!
Он расстегнул седельную сумку, достал пачку отпечатанных текстов, не глядя сунул их вниз. Чьи-то руки подхватили, разобрали по листкам. Он сунул вторую — исчезла и эта. Радостный гомон вырастал над рядами, перекрывая треск барабанов и посвист флейт. Кто-то приколол лист «Народного соглашения» к шляпе, красовался перед приятелями. Идея понравилась, белые прямоугольники замелькали на высоких тульях здесь и там. Овертон тоже опустошал свои сумки. Незнакомый капитан, командовавший полком, подъехал, улыбаясь и протягивая руку:
— За брата не тревожьтесь, мистер Лилберн. Ничего худого с ним не случилось. Но всех, кто не хотел идти с нами, пришлось посадить под арест, чтоб не сбивали с толку солдат.
— Есть у вас вести из других полков?
— Конный полк Гаррисона тоже обещал прийти и поддержать нас.
— И что?
— Утром от них приезжал Сексби, сказал, что солдаты колеблются.
— Где их лагерь?
— Отсюда по прямой через рощу миль пять.
— Ричард! Оставьте несколько пачек. Мы едем в другой полк.
— За ручьем деревня, там вам покажут дорогу. Конный полк — очень веский аргумент на армейском собрании.
Овертон напоследок, видимо, что-то сказанул солдатам — его проводили громким хохотом. Капитан помахал им рукой и поехал обратно на свое место во главе колонны, на ходу подсовывая «Народное соглашение» под ленту шляпы. Треск барабанов и гул некоторое время был еще слышен из-за деревьев, потом растаял.
Мир снова стал тихим, бескрайним, равнодушным. Но теперь они этого не замечали. Пригибаясь и уворачиваясь от несшихся навстречу веток, они проскакали через облетевшую рощу, обогнули густую поросль сосняка, пересекли ручей и, свернув на запах дыма, вскоре выехали на небольшую свежую вырубку на опушке леса.
Два угольщика возились вокруг круглой поленницы, облепляли ее грязью и глиной. Другая поленница, уже наглухо облепленная и подожженная внутри, тихо тлела поодаль, выпуская пар и дым сквозь щели в запекшейся корке. Несколько корзин с готовым древесным углем стояли под кустами.
— Эгей, люди добрые! Где нам найти кавалерийский лагерь? Говорят, он здесь неподалеку.
Лилберн, морщась, пытался выехать из-под полосы дыма, стлавшегося по поляне. Старший угольщик поднял голову, отер сажу со лба и махнул рукой на восток:
— Все, что они у нас забирали, они увозили вон в ту сторону.
Он говорил без злобы, как о чем-то само собой разумеющемся. Младший усмехнулся и бросил лопату земли на белые поленья.
— Не держи на них зла, брат. Не их вина, что парламент задерживает жалованье. Но скоро этому будет положен конец. Вам заплатят за все взятое.
— Да ну? Честно говоря, на это мы и не надеемся. Мы бы сами были готовы заплатить последнее, лишь бы не видеть их больше.
Лилберн ухватил за локоть дернувшегося было вперед Овертона:
— Оставьте, Ричард. Дорога каждая минута.
Нахлестывая измученных лошадей, они поскакали в указанную сторону. Слева за деревьями мелькнули дома деревни, острая крыша церквушки. Лилберн пытался притушить в уме привычно вскипавшую пену слов, выбрать из них несколько самых простых и ясных, способных сдвинуть с места заколебавшихся людей, может, даже одно слово, призывное, как крик вахтенного с мачты — «земля!». Но даже если б он нашел такие слова, говорить их было некому. Они ехали уже полчаса — и никаких следов лагеря. Кони пошли шагом и только вздрагивали под ударами плеток. От разговора с угольщиком тягостный осадок остался на душе. «Все, что они у нас забирали…»
— Не мог он нарочно послать нас не в ту сторону? — крикнул сзади Овертон.
— Какой ему смысл?
— Мы проехали уже больше пяти миль.
— Проедем еще немного, а там посмотрим, что делать.
Лагеря по-прежнему не было, но еще через полчаса они увидели другую деревню. Им долго пришлось ездить от дома к дому, прежде чем нашелся хозяин, согласившийся за приличную сумму ссудить их свежими лошадьми. Конный полк? Да, он что-то слышал. Там, к северу, но где точно — понятия не имеет. Дорога на Уэр? О, это вам надо вернуться туда, откуда вы приехали. Нет, более прямого пути от них, к сожалению, нет.
Потратив еще с четверть часа на переседлывание, они понеслись обратно, полные тягостных предчувствий и мучительного ощущения упущенного времени. Голубые пятна протаяли кое-где на небе, но от этого вид его стал еще более холодным. Собственные следы, оставшиеся в дорожной пыли, неслись им навстречу. Справа мелькнула вырубка. Теперь уже два черных холма дымились на ней, но угольщиков видно не было. Ощущение безлюдья не пропало и на большой дороге — она казалась особенно опустевшей по контрасту с тем, что было на ней два часа назад. И лишь когда они доскакали наконец до окрестностей Уэра — не гул, не крики, не выстрелы, нет, но какое-то почти физическое напряжение, излучаемое тысячами собранных в одном месте людей, словно стало у них на пути, указало дорогу, заставило свернуть к тянувшимся справа холмам.
Широкая полоса примятой травы поднималась вверх по склону, и, как им показалось, несколько бегущих фигур промелькнуло в просветах между кустами. Один человек попытался перебежать перед мордами их коней, споткнулся, тут же вскочил, затравленно озираясь, и вдруг кинулся к ним навстречу, растопыривая руки и крича:
— Стойте! Куда вы? Беги, Джон-свободный! Пропало дело, бегите!
Кровь текла у него из широкого пореза во лбу, и все же Лилберн узнал его — это был тот солдат, который шутил насчет врагов невидимых, друзей не ждущих.
— Он дьявол в облике человеческом! Чистый дьявол, говорю я вам. И все его удачи и победы его — все от дьявола! Уносите ноги, пока он не дохнул на вас серным духом, скачите, не останавливаясь.
Лилберн свесился с седла, ухватил солдата за ворот, тряхнул.
— Да о ком ты?
— Кромвелем зовут его земное обличие, Кромвелем! Ворвался в наши ряды, один, со шпагой в руке, давил конем, срывал бумагу со шляп. Столько смелых людей — и никто, ни один человек не посмел ему перечить, не помешал схватить наших агитаторов!
— Смотрите! — крикнул Овертон. — Это Уайльдман!
Пригнув голову так, что волосы его смешались с конской гривой, Уайльдман скакал во весь опор, но, завидев их, натянул поводья, выбросил назад руку с плетью и прокричал срывающимся голосом:
— Будь проклята ваша солдатня, подполковник! Будь проклято это покорное отребье!
— Да что там произошло?
— Полки присягнули генералам. И полк вашего брата — тоже. Немного пошумели, — о да! — но стоило Кромвелю прикрикнуть на них, и они выдали зачинщиков. Мерзавцы! Были б вы под рукой, выдали бы и вас.
Лилберн, словно не веря, всматривался в бледное, искаженное лицо Уайльдмана, потом, ни слова не говоря, поехал наверх.
— Куда?! Назад!
Но его уже было не удержать. Он уже понял, что долгожданный берег обернулся миражем, но сквозь мрак и горечь, в которую погружалась душа, еще светило последним привычно-путеводным светом — скорей туда, откуда все спасаются бегством, именно туда, на самое острие опасности, скорей, скорей.
Неясный до того гул будто бы мгновенно приблизился, стал внятным, ринулся в уши, как только он выехал на гребень холма. Равнина, заполненная войсками, распахнулась перед ним, и как-то сам собой взгляд его сразу упал на крохотное белое пятно, затерянное в гуще красных, синих, коричневых мундиров, медно-стального блеска, шеренг, знамен. Рыжий осенний склон напротив поднимался полого и был изрезан аккуратными рядами палаток. Лилберн попытался понять, где какой полк, где штабные и Кромвель, — может, вот эта группа всадников, едущих перед строем? — но взгляд упорно возвращался к белому пятну внизу.
Всмотревшись, он понял, что белеет рубаха солдата.
Солдат стоял на открытом месте один и словно бы обращался с речью к тем, кто стоял чуть поодаль. Гул вдруг стих, и вместо него приплыла далекая барабанная дробь. Тогда Лилберн наконец разглядел перед солдатом линию поднятых мушкетных стволов и почти сразу увидел дымки.
Донесся треск залпа.
Солдат упал лицом вниз.
И тогда, не помня себя от отчаяния, гнева, омерзения, не надеясь уже что-то спасти и отстоять, а только доскакать и швырнуть в лицо тому, кого он считал виновным, всю свою ненависть, он дал шпоры коню, и тот, взвившись на дыбы, рванулся вперед, но сильные руки вцепились с двух сторон в поводья, пригнули конскую голову к земле, потом повернули, потащили назад.
— Предатель! Изменник! Ты тоже будешь судим! Я обвиняю тебя в измене, Кромвель! О, предатель!
Овертон, увлекая Лилберна за собой, повисал на нем, о чем-то просил, но ни слова его, ни сдавленная брань Уайльдмана, ни крики самого Лилберна были уже почти не слышны в тяжелом и грозном гуле, вновь поднимавшемся с равнины.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Левеллеры
Декабрь, 1647
«Его величество обязуется утвердить актом парламента на три года пресвитерианское управление в Англии и предпринять меры к активному подавлению сект, богохульств и ересей. Шотландия, со своей стороны, обязуется послать в Англию войска для охраны и установления истинной пресвитерианской веры, для защиты особы и авторитета его величества, для восстановления его в законных правах. И при первой возможности его величество прибудет в Шотландию и приложит все усилия для того, чтобы помочь деньгами, оружием, снаряжением означенному королевству Шотландия в ведении этой справедливой войны».
Из тайного соглашения, заключенного между королем и шотландцами на острове Уайт
Весна, 1648
«Казалось, никакие видимые силы не угрожали победившему парламенту, охраняемому доблестной армией Нового образца, и тем не менее положение его никогда еще не было таким опасным. Роялисты повсюду поднимали голову и с великой надеждой призывали к восстановлению короля и уничтожению парламента.
Беспорядки начались в апреле в самом Лондоне и затем стремительно распространились на близлежащие графства».
Мэй. «История Долгого парламента»
Июнь, 1648
«Получив известие о восстании в Кенте, парламент послал на подавление генерала Ферфакса с семью полками. Хотя восставшие превосходили числом войско генерала, они не осмелились вступить в открытый бой. Часть их пыталась захватить Дуврский замок, другая собралась у Рочестера, третья заняла Мэйдстон. Генерал Ферфакс, неотступно преследуя мятежников, ворвался в этот город и с великим трудом занял его, сражаясь за каждую улицу, ибо они были укреплены баррикадами и защищаемы пушками. К середине июня основные силы восставших попытались собраться в Колчестере, но генерал, быстро стянув свои войска, окружил город и осадил мятежников. Примерно в то же время несколько парламентских командиров в Уэльсе изменили, перешли на сторону короля и заперлись в Пембруке, месте настолько укрепленном, что они долго отказывались вступить в переговоры с осаждавшим их Кромвелем».
Люси Хатчинсон. «Воспоминания»
10 июля, 1648
Пембрук, Уэльс
После каждого залпа осадных батарей земля под палаткой сотрясалась с такой силой, что аптекарю Гудрику приходилось подхватывать прыгающую по столу чернильницу и держать ее в руке. Комочки сухой глины, ссыпаясь по склону, барабанили снаружи по натянутой парусине. Кромвель, поднимая и опуская расстегнутую на груди рубаху, вышагивал по узкой циновке, проложенной от койки до походного умывальника, и в перерывах между залпами диктовал предложения о капитуляции.
— «…и все вышеупомянутые офицеры пембрукского гарнизона должны будут покинуть Англию на срок не менее двух лет. Остальным же офицерам и джентльменам и простым солдатам разрешено будет вернуться в свои дома, с тем чтобы они жили там мирно, подчиняясь власти парламента».
— Но это жестоко! — Гудрик бросил перо и с возмущением уставился на Кромвеля из-под копны поседевших волос. — Отпустить по домам всех этих кровавых псов! Чтобы они при первой возможности снова собрались в стаю и накинулись на бедный беззащитный народ?
Кромвель на минуту перестал обмахивать себя рубахой и хотел отвечать, но в это время новый залп разорвал воздух, тугим комком заложил уши. От волны порохового дыма солнечное пятно на стене палатки помутнело. Кромвель наклонился к Гудрику и прокричал ему в лицо:
— Ты свирепый фанатик! Сколько английских голов ты готов снести ради установления в Англии справедливости? Пойми, наконец: если мы доведем этих людей до отчаяния, нам придется торчать здесь еще несколько недель.
— Недобитый враг опаснее раненого медведя. Это ваши собственные слова.
— Ферфакс связан по рукам осадой Колчестера. На севере Ламберт едва наберет четыре тысячи человек. Если мы промедлим здесь, шотландцы наберутся наглости перейти границу, и тогда тамошние кавалеры тоже соберутся вокруг них. Можешь ты все это уложить в свою упрямую башку? Умел же ты когда-то смотреть дальше собственного носа.
— Увидев такие мягкие условия, осажденные решат, что мы слишком слабы для штурма, и станут еще упрямее.
— Ну хорошо же! Пиши: «Коменданту крепости Пембрук. Сэр! Взвесив еще раз ваши безнадежные обстоятельства и свой долг, посылаю вам новые предложения. В случае, если вы решитесь отвергнуть их, я не вступлю с вами больше ни в какие переговоры и буду знать, с кого взыскать за кровь солдат и мирных жителей, пролитую вами. Ваш слуга Оливер Кромвель».
Удовлетворенный Гудрик старательно выписал последние буквы, добавил внизу: «10 июля, 4 часа пополудни» — и повернул лист так, чтобы генерал мог поставить свою подпись.
Утром следующего дня косяк мелкой рыбешки, прибившись к берегу, собрал над собой тучу крикливых чаек. Корабль, доставивший тяжелые пушки из Глостера, стоял у причала словно бы в изнеможении, снасти и вымпелы его свисали безжизненно. Рыбачьи лодки из окрестных деревень медленно ползли вдали, поблескивая веслами.
В безветренном воздухе дымы пожаров, зажженных накануне, поднимались над окраинами Пембрука, как стволы гигантских тополей. Батареи молчали. Кромвель и офицеры штаба в ожидании ответа коменданта на посланные предложения молча стояли за бруствером осадного вала и в сотый раз разглядывали побитые ядрами городские стены, острую крышу собора, башни ратуши, зелень садов. Они стояли так уже около часа. Ворота оставались закрытыми.
Посланец появился совершенно неожиданно и с другой стороны — от глостерской дороги, шедшей вдоль берега моря.
Лицо его было покрыто коркой засохшего пота и грязи, выцветший мундир продран на локтях, взгляд мутен от усталости. Протолкавшись между штабными к Кромвелю, он протянул ему запечатанный пакет и еле слышно прохрипел:
— Из Йоркшира, ваша честь. От генерала Ламберта.
Кромвель, набычив голову, сломал печать и забегал глазами по строчкам. Офицеры, затаив дыхание, следили за выражением его лица. Оно оставалось почти невозмутимым, голова согласно кивала, словно сведения, сообщенные письмом, не заслуживали ничего, кроме одобрения. Но когда он поднял взгляд, в нем горела ненависть.
— Джентльмены, то, чего мы опасались, произошло. Три дня назад шотландцы вторглись в Англию. Кавалеры севера примкнули к врагу. Генерал Ламберт отступает перед ними и зовет нас на помощь.
В наступившей тягостной тишине крик чаек звучал так резко и уныло, что его можно было принять за вороний. Кромвель сорвал с себя шляпу, подбежал к брустверу и высунулся по пояс. Внизу на втором ярусе стояла тяжелая батарея; стволы пушек, матовые от утренней росы, чернели на равных промежутках друг от друга.
— О-о, господа пушкари еще завтракают! Может быть, если выдастся свободная минутка, вы соблаговолите, наконец, открыть огонь?
В голосе его было столько сдерживаемой ярости, что командир артиллеристов, неживший в руках чашку утреннего кофе, поперхнулся и только жестами смог послать солдат к орудиям. Но те и сами уже кинулись на свои посты, на ходу сбрасывая мундиры.
— Верхняя батарея — зажигательными по городу! — кричал Кромвель. — Нижняя — ядрами по стене! Бейте в ту же точку, что и вчера, брешь нужна к вечеру. Мы пойдем на штурм!
Черные жерла проглатывали мешки с порохом один за другим, руки артиллеристов мелькали в привычном ритме, командир метался от орудия к орудию, проверяя наводку.
Зажглись алые пятнышки фитилей, и первый залп рванул землю из-под ног, ударил волной горячего воздуха, оглушил. Было видно, как осколки камней брызнули во все стороны из стены слева от ворот. Корабли, стоявшие на якорях, тоже открыли огонь, и вскоре дымы новых пожаров начали вырастать над городскими крышами.
Осажденные не отвечали, запасы их пороха подошли к концу уже несколько дней назад.
Залпы осадных батарей то рассыпались на отдельные выстрелы, то сливались в непрерывный тяжкий рев, нависавший над городом. Темное пятно на стене постепенно расширялось, трещины ползли во все стороны, гребень обваливался. Вскоре все пространство перед воротами было так затянуто дымом и пылью, что выехавшего всадника с белым флагом заметили лишь тогда, когда он был уже на полпути к линии траншей. Но и после этого батареи, словно спеша утолить свою злобу, продолжали стрелять до тех пор, пока парламентер, пригибаясь к лошадиной шее, не доскакал до подножия вала и не спрыгнул, вернее, свалился с седла, держа шляпу в одной руке, а лист с подписанной капитуляцией — в другой.
Июль, 1648
«Герцог Гамильтон, исполняя условия секретного договора с королем, вторгся в Англию с многочисленной армией шотландцев. Вместе с присоединившимися к ним роялистами севера численность этого войска достигла 25 тысяч, и они двигались на юг, распространяя ужас вокруг себя. Едва ли за все время войны было проявлено больше жестокости по отношению к безоружному населению. Парламентское войско там было слишком слабым, чтобы остановить столь мощного врага. Но не теряя присутствия духа, оно отступало с боями, ожидая прибытия с юга главных сил Кромвеля.
В Лондоне же пресвитериане втайне сочувствовали захватчикам, и лишь с огромным трудом удалось добиться того, что обе палаты парламента объявили шотландцев врагами, а присоединившихся к ним англичан — предателями».
Мэй. «История Долгого парламента»
Июль, 1648
«Наша бригада движется на север длинными маршами. Особенно тяжела для солдат нехватка башмаков и чулок, которых никто из нас не может купить себе, ибо жалованье не плачено за несколько месяцев. Добыть их мы могли бы разве что грабежом, но такого еще никогда не бывало в войсках генерал-лейтенанта и никогда не будет; мы скорее пойдем босиком, что многим и приходится делать с момента нашего выступления из-под Пембрука».
Из письма солдата армии Кромвеля
1 августа, 1648
«Генерал-лейтенант Кромвель неоднократно во всеуслышание заявлял, что всякий честный человек может быть судьей в том, что есть добро и справедливость, что хорошо или дурно для всего государства; что вполне законно испробовать различные формы государственного правления и, если понадобится, силой произвести чистку нынешнего парламента или положить предел его затянувшемуся пребыванию у власти; что вполне правомочно вести себя с бандитами по-бандитски».
Из обвинений, представленных в парламент против Кромвеля
2 августа, 1648
Лондон
Как только лодка с полосатым тентом на корме появилась из-под арок моста, толпа на берегу Темзы испустила ликующий вопль и двинулась вдоль набережной в сторону причалов.
В полуденной жаре запах реки мешался с запахом городских мыловарен.
Гребцы осторожно подтянули лодку к деревянным сходням, и посланец палаты лордов, отводя в сторону ножны со шпагой, быстро взбежал наверх. Свернутый в трубку приказ об освобождении он держал в руке и расчищал им себе дорогу, как жезлом. Люди расступались с подчеркнутой почтительностью и затем устремлялись вслед за ним, так что он поневоле оказывался во главе торжественной процессии, направлявшейся к воротам Тауэра. Вторая и большая часть толпы, уже стоявшая в тени крепостной стены, тоже распалась на две части, пропустила посланца к боковой калитке.
Элизабет, спасая детей от давки, ждала поодаль. Джон-маленький не выпускал руки матери, глядел испуганно и лишь изредка пытался украдкой дотянуться и крутануть колесико на шпорах стоявшего рядом Сексби. Младший мальчик спокойно сидел на руках Мэри Овертон, жевал собственный локон. Обе женщины, принаряженные и возбужденные, тянули вверх головы, пытаясь разглядеть, что происходит у ворот.
Долгое ожидание и собственная многочисленность, по-видимому, настроили людей на слишком торжественный лад, поэтому, когда Лилберн с тяжелой связкой книг в руке наконец появился в калитке и просто шагнул на площадь, они в первую минуту растерялись. Но тут же, словно пытаясь заменить фанфарный и салютно-пушечный гром, подняли такой крик, что Джон-маленький ткнулся в платье Мэри Овертон и заплакал. Элизабет с помощью Сексби взобралась на перекладину коновязи и махала оттуда рукой. С высоты была видна непокрытая голова мужа, его отросшие волосы, улыбающееся лицо. Уайльдман, Овертон, Уолвин, еще несколько друзей окружали его плотным кольцом, помогали продвигаться в толпе. Через головы их тянулись руки, летели цветы. На многих шляпах красовались белые прямоугольники последних памфлетов — «Кнут для палаты лордов», «Похороны закона», «Горестный вопль заключенного». Наконец Лилберн поднял лицо, увидел жену и ринулся к ней, разрывая кольцо своих телохранителей.
Она со счастливым стоном упала в протянутые к ней снизу руки.
Он что-то шептал ей между поцелуями, она кричала: «что? что ты сказал? я не слышу!», но он только показывал рукой на горло и виновато двигал губами.
— Голос… совсем пропал… — с трудом разобрала она. — Камера как ледник.
— Друзья! — закричал Овертон, вскакивая на коновязь. — Нас обманули! Вместо Джона-свободного вернули какого-то Джона-бессловесного. Сейчас я напомню вам, как умел говорить наш Джон. — Он выхватил из внутреннего кармана тонкую книжку и, почти не заглядывая в текст, начал читать на всю площадь: — «О англичане, где ваша свобода? Что стало с вашими вольностями и привилегиями, за которые вы сражались столько лет и пролили столько крови? Опомнитесь же, пока не поздно, чтобы потомки не проклинали вас за низость, бездушие и беспечность. Поднимитесь как один человек против тех, кто хочет обманом похитить ваши вольности и погубить вас». К ответу этих людей! К ответу!
Передние ряды подхватили призыв и начали повторять его хором. Лилберн молча улыбался и кивал головой, не выпуская Элизабет из рук. Сексби посадил Джона-маленького на плечи и двинулся сквозь толпу, остальные потянулись за ним. Связку книг Уайльдман и Овертон несли вдвоем. Кто-то запел куплеты, сочиненные в честь Лилберна в Тауэре:
Вот славный малый — Лилберн Джон,
Когда дойдет до дела,
То на палату общин он
Покрикивает смело.
Еще несколько голосов с разных сторон под одобрительный хохот присоединились к поющему:
Не ставит лордов он ни в грош,
На то свои мотивы.
Наш Лилберн Джон не признает
Властей прерогативы.
Он много раз в тюрьме сидел
За оскорбленье трона,
И косо смотрит Лилберн Джон
На митру и корону.[35]
Люди высыпали из лавок, глазели из окон, взбирались на тумбы и цепи. Голова процессии уже достигла Бишопсгейта, а хвост тянулся еще где-то около Олдгейтских ворот. Встречные возницы натягивали вожжи, и замершие телеги и фургоны мгновенно покрывались гроздьями зевак. Разогретые солнцем стены, казалось, с трудом удерживали этот поток в своих берегах. И всюду от окна к окну, от переулка к переулку летало, то обгоняя, то нависая над головой, то испуганно, то радостно, то презрительно, то восторженно, то недоуменно, то утвердительно: «Левеллеры… Левеллеры идут… Левеллеры?.. Да, это они… Смотрите — левеллеры».
Потом сидели в доме у Лилбернов, приходили в себя. Женщины накрывали стол для ленча, мужчины обсуждали последние новости. Губернатор Скарборо перешел на сторону короля. Флот принца Карла запер устье Темзы, захватывает торговые корабли. Вчера захвачен корабль стоимостью 20 тысяч фунтов — хватит, чтобы оплатить еще несколько пиратских рейдов. Но самым скверным было то, что напуганный парламент снял запрет, наложенный на сношения с королем, и постановил снова вступить с ним в переговоры.
Лилберн сидел в стороне, слушал краем уха, участия в разговоре не принимал. Эта внезапная потеря голоса словно невидимой завесой отделяла его от остальных. Сознание своей удаленности, непричастности происходящему было непривычным и чуточку щемящим. Он держал на коленях Джона-маленького и время от времени сиплым шепотом откликался на его негромкую, захлебывающуюся болтовню. Там было что-то про щенка, которого принес в подарок мистер Уильям — нет, не тот, что за столом, а другой Уильям, с саблей, — и мама разрешила, а противная Кэтрин грозится выбросить на улицу, если щенок стянет что-нибудь у нее на кухне, и гонит его на двор, но ведь на двор прилетают вороны, это всем известно, они могут заклевать щенка, и пусть отец скажет этой Кэтрин, пусть она знает, он бы лучше саму ее выбросил на улицу. Щенок ползал тут же, пробовал зубы на сапогах и башмаках гостей, но мальчик не обращал на него внимания. Он глядел только на отца, вцепившись обеими руками в пуговицы его куртки, и хотя Лилберн понимал, что для сына он всего лишь очень новая и очень большая игрушка, посланная ненадолго судьбой, ему было приятно, что он оказался поважнее и поинтересней даже щенка. У мальчика были большие требовательные глаза и нежные позвонки, которые, казалось, готовы были поддаваться, как клавиши, поглаживавшей их ладони. Весь вид его и радостно-бестолковое возбуждение, и внезапная привязчивость окрашивали нынешнее возвращение домой каким-то особенно обволакивающим чувством покоя, расслабляющей радостью, теплом.

— …и я не могу назвать это иначе, как предательством!
Возглас взлетел над голосами споривших, повис в воздухе. Лилберн поднял глаза, увидел привставшего с кресла Овертона, замершую Кэтрин, Уайльдмана с разметанными по плечам волосами и уверенной усмешкой на лице. Ему не сразу удалось вернуться к ним из того мира, в который увлек его сын, поймать нить разговора.
— Полноте кричать, Ричард, и бросаться громкими словами, — говорил Уайльдман. — Мы уже не на площади. Политика есть политика, в ней свои правила игры. Врага надо валить в тот момент, когда он слаб и беспомощен, а не тогда, когда это будет выглядеть красиво и благородно. Или вы считаете, что у нас есть враг более опасный, коварный и сильный, чем генерал Кромвель?
— Быть может, в качестве друга он еще более опасен, — вставил Уолвин.
— И именно сейчас, когда почва уходит у него из-под ног, когда в парламенте начали разбирать обвинения, выдвинутые против него, самое время напасть и нам. Падающего подтолкни! С нашей стороны будет безумием и ребячеством, если мы не воспользуемся моментом, не отомстим ему за все — за патнийские дебаты, за разгон солдатских митингов, за расстрел в Уэре.
— Не на этом ли строили свой расчет пресвитерианские заправилы, выпуская сегодня мистера Лилберна из тюрьмы?
— А хоть бы и на этом — что с того? Они надеются, что им удастся загрести жар нашими руками, а потом вернуть нас в те же камеры. Они все еще воображают нас жалкой кучкой радикалов и мечтателей. Если б кто-нибудь из них оказался сегодня на площади и увидел эти тысячи народа, он бы живо прозрел.
— Что у вас на уме, мистер Уайльдман, говорите прямо.
— Если Кромвель будет устранен от командования, его место сможет занять другой человек. Тот, чья популярность среди солдат и сейчас велика, а мы приложим все силы, чтобы она возросла еще больше. Я говорю о полковнике Рейнборо. Имея его во главе Северного корпуса, мы бы могли разговаривать с господами из Вестминстера по-другому. Разве не так?
Он слегка улыбнулся и обвел присутствующих взглядом и тем приглашающим жестом руки, каким цирковые акробаты обводят публику после удачного кульбита. Овертон расстегнул ворот и плюхнулся обратно в кресло. Уолвин выглянул из-за спины Элизабет, расставлявшей стаканы на столе, и сказал:
— Браво, мистер Уайльдман, браво. Может, еще год назад я стал бы говорить о ясной программе, о точных лозунгах, о пропаганде «Народного соглашения». Но когда видишь, как люди, ничему не научась, снова и снова режут друг друга без всякой программы, сами не зная, за что, во имя чего, поневоле впадаешь в отчаяние. Хочется то ли лупить их палкой, то ли покончить с собой у них на глазах, то ли плюнуть на все, во что верил, и действительно начать вот так передвигать их, как шахматные фигурки, к намеченной цели.
— А вы что скажете, мистер Лилберн? Бессовестно с нашей стороны в первый же день накидываться на вас и втягивать в дебаты. Но дело срочное. Обвинения против Кромвеля уже сегодня должны были быть оглашены в парламенте. Нам следует избрать какую-то линию и держаться ее сообща.
Лилберн открыл рот и попытался заговорить, но смог издать лишь невнятное сипенье. Вынужденная немота была для него как стена для недавно ослепшего — он все время натыкался на нее с непривычки. Руки его осторожно перенесли мальчика на стул и, освободившись, изобразили в воздухе некую пантомиму с воображаемыми письменными принадлежностями. Гости понимающе закивали и выразили готовность подождать. Он поднялся наверх.
Когда он вернулся, все уже сидели вокруг стола, звенели посудой. Повязанный салфеткой Джон-маленький, свесившись с табурета, протягивал щенку кусок ветчины. Уолвин отер платком лоснящиеся щеки, встал и поднял стакан эля навстречу Лилберну:
— Дорогой Джон-свободный! То, что вы снова с нами, — событие прекрасное само по себе, независимо от того, какие гнусно-корыстные мотивы двигали вашими тюремщиками. Но я предлагаю выпить не только за приступ их доброты, но и за приступ вашей болезни. Ибо, владей вы голосом, уверен, уже в воротах Тауэра вы бы начали говорить нечто такое, за что вас тут же вернули бы обратно.
Лилберн засмеялся вместе со всеми, принял у Элизабет свой стакан, поцеловал ее, но прежде чем начать пить, протянул Уайльдману исписанный листок. Тот принял его, аккуратно положил на скатерть и начал читать, скашивая глаза от тарелки с лососиной. По мере чтения челюсти его двигались все медленнее и медленнее, пока не остановились совсем. Он поднял на Лилберна изумленный взгляд, покраснел и презрительно пожал плечами.
Овертон перегнулся через стол, подцепил листок, забегал глазами по строчкам.
— Вслух! Читайте вслух! — раздались голоса. Овертон покосился на Лилберна, дождался разрешающего кивка и начал:
«Генерал-лейтенанту Кромвелю. Сэр! Хочу, чтоб вы знали, что, не собираясь изменять принципам всей своей жизни, я также не изменю и вам, до тех пор, пока вы останетесь тем, кем вам надлежит быть. Если бы я желал или замышлял отомстить вам, я имел к тому прекрасные возможности последнее время; но я презираю такой способ действий, особенно когда положение ваше столь неустойчиво. Верьте, что если моя рука и поднимется против вас, то произойдет это не раньше той минуты, когда вы, будучи в полной славе и силе, начнете отклоняться от путей истины и справедливости. Но если вы будете твердо и строго следовать им, я ваш до последней капли крови сердца».
Все немного помолчали, словно не находя слов, которые могли бы попасть в тон торжественной приподнятости письма. Овертон злорадно покосился на Уайльдмана, но тот только печально качал головой. Женщины с двух сторон шикали на Джона-маленького, который и без того, чувствуя перемену настроения, сидел тихо, почти не шевелясь. Сексби засопел, встал, обошел вокруг стола, взял у Овертона листок, аккуратно сложил его и, перед тем как сунуть в карман, вопросительно глянул на Лилберна:
— Я могу выехать в Северную армию завтра же.
Лилберн кивнул.
— Человек, который сражается с захватчиками, должен знать, что мы не всадим ему нож в спину. И даже если вы сейчас, — Сексби неожиданно перешел почти на крик, — скажете мне, что передумали, я вам этого письма не отдам и доставлю его по назначению!
Нелепость угрозы в соединении с серьезным выражением лица произвела комический эффект — все с облегчением рассмеялись и принялись за еду.
19 августа, 1648
«В первый день битвы под Престоном мы захватили много вражеского снаряжения и оружия; убили около тысячи и взяли в плен четыре тысячи человек. На следующий день мы смогли навязать противнику бой лишь после того, как он достиг окрестностей Уоррингтона. Они укрепились в ущелье и удерживали его с большой решимостью в течение нескольких часов. Атаки следовали одна за другой, много раз доходило до рукопашной. В какой-то момент наши дрогнули, но потом, благодарение господу, оправились и выбили врага с занятой позиции. Около тысячи осталось на поле боя и две тысячи были взяты в плен. Остатки укрепились в городе и забаррикадировали мост, но вскоре прислали предложение о капитуляции. Согласно ей мы получили все их снаряжение, четыре тысячи полных комплектов оружия и столько же пленных. Таким образом с пехотой их было покончено. Остатки конницы пытаются сейчас прорваться обратно в Шотландию, но я не думаю, что кому-нибудь это удастся».
Из донесения Кромвеля парламенту
Сентябрь, 1648
«Местом новых переговоров с королем был по обоюдному соглашению избран город Ньюпорт на острове Уайт. Парламентская делегация состояла из пяти пэров и десяти членов палаты общин. Король не только получал от них всяческие изъявления почтительности, но также имел возможность окружить себя блестящей свитой по собственному выбору. К нему был открыт доступ тем слугам, которых он пожелал иметь при себе, вельможам, капелланам и адвокатам, помогавшим ему советами в процессе переговоров. Однако все время бесплодно тратилось на дебаты, на требования взаимных уступок, на увертки и оттяжки».
Мэй. «История Долгого парламента»
Октябрь, 1648
Ньюпорт, остров Уайт
Проколы звезд на черном осеннем небе кое-где были размыты неровностями оконного стекла. Король едва заметными движениями головы то убирал, то наводил светящиеся точки на те пустоты в стекле, где вспышка получалась особенно яркой. Эта оптическая игра помогала ему отвлечься от боли в висках, от вечерних шумов переполненного городка, от хрипло-тяжелого голоса стоявшего перед ним человека. Сдвинутый к затылку капюшон плаща приоткрывал крупную седеющую голову, но лицо оставалось в тени. За все время своей длинной речи человек ни разу не повернулся ни к окну, ни к дверям, словно опасаясь невидимых соглядатаев, которые могли бы опознать его.
— …И если за истекший месяц переговоров мы почти не сдвинулись с места, — говорил он, — я не вижу тому иной причины, нежели упорная скрытая враждебность вашего величества к нам, пресвитерианам. Не спорю, у вас есть достаточно оснований для такого чувства. Но вправе ли политик, монарх, поддаваться чувствам? Не роскошь ли это, которую можно позволить себе лишь в моменты полного и уверенного обладания властью?
Король медленно перевел на него глаза и тихо сказал:
— Знаете, мистер Холлес, в какой-то старой комедии есть забавная сцена. Выходит один из соперников и говорит: «То ли драка у нас была, то ли что другое — не пойму. Ударов-то сыпалось много, да все вроде мне достались».
Холлес насупился и покачал головой:
— Видимо, ваше величество видит здесь какую-то аналогию. Мой ум не в силах уловить ее.
— Я уже уступил вам во всем. Почти во всем. Я отдаю вам командование армией и флотом на двадцать лет.
Я уступаю вам право назначать людей на высшие посты. Я отдаю на вашу милость Ирландию. А вы? Вы не желаете сделать мне ни малейшей уступки и при этом говорите, будто не вы, а я затягиваю переговоры.
— Но церковь, государь! Вот вопрос вопросов. А в нем-то вы и не желаете сделать ни шагу назад.
— Я готов ввести на три года пресвитерианское управление для тех, кто пожелает ему подчиниться.
— Не сочтите мои слова дерзостью, ваше величество, но парламент не удовлетворится такой полумерой. Вас будут подозревать в неискренности, в желании выиграть время, чтобы за три года собраться с силами и попытаться вернуть себе все утраченное.
— Если я уступлю и в этом, что же у меня останется, мистер Холлес?
— Трон. Корона. Королевство, наконец.
— О да, пожалуй, вы сохраните меня в качестве эффектного статиста. Вы будете представляться мне с непокрытой головой, будете целовать мне руку и называть «ваше величество». Передо мной будут носить жезл или шпагу, позволят забавляться скипетром, короной, королевской печатью. Возможно, вы даже сохраните формулу «воля короля, возвещаемая палатами парламента», и будете облекать в нее ваши повеления. Но что касается реальной власти, она будет утрачена мною навсегда.
— Вы считаете, что у штатгальтера Голландских штатов, принца Оранского, нет никакой власти?
— А-а, вот чей пример маячит у вас перед глазами. Нет, сказать вам по чести, удел моего зятя не кажется мне таким уж привлекательным.
Холлес вдруг засопел еще громче, потом как-то нелепо выгнулся вперед и рухнул перед королем на колени. Свет свечей впервые за весь вечер упал на его поднятое лицо, высветил страдальческую гримасу, оттянувшую книзу углы губ.
— Ваше величество, я пришел к вам, рискуя жизнью. Если о нашей встрече станет известно, меня обвинят в государственной измене. Неужели вы думаете, что человек может решиться на такое лишь для того, чтобы переливать из пустого в порожнее?
— Пока я не услышал ничего существенно нового.
— Отвечая на вопрос, что у вас останется кроме трона, короны и королевства, мне следовало упомянуть и еще одну, самую важную вещь. Ваша бесценная для честных подданных жизнь.
— Вы угрожаете мне?
— Не я, государь, не я. Но вспомните тех людей, от которых вы бежали год назад из Хэмптон-корта. Сейчас они снова победили на поле боя и полны такой мстительной злобы, что не остановятся ни перед чем. Думаю, для них не секрет, что вторжение шотландцев произошло не без вашего ведома и согласия. Придворные не решаются передавать вам те угрозы в ваш адрес, которыми они наполняют свои памфлеты, которые уже открыто выкрикивают в лондонских тавернах. Не обольщайтесь надеждами на рознь между вашими противниками, не ставьте себя в положение зерна, попадающего между жерновами.
— Иными словами — выкиньте белый флаг?
— Да, ваше величество, иного выхода нет. Каждый потерянный день может оказаться последним. На коленях заклинаю вас: уступите во всем. Примите Ковенант завтра же, в самом начале заседания. Пресвитериане — единственная сила в стране, на которую вы можете сейчас опереться. Вместе мы еще сможем остановить индепендентско-левеллеровскую чуму. Порознь мы погибли.
Король вдруг наклонился над ним, в выпуклых глазах его мелькнул злорадный огонек:
— А вы помните, с чего все началось, мистер Холлес? Как двадцать лет назад вы набросились на спикера палаты общин, точно кулачный боец, и силой удержали его в кресле, пока палата не проголосовала за Протестацию, направленную против меня?
— Мне не было тогда еще тридцати. Прозорливость и выдержка — удел более зрелых лет.
— Не могу сказать, чтобы с годами ваш характер и нрав делались мягче. Не вы ли в 1640 году доставили в палату лордов обвинения против несчастного архиепископа Лода? Не вас ли умолял я в 1641-м спасти графа Страффорда? Не вы ли с оружием в руках воевали все последующие годы против своего законного монарха? И что же мы видим теперь? Вы, победитель, на коленях умоляете меня, побежденного, спасти вас. О, какая ирония судьбы! О, перст божий!
Холлес набрал полную грудь воздуха, но, так и не найдя, что ответить, начал медленно подниматься с колен. Звездный свет за окном стал еще чище и голубей — видимо, к ночи похолодало. Несмотря на поздний час, улица городка все еще шумела, из располагавшейся за углом таверны доносилось пение и выкрики гуляк.
— Вижу, мои увещевания только разожгли надежды и упорство вашего величества. Боюсь, вы вспомните наш разговор, когда будет уже слишком поздно.
— Но мне казалось, — усмехнулся король, — что вы пророчили гибель нам обоим. Теперь вы передумали и оставляете меня в одиночестве?
— В отличие от вас, у меня всегда остается возможность в последний момент сесть на корабль и отплыть на континент.
Холлес поклонился, натянул капюшон плаща и, пятясь, вышел из комнаты.
Октябрь, 1648
«Буду с вами откровенным — все важные уступки, сделанные мною в отношении церкви, армии и Ирландии, имеют своей целью лишь облегчить мой побег. Если раньше возвращение в тюрьму не слишком пугало меня, то теперь оно разобьет мое сердце; ибо я уступил так много, что это может быть оправдано только бегством. Короче говоря, я возлагаю все надежды на то, что теперь, когда они вообразили, будто я ни в чем уже не посмею отказать им, меня будут охранять с меньшей бдительностью».
Из писем Карла I
Ноябрь, 1648
«Армия обманула нас в прошлом году, нарушив все свои обещания и декларации, поэтому мы не могли вновь довериться ей, не приняв мер предосторожности. И хотя мы так же, как и она, считали короля тираном, а нынешний парламент — не многим лучше, нам представлялось правильным некоторое время поддерживать одних тиранов против других до тех пор пока не станет ясно, у кого из них легче будет вырвать нашу свободу. Нельзя было допустить, чтобы все управление королевством оказалось в полной зависимости от мечей, чтобы не осталось никакой власти, уравновешивающей власть военных. Иначе в будущем мы могли бы впасть в еще горшее рабство, чем то, которое нам приходилось терпеть во времена короля. Поэтому я крепко стоял на том, что в первую очередь надо принять „Народное соглашение“, а уже потом заниматься всем остальным».
Лилберн. «Основные законные вольности»
28 ноября, 1648
Виндзор, графство Беркшир
Видимо, малая столовая была гордостью хозяина гостиницы. Полированный стол, массивные ножки, покрытые виноградной резьбой, старинные стулья тюдоровских времен, с треугольными сиденьями, даже гнутые арки, поддерживавшие балки потолка, — все источало легкий запах воска и лака, сверкало чистотой. Вечерний свет, падая в три окна и отражаясь от пустой блестящей поверхности стола, слепил Лилберну глаза, превращал фигуры сидевших перед ним офицеров в неразличимые силуэты. Он даже не всегда с точностью мог сказать, кто из них говорит. Только голос полковника Гаррисона он уже узнавал безошибочно. Впрочем, генерал-комиссар Айртон почти никому не давал вставить слова.
— Поверьте, — говорил он, — армия весьма ценит поддержку, оказанную ей вашей партией в тяжелые месяцы этого лета. Генерал Кромвель писал мне, что он испытал огромное облегчение и был тронут до глубины души, получив ваше письмо. Тем более странной и несправедливой кажется нам ваша нынешняя враждебность к нам.
Лилберн хотел ответить, но сидевший справа от него Уайльдман быстро подался вперед и сказал:
— Если б отношение наше к армии можно было назвать враждебным, вряд ли бы мы тратили столько времени на совещания с вашими друзьями в Лондоне, вряд ли бы примчались сюда.
Он так же, как и Айртон, старался говорить подчеркнуто ровным, сдержанным тоном, но, может быть, именно оттого, что на поддержание этого тона обеими сторонами тратилось столько сил, напряженность в столовой зале только сгущалась. Конференция между ведущими левеллерами и Главным советом армии шла уже третий час. Возможно, если бы кто-нибудь раскричался, вскочил, стукнул стулом об пол, это как-то разрядило бы атмосферу, убрало каменно-вежливые гримасы с лиц.
— Смотрите, как во многом мы уже сошлись, — снова заговорил Айртон. — И вы и мы считаем, что король заслуживает суда и наказания. Что верховная власть в государстве должна перейти в руки выборного собрания. Что нынешняя система выборов в парламент нуждается в пересмотре и уравнении. Что закон должен судить невзирая на лица и титулы. Что занимать место на скамьях парламента и одновременно находиться на государственной службе недопустимо. Мы даже пошли вам навстречу и согласились предоставить избирательные права всем, кто платит налог и не работает за жалованье, получаемое от частных лиц. Вы, в свою очередь, многократно подчеркивали, что не покушаетесь на принцип частной собственности. Что же еще нас разделяет?
— Свобода совести. Мы стоим за более широкую веротерпимость, вы же упрямо протаскиваете идею преследования за некоторые виды религиозных убеждений.
— Нынешний парламент этим летом провел закон, карающий смертной казнью и пожизненным заключением за отклонения от пресвитерианской догмы. Вот это я могу назвать религиозным преследованием, с которым надо бороться, не жалея крови. Мы же всего-навсего хотим запретить публичное исповедование двух христианских культов. Заметьте, католичество и англиканство не просто религиозные убеждения. Католики признают своим верховным владыкой папу, англикане — короля. Это неизбежно приведет их к политической оппозиции, соберет вокруг них всех врагов будущей республики.
— Для меня, например, что католические попы, что наши прелаты — одна шайка. — Лилберн узнал голос полковника Гаррисона. — Но должен сознаться, в данном вопросе я склоняюсь на сторону джентльменов левеллеров. Религиозные преследования такая коварная штука. Стоит приоткрыть им хоть маленькую щелку, и, глядишь, через какое-то время они уже растеклись, как змеиный яд в крови.
— Хорошо, — кивнул Айртон. — Этот пункт можно будет пересмотреть и согласовать отдельно. Что еще?
— Насколько я понял, вы собираетесь оставить за палатой общин право судить и наказывать людей не только на основании изданных законов, но и по собственному ее благоусмотрению.
— Да. Палата должна обладать не только высшей законодательной властью, но и являться верховным судом страны. Закон не может предусмотреть все случаи и варианты преступлений против государства.
— И вы не считаете, что тем самым перед палатой распахиваются безграничные возможности к тирании, деспотизму и произволу?
— Вижу, вся ваша забота, мистер Лилберн, направлена к одному: как бы оградить свободного английского гражданина, этого доброго, разумного, честного и справедливого страдальца, от произвола хищной и злобной верховной власти, защитить управляемого от управляющих. И ради достижения этой цели вы готовы спеленать власть по рукам и ногам так, чтобы она и пальцем не смела тронуть гражданина. Я же считаю своим долгом думать и о том, как оградить власть и в лице ее все государство от произвола, капризов и злокозненности отдельного гражданина.
— Не потому ли, — усмехнулся Овертон, — так разнятся наши заботы, что в будущем государстве мы отводим себе место управляемых, а вы — управляющих?
Айртон резко обернулся к нему. Свет упал на сверкнувшие белки глаз, на узкую каштановую бородку, пересекавшую полный подбородок сверху вниз, на приоткрывшийся рот. Потом лицо снова застыло, спасительно-разряжающие слова так и не вылетели из груди. Генерал-комиссар не мог себе позволить терять самообладание по таким пустякам.
Сидевший у окна проповедник Хью Питерс, не досмотрев, чем кончится стычка двух возниц на улице, обернулся к собравшимся и сказал:
— Боюсь, причина наших расхождений и проще, и сложнее. Даже если мы согласимся на полную веротерпимость и на скованный по рукам и ногам парламент, это не подвинет дело вперед. Ибо суть в том, что джентльмены испытывают глубочайшее недоверие ко всему, что мы говорим, пишем, делаем или замышляем.
— В нынешнем положении мы никому не можем верить на слово. — Лилберн упрямо наклонил голову и провел в воздухе пальцем, словно подводя черту под сказанным. — Нам необходимы гарантии.
— Какие же гарантии удовлетворили бы вас?
— Принятие Главным советом армии «Народного соглашения».
— Но мы фактически уже приняли его. В «Ремонстрации армии», представленной парламенту неделю назад, вы найдете почти те же требования, что и у вас. Некоторые — слово в слово.
— Мы настаиваем на публичном объявлении «Народного соглашения» высшим законом страны, конституционной основой.
— Мистер Лилберн, ну посудите сами, — Айртон выпростал руку из кружевного манжета, устало провел ею по глазам. — Если б мы действительно были такими беспринципными лицемерами, какими вы часто рисуете нас в своих писаниях, разве мы колебались бы сегодня, сейчас? Чего нам стоит принять на словах все, чего вы требуете, заполучить вашу поддержку, а когда власть окажется в наших руках, объявить все уступки недействительными?
— Не знаю почему, но, похоже, на этот раз такой путь вас не устраивает.
— Не знаете почему? Да потому только, что мы принимаем «Народное соглашение» всерьез, сознаем всю его важность и не хотим портить дела, публикуя столь ответственный документ в недоработанном виде. На доработку же его у нас просто нет времени. Быть может, уже день, потерянный нами сегодня, окажется роковым. Если парламент сумеет договориться с королем, мы окажемся в глазах всего английского народа единственными нарушителями мира и порядка. И тогда мы погибли. Вы и мы — вместе. Неужели вы этого не понимаете?
— Что касается нашей личной судьбы, генерал, то она решена уже давно. Мы погибнем раньше, чем дадим погубить нашу свободу.
— Короче, без громких слов: что ваша партия намерена предпринять, если мы завтра двинемся на Лондон?
Лилберн откинулся на неудобную спинку, скрестил руки на груди и произнес, глядя прямо в то место черного силуэта, где должны были помещаться глаза генерал-комиссара:
— Мы крови своей не пожалеем для того, чтобы предотвратить узурпацию власти кем бы то ни было.
Тишина сгустилась, переплелась с сумеречным вечерним светом, нависла над головами и вдруг лопнула, разорванная коротким деревянным взвизгом, — Айртон резко отодвинулся вместе со стулом и встал.
— Что ж, приходится признать этот день действительно потерянным. Думаю, нам не о чем больше разговаривать.
Он помедлил еще секунду, словно давал последнюю возможность остановить себя, потом пошел к дверям. Остальные офицеры, грохоча сапогами и стульями, потянулись за ним. Полковник Гаррисон, проходя мимо Лилберна, поймал его взгляд и то ли печально, то ли осуждающе покачал головой. Последним, пряча пистолет, вышел Хью Питерс. После убийства полковника Рейнборо группой кавалеров у видных военных вошло в привычку не расставаться с оружием ни на минуту.
Окна быстро темнели. Пошел мелкий беззвучный дождь. Хозяин гостиницы с зажженным канделябром в руке заглянул в столовую, забегал испуганным взглядом по лицам, пытаясь понять, что произошло.
— Да, почтеннейший, мы уже закончили, — сказал Лилберн. — Если на кухне осталось что-нибудь съестное, самое время прислать нам сюда. И прикажите готовить лошадей. Мы уезжаем в Лондон.
— Но, сэр, на ночь глядя?
— Неужели вы думаете, что трое столь бравых джентльменов испугаются ночной прогулки?
Хозяин поклонился и исчез, оставив канделябр на краю стола. Уайльдман протянул ладони к огонькам свечей, потом зябко потер их и сказал, глядя перед собой:
— Что вы наделали, Джон-свободный. Что за страсть у вас — биться головой о самое прочное место стены.
— Вы считаете, что можно было уступить?
— Мистер Уайльдман ничего не считает. Он просто, по молодости лет, больше любит оказываться среди победителей, чем среди побежденных.
— Вы бы дали хоть день в неделю отдых своему зубоскальству, Ричард. Или вы и правда не понимаете, что на карту поставлена судьба всего нашего дела?
— К счастью или к несчастью, дело наше слишком велико, чтобы его можно было поставить на одну какую-то карту и проиграть. Наши жизни — да. Тут я с вами вполне согласен.
— А потому, — подхватил Лилберн, — давайте держаться простой солдатской мудрости. Той самой, что в песне: «Кустам сам бог велел дрожать, а мы должны свой путь держать…»
— «…свой путь держать», — повторил Овертон.
— Свой путь держать, — вздохнул Уайльдман. Ужин был накрыт тут же, на краю большого стола, и они уже приступили к еде, когда дверь столовой распахнулась и на пороге появился полковник Гаррисон, от берета до сапог покрытый сверкающей уличной моросью.
— Ба, полковник! Не извлечете ли вы сейчас из-под плаща приказ о нашем аресте? Стража, я полагаю, оставлена мокнуть на улице?
— Многие требовали поступить с вами именно так, мистер Лилберн. Но мне удалось отговорить их.
— В таком случае, мы вам искренне рады. Стаканчик эля?
— Не откажусь.
Гаррисон опустился на свободный стул, поерзал на неудобном сиденье, отхлебнул из протянутого стакана.
— Как же вы их отговорили?
— Пришлось немного освежить их память. Изгнание предателей из парламента и суд над королем — не к тому ли самому призывали нас Джон-свободный и его друзья еще год назад, спросил я. Быть может, если бы мы послушались вас уже тогда, второй войны удалось бы избежать.
— Жаль, что вы не сказали этого раньше, во время совещания. Впрочем, в вашем личном расположении к нам мы не сомневались.
— Я говорю сейчас не от себя. Меня послал генерал-комиссар.
Лилберн оглянулся на друзей и увидел, как глаза их загорелись надеждой. Уайльдман сглотнул слюну и отодвинул тарелку. Овертон свел вместе треугольники бровей.
— Я признаю, что ваши опасения справедливы, — продолжал Гаррисон. — Признаю, что для недоверия к нам у вас есть основания. Но признайте и вы, что в аргументах генерал-комиссара тоже есть свой резон. Все сейчас висит на волоске. Если мы не найдем возможности поверить друг другу, если не соединим силы, наша песенка спета. Неужели армия Нового образца кажется вам большей угрозой для дела свободы, чем Стюарты и пресвитериане, вместе взятые?
Лилберн почти физически ощущал взгляды Уайльдмана и Овертона, сверлившие ему виски. Гаррисон, перегнувшись вперед и выложив на стол крепкие открытые ладони, продолжал говорить с той сдержанной, напряженной страстью, какую опытные проповедники обычно приберегают для подъема к кульминационной точке проповеди.
— Нам ли сейчас давать волю подозрительности? Нам ли не верить друг другу? Солдатам, бившимся бок о бок за правое дело? Вы подозреваете совет офицеров в неискренности? Пусть так. Но мне, лично мне вы можете поверить? Я не берусь поручиться за остальных, но за себя обещаю: я сделаю все от меня зависящее, чтобы «Народное соглашение» было принято, обнародовано и объявлено основным законом государства.
— Если бы созвать специальный комитет для доработки текста… — не очень уверенно начал Лилберн. — Скажем, по четыре человека от нас, от армии, от индепендентов. Даже от пресвитериан.
— Они конечно не согласятся, но для порядка можно позвать и их.
— Такой комитет мог бы обсудить все спорные частности и решить их большинством голосов. Думаю, мы… мы были бы готовы подчиниться его решениям.
Овертон в знак согласия наклонил голову, Уайльдман же смог только испустить счастливый вздох. Ладони Гаррисона медленно поползли назад, словно им удалось заполучить нечто ценное и хрупкое, что нужно на всякий случай осторожно перенести в безопасное место.
— Прекрасная идея, мистер Лилберн. Превосходная. Такой комитет можно созвать хоть завтра. А почему бы и нет? Вы уже здесь, офицеров мы выделим в любой момент, за индепендентами пошлем в Лондон сегодня же. Я уверен, что генерал-комиссар с готовностью примет этот план.
И только теперь, видя выражение радостного облегчения на лицах друзей, Лилберн смог по-настоящему понять, каких мучительных усилий стоило им напряжение предыдущих часов, как жаждали они в глубине души примирения с армией и как трудно им было не показать этого, остаться верными ему, не бросить в борьбе. На мгновение он испытал прилив гордости и благодарности к ним, переплетенной с щемящим чувством собственного одиночества, но тут же почувствовал, что воодушевление окружающих захватило его, растворило горечь и снова возродило смутную надежду на близкий берег, победу, конец пути.
Когда хозяин гостиницы зашел в столовую и объявил, что лошади готовы, полковник Гаррисон поднялся ему навстречу и торжественным взмахом вложил в руку несколько шиллингов:
— Возьмите за труды, почтеннейший, и прикажите расседлать. Джентльмены остаются. У них оказалось в Виндзоре гораздо больше дел, чем они ожидали.
— И пришлите еще кувшин! — крикнул Уайльдман. — Да чего-нибудь покрепче. Не знаю, как остальным, а мне просто необходимо унять сердцебиение.
2 декабря, 1648
«Город полон страха перед армией. В общинах было предложено срочно приступить к обсуждению армейской ремонстрации, но большинством в 90 голосов предложение отклонили. Тогда генерал Ферфакс с армией вступил в Лондон и расквартировался в Уайтхолле, Сент-Джеймсе и других свободных зданиях».
Уайтлок. «Мемуары»
4 декабря, 1648
«Говорят, что мы погибли, если возбудим неудовольствие армии. Она вся сложит свое оружие, как это заявил нам один из ее вождей, и не будет более нам служить. Что же тогда станет с нами?
Если бы это случилось, то, признаюсь, я не стал бы дорожить покровительством столь непостоянных, мятежных и неразумных слуг. Лучше достойно погибнуть, чем лишиться всякого значения и плестись, вопреки голосу совести, на поводу у этих людей».
Из речи, произнесенной Принном в палате общин
5 декабря, 1648
«Обсуждение уступок, сделанных королем на переговорах, затянулось до глубокой ночи, и в конце концов большинством голосов они были признаны достаточным основанием для возвращения под власть короны. Полковник Хатчинсон, бывший тогда членом палаты общин, обратился к тем пресвитерианам, которых он уважал, пытаясь доказать им, что, если разбитого и плененного короля восстановить сейчас на троне, это окажется несовместимым со свободой народа; это будет означать, что за всю пролитую кровь и перенесенные страдания народ получит в награду лишь более тяжелые и прочные цепи. И в тысячу раз лучше было бы вообще не лезть в драку, чем вот так, после победы, предать правое дело. Те признавались ему, что уступки короля, конечно, не дают достаточных гарантий, но ввиду возрастающей мощи и наглости армии следует согласиться и на них. Однако полковник Хатчинсон, неудовлетворенный их ответами, присоединился к тем, кто по мере сил решил противодействовать принятому решению».
Люси Хатчинсон. «Воспоминания»
6 декабря, 1648
Лондон, Вестминстер
Обычно отряд парламентской охраны, выставляемый лондонской милицией, покрывал расстояние от Сити до Вестминстера примерно за час. Но в это утро холодный восточный ветер с такой силой задувал в спину идущим ополченцам, что они поневоле ускоряли шаг, а порой пускались бегом, так что уже в начале восьмого первые ряды достигли Чаринг-кросса. Улицы были темны и пустынны, даже бездомные собаки хоронились где-то в утробах запертых дворов. Оглушенные монотонностью ходьбы, ветром, пустотой, утренним недосыпом, ополченцы по инерции продолжали идти некоторое время за своим капитаном и тогда, когда после поворота на Кинг-стрит путь им преградила плотная сверкающая шеренга фонарей, шлемов, поднятых мушкетных стволов, зажженных фитилей. Лишь предостерегающий окрик заставил их остановиться.
— Эгей, что происходит? — крикнул капитан.
— Можете возвращаться по домам, — ответил начальственный голос. — Армия берет охрану парламента на себя.
— Но по чьему приказу?
— По приказу военного совета.
— Мы подчиняемся только генералу Скиппону.
— Советую не упрямиться. Мне поручено не пропускать вас к Вестминстеру, и, будьте уверены, я выполню это в точности.
Ряды ополченцев смешались, послышались возмущенные выкрики. Однако силы были настолько неравны, что о стычке нечего было и думать. За спиной заградительной шеренги виднелись другие войска, вдоль освещенного фасада Уайтхолла эскадрон за эскадроном двигалась кавалерия. Ополченцы растерянно топтались на месте, не зная, на что решиться.
— Ступайте домой! — кричали им из шеренги.
— Вам пора открывать свои лавки.
— Представьте, как обрадуются жены!
— Прекрасный случай проверить их верность.
— В такое утро залезть обратно под одеяло — что может быть лучше?
— А уж мы, бедные, останемся здесь, на холоде.
Наконец в свободное пространство между двумя отрядами выехал начальник лондонской милиции генерал Скиппон. Он оглядел, насупясь, притихших солдат одной и другой стороны, потом приподнялся в стременах и махнул рукой в сторону ополченцев.
— Возвращайтесь в Сити. Сами видите — вам прислали надежную замену.
Те нехотя повернули и нестройной толпой побрели назад, навстречу ветру, облегчая душу негромкой бранью. У Чаринг-кросса они расступились, пропуская карету. Один из пассажиров, оживленный, встревоженный, окликнул капитана:
— Что там случилось?
— Армия окружила парламент, мистер Уайтлок. Не знаю, что у них на уме, но ведут себя нагло. Их там не меньше двух полков. И генерал Скиппон с ними заодно.
Уайтлок откинулся на сиденье, обернулся к Файнесу, которого он, как обычно, подвозил на заседание палаты.
— Что будем делать?
Файнес пожал плечами:
— Как сказал вчера мистер Принн, исполнять свой долг.
Карета медленно двинулась вперед.
По знаку офицера шеренга молча расступилась перед ней — и снова сомкнулась.
За Уайтхоллом патрули были расставлены довольно редко, зато вся площадь перед Вестминстерским дворцом просто кишела войсками. Кое-где горели костры, подбрасывая дым и искры до башенных часов. В главном холле Вестминстера тоже было тесно от солдат, а на лестнице, ведшей к дверям палаты общин, они стояли двумя шпалерами. Уайтлок и Файнес поднимались, стараясь не замечать мрачных взглядов, не ускорять шага, не втягивать голову в плечи. Наверху, расставив ноги, возвышался человек в полковничьем мундире, с большим листом бумаги в руке. Один из членов парламента, ярый индепендент, что-то шептал ему, указывая глазами на подходивших. Полковник сверился со своим списком и, сняв шляпу, сказал:
— Мистер Файнес, я попрошу вас задержаться.
Оба парламентария в нерешительности остановились, но полковник покачал головой и сделал приглашающий жест в сторону зала заседаний палаты:
— Вы, мистер Уайтлок, в моем списке не значитесь и можете пройти.
Уайтлок виновато улыбнулся Файнесу, двинулся к дверям, замешкался на пороге, оглянулся, но потом все же вошел внутрь. Полковник чуть выставил вперед плечо и придал лицу какое-то мрачно-брезгливое выражение, которое, видимо, считал подходящим случаю:
— Мистер Файнес, мне приказано не допускать вас в зал заседаний.
— Вы отдаете себе отчет в том, что говорите, полковник Прайд? Не допустить в зал, на свое место, члена палаты общин?
— Если вы будете упорствовать, мне приказано арестовать вас.
— Кто мог отдать такой безумный приказ?
— Главный совет армии.
— Я буду жаловаться генералу Ферфаксу.
— Это ваше право. А сейчас попрошу немедленно покинуть Вестминстер, если вы не хотите оказаться под замком.
Его прищуренный взгляд был устремлен над плечом Файнеса вниз, к подножию лестницы. Там чей-то гневный голос требовал дорогу — и солдатская толпа, стихая, послушно расступалась.
Потом на ступенях появился Принн.
Он шел так быстро, что относимые назад волосы открывали черно-розовые дыры на месте ушей. Полковник Прайд поспешно сделал два шага ему наперерез и издали крикнул:
— Мистер Принн, предупреждаю — вам не будет дозволено войти в палату!
— Прочь с дороги, наемник! Кто ты такой, чтобы приказывать члену палаты общин? Королевский герольд?
— Мое имя Прайд. В королевских прислужниках я никогда не ходил, а честно занимался извозом. И как полковник армии Нового образца заявляю вам: вы не войдете.
— Не родился еще тот человек, который смог бы остановить меня! — крикнул Принн и решительно двинулся мимо Прайда к дверям. Два корнета, стоявшие за спиной полковника, вышли ему навстречу, ухватили за плечи и за локти и швырнули вниз с такой силой, что, не подхвати его Файнес, он разбился бы наверняка.
— А-а, негодяи! Я не боялся королевского палача, не испугаюсь и вас!
Размахивая костлявыми кулаками, Принн ринулся на корнетов, сцепился с ними. Файнес, пытаясь оттащить его, получил сильный удар в грудь, но тут над головами их грянул голос полковника Прайда:
— Арестовать обоих! Увести!
Подоспели другие офицеры, неловко, но сильно схватили взбешенных парламентариев за руки, за плащи и увели в боковой проход. Солдат унес следом две слетевшие шляпы.
К восьми часам члены палаты общин начали прибывать один за другим, так что полковник Прайд уже не успевал менять выражение своего лица: одно — для тех, кому разрешалось войти, другое — для задерживаемых. То и дело на верхней площадке гремел его голос: «Вы не войдете!.. Приказ Главного совета армии… Хотите под замок?.. Арестовать!.. Увести».
Даже те, кто не был задержан у дверей, проходили в зал заседаний не очень уверенно, словно ждали, что там внутри их ждет какой-то другой, еще более полный и страшный список. Лишь на лицах главных индепендентов можно было заметить выражение сдерживаемого торжества и злорадства. Кое-кто из них знал о готовящемся перевороте, а некоторые принимали участие в составлении проскрипций, врученных Прайду. Чем больше недопущенных скапливалось на лестнице и в главном холле, тем увереннее звучали среди них выкрики о возмутительном насилии, о неслыханном нарушении парламентской неприкосновенности. Двое-трое пытались пробраться в палату через боковые двери, но посты были расставлены повсюду. Солдатам объяснили накануне, что изгонять из парламента будут тех, кто прикарманивал их жалованье, поэтому они на все увещевания отвечали с насмешливой грубостью людей, посвященных во все тонкости дела и уверенных в своей правоте.
Всего в зал заседаний было допущено 120 членов — едва половина наличного состава палаты. Они попробовали было призвать остальных занять свои места, но охрана прогнала посланного сарджента. Тогда они постановили, что не будут ничем заниматься до тех пор, пока им не вернут задержанных, и выделили делегацию для переговоров с генералом Ферфаксом. Но генерал ответил, что он занят и что первым делом очищенного от изменников парламента должно стать обсуждение армейской Ремонстрации. К арестованным в боковые комнаты Вестминстера явился Хью Питерс, но не для того, чтобы читать им проповеди, а для того, чтобы переписать. Их оказалось около сорока.
— По какому праву вы нас задерживаете здесь? — крикнул кто-то вслед уходящему проповеднику.
Тот повернулся в дверях и, похлопав по эфесу шпаги, сказал:
— По праву вот этой штуки.
Все же некоторых, в том числе Файнеса, генерал Ферфакс приказал освободить. Остальных к концу дня отвели в таверну на Вестминстерской площади и кое-как разместили на ночлег в верхних комнатах. Палата, смущенная и растерянная, разошлась, так и не приняв в этот день никакого решения.
В поздних сумерках по направлению от Чаринг-кросс к Уайтхоллу в сопровождении небольшой свиты проехал только что вернувшийся с Севера генерал-лейтенант Кромвель. Под светом, падавшим из окон дворца, солдаты охраны узнали его и приветствовали троекратным «ура». От долгой езды под холодным ветром ноги всадников, видимо, так заледенели, что они с трудом смогли выпростать их из стремян и заставить принять на себя груз усталого тела. Эта всеобщая замедленность была так велика, что ни один из них не успел преградить путь человеку в черном плаще, кинувшемуся из уличной темноты к Кромвелю. Тот инстинктивно отшатнулся, но человек остановился в двух шагах, выбросил вперед безоружную руку и крикнул голосом, дрожащим от обиды и злости:
— Поздравляю, генерал! Спектакль, задуманный вами, прошел превосходно. Все статисты и актеры исполнили свои роли с большим подъемом.
Кромвель вгляделся, отстранил вставших между ними офицеров, шагнул вперед:
— Негоже, мистер Файнес, накидываться на старого товарища с несправедливыми обвинениями. Я только что прибыл из Понтефракта и узнал обо всем случившемся уже в городе, полчаса назад.
— Вы не знали о заговоре армии против законной власти? Не знали, что она собирается совершить над парламентом такое насилие, на какое не решался ни один из королей?
— Не знал.
— В жизни своей не поверю.
— Как вам будет угодно. Но уж коль вы заговорили таким тоном, могу сознаться, что я рад случившемуся. Да-да, рад! Многие из вас в палате давно уже не заслуживали ничего, кроме хорошего пинка под зад. И, думаю, дело стоит того, чтобы довести его до конца.
Он положил руку Файнесу на плечо и слегка оттолкнул его от себя. Потом прошел к дверям Уайтхолла.
На следующий день, 7 декабря, полковник Прайд снова стоял на площадке лестницы и держал в руках еще более длинный список. Чистка парламента продолжалась. В результате на скамьях палаты общин осталось около пятидесяти человек, самых рьяных индепендентов, и скорые на прозвища лондонцы быстро прицепили этому поредевшему парламенту кличку «охвостье».
Декабрь, 1648
«Множество петиций начало поступать в парламент от разных графств и армейских полков. Все они содержали требования правосудия и наказания тех, кто произвел столь великое кровопролитие в Англии. Перечислялись имена зачинщиков второй гражданской войны — Гамильтона, Голланда, Горинга. Но особенно подчеркивалось, что сам король, главный виновник всех войн и бедствий, обрушившихся на страну, должен быть отдан под суд».
Мэй. «История Долгого парламента»
8 января, 1649
«Так как известно, что Карл Стюарт, нынешний король Англии, не довольствуясь многочисленными нарушениями прав и свободы народа, совершавшимися его предшественниками, возымел преступное намерение совсем уничтожить старинные законы и вольности страны и вместо них ввести управление произвола и тирании, поднял и поддерживал в стране гражданскую войну против парламента и королевства, вследствие чего наша страна подверглась жестокому опустошению; и так как снисходительность парламента служила для него и для его сообщников лишь поощрением для возбуждения новых смут, восстаний и вторжений, то для предотвращения еще больших зол и для того, чтобы никакой король в будущем не осмеливался преступно и злонамеренно подготовлять порабощение английской нации и надеяться на безнаказанность за такие деяния, парламент постановляет предать вышеназванного Карла Стюарта суду».
Из ордонанса, выпущенного парламентом
Январь, 1649
«Король был приведен на суд и обвинен в том, что он развязал войну против парламента и английского народа, что обманул общественное доверие и сделался непримиримым врагом государства. Но он отказался признать себя виновным, отрицал правомочность суда и всячески проявлял презрение к нему. Всеми участниками суда была подмечена одна деталь: когда короля обвиняли в крови, пролитой им в сражениях, где он лично присутствовал и командовал, он отвечал на это усмешкой и выражал сожаление, что не вся противная ему партия была перерезана, а только некоторые; и он не побоялся сказать вслух, что из всей крови, пролитой за время распри, его тревожит лишь кровь одного человека, имея в виду графа Страффорда. Судьи, видя его столь решительно устремленным к полному уничтожению своих противников и полагая, что бог покарает их, если они дадут королю уйти от заслуженного наказания и продолжать свои злодейства, приговорили его к смертной казни».
Люси Хатчинсон. «Воспоминания»
30 января, 1649
«Под охраной полка пехоты король был проведен из Сент-Джеймса в Уайтхолл. Он отказался от обеда, ибо утром принял причастие, но около полудня выпил красного вина и съел немного хлеба. Затем его провели через банкетный зал дворца на эшафот, пристроенный вплотную к окну второго этажа, затянутый черной материей, где посредине уже стояла плаха, а на ней — приготовленный топор. Отряды пеших и конных окружали эшафот со всех сторон, и множество народа пришло посмотреть на казнь.
Король произнес небольшую речь к сопровождавшим его, затем повернулся к палачу и сказал: „Я прочту короткую молитву, затем выброшу руки вперед“. Два человека в капюшонах и в масках исполняли обязанности палачей. „Мои волосы не помешают вам?“ — спросил король. Палач попросил убрать их под шапочку. Затем король снял плащ, опустился перед плахой на колени и после короткой паузы дал условленный знак. Палач отсек ему голову с одного удара. Многие вздыхали и плакали, а некоторые пытались смочить платки в его крови, словно это была кровь святого мученика».
Уайтлок. «Мемуары»
25 февраля, 1649
Лондон, тайная печатня
Пол мастерской был усыпан обрезками бумаги, кусками бечевы, кое-где блестели оброненные литеры. Ритмично поскрипывал винт печатного станка. Часов в шесть вечера хозяин печатни отпустил мастерового, и Лилберн занял его место. Работа помогла ему разогреться, только по ногам все так же тянуло резким холодом. Низкие подвальные окошки и днем-то не давали достаточно света, а теперь и вовсе выглядели черными дырами под потолком. Ниши их были такими глубокими, что занавески приходилось задергивать специальной палкой.
Уайльдман, кутаясь в шотландский плед и придвинув с одной стороны свечу, с другой — фонарь, вглядывался в свежеотпечатанные листки, разложенные перед ним на наборной кассе. Сколько раз в таких ситуациях Лилберн зарекался давать друзьям читать свои произведения при себе, да все забывал. Ощущение было таким томительным, словно предстояло выслушать врача, закончившего осмотр опухоли.
Большие мягкие руки печатника аккуратно подхватывали чистый лист из стопки, запускали в щель под пресс. Поворот винта, скрип, поворот обратно, легкий отлипающий звук — и стопка готовых оттисков вырастает на сотую дюйма. Лист, поворот, скрип, обратно, лист, поворот, скрип, обратно… Наконец Уайльдман обернулся и, не глядя в глаза, спросил:
— Что вы собираетесь с этим делать?
— Представить завтра парламенту.
— Для парламента хватило бы и одного экземпляра. Ну, десяти. А вы уже перевалили за две тысячи.
— Обычная наша предосторожность. Неизвестно ведь, примут ли нас новые владыки, станут ли слушать. Неизвестно даже, пустят ли нас в Вестминстер или арестуют прямо на пороге. Вам рассказывали, что говорилось про нас недавно в совете офицеров? С каким жаром и остроумием ратовали за военный суд? «Военный судья успеет повесить двадцать человек, прежде чем гражданский управится с одним». Дивный способ оценки правосудия.
— Там звучали и другие голоса.
— Возможно. Но в данном деле нам нужно в первую очередь думать о том, чтобы наш собственный голос был услышан. Для того мы и мерзнем здесь допоздна над третьей тысячей экземпляров.
Уайльдман, наконец, посмотрел ему прямо в глаза, вздохнул:
— Мистер Лилберн, вы не обратили внимания на то, что Англия недавно стала республикой? Что в ней нет больше ни короля, ни лордов?
Лилберн на мгновение застыл на рукоятке винта, и печатник, ткнувшийся за прижатым листом, сбился с ритма и неодобрительно фыркнул. Колени уже ломило от холода, но воздуха в низком подвале едва хватало на троих, о том, чтобы внести жаровню, нечего было и думать.
— Мы боролись за свержение монархии, мистер Уайльдман, еще тогда, когда многие генералы заигрывали с королем.
— А теперь вы решили накинуться на республиканское правительство. Не за то ли одно, что оно правительство?
— Слово «накинуться» вряд ли подходит к тону и содержанию петиции.
Поскрипывание винта возобновилось.
— О да! Уже само название говорит о мягкости, миролюбии и терпимости автора. «Новые цепи Англии»! Ни больше, ни меньше. Звучит почти как «новые цели, новые успехи, новые утехи».
— Чем же вас так прельстила наша республика? Новыми невиданными судами, которые создаются по любому поводу? Тесной компанией тиранов, назвавшей себя Государственным советом? Новыми налогами? Или свободой печати, при которой мы должны прятаться в такую вот нору?
— Нет нужды повторять все ваши обвинения — я только что прочел их. И даже на самые справедливые любой разумный человек возразит вам: на все нужно время. К больному может прийти самый честный и опытный врач, но больной не вскочит тут же с постели, если недуг был долгим и тяжким. Со дня казни короля не прошло и месяца. Что можно было сделать за месяц?
— Принять «Народное соглашение».
— Которое? Наше или то, что было переработано офицерами?
— Наше. В офицерском слишком много опасных добавок и упущений.
— А что прикажете делать с офицерами, считающими именно наш вариант более опасным? Объявить предателями? Выгнать со службы? Отдать под суд?
Винт снова перестал скрипеть. Лилберн разжал затекшие, слипшиеся на рукоятке пальцы, глянул на них, потом сказал печатнику:
— Пора бы доброму хозяину дать работнику передохнуть. Да и подкрепиться самое время.
Печатник окинул взглядом оставшуюся стопку чистых листов, с сомнением покачал головой и, вытирая руки о фартук, отправился к дверям. Лилберн опустился перед Уайльдманом на табурет, нацепил очки и прочел несколько строк:
— «…Хотя мы знаем, что можем подвергнуться преследованию за эту петицию, мы все же облегчили свою совесть, раскрыв перед вами наши сердца». Разве это враждебный тон?
— Двумя строчками ниже вы заявляете, что народ порабощен и обманут.
— И это чистая правда. Впрочем, я не о том хотел говорить с вами сейчас, дорогой Джон. Не о том. — Он отложил листки, сцепил руки на остром колене, медленно поднял глаза к потолку. — Десять лет мы гонимся за призраком свободы, десять лет… Сколько раз мне казалось: вот-вот, совсем уже близко, последний рывок. Сейчас не то. Надежда почти умерла во мне. Сознаюсь вам — я устал безумно. Элизабет умоляет меня оставить политику, зажить тихо, посвятить себя семье, купить ферму, или мыловарню, или пивную. В какой-то момент я чуть не поддался ее мольбам, но потом вдруг спросил себя: разве это так уж много — десять лет? В человеческой жизни это большой срок, но в борьбе за свободу… Под Брентфордом нам казалось — сейчас, сегодня все должно решиться, если мы удержим кавалеров — война выиграна.
— Если бы вы пустили их тогда в Лондон, — сказал Уайльдман, — мы бы проиграли войну.
— Может быть. Но я не о том. Я о том, что драться в каждом бою нужно так, будто от его исхода все зависит. Пусть потом станет ясно, что кровь была пролита лишь за то, чтоб задержать врага на один день, что война будет тянуться еще долго и до полной победы не дожить. Но каждый следующий раз нужно говорить себе то же самое: сегодня все решится. И верить в это, и верить друг другу, стоять плечом к плечу, не поддаваться усталости, не предавать. Главное — не предавать.
Уайльдман слушал, настороженно выставив вперед плечо, теребя пальцами бахрому пледа. На последних словах он начал густо краснеть, потом вскинул налившиеся слезами глаза и заговорил горячо и гладко, видимо, о давно и много раз передуманном.
— Вы всегда были моим кумиром, мистер Лилберн.
Я старался не показывать вида, но каждая ваша похвала, любое одобрительное слово делали меня счастливым на несколько дней. Может быть, иногда я даже говорил и писал не совсем то что думал, лишь бы заслужить ваше одобрение. Но все это время у меня был еще один кумир. Республика. И теперь мне невыносимо видеть, как два моих кумира становятся врагами.
— Но я не враг республики. Все, к чему я стремлюсь, — не дать ей выродиться в тиранию.
— Этого гораздо легче добиться, служа ей, а не нападая на нее. Я знаю, вам предлагали крупный государственный пост. Почему вы от него отказались?
— Сказать честно? Стыдно получать жалованье от казны, которая наполняется налогами на еду и питье бедняков.
— С такой мелкой щепетильностью никакого великого дела совершить невозможно. А республика наша — дело великое. Это не просто новый способ управлять английской нацией. Это поворотный момент всей истории Европы. Взгляните — троны трясутся под монархами повсюду. Французский король и кардинал Мазарини бежали из восставшего Парижа. Войска короля польского всюду отступают перед генералом Хмельницким. Германский император превращен Вестфальским миром в пустой призрак. Швеция, я уверен, тоже находится на грани политических перемен.
— Если нам суждено идти впереди и показывать пример другим народам, мы тем более должны быть озабочены тем, чтобы пример этот был достойным.
— Дело не в примере. Дело в смертельной опасности для тех, кто отстанет на пути свободы. Установление республики — это всегда такая вспышка мощи государства, которая может смертельно опалить соседние страны. Возьмите Голландию. Она добилась свободы всего пятьдесят лет назад, а теперь ее флаг — на всех морях мира. Испания трепещет перед ней. Крошечные Афины, став республикой, смогли отразить персидское нашествие, маленький Рим завоевал всю Италию, разбил армию Пирра.
Венецианцы бьют в Средиземном море Турцию. Какая же слава ждет Англию, если она сумеет укрепить республиканский строй? И какая опасность, если та же Франция обгонит ее?
— Да каждая строчка в моей петиции дышит той же самой заботой: как укрепить республику. Настоящую, такую, где править будут разум, свобода и справедливость, а не меч.
— И именно для укрепления вы предлагаете срочно распустить Государственный совет и устроить перевыборы парламента? В стране, еще дымящейся от взаимной ненависти, еще не просохшей от крови? Какой парламент вы надеетесь получить?
— Любой будет лучше нынешнего охвостья.
— Половина мест достанется пресвитерианам, четверть — роялистам, а мы не наберем и одной десятой. Поймите же — республика еще неокрепший организм. Нельзя так сразу вырвать ее из рук тех, кто ее породил, и отдать первому встречному. Впрочем, я никогда не поверю, чтобы вы, при вашем политическом чутье, сами этого не понимали.
— Вот как? — Лилберн прищурился и еще выше поднял колено, стиснутое побелевшими пальцами. — Какие же мотивы движут мною?
— Отчасти — страсть к принципам. Вы держитесь за них, как слепой за натянутую веревку. Принципы — удобная вещь для тех, кто боится блуждать в потемках, сомневаться, ощупью искать дорогу, терять ее и — о ужас! — признавать себя ошибавшимся. По принципам можно идти твердо и уверенно, вести за собой других, а то, что веревка в конце приведет к пропасти или глухой стене, не так уж важно.
— Вы сказали «отчасти». Что же еще?
Голос Лилберна стал сдавленным, рука выпустила колено и медленными круговыми движениями начала растирать грудь. Уайльдман, красный, тяжело дышащий, приподнялся над наборной кассой и, срываясь на истерический фальцет, прокричал:
— А еще то, что для вашей гордыни нет большей радости, чем поносить, проклинать и наставлять верховную власть, какой бы она ни была! Учить судей, как надо судить, парламент — как издавать законы, генералов — как воевать. В такие минуты вы чувствуете себя гигантом. Место в правительстве?! Зачем оно вам? Куда слаще ощущать себя всегда выше, — да! — над правительством!
Лилберн, ловя ртом воздух, бессознательно сгибал и комкал печатный лист.
— Когда-нибудь… Я очень надеюсь, что когда-нибудь, мистер Уайльдман, поверьте, вам станет стыдно за эти слова.
— Что там слова! Знаете, о чем я подумал, прочитав ваши «Новые цепи»? «Если он хоть на минуту выйдет вслед за печатником, я схвачу свечу и сожгу весь тираж вместе с набором».
— Но-но, молодой человек, полегче. — Вошедший печатник поставил на стол кувшин с пивом и головку сыра, выронил туда же из-под мышки буханку хлеба. — Если вам так уж приспичило жечь книги, запишитесь в городские палачи. Им сейчас такой работы хватает.
— Завтра в Вестминстер вы с нами, конечно, не пойдете?
Уайльдман, словно боясь растерять свою решимость, швырнул плед на сундук, схватил плащ, быстро пошел к дверям и крикнул с порога:
— Не только не пойду, но и постараюсь отговорить всех, кого удастся повидать с утра.
Дверь хлопнула, пламя свечи метнулось, залегло. Тень печатника уперлась головой в потолок.
Лилберн тяжело поднялся и подошел к станку. Лицо его омертвело, посеревшие губы почти исчезли, превратившись в тонкую черту под усами. Рукоятка винта успела остыть, но мозоли на ладонях легко нашли все ее впадины и неровности. Винт повернулся с привычным скрипом. Деревянный пресс приподнялся над черными матрицами. Печатник покосился на принесенную еду, затем послушно взялся за чистый лист, сунул его в щель. Поворот, скрип, обратно. Поворот, скрип, обратно… Стопка оттисков росла и росла, и Лилберн подумал, что часам к десяти они, пожалуй, кончат, и тогда весь вопрос будет в том, какая часть ночи уйдет у них на разрезку и брошюровку памфлета.
Март, 1649
«После смерти короля была изменена форма правления: от монархии перешли к республике. Палату лордов признали опасной и бесполезной и распустили. Ведение дел поручалось Государственному совету, отчетному перед парламентом. Он состоял из сорока членов, двадцать из которых ежегодно должны были быть заменяемы другими двадцатью. Но в те времена почти каждый человек сочинял форму управления государством и очень гневался, когда видел, что его проект не проводится в жизнь. Одним из таких людей был постоянно бурлящий, ни в чем не находящий успокоения Джон Лилберн».
Люси Хатчинсон. «Воспоминания»
Март, 1649
«С того времени, как офицеры стали у власти, только увеличились злоба, ненависть и вражда, которые породили наши прошлые несчастные разногласия. Судебные пошлины давно уже считаются тяжелым бременем; но было ли произведено какое-либо их сокращение? Сделано что-нибудь для упрощения судебной волокиты? Коснулись ли наши новые правители десятины, разъедающей, подобно язве, промышленность и сельское хозяйство? Или акцизов, которые за счет желудка трудящихся и бедняков обогащают ростовщиков и прочих жадных червей в государстве? А что они сделали для установления свободы торговли, для уничтожения невыносимых таможенных пошлин? Ничего, кроме того, что посадили сотни новых жадных мух на старые язвы народа.
О, несчастная Англия, которая видит все это и все же терпит таких несносных хозяев!»
Джон Лилберн. «Новые цепи Англии»
27 марта, 1649
«На заседании парламента принято постановление о том, чтобы недавно опубликованную книгу под названием „Новые цепи Англии“ считать скандальной, лживой, клеветнической, призывающей к бунту и новой войне; авторы и издатели объявлены виновными в измене, а Государственному совету поручено разыскать их».
Уайтлок. «Мемуары»
28 марта, 1649
Лондон, Саутварк и Уайтхолл
С вечера Джона-маленького лихорадило, и Лилберн решил уложить его в своей комнате. Младшие спали с Элизабет в соседней. Еще они снимали у хозяина Винчестер-хауза столовую внизу и небольшую кухню. На пятерых этого бы хватило, но при том потоке людей, который захлестывал их каждый день, они просто задыхались от тесноты. Обиженные с жалобами, тайные доброжелатели с вестями, приезжие из графств, политические прожектеры, парламентские шпионы, роялисты, прощупывающие почву, отставные солдаты, друзья, печатники, книготорговцы, газетчики… Снять что-нибудь получше не хватало денег. С деньгами было так худо, что на днях случилось небывалое — они поссорились из-за потерянного шиллинга.
Нос у Джона был заложен, он тяжело дышал ртом, иногда начинал кашлять и метаться. Руки и ноги его при этом стукались о стенку или о сундук, которым была задвинута его кровать, он хныкал, не просыпаясь, просил пить. Лилберн приподнимал его голову, давал глоток сладкого питья, заготовленного Элизабет, потом снова валился на кровать, пытаясь наверстать уходящую ночь. И, может, оттого, что сон был таким прерывистым и неровным, он услышал их еще на улице.
Впрочем, они не таились.
Похоже, их было очень много. Мерный топот сапог накатывался на спящие дома. Потом сильно забарабанили в дверь.
Лилберн поспешно начал одеваться, надеясь еще успеть до того момента, как грохот разбудит жену и детей. Снизу донеслись чьи-то возмущенные голоса, стук засова, визг дверных петель, шум вооруженной толпы. Когда он, застегивая пуговицы камзола, выбежал на лестницу, столовая внизу уже была полна солдат, двое полуодетых людей — сыновья хозяина — бились в их руках. На улице в свете фонарей двигались силуэты пеших и конных. По самому скромному счету, явилось не меньше роты. Неужели они всерьез ждали вооруженного сопротивления? Или просто хотели лишний раз нагнать страху на горожан?
— Ночной штурм завершился полным успехом, не так ли, прапорщик? Что все это значит?
— Мне приказано взять вас под стражу, мистер Лилберн. И доставить в заседание Государственного совета.
— У вас есть соответствующий приказ?
— Да.
— Представьте его. Мне нужно снять копию.
— Я представлю, когда сочту нужным.
— По крайней мере, прикажите отпустить этих молодых людей. Ведь на их счет у вас нет никаких распоряжений.
— Попрошу не указывать мне! Я буду делать лишь то, что сочту нужным. Вы готовы отправиться с нами?
Лилберн всмотрелся в немолодое бугристое лицо. Некоторые полковники армии Нового образца годились бы в сыновья этому прапорщику. Так что у него были причины озлобиться на жизнь.
— Да, я готов. Хочу только обратить ваше внимание, что в наши смутные времена за беззаконные приказы часто расплачивается не тот, кто отдает их, а тот, кто исполняет с чрезмерным усердием. Поэтому мой вам совет — будьте осмотрительней.
Сзади раздался детский плач. Элизабет, опухшая от сна, но успевшая причесаться и надеть платье, вышла с младенцем на руках, каким-то безучастным взглядом обвела солдат внизу, застывшего на лестнице прапорщика, потом подошла к мужу и несильно прижалась к нему плечом. Оба они ждали этого ареста, ничуть не сомневались в нем, и все же ее спокойная, почти равнодушная сдержанность больно кольнула сердце.
— Как там Джонни?
— Начал дышать ровнее. Похоже, твое зелье все же помогает ему.
— У тебя есть деньги с собой?
— На первое время хватит.
— Ты совсем не веришь, что они выпустят тебя под залог?
— Лучше на это не рассчитывать.
— Хорошо. Не буду. — Она приподнялась на носки, поцеловала его мягкими губами. Потом взглянула на прапорщика и сказала все тем же ровным и спокойным тоном, от которого у Лилберна на этот раз потеплело в груди: — Будьте вы прокляты.
На улице было темно и безлюдно, холодный воздух смывал с лица остатки сонливости. Конные солдаты ехали впереди с фонарями в руках, пешие шли рядом и позади арестованных. Сыновья хозяина, возбужденные, недоумевающие, гордые и все же немного испуганные, жались к Лилберну, он, как мог, пытался ободрять их. Громада святого Павла надвинулась на них спереди, отблеск фонарей мелькнул на стрельчатых окнах. Старый собор снаружи и внутри был укреплен лесами, которые и держали его все последние годы в ожидании более счастливых дней, когда найдутся деньги на настоящий ремонт. Однако счастливые дни все не наступали; вместо этого здание отдали кавалерийскому полку под конюшни, а леса понемногу распродавали для уплаты солдатского жалованья. Оставалось только надеяться, что бог не захочет карать неповинных животных и удержит крышу чудом.
Почти одновременно с ними на площадь с другого конца вступила еще одна колонна солдат. Оба отряда приблизились друг к другу, слились, и из этой смешавшейся солдатской массы к Лилберну кинулись с объятиями две знакомых фигуры — Овертон и Уолвин.
— Как, мистер Лилберн? Вас брал прапорщик? Фи, какой позор. За мной послали подполковника! — Овертон гордо раздувал щеки, подбоченивался, пристукивал носком сапога. — Я на всякий случай ночевал у друзей, но представьте, нашли и там. Подполковник оказался невероятно строгих нравов. Он все допытывался, каким образом я попал в одну комнату с полуодетой женщиной. Ее муж пробовал втолковать ему, что и дети их, и он сам тоже ночует в этой же комнате, но безуспешно. «Разврат! Разврат!» Странно — чем больше наши военные насильничают, тем более в них разгорается мания целомудрия.
Лилберн улыбался на его болтовню, но сам все поглядывал на Уолвина. Тот явно был подавлен, хотя старался выглядеть невозмутимым. Похоже, жизнерадостность и философское приятие жизни начинали давать трещины при встрече с прямым насилием. Быть вырванным из собственного дома, ночью, под плач разбуженных детей, на глазах испуганной жены и слуг, — к такому он еще не был готов.
— А вас-то за что, мистер Уолвин? Неужели их шпионы не знают, что к «Новым цепям Англии» вы непричастны?
— Раз уж они решили соединить нас вместе таким своеобразным и надежным способом, — чуть обиженно сказал Уолвин, — давайте доверимся их суждению. Им виднее, заодно мы или нет.
Начальники обоих отрядов, видимо, успокоенные тем, что все идет пока так гладко, отпустили большую часть солдат и после недолгого спора позволили вернуться домой сыновьям хозяина. Арестованным разрешили позавтракать в только что открывшейся таверне. Здесь же им показали приказ об аресте, но копию снять не дали. Приказ был подписан самим президентом Государственного совета, мистером Брэдшоу, тем самым, который председательствовал в суде над королем.
В Уайтхолл отплыли часу в десятом.
Большие красные весла с трудом двигали барку против течения, от паруса в утреннем безветрии не было никакой подмоги. Солнце вставало вдали над крышами домов на Лондонском мосту. Блестящая поверхность реки постепенно заполнялась лодками всех видов и размерив, но мост не пускал вверх по течению морские суда, и все мачты вокруг казались подстриженными строго по высоте его арок. Вид распахнутого речного простора, все покрывающей утренней голубизны, как всегда, наполнил Лилберна щемящей грустью, ощущением чего-то безнадежно упущенного, сию минуту упускаемого, и в то же время некой торжественной приподнятостью, будто упущенное было не утратой, а сознательно принесенной жертвой. Чувство это было таким глубоким и всепоглощающим, что оно не оставило его и тогда, когда, после многих часов ожидания в Уайтхолле, после затяжных перебранок с клерками и охраной, после тщетных попыток передать какую-нибудь весточку Элизабет, его наконец ввели в зал и поставили перед Государственным советом.
Сколько раз ему уже доводилось стоять вот так перед высшими судьями страны? Звездная палата в 1638 году, потом королевский суд в Оксфорде, потом в 1645, парламентский комитет расследований, а годом позже — суд палаты лордов. И каждый раз начиналось с одного и того же: ему задавали вопросы, а он пытался объяснить, что невозможно, незаконно, нелепо требовать у обвиняемого показаний против самого себя. Где теперь глава Звездной палаты, архиепископ Лод? Казнен в 1645 году. Где королевский судья Хит? Бежал на континент. Где Принн, Манчестер? Изгнаны из парламента, лишены всякой власти и влияния. Перед ним сидят люди, все это совершившие, одолевшие всех врагов, провозглашавшие много раз идеалы справедливости, свободы, законности, но их президент, точно так же как все предыдущие, начинает с вопроса, писал ли он, Лилберн, скандальный и клеветнический памфлет «Новые цепи Англии», а он должен с самого начала объяснять, что уже ответ на такой вопрос означал бы для него предательство прав и вольностей свободного англичанина, за которые они вместе боролись столько лет.
Но он решил говорить не только об этом. Он сказал им, что считает их власть незаконной и недействительной. Что не знает того указа парламента, которым они создали сами себя за закрытыми дверями. Что Государственный совет, включающий в себя членов парламента — а он узнает здесь многих, — не может обладать судебной властью. Ибо, если законодатели будут одновременно и судьями, у кого же бедным подданным искать защиты от судьи неправедного? Что при всем личном уважении ко многим здесь присутствующим, которых он знает за людей честных и мужественных, он никогда не признает за ними права посылать военные отряды штурмовать дома безоружных горожан, хватать их и силой волочить по улицам на глазах всего города.
— И, сэр, позвольте в заключение сказать, что если уж вы решитесь оставить меня под стражей, то пусть меня отправят в обычную гражданскую тюрьму. Там тюремщики, по крайней мере, связаны какими-то правилами и ответственностью. Солдаты же вынуждены слепо выполнять приказы своих начальников. И если им прикажут ночью прирезать арестованного, скажем, за попытку к бегству, они обязаны будут выполнить это. — Впервые за все время своей речи он повернул голову направо и взглянул прямо в глаза сидевшему там Кромвелю. — Вы знаете мой характер. Десять лет назад я поджег свою камеру в Флитской тюрьме. Я и сейчас скорее спалю себя вместе с вашей караульней, нежели добровольно подчинюсь военной власти.
Президент холодно заметил ему, что он мог бы не тратить столько слов, ибо его привели не на суд, а на расследование. Парламент поручил Государственному совету выявить авторов скандальной книги, чем он и занимается. Что же касается суда, то за ним дело не станет.
В караульне Лилберн едва успел рассказать друзьям о ходе допроса, как вызвали Уолвина. После него — Овертона. Оба держались той же линии: отказывались отвечать на вопрос о своей причастности к опубликованию «Новых цепей Англии» и отрицали правомочность Государственного совета. Даже Уолвин, который мог бы с чистой совестью сказать «не причастен» и отправиться домой, решил не пользоваться этой лазейкой.
— Что мне там делать? — грустно улыбался он. — Все равно кредит мой после такого вторжения подорван безнадежно. В торговом мире репутация, как корабль, строится несколько лет, а сгорает в одночасье.
Дебаты по их делу затянулись дотемна. Караульня была отделена от зала заседаний двойной дверью, но когда страсти разгорелись, отдельные выкрики стали долетать до них. Потом кто-то несколько раз грохнул кулаком по столу и крикнул:
— Вы должны сокрушить этих людей!
Они узнали голос Кромвеля.
— Говорю вам, у нас нет другого выхода, как раздавить их. Иначе они раздавят нас.
Голос свободно проникал через массивные двери, Лилберну почти не приходилось напрягать слух.
— Сколько затрачено сил, крови, денег! Сколько страданий, сколько многолетних трудов принесено в жертву нашей победе. И если мы сейчас дадим вырвать ее из наших рук, если уступим ничтожной шайке крикунов — да мы станем посмешищем всего мира. И вся вина за великое дело, пущенное прахом, падет на наши головы. Мы пытались урезонить их, пытались договориться. Довольно. Повторяю, они не уймутся до тех пор, пока мы не сокрушим их. У нас нет выбора.
Вскоре после этого заседание Государственного совета закончилось и арестованным было объявлено решение: все трое обвинялись в государственной измене и ожидать суда должны были в тюрьме. В выпуске под залог им было отказано.
По пустой реке, вниз по течению барка шла гораздо легче, иглы звездного света ломались на шлемах и кирасах стражников, на выныривающих из черной воды веслах, и Лилберн, усталый и опустошенный, думал только о том, стоит или не стоит ввязываться в свару с комендантом Тауэра, добиваясь для себя и друзей тех камер окнами на юг, пол которых хоть немного согревался крепостной кухней внизу.
Апрель, 1649
«Сегодня сотни женщин собрались у палаты общин, чтобы подать петицию в защиту арестованных левеллеров. Солдаты обращались с ними грубо и бесчеловечно, сгоняли со ступеней прикладами мушкетов, бросали под ноги петарды. Только двадцать из них были допущены внутрь, и их предводительница представила петицию. Но один член парламента сказал, что не женское это дело ходить с петициями и лучше бы они оставались дома мыть тарелки. „Если у кого и остались еще тарелки, — отвечала женщина, — то не осталось, что класть на них“. „Все же странно и необычно, — сказал другой, — когда женщины являются с прошениями в парламент“. „Странно еще не значит незаконно. Отрубить голову королю было делом тоже довольно необычным, но, полагаю, вы оправдываете его“».
Из газетного отчета
6 мая, 1649
«После того как власть, печать и само имя парламента были узурпированы военной хунтой, жизнь, свобода и, состояние каждого человека оказались в полной зависимости от воли этих людей. Не осталось ни закона, ни справедливости, ни права. Тяготам народа нет облегчения, варварские налоги не отменяют, воплей и стонов бедных не слышат, нищета и голод обрушиваются на нас мощным потоком и уже затопили некоторые части страны. Поэтому мы объявляем всему вольному народу Англии и всему миру, что мы решили подняться с мечами в руках, чтобы освободить себя и землю наших отцов от рабства и угнетения, отомстить за кровь расстрелянных солдат и добиться устроения нашей несчастной нации на тех справедливых основах, какие предложены в „Народном соглашении“, выпущенном 1 мая этого года узниками Тауэра, подполковником Джоном Лилберном, мистером Уолвином и Овертоном. И мы заявляем, что, если хоть волос с их головы упадет по вине тех тиранов, которые держат их в незаконном заключении, мы с помощью божьей отомстим им и их прислужникам во сто крат страшнее».
Капитан Томпсон. «Знамя Англии». (Декларация восставших частей)
14 мая, 1649
«Когда офицеры оставили нас, наши двенадцать рот выбрали новых и с развернутыми знаменами выступили из лагеря. К вечеру того же дня мы пришли в Берфорд, где парламентеры, посланные генералом Ферфаксом, догнали нас и вступили в переговоры. Имея донесения, что войска генерал-лейтенанта Кромвеля приближаются, мы стали упрекать парламентеров в том, что они хотят обмануть и предать нас, но те клялись, что до получения нашего ответа никаких враждебных действий предпринято не будет. Однако в ту же ночь эти войска ворвались в город с двух сторон, выкрикивая проклятия и угрозы, застигли нас врасплох и посредством такого предательского нападения разбили. Те, с кем мы вместе семь лет защищали английские вольности и свободы, обошлись с нами хуже, чем с кавалерами, — содрали с нас одежду, ограбили и заперли в церковь, говоря, что всех нас осудят на смерть. Кромвель стоял тут же, наблюдая, как трое из сдавшихся были расстреляны без суда».
Из декларации шести солдат, участвовавших в мятеже
17 мая, 1649
«Остатки восставших под командой капитана Томпсона, будучи выбиты из Нортгемптона, отступили в Веллингборо. Но их преследовали и там, окружили, многих захватили в плен, а сам капитан едва успел скрыться в лес. Вскоре, однако, преследователи нашли его и там. Он был хорошо вооружен и отчаянно защищался в одиночку — убил корнета и ранил солдата, после чего, получив две раны, исчез в кустах. Когда враги снова приблизились к нему, он выскочил из укрытия, выстрелил из пистолета и опять скрылся. Затем появился в третий раз, прокричал, что презирает сдающихся в плен, и только тут капрал, выстрелив из карабина, заряженного семью пулями, нанес ему смертельную рану.
17 мая генерал Ферфакс, генерал-лейтенант Кромвель и другие офицеры армии были торжественно встречены в Оксфорде и в их честь дан банкет. Ректор университета вручил генералам дипломы докторов юриспруденции, а офицерам — дипломы бакалавров, и многие должностные лица приветствовали их и поздравляли с победой».
Уайтлок. «Мемуары»
7 июня, 1649
Лондон, Флит-стрит
Утренняя жара так быстро набирала силу, что деготь в ступицах колес делался жидким и капал на мелькающие спицы. Вереница карет и всадников растянулась по улицам чуть ли не на милю. Не только все члены нынешнего парламента и Государственного совета, но и все офицеры армии чином старше лейтенанта были приглашены купеческими гильдиями в Сити на торжественный молебен и банкет, посвященный успешному подавлению восстания левеллеров.
Кромвель отодвинулся в глубь кареты, подальше от солнечного квадрата, падавшего на сиденье. Хью Питерс, давая ему место, перекинул ноги в другой угол, рассеянно глянул в окно, провел ладонью по глубоким залысинам на черепе.
— Хочу открыть вам небольшую тайну, мистер Питерс. Знаете, почему я так долго не возвращался в Лондон? Государственный совет прислал мне достоверное известие, что здесь на меня готовилось покушение.
— Мы слишком щадили своих врагов, слишком щедро дарили жизнь побежденным, генерал. Они не смогли одолеть нас на поле боя, теперь будут убивать из-за угла. Бедный Рейнборо, упокой господи душу его.
— Все верные и преданные люди так или иначе навлекли на себя мстительную злобу наших врагов. Остальные готовы произносить красивые фразы об истинной вере, о свободе, а когда доходит до кровавого и страшного дела, умывают руки. Лондон кишит тайными роялистами. Добавьте к ним еще пресвитериан, левеллеров, шотландцев. Ходят упорные слухи, что заговор против меня существует в моем собственном полку.
— Вам давно уже пора кроме личной охраны завести несколько личных шпионов. Если какой-нибудь фанатик, решившийся пожертвовать собой, замешается вот в такую толпу, охрана не успеет защитить вас.
— Верные люди, на все нужны верные люди. — Кромвель положил руку на разогретую кожу сиденья, привалился к обитой атласом спинке. — Они нужны здесь, нужны в гарнизонах, нужны в Шотландии, нужны для Ирландского похода. Вы поплывете со мной в Дублин?
Питерс выдержал паузу и сказал проникновенно и чуть обиженно:
— Я поплыву всюду, куда вы меня позовете. Решен ли вопрос с деньгами для похода?
— Начинается продажа королевских земель. Также будет выпущен большой заем под залог тех земель, которые мы конфискуем у ирландских мятежников. Думаю, перед таким соблазном спекулянты из Сити не устоят, развяжут свои кошельки. Того и другого хватит, чтобы снарядить в поход тысяч пятнадцать. К сожалению, флот тоже требует много денег, так что налоги в ближайшее время отменить не удастся.
— Похоже, добрые лондонцы еще не оповещены об этом. По виду они настроены вполне благодушно.
Волна приветственных криков перекинулась к распахнутым окнам верхних этажей. Там тоже теснились любопытные, и какая-то девица, удерживаемая хохочущими подругами, высунувшись по пояс, размахивала двумя пивными кружками. Толпа, глазевшая на кавалькаду, была гуще на правой, теневой стороне улицы. Иногда лица людей приливали к самым дверцам кареты, и тогда вблизи начинало казаться, что их кричащие рты таят в себе что-то недоброе, а в общем ликовании начинали проступать ноты насмешки, презрения, даже угрозы. Некоторые открыто выставляли зеленые — цвет левеллеров — ленты, приколотые на груди.
— Вы хотели рассказать о своем визите к главному запевале, — напомнил Кромвель.
— Да, это было недели две назад. Я сказал ему, что зашел в Тауэр по своим делам и просто пользуюсь случаем навестить его. Конечно, он не был обязан этому верить, но мог бы хоть из вежливости поддакнуть.
— Вежливость для мистера Лилберна — синоним лицемерия, — усмехнулся Кромвель.
— «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные», — вот что он мне ответил. И пошел, и пошел. Что видит меня насквозь, что знает, кому я служу и кем подослан к нему, что не боится новых тиранов, как не боялся старых, что призовет к ответу всех виновных в пролитии крови честных солдат, поднявшихся за дело левеллеров, что семь лет под покойным королем было легче вынести, чем один год при новой власти. Кстати, выглядит он ужасно. Глаза в струпьях, и исхудал так, что скоро сможет пролезть сквозь оконную решетку.
— О восстании был разговор?
— Лучше не повторять. Вам и генерал-комиссару Айртону достались такие эпитеты, каких не нашел бы самый отпетый кавалер.
— Айртону? Может, он просто не знает, что генерал-комиссар не пожелал пачкать руки и не принял участия в подавлении?
— Все он прекрасно знает. Хотя к нему никого не пускают, он ухитряется быть в курсе всех дел и передавать на волю все новые писания. Как ему это удается — ума не приложу. Выходя от него, я даже вывернул карманы, проверить, не подсунул ли он чего-нибудь и мне. Что же касается ваших недавних размолвок с генерал-комиссаром, он сказал буквально следующее: «У каждого актера на сцене своя роль, и время от времени они изображают стычки и даже поколачивают друг друга. Но при этом главная цель всей труппы — извлечь побольше денег из карманов зрителей».
— Вполне в его духе. — Кромвель поморщился, потом кивнул в сторону окна и добавил: — И ведь найдутся тысячи таких, что поверят ему.
— Из сказанного им еще одно запало мне на ум. О корне наших политических разногласий. Точно не помню, но смысл был таков: «Вы не верите в английский народ, а мы верим и считаем, что он совладает с гораздо большей мерой свободы, чем та, которую вы отпускаете ему столь скупо. И не впадет при этом в анархию».
— О да, он готов поставить на народе рискованный опыт с тем, что он именует «истинной свободой». А когда все снова начнет тонуть в кровавой междоусобице, виноваты окажутся кто угодно, но только не он.
— Стол у него, как обычно, завален сводами законов, «Институциями» Кока и прочей юридической рухлядью. Я имел неосторожность сказать, что до сих пор в истории Англии закон играл ничтожную роль. Он едва не бросился на меня. Стал перечислять всех, кто шел на смерть ради торжества закона еще со времен «Великой хартии вольностей». Кричал, что и гражданская война началась только из-за того, что попирался закон. Парламентские петиции и указы цитировал наизусть. Не знаю, найдем ли мы прокурора, который сможет переговорить и перекричать его на суде.
— Надо найти. Примириться с этим человеком невозможно, он будет обвинять нас во всех смертных грехах, проклинать, требовать возмездия. Его утихомирит только топор. Видит бог, я делал все возможное, чтобы избежать…
Громкий треск и скрежет под днищем прервал его речь.
Передняя часть кареты взмыла вверх, задняя накренилась, ударилась о землю, что-то металлическое с невыносимым визгом заскребло по камням мостовой.
Кромвель судорожно попытался уцепиться за обшивку, но отброшенный на него Питерс сорвал его руку, тяжело прижал в угол.
Предостерегающий крик вырвался из сотен ртов. Толпа метнулась к карете, потом отхлынула на тротуары.
Сзади послышался топот копыт.
В перекошенном окне замелькали крупы коней, сапоги и шпоры офицеров конвоя.
Гудрик с обнаженной шпагой в руке с трудом распахнул заклинившуюся дверцу, сунул внутрь искаженное отчаянием лицо:
— Генерал?!
Кромвель и Питерс все еще барахтались в углу, пытаясь расцепиться. Оба были бледны, тяжело дышали, обливались потом.
Всадники окружили покалеченный экипаж сплошной стеной, люди лезли друг другу на плечи, чтобы увидеть, что там происходит.
Ошеломленный возница ползал на четвереньках по мостовой вокруг отлетевшего колеса, что-то искал перемазанными в дегте руками. Потом подошел к карете и тихо сказал:
— Готов поклясться своим спасением, ваша милость, — какой-то шутник ухитрился вытащить чеку из оси.
— Шутники, да, город полон шутников. — Кромвель, наконец, высвободился, вылез наружу, угрожающе навис над маленьким возницей. — В следующий раз ты у меня заткнешь дырку для чеки собственным пальцем и будешь бежать рядом с каретой.
Питерс вылез вслед за ним, прицокивая, оглядел повреждения.
— Возблагодарим господа за то, что он снова отвел руку врагов от избранника своего.
Колесо удалось пристроить на место довольно быстро, но все же торжественность праздника была испорчена.
Слух о комической катастрофе успел далеко обогнать процессию, и теперь на лицах зевак можно было прочесть глумливое ожидание нового развлечения. Только у самого Гросерхолла звуки труб, развевающиеся знамена, строгие ряды алебардщиков смогли вернуть необходимую чинность и приподнятость происходящему.
Передние экипажи остановились, приглашенные начали выходить на площадь.
Кромвель, уже пришедший в себя после пережитого испуга, чуть посмеиваясь, стал на откинутую подножку, оглядел прищуренным взглядом выстроившихся старейшин и купцов, украшенных дорогими цепями, пестрые значки гильдий, праздничное облачение мэра, потом отодвинулся назад и сказал, почти не разжимая губ:
— Не кажется ли вам, брат Хью, что, не будь Лилберна и его компании, нам никогда бы не видать такой пышной встречи? Наконец-то наши толстосумы уразумели, что в один прекрасный день к ним в двери может постучаться кое-кто пострашнее, чем такие добрые христиане, как мы с вами.
Лето, 1649
«Верховная власть в Англии должна принадлежать народному представительству в составе 400 человек, в выборах которого, согласно естественному праву, могут принимать участие все мужчины в возрасте 21 года и выше, кроме слуг и живущих на милостыню.
Поскольку из печального опыта мы убедились, что обычно люди устанавливают произвольную и тираническую власть, мы согласились и объявляем, что парламент не имеет права никаким образом отменять, прибавлять или убавлять какую-либо часть настоящего Соглашения, а также уравнивать состояния людей, разрушать собственность или делать все вещи общими.
Итак, в перечисленных выше 30 статьях мы изложили средства, какие должен употребить свободный народ, которому представился благоприятный случай (и который желает к своей славе воспользоваться им) свергнуть всякое иго и уничтожить всякий гнет, вызволить порабощенных и освободить угнетаемых».
Из окончательного текста «Народного соглашения»
Лето, 1649
«С севера приходят письма о том, что люди умирают на дорогах от голода; другие оставляют свои обиталища и отправляются с женами и детьми искать избавления в соседних графствах, но нигде его не находят. По свидетельству комитетов и мировых судей, 30 тысяч семейств не имеют ни семян для посева, ни денег на их покупку. Было решено послать им вспомоществование, но оно было далеко не достаточным для такого множества людей. Голод распространяется все шире, а вслед за ним идут чума и оспа, унося целые семьи в могилу и опустошая дома».
Уайтлок. «Мемуары»
Июль, 1649
Лондон, Саутварк
На Лондонском мосту, в туннелях-проездах под домами тротуар суживался до такой степени, что идти приходилось гуськом. От грохота проезжающих телег закладывало уши. Потом снова выходили под солнце, под свежий речной ветерок, под взгляды лавочников, прохожих, зевак. Каждый раз при таком резком переходе из тени на свет Лилберн чувствовал себя на минуту ослепшим, сбивался с шага, оступался и младший из стражников подхватывал его под руку. Старший шел чуть впереди и, полуобернувшись небритой щекой, с важным видом пересказывал на свой лад речи проповедников, слышанные им недавно:
— И все дары в нашей жизни, и все несчастья ее — от господа. Думаешь ли ты, что волос с твоей головы может упасть без воли его? Нет, никогда. И коли сам господь украсил избранника своего, Оливера Кромвеля, столь дивными победами над полчищами врагов, как смеешь ты нападать на него и хулить нечестивыми словами? Не отступник ли ты, восстающий против воли всевышнего, явленной столь очевидно? А теперь, когда небо так страшно покарало тебя, неужто не открылись глаза твои, неужто не удержишь яда, текущего с языка твоего?
Лилберн молчал, отсутствующий взгляд его машинально тянулся вверх, к блестящему острию алебарды, качавшейся впереди. Мост остался позади, они шли теперь по пустынной Боро-стрит. Здесь, на правом берегу, в Саутварке, оспа задела каждый второй дом, и, видимо, все, у кого была возможность, поспешили уехать из города на время эпидемии.
— Больно просто у тебя все получается, брат, — сказал вдруг второй стражник. — Кто победил, тот и прав, — так, что ли? Даже если турки победят христиан? А как же прикажешь понимать слова в книге Иова: «Бог губит и непорочного и виновного, земля отдана в руки нечестивых»?
— Господь дозволил сатане искушать Иова, чтобы испытать его. И тот не выдержал испытания и возроптал, хотя друзья пытались урезонить его. Не сам он, но сатана говорил устами его.
— Вот оно что! А мне помнится, что в конце книги господь сказал друзьям его: «Горит гнев мой на вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов».
— Каждый может заучить несколько кусков из Библии и щеголять ими к месту и не к месту. Но не всякому разуму дано проникнуть в тайны священного Писания. Не следует самонадеянно полагаться только на себя в вопросах веры. Если бы ты слышал проповедь преподобного Хью Питерса, которую он читал войскам накануне штурма Бристоля, ты бы увидел, каким светом бог осеняет разум праведных. Только тот, кто сподобился получать откровения свыше…
Лилберн чувствовал, что все окружающее: разговор стражников, вид приземистых домов, торчащая над ними вдалеке крыша театра «Глобус», блеск булыжника на мостовой, буквы вывесок — проникает лишь на самую поверхность сознания. Глубина же оставалась по-прежнему переполнена одним — ужасом случившегося. Он нарочно пытался забраться памятью подальше, на месяц назад, цеплялся за мелочи тюремного быта, за стычки с комендантом, за бесконечную череду своих уловок с чернилами, бумагой, перьями, грязной посудой, в которой он пересылал написанное на крепостную кухню верному человеку, и лишь постепенно, весь напрягаясь, подпускал воспоминания к тому вечеру, когда ему принесли письмо из дому и в нем это короткое слово «заболели». Лишь два дня спустя он узнал чем. И с этой точки, разгоняя запавшие картины до какой-то карусельной скорости и мелькания — пасмурный денек, разрешение навестить семью, он выходит на площадь, коновязь, рядом стоит понурая Кэтрин, подол платья в пыли, — он кидался памятью к ее лицу, словно надеясь одним прыжком, с разгона, перескочить и силой духа стереть, зачеркнуть, переделать случившееся, заставить ее перекошенный рот выкрикнуть что-нибудь другое — «выздоравливают», «ждут», пусть даже «лежат в жару».
Но каждый раз все эти усилия шли прахом, и снова с мучительной ясностью в ушах звучало «умерли». Потом всплывали изъеденные болезнью лица обоих детей, недвижно лежащих рядом в траурной черной кроватке, запекшиеся, налитые слезами и кровью глаза Элизабет, запах уксуса, разлитый по всему дому, и хриплый, срывающийся голос Кэтрин, назойливо повторяющий одно и то же: «Как Джон-меньшой звал вас, мистер Лилберн! Как кричал, как звал отца, как плакал! Ох, как горько он звал вас, просто душа разрывалась».
Он просто не мог себе представить, что бы с ним было, если б смерть скосила всю семью. То, что Элизабет и младший мальчик остались живы, было не то чтобы облегчением — ибо от боли в груди не было облегчения ни на минуту, — и не радостью — ибо само слово «радость» не вязалось с ужасом и опустошенностью души, но по крайней мере некой опорой, призывом, оправданием для того, чтобы самому жить, дышать и мучиться дальше. «И вот, большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли… Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю…»
Кэтрин впустила их в дом и, при виде Лилберна, снова закрылась фартуком, заплакала. Стражники, потоптавшись на пороге, остались в кухне. Черная кровать и черные покрывала были убраны из столовой, за ними уже в день похорон приходили бедные соседи из дома напротив. Смерть не спешила покидать тесные улочки Саутварка. Пыль лежала на занавесках, на стульях, на засохшей хлебной корке в нише буфета, на склянках с микстурами, и нестираная скатерть зияла ржавыми пятнами.
— Сейчас я ее позову, сейчас, — бормотала Кэтрин. — Сегодня уже получше девочка моя, сама вставала, спускалась вниз. Только есть ничего почти не может. Да и у меня кусок в горло не лезет. Может, вам подать чего-нибудь? Вы ведь тоже стали как мешок костей. Полжизни, поди, на тюремных харчах. О господи, господи…
Поднимаясь по лестнице, она придерживала платье трясущимися руками и по-старушечьи щупала ступени ногой. Лилберн вдруг вспомнил, что, когда они встретились в первый раз, ей было уже за сорок. Обвисшие щеки стали желейно-вялыми и мятыми, просвечивали желтизной, как несварившееся яйцо.
Элизабет появилась наверху в черном платье и черном теплом платке, крестом повязанном на груди. Спускаясь по полутемной лестнице, она прикрывала ладонью огонек свечи. Россыпь свеже-красных щербин осталась на подбородке, на шее, на скуле. Губы посерели и усохли. При виде Лилберна она не улыбнулась, но чуть посветлела лицом, когда же он двинулся вперед, чтобы поддержать ее, замахала рукой — дальше, не подходи! Она не верила, что какая-то коровья оспа, перенесенная им в детстве, может спасти его сейчас и оградить, считала все эти разговоры деревенскими бреднями и требовала, чтобы он ни к чему в доме не прикасался.
Они сели по разные стороны стола. Она начала рассказывать о том, как маленький Тоби всю ночь вырывался из пеленок, чтобы почесать подсохшие болячки, но теперь заснул; что за прошедшую неделю на их улице заболела только одна женщина (такая была красивая, бедняжка) и похоже, что эпидемия идет на убыль; что заходил ее отец, принес немного денег, но она сказала, что возьмет только в долг, а так не надо; что еще несколько фунтов прислали арендаторы из поместья в Дареме, вот она высыпет их сейчас в тарелку с уксусом, а он пусть возьмет, в тюрьме ему пригодится. Голос ее звучал негромко, но ровно. Об умерших, о пережитом кошмаре — ни слова. Кэтрин неслышно слонялась за их спинами, обтирала тряпкой мебель, щенок Джона, выросший за год в здорового пса, фыркал на поднятую пыль и подозрительно косился в сторону кухни.
— Еще отец просил передать тебе, — говорила Элизабет, — что, на его взгляд, сейчас самое время купить мыловарню. Королевская монополия снята, и надо спешить захватывать рынок. Он готов ссудить нас начальным капиталом на длительный срок и подыскать подходящее помещение, достать оборудование.
— Какая мыловарня? — Лилберн перестал перекладывать мокрые деньги в кошелек, застыл с последней монетой в руке. — Он что, воображает, что можно вести дело, не выходя из Тауэра? Сколько меня еще будут морить там, одному богу известно.
— Но ведь теперь ты помиришься с ними? Помиришься, и они выпустят тебя.
Она посмотрела на него долгим давящим взглядом, и он почувствовал, как мучительная, притупившаяся было тоска снова горячо заливает ему грудь. Ее «теперь» вобрало в себя все. Теперь, когда такое горе обрушилось, на нас, теперь, когда бог от нас отвернулся, теперь, когда не осталось надежд на победу, а у меня нет больше сил на такую жизнь, теперь, когда из-за тебя мы вынуждены были остаться в зараженном городе и обречь детей на смерть, теперь, когда… Когда что?
— Теперь, когда люди поднялись с оружием в руках и погибли, защищая меня и дело всей моей жизни, ты хочешь, чтобы я помирился с их убийцами? Предал тех, кто жизнью своей рисковал ради меня?
Элизабет сморщилась, как от удара, и прижала ладони к щекам.
— А я, значит, не рисковала жизнью для тебя? Это не я, беременная, пробиралась в Оксфорд через все заставы, чтобы успеть вручить королевскому судье ультиматум парламента насчет военнопленных? Не я таскалась с ребенком из города в город за твоим полком, рискуя попасть под пулю, в плен? Не я обивала пороги судов и комитетов, не я унижалась перед тюремщиками, не я дралась с парламентской стражей, пытаясь недавно подать петицию в твою защиту? Но меня предать можно, моя жизнь и смерть — ничто для тебя.
— Лиз, ты не в себе от горя и не понимаешь, что говоришь. У меня тоже мутится в голове… Что я могу сказать тебе? Страна бурлит. Люди верят в меня, ждут от меня слова.
— Какие люди? Опомнись, Джон. Жалкие кучки смутьянов, жадных до грабежа. Диггеры,[36] от которых ты сам открещивался тысячи раз. Роялисты, прикрывающиеся твоим именем, чтобы поднять новый мятеж. Твои мечты о свободе — кто еще верит в них? Даже самые близкие друзья покидают тебя один за другим. Где твой верный Сексби? Он уже капитан в полку Кромвеля. Где Уайльдман? Спекулирует землей. Ты один, один бьешься головой о стену и не видишь, что топор уже занесен над тобой! Вот, полюбуйся.
Она протянула руку, открыла нижний ящик комода и швырнула на стол два куска кроеной кожи.
— Я пыталась заказать для тебя новую пару сапог, но сапожник отказался. Он заявил, что у заказчика уже не осталось времени носить их. Ты знаешь последний парламентский указ? «Кто назовет нынешнее правительство тираническим, узурпаторским или незаконным, виновен в государственной измене». Смертная казнь и конфискация имущества. О Джон, умоляю тебя! Ради меня, ради Тоби, ради будущих наших детей. Обещай мне!
Она уже кричала, привстав со стула, протягивая к нему сцепленные кисти. Встревоженные стражники вошли в столовую. Пес припал к полу и зарычал. Младший стражник, склонившись над плечом Лилберна, тихо уговаривал его уйти, но тот, вцепившись в край стола, только мотал головой и глухо стонал.
— Ох, Лиз, Лиз… Как мне было худо, когда я шел сюда, как невыносимо. Я думал — хуже быть не может, вот предел душевной муки, отпущенный нам. Но от твоих слов боль возросла в несколько раз, перешла все пределы. Не терзай меня такими просьбами, умоляю. Силы мои на исходе, и негде мне взять новых, если не у тебя.
Но она уже не владела собой. Упав грудью на стол, подняв к нему перекошенное, раскрасневшееся лицо, она кричала сквозь пряди распустившихся волос самые страшные слова:
— Твоя боль, страдания?! Но ты же любишь их, тебе ничего другого не нужно. Ты распишешь их в своих памфлетах и будешь размахивать ими, как флагом! Мученик! Ты и смерть детей пустишь в оборот. О, я знаю тебя, как я тебя знаю! Смирение, тихая жизнь, родные лица кругом? Нет, это не для тебя. Восторг толпы, тысячи глаз — вот что тебе нужно. Ты задыхаешься без этого, это твой хлеб, твой воздух. Так иди же! Иди и кричи, что не бог, а тираны отняли у тебя детей! Что Кромвель колдовством наслал оспу! Что Айртон съел весь хлеб, припасенный для бедных. Иди, упивайся своими страданиями! Оставляй нас погибать без крова, без средств, без защиты, а сам…
Шатаясь, ничего не видя перед собой, он уходил, почти повиснув на руках стражников. Боль, наполнявшая грудь, теперь, казалось, взмыла, налилась у горла и вдруг разом прорвалась в мозг, взорвавшись там тысячью жгучих пучков. Ноги с трудом нащупывали землю, воздуха не хватало. Звуки и образы мира, цеплявшиеся раньше за поверхность сознания, теперь были сметены и оттуда. Оставалась одна сплошная мука, окруженная черной пустотой. И только на улице, миновав уже несколько домов, он услышал отчаянный вопль, оглянулся, увидел Элизабет, рвавшуюся к нему из рук Кэтрин, и голос ее, полный нежности и отчаяния, донесся до него горестным криком:
— Джон, я боюсь! Они убьют тебя, Джон! Убьют!
Август, 1649
«Все нынешние споры индепендентов по поводу народных вольностей ведутся исключительно в корыстных целях. Главное же, к чему они стремятся, — сделать псевдосвятого Оливера Кромвеля, самого отъявленного убийцу и предателя, посредством фальшивых выборов среди наемных солдат английским королем, чтобы жизнь и собственность всякого человека зависела целиком от его воли и прихоти. И это есть самое страшное предательство, какое только можно найти в истории нашего народа».
Лилберн. «Импичмент против Кромвеля и Айртона»
Сентябрь, 1649
«Солдаты! Неужели вы оправдаете те страшные деяния, которые были совершены от имени армии? Вы поддерживаете „Народное соглашение“, но готовы ли вы с оружием в руках подняться на его защиту? Допустите ли вы и дальше такие кровопролития, какое имело место недавно под Берфордом? Можем ли мы ждать от вас помощи в избавлении от наших тягот? Если нет, то знайте, что именно вы, рядовые армии Нового образца, окажетесь орудием нашего и собственного порабощения».
Лилберн. «Клич к молодым лондонцам»
22 октября, 1649
«Верховной власти Английского государства, палате общин, смиренная петиция.
Хотя подполковник Лилберн своими недавними действиями навлек на себя немилость досточтимой палаты, мы хотим обратить ваше внимание на то, сколь часто бог устраивает дела человеческие таким образом, что, будучи едиными в желании блага нации, люди очень разнятся во мнениях о средствах его скорейшего достижения. В прошлом подполковник Лилберн дал много доказательств своей верности и преданности стране. Соблазны мира и дурные помыслы не властны над ним, он действует всегда лишь по велению совести. И хотя выступить в его защиту побуждают нас прежде всего родственные чувства, мы также убеждены в том, что гибель его опечалит множество друзей парламента и обрадует врагов».
Из петиции, поданной братом и женой Лилберна
25 октября, 1649
«Ты, стоящий здесь Джон Лилберн, джентльмен, житель Лондона, обвиняешься в государственной измене, ибо, не имея страха господня и побуждаемый наущениями дьявола, ты, как истый предатель, пытался не только нарушить мир и спокойствие этой нации, но также свергнуть правительство республики, счастливо учрежденное ныне без короля и палаты лордов; с каковой целью ты стремился оклеветать и опозорить в глазах всех честных и добрых людей Англии верховную власть страны — палату общин и назначенный ею Государственный совет».
Из обвинительного заключения, оглашенного на суде
23 октября, 1649
Лондон, Гилд-холл
— И далее, — читал клерк, — ты пишешь в своей скандальной и клеветнической книге, что свободный постой, пошлины и акциз есть три вида чумы, пожирающей достояние народа. «Содержание постоянной армии превратит нас всех в рабов и вассалов. Как мы видим, гнет этот возрастает день ото дня под тиранической властью и произволом учрежденного ныне правления самозванных грабителей. Поэтому воспряньте духом пока не поздно и поднимайтесь на защиту принципов, изложенных в „Народном соглашении“, ибо это единственный верный путь к избавлению нас всех от нынешних бедствий и смут».
— Аминь! — крикнул кто-то, и толпа согласно вздохнула, подалась вперед.
Судья грозно нахмурился, привстал, но еще до того, как молоток его опустился на стол, в зале снова воцарилась тишина. Верхние ярусы сколоченных накануне скамей доходили до середины высоких окон, и люди там вытягивали шеи, стараясь не пропустить ни слова. За распахнутыми дверьми на площади колыхалось море голов. На лицах присяжных, сидевших справа от судейского стола, застыло выражение важной невозмутимости, делавшее их похожими друг на друга. Члены суда держались более развязно и независимо. Прокурор шептался с законоведом из Темпля. За их алыми мантиями и квадратными шапочками на стене виднелся холст с новым гербом республики — крест и арфа.
Двойная шеренга солдат отделяла судейские места от зрителей, тянулась вдоль передних рядов к дверям и там сливалась с алебардщиками, оцеплявшими здание Гилд-холда снаружи. Лилберн снова, в который раз, обвел взглядом зал, выискивая женские лица, желая убедиться, что Элизабет, еще не оправившаяся от родов, послушалась уговоров друзей, осталась дома, и в то же время краем души надеясь, что не послушалась — пришла. От напряжения в глубине глазниц вспыхнула тупая боль, перекинувшаяся на виски. Он подумал, что, если заседание суда будет тянуться так же долго, как в первый день, ему не выдержать. Голова пока была ясной, но все тело грызла изнурительная тюремная ломота.
— …И в другой своей клеветнической книге, именуемой «Клич к молодым лондонцам», ты также призываешь к бунту и возмущению. «Нас вынуждают к тому, чтобы пуститься на самые крайние средства для избавления себя и родной земли; поэтому мы больше не станем обращаться к людям, заседающим в Вестминстере, с петициями и просьбами, и будем смотреть на них как на тиранов и узурпаторов. Все, что нам остается, — кинуть клич друг другу о невыносимости гнета и сплотиться вокруг тех, самых стойких и смелых, которые не изменят начатому делу и доведут его до конца».
Последние недели перед судом его держали в такой строгой изоляции, что дознаться, в чем будет состоять обвинение и под каким предлогом они решили покончить с ним, так и не удалось. Теперь он знал точно: за книги. Только за писания. Никакого разговора о дутых роялистских заговорах, о связях с двором наследника Карла — такой клевете просто никто не поверил бы. Они неплохо изучили его прежние процессы и теперь вели дело таким образом, чтобы ему не к чему было прицепиться. Присяжные заседатели? Вот они, все двенадцать. Гласность, открытость суда? Что и говорить, гласность — дальше некуда. Подсудимый отказывается принести традиционную присягу перед началом суда? Хорошо, можно и без присяги. На первом заседании ему давали говорить, сколько он хотел, и лишь время от времени то судья, то прокурор взывали к публике, прося ее запомнить, как много терпения и снисходительности было проявлено судом по отношению к обвиняемому. Похоже, они надеялись, что он, как обычно, начнет с отрицания правомочности суда, и теперь, когда этого не произошло, были встревожены, смущены и не знали, чего от него ждать. Зато он-то уж точно знал: кроме смертного приговора, ждать ему нечего. Все, что оставалось, это портить им спектакль, насколько хватит сил. По крайней мере, в знании английских законов он мог теперь заткнуть за пояс любого дипломированного бакалавра. Тома «Институций» Кока и своды парламентских постановлений лежали перед ним на барьере, ощетинясь бумажными закладками.
— …Итак, изменнические деяния, совершенные тобой, Джон Лилберн, состоят в том, что ты, первое: в своих писаниях называл нынешнее правительство республики тираническим, узурпаторским и незаконным; второе: что ты готовил заговоры с целью свержения нынешнего правительства и изменения формы правления; третье: что, не будучи ныне ни офицером, ни солдатом армии, ты сеял смуту в ее рядах, побуждая солдат отказывать в повиновении своим законным начальникам, призывал их к мятежу…
В зале снова поднялся такой шум, что голос клерка начал тонуть в нем, и Лилберн, не выдержав, крикнул:
— Тише, джентльмены, прошу вас! Я не слышу ни слова.
— Обвиняемый! — взвился судья. — Предоставьте суду следить за порядком в зале! Вы выслушали обвинительное заключение. Признаете вы себя виновным или нет?
— Я отказываюсь отвечать на этот вопрос.
— Иными словами, не признаете?
— Ответить «да» или «нет» означало бы дать показания против себя. Вы знаете, что еще ни один суд не мог меня принудить к этому.
— Присяжные, подсудимый не признал себя виновным. Вам надлежит выслушать свидетельские показания и решить, подтверждаются ли ими все или только некоторые пункты обвинения.
— Сэр, еще два слова!
— Довольно, мистер Лилберн. Вы отняли у нас целый день рассказами о своем героическом прошлом. Теперь не мешайте суду.
— Но дело идет о моей жизни и смерти.
— Хорошо, говорите, но будьте кратки.
— Правильно ли я понял, что меня собираются судить на основании закона, принятого парламентом этим летом?
— Акт, объявляющий, какие именно преступления должны быть признаваемы государственной изменой, от 17 июля сего года.
— Но могло ли мне быть известно о нем? Ведь я нахожусь в строгом заключении с марта.
— Стены тюрьмы никогда не были помехой для вас. Вы и там продолжали писать свою оскорбительную клевету и находили способы распространять ее в городе и в графствах. Кроме того, парламент, снисходя к вашему семейному горю, выпустил вас в июле. Пять недель вы находились на свободе и за это время успели напечатать еще несколько скандальных книг и взбунтовать гарнизон Оксфорда.
— Сэр! Судья не должен говорить перед присяжными так, будто вина подсудимого уже доказана. На большинстве книг, вменяемых мне в вину, даже не стоит моего имени.
— Не беспокойтесь, мы сумеем доказать, что вы, и никто иной, являетесь их автором. Вызывайте свидетелей!
Клерк, набрав в грудь воздуха и выгнувшись назад так, что жилы натянулись на шее, прокричал куда-то в потолок традиционную формулу:
— Если какой-нибудь человек может дать их светлостям судьям показания на Джона Лилберна, пусть войдет и говорит.
Сразу же задняя дверь распахнулась, и шериф провел к свидетельскому месту невысокого коренастого человека, на голенищах сапог которого Лилберн опытным глазом подметил блестящие вытертые полосы — следы кандалов.
— Печатник Ньюкомб, посмотрите внимательно на обвиняемого и скажите суду, знаком ли он вам.
Печатник бросил на Лилберна быстрый, настороженный взгляд и кивнул.
— Да, ваша честь. Это мистер Лилберн.
— Когда вы видели его последний раз?
— В начале сентября. Он заходил ко мне вместе с другим офицером договориться о напечатании книги.
— Клерк, покажите свидетелю «Клич к молодым лондонцам». Об этой ли книге шла речь?
— Да, сэр, об этой самой.
— И вы уговорились о цене и согласились выполнить порученную вам работу?
— Так.
— Заходил ли после этого к вам мистер Лилберн еще раз?
— Вечером того же дня они пришли с тем же офицером, чтобы вычитать пробные оттиски и исправить ошибки. Я внес их исправления в набор, но успел отпечатать только несколько копий.
— Что же помешало вам?
Печатник посмотрел на прокурора с недоумением, потом потупился и сказал, понизив голос:
— Меня арестовали на следующий день.
— А что стало с печатными формами?
— Они были захвачены тоже, — сказал печатник еще тише.
— Мастер Ньюкомб, говорите громче, так, чтобы присяжные могли слышать вас. Это были формы той самой книги?
— Да.
Прокурор склонил голову в сторону судьи, показывая, что он удовлетворен вполне.
— С позволения ваших светлостей, — сказал Лилберн, — могу я задать свидетелю несколько вопросов?
Лица зрителей разом повернулись к нему, и лишь головы тех, кто записывал процесс, остались склоненными над листами бумаги, лежащими на коленях. Судья сделал неопределенно-разрешающий жест, но при этом пожал плечами — о чем тут еще спрашивать?
— Мистер Ньюкомб, скажите, во время нашего визита к вам речь шла о напечатании всей книги или части ее?
— Насколько я помню, вы принесли только конец. Около полутора десятка страниц, они как раз уместились в один печатный лист.
— А где было начало рукописи?
— Не знаю.
— Кто из нас двоих вручал вам конец рукописи и договаривался о цене?
— Тот офицер, который был с вами.
— А вечером кто держал корректуру?
— Тоже он.
— Постойте, свидетель, постойте! — судья простер вперед руку, словно отодвигая ладонью прозвучавшие слова. — На предварительном следствии вы показали, что мистер Лилберн сам исправлял пробные оттиски.
— Не совсем так, ваша честь. Я только сказал, что он присутствовал при этом.
— Вы сказали, что вручили ему отпечатанный лист.
— Дело было таким образом. Когда они пришли, я дал каждому по пробному оттиску. Потом один оттиск взял корректор и начал исправлять. Так всегда у нас делается. Кто-то читает вслух рукопись, а корректор следит по оттиску и исправляет.
— И кто же читал рукопись?
— Тот офицер. Мистер Лилберн только держал лист в руках. Мой корректор может подтвердить это.
— Довольно, свидетель. Шериф, уведите его.
— Ваша честь, прошу вас! Еще один вопрос к свидетелю. Вас арестовали на следующий день, мистер Ньюкомб. Вы успели к этому времени отпечатать что-нибудь по исправленным формам?
— Всего несколько копий. Они тоже были захвачены при аресте.
— Иными словами, книга, показанная вам клерком, никоим образом, даже частично, не могла быть отпечатана в вашей мастерской, ибо заказчик не успел получить даже того последнего листа. И все, что вы можете сказать суду, сводится к тому, что я присутствовал при переговорах с вами некоего офицера и при последующей корректуре. Благодарю, ваша честь, у меня больше нет вопросов к свидетелю.
Печатника увели, его место занял солдат во франтоватом мундире, усыпанном по груди и обшлагам целыми созвездиями блестящих пуговиц и пряжек. Лицо его показалось Лилберну знакомым, где-то он видел его совсем недавно. Но где?
— Ваше имя, свидетель?
— Рядовой Тук, ваша честь, полк милорда Ферфакса.
— Расскажите суду, мистер Тук, при каких обстоятельствах вы встретились с обвиняемым.
— Месяца два назад мы с товарищем возвращались с дежурства и столкнулись с мистером Лилберном на Ив-лэйн. Мой товарищ оказался с ним знаком, они разговорились, и мистер Лилберн пригласил нас выпить по кружке пива.
— О чем шел у вас разговор?
— Мистер Лилберн спросил, читали ли мы книгу под названием «Клич к молодым лондонцам». Мой товарищ сказал, что не читал, но много слышал о ней и очень хотел бы купить. На что мистер Лилберн отвечал, что у него есть в кармане лишний экземпляр и он, зная, как туго солдатам выплачивают жалованье, готов помочь ему сэкономить пенни. Так что мой товарищ с благодарностью принял книгу в подарок.
— Клерк, покажите свидетелю экземпляр «Клича».
Солдат убрал руки за спину, словно ему протягивали что-то заразное, вгляделся в титульный лист и кивнул:
— Да, ваша честь, это та самая книга.
— Но позвольте! — воскликнул Лилберн. — Как вы можете с одного взгляда…
— Обвиняемый, — оборвал его судья, — если вы так хорошо изучили законы, вам надлежало бы знать, что свои вопросы вы должны адресовать суду, а уж суд решит, отвечать на них свидетелю или нет.
— Я хочу спросить, на каком основании мистер Тук, даже не заглянув под обложку, не прочитав ни строчки, утверждает, что это та самая книга.
— Свидетель, ответьте на вопрос.
Солдат усмехнулся то ли злорадно, то ли даже сочувственно.
— А на том основании, что книга эта при мне была отобрана у моего товарища нашим капитаном. И чтобы не спутать ее ни с какой другой, он тут же расписался на ней в нескольких местах, прежде чем отнести секретарю Государственного совета. Вот там в углу титульного листа я увидел его подпись.
Один из членов суда, давно томившийся желанием как-нибудь вмешаться в разбирательство, вдруг ткнул указательным пальцем в сторону свидетеля и крикнул:
— Почему вы не называете своего товарища по имени?
— Его зовут Томас Льюис, ваша честь.
— Вызовите мистера Льюиса, — сказал судья.
При взгляде на молодое, наивное лицо второго солдата легко было догадаться, что у этого человека для укрытия от любых угроз и ударов судьбы было единственное прибежище — щепетильная честность. Вот таких-то свидетелей — совестливых, воодушевленных, преданных — следовало опасаться больше всего. Краснея и сбиваясь под взглядами сотен глаз, рядовой Льюис рассказывал, как рад он был встретить мистера Лилберна, как сочувствовал его семейному горю, как гордился своим знакомством с ним. «Клич к молодым лондонцам»? Да, он сам выразил желание прочесть эту книгу и был очень доволен, получив ее в подарок. Совершенно верно, потом она была отобрана у него капитаном. О чем шла речь за кружкой пива? О задержках солдатского жалованья. Да, конечно, я клялся говорить одну только правду, ее я и говорю. О рабстве? Не могу припомнить точных выражений… Мистер Лилберн говорит так красноречиво. Но смысл был таков, будто мы, солдаты армии Нового образца, стали орудиями порабощения нации.
— С дозволения суда, один вопрос свидетелю. Я ли подошел к ним на улице, или он кинулся ко мне с приветствиями и долго напоминал обстоятельства, при которых мы познакомились?
— Не вижу смысла в таком вопросе, — отмахнулся судья.
— Но обвинительное заключение утверждает, будто моей целью было возмутить солдат. Если это так, то я первый должен был искать встречи с ними, если же нет…
— Не цепляйтесь к мелочам, мистер Лилберн. Главный пункт — передача вами своей печатной клеветы — подтвержден показаниями двух свидетелей.
— Подтвержден лишь факт, что я передал им одну из десятков книг, ходивших по городу. Это еще не значит, что я писал ее.
Прокурор взмахнул рукавами мантии и презрительно засмеялся:
— Не думал я, что знаменитый защитник народных вольностей станет отпираться от собственных писаний. Где ваша хваленая храбрость, мистер Лилберн? Осталась на дне чернильницы?
Лилберн почувствовал, что снова, как всегда, прямая угроза властно рванула его к себе, на самое острие опасности, наполнила голову звенящей пустотой. Лишь ощутив боль в прикушенной губе, смог он совладать с собой, удержаться на краю расставленной ловушки.
— Сам Христос проповедовал народу открыто, но судьям жестоким и неправедным отвечать не стал. «Ты говоришь», — сказал он Пилату и больше не произнес ни слова.
— Присяжные, вы слышали это кощунство?! Запомните его. Ваша честь, здесь есть и другие книги, написанные обвиняемым: «Основные законные вольности», «Импичмент против Кромвеля и Айртона», «Салют свободе!». Я уверен, что мистер Лилберн станет отпираться и от них. И все же позвольте спросить: признает ли он себя виновным в написании их и печатании?
— Я ни от чего не отпираюсь и ничего не признаю. Я говорю на все ваши обвинения лишь одно: докажите их.
— Что мы и делаем весьма убедительно на глазах у всех честных людей. Пригласите следующего свидетеля, коменданта Тауэра, полковника Веста.
Лилберн успел подумать, что богатство интонаций человеческого голоса поистине неисчерпаемо. Судьи держались все так же уверенно, выражения лиц ничуть не утратили строгости, и тем не менее тон, которым они говорили с комендантом, стал не то чтобы заискивающим, но каким-то неуловимым образом показывал: «да-да, мы помним, что в эти смутные времена любой из нас легко может быть переброшен поворотом судьбы в какую-нибудь камеру вашего обширного замка». Комендант был одним из немногих пресвитериан, удержавшихся на своем посту после победы индепендентов. Видимо, новые власти сочли его в профессиональном отношении незаменимым.
— Мистер Вест, в распоряжении суда находится книга «Салют свободе!». Соблаговолите взглянуть на нее и сказать, знакома ли она вам?
Комендант взял протянутую клерком брошюру, внимательно рассмотрел титульный лист, перелистал, прочел несколько строк из середины и уверенно кивнул:
— Да, ваша честь. Готов поклясться, это копия той самой книги, которую вручил мне мистер Лилберн месяца полтора назад.
— Вы уже клялись говорить правду, и суд уверен, что клятва эта не будет нарушена. Клерк, зачитайте заглавие.
— «Салют свободе! Послание полковнику Фрэнсису Весту, коменданту Тауэра, от подполковника Джона Лилберна. 14 сентября, 1649 года».
— При каких обстоятельствах вы получили от обвиняемого эту книгу?
— Где-то в начале сентября господин генеральный прокурор попросил меня прислать к нему мистера Лилберна для увещевательной беседы. Я передал распоряжение, хотя и не ждал от этого проку. Так оно и вышло: мистер Лилберн отказался идти без письменного приказа и прочел мне целую лекцию о том, как он понимает законный порядок ведения судейских дел. По своему обыкновению, он вскоре изложил все это на бумаге, напечатал и вручил мне в виде сей книжицы.
— Говорил ли он при этом что-нибудь и были ли свидетели тому?
— Насколько я помню, он сказал: «Вот вам мой ответ, отпечатанный и переплетенный». Не сразу поняв, о чем идет речь, я спросил: «Это ваша новая книга?» «Да, — отвечал он, — за исключением ошибок печатника, которых великое множество». Двое моих слуг были при этом и могут подтвердить.
— Итак, джентльмены присяжные, вы видите, что в отношении книги «Салют свободе!» авторство мистера Лилберна подтверждается, во-первых, его именем на титульном листе, во-вторых, клятвенными показаниями свидетеля и может считаться доказанным неоспоримо. А теперь, клерк, прочтите сноску в этой книге на странице два.
И прокурор перегнулся вперед, чуть выставив ухо, как дирижер, долго репетировавший с оркестром и теперь приготовившийся насладиться первыми нотами.
— «Того же, кто захочет подробнее ознакомиться с доказательствами незаконности нынешней власти, — читал клерк, — я отсылаю ко второму изданию своей книги „Основные законные вольности“, страницы 43–49».
Слова подлетали к сводчатому потолку и, отражаясь от него, падали в притихший зал. Было слышно, как в дверях кто-то повторял их для стоявших на улице. Прокурор, полуприкрыв глаза, в такт кивал головой.
— Другая сноска, — читал клерк, — на странице 3, гласит: «Об узурпации власти армейскими грандами можно подробно прочесть в моей книге „Импичмент против Кромвеля и Айртона“». Далее сноски на страницах 9 и 24 отсылают читателя к «Кличу к молодым лондонцам», чем и подтверждается…
Лилберн почувствовал, как тупая боль с глаз и висков переползает на темя, затылок, обручем охватывает голову. Мучительное ощущение беспомощности, стыд поражения спазмой сжали горло. Если б он догадался накануне перечесть собственные работы так же внимательно, как прочли их члены суда, он увидел бы сразу безнадежность избранного им пути защиты. Тогда можно было бы не унижаться до запирательств, а воспользоваться этим последним окном в мир и прокричать в полный голос имена и преступления тех, кто убил не успевшую родиться свободу. Первый раз в жизни он отказался от счастья свободной и безоглядной речи — отказался ради Элизабет, ради брата, ради друзей, — и чего он этим добился? Ничего, кроме позора. И поделом.
— Обвиняемый, у вас есть вопросы к свидетелю?
— У меня есть просьба к суду. Устроить перерыв и дать мне возможность посоветоваться с адвокатом.
— Как?! А все эти своды законов, лежащие перед вами? А кипы парламентских постановлений? Неужели вам нужны еще чьи-то советы?
— Я знаю законы, но я не искушен во всех уловках и трюках вашего ремесла.
— Суд и так потерял слишком много времени, слушая ваши речи и давая вам отсрочки. Если вам что-то не ясно в процедуре судебного следствия, спросите нас, и мы разъясним вам.
— Спаси меня бог от ваших разъяснений!
— Не смейте повышать голос, обращаясь к суду. Предупреждаю: меня вам не перекричать!
— Дайте мне хоть несколько минут передышки. Я стою здесь уже больше трех часов.
— Если б вы с самого начала не чинили суду столько помех, разбирательство шло бы гораздо быстрее. Судьи и присяжные пришли раньше вас и уйдут позже.
— Но на карту поставлена моя жизнь, а не их!
Судья вдруг откинулся, уперевшись руками в край стола, покачал головой и сказал просто, доверительно и убежденно:
— Нет, и наши жизни тоже.
Потом, словно пожалев о вырвавшемся признании, снова перешел на властный тон и крикнул:
— Суд отказывает в вашей просьбе. Клерк, прочитайте отмеченные места в клеветнических книгах Лилберна.
— «Как с точки зрения закона, так и с точки зрения разума хунта, заседающая нынче в Вестминстере, не представляет из себя парламента, а является лишь сборищем тиранов, задумавших уничтожить законы, вольности и привилегии народа и держащихся только силой меча…»
— «Королевская партия развязала кровавую войну, преследуя исключительно свои корыстные цели; и пресвитериане, отстаивая свой лицемерный и насильственный Ковенант, действовали столь же эгоистично; и, как мы теперь видим, для индепендентов тоже борьба сводилась к вопросу, чьим рабом должен быть народ…»
— «„Народное соглашение“, это единственное надежное основание народной свободы, стало так ненавистно армейским грандам, что они вознамерились, не щадя себя, любой ценой извести тех, кто поддерживает его. Оно пугает их сильнее, чем день страшного суда. И хотя они обезглавили короля, я глубоко убежден, что они скорее пойдут на риск вернуть трон принцу Карлу, нежели допустят принятие „Народного соглашения“ или справедливые выборы нового парламента».
С каждым прочитанным отрывком возбуждение и гул в зале возрастали, крики «аминь!» раздавались все громче.
С улицы донесся треск барабанов, и свежие роты, вызванные генералом Скиппоном, прошили толпу на площади, оттеснили ее от стен Гилд-холла. Солдаты, вооруженные шпагами и пистолетами, ряд за рядом заполнили проходы между скамьями, выстроились наверху четким частоколом на фоне окон. В дальнем углу кто-то вскрикнул от боли, кого-то, заломив руки, протащили к дверям.
Суд продолжался.
Лилберн, измученный, полуоглушенный, чувствуя, что ноги отказываются держать его, тяжело упирался руками в барьер. По знаку судьи служитель принес ему стул, и у него не хватило сил гордо отвергнуть эту милость врага. Да и к чему теперь, когда все погибло? Он сидел, растирая рукой ноющие колени, тупо разглядывая узор кружева на манжете. Элизабет, наверно, пришивала их ночью — шов был неровным, кое-где высовывался край обшлага. Впрочем, и это уже было не важно. Апатия одолевала его, расслабляющим хмелем разливалась по натянутым нервам.
Потом он расслышал, что клерк читает куски из «Народного соглашения», и вся злость, возбуждение и энергия разом вернулись к нему. Как?! Они и эту работу решили объявить клеветой и скандалом? Его любимое детище, конституцию страны, которую он с друзьями обдумывал, дополнял и углублял больше двух лет, стараясь довести ее до некоего идеала простоты и политической мудрости, доступного всякому здравому рассудку?
— Ваша честь, я протестую! Эта книга была напечатана открыто, с разрешения цензуры. И еще до того, как парламент издал свои драконовские постановления. Взгляните внимательно — на ней печать цензурного комитета.
— Цензор, разрешивший ее к печати, тоже понесет наказание.
— Но в книге содержится только проект государственного устройства, предлагаемый на обсуждение нации.
— И горячий призыв к уничтожению государственного устройства, ныне существующего. «Все ранее изданные законы и те, которые будут изданы в будущем, если они противоречат какой-либо части этого Соглашения, должны быть отменены и аннулированы». Что это, как не речь бунтаря? Джентльмены присяжные, вы слышали достаточно. Если вы поддерживаете власть парламента, если вам дорога честь и достоинство Государственного совета, армии, всей нации, если вы хотите сохранения мира, порядка и законности, вы не можете не признать подсудимого виновным в тех преступных и изменнических деяниях, которые были раскрыты и доказаны всем ходом судебного следствия.
— О да, джентльмены присяжные, вы слышали и видели достаточно! — воскликнул Лилберн. — Вам известно не только то, что происходило на суде, но и вся моя жизнь. Ни один человек не рождается только для себя. На каждом лежит часть ответственности перед государством и народом, и каждый должен принять на себя посильную долю. Я старался нести свою ношу, как мог, теперь ваша очередь. Английский закон облекает вас огромной властью и огромной ответственностью. Вы господа моей жизни и смерти, вас признаю я единственными законными судьями над собой. Эти же люди в красных мантиях — не более чем автоматы, изрекающие ваш приговор. Их власть для меня то же самое, что власть нормандских захватчиков, она держится на силе, а не на праве и законе. Сограждане мои, присяжные! Обратитесь же к своей совести…
Гул голосов и стук судейского молотка заглушил конец его речи. Он пытался протестовать, требовал еще времени, и ему разрешили говорить, но лихорадочная спешка сбивала ход его мысли, и фразы понеслись сумбурно и бессвязно: снова о перенесенных страданиях, о смысле «Народного соглашения», о противоречиях в показаниях свидетелей, о расстрелянных солдатах, о недопустимости военных судов в мирное время, даже какая-то чушь о том, что его разговор с комендантом происходил в восточной башне Тауэра, которая находится уже в графстве Мидлсекс и потому не подлежит ведению лондонского суда. И лишь после того как был объявлен перерыв для совещания присяжных и шериф увел его в заднюю комнату, голова понемногу начала остывать, а ясность суждений возвращаться к нему.
С горечью и сожалением думал он о том, какой должна, какой могла бы быть его последняя речь.
Пусть бы даже он говорил в ней о себе самом так же много, как и в своих книгах. Но здесь впервые была у него возможность объяснить, что делал он это всегда не из тщеславия, а лишь оттого, что свято верил: все, что происходит с ним, Джоном Лилберном, имеет значение и смысл для всей Англии, для нынешней, будущей и, каким-то образом, даже прошлой. Он чувствовал себя связанным со всем английским так кровно, что порой ему казалось: как все тело знает о боли в каком-то одном месте — в зубе, пальце, ногте, так и вся Англия должна знать о боли, испытываемой им. Ибо так же, как у тела есть руки, чтобы трудиться, глаза, чтобы видеть, кровь, чтобы разносить питание к каждому органу, но есть и нервы, передающие боль, так и в государственном теле, кроме трудящихся, изобретающих, подсчитывающих, сражающихся, руководящих, непременно должны быть люди, чьим главным назначением было бы опережающее, предвидящее ощущение боли — боли за всех. В этом он видел смысл и оправдание своей жизни, из этой веры черпал силы. О да, возможно, даже наверняка, роль, принятая им на себя, могла бы быть исполнена с большим искусством и достоинством. В одном Лондоне найдутся десятки ораторов с лучшими манерами, чем у него, писателей с более изящным стилем, полемистов с более острой логикой. Но где же они были? Почему их не было слышно? И еще надо было бы сказать о том (любимая мысль Уолвина), что, даже если левеллеры потерпят поражение, уже и то хорошо, что некоторое время им удавалось удерживать новых властителей от перехода к открытой тирании, напоминать о долге перед теми, кто добыл победу в гражданской войне. Но все это он мог говорить уже только себе. Время его истекло.
Минут через сорок его вывели обратно в зал. Пока клерк оглашал имена присяжных, Лилберн вглядывался в их лица и пытался мысленно вырвать этих людей из мертвящей официальности судейской обстановки, представить себе их домашнюю жизнь, занятия, детей, привычки, родню. Кто они? По виду — мелкие мастера, купцы, корабельщики, мыловары, сукноторговцы. Вот этот, с краю, скорее всего мясник, рядом с ним — возможно, аптекарь. Лица типично лондонские, замкнутые, чуть хитроватые, с оттенком упрямого самодовольства и скрытой уверенности, что кого-кого, а уж их-то провести не удастся. Что они знают о нем? Как относятся к тому, за что он боролся? Всеобщее избирательное право — разве может такое прийтись им по вкусу? Читали ли они его книги? Или только ту клевету, которая печаталась о левеллерах последний год?
— Джентльмены присяжные, удалось ли вам прийти к единому решению?
— Да.
— Кто будет говорить от вас?
— Наш старшина.
Коренастый старик шкиперского вида поднялся со скамьи и поклонился членам суда.
— Итак, — обернулся к нему клерк, — нашли ли вы стоящего здесь перед вами Джона Лилберна виновным во всех изменнических деяниях, вменяемых ему, или только в части их, или ни в одном из них?
Тишина упала такая, что стала слышна возня голубей на подоконниках и где-то на улице — слабый детский плач. В раскрытых дверях лежала река поднятых, ждущих лиц. Каким-то чудом несколько человек пробрались на крышу здания и теперь заглядывали в окна сверху, над головами выстроившихся солдат. Старшина присяжных расправил плечи, откинул голову так, что открылась кирпично-обветренная шея, и звучно, на полном выдохе произнес:
— НЕ ВИНОВЕН!
Зал ответил радостно-изумленным вскриком и тут же замер, остановленный взлетевшей вверх рукой клерка.
— Не виновен ни в одном из деяний, ни в некоторых из них?
— Ни в одном изменническом деянии, ни в части их, ни во всех вместе стоящий здесь Джон Лилберн не виновен.
Зал взорвался.
Единый восторженный крик пронесся под сводами, перекинулся на площадь, сотряс окна, расплескал по сторонам голубей. Люди на скамьях вскакивали, махали руками, обнимались. Солдаты продолжали стоять на местах, но и среди них некоторые утирали глаза, другие одобрительно кивали.
Лилберн чувствовал, что пол уплывает у него из-под ног, а в горле накипает комок счастливых слез.
Ну вот, он все же победил.
Он выиграл свою многолетнюю тяжбу, ту тяжбу, о которой говорил когда-то Овертон. И это верно, что присяжных было не двенадцать, а в тысячу, в десять тысяч раз больше, что все люди, собравшиеся в зале и на площади, и те, кто остались дома, но жадно ждали вестей из суда, были участниками процесса и приняли его сторону. Однако и эти двенадцать лондонцев перед ним, и их старшина!.. Кого-то он напоминал ему своей коренастой фигурой и седоватой бородой? Не того ли голландского капитана, с которым они плыли тогда, много лет назад, из Амстердама? У которого еще была любимая присказка — «все будет зависеть от ветра»?
Зал не умолкал. В дальнем углу несколько десятков человек пытались затянуть: «Вот славный малый, Лилберн Джон, когда дойдет до дела…» — но их голоса тонули в общем беспорядочном крике. Только члены суда сидели молча и неподвижно, понурые лица белели над мантиями. Солдаты в дверях с трудом сдерживали рвавшуюся внутрь толпу.
Лилберн попытался представить себе, что будет с Элизабет, когда она узнает, и как он вернется к ней, выходец с того света, и как в доме опять соберутся друзья, и как они снова… Да полно, остались ли в нем еще силы на какое-то «снова»? Он чувствовал такое опустошение, такую слабость во всем теле, словно часть души в нем была действительно убита, казнена и не оставалось надежды на ее воскрешение. Волны озноба прокатывались но спине и груди, влажные от пота пальцы стыли на кожаных переплетах разложенных на барьере книг.
В верхних рядах под тяжестью вскочивших людей сломалась скамья, и громкий деревянный треск, словно залп салюта, подхлестнул ослабший было рев. Сквозь распахнутую дверь видны были летящие в воздух шляпы, бурление людского моря, но те, кто был стиснут в зале, не имея другого выхода своему восторгу и возбуждению, все силы вкладывали в крик.
«Да полно, — подумал вдруг Лилберн, — обо мне ли их ликование? Не есть ли оно просто единый вздох облегчения за самих себя? Не надо бросаться на стражу, ломиться в Вестминстер, снова лить свою и чужую кровь. Может, у них еще достало бы духу мстить за меня, но за попранные права, за „Народное соглашение“? Семь лет войны — у людей просто нет больше сил. Они счастливы примириться с теми, кто худо-бедно, но все же положил конец их раздорам. А может, и правда жажда настоящей свободы еще не созрела в них? О, как долог путь, как мало одной жизни, чтобы пройти его до конца. Но может, так было всегда, может, иначе и невозможно? Сто лет, двести? Безбрежный океан времени. Парус поднят, корабль выходит в море, шкипер знает конечную цель и путь. Но ветер, синьор. Все будет зависеть от ветра».
26 ноября, 1649
«И не успел старшина присяжных звучным голосом произнести: „Не виновен“, — как все множество людей в зале от радости за оправданного издали такой дружный и громкий крик, какого еще не слыхали в стенах Гилд-холла. Крик этот длился без перерыва около получаса, а судьи сидели понурив головы, бледные от страха. Но сам подсудимый стоял молча и с лицом более печальным, чем прежде».
Из газетного отчета о суде над Лилберном
Эпилог
Исторические персонажи, в отличие от героев романов, часто продолжают жить и после того, как самые яркие и драматичные события их судьбы остаются позади.
Лилберн, выпущенный после суда на свободу, пытался вести жизнь частного человека, но власти Английской республики не забыли Джона-свободного и вскоре, состряпав очередное судебное дело, заочно осудили его на пожизненное изгнание. Он прожил полтора года в Голландии, бедствовал, тосковал и в конце концов, летом 1653 года, решил вернуться на родину, хотя это было запрещено ему под страхом смертной казни. Снова был громкий процесс, снова весь Лондон лихорадило и толпы народа стекались к зданию суда, и снова присяжные вынесли оправдательный приговор. Однако времена уже были не те. Кромвель прочно держал власть в своих руках. Он не разрешил выпустить обвиняемого, а против присяжных приказал возбудить уголовное дело. К списку английских тюрем, имевших своим узником Джона Лилберна, добавились замок Елизаветы и замок Маунт Невилль на острове Джерси, затем Дуврский замок. Он умер 29 августа 1657 года, в возрасте 39 лет, вступив незадолго до смерти в секту квакеров, и газеты описали громкую ссору по поводу похоронного обряда, затеянную над его гробом враждующими религиозными группами.
Восхождение Кромвеля пошло именно тем путем, который предсказывал и которого опасался Лилберн. С 1653 года он практически сделался некоронованным королем Англии и установил внутри страны режим суровой диктатуры. Ирландия и Шотландия были покорены, Голландия разбита на море, колонии стремительно расширялись, и вся Европа трепетала перед военной мощью лорда-протектора. На него замышлялось много покушений, но все заговорщики рано или поздно оказывались в сетях учрежденной им тайной полиции. И все же политической прочности правление не имело. После смерти Кромвеля в 1658 году в стране снова начался хаос, и армия, устроив переворот, призвала Стюартов обратно.
Вместе с реставрацией Стюартов вернулся в Англию и Эдвард Хайд, граф Кларендон. Будучи самым доверенным лицом в совете молодого короля, Карла II, он приобрел огромное влияние и прилагал все силы к тому, чтобы реализовать политическую иллюзию всей своей жизни — монархию без произвола, монархию на твердых основаниях законности и права. Однако вскоре неподкупность и презрение к интригам нажили ему столько врагов при дворе, а прямота суждений и советов так раздражили короля, что в 1667 году всемогущий канцлер был смещен со всех постов и с позором выслан из Англии на континент, где и скончался семь лет спустя. Он оставил после себя несколько томов речей и писем, двухтомную автобиографию и многотомную «Историю мятежа и гражданских войн в Англии». Трагическая противоречивость его судьбы и характера отразилась и в его писаниях, в которых талантливый психолог-портретист часто отступает перед тенденциозным политиком, скрупулезный историк — перед многословным мемуаристом, логик — перед витией, ученый юрист — перед власть имущим.
Уолвин и Овертон после оправдания Лилберна в октябре 1649 года тоже были освобождены из Тауэра.
Судьба Уолвина дальше теряется в тумане, про Овертона же известно, что в 1655 году он был замешан в подготовке левеллеровского восстания против Кромвеля, в 1659 сидел в тюрьме, а в 1663 власти снова выпустили приказ о его аресте — теперь уже за печатные нападки на правительство Реставрации.
Сексби дослужился до чина полковника под командой Кромвеля, воевал в Шотландии, а затем в 1651 году был послан с секретной миссией во Францию. Там он вел переговоры с лидерами Фронды и гугенотами и настойчиво предлагал им принять «Народное соглашение» в качестве конституционной основы для Франции в том случае, если и в ней удастся покончить с королевской властью. Но после того как Кромвель объявил себя лордом-протектором, Сексби стал его заклятым врагом, планировал восстания, устраивал заговоры, готовил покушения и даже выпустил памфлет под названием «Уничтожение — не убийство». Летом 1657 года он был выслежен и схвачен тайной полицией лорда-протектора и полгода спустя умер в Тауэре.
Самую длинную и бурную жизнь прожил Уайльдман. Ему суждено было увидеть не только реставрацию Стюартов, но и их окончательное падение в 1688 году. В награду за свои заслуги он был принят в совет города Лондона, а новый король, Вильгельм III Оранский, даровал ему рыцарское звание. На своем надгробии он просил написать: «Здесь лежит человек, проведший самые цветущие годы своей жизни в тюрьмах, ибо он слишком горячо желал свободы и счастья своей стране и всему человечеству». Историк Маколей впоследствии дал ему не столь лестную характеристику. «С фанатичным республиканизмом, — писал он, — Уайльдман умел соединять нежную заботу о собственной безопасности. Его хитрость была такова, что, несмотря на все заговоры, в которых он принимал участие, несмотря на пристальное наблюдение мстительных и отлично осведомленных властей, он ухитрился умереть в собственной постели, после того как видел два поколения своих соумышленников, окончивших дни на виселице».
Сразу после смерти мужа Элизабет Лилберн обратилась к лорду-протектору с просьбой о помощи. Кромвель немедленно откликнулся, назначил ей пенсию два фунта в неделю, помог освободить поместье, унаследованное Лилберном в Дареме, от гигантского штрафа, так что конец своей жизни измученная женщина смогла провести в относительном достатке и покое. Из десяти детей, рожденных ею Джону Лилберну, только четверо дожили до зрелых лет, и только одна, самая младшая дочь оставила после себя потомство. Мистер Ян Лилберн, ныне проживающий в шотландском графстве Абердиншир, тщательно хранит генеалогию своего рода, и архивисты время от времени получают у него необходимые им справки.
Но и после того как умерли все участники гигантской исторической драмы, отлились в книжные строки описания боев и имена погибших, тексты речей и судебные приговоры, утихла старая вражда, чтобы уступить место новой, — продолжали жить идеи, за которые боролись левеллеры. Сначала это была тайная, полузапретная жизнь, окруженная ненавистью, подозрительностью, клеветой. Но век спустя ветер, которого так ждал Лилберн, наполнил паруса американской революции, и многие из его замыслов оказались воплощены в жизнь победившим народом. В самой Англии на борьбу ушло еще больше времени, и лишь в середине XIX века волна революционного движения вынудила правительство к ряду реформ, по сути дела, утверждавших три основных пункта полузабытого «Народного соглашения»: всеобщее избирательное право для мужчин, отмену монополий, упрощение и упорядочение судопроизводства.
Как в природе исток могучей реки привлекает гораздо больший интерес географов, чем текущие рядом с ним, столь похожие по виду ручейки, так и в истории разрастание какого-нибудь политического движения обостряет интерес исследователей к тому, что можно назвать истоком, началом пути. По мере того как становился все более явным и очевидным вклад левеллеровского движения в общечеловеческий прогресс, менялось и отношение к нему. Попытки понять, истолковать, уточнить факты и документы, проследить социальные и духовные корни, выявить предшественников и последователей все расширяли объем исторической литературы о левеллерах и их вожде, привлекали все новые силы. Видные историки самых разных взглядов и направлений отдавали должное мужественной борьбе первых демократов XVII века, и высказывания многих из них могли бы послужить эпиграфом к книге о Джоне Лилберне:
1893 год
«Политическая важность такой фигуры, как Лилберн, легко объяснима. В революции, где другие спорили о правах короля и парламента, он всегда говорил о правах народа. Безоглядная храбрость и пламенная речь делали его кумиром масс».
Чарльз Ферс. «Биографический словарь»
1916 год
«Рационализм левеллеров обусловил их требование демократической формы правления, ограничиваемой и сдерживаемой конституцией, основанной на законах природы и разума. Для достижения этой цели они разработали политическую схему, продолжающую и до наших дней сохранять свое значение и ценность: писаная конституция, как верховный закон, ограничивающий власть правительства, собрание народных представителей для разработки и принятия конституции. Они также создали модель партийной организации, предвосхитившую Корреспондентские комитеты Американской революции».
Теодор Пэз. «Движение левеллеров»
1928 год
«Стойкий борец со старым режимом, непримиримый враг самовластия, герой гражданской войны, отважный враг республики индепендентов, вождь левеллеров, выступивший в защиту бедных и средних классов населения, — таким был Джон Лилберн. Если от него и ускользал конечный смысл борьбы, скрытый диалектикой неизбежного развития, то тем с большей силой он отразил в своей жизни интересы тех классов, которые болезненно переживали этот переломный период. Эта натура, подобно стальной пружине, разжималась только для принципиальных ударов, в ней нет сомнений, колебаний, перелома, рефлексии, она монолитна во всех проявлениях жизни, она едина во всех своих переживаниях».
И. Л. Попов-Ленский. «Лилберн и левеллеры»
1947 год
«Открывая каждому путь к образованию, разрушая границу между управляемыми и управляющими, расширяя число людей, причастных к управлению, пытаясь покончить с несправедливостью, социальным неравенством и религиозным преследованием, лилберновская схема, отраженная в „Народном соглашении“, прокладывала тот путь, по которому пошло развитие демократии».
Маргарет Джибб. «Джон Лилберн, левеллер»
1960 год
«Программа левеллеров была исторически прогрессивной, ибо она привела бы к радикальной чистке общества от средневековых пережитков и к установлению буржуазно-демократической республики. Левеллеры желали увеличить „минимум демократизма“, завоеванного революцией, повести ее гораздо дальше, чем это намеревались сделать индепенденты. Левеллеры были в те дни самой демократической партией в лагере парламента. Самым главным и важным требованием, являвшимся в ту пору и новым и революционным, было требование всеобщего избирательного права».
М. А. Барг. «Кромвель и его время»
1961 год
«Такая жизнь не может быть прожита впустую. Словом и делом Джон Лилберн свидетельствовал истину так, как понимал ее. Его можно назвать первым английским радикалом, либералом высокого духа, воинствующим христианином, даже первым английским демократом. Но лучше оставить его без ярлыка, в усыпальнице слов, сказанных им самим о своей партии: „И мы не сомневаемся, что потомство пожнет плоды наших начинаний, что бы с нами ни стало впоследствии“».
Паулин Грег. «Джон-свободный»
1965 год
«Лилберн был радикальным мелкобуржуазным демократом, ставившим на первый план задачу политических реформ. Он был противником эгалитаризма и решительно отмежевался от диггеров. Но при всей мелкобуржуазной ограниченности Лилберн сыграл огромную роль в английской революции как один из самых ярких представителей демократического движения».
Г. Р. Левин. «Лилберн», «Советская историческая энциклопедия»
1970 год
«Идеи Лилберна и его соратников сыграли большую роль в истории политической мысли. Их учение о естественном праве и естественном состоянии, народном суверенитете и общественном договоре положил в основу своей политической теории Джон Локк, один из виднейших идеологов буржуазного государства и права. Через Локка они оказали немалое воздействие на Французскую революцию XVIII века и американскую конституцию».
Т. А. Павлова. «Джон Лилберн», «Новая и новейшая история», 1970, № 1
1972 год
«У армейских радикалов и левеллеров было одно великое достижение. Его можно выразить словами их врага, Клемента Уокера: „Они рассыпали все тайны и секреты управления перед тупыми, как бисер перед свиньями, они научили солдат и народ смотреть так далеко, что те стали расценивать правительства с точки зрения законов природы. Они сделали людей такими… что к ним уже никогда не вернется покорность, необходимая для безоговорочного повиновения установленному порядку“».
Кристофер Хилл. «Мир вверх ногами»
