
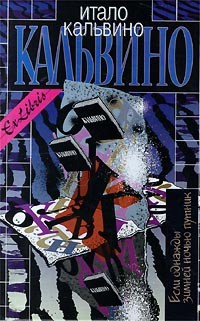
Итало Кальвино
Паломар
ПАЛОМАР ОТДЫХАЕТ
ПАЛОМАР НА ПОБЕРЕЖЬЕ
Чтение волны
На море зыбь, слабый прибой бьет в песчаный берег. Синьор Паломар стоит и смотрит на волну. Сказать, что поглощен он созерцаньем волн, нельзя. Не поглощен, поскольку хорошо осознает, что делает: хочет на волну смотреть – и смотрит. Не созерцает, ведь для этого нужны особенные темперамент, внутренний настрой, стечение внешних обстоятельств, и хотя он в принципе совсем не против созерцанья, ни одно из трех условий в данном случае не соблюдается. И наконец, смотреть он хочет не на волны, а только на одну: остерегаясь смутных ощущений, Паломар, что б он ни делал, привык определять себе конкретный ограниченный объект.
На глазах синьора Паломара где-то вдалеке возникшая волна приближается, растет, меняет цвет и форму, закручивается, разбивается, исчезает, устремляется обратно. Тут он мог бы счесть, что завершил задуманное, и уйти. Но выделить одну волну, отъединив ее от той, что катит следом, кажется, ее подталкивая, а иной раз настигает и захлестывает, вовсе не легко – как, впрочем, и отделить эту волну от предыдущей – та словно тащит ее за собою к берегу, а то вдруг поворачивается навстречу, точно хочет задержать. Что же до длины валов, бегущих параллельно побережью, не так-то просто с точностью определить, где фронт един, а где уже распался, расчленился на самостоятельные волны, разные по форме, силе, скорости и направлению движения.
В общем, за волною невозможно наблюдать, не принимая во внимание сложных факторов, которые участвуют в ее образовании, и столь же сложных, ею порождаемых. Они то и дело изменяются, поэтому каждая волна отлична от другой; но в то же время у любой из них находится двойник, не обязательно соседствующий с ней или идущий следом; в общем, некоторые формы волн и целые цепочки повторяются, хотя в пространстве и во времени эти повторения распределяются неравномерно. Так как Паломар сейчас хотел бы просто рассмотреть волну, то есть уловить все до единой ее составные части, он решает наблюдать биение воды о берег до тех пор, покуда будет отмечать явления, не виданные прежде; едва картины станут повторяться, он поймет, что все уже увидел, и прервет свое занятие.
Нервный человек, живущий в бурном, перенаселенном мире, Паломар предпо-читает свои отношения с ним ограничивать и, сопротивляясь массовой неврастении, по крайней мере собственные ощущения старается не выпускать из-под контроля.
С приближением волна становится все круче, на ее верхушке начинает загибаться белый отворот. Если это происходит не совсем у берега, то пена успевает, навернувшись на саму себя, исчезнуть, словно поглощенная водой, но тут же снова – снизу – заполняет все собой подобно белому ковру, взлетающему на берег для оказания волне достойного приема. Но когда она должна уж накатиться на ковер, вдруг обнаруживается, что никакой волны и нет, а следом исчезает и сам ковер – он превращается в сверкающий песок, который быстро-быстро отступает, будто теснимый ширящейся полосой сухого тусклого песка, все дальше двигающего свою волнистую границу.
В то же время стоит обратить внимание на выемки во фронте волны, где разделяется она на два крыла, несущиеся к берегу слева направо и справа налево, а также на то место, где берет начало (или завершается) их расхождение (или схождение), – на антимыс, который следует за крыльями, но неизменно отстает, завися от попеременного их наложенья друг на друга, пока волну эту не настигает большая, вновь выдвигая ту же самую проблему: расхождение или схождение? – а следом накатывает волна мощнее прежней, снимающая все проблемы.
Берег, следуя рисунку волн, выпячивает в море некие зачатки мысов, переходящие в затопленные отмели, которые то намывают из песка, то размывают приливы и отливы. В качестве предмета наблюдения Паломар выбирает именно один из этих плоских языков, поскольку волны косо ударяют в него с двух сторон и, перехлестывая полускрытую водой поверхность, сталкиваются. Значит, разбираясь, как устроена волна, придется принимать в расчет и эти противоположные толчки, которые друг друга частью гасят, частью складываются, а в результате все удары с контрударами обычно оборачиваются обильной пеной.
Паломар решает ограничить поле наблюдения; следя, к примеру, за квадратом десять на десять метров от береговой линии в море, он составляет каталог движений волн, повторяющихся с различной частотой на означенном участке за определенный промежуток времени. Трудность представляет установление границ квадрата: к примеру, можно было б дальней стороной его счесть гребень движущейся к берегу волны, но, приближаясь, он растет и заслоняет все, что позади, и вот уже обозреваемый участок опрокинут и расплющен.
Но Паломар не падает духом: он то и дело заключает, будто уже видел все, что можно было разглядеть с его позиции, хотя вскоре непременно возникает что-нибудь еще, чего он не учел. Если б он не торопился так достичь полного и окончательного результата наблюдения волн, их созерцание его бы очень успокаивало и, возможно, уберегло от неврастении, от инфаркта и от язвы. А может быть, и стало бы ключом к познанию мира во всей его сложности путем сведения к более простой системе.
Но, пробуя определить эту модель, необходимо также брать в расчет и длинную волну, которая, вдруг возникнув, несется параллельно берегу и перпендикулярно бурунам непрерывающимся гребнем, вздымая лишь верхний слой воды. Отдельные барашки, рвущиеся к берегу, не нарушают равномерного напора этого сплошного гребня, срезающего их под прямым углом, стремясь неведомо откуда неведомо куда. Возможно, перпендикулярно импульсу, возникшему в глубинах моря, водную поверхность движет и восточный ветерок, сам по себе несильный, но эта порождаемая ветерком волна вбирает в себя по пути косые толчки воды и увлекает их с собой. Так мчит она, все набирая силу, покуда столкновения со встречными волнами понемногу не сведут ее на нет или не переменят направление настолько, что она смешается с одной из множества династий волн, которые бегут к ней под углом, и выплеснется с ними на берег.
Заостришь внимание на каком-нибудь одном аспекте – и он тут же, выступив на первый план, заполняет собой всю картину; так некоторые рисунки, стоит лишь на миг закрыть глаза, предстают потом уже иными. Рисунок, образуемый скрещением гребней волн, теперь составлен из квадратов – проступающих и исчезающих. К тому же каждая прибойная волна, откатываясь в море, также обладает некоторой силой, затрудняющей движение к побережью тех волн, что катятся за нею следом. И если сконцентрировать на них внимание, то может показаться, будто и впрямь все они движутся от суши в море.
А вдруг и в самом деле Паломар сумеет устремить их вспять, заставит время повернуть назад и с помощью какого-то шестого чувства постигнет истинную сущность мира? Увы, у него только закружилась голова. Настойчивость же волн венчается успехом: они явно стали больше. Или меняется ветер? Беда, если картина, стоившая Паломару кропотливого труда, нарушится, развалится, растает! Ведь лишь удерживая в уме одновременно все ее детали, может приступать он к следующему этапу операции – распространять полученные сведения на всю вселенную.
Тут главное – не потерять терпения, что в скором времени как раз и происходит. Он бредет вдоль берега такой же нервный, как пришел, и еще меньше в чем-либо уверенный.
Голая грудь
Паломар прогуливается по побережью. Изредка ему встречаются купальщики. Вот лежа загорает молодая женщина с открытой грудью. Скромный Паломар спешит перевести свой взгляд к морскому горизонту. Он знает – в подобных случаях, заметив незнакомца, женщины часто спешат прикрыться, но не видит в этом ничего хорошего: и потому, что смущена купальщица, спокойно загоравшая, и потому, что проходящий чувствует: он помешал, и потому, что в скрытой форме подтверждается запрет на наготу; к тому же половинчатое соблюдение условностей ведет к распространению неуверенности, непоследовательности в поведении, вместо свободы и непринужденности.
Вот почему, едва завидев бронзовое с розовым облачко нагого торса, он скорее поворачивает голову так, чтобы взгляд его повис в пространстве, гарантируя почтительное соблюдение невидимой границы, окружающей любого индивида.
«Однако, – рассуждает он, шагая дальше и, как только горизонт пустеет, вновь давая глазу волю, – действуя подобным образом, я лишь подчеркиваю свой отказ смотреть и в результате закрепляю условность, в соответствии с которой обнажение груди считается недопустимым; иначе говоря, я мысленно подвешиваю меж собой и грудью – молодой и привлекательной, как я сумел заметить краем глаза, – воображаемый бюстгальтер. В общем, отведенный взгляд показывает, что я думаю об этой женской наготе, она меня заботит, и, по сути дела, это тоже проявление бестактности и ретроградства».
По пути обратно Паломар глядит перед собою так, чтобы взгляд его с одним и тем же беспристрастием касался пены отходящих волн и лодок, вытянутых на песок, и постланной махровой простыни, и полнолуния незагорелой кожи с буроватым ореолом в окружении соска, и очертаний берега, сереющих в мареве на фоне неба.
«Ну вот, – довольно отмечает он, шагая дальше, – грудь стала как бы частью окружающей природы, а мой взгляд – не более докучливым, чем взгляды чаек и мерланов».
«Но справедливо ль это? – размышляет он затем. – Не низвожу ль я человеческую личность до уровня вещей, не отношусь ли к отличительной особенности женщин просто как к предмету? Не закрепляю ли я давнюю традицию мужского превосходства, породившую со временем привычную пренебрежительность?»
Он поворачивается, идет назад. Скользя по пляжу непредубежденным, объективным взглядом, он, как только в поле зрения оказывается нагая грудь, заставляет взгляд свой очевидным образом прерваться, отклониться, чуть ли не вильнуть. Наткнувшись на тугую кожу, взгляд его отскакивает, будто отмечая измененье консистенции картины и ее особенную значимость, зависнув на мгновение, описывает в воздухе кривую, повторяющую выпуклость груди – уклончиво и в то же время покровительственно, – и невозмутимо двигается дальше.
«Наверное, теперь моя позиция ясна, – решает Паломар, – и недоразумения исключены. Но вот не будет ли такой парящий взгляд в конце концов расценен как высокомерие, недооценка сущности груди, ее значения, в определенном смысле оттеснение ее на задний план, куда-то на периферию, как не стоящей особого внимания? И грудь из-за меня опять оказывается в тени, как долгие столетия, когда все были одержимы манией стыдливости, считали чувственность грехом...»
Подобное истолкование не соответствует благим намерениям Паломара: он хотя и представляет зрелое поколение, привыкшее ассоциировать грудь женщины с интимной близостью, однако же приветствует такую перемену нравов – и поскольку видит в ней свидетельство распространения в обществе более широких взглядов, и потому, что данная картина, в частности, ему приятна. Такую бескорыстную поддержку и хотел бы выразить он взглядом.
Повернувшись, он решительно шагает снова к загорающей особе. На сей раз взгляд его, порхая по пейзажу, задержится с почтением ненадолго на ее груди и тут же поспешит вовлечь ее в порыв расположения и благодарности, которые он ощущает ко всему – к солнцу, небесам, корявым соснам, дюнам, к песку и скалам, к водорослям, облакам, к миру, обращающемуся вокруг вот этих шпилей в ореолах света.
Что, конечно, совершенно успокоит одинокую купальщицу и исключит возможность всяких недоразумений. Но она, увидев Паломара, вскакивает, прикрывается и, фыркнув, поспешает прочь, с досадой поводя плечами, словно подверглась домогательствам сатира.
«Мертвый груз традиции безнравственного поведения мешает по достоинству оценивать и просвещеннейшие побуждения», – горько заключает Паломар.
Солнечная дорожка
Когда солнце клонится к закату, на морскую гладь ложится отблеск: от горизонта к берегу протягивается слепящее пятно из зыбких бликов, синь же, проступающая между ними сетью матовых прожилок, кажется темней. Лодки против солнца превращаются из белых в черные и, будто бы разъединенные блещущими крапинами, делаются меньше и бесплотней.
Для синьора Паломара, птицы поздней, это час вечернего заплыва. Он входит в воду, отдаляется от берега, и отблеск принимает вид искрящейся дорожки, пролегающей к нему от горизонта. Он плывет по ней, точней, она все время впереди, когда он делает гребок, как бы отскакивает и к себе не подпускает. Везде, куда ни вытянет он руку, морская гладь приобретает тусклую вечернюю окраску, доходящую до самой полосы прибоя за его спиной.
Солнце опускается, и отблеск, прежде цвета белого каленья, делается золотым, из золотого – медным. И куда бы Паломар ни плыл, он неизменно на вершине золотого треугольника; дорожка следует за ним, указывая на него, как часовая стрелка, укрепленная на солнце.
«Солнце удостоило меня особой чести», – было бы приятно думать Паломару, а верней, его эгоистичному, обуреваемому чувством собственного превосходства «я». Но другое – депрессивное, а может быть, имеющее склонность к мазохизму – возражает: «Отчего же, каждому, за исключением незрячих, чудится, что отблеск следует за ним; все мы постоянно находимся в плену каких-то ложных ощущений и понятий». Подает свой голос третий, более беспристрастный их сосед: «Так или иначе: я один из чувствующих, мыслящих субъектов, способных и установить определенные отношения с лучами солнца, и дать оценку и трактовку своим ощущениям и иллюзиям».
У каждого, кто в этот час плывет на запад и наблюдает световую полосу, направленную в его сторону и гаснущую там, куда вонзается его рука, – у каждого свой отблеск, имеющий такое направление только для него и движущийся вместе с ним. По обе стороны его синева темнее. «Не есть ли темный цвет единственная не обманчивая данность, общая для всех?» – задумывается Паломар. Но ведь блестящая дорожка одинаково навязывает себя взору каждого, ее никак не избежать. «Выходит, общее у нас именно то, что каждому дано как исключительно его?»
Скользят по морю доски с парусами, лавируя, врезаются в потоки ветра, задувающего в это время с суши. Напряженные фигуры держат вытянутыми руками мачты, точно луки, сдерживая воздух, хлопающий полотном. Когда они, пересекая отблеск, тонут в золоте, то паруса тускнеют, а непрозрачные тела как будто погружаются во тьму.
«Все это совершается не с морем и не с солнцем, – думает плывущий Паломар, – а в голове моей, в соединяющих глаза и мозг каналах. Я плаваю в своем сознании, искристая дорожка только там и существует, этим она для меня и притягательна. Это моя, единственно доступная познанию, стихия».
Но дальше думает: «Ведь я никак не угонюсь за ней, она все время впереди, она не может быть во мне, раз я в ней плаваю, и раз я на нее смотрю, то, значит, вот он я, а вон она».
Движения его теперь усталые и неуверенные: видно, размышления не обостряют, а, напротив, портят удовольствие от плавания в отблеске, внушая ощущение ограничения, вины, приговоренности. И еще ответственности, от которой не уйти: дорожка существует потому лишь, что он здесь; а если он уйдет, а если вылезут на берег или просто отвернутся все пловцы и все купальщики, что будет с ней тогда? Он хочет, чтобы в распадающемся мире уцелело самое недолговечное: этот мостик, перекинувшийся через море между заходящим солнцем и его глазами. Плавать больше неохота, холодно. Но Паломар упорствует, теперь он чувствует себя обязанным не выходить из моря до заката.
Тогда ему приходят вот какие мысли: «Я ведь вижу этот отблеск, думаю о нем и плаваю в нем лишь благодаря тому, что на другом конце дорожки – солнце, льющее свои лучи. Главное – первопричина, лишь ослабленные проявления которой – вот, к примеру, на закате – может выдержать мой взгляд. Все остальное – только отблески, включая и меня».
Проплывает призрак паруса; скользит среди сверкающих чешуек тень человека-мачты. «Без ветра эта штука из пластмассовых шарниров, человеческих костей и сухожилий и нейлоновых канатов не смогла бы устоять, а ветер превращает ее в судно, словно обладающее волей, устремленное к какой-то цели; только ветер знает, куда движется доска и человек на ней», – раздумывает Паломар. Вот если б, отрешившись от пристрастного и полного сомнений «я», он смог найти себе надежную опору в первооснове всего сущего! Но может ли в основе всех деяний и всех форм лежать одна-единственная, абсолютная первопричина? Или несколько различных – силовые линии, пересечение которых и определяет в каждый миг неповторимый облик мира?
«...Знает ветер и, конечно, море – водяная масса, поддерживающая твердые тела, которые покачиваются на ней, как я или доска», – решает Паломар, переворачиваясь на спину.
Теперь он созерцает блуждающие клубы облаков, клубящиеся чащами холмы. «Я» Паломара опрокинуто в стихии: в огненные небеса, подвижный воздух, воду-колыбель, опору-землю. Это, стало быть, и есть природа? Но всего, что видит он, в природе не бывает: солнце не заходит, море не такого цвета, а все формы таковы, какими проецирует их на сетчатку свет. Нелепо двигая конечностями, плавает он среди мнимостей; человеческие силуэты в странных позах, смещая свои центры тяжести и пользуясь не ветром, а геометрической абстракцией, углом меж направленьем ветра и наклоном рукотворного приспособления, скользят по гладкой коже моря. Стало быть, природы нет вообще?
«Я» синьора Паломара плавает в разъединенном мире – в пересечениях силовых полей и векторных диаграммах, в пучках прямых, сходящихся и, преломляясь, расходящихся. Но в глубине души его все по-другому, там комочком, сгустком, пробкой притаилось ощущение: ты здесь, однако же тебя могло бы тут не быть, ты в мире, коего могло бы не существовать, однако же он есть.
Безмятежность мира нарушает вдруг волна, рожденная моторной лодкой; вот она несется мимо, прыгая на плоском брюхе и разбрызгивая нефть. Переливчатая масляная пленка, колыхаясь, проникает вглубь; вещественность, которой не хватает бликам солнца, явно свойственна вот этим следам физического пребывания человека, оставляющего за собою вытекшее топливо, продукты сгорания, нерастворимые отходы, перемешивая жизнь и смерть и множа их вокруг себя.
«Здесь моя зона обитания, – размышляет Паломар, – и не имеет смысла думать, принимать все это или отвергать, ведь жить могу я только тут». Но вдруг судьба всего живого на земле предрешена? Что, если гонку к смерти не сдержать уже ничем?
Одиночный вал, рожденный лодкой, обрушивается на берег, и, когда вода отходит, там, где как будто ничего и не было, кроме песка и гальки, водорослей, крошечных ракушек, пляж пестрит теперь жестянками и косточками от плодов, презервативами и снулой рыбой, пластиковыми бутылками и шприцами, разбитыми сабо, похожим на черные веточки оливковым жмыхом...
Подхваченный волной от лодки и захлестнутый отходами, внезапно ощущает он и себя отбросами, трупом, прокатившимся по побережьям-свалкам континентов-кладбищ. Если бы вдруг на белом свете больше не открылся ни единый глаз, за исключением покойницких остекленелых, блестящая дорожка исчезла бы навсегда.
Впрочем, если вдуматься, это не ново: миллионы лет лучи ложились на воду еще до появления способных уловить их взглядов.
Паломар ныряет, проплывает под водой, выныривает – вот она! Так и появился некогда из моря тот, кто увидал это впервые, и ожидавшая его дорожка наконец смогла похвастаться своим искристым блеском и изящным тоненьким концом. Они, дорожка и созерцатель, были созданы друг для друга, и, может быть, не появление того, кто мог ее узреть, породило ее, а, наоборот, сама дорожка никак не могла без взгляда, озирающего всю ее с ее вершины.
Паломар пытается вообразить мир без себя – тот беспредельный, что существовал когда-то до его рождения, и тот гораздо более загадочный, что будет после его смерти, мир до появления глаз, до первого на свете глаза, и тот, который завтра в результате катастрофы или медленного разрушения ослепнет. Что же в этом мире происходит (произошло или произойдет)? Точно посланный солнцем луч отражается в спокойном море, играя на подрагивающей воде, и вот материя, воспринявшая свет, членится на живые ткани, и – впервые или вновь – вдруг расцветает око, множество очей...
Доски для скольжения все уже на берегу; последний из купальщиков, носящий имя Паломар, продрогнув, тоже выбирается на сушу, Проникшись верой, что дорожка без него не пропадет, он наконец-то вытирается махровой простыней и отправляется домой.
ПАЛОМАР В САДУ
Любовные игры черепах
Во дворике две черепахи, самка и самец. Бац! Бац! – стучат их панцири. Паломар украдкой наблюдает.
Самец со всех сторон подталкивает самку к краю тротуара. Та будто бы противится его наскокам, по крайней мере сохраняет неподвижность. Он меньше и активнее, наверное моложе. Много раз он подступается к ней сзади, но панцирь там крутой, и он соскальзывает вниз.
Вот наконец ему, должно быть, удалось устроиться как следует: он делает ритмичные толчки, сопровождаемые шумным выдохом, почти что криком. Самкины передние конечности распластаны, и зад от этого приподнят. Самец трясет над нею лапами, вытягивает шею, тянется вперед раскрытым ртом. За панцирь, как ни бейся, не ухватишься; впрочем, такие лапы не способны уцепиться ни за что.
Но вот она пустилась прочь, самец за ней. Нельзя сказать, чтобы она была проворней или же полна решимости удрать. Он, дабы удержать ее, покусывает иногда одну из ее лап; она не протестует. Стоит ей остановиться, он пытается ее покрыть, однако она делает шажок, и он, свалившись, ударяется о землю члеником – довольно длинным, крючковидным; кажется, таким он сможет до нее добраться даже несмотря на толщину их панцирей и неудачную позицию. Поэтому неясно, сколько из подобных натисков закончится успехом, сколько – неудачей, сколько просто-напросто игра, спектакль.
Лето, дворик гол, только в углу зеленеет куст жасмина. Ухаживание состоит в неоднократном огибании лужайки с преследованием, бегствами и стычками – не лапами, а панцирями, глуховато ударяющимися друг о друга. Самка силится протиснуться между ветвей жасмина. Она уверена, – а может, хочет убедить, – что прячется; на самом деле нет вернее способа быть пойманной самцом и не иметь надежды на побег. Теперь он мог бы должным образом ввести свой член, но оба замерли и звуков никаких не издают.
Что ощущают, спариваясь, черепахи, синьору Паломару невдомек. Он следит за ними с бесстрастным интересом, будто за двумя машинами, двумя запрограммированными на случку электронными животными. Что может представлять собою эрос, если вместо кожи – покров из костяных пластин и роговых чешуек? Но ведь то, что мы обозначаем этим словом, тоже есть программа наших тел, – программа большей сложности, поскольку наша память собирает все сигналы, приходящие от каждой клетки кожи, каждой из молекул наших тканей, и умножает их, соединяя с импульсами, посылаемыми зрением и порожденными воображением. Различно лишь число каналов: от человеческих рецепторов отходят миллиарды нитей, связанных с компьютером, который управляет чувствами, взаимоотношениями, узами между людьми... Эрос есть не что иное, как программа, выполняемая хитроумной электроникой ума, но ум – это еще и кожа, к которой прикасаешься, разглядываешь, вспоминаешь. А как же черепахи в их бесчувственных футлярах? Может, недостаток стимулов их органов чувств вынуждает напряженно и сосредоточенно работать умы, что позволяет им до тонкостей познать себя... Может быть, их эросом управляют абсолютные духовные законы, между тем как мы все – пленники загадочного механизма, способного внезапно засориться, отказать, переключиться в бесконтрольный автоматический режим...
Может, сами черепахи понимают себя лучше? Минут примерно через десять панцири их разделяются. Самка, а за ней самец опять пускаются вокруг газона. Он держится теперь чуть дальше, временами шлепает ее по панцирю, налегает на нее слегка, не слишком-то уверенно. Они опять оказываются под жасмином. Он покусывает ее лапу – в том же самом месте.
Посвист дрозда
Синьору Паломару повезло: в краю, где он проводит лето, много птиц. Пока, устроившись в шезлонге, он «работает» (на самом деле повезло ему и в том, что он «работает» в таких местах и позах, которые скорее вызывают мысль о полном расслаблении; вернее, ему выпало несчастье чувствовать себя не вправе не работать даже августовским утром, растянувшись под деревьями в шезлонге), скрытые листвою птицы демонстрируют свой разнообразный репертуар, так что Паломар находится в прерывистом, сумбурном, колком акустическом пространстве, где звуки, между тем, пребывают в равновесии, не выделяются ни громкостью, ни частотой, их сплетение образует однородную материю, целостность которой обуславливает не гармония, а легкость и прозрачность, пока в разгар жары в воздухе единовластно не воцаряются цикады, методично наполняющие время и пространство непрестанным грохотом.
Пение разных птиц он слушает с неодинаковым вниманием: то почти его не замечая и расценивая как один из элементов тишины, а то сосредоточенно пытаясь различить отдельные манеры, группируя их по степени сложности: одиночное чириканье, трели из двух нот – коротенькой и длинной, энергичное посвистывание дрозда, щелканье, каскады плавно нисходящих звуков, завитушки модуляций и, наконец, рулады.
Паломар способен только на такую общую классификацию: он не из тех, кто различает птиц по голосам, и чувствует себя слегка виноватым. Добываемые человеком новые познания не возмещают тех, что передаются из уст в уста и, раз утраченные, никогда уже не будут восстановлены и переданы дальше: никакая книга не способна научить тому, что ты запомнишь с детства, если будешь вслушиваться в пение птиц, приглядываться к их полету, а с тобою рядом будет человек, который точно знает их имена. Паломар же культу точных классификаций и номенклатур когда-то предпочел бесконечную погоню за сомнительной точностью определений переменчивого, переливчатого, многосложного – короче, неопределимого. Сейчас бы он сделал противоположный выбор, и раздумья, вызванные птичьим пением, приводят Паломара к заключению, что жизнь его есть череда упущенных возможностей.
Среди голосов пернатых выделяется посвист дрозда – его не спутаешь ни с чьим. Появляются дрозды под вечер – двое, без сомнения, чета, быть может, та же, что и год назад, и прежде в эту пору. Каждый день, заслышав две призывных ноты, – так обычно сообщают о своем приходе люди, – Паломар оглядывается, ища того, кто подал звук, и вспоминает: это час дроздов. И впрямь, вышагивают по поляне, будто истинное их призвание – быть наземными двуногими, и они забавы ради подчеркивают свое сходство с человеком.
Посвист дроздов своеобразен: кажется, свистит какой-то человек, который в этом деле не мастак, но у которого нашелся славный повод посвистеть, в дальнейшем этого он делать не намерен, а сейчас свистит решительно, но скромно и приветливо – так, чтоб наверняка снискать расположение тех, кто этот свист услышит.
Вскоре посвист раздается снова, голос подает тот самый дрозд или его супруга, но так, будто бы свистит впервые; если это диалог, то каждой реплике предшествуют довольно долгие раздумья. Только диалог ли это, или, может, каждый из дроздов свистит не для другого, а просто для себя? Так или иначе, это вопросы и ответы (обращенные к другому или к самому себе), или свистящий подтверждает нечто неизменное (к примеру, свое присутствие на данной территории, видовую и половую принадлежность)? Или ценность этого единственного слова – в том, что оно же раздается из второго клюва, что не забывается за время паузы?
А может, суть их разговора в том, чтобы друг другу сообщать: «Я здесь!», а продолжительность молчания добавляет к этой фразе смысл «еще»: «Я здесь еще, это еще раз я». А если смысл сообщения вообще не в свисте, а в молчании? Быть может, разговор их состоит из пауз? (Свист тогда – лишь пунктуационный знак, сигнал, оповещающий о переходе на прием.) Паузы, как будто одинаковые, могут выражать на самом деле массу смыслов – впрочем, как и посвист; можно разговаривать и молча, и посвистывая, главное – друг друга понимать. А может быть, никто из них другого и не понимает: каждый думает, что свистом выразил он нечто важное, но это важно лишь ему, и то, что слышит он в ответ, к его высказыванию отношения не имеет; это диалог глухих, беседа без начала и конца.
А человеческие разговоры что, иные? В этом же саду неподалеку занята поливкой вероник синьора Паломар. «Вон они!» – слова излишние, если супруг уже глядит на птиц, а если он еще их не заметил, непонятные, но так или иначе призванные утвердить приоритет супруги в наблюдении за пернатыми (поскольку первой их увидела и рассказала мужу о привычках птиц она) и подчеркнуть неотвратимость появления дроздов, свидетельницей коего она уже бывала столько раз.
– Тс-с! – произносит Паломар, как будто опасаясь, что жена спугнет дроздов (призыв напрасный – чета уже привыкла и к присутствию, и к голосам супругов Паломар), а на самом деле для того, чтобы оспорить якобы особые права жены, демонстрируя гораздо большую заботу о дроздах.
Тогда синьора Паломар бросает: «Высохла еще вчера» – про землю на газоне; бесполезное, по сути, сообщение на другую тему, сделанное в продолжение разговора, призвано свидетельствовать о гораздо большей близости, о более непринужденных, чем у мужа, отношениях с дроздами. Так или иначе, реплики жены приводят Паломара к выводу, что в целом все спокойно, и за это он ей благодарен: раз супруга подтверждает, что на сей момент нет более серьезных поводов для беспокойства, то, значит, он и дальше может отдаваться целиком своей работе (псевдо– или гипер-). Спустя минуту он также пробует послать супруге ободряющую весть – сообщить ей, что его работа (инфра– или ультра-) двигается как обычно; с этой целью он, пыхтя, бормочет: «Прямо как назло... и после стольких... все сначала... да уж черта с два...» – что в совокупности должно к тому же выразить: «Я очень занят» – на тот случай, если вдруг последние слова жены содержат завуалированный упрек – что-то вроде: «Мог бы тоже хоть немного поучаствовать в поливке сада».
Такой обмен словами подразумевает, что царящее между супругами согласие позволяет понимать друг друга и без уточнения всех подробностей; однако принцип этот применяется ими по-разному: синьора изъясняется законченными фразами, нередко содержащими намек или загадку – дабы испытать супруга на сообразительность и выяснить, насколько мысли их созвучны (что бывает не всегда); в свою очередь, Паломар из тумана внутреннего монолога выпускает лишь отдельные отчетливые звуки, надеясь ими если и не выразить весь смысл, то во всяком случае хотя бы передать нюансы состояния своей души.
Но синьора Паломар не хочет воспринимать его бурчание как речь и, показывая, что не слушает, тихонько произносит: «Тс-с!.. Спугнешь их...» – адресуя мужу тот призыв, с которым он намеревался обратиться к ней, и вновь подтверждая, что внимательней к дроздам она.
Зачтя очко себе в актив, синьора Паломар уходит. Дрозды поклевывают что-то на лугу, наверняка считая разговоры Паломаров равнозначными их собственному свисту. «Будто мы и впрямь свистим, и все». Тут размышления синьора Паломара, для которого разрыв между поведением людей и окружающим миром был всегда источником тревоги, обретают многообещающую перспективу. В тождественности свиста человека и дрозда он видит мостик через пропасть. Если б человек высвистывал все то, что ныне доверяет он словам, а дрозд посредством модуляций свиста выразил все, до сих пор невысказанное о себе как представителе живой природы, то тем самым был бы сделан первый шаг на пути преодоления разрыва между... между чем и чем? Природой и цивилизацией? Молчанием и словом? Паломар всегда надеялся: молчание содержит нечто большее, чем может выразить язык. А вдруг язык на самом деле – результат, к которому стремится все живое? Или все живое испокон веков – язык? Синьору Паломару опять становится тревожно.
Внимательно выслушав посвист дрозда, он делает попытку повторить его. За этим следует недоуменное молчание, как будто сообщение Паломара требует внимательного изучения; потом опять звучит такой же свист, и Паломар не разберет, ответ ли это ему или знак того, что он свистел совсем иначе и дрозды, не обратив внимания, просто продолжают разговор.
Так и пересвистываются дрозды и Паломар, недоуменно отвечая на вопрос вопросом.
Бесконечный луг
Дом синьора Паломара окружает луг. Для луга это место неестественное, значит, он – явление искусственное, хоть составлен из естественных травинок. Назначение его – изображать природу, что и происходит в результате замещения подлинной природы этих мест такой, которая вообще естественна, но здесь является искусственной. Обходится она недешево: травы надо сеять, поливать, подкармливать, уничтожать насекомых, косить, и требует все это нескончаемых расходов и трудов.
На лугу растут дикондра, мятлик, клевер. Их семенами, смешанными в одинаковых долях, и был засеян весь участок. Низенькая стелющаяся дикондра вскоре одержала верх: ковер из круглых мягких листиков ее, приятный и для взгляда, и для ног, становится все шире. Однако пышность придают лужайке остренькие пики мятлика – там, где они не слишком редки, и к тому же если вовремя их подстригать. Всходы клевера располагаются неравномерно: тут два пучка, там ни одного, а дальше – море; растет он буйно – до тех пор, пока не начинает поникать под тяжестью винтообразных листьев, которые сгибают нежный стебелек в дугу. Трясется и грохочет, приступая к пострижению, косилка; в воздухе разносится пьянящий запах свежего сена; выровненная трава как будто возвращается в свой колкий нежный возраст, но укусы лезвий выявляют прожелть, плешины, редину.
Приличный луг обязан представлять собою изумрудного оттенка гладь; такого неестественного результата добиваются вполне естественно природные луга. А здесь при тщательном осмотре выясняется, куда вертящаяся струйка дождевальной установки не доходит, где она, напротив, хлещет так, что загнивают корешки, а где нормальная поливка идет на пользу сорнякам.
Паломар, присев на корточки, выпалывает сорняки. У основания одуванчика – розетка из плотно друг на друга налегающих зубчатых листьев; если потянуть за стебель, он оказывается в руке, а корни остаются в грунте. Нужно захватить рукою все растение и полегоньку расшатывать его, высвобождая корешки с налипшими комочками земли и неказистыми травинками, полузадушенными беззастенчивым соседом, а потом забросить чужака туда, где он не сможет ни укорениться, ни рассеять семена. Взявшись выкорчевывать один сорняк, сейчас же замечаешь, что невдалеке возник другой, а там еще один, еще... Короче говоря, полоска травянистого ковра, как будто требовавшая лишь небольшой подчистки, на самом деле – форменные джунгли, где царит полнейший произвол.
Стало быть, сплошные сорняки? Нет, хуже: сорная трава так тесно перемешана с хорошей, что просто запустить в них руки и тянуть нельзя. Кажется, культурные растения вступили в сговор с дикорастущими, сломав сословные барьеры, смирились со своим упадком. Некоторые из диких сами по себе отнюдь не производят впечатления ни зловредных, ни коварных. Отчего же не причислить их к полноправным обитателям лужайки, не ввести в сообщество культурных трав? Вот так вот и приводят в запустение английские газоны, понемногу превращая их в бесхозные лужки! «Когда-нибудь, наверное, и я решусь на это», – думает он, чувствуя, однако, что задета будет его честь. В глаза бросаются цикорий, огуречная трава. Он выдергивает их с корнем.
Конечно, дергая по штучке тут и там, проблему не решить. Пожалуй, надо сделать вот что, рассуждает Паломар: выделить один квадратный метр и не оставить на нем ни малейшего следа каких-либо растений, кроме мятлика, дикондры или клевера. Потом приняться за другой квадратный метр. А может быть, еще позаниматься первым, образцовым? Установить количество травинок, виды трав, их густоту, распределение. На основании подсчетов можно будет сделать статистическое описание лужайки, а затем...
Впрочем, считать травинки мало толку – точно все равно не подсчитать. Четкой границы у лужайки нет, есть край, где травяной ковер кончается, но все равно и дальше пробиваются отдельные былинки; затем идет клочок, поросший густо, снова полоса пореже – продолжение луга? С другого края вклинился подлесок – где лужайка, где уже кустарник? Но и там, где ничего другого не растет, поди пойми, когда остановиться в счете: между всякими двумя травинками отыщется едва проклюнувшийся листик с корнем, представляющим собой почти невидимый белесый волосок; минуту-две назад им можно было пренебречь, но вскоре надо будет и его принять в расчет. Тем временем другие две травинки, только лишь чуть тронутые желтизной, теперь уже совсем увяли и в счет не идут. К тому же есть неполные, обрезанные посредине или у земли, разорванные вдоль прожилок листики-калеки... Целых эти дроби в сумме не дают, а так и остаются жертвами увечий – где еще живые, где уже кашица, гумус, пища для других растений...
Луг – это множество различных трав, – вот так, пожалуй, надо подходить к проблеме, – содержащее подмножества культурных и дикорастущих – сорняков; пересечение этих подмножеств составляют травы, что хоть и взошли стихийно, но относятся к культурным и от них неотличимы. В свою очередь подмножества содержат виды, каждый из которых сам подмножество, точнее, множество, включающее два подмножества: растущих на лугу синьора Паломара трав и не растущих там. Ветер, дунув, поднимает в воздух семена, пыльцу, и отношения между множествами путаются...
Мысли Паломара устремляются уже в иное русло: что мы видим: луг или травинку плюс травинку плюс травинку?.. Когда мы говорим, что «видим луг», то речь идет о восприятии наших несовершенных, грубоватых чувств, ведь на самом деле все множества суть совокупности отдельных элементов. Не стоит их считать, не важно их число, а важно, бросив взгляд, суметь увидеть каждое растеньице, его особенности и отличия. Уметь его не только видеть, но и мысленно представить. Мысленно нарисовать не «луг», а черешок с двумя листками клевера, слегка поникший лист-копье, изящную метелочку...
Паломар отвлекся, не полет больше сорняков, мысли его занимает теперь не луг – вселенная. Он примеряет к ней все то, что думал про лужайку. Вселенная как регулярный, упорядоченный космос или хаотичная пролиферация...[1] Как, может быть, конечный, но неисчислимый мир с подвижными границами, в котором открываются другие миры... Вселенная – множество небесных тел, туманностей, мельчайшей пыли, силовых полей и их пересечений, множество разнообразных множеств...
ПАЛОМАР ГЛЯДИТ НА НЕБО
Дневная луна
Никто не смотрит на луну средь бела дня, когда наш интерес ей нужен больше, так как ее бытие пока еще проблематично. Выглядит она белесой тенью на залитом солнцем ярко-синем небе; где гарантия, что и на этот раз удастся ей предстать в своей обычной форме, засветиться? Луна хрупка, бледна, тонка; с одной лишь стороны стал понемногу обрисовываться четкий серповидный контур, остальное все еще пронизано лазурью. Она похожа на прозрачную просфору или полурастворенную таблетку, но кружок ее не тает, белизна его, наоборот, становится насыщенней за счет сгущающихся серо-голубых теней и пятен, о которых трудно заключить, черты ли это географии луны, или, быть может, заусенцы небосвода, проступающие через этот пористый, как губка, спутник.
Небо в эту пору еще очень плотное, компактное, и не вполне понятно, то ли белесый этот круг, на вид чуть тверже облака, отъединяется от его сплошной тугой поверхности, то ли, напротив, происходит разрушение основы, разъедание небосвода, и сквозь брешь проглядывает находящееся позади ничто. Сомнения усугубляет и неправильность фигуры: та сторона ее, которая сильней освещена клонящимся к закату солнцем, делается все объемнее; другая медлит, оставаясь в полутьме. Граница между зонами нечеткая, и кажется, что видим мы не тело в перспективе, а скорее календарную картинку – белый силуэт на фоне темного кружка. И был бы это месяц в первой четверти, а то ведь полная, или почти, луна, что делается все ясней по мере усиления контраста между небом и луною и все более четкой обрисовки ее окружности с едва заметными щербинками с восточной стороны.
Тем временем лазурный цвет небес сменился сперва барвинковым, затем лиловым (когда солнце покраснело), после – пепельным и темно-серым, белизна луны же проступала все решительнее, а светящаяся часть ее росла, покуда не заполнила весь диск. Как будто бы все фазы, от серпа до диска, проходимые луной за месяц, сменились за часы, прошедшие между ее восходом и заходом, с той лишь разницей, что крут весь так или иначе оставался постоянно на виду. На нем по-прежнему есть пятна, более того, их тени все сильнее контрастируют с лучистым фоном, но теперь уж нет сомнения, что это пятна на луне, подобие кровоподтеков или синяков, которые не примешь за сквозящий задник небосвода или дыры в мантии бесплотной, призрачной луны.
Так и непонятно, отчего она становится все более заметной и (признаем это!) яркой: или небо постепенно отделяется и погружается во тьму, или, быть может, приближается она сама, вбирая свет, разлитый в небе, в круглое отверстие своей воронки.
Но главное, все эти перемены не должны заставить нас забыть: луна тем временем перемещается по небосводу к западу и вверх. Самое изменчивое тело видимой Вселенной отличается необычайной верностью своим затейливым обычаям: она всегда приходит на свиданье, ее можно подстеречь, но, расставаясь с ней в каком-то месте, обнаруживаешь ты луну всегда в другом, и видишь, что она к тому же изменила позу – чуточку или совсем. Однако даже если неотступно следовать за ней, то все равно не замечаешь, что она неуловимо ускользает. Только облака рождают впечатление ее бега и мгновенных превращений, как бы выявляя то, чего бы не приметил взгляд.
Вот пробегает облако, из серого оно становится молочным, светится на почерневшем небе, воцарилась ночь, сверкают звезды, и луна – большое ослепительное зеркало. Ну, можно ли узнать в ней ту, какой она была лишь несколько часов назад? Озеро свечения, она разбрызгивает во все стороны свои лучи, выплескивается во тьму холодным серебристым ореолом, заливает белым светом улицы, которыми бредут лунатики.
Теперь сомнений нет: это начало ясной зимней ночи полнолуния. Уверившись, что больше он луне не нужен, Паломар идет домой.
Глаз и планеты
Паломар, узнав, что в нынешнем году на протяжении всего апреля три «верхние» планеты, видимые невооруженным глазом (даже близоруким и астигматическим, как у него), все пребывают «в противостоянии» и, значит, можно наблюдать их вместе целыми ночами, спешит на свой балкон.
На небе полная луна. Марс, расположенный вблизи ее большого, залитого белым светом зеркала, все же властно привлекает к себе взгляд упрямым блеском и насыщенной, густою желтизной, настолько непохожей на оттенки прочих тел, желтеющих на небосводе, что в конце концов договорились, будто бы он красный, а в моменты вдохновения кое-кто его таким и видит.
Если, опуская взгляд, смещать его к востоку по воображаемой дуге от Регула[2] до Спики[3] (каковой почти не видно), сначала встретится вполне отчетливый холодновато-белый Сатурн, затем – достигший пика яркости Юпитер, иззелена-желтый. Окружающие звезды тусклые, за исключением Арктура[4], дерзко блещущего чуть повыше и восточней. Тройное противостояние планет не разглядеть как следует без телескопа. Паломар – возможно, потому, что носит то же имя, что и знаменитая обсерватория, – имеет кое-какие связи среди астрономов и пользуется правом утыкать свой нос в пятнадцатисантиметровый телескоп – довольно слабый для научных изысканий, но куда сильней его очков.
Марс, к примеру, в телескоп оказывается планетой менее решительной, чем представляется при взгляде невооруженным глазом: похоже, ему есть о чем порассказать, но, как из бормотанья, прерываемого кашлем, удается уяснить немногое. Из-под кромки Марса выбивается пунцовое сияние; можно попытаться подоткнуть его, настраивая телескоп при помощи винта, чтобы выступила ледяная корочка на нижнем полюсе; на поверхности планеты появляются и исчезают пятна, напоминающие облака и промежутки между ними; одно, похожее по форме на Австралию, застыло там, где расположен этот континент, и Паломар приходит к заключению, что чем ясней видна эта Австралия, тем объектив точнее наведен на фокус, но тогда теряются другие тени, которые он вроде раньше различал или которые считал необходимым непременно рассмотреть.
Как видно, не напрасно о планете этой Скиаппарелли[5], а за ним другие говорили разное, что заставляло то очаровываться, то разочаровываться – вон как трудно с ней наладить отношения, совсем как с человеком с непростым характером. (Если, конечно, дело не в характере синьора Паломара, который тщетно силится избегнуть субъективности, ищет прибежище среди небесных тел.)
Совсем иные отношения у Паломара складываются с Сатурном, более волнующим при взгляде в телескоп: вот он, чрезвычайной белизны и ясности, с четко очерченными сферой и кольцом; меж ними темная окружность, а на сфере чуть заметны параллельные полоски; больше почти никаких деталей в этот телескоп не разглядеть, он лишь усиливает впечатление геометрической абстракции, и ощущение необычайной удаленности не то что не слабеет, а, наоборот, еще сильнее, чем при взгляде невооруженным глазом.
Оттого что в небе обращается предмет, так не похожий на другие, – форма в высшей степени своеобразная, и при этом столь незамысловатая, правильная и гармоничная, – жить и мыслить веселей.
«Если бы древние могли его увидеть так, как вижу я сейчас, они бы думали, что устремляют взгляды в небеса идей Платона, в нематериальное евклидово пространство, – размышляет Паломар, – но неизвестно почему картина эта предстает передо мной, а я боюсь: слишком ух она красива, чтобы быть при этом настоящей, слишком сообразна миру моего воображения, чтоб принадлежать реальности. Но, может быть, такое недоверие к ощущениям и мешает людям чувствовать себя вольготно во Вселенной? Может, первое, что нужно взять себе за правило, – верить собственным глазам?»
Кажется, будто теперь кольцо покачивается, а может, не оно, а шар внутри него, и оба – и планета, и кольцо – вращаются вокруг своей оси; в действительности это двигается голова синьора Паломара, который поневоле выгибает шею, прикладываясь глазом к окуляру; но он старается не допустить опровержения иллюзии, соответствующей его ожиданиям и истинному положению вещей.
Сатурн и в самом деле так устроен. После экспедиции «Вояджера-2» Паломар следил за всеми сообщениями о кольцах: будто состоят они из крошечных частиц, будто бы их составляют плавающие в пространстве ледяные глыбы, будто в бороздах меж кольцами вращаются вокруг Сатурна спутники, тесня материю и уплотняя ее по краям колец, – как овчарки, обегающие стадо, чтоб оно не разбредалось; не пропустил он и того открытия, что кольца переплетены, позднее – распадения их на обычные круги, гораздо меньшей толщины, затем обнаружения мутных, расположенных подобно спицам в колесе полос – как позже было установлено, заледенелых облаков. Однако новые известия не изменяют основной фигуры, остающейся такой, какой ее увидел первым в 1676 году Джан Доменико Кассини[6], открывший промежуток между кольцами, который и носит его имя.
Естественно, при подобном положении вещей усердный Паломар не мог не справиться в энциклопедиях и руководствах. И теперь эта планета, всякий раз иная, заставляет его вновь испытывать изумление первооткрывателя и сожаление, что Галилей с его разлаженной подзорною трубой сумел составить себе о Сатурне лишь смутное понятие, будто там не то три тела, не то сфера с парой ручек, и когда был уже близок к постижению его устройства, зрение не выдержало – все объяла тьма.
Слишком долго наблюдать светящееся тело утомительно для глаз; Паломар зажмуривается, а после устремляет взгляд свой на Юпитер.
Эта величавая, но не тяжеловесная громада щеголяет двумя протянувшимися вдоль экватора переплетенными зеленовато-голубыми полосами, похожими на вышитый на поясе узор. Последствия ужасных атмосферных бурь там претворяются в спокойный правильный рисунок, гармоничный и искусный. Но поистине роскошной делают великолепную планету спутники: они выстроились по наклонной линии, все четыре, и сейчас похожи на сверкающий драгоценностями жезл.
Обнаруженные Галилеем, который назвал их Medicea siderea – «звезды Медичи», и вскоре окрещенные голландским астрономом именами из Овидия – Европа, Ио, Ганимед, Каллисто, – эти планетки словно шлют нам свет последней вспышки неоплатонизма Возрождения, не ведая, что тот, кому они обязаны своим открытием, разрушил непоколебимый строй небесных сфер.
Юпитер весь овеян ореолом грез античности, и Паломар, припавший к телескопу, так и ждет, что преобразится в олимпийца. Но изображение теряет четкость, и приходится хоть ненадолго закрывать глаза, дабы вернуть ослепшему зрачку способность ясно видеть контуры, цвети и тени, а также для того, чтобы воображение занималось своим делом и не прибегало к сведениям, почерпнутым из книг.
Если верно, что воображение восполняет недостатки зрения, то оно должно быть непосредственным и моментальным, как дающий ему стимул взгляд. Какое первое сравнение пришло на ум, но было им отвергнуто как неуместное? Планета с вереницей спутников привиделась ему глубоководной круглой рыбой, светящейся и полосатой, из жабр которой поднимались пузырьки...
Следующей ночью Паломар опять выходит на балкон, чтобы обозреть планеты невооруженным глазом; существенная разница в том, что на сей раз он вынужден соразмерять дистанции между планетой, прочими рассыпанными в темноте небесными телами и собою, наблюдателем, – чего не происходит, если он устраивает себе встречу якобы лицом к лицу с отдельною планетой, наведя объектив на фокус. Одновременно он припоминает все особенности облика рассмотренной минувшим вечером планеты, силясь наложить его на крошечное световое пятнышко, пронзающее небо. Он надеется, что так и в самом деле сможет овладеть планетой, ну, или хотя бы ее частью, которую охватит глаз.
Созерцание звезд
Когда ночи выдаются ясные, Паломар обычно говорит: «Я должен посмотреть на звезды».
Так и говорит: «Я должен», потому что не выносит расточительства и полагает: не использовать толково этакую массу предоставленных в его распоряжение звезд – грешно. И потому еще, что в созерцании звезд не слишком искушен и незатейливое это дело неизменно стоит ему напряжения.
Первая проблема – отыскать такое место вдалеке от электричества, откуда он окидывал бы взглядом беспрепятственно все небо – например, пустынный пляж на низком побережье моря.
Другое непременное условие – иметь с собой астрономическую карту, без которой Паломар не знал бы, что же предстает перед его глазами; но каждый раз он забывает, как ее располагать, и вынужден сначала тратить добрых полчаса на изучение карты. Чтобы разобраться с нею в темноте, приходится носить с собой фонарик. Частые сравнения неба с картой заставляют Паломара то и дело зажигать его и вновь гасить, при смене света мраком он почти теряет зрение и должен ждать, пока глаза привыкнут.
Пользуйся он телескопом, в некоторых отношениях все было бы сложней, в других же проще, но пока он хочет наблюдать за небом невооруженным глазом, как мореплаватели древности и пастухи-кочевники. «Невооруженным» значит для него, страдающего близорукостью, «вооруженным лишь очками», но поскольку карту он читает без очков, то всякий раз, когда он поднимает их на лоб и когда водворяет на нос, требуется несколько секунд, чтобы хрусталик Паломара снова с должной резкостью увидел звезды – то настоящие, то нарисованные. Их названия написаны черным по синему, так что разобрать их можно, только поднеся фонарик к самому листу. Переводя взгляд на небо, он видит черноту в смутных проблесках; лишь постепенно звезды, замирая, складываются в определенные рисунки, и чем дольше смотрит он, тем больше различает их.
Следует добавить, что карт ему необходимо две, вернее, четыре: одна изображает в самом общем виде небо в этом месяце, отдельно Северное полушарие и Южное; другая, куда более подробная, на длинной полосе воспроизводит все созвездия, которые проходят за год в серединной части неба по обе стороны от горизонта, а на круге, прилагаемом к полосе, – те, что расположены на куполе небесной сферы, окружающем Полярную звезду. Короче говоря, определение положения светила требует соотнесения небосвода с несколькими схемами, что означает каждый раз: надеть и снова снять очки, зажечь и погасить фонарик, развернуть и вновь сложить большую карту, потерять и снова отыскать ориентиры.
С тех пор как Паломар в последний раз глядел на звезды, минули недели или даже месяцы, и небо совершенно изменилось; Большая Медведица теперь, в разгаре августа, видна на северо-востоке – прилегла, свернувшись чуть ли не клубочком, на ветвях деревьев; Арктур снижается отвесно над холмом и тащит за собой весь север Волопаса; точно на востоке виден блеск высокой одинокой Веги; раз там Вега, значит, здесь, над морем, Альтаир, а там вон из зенита шлет холодный луч Денеб.
Этой ночью в небе звезд гораздо больше, чем на любой из карт; запечатленные на схеме очертания в реальности сложней и не такие четкие; тот треугольник или ломаную линию, которые ты ищешь, может содержать любая россыпь звезд, и каждый раз, когда ты поднимаешь на созвездие глаза, оно чуть-чуть меняется.
При опознании созвездия решающим критерием является его реакция на зов. Гораздо убедительней, чем соответствие действительных фигур и расстояний их обозначению на карте, отношение огненной точки к имени, которым она названа, ее готовность слиться с ним, отождествиться. Нам, чуждым всякой мифологии, их названия кажутся несообразными и произвольными; однако они явно не взаимозаменимы. Если Паломар определил название правильно, он понимает это по тому, что существование светила сразу начинает представляться бесспорным и необходимым; если нет – звезда теряет приписанное ей имя через несколько секунд, как будто бы стряхивает его, и вот уж неизвестно, где она располагалась и вообще что это за светило.
Не раз случалось Паломару ту или иную стаю звезд, сверкающую где-нибудь недалеко от Змееносца, счесть Волосами Вероники – дорогим ему созвездием; но он не ощущает трепета, с которым их обычно узнавал – роскошные и легкие. Не сразу вспоминается ему, что в это время года их не видно.
Значительная часть небес покрыта светлыми полосками и пятнами; Млечный Путь с приходом августа густеет и как будто разливается; мрак в это время так разбавлен светом, что пропадает впечатление черной бездны с выделяющимися на ее фоне звездами, все – будто на одном и том же плане: и мерцание, и серебристое облако, и тьма.
Где же та геометрическая четкость звездного пространства, к которой столько раз испытывал потребность обратиться Паломар, чтоб оторваться от земли, где столько лишних осложнений, все так приблизительно и смутно? Когда он наконец оказывается лицом к лицу со звездным небом, все куда-то ускользает... Даже то, что вроде бы он чувствовал с особой остротой, – сколь мал наш мир в сравнении с бескрайними пространствами, – не так уж очевидно. Небесная сфера где-то наверху, она видна, но составить представление о ее масштабах или дальности нельзя.
Поскольку излучающие свет тела вселяют неуверенность, то остается доверяться только тьме, пустым участкам неба. Есть ли что-то постоянней, нежели ничто? Однако и ничто уверенности стопроцентной не дает. Завидев в небесах прогалину, чернеющую брешь, он вглядывается в нее так пристально, что, кажется, проваливается туда, вот уже и там как будто возникла светлая крупинка, пятнышко, веснушка, но он не знает, существуют ли они на самом деле или просто ему чудятся. Возможно, это проблеск вроде мушек, вьющихся перед закрытыми глазами (темный небосвод подобен обороту бороздимых ими век), возможно, отсвет Паломаровых очков, но может статься также, неизвестная звезда, возникшая из бездны.
Такое наблюдение приносит ненадежные и противоречивые познания, – рассуждает Паломар, – нисколько не похожие на те, какие добывали древние. Не потому ли, что общенье с небом у него нерегулярное и возбужденное, а не вошло в спокойную привычку? Примись он созерцать созвездия из ночи в ночь, из года в год, следить за их периодическим движением по округлым колеям окутанного тьмою свода, может, и к нему в конце концов пришло бы ощущение непрерывного и неизменного течения времени, не связанного с быстротечным, фрагментарным временем земных событий. Но довольно ли для этого внимательного наблюдения за обращением светил? И не важней ли внутреннее превращение Пало-мара, допустить которое готов он лишь теоретически, будучи не в силах представить ощутимого его влияния на свои эмоции, на ритм мышления?
Мифологические знания о звездах доходят до него лишь блеклым отсветом, научные – лишь отголосками, через газеты; тому, что знает, он не доверяет, то, чего не знает, повергает Паломара в беспокойство. Удрученный, неуверенный, он нервничает над астрономическими картами, будто лихорадочно просматривает в поисках удобной пересадки расписание движения поездов.
Вот прочертила в небе борозду горящая стрела. Наверно, метеор. Как раз в эти ночи больше падающих звезд. А впрочем, может быть, и огоньки какого-нибудь рейсового самолета. Взгляд синьора Паломара бдителен, готов к любым явлениям, беспристрастен.
Он сидит в шезлонге на темном пляже уже полчаса, изгибаясь то к северу, то к югу, временами зажигая лампочку, поднося под нос разложенные на коленях карты; потом запрокидывает голову и снова начинает наблюдение, взяв за ориентир Полярную Звезду.
По песку бесшумно скользят тени; от дюны отделяются влюбленные, ночной любитель рыбной ловли, лодочник, таможенник. Услышав шепот, Паломар оглядывается. Кучка любопытных, стоя в нескольких шагах, наблюдает за его движениями, как за конвульсиями психически больного.
ПАЛОМАР В ГОРОДЕ
ПАЛОМАР НА ВЕРАНДЕ
С веранды
Кыш! Кыш! – Паломар торопится прогнать с веранды голубей, которые там лакомятся листьями гадзании, дырявя клювами ее мясистые растения, вцепляются в каскады колокольчиков, ощипывают ежевику, склевывают листики петрушки в ящике напротив кухни, роются в вазонах, выворачивая землю и оголяя корни, будто специально, чтобы все здесь разорить. Тех голубей, которые своим порханием оживляли площади, сменили дегенеративные разносчики заразы, племя не домашнее, не дикое, а как бы неотъемлемая часть общественных установлений и поэтому неистребимое. Несметное число этих люмпен-пернатых уже давно властвует над римским небом, осложняя жизнь прочих птиц и подавляя некогда свободное изменчивое царство воздуха своим облезлым монотонным оперением, отливающим свинцом.
Теснимый полчищами крыс, кишащих под землей, и грузным лётом голубей, древний город позволяет разрушать себя как снизу, так и с воздуха, сопротивляясь им не больше, чем когда-то варварам, как будто признавая: это не нашествие врагов извне, а проявление самых темных импульсов, искони свойственных его натуре.
Но у города есть и другие души; одна из них живет согласием, что царит между старыми камнями и все время обновляющейся зеленью, которые вовсе друг другу не мешают наслаждаться милостями солнца. Используя свое расположение в таком местечке – или благосклонность духа этих мест, – веранда Паломаров, потаенный островок над крышами, мечтает под своим живым навесом повторить великолепие садов Семирамиды.
Богатая растительность веранды отвечает вкусам всей семьи, но ежели синьора Паломар вполне естественно перенесла на нее свойственное ей внимание к вещам, которые она когда-то облюбовывала и приобретала, так как чувствовала с ними внутреннюю близость, и которые составили ансамбль с многочисленными вариациями – некое собранье символов, то другие Паломары лишены такого свойства: дочка – поскольку молодежь не может, да и не должна сосредоточивать свое внимание на том, что рядом, а интересуется лишь тем, что далеко, супруг – поскольку слишком поздно смог избавиться от юношеского нетерпения и осознать (но лишь теоретически): спасение только в приложении усилий к реально существующим вещам.
Заботы садовода, для которого важны конкретное растение, конкретная делянка, освещаемая солнцем в определенные часы, конкретное заболеванье листьев, с коим нужно вовремя конкретным способом вести борьбу, чужды разуму, работающему индустриальным методом, то есть склонному к принятию решений, руководствуясь общей постановкой проблемы и моделью. Обнаружив, сколь расплывчаты и неминуемо ошибочны критерии, бытующие в мире, от которого он ждал универсальных, точных, Паломар понемногу снова принялся строить отношения со внешним миром, ограничиваясь наблюдением за видимыми формами; но поскольку он стал уже таким, какой он есть, соприкосновение его с конкретными вещами оставалось все равно прерывистым и мимолетным, как у людей, которые как будто постоянно напряженно думают о чем-то, чего на самом деле и не существует. Процветанию веранды он способствует, – кыш! кыш! – гоняя временами голубей, когда в нем пробуждается дремавший в глубине души атавистический инстинкт защиты территории.
Птиц прочих видов Паломар не гоняет, а, напротив, привечает, игнорируя ущерб, который могут нанести их клювы, поскольку видит в них посланцев благорасположенных божеств. Визиты их, однако, редки: подлетает иногда патруль из воронов, рассыпавшись по небу смоляными пятнышками и распространяя (ведь меняется с веками и язык богов) ощущение жизни и веселья. Было несколько дроздов, живых и грациозных, как-то – коноплянка, ну, и воробьи, в своей обычной роли малопримечательных прохожих. Присутствие над городом других пернатых замечаешь издали: осеннею порою эскадрильи перелетных птиц, а летом – выполняющих фигурные полеты ласточек и каменных стрижей. Иной раз долетают до черепичных волн чайки, загребая воздух длинными своими крыльями, – возможно, двигаясь от речного устья вдоль излучин вверх, сбиваются с пути, а может быть, подыскивают место для свершенья брачного обряда, – и морские крики их сливаются с шумами города.
Веранда расположена двумя уступами: с террасы – бельведера – открывается нагромождение крыш, поверх которых Паломар скользит как будто птичьим взглядом. Он старается представить мир, как видят его птицы (под которыми, в отличие от Пал омара, пустота); хотя, возможно, птицы никогда не смотрят вниз, а только, рея под углом к земле, глядят по сторонам, и взгляды их, как и его глаза, везде встречают только крыши, постройки разной высоты, стоящие вплотную, так что ниже заглянуть нельзя. О том, что там, внизу – невидимые улицы и площади, что настоящая земля – на уровне земли, он знает из иного опыта; но по картине, открывающейся перед ним с веранды, заподозрить это невозможно.
Облик города на самом деле и определяют эти перепады крыш, их черепица – старая и новая, рельефная и плоская, изящные или, наоборот, массивные их гребни, навесы из гофрированного этернита[7] и из трубочек – для вьющихся растений, парапеты, балюстрады и пилястры с вазами на них, стальные баки для воды, стеклянные люкарны, слуховые окна и над всеми ними возвышающийся лес антенн – прямых, кривых, эмалированных и ржавых, разных поколений, со всевозможными отростками, рогами и щитами, но при этом неизменно тощих, как скелеты, и внушающих трепет, как тотемы. Разделяясь фьордами пространства, смотрят друг на друга пролетарские веранды, на которых сушится белье и в цинковых тазах произрастают помидоры, веранды обитаемые – со шпалерами из зелени, цепляющейся за деревянные решетки, с садовой мебелью из крашенного белой краской чугуна и свертывающимися в трубки тентами, многоярусные башни с колокольнями в форме колоколов, аттики, надаттики, надстройки – запрещенные и безнаказанные, государственные учреждения анфас и в профиль, леса из полых трубок возле еще строящихся или позабытых недостроенными зданий, огромные задрапированные окна и окошечки уборных, стены цвета охры, цвета жженой сиены, стены цвета плесени, все в трещинах, откуда свешиваются пучки травы, колонны лифтов, шпили церковок с мадоннами и башенки с двух – и трехарочными окнами, скульптурные изображения коней и целые квадриги, развалюхи, бывшие некогда роскошными особняками, развалюхи, перестроенные в холостяцкие квартиры, и купола, которые, куда ни глянь, виднеются на фоне неба, словно подтверждая женскую, юнонину, натуру Рима, – розовые, белые, лиловые в зависимости от поры и освещения, с прожилками нервюр, увенчанные фонарями, на которых высятся другие, маленькие купола.
Но ничего подобного не видит тот, чьи ноги – или чьи колеса – движутся по городским булыжным мостовым. Отсюда же, напротив, кажется: эта поверхность и является земной корой, – неровная, но плотная, хотя изборожденная щелями неизвестной глубины, колодцами, расселинами или, может, кратерами, края коих в перспективе будто наползают друг на друга, как чешуйки у еловой шишки, так что даже не приходит в голову вопрос: а что скрывается внизу, – столь множественно, разнолико и богато зрелище, дарящее уму избыток сведений и смыслов.
Так рассуждают птицы. Так, по крайней мере, рассуждает, представляя себя птицей, Паломар. «Лишь досконально ознакомившись со внешней стороной явлений, – думает он, – можно пробовать проникнуть вглубь. Но внешняя их сторона неисчерпаема».
Брюшко геккона
Этим летом на веранде вновь живет геккон. Исключительное местоположение позволяет Паломару наблюдать его не со спины, как нам привычнее разглядывать всех ящериц, а со стороны брюшка. В гостиной Паломаров есть окно-витрина, которое выходит на веранду, в нем на полках выстроены вазы в стиле «ар нуво»; в вечерние часы их освещает лампа в семьдесят пять ватт. Со стены веранды на наружное стекло витрины свисают голубые веточки свинцовки, и каждый вечер, чуть зажжется свет, геккон, живущий на стене под листьями, переползает на стекло напротив лампочки и замирает, как на солнцепеке. На свет слетается и мошкара, и стоит мошке подлететь поближе, он ее глотает.
В конце концов супруги Паломар перебираются от телевизора к витрине и из комнаты разглядывают светлый силуэт рептилии на темном фоне. Выбрать между телевидением и гекконом им порою нелегко, ведь каждое из зрелищ может предоставить информацию, которой не дает другое: телевидение путешествует по континентам, собирая световые импульсы, отображающие внешнюю сторону явлений, геккон же олицетворяет неподвижную сосредоточенность и скрытый лик, изнанку предстающего глазам.
У геккона удивительные лапы – истинные руки с пальцами-подушечками; прижимая их к стеклу, он держится на нем посредством крошечных присосок; пять пальчиков расходятся, как лепестки цветочков на рисунках малышей, а стоит лапе двинуться, сжимаются, как закрывается цветок, чтобы потом вновь разойтись и распластаться по стеклу, так что покажутся тончайшие бороздки, похожие на отпечатки пальцев. Кажется, будто эти руки, хрупкие, но сильные, достаточно ловки, чтобы – будь они избавлены от надобности прицепляться к вертикальной плоскости – приобрести все свойства человеческих ладоней, ставших, говорят, искусными, когда отпала надобность висеть на ветках или упираться ими в землю.
Согнутые в коленях, а верней сказать, в локтях, гек-коньи лапы пружинят, поднимая тело. Хвост прикасается к стеклу лишь серединной полосой, которая как бы скрепляет череду колец, охватывающих его и превращающих в надежно защищенное и мощное орудие; кажется, по большей части вялый и оцепенелый хвост геккона не способен и не претендует ни на что иное, кроме как служить ему добавочной опорой (не сравнить с изысканно подвижными хвостами других ящериц!), но при необходимости он мгновенно реагирует, становится маневренным и даже выразительным.
Головы не видно, только емкое, подрагивающее горло и выступающие по бокам глаза без век. Горло – внешняя поверхность дряблого мешка, который простирается от твердого и сплошь покрытого чешуйками, как у каймана, края подбородка до белесого брюшка, в том месте, где оно надавливает на стекло, тоже усеянного – вероятно, липкими – крупинками.
Когда рядом с пастью пролетает мошка, язык геккона вылетает и молниеносно втягивает ее внутрь – эластичный и цепкий, не имеющий определенной формы, он способен принимать любую. Паломар, однако, всякий раз не может быть уверен, что на самом деле его видел, но вот сейчас определенно видит в гекконьем горле мошку. Брюшко рептилии, прилепленное к освещенному стеклу, прозрачно, будто бы просвечено рентгеном, и можно проследить за тенью жертвы в пути по поглощающей ее утробе.
Будь все материи прозрачны – и земля, которая нас носит, и оболочки наших тел, – все сущее предстало бы не колыханием неосязаемых вуалей, а преисподней, где безостановочно свершается дробление и поглощение. Может быть, тем временем какое-нибудь божество Аида оком, проницающим гранит, следит из глубины земли за нами, за круговоротом жизни – смерти, наблюдает, как растерзанные жертвы тают в чревах пожирателей, которым также суждено быть поглощенными какой-нибудь другой утробой.
Геккон не движется часами; иногда хлестнет вдруг языком, проглотит мошку или комара; других таких же насекомых, севших по неведению рядом с его пастью, кажется, не замечает. Может, их не различают вертикальные зрачки гекконьих глаз, лежащих по бокам? Или он их выбирает, руководствуясь какими-то мотивами? А может, все решает случай или прихоть?
Расчлененные на звенья хвост и лапы, крошечные зерновидные пластинки, покрывающие голову и брюхо, делают его похожим на какой-то механизм, на разработанную тщательнейшим образом машину, продуманную до мельчайших элементов, так что думаешь: а не напрасно ли, учитывая ограниченность производимых ею операций, это совершенство? Может быть, разгадка такова: он просто сводит к минимуму свои действия, довольный уже тем, что существует? Может быть, геккон преподает урок, противоположный той морали, что стремился в юности усвоить Паломар: всегда стараться хоть чуть-чуть превысить свои возможности ?
Нечаянно оказывается вблизи ночная бабочка. Не обратит внимания? Да нет, хватает и ее. Язык становится сачком и тащит жертву в пасть. Вместилась? Лопнет? Выплюнет ее? Нет, бабочка трепещет в его горле – вся измятая, но еще целая, не поврежденная зубами; протолкнувшись через глотку, тень ее пускается в мучительное, медленное путешествие по вздувшемуся пищеводу.
Геккон, утратив прежнюю невозмутимость, ловит воздух ртом, трясет сведенным горлом, опираясь на хвост, раскачивается, сжимает терпящее муки брюхо. Наверное, на эту ночь с него довольно. Уйдет? Исполнил наивысшее свое желание? А может, добровольно выдержал предельно мыслимое испытание? Нет, остается. Может быть, заснул. Как спится тем, кто не имеет век?
Застыл и Паломар. Он не спускает глаз с геккона. Отдохнуть? Но если снова включишь телевизор, там увидишь бойню пострашнее. Бабочка, хрупкая Эвридика, медленно спускается в свой Ад. Вот подлетает мошка, хочет приземлиться на стекло. Геккон выстреливает языком.
Нашествие скворцов
На исходе этой осени можно видеть в Риме необычную картину: небо, темное от птиц. Веранда Паломара – место, очень подходящее для наблюдения, поскольку взгляду, беспрепятственно парящему над крышами, открыт широкий горизонт. Про этих птиц известно Паломару только то, что довелось ему случайно слышать: это прилетающие с севера скворцы, их собираются здесь сотни тысяч, чтобы двинуться всем вместе к африканским берегам. Ночуют птицы на деревьях, и владельцы тех машин, которые стоят на набережной Тибра, утром вынуждены сверху донизу их мыть.
Где проводят птицы день, какую роль в стратегии миграции играет этот долгий отдых в городе, что значат для скворцов их грандиозные вечерние собрания и это их круженье в воздухе, как на больших маневрах или на параде, Паломар еще не понял. Все предлагаемые объяснения сомнительны, определяются исходными предположениями, допускают варианты – что естественно для слухов, передаваемых из уст в уста, однако и наука, которая должна была бы их оспорить или подтвердить, высказывается туманно, неопределенно. Посему Паломар решил смотреть и все: фиксировать мельчайшие подробности того немногого, что сможет разглядеть, довольствуясь соображениями, непосредственно рожденными увиденным.
Он смотрит, как в сиреневом закатном небе возникает облако мельчайшей пыли. Различает машущие крылья. Обнаруживает, что их тысячи и тысячи, они заполнили весь небосвод. Бескрайнее пространство, прежде вроде безмятежное, пустое, сплошь пронизывают легкие стремительные существа.
Движение перелетных птиц, которое наша генетическая память связывает с гармоничной сменою сезонов, в принципе – успокоительное зрелище. Паломару же оно внушает беспокойство. Может быть, подобное столпотворение в небесах напоминает нам о нарушении равновесия в природе? Или просто нам, лишенным внутренней уверенности, всюду чудится угроза катастрофы?
Думая о перелетных птицах, представляешь бороздящий небо длинною шеренгой или клином четкий сомкнутый полетный строй, который сам напоминает формой птицу, составленную из бессчетных птиц. Но этот образ не имеет отношения к скворцам, по крайней мере к тем, что можно видеть осенью над Римом, представляющим собой воздушную толпу, которая, все кажется, вот-вот начнет редеть, рассеиваться, точно взвешенные в жидкости крупинки порошка, но вместо этого, напротив, постоянно уплотняется, как будто из невидимой трубы все время хлещет вихрь частиц, которые никак не насыщают раствор.
Облако растет, становится темней от крыльев, все отчетливее различимых в небе, – знак того, что птицы приближаются. Их стая Паломару видится уже объемной, так как некоторые из пернатых у него над самой головой, другие – дальше, третьи и совсем вдали, и он все время замечает новых, крошечных, как точки, растянувшихся, наверное, на много километров, соблюдая, – так кажется ему, – между собой примерно одинаковое расстояние. Но впечатление равномерности обманчиво, поскольку нету ничего трудней определения плотности летящих птиц: где было только что черным-черно, глядишь – разверзлась бездна.
Стоит несколько минут понаблюдать за положением птиц по отношению друг к другу, и он чувствует себя как будто бы вплетенным в гладкую сплошную ткань, частицей этого несущегося тела, образованного сотнями и сотнями отдельных тел, меж тем вместе составляющих единую фигуру, как облако, столб дыма или же струя, которые, при всей подвижности их вещества, имеют форму. Но только начинает Паломар следить глазами за одним скворцом, как пересиливает впечатление разъединенности отдельных элементов стаи, и вот уже поток, который словно увлекал его, та сеть, которая его как будто бы удерживала, исчезает, и он ощущает тошноту.
Так происходит, ежели, к примеру, Паломар, удостоверившись, что стая в целом приближается, присматривается к скворцу, который удаляется, потом к другому, тоже улетающему, но в другую сторону, и вскоре замечает: все скворцы, казалось, двигавшиеся к нему, на самом деле разлетаются во все концы, будто находится он в эпицентре взрыва. Но, переведя свой взгляд, он видит: вон где собираются они, вливаясь во все более обширный и густой круговорот, – так притягивает скрытый под бумагою магнит к себе железные опилки, складывая их в узоры, становящиеся то темнее, то светлей, пока не распадутся, на листе оставив просто россыпь.
Наконец нагромождение хлопающих крыльев обретает форму; надвигаясь, она делается все плотнее – круглая, как шар, пузырь или дымок, идущий изо рта героя комикса, который представляет себе небо, полное скворцов, крылатую лавину, катящуюся в воздухе, захватывая всех пернатых, что случились рядом. Этот шар среди однообразного пространства – особенная зона, пребывающий в движении объем, в пределах какового, упруго расширяющегося и сжимающегося, – каждая из птиц вольна лететь куда угодно, лишь бы стая в целом сохраняла форму сферы.
Паломар заметил, что число существ, которые кружатся в шаре, быстро растет, будто стремительный поток приносит туда новые с той же быстротой, как сыплется песок в клепсидре. Вливаясь в этот шар, скворцы из подлетевшей стаи тоже размещаются в нем в форме шара. Однако, видно, стая может сохранять компактность только до определенного предела: вот она уже теряет птиц, летевших по краям, в ней возникают бреши, шар выпускает воздух. Только Паломар заметил это, как фигура распадается.
Наблюденья множатся с невероятной быстротой, и, чтобы упорядочить их в голове, синьору Паломару непременно нужно рассказать о них приятелям, которым тоже есть чем поделиться, так как каждый или сам уже заинтересовался удивительным явлением, или же проникся интересом под влиянием рассказов Паломара. Тема птиц неисчерпаема, и если кто-то полагает, что увидел нечто новое, или желает уточнить какие-то из прежних впечатлений, он считает своим долгом сразу позвонить другим. И вот бегут по проводам туда-сюда известия, меж тем как в небе вьются стаи птиц.
– Заметил, как скворцы всегда умеют увернуться друг от друга, даже там, где они летят почти вплотную, даже если их пути пересекаются? Как будто бы у них радары!
– Ничего подобного! Я видел на брусчатке и покалеченных, и умирающих, и мертвых птиц. Это жертвы столкновений – неизбежных, когда плотность слишком велика.
– Я понял, почему по вечерам они все кружатся над этой частью города. Так летают самолеты над аэропортом, дожидаясь разрешения на посадку. Вот и птицы ждут возможности рассесться по деревьям, на которых будут ночевать.
– Я видел, как они садятся. Долго-долго кружатся спиралью, а потом по одному с огромной скоростью планируют на выбранное дерево и, резко тормозя, цепляются за ветку.
– Да нет, воздушные заторы вряд ли могут представлять для них проблему. Каждая из птиц облюбовала себе дерево и ветку и на этой ветке место. Вот высматривает его сверху и кидается.
– Да неужели зрение у них такое острое?
– Поди узнай!
Разговоры эти не бывают долгими и потому, что Паломар торопится вернуться на веранду, будто опасаясь пропустить какой-нибудь решающий этап.
Теперь, похоже, все скворцы сосредоточились в той части неба, куда падают еще закатные лучи. Однако, приглядевшись, понимаешь, что они расположились длинной развевающейся лентой. В местах ее извивов стая выглядит плотней, похожа на пчелиный рой; прямые же отрезки смотрятся пунктиром из отдельных особей.
Но вот последний проблеск в небе гаснет, и из глуби улиц поднимается все выше тьма, чтоб затопить архипелаг покрытых черепицей кровель, куполов, веранд и аттиков, террас на крышах, колоколен; взвесь из черных крыльев захватчиков небес ныряет в эту тьму и смешивается в полете с грузными тупыми пачкунами – городскими голубями.
ПАЛОМАР ДЕЛАЕТ ПОКУПКИ
Полтора кило гусиного жира
Гусиный жир находится в стеклянных банках, каждая содержит, если верить рукописной этикетке, «две конечности жирного гуся (крыло и ножку), гусиный жир, соль, перец. Чистый вес: 1 кг 500 г». Мягкая густая белизна глушит скрежет мира; из глубины ее всплывает коричневая тень, и будто сквозь туман воспоминаний проступают члены гуся, затерявшегося в собственном жиру.
Паломар – один из тех, кто составляет очередь в парижской charctuterie[8]. День праздничный, но здесь полно народу и в неканонические дни, поскольку это добрый старый столичный магазин, чудом сохранившийся в квартале, где типичная для массовой торговли уравнительность, налоги, низкие доходы потребителей, ну а теперь и кризис приводят к постепенному исчезновенью старых лавок, заменяемых безликими универсамами.
Паломар разглядывает банки. Он тщится оживить в себе воспоминания о cassoulet – рагу из мяса и фасоли, важным элементом коего является гусиный жир, однако же ни память нёба, ни другой вид памяти – культурная – на помощь не приходят. И все-таки название, вид, сама идея Паломара привлекают и рождают у него мгновенную фантазию, но не гастрономическую, а скорее эротическую. Из огромной кучи жира выплывает женская фигура, смазывающая белым свою розовую кожу, и Паломар воображает, как пробирается к ней сквозь плотные лавины и, сжав ее в объятьях, утопает с ней в жиру.
Стараясь отогнать неподобающие мысли, поднимает он свой взгляд на потолок, украшенный колбасами; с рождественских гирлянд они свисают, как плоды с ветвей в земле обетованной. Кругом на мраморных уступах в формах, выработанных культурой и искусством, торжествует изобилие. В ломтях pâté[9] из дичи навсегда запечатлелись сублимированные в этом гобелене, сотканном из вкусовых оттенков, перелеты и пробеги через вересковые пустоши. Над розовато-серыми цилиндрами фазаньих галантиров, словно подтверждая их происхождение, торчат две птичьи лапы, как на геральдических гербах или на мебели эпохи Возрождения.
Сквозь желатиновые оболочки проглядывают пятна черных трюфелей, рядком, как ноты партитуры или пуговки на курточке Пьеро, рассыпанных по пестро-розовым газонам pâtés de foie gras[10], ветчин, terrines[11], по студням, веерам лососины и артишокам, выставленным, как трофеи. Кружочки трюфелей, как лейтмотив, объединяют все это многообразье снеди, подобно черным фракам на костюмированном балу, подчеркивая праздничность убранства этих блюд.
Напротив, серы, тусклы, хмуры те, кто пробирается между прилавков, сортируемые продавцами – женщинами в белом, не первой молодости, расторопными и грубоватыми. Великолепные сверкающие майонезом бутерброды с семгой исчезают в темных сумках. Каждый из пришедших, безусловно, точно знает, чего хочет, направляется решительно, без колебаний к цели и в два счета разрушает горы vol-au-vent[12], белых пудингов и сервелата.
Паломар хотел бы уловить в их взглядах отсвет очарованности этими сокровищами, но и лица их, и жесты лишь нетерпеливы и уклончивы, как у людей, которые поглощены собою, взвинчены и озабочены лишь тем, что у них есть и чего нет. Никто из них не кажется ему заслуживающим того пантагрюэлева великолепия, которое представлено на полках и в витринах. Движимы они бесстрастным и безрадостным чревоугодием, и все же между этими людьми и яствами, входящими в их плоть и кровь и составляющими с ними неразрывное единство, есть глубинная атавистическая связь.
Он обнаруживает, что испытывает нечто вроде ревности: ему хотелось бы, чтобы утиные и заячьи паштеты дали со своих подносов знать, что предпочли его другим, признали в нем единственного, кто заслуживает их даров – передававшихся тысячелетьями из поколения в поколение благодаря природе и культуре, даров, которые профанам доставаться не должны! Ну разве наполняющий его священный трепет не свидетельство того, что он единственный избранник, баловень судьбы, единственно достойный благ, потоком льющихся из рога изобилия мира?
Он оглядывается по сторонам – не грянет ли оркестр вкусов? Но увы. Все эти лакомства пробуждают в нем лишь приблизительные, смутные воспоминания, их вид и наименования у него не связываются бессознательно с их вкусом. Может быть, его гурманство большей частью головное, эстетическое, символическое? Может, несмотря на искреннюю склонность Паломара к студням, те не отвечают ему взаимностью, поскольку чувствуют, что взгляд его любое блюдо превратит в свидетельство истории культуры, в этакий музейный экспонат?
Синьору Паломару хочется, чтоб его очередь скорее подошла. Иначе через несколько минут он станет ощущать себя профаном, чужаком, изгоем.
Музей сыров
Паломар встал в очередь в парижском магазине, где торгуют сыром. Он собирается купить сырки из козьего молока, приправленные травами и пряностями и хранящиеся в масле в прозрачных небольших сосудах. Очередь проходит вдоль прилавка с образцами самых необычных и разнообразных видов сыра. Выбор так велик, как будто магазин желает предъявить вещественные доказательства наличия в нем всех вообразимых форм молочной снеди: уже вывеска его «Spécialités fromagères»[13] с этим редким – архаическим или диалектальным – прилагательным уведомляет: здесь хранится сыродельное наследие всех народов и времен.
Покупателей обслуживают три-четыре девушки в розовых передниках. Освободившаяся обращается к тому, чья очередь, и приглашает его изложить свои желания; покупатель со знанием дела называет ей предмет своих вполне конкретных вожделений, ну а чаще, подойдя, указывает на него.
Вся очередь передвигается на шаг вперед, и тот, кто до сих пор стоял поблизости от «Bleu d’Auvergne»[14] с зелеными прожилками, оказывается напротив белого, с присохшими соломинками, «Brin d’amour»[15], а кто глядел на шар, обернутый в фольгу, обрел возможность вперить взгляд в покрытый пеплом куб. Кое-кому такие встречи на случайных остановках служат стимулом, внушают новые желания, и он решает попросить совсем не то, что собирался, или добавляет к списку новый пункт; другой же не дает себя отвлечь ни на минуту от преследуемой цели, и всякое иное предложение, отвергаемое им, лишь ограничивает круг того, что он упрямо хочет получить.
Паломар колеблется между взаимоисключающими устремлениями: с одной стороны – к полному, исчерпывающему знанию, достичь которого возможно лишь отведав всех сортов, с другой же – к выбору вполне определенному, к тому, чтобы найти единственный «свой» сыр, который, безусловно, существует, хотя Паломар еще его (или себя в нем) распознать не смог.
А может быть, проблема вовсе и не в том, чтобы избрать «свой» сыр, а в том, чтоб быть им избранным? Ведь отношения меж покупателем и сыром обоюдные: каждый сыр ждет своего, старается его привлечь – выдержанностью, слегка заносчивой зернистостью или, наоборот, готовностью растаять перед ним, податливостью, мягкостью.
Вокруг витает тень какого-то порочного сообщничества: те, кто обладает тонким вкусом и в особенности тонким нюхом, иногда бывают слабы, малодушны, и им кажется: сыры, лежащие на блюдах, предлагают себя, точно женщины с диванчиков борделя. Какая-то ехидная усмешка чувствуется в наслаждении уничижением предметов собственных гурманских вожделений прозвищами: crottin, boule de moine, bouton de culotte[16].
Углублять подобное знакомство Паломар не склонен: ему довольно было бы простых физических ничем не опосредованных отношений с сыром. Но оттого, что, глядя на сыры, он видит их названия, концепции, значения, истории, контексты, психологию, не знает даже, а скорей предчувствует: за каждым все это стоит, отношения его с сырами очень осложняются.
Магазин сыров для Паломара – как энциклопедия для самоучки; он мог бы заучить названия и попытаться классифицировать сыры по форме – на «цилиндры», «мыльца», «горки» и шары, по консистенции – на маслянистые, пастообразные, сухие, твердые, с прожилками – или в зависимости от того, какие в корку или в саму массу включены добавки – перец, травы, плесени, кунжут, изюм, – но это ни на шаг бы не смогло его приблизить к истинному знанию – практическому знанию их вкуса, формирующемуся при помощи одновременно памяти и воображения, которое одно лишь и позволило б ему составить гамму вкусовых оттенков, предпочтений, исключений и диковин.
За каждым сыром – пастбище особого оттенка под своим особым небом: луг, покрытый коркой соли, намываемой в Нормандии вечерними приливами, или благоухающие под лучами солнца на ветру луга Прованса; за каждым – разные стада, стоящие в загонах и перегоняемые на другие выгоны, свои секреты производства, существующие многие века. Этот магазин – музей: здесь, точно в Лувре, Паломар за каждым экспонатом чувствует присутствие культуры, обусловившей его обличье – культуры, лик которой, в свою очередь, определяется и им.
Магазин этот – словарь; система существующих сыров – язык, чья морфология насчитывает уйму разновидностей склонений и спряжений, а лексикон – неистощимый кладезь идиом, синонимов, различных коннотаций[17] и оттенков смыслов, как и у любого языка, питаемого сотней диалектов. Язык этот предметен, перечень названий – только внешний, вспомогательный его аспект, но выучить хоть часть их – первое, что надо сделать Паломару, чтоб хоть ненадолго удержать картины, проходящие перед его глазами.
Он вынимает ручку и блокнот и принимается записывать названия, а рядом отмечает то или иное свойство, которое потом позволило бы вспомнить этот сыр, и даже делает наброски. Написав: «Pavé d’Airvault»[18], помечает рядышком: «с зеленой плесенью», рисует плоский параллелепипед, у одной из граней отмечает: «приблизительно 4 см»; выведя: «St-Maure»[19], для памяти записывает: «Серый крупчатый цилиндр с палочкой внутри», делает рисунок, прикидывает: «20 см»; пишет: «Chabichou»[20], набрасывает валик...
– Месье! Э-э! Месье! – зовет уткнувшегося в записную книжку Паломара молодая продавщица. Пора заказывать, стоящие за ним взирают на его чудное поведение покачивая головой, с нетерпеливо-ироничным видом, – так смотрят те, кто обитает в крупных городах, на слабоумных, каковых встречается на улице все больше.
Выношенный лакомый заказ, который он намеревался сделать, вылетает у него из головы, он что-то мямлит, ограничивается в итоге самым незатейливым, банальным, широко разрекламированным – будто механизмы массовой культуры только от него и ждали этого мгновения нерешительности, чтобы вновь им овладеть.
Мрамор и кровь
Размышления, на которые мясная лавка наводит приходящих за покупками, включают знания из разных областей, переходящие из поколения в поколение веками: сведения о видах мяса, о его разрубе, лучших способах приготовленья каждой части туши, ритуалах, позволяющих умерить угрызения, связанные с тем, что надо отнимать чужие жизни, чтобы поддержать свою. Убой скота и кулинария суть точные науки, проверяемые опытным путем, с учетом разницы в обычаях и способах, распространенных в разных странах, а в науке жертвоприношения преобладает неопределенность, и вдобавок не одно столетие она находится в забвении, хотя смутно давит на сознание, как некая невыраженная потребность. Паломар, пришедший за тремя бифштексами, объят почтительным благоговением предо всем, имеющим какое-либо отношение к мясу. Здесь, среди мрамора, он чувствует себя как в храме, сознавая: этим местом обусловлены и собственное бытие его, и та культура, к которой он принадлежит.
Медленно минует очередь высокий мраморный прилавок, полки и подносы, на которых выложено мясо; из кусков торчат таблички с указанием названий и цены. Алую говядину сменяет розоватая телятина, ту – бледная ягнятина, неяркая свинина. Горят объемистые отбивные, толстые круги говяжьего филе, подбитые по краю лентой сала, вырезки – изящные и гибкие, бифштексы с костью, за которую их можно ухватить, постнейшие массивные края и постно-жирные слоистые куски для варки, и жаркое в ожидании бечевки, которая его заставит уплотниться, сберегая сок... Дальше краски не такие яркие: телячьи эскалопы и котлеты, хрящики, грудинка и лопатки, и уже мы попадаем в царство задних ног барашков, и бараньих лопаток, далее белеет требуха, темнеет печень...
Мясники, все в белом, машут за прилавком топорами, схожими с секирами, огромными ножами для нарезки мякоти и свежеванья туш, орудуют пилами для разрезания костей и молотками для отбивки мяса, вталкивая ими в мясорубку вьющиеся розовые завитки. Разрубленные туши на крюках как будто бы напоминают: каждый съеденный тобой кусок – противозаконно присвоенная часть живого прежде существа.
На стене висит плакат с изображением быка в разрезе; он походит на географическую карту, испещренную границами меж областями, представляющими с точки зрения едоков различный интерес и вместе составляющими все животное, исключая лишь копыта и рога. Это – карта, отражающая ареал распространения человека, как и карта полушарий; обе – протоколы, призванные утвердить присвоенное человеком право иметь в распоряжении, делить и без остатка поглощать земные континенты и филе домашнего скота.
Следует сказать, что симбиоз быка и человека достиг на протяжении столетий равновесия (обоим видам позволяя жить и размножаться), пусть асимметричного (ведь человек, заботясь о кормлении быка, питать его собою не обязан), но обеспечивающего процветание цивилизации, которая зовется человеческой, хотя в каком-то смысле ей пристало называться человеческо-говяжьей (частью она совпадает с человеческо-бараньей, меньше – с человеческо-свиной, в зависимости от замысловатого распределения запретов, налагаемых религией). В этом симбиозе Паломар участвует вполне сознательно, всецело принимая существующее положение вещей: он хоть и признает в висящем бычьем остове персону своего раскромсанного брата, а разрез филейной части – раной, изуродовавшей его собственную плоть, но знает про себя, что плотояден, что сложившиеся у него привычки заставляют его воспринимать лавку мясника как обещание вкусового наслаждения и, глядя на краснеющие резаки, воображать те полосы, которые оставит пламя на бифштексах, приготовленных на рашпере, то наслаждение, с каким разрежет его зуб поджаренные ткани.
Чувства эти совместимы: в душе стоящего за мясом Паломара сдержанная радость сочетается со страхом, вожделение – с почтением, забота о себе – с сочувствием ко всем на свете. Такое состояние души другими, вероятно, выражается в молитве.
ПАЛОМАР В ЗООПАРКЕ
Бег жирафов
В Венсенском зоопарке Паломар задерживается у загона, где находятся жирафы. Взрослые животные нет-нет да и пускаются бегом, за ними – малыши; у самой сетки развернувшись, дважды или трижды повторяют свой пробег во весь опор и останавливаются. Паломар не устает следить за ними, зачарованный неслаженностью их движений. Он не решит никак, бегут они галопом или рысью, так как движение их задних ног совсем не связано с движением передних. Передние, какие-то развинченные, выгибаются дугою, доставая до груди, и снова распрямляются, как будто выбирая, на какие из суставов лучше опуститься. Задние, гораздо более короткие и жесткие, подтягиваются за ними косоватыми скачками, словно деревянные, похожие на костыли, – еле ковыляя, но как будто бы забавы ради, будто зная, как они смешны. Шея, устремленная вперед, тем временем качается вверх-вниз, подобно грузовой стреле, вроде бы вне всякой связи с движениями ног. Прыгает и круп, но оттого, что шея действует подобно рычагу на остальную часть хребта.
Жираф похож на механизм, который, будучи составлен из разнокалиберных деталей, действует при этом превосходно. Глядя на несущихся жирафов, Паломар осознает: этой негармоничной беготней управляет сложная гармония, бесспорные несообразности жирафьей анатомии сообразуются между собою внутренне, нескладные движения их складываются в естественную грацию. Организующим началом служат пятна на жирафьей шерсти – неправильные, но при этом однородные фигуры, четкие многоугольники, представляющие собой точное графическое соответствие жирафьим ломаным движениям. Уместнее, пожалуй, говорить тут даже не о пятнах, а о черном шерстяном покрове, монотонность какового разрывают светлые прожилки, обрисовывая ромбовидные фигуры, о прерывистой окраске, предвещающей прерывистость движений.
Тут маленькая дочка Паломара – ей уже давно наскучило разглядывать жирафов – тянет его к гроту, где живут пингвины. Паломар, которому пингвины внушают чувство беспокойства, нехотя идет за ней, пытаясь разобраться, почему же у него такое любопытство вызвали жирафы. Возможно, потому, что неуклюже движется весь мир вокруг, а Паломар все тешится надеждой обнаружить в нем какой-то план, какую-то константу. Или, может, потому, что чувствует: и сам он движим нескоординированными, как будто не имеющими ничего между собою общего ходами мысли, все труднее совместимыми с любой моделью внутренней гармонии.
Горилла-альбинос
В барселонском зоопарке содержится единственная в мире обезьяна-альбинос – внушительной величины самец-горилла из Центральной Африки. Паломар проталкивается через толпу, собравшуюся в павильоне. За стеклом он видит Copito de Nieve – Снежинку, гору мяса, всю заросшую молочно-белой шерстью. Сидя у перегородки, обезьяна загорает. Лицо гориллы розоватое, как у людей, изборожденное морщинами; гладкая и розовая, так же как у человека белой расы, кожа на груди. Это лицо с огромными чертами скорбного гиганта временами обращает к толпе, стоящей менее чем в метре по другую сторону стекла, неспешный взгляд, проникнутый отчаянием, терпением и тоскою, взгляд, который говорит о том, насколько глубоко гигант примирился с тем, что он такой, как есть, – единственный на свете экземпляр неизбранной, немилой формы, о том, как тягостно быть исключением, как он страдает оттого, что такой громоздкий, столь заметный и так долго занимает столько места.
Сквозь стекло виднеется загон с высокой каменной оградой, придающей ему вид тюремного двора; на самом деле это «сад» жилища-клетки, где стоят небольшое деревце без листьев и металлическая гимнастическая лесенка. В глубине двора – горилла-самка, большая, черная, с таким же черным малышом, поскольку белая окраска по наследству не передается, Copito de Nieve остается исключением среди горилл.
Седой, огромный, неподвижный, кажется, он существует с незапамятных времен, как горы или пирамиды. На самом деле это еще молодая обезьяна, и стариковский облик придают ей лишь контраст меж розовым лицом и обрамляющей его короткой белоснежной шерстью и особенно морщины в окружении глаз. Что до остального, Copito de Nieve меньше схож с людьми, чем прочие приматы: вместо носа у него лишь ноздри – этакий двойной провал; мохнатые, малоподвижные в суставах кисти – завершение длинных несгибающихся рук, по сути дела – еще лапы, и горилла пользуется ими при ходьбе, опираясь, как четвероногое, о землю.
Сейчас он этими руками-лапами прижал к груди автомобильную покрышку. Он не расстается с ней на протяжении нескончаемых ничем не занятых часов. Что для него она? Игрушка? Талисман? Фетиш? Паломару кажется, что он прекрасно понимает альбиноса, его потребность в чем-нибудь, что можно удержать, когда все ускользает, что помогло бы унять тоску от пребывания в изоляции, от непохожести на всех и от того, что он навеки обречен восприниматься как живое чудо своими самками, детьми и посетителями зоопарка.
У самки тоже есть покрышка, с которой у нее, правда, связь практическая, безо всяких усложнений: она сидит в ней, точно в кресле, загорает, выбирая у сынишки блох. У Снежинки, как видно, отношение к шине эмоциональное, собственническое, в каком-то смысле символичное, не столь далекое, быть может, от того, что человеку кажется спасением от жизненных кошмаров, – отождествления себя с вещами, узнавания себя в знаках, превращения мира в совокупность символов, – чуть ли не заря культуры в долгой биологической ночи. У гориллы есть для этого лишь сделанная человеком шина, чуждая ему, не обладающая ни малейшим символическим потенциалом, ничего не значащая, чистая абстракция. Разглядывание ее едва ли может много дать. Но в то же время чтб более пустого крута способно принимать любые из приписанных ему значений? Может быть, отождествляя себя с этим кругом, горилла в глубине молчания доберется до истоков речи, и забьет поток, который свяжет его раздумья и упрямые, бесчувственные обстоятельства, определяющие его жизнь...
Уйдя из зоопарка, Паломар никак не может позабыть гориллу-альбиноса. Он заводит разговор о нем со встречными; его никто не слушает. Ночью, как в бессонные часы, так и в недолгих снах, ему опять является Снежинка. «Что для него эта покрышка, с которой он ведет безумный разговор без слов, то для меня он сам, горилла-альбинос. Все мы теребим какую-нибудь старую пустую шину, силясь с ее помощью постигнуть некий высший смысл, недосягаемый для слов».
Подкласс чешуйчатых
Синьору Паломару любопытно: чем его притягивают игуаны? В Париже он заходит иногда в террариум Jardin des Plantes[21] и не бывает никогда разочарован; что их наружность необычна, даже уникальна, вполне очевидно, и однако же он чувствует, что есть еще какая-то причина, но какая – не поймет.
Игуана из семейства игуан покрыта изумрудной шкурой, словно сотканной из пестрых крошечных чешуек. Ее излишки на шее и на лапах образуют складки, буфы и мешки, как чересчур просторная одежда. Вдоль хребта стоит зубчатый гребень, протянувшийся почти до кончика хвоста; у основания зеленый, дальше он бледнеет, а затем, коричневея, расчленяется на кольца, светлые и темные, через одно. На чешуйчатой зеленой морде открывается и вновь смыкает веки глаз, и именно это «высокоразвитое» око, способное на взгляд, на выражение внимания и грусти, рождает ощущение, что за драконьей внешностью скрывается другое, – более похожее на тех, кого к себе приблизили мы, – существо, создание не столь нам чуждое, как нам кажется на первый взгляд... Под подбородком тоже колкие наросты, на шее – пара круглых белых бляшек, как у слухового аппарата... Такая уйма причиндалов, ухищрений, всяческих прикрытий и прикрас, такое собрание всевозможных форм, наличествующих в животном царстве, а быть может, и в других, – не много ли для одного животного? Зачем ему все это? Чтобы скрыть того, кто смотрит изнутри?
Пятипалые передние конечности скорее походили бы на две когтистые лапы, чем на кисти, если б не являлись завершением самых настоящих рук – красивой лепки, мускулистых; задние совсем другие, длинные и вялые, и пальцы их похожи на отводки. Однако в целом игуана, хоть и выглядит безвольной и оцепенелой, производит впечатление силы.
Прежде чем остановиться у витрины с Игуаной из семейства игуан, Паломар рассматривал десяток вцепившихся друг в дружку малюток-игуан, которые все время изменяли позы, шустро двигая локтями и коленями, и все старались вытянуться подлинней: зеленая сверкающая шкурка с медной точечкой на месте жабр, белая хохлатая бородка, светлые глаза с чернеющими посреди зрачками. Еще были Варан саванн, благодаря своей окраске незаметный средь песков, черно-желтый Тегу, или Тупинамбус, – близкая родня каймана, африканский великан Кордило с острой и густой, как шерсть или листва деревьев, чешуей под цвет пустыни, настолько жаждущий обособиться от мира, что, прижимая голову к хвосту, сворачивается кольцом. Зеленовато-серый сверху, белый снизу панцирь черепахи, плавающей в прозрачном чане, с виду мягок и мясист; ее остренькая морда выглядывает из него, как из высокого воротника.
В павильоне жизнь пресмыкающихся производит впечатление бесстильного, беспланового расточения форм, где все возможно: животные, растения и горные породы обмениваются чешуей, шипами и наростами, но из уймы вероятных комбинаций остаются только некоторые, – как раз, быть может, самые невероятные, – противодействуя потоку, стремящемуся их размыть, смешать, преобразить, и сразу же становятся центрами мирков, навеки отделившись от других, как здесь, в стеклянных клетках зоопарка, и это ограниченное число различных способов существования, каждый из которых зафиксирован в своем уродстве, красоте, необходимости, и составляет единственный реально существующий в мире порядок. Зал игуан в Jardin des Plantes, с его освещенными витринами, где полусонные рептилии укрьшись средь ветвей, утесов и песка из их родных лесов или пустынь, – зеркало миропорядка, считать ли таковым отражение на земле небесного свода идей или же внешнее проявление таинственного естества вещей, внутренних законов сущего.
Быть может, более самих рептилий смутно привлекает Паломара эта атмосфера? Воздух, точно губка, насыщен теплой вялой сыростью; тяжелый, резкий запах гнили заставляет задержать дыхание; свет и мрак застаиваются в недвижном месиве ночей и дней, – выходит, это должен чувствовать любой, выглядывающий за пределы человеческого мира? В каждой клетке павильона – мир, который был до человека или будет после, словно в доказательство того, что человеческий – не вечный, не единственный. Не для того ли, чтобы лично убедиться в этом, и обозревает Паломар загоны, где спят питоны и боа, гремучие бамбуковые змеи и бермудские древесные ужи?
Но ведь каждая витрина – только крошечный образчик тех миров, где человека нет, изъятый из природной целокупности, которой никогда могло бы и не быть, – считанные кубометры атмосферы, где замысловатые устройства обеспечивают заданные влажность и температуру. Значит, бытие любого экземпляра этого доисторического бестиария поддерживается искусственно, как будто это некие гипотезы, плоды воображения, языковые построения, парадоксальная аргументация, имеющая целью доказать, что настоящий мир лишь наш...
Как если бы внезапно издаваемый рептилиями запах сделался невыносимым, Паломар вдруг чувствует потребность выйти поскорей на воздух. Он должен пересечь обширный крокодилий зал с вереницей разделенных переборками бассейнов. Возле каждого лежат на суше крокодилы – в одиночку или парами, невыразительных цветов, коренастые, шершавые, отталкивающие, грузно распростертые, распластанные по земле во всю длину и ширь своих свирепо вытянутых морд, холодных животов, больших хвостов. Кажется, все спят, включая тех, которые лежат с открытыми глазами, хотя, может быть, напротив, удрученные, остолбенелые, все бдят, пусть и сомкнув глаза. Порою кто-нибудь неторопливо встряхивается, чуть приподнявшись на коротких лапах, подползает к краю водоема, плюхается с глуховатым шумом, поднимая волны, и покачивается там, наполовину погруженный в воду, столь же неподвижный, как и прежде. Безмерное терпенье или беспредельное отчаянье? Чего же ждут они, или чего, быть может, перестали ждать? В какое из времен погружены? Во время их биологического вида, не связанное с протеканием часов, бегущих от рождения к смерти индивида? Геологических эпох, перемещения материков и отвердения коры поднявшейся над океаном суши? Медленного охлажденья солнечных лучей? Нет, мысль о времени вне человеческого опыта невыносима. Паломар спешит покинуть павильон, заглядывать в который можно только изредка и мимоходом.
УМОЛЧАНИЯ ПАЛОМАРА
ПАЛОМАР ПУТЕШЕСТВУЕТ
Песчаный газон
Дворик, весь усыпанный песком – белым, крупным, чуть не гравием, исчерченный бороздками – прямыми параллельными и в виде концентрических кругов, описанных вокруг пяти бесформенных нагромождений камней и невысоких скал. Один из самых знаменитых памятников, созданных японскою культурой, – сад песка и скал при храме Рёандзи в Киото, типичный вид для созерцания абсолюта, достичь которого необходимо с помощью простейших средств, без обращения к понятиям, выразимым лишь словами, в соответствии с учением монахов Дзэн, наидуховнейшей из всех буддистских сект.
Прямоугольник белого песка огораживают три стены, покрытых черепицей, за которыми виднеются зеленые деревья. С четвертой стороны ступенями восходят кверху деревянные скамьи, там можно постоять, присесть. «Если внутренний наш взгляд сосредоточится на этом саде, – объясняют по-японски с переводом на английский предлагаемые посетителям листки, подписанные настоятелем монастыря, – мы ощутим себя свободными от относительности наших индивидуальных "я", и тогда прозрение "Я" абсолютного наполнит нас спокойным изумлением, просветляя наши помраченные умы».
Готовый следовать этим советам, Паломар доверчиво садится на скамейку, оглядывает каждую скалу, скользит глазами по волнистому песку в надежде, что невыразимая гармония, царящая между элементами предложенной картины, преисполнит понемногу и его.
Вернее, он пытается вообразить, что ощущает тот, кто сосредоточивается на созерцании сада Дзэн в уединении и тишине, поскольку мы забыли сообщить, что Паломар сидит зажатый среди посетителей, толкающих его со всех сторон, среди просунутых между коленями, локтями и ушами объективов, запечатлевающих во всевозможных ракурсах песок и скалы, освещаемые солнцем или вспышками. Через него переступают ноги, ноги, ноги в шерстяных носках (обувь, как всегда в Японии, оставлена у входа), педагогичные родители пропихивают многочисленных потомков в первый ряд, ватаги школьников, одетых в униформу, толкаются, мечтая лишь о том, чтоб поскорее кончилась учебная экскурсия, а посетители прилежные, ритмично поднимая и склоняя головы, проверяют, все ли из того, о чем им сообщил путеводитель, соответствует реальности, и все ли из того, что предстает пред ними, упомянуто в путеводителе.
«Сад песка можно рассматривать и как архипелаг скалистых островов в безбрежном океане, и как вершины гор над морем облаков. Можно счесть его картиной, обрамлением которой служат стены храма, или, позабыв об этой раме, убедить себя, что море из песчинок беспредельно и простерлось на весь мир».
Паломару кажется, что эти «способы употребления», изложенные на листке, вполне приемлемы и можно тотчас без труда их применить, коль ты уверен, что на самом деле обладаешь индивидуальностью и тебе есть с чем расставаться, что на мир глядишь ты изнутри такого «я», которое могло бы раствориться так, чтобы остался просто взгляд. Но именно для выполнения этого исходного условия необходимо несколько напрячь воображение, что сделать крайне сложно, если твое «я» впрессовано в компактную тысячеглазую, тысяченогую толпу, не отступающую от предписанного ей маршрута.
Значит, достижение предельного смирения, отказ от чувства собственничества и от гордыни с помощью мыслительных приемов Дзэн имеют в качестве необходимого условия аристократические привилегии, предполагают индивидуализм, не ограниченный ни временными, ни пространственными рамками, возможность пребывания в безмятежном одиночестве?
Но ограничиться подобным выводом, который только вызовет в очередной раз сожаление о потерянном из-за засилья массовой культуры рае, было бы для Паломара слишком просто. Он выбирает более тернистый путь – пытается постигнуть то, что сад способен ему дать в той ситуации, в какой он лишь и может созерцать его сейчас, вытягивая свою шею среди множества чужих.
Что же видит он? Род человеческий эпохи больших чисел – нивелированную толпу, составленную все-таки из индивидуальностей, как это море крошечных песчинок, заполняющее мир... Он видит: несмотря на это, мир продолжает оставаться равнодушным к судьбам человечества, все так же обращает к нему спины валунов, выказывая свою твердокаменную сущность, не намеренную применяться к людям... Видит он, что формы, принимаемые человеческим песком, сообразны направлениям движения, узорам, сочетающим заданность с изменчивостью, как прямые и круговые следы от грабель... И кажется, что все-таки возможна гармония меж человечеством-песком и каменистым миром, меж двумя разнохарактерными видами гармонии – царящим в неодушевленном мире равновесием сил, не отвечающим как будто никакому плану, и соразмерностью того, что создано людьми, стремящейся к рациональности геометрических и музыкальных композиций, всякий раз не окончательной...
Змеи и черепа
Путешествуя по Мексике, Паломар осматривает Тулу – обращенную в руины древнюю столицу тольтеков. С ним приятель-мексиканец, знаток цивилизаций доколумбовой Америки; он пересказывает Паломару – вдохновенно, красочно – прекрасные легенды о Кетцалькоатле. Бог Кетцалькоатль был когда-то королем и жил здесь, в Туле, во дворце; до нас дошли лишь основания колонн вокруг имплювия[22], что несколько напоминает древнеримское палаццо.
Храм Утренней Звезды – ступенчатая пирамида. Наверху четыре цилиндрических кариатиды, своего рода атланты, представляющие божество Кетцалькоатля в виде Утренней Звезды (символы ее – четыре бабочки на спинах атлантов), и столько же колонн – Пернатых Змеев, представляющих того же бога в образе животного.
Приходится все это принимать на веру; впрочем, доказать обратное непросто. Здесь каждая раскопанная статуя, любой предмет, малейшие детали барельефа означают нечто, означающее что-то, значащее что-нибудь еще. Животное обозначает бога, это божество – звезду, а та – какую-то стихию или человеческое свойство, и так далее. Мы в мире пиктографии: желая что-то написать, предки мексиканцев рисовали разные фигуры, а рисуя, все равно как бы писали: каждая фигура – ребус, ожидающий разгадки. Даже самые абстрактные, геометрические фризы храма могут быть восприняты как вереницы стрел – если видеть образуемый ломаной линией мотив, а могут – как цепочки чисел, задаваемых расположением отрезков. Для барельефов Тулы характерно повторение стилизованных фигурок ягуаров и койотов. Приятель-мексиканец не обходит своим вниманием ничего, и каждый камень оборачивается рассказом о вселенной, аллегорией, нравоучением.
Среди развалин вереницей ходят школьники с индейскими чертами, может быть, потомки тех, кто создал эти храмы; на них простая белая бойскаутского типа форма, на шее голубой платок. Ведет детей учитель, не намного выше ростом, лишь чуть-чуть постарше и с таким же круглым смугловатым, небогатым мимикой, лицом. Преодолев высокие ступени пирамиды, школьники встают среди колонн, учитель, сообщив, к какой цивилизации относятся колонны, в каком столетии и из какого камня они высечены, завершает свой рассказ словами: «Но что это значит – неизвестно» – и устремляется с учениками вниз. У каждой статуи, фигуры, барельефа и резной колонны, изложив фактические данные, он неизменно добавляет: «Но что это значит – неизвестно».
Вот чак-моол, достаточно распространенный тип скульптуры: полулежащий человек с обширным блюдом – как единодушно утверждают знатоки, для окровавленных сердец людей, которых приносили в жертву. Сами по себе скульптуры эти производят впечатление грубоватых добродушных кукол, но Паломар, когда их видит, всякий раз невольно содрогается.
Подтягивается цепочка детворы. Учитель произносит: «Esto es un chac-mool. No se sabe lo quiere decír»[23] – и шагает дальше.
Продолжая слушать объяснения друга-гида, Паломар все время сталкивается с учениками, и до него доносятся слова учителя. Бесчисленными ссылками приятеля на мифы он заворожен: аллегорическое толкование, игра в интерпретации всегда казались ему наивысшим проявлением ума. Но также нравится ему, по сути, противоположная позиция учителя: там, где вначале видел Паломар лишь недостаток интереса и поспешность, теперь усматривает он научный и педагогический подход, намеренно используемый этим добросовестным, серьезным парнем метод, правило, которого тот не желает нарушать. Камень и фигура, знак и слово, явленные вне контекста, – лишь конкретные фигура, камень, слово, знак, мы можем только попытаться их определить, их описать как таковые, но имеют ли они помимо зримого еще и потаенный лик, узнать нам не дано. Наверное, отказ усматривать что-либо сверх того, что нам показывают эти камни, есть единственно возможный способ отнестись с почтением к их тайне; пытаться разгадать ее – самонадеянность, измена настоящему, утраченному смыслу.
За пирамидой – коридор или проход, который разделяет две стены: из утрамбованного грунта и резную каменную Стену Змей. Может быть, нет ничего красивей в Туле, чем рельефный фриз на этой каменной стене с изображением череды ползущих друг за дружкой змей; каждая сжимает в пасти человеческий череп, будто хочет проглотить.
Проходят школьники. Учитель им: «Мы видим Стену Змей. У каждой в пасти череп. Но что это значит – неизвестно».
Приятель Паломара не выдерживает: «Да известно! Это неразрывно связанные жизнь и смерть, жизнь – змеи, черепа – смерть, жизнь, которая несет с собою смерть, и смерть, без каковой нет жизни...»
Дети слушают разинув рты, от изумления расширив черные глаза. Паломар же думает о том, что всякий перевод и сам нуждается в расшифровке, и так до бесконечности. Он спрашивает себя: что же означали жизнь и смерть, их неразрывная взаимосвязь и переход одной в другую для тольтеков? Что могут означать они для этой ребятни? А для него, для Паломара? Но он знает, что не смог бы подавить в себе потребности переводить, сменять один язык другим, менять конкретные фигуры на абстрактные слова, а от абстрактных символов переходить к конкретным опытам, вновь и вновь сплетая сети аналогий. Не интерпретировать нельзя, как невозможно удержать себя от размышлений.
Только скрылась детвора за поворотом, маленький учитель упорно повторяет: «No es verdad, неправда то, что сказал этот señor[24]. Что это значит – неизвестно».
Непарные туфли
В одной из стран Востока на базаре Паломар купил, случилось, пару шлепанцев. Дома он обнаруживает: туфли разные, и та, которая пошире, сваливается с ноги. Тогда он вспоминает старого торговца, что сидел на пятках в тихом уголке у груды тапок всех размеров, и видит мысленно, как тот выискивает ему туфлю по ноге, дает примерить, снова запускает руки в груду, выдает предполагаемую парную, и Паломар берет ее, уже не меряя.
«Быть может, – размышляет он, – и где-то в тех местах сейчас шагает человек в непарных туфлях». Паломар воображает ковыляющую по пустыне жилистую тень: что ни шаг с ее ноги слетает туфля – или же, наоборот, сжимает ногу, как тиски. «Может быть, и человек тот думает сейчас о том, что где-то существую я, надеется на встречу, дабы совершить обмен. Связавшие нас узы и конкретней, и яснее большей части связей меж людьми, однако мы с ним никогда не встретимся». Из солидарности с неведомым собратом по несчастью он решает продолжать ходить в непарных туфлях, чтобы сохранить зеркальное отражение и редкую взаимодополнительность хромающих на разных континентах ног.
Паломару неохота расставаться с этой мысленной картиной, но он знает, что она не соответствует реальности. К той груде тапок на базаре добавляется периодически очередная партия, и в глубине горы все время будут оставаться две разрозненные туфли, но, пока старик не исчерпает все запасы (вероятно, этого и не случится, а когда не станет старика, и лавка, и товар достанутся наследникам, а после – их потомкам), довольно будет покопаться в груде, чтобы найти две туфли, составляющие пару. Ошибка скажется, лишь если среди покупателей старинного базара сыщется еще один такой же ротозей, но это, может быть, произойдет через века. Любой процесс из нарушающих миропорядок необратим, но их последствия маскирует или отдаляет пыль огромных чисел, которая дает, по сути, безграничные возможности для появления новых симметрии, пар, комбинаций.
А вдруг оплошность Паломара стала исправлением промаха, допущенного кем-то прежде? Вдруг его просчет привел не к беспорядку, а к порядку? «Может быть, старик отлично знал, что делает, и, дав мне туфли разного размера, устранил несоответствие, которое веками крылось в той переходившей по наследству груде».
Неведомый собрат, возможно, ковылял совсем в другие времена, и симметричные шаги перекликаются теперь не только через моря, но и через века. Однако чувство солидарности в душе синьора Паломара не слабеет. Он все шаркает и шаркает просторным шлепанцем, чтоб отражению было легче.
ПАЛОМАР И ОБЩЕСТВО
О прикусывании языка
В те времена и в той стране, где каждый лезет вон из кожи, оглашая собственные мнения и взгляды, Паломар завел привычку: перед тем как что-то утверждать, три раза прикусить язык. Если он и после этого уверен в том, что собирался заявить, тогда высказывается, иначе же не раскрывает рта. Фактически молчит он целыми неделями и даже месяцами.
Причин помалкивать достаточно всегда, однако Паломар нет-нет да и жалеет, что когда-то промолчал. Он видит: его мысли подтвердились, выскажись он вовремя, возможно, это оказало бы – пусть незначительное – благотворное влияние на ход событий. В подобных случаях он ощущает удовлетворение тем, что оказался прав, и вместе с тем свою вину, поскольку был излишне сдержан. Оба эти чувства так сильны, что Паломар испытывает искушение их выразить словами, однако, трижды, даже шестикратно прикусив язык, приходит к убеждению, что не имеет ни малейших оснований ни для угрызений, ни для гордости.
Что оказался прав он, в том его заслуги нет: ведь по статистике средь массы приходящих ему в голову банальных, вздорных или путаных идей почти наверняка найдется ясная, а то и просто гениальная, и как она возникла у него, так, безусловно, может зародиться и у кого-нибудь другого.
Труднее дать оценку собственному умолчанию. Во времена всеобщего безмолвия немотствовать подобно большинству, само собой, преступно. Но когда вокруг все слишком говорливы, главное – не просто высказать разумную идею, каковая утонет в море слов, а изложить ее в контексте предпосылок и последствий, так чтобы придать высказыванию особенную значимость. Но если значимость отдельных утверждений обусловливает целостность и связность их контекста, остается или говорить, не закрывая рта, или, напротив, рта вообще не открывать. В первом случае бы обнаружилось, что мысль Па-ломара развивается не прямо, а зигзагом, через колебания, опровержения, поправки, среди которых смысл утверждения рискует затеряться. Вторая же возможность требует владения искусством умолчания, которое еще сложнее, чем искусство слова.
Фактически молчание – тоже речь, оно – отказ воспользоваться словом так, как это делают другие; смысл же подобной молчаливой речи – в паузах, иначе говоря, в словах, которые ее порою прерывают, наделяя смыслом то, о чем молчишь.
Вернее, так: молчат иной раз, чтоб не говорить каких-то слов или приберегая их на лучший случай. Но бывает, что одно-единственное слово, сказанное ныне, завтра, может быть, избавит вас от целой сотни или вынудит, наоборот, к произнесению тысячи других. «Прикусывая свой язык, – решает Паломар, – я должен думать не о том лишь, что я выскажу или не выскажу в тот миг, а обо всем том, что, в зависимости от того, скажу я это или не скажу, в дальнейшем будет или же, наоборот, не будет сказано мною самим или другими». Рассудив подобным образом, он прикусывает язык и погружается в молчание.
Об обидах на молодежь
Во времена, когда непримиримость старших к молодым, а молодежи к людям зрелым достигла своего предела, когда старшие лишь тем и занимаются, что собирают аргументы, дабы высказать в конце концов этим юнцам все то, чего они заслуживают, ну а молодые только этого и ждут, чтоб доказать, что старичье не смыслит ни черта, Паломар не может вымолвить и слова. Если он и пробует порой вступить в какую-то беседу, обнаруживается, что каждый слишком озабочен изложением своих идей, чтобы прислушаться к тому, в чем он хотел бы разобраться.
На самом деле Паломару хочется не столько что-то утверждать, сколько поспрашивать других, однако же он понимает: вряд ли кто захочет покидать накатанную колею своих привычных рассуждений, чтоб ответить на вопросы, проистекшие из чьих-то размышлений, которые заставят думать о том же самом новыми словами и, быть может, увлекут куда-то в дебри, далеко от проторенных троп. Готов он отвечать и сам на чьи-нибудь вопросы – правда, не на все, а на такие, по которым, ему кажется, он может кое-что сказать, но только если спросят. Так или иначе, спрашивать его о чем-либо никто не собирается.
Ввиду подобных обстоятельств Паломар довольствуется тем, что размышляет, отчего так нелегко вести беседы с молодежью.
Думает: «Наверно, оттого, что между нами пролегает пропасть. Что-то приключилось, между поколениями нарушилась преемственность, и ничего не остается общего».
Но после думает: «Да нет, все дело в том, что только захочу я обратиться к ним с каким-нибудь упреком, порицанием, советом, с уговорами, как вспоминаю: ведь и сам, бывало, навлекал в их годы на себя подобные же порицания, упреки, уговоры и советы и не обращал на них внимания. Другие были времена, во многом отличались поведение, язык, манера одеваться, однако мой тогдашний образ мыслей в общем-то достаточно похож на тот, который свойствен им сейчас, и, значит, что-то говорить им я не вправе».
Он долго думает, какой из выводов верней. Потом решает, что один другому не противоречит. «Нарушение преемственности поколений происходит оттого, что невозможно передать свой опыт, уберечь других от наших промахов. Разобщает два соседних поколения как раз то, что между ними общего, что побуждает их к циклическому повторению одинакового опыта, – как поведение животных разных видов задается их биологической наследственностью; истинные же различия меж нами – результат необратимых изменений, привносимых каждою эпохой, иначе говоря, они определяются тем историческим наследием, которое мы передали нашим детям, – истинным наследством, за которое мы отвечаем, хоть порой того не сознаем. Поэтому нам нечему их научить: на то, что больше нам напоминает собственный наш опыт, повлиять не можем, в том, что на себе несет наш след, себя не узнаем».
Модель моделей
В жизни Паломара были времена, когда он следовал такому правилу: строил в голове модель – предельно полную, логичную и четкую, проверял ее на практике и, наконец, вносил необходимые поправки, чтобы сообразовать модель с реальностью. Выработали этот метод физики и астрономы, занятые изучением строения материи и мироздания, и Паломар считал его единственно пригодным для исследования самых сложных человеческих проблем, и прежде всего тех, которые имеют отношение к обществу, к тому, как наилучшим способом им управлять. Аморфную, абсурдную реальность человеческого общества, где сплошь и рядом катастрофы и уродства, требовалось сравнивать с моделью совершенного общественного организма, изображенной четкими прямыми, окружностями, эллипсами, параллелограммами и диаграммами с абсциссами и ординатами.
При построении модели, знал он, нужно из чего-то исходить, то есть иметь такие принципы, основываясь на которых можно было бы при помощи дедукции построить собственное рассуждение. Эти принципы – еще их называют «аксиомы» или «постулаты» – сам никто не выбирает, их уже имеют, а иначе вовсе невозможно было б думать. Значит, их имел и Паломар, однако же, не будучи ни математиком, ни логиком, не потрудился сформулировать. Дедукцией, однако, заниматься он любил, поскольку это можно делать в одиночку, в тишине, не прибегая ни к каким приспособлениям, повсюду и всегда, гуляя или сидя в кресле. К индукции же относился с определенным недоверием – быть может, оттого, что личный его опыт казался Паломару приблизительным и ограниченным. Поэтому построение модели представлялось ему чудесным нахождением равновесия меж принципами (не вполне понятными) и опытом (неощутимым), при этом результат его должен был бы быть куда солиднее и первых, и второго. В самом деле, в правильно построенной модели каждая деталь зависит от других и все взаимосвязано, как в механизме, который тут же станет, чуть заклинит в нем какую-нибудь шестерню. Модель есть, по определению, то, в чем ничего менять не надо, что работает безукоризненно; в реальной же действительности налицо разлад, все распадается, и остается только не мытьем так катаньем производить ее подгонку под модель.
Много приложил усилий Паломар для достижения такой невозмутимости и отрешенности, чтобы значение для него имела лишь спокойная гармония линий чертежа, а все надрывы, искажения и сжатия, которые должна была бы претерпеть реальность, дабы уподобиться модели, он воспринимал как мимолетные незначащие эпизоды. Но стоило ему на миг отвлечься от начертанной на небосводе с идеальными моделями исполненной гармонии геометрической фигуры, как в глаза бросался человеческий пейзаж с его уродствами и катастрофами и линии модели представали в деформированном, искаженном виде.
Требовалась тонкая работа, чтобы постепенно подогнать модель под вероятную реальность, а реальность – под модель. Податливость натуры человеческой не беспредельна, как вначале думал Паломар; однако даже очень жесткая модель способна проявить порою неожиданную гибкость. В общем, ежели модель никак не может преобразовать реальность, нужно, чтоб реальность повлияла на модель.
Правило синьора Паломара понемногу изменялось, и теперь ему уже был нужен целый ряд моделей, по возможности преобразуемых одна в другую с помощью комбинаторных методов, чтоб можно было выбрать из них ту, что максимально соответствует реальности, всегда слагающейся, в свою очередь, из множества реальностей, сосуществующих в пространстве и во времени.
При этом Паломар не разрабатывал моделей сам и не пытался применять уже готовые, он только представлял себе в уме правильное применение правильных моделей для преодоления той пропасти, которая, как видел он, все шире разверзалась меж реальностью и принципами. В общем, маневрировать и управлять моделями он не умел и не имел возможности. Подобными вещами занимаются, как правило, совсем другие люди, судящие о функциональности моделей по другим критериям, оценивая их не столько по исходным принципам или воздействию на жизнь людей, сколько в качестве орудий власти. Что достаточно естественно, поскольку всякая модель стремится смоделировать в конечном счете именно систему власти; но если действенность системы измеряется ее неуязвимостью и долговечностью, модель становится своеобразной крепостью, внушительные стены коей заслоняют все, что за ее пределами. Паломар, который от властей и оппозиций неизменно ожидает худшего, в конце концов уверился, что главное, на самом деле, совершается им вопреки, – медленное, анонимное, бесшумное преображение общества – привычек, образа как мыслей, так и действий, всей системы ценностей. Тогда модель моделей, о которой грезит Паломар, должна служить созданию моделей тоненьких, как паутинка, проницаемых, прозрачных, вероятно даже, просто растворять модели, включая самое себя.
Тут Паломару оставалось лишь одно: модели заодно с моделями моделей выбросить из головы. Осуществив и этот шаг, он формулирует теперь свои «да», «нет» и «но» лицом к лицу с действительностью – непокорной и упрямо разношерстной. Удобней делать это, если голова свободна, занята одними лишь воспоминаниями о крупицах опыта и принципах, которые подразумеваются, но недоказуемы. Особенного удовольствия такое поведение ему не доставляет, но другого ничего не остается.
Покуда речь идет об осуждении неполадок в обществе и злоупотреблений тех, кто злоупотребляет, Паломар нимало не колеблется (лишь опасаясь, что и непреложнейшие истины от слишком частого их повторения рискуют надоесть, утратить вескость и звучать банально). Труднее предлагать какие-либо средства, так как прежде Паломар хотел бы быть уверен, что они не приведут в итоге к еще большим злоупотреблениям и неполадкам и, даже глубоко продуманные образованными реформаторами, смогут без ущерба быть позднее применены преемниками оных, каковые, не исключено, окажутся бездарностями или аферистами, а может быть, одновременно теми и другими.
Остается только изложить эти прекрасные идеи в систематизированной форме, однако Паломар боится: вдруг получится модель? По сей причине он предпочитает убеждения свои никак не оформлять, а, постепенно их проверив, руководствоваться ими в повседневной жизни, действуя или бездействуя, выбирая или отвергая, говоря или храня молчание.
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПАЛОМАРА
Мир глядит на мир
После ряда интеллектуальных неудач, которые и вспоминать не стоит, Паломар решил, что будет преимущественно наблюдать за внешней стороной вещей. Рассеянный, немного близорукий, самоуглубленный, он вроде не принадлежит по складу своему к разряду наблюдателей. И тем не менее всегда какие-то предметы – к примеру, каменная кладка, раковина, чайник, лист на дереве – как будто просят его пристально, не торопясь вглядеться в них; тогда почти что безотчетно он начинает за ними наблюдать, разглядывает каждую подробность и уже не в силах оторваться. Отныне Паломар решил свое внимание удвоить: во-первых, он не станет упускать призывов, исходящих от вещей, а во-вторых, он будет придавать процессу наблюдения должное значение.
Тут возникает первая загвоздка: Паломар, уверенный, что мир теперь представит ему тьму объектов наблюдения, пытается приглядываться ко всему, что ни попалось на глаза, но, не найдя в том никакого удовольствия, перестает. За этим следует второй этап: теперь он убежден, что нужно наблюдать лишь за определенными вещами, и он сам их должен отыскать; при этом каждый раз он сталкивается с проблемами отбора, предпочтительности, исключения и вскоре замечает, что опять все портит, как всегда, когда он впутывает в дело собственное «я» и все свои проблемы.
Но можно ли смотреть на что-то, отрешившись полностью от собственного «я»? А чьи тогда глядят глаза? Считается, что «я» – тот, кто выглядывает изнутри через глаза, как из окна, и озирает мир, раскинувшийся перед ним. Итак, имеется окно, которое выходит в мир. Там – мир, а здесь? Здесь тоже мир, а что ж еще? Чуть-чуть сосредоточившись, он переводит мир по эту сторону окна, чтоб тот выглядывал наружу. Что тогда осталось за окном? Там тоже мир, он просто разделен теперь на наблюдающий и наблюдаемый. А он, который «я», короче, Паломар? Он разве не кусочек мира, созерцающий другую его часть? А может быть, поскольку мир – по обе стороны окна, «я» именно и есть то самое окно, через которое взирает мир на мир? Чтоб мир мог на себя смотреть, ему приходится использовать глаза (вооруженные очками) Паломара.
Итак, отныне Паломар рассматривает все снаружи, а не изнутри, и взгляд его при этом будет исходить не изнутри его – извне. Он тут же пробует проделать это: вот теперь глядит не он, а внешний мир глядит вовне. Заключив это, он оглядывается, ожидая, что все вокруг преобразится. Как же! Та же самая обыденная серость. Надо разбираться заново. Того, что внешнее рассматривает все снаружи, мало: нужно, чтобы от объекта наблюдения тянулась нить, связующая его с тем, кто наблюдает.
От безмолвной череды предметов должен поступить какой-то знак, призыв, намек: вещь выделяется из всех, желая что-то выразить собою... Что? Да просто самое себя, вещь может быть довольна тем, что на нее глядят другие вещи, только будучи убеждена, что выражает именно себя, как окружающие ее вещи выражают каждая себя и больше ничего.
Понятно, что возможности такие выдаются редко, но в конце концов представятся, надо лишь дождаться одного из тех счастливых совпадений, когда мир захочет и смотреть, и в то же время быть обозреваемым, а тут как раз случится Паломар. Точней, синьору Паломару даже ждать не надо, ведь такое происходит, лишь когда не ждешь.
Вселенная как зеркало
Паломар страдает оттого, что у него непросто складываются отношения с ближними. Есть же люди, обладающие даром находить всегда и верные слова, и верную манеру обращения с каждым, те, кто чувствует себя в любой компании свободно и располагает к этому других, кто, с легкостью порхая меж людьми, тотчас же понимает, от кого лучше держаться в стороне, а чье расположение и доверие, напротив, следует пытаться заслужить, кто в отношениях с окружающими проявляет себя с лучшей стороны и к этому же побуждает окружающих, кто сразу понимает, чего стоит всякий по сравнению с ним самим и вообще!
«Подобные таланты, – с сожалением размышляет лишенный оных Паломар, – даются тем, чья жизнь течет в согласии с миром. Такие люди вполне естественно ладят и с вещами, и с местами, с ситуациями, обстоятельствами, со скользящими по небесам созвездиями, со сцеплением атомов в молекулах. Лавина одновременных событий, каковую именуем мы вселенной, не сметет таких счастливчиков, умеющих проскальзывать в любую щель между бесчисленными сочетаниями, перестановками, цепочками последствий, минуя траектории несущих смерть метеоритов и улавливая на лету лишь благотворные лучи. Кто дружелюбен со вселенной, с тем дружелюбна и она. Вот если бы, – вздыхает Паломар, – смог стать когда-нибудь таким и я!»
Он решает брать с таких людей пример. Отныне все его усилия устремлены будут на достижение согласия и со своими ближними, и с самой удаленной из спиралей галактической системы. Так как с ближними проблем хоть отбавляй, для начала Паломар пытается улучшить отношения со вселенной. С этой целью он прекращает или сводит к минимуму посещение себе подобных; приучается освобождать свой ум, гоня назойливые мысли прочь; звездными ночами наблюдает небеса; знакомится с работами по астрономии; осваивается с представлением о космическом пространстве, пока оно не делается атрибутом его умственного багажа. Затем пытается держать в уме одновременно очень близкое и крайне удаленное: когда, к примеру, Паломар раскуривает свою трубку, сосредоточившись на пламени горящей спички, в миг затяжки втягиваемом в головку трубки, вслед за чем начнется медленное превращение табачных нитей в жар, то ни на миг не должен забывать, что в это самое мгновение, то есть миллионы лет назад, в Большом Магеллановом Облаке вспыхнула сверхновая звезда. Его не покидает мысль о том, что во вселенной все взаимосвязано и все друг другу сообразно: если изменила свою яркость Крабовидная туманность или уплотнился шаровидный сгусток в Андромеде, это непременно как-нибудь да отразится на работе паломарова проигрывателя или же свежести лежащего в его тарелке кресс-салата.
Уверившись, что правильно определил он собственное место средь безмолвно плавающих в вакууме тел, средь пыли взвешенных в пространстве и во времени действительных и мыслимых событий, Паломар решает, что настало время применять эти космические знания к отношениям с ближними. Спешит вернуться в общество, возобновляет прежние знакомства, деловые и приятельские отношения, внимательно анализирует все свои связи и привязанности и надеется, что наконец-то перед ним предстанет четкий, ясный и ничем не омраченный человеческий пейзаж, среди которого он будет двигаться уверенно и точно. Ну и как же? Ничего подобного. Он понемногу увязает в нагромождении недоразумений, колебаний, компромиссов, неудач; пустячные вопросы не дают ему покоя, а серьезнейшие кажутся банальными, любое действие и слово выглядят неловкими, неуместными и нерешительными. В чем же дело?
Вот в чем: созерцая звезды, он привык считать себя бесплотной безымянной точкой, почти что забывая о своем существовании; теперь, когда приходится иметь дело с людьми, ему не обойтись без собственного «я», но где оно, он сам уже не ведает. Завязывая отношения с кем-то, надо знать, как с ним себя вести, определенно представлять, какую вызывает у тебя реакцию присутствие другого человека – отвращение или влечение, любопытство, недоверие или, быть может, равнодушие, кто на кого влияет, чувствуешь ли ты себя учителем или учеником, властителем или подвластным, зрителем или актером, – чтобы на основе своих и ответных реакций выработать правила игры, предугадать ходы и контрходы. По сей причине, прежде чем заняться наблюдением за другим, нелишне точно знать, каков ты сам. В этом-то и состоит особенность познания ближних: оно проходит непременно через знание самого себя, чего как раз и не хватает Паломару. Знать себя все-таки мало – еще необходимо понимать себя, сообразовываться с собственными целями, возможностями, побуждениями, то есть управлять своими склонностями и поступками, их контролировать и направлять, а не обуздывать и подавлять. Люди, восхищающие Паломара правильностью и естественностью каждого их слова, равно как и жеста, живут в согласии с собой и лишь потом уж со вселенной. Паломар, не любящий себя, всегда старался не встречаться с собой лицом к лицу, поэтому и предпочел искать пристанища среди галактик, но теперь он понимает: первым делом надо было бы добиться лада в собственной душе. Вселенная, возможно, в состоянии спокойно заниматься своим делом, он же точно – нет.
Осталось лишь одно: теперь он посвятит себя самопознанию, постигает собственную внутреннюю географию, свои душевные движения представит в виде диаграммы, на основе каковой составит формулы и теоремы, и телескоп нацелит не на те орбиты, по которым движутся созвездья, а на те, что прочертила его собственная жизнь. «Перешагнув через себя, мы не познаем ничего вне нас, – решает он, – вселенная есть зеркало, где видишь только то, что смог познать в себе».
Но вот и эта часть пути к желанной мудрости завершена. Он наконец-то сможет устремить свой взгляд в себя. Каким предстанет перед ним его духовный мир? Похожим на спокойное вращение огромной испускающей сияние спирали? На звезды и планеты, бесшумно плавающие по параболам и эллипсам, которыми определяются характер и судьба? Окажется подобен необъятной сфере, в центре коей – «я», а центр – в каждой точке этой сферы?
Открыв глаза, он видит то, что вроде наблюдал и прежде каждый день: людей, которые, не глядя друг на друга, торопливо пробираются через толпу, текущую меж высоченных стен облупленных домов-коробок. А сверху сыплет искры звездный небосвод, как отказавший механизм, который весь трясется и скрипит несмазанными стыками – форпостами на рубежах Вселенной, зыбкой, корчащейся, не способной обрести покой, как Паломар.
Как научиться быть мертвым
Паломар решает впредь вести себя как будто бы он умер, чтобы посмотреть, что будет с миром без него. С некоторых пор он начал замечать, что отношения между ним и миром уж не те, что прежде; если ранее ему казалось, будто он и мир чего-то друг от друга ждут, теперь он и не помнит даже ни чего – хорошего или плохого – мог он ожидать, ни по какой причине это ожидание его держало в постоянном возбуждении и тревоге.
Итак, отныне Паломару полагалось бы вздохнуть свободнее, раз больше не приходится гадать, а что же там готовит ему мир, и ощутить, что миру тоже стало легче, когда отпала надобность заботиться о нем. Но ожидание наслаждения успокоением повергает Паломара в беспокойство.
В общем, мертвым быть сложней, чем может показаться. Прежде всего надо отличать «быть мертвым» от «не быть», от состояния, каковое до рождения длится вечность, симметричную как будто бы той нескончаемой поре, что наступает после смерти. Но на самом деле до рождения мы являемся одной из тех бесчисленных возможностей, которым суждено или не суждено осуществиться, а когда умрем, уже не можем реализовать себя ни в прошлом (коему отныне целиком принадлежим, не в силах более на него влиять), ни в будущем (которого, хоть повлиять мы на него способны, знать нам не дано). С синьором Паломаром все на самом деле проще, ведь его возможности на что-то или на кого-то оказать воздействие всегда были ничтожны; мир прекрасно обойдется без него, он может преспокойно допустить, что мертв, даже не меняя собственных привычек. Если что и изменять, то уж не образ действий, а скорее самого себя, точнее, собственное положение по отношению к миру. Раньше миром он считал весь мир плюс самого себя, теперь – себя плюс мир, где его нет.
Мир без него – выходит, больше никаких тревог? Мир, где все то, что происходит, не зависит от его присутствия, его реакций, обусловлено каким-нибудь своим законом, надобностью или же причиной, не имеющими отношения к нему? Волна плеснула о скалу, подтачивая породу, набегает новая, еще одна, еще – неважно, есть он или нет, все так и будет. Вот отчего, наверно, смерть приносит облегчение: когда очаг тревоги, коим мы являлись, устранился, значение имеет лишь одно – как расположатся под солнцем и во времени явления в их невозмутимой безмятежности. Вокруг сплошная тишь да гладь, по крайней мере все стремится к этому, включая ураганы, извержения вулканов и землетрясения. Но разве мир был не таким при нем? Ведь шторма всегда несут в себе затишье, подготавливая миг, когда обрушится последний из валов и ветер стихнет. Умереть, быть может, – значит очутиться в океане вечных волн, где бесполезно дожидаться штиля?
Мертвые всегда взирают с осуждением. Места, стече-нья обстоятельств, ситуации остались в общем те же, что при них, и узнавать бывает их приятно; в то же время невозможно не заметить множества больших и малых перемен, которые как таковые, может, и не вызвали бы возражений, отвечай они закономерному развитию событий, но они необоснованны и беспорядочны, и это действует на нервы – большей частью потому, что то и дело хочется вмешаться и внести необходимую поправку, а когда ты мертвый, сделать это невозможно. Отсюда внутренний протест, почти растерянность, но также и самодовольство, характерное для тех, кто знает: главное – каким было их собственное прошлое, а остальному придавать особого значения не стоит. Но все мысли вскоре заглушает чувство облегчения от сознания: отныне все проблемы – это трудности других, их личные дела. Умершим абсолютно все должно быть безразлично, пусть теперь другие беспокоятся, и хоть это покажется безнравственным, такая безответственность им доставляет радость.
Чем больше приближается к описанному состояние души синьора Паломара, тем ему естественнее представлять себя умершим. Само собой, он не достиг еще той благородной отрешенности, которая казалась Паломару свойством мертвых, их неизъяснимого благоразумия, не вышел из пределов собственного «я», как из туннеля, выводящего в иные измерения. Порой он верит, что хотя бы смог избавиться от раздражения, которое испытывал всю жизнь, глядя, как другие все делают не так, и полагая, что он сам на месте их, конечно, тоже ошибался бы не меньше, но всегда бы это понимал. На самом деле он все так же раздражается и сознает, что нетерпимость к промахам – чужим и собственным – пребудет до тех пор, покуда будут промахи, которых не отменит никакая смерть. Ну что ж, придется привыкать: для Паломара быть покойным – значит притерпеться к разочарованию от того, что он такой, как есть, и уже нет надежды, что изменится.
Паломар вполне осознает, какими преимуществами обладают перед мертвыми живые, не из-за того, что их ждет будущее, – риск всегда велик, а блага могут оказаться эфемерны, – а оттого, что у живых имеется возможность сделать собственное прошлое благообразнее. (За исключением тех, кто полностью доволен прошлым, но это случай слишком малоинтересный, чтобы принимать его в расчет.) Жизнь человека складывается из совокупности событий, и последнее способно наделить всю совокупность новым смыслом, но не потому, что значит больше предыдущих, а потому, что место каждого события в жизни человека определяется не хронологией, а внутреннею жизнью. К примеру, некто в зрелости прочитывает важную для него книгу и говорит: «Не понимаю, как я раньше жил!» и: «Жаль, что я не прочитал ее, когда был молод!» Так вот, в высказываниях этих смысла мало, в особенности во втором, поскольку стоит человеку прочесть эту книгу, как жизнь его становится отныне жизнью человека, прочитавшего ее, и рано это происходит или поздно, все равно, поскольку жизнь, которую он прожил до прочтения этой книги, все равно теперь отмечена ее прочтением.
Для того, кто учится быть мертвым, наитруднейший шаг – убедиться в том, что жизнь его есть завершенное единство, полностью принадлежащее минувшему, и что-либо к нему добавить или как-то повлиять на отношения меж элементами уже нельзя. Конечно, те, кто продолжает жить, могут на основе изменений в собственной их жизни кое-что переменить и в жизни тех, кого уж нет, придав угодную им форму тому, что формы или не имело, или же имело вроде бы иную, – например, того, кого дотоле поносили за противоправные деяния, признать борцом за правое дело, или того, кого ждал прежде неминуемый невроз или психоз, восславить как поэта или как пророка. Важны такие изменения, однако, преимущественно для живых, а мертвым вряд ли есть от них какая-нибудь польза. Каждый сделан из того, что пережил и как переживал, и этого никто не может у него отнять. Кто жил страдая, состоит из собственных страданий; ежели его лишить их, он перестанет быть собой.
По сей причине Паломар готовится стать желчным мертвецом, которому весьма непросто будет примириться с тем, что он останется таким, как есть, хоть он и не согласен поступиться ни одной своей чертой, включая те, что ему в тягость.
***
Конечно, можно возлагать надежды и на механизмы, позволяющие хоть частично уцелеть в потомстве; в основном они двух видов: биологические, позволяющие передать грядущим поколениям ту часть себя, что именуют генетическим наследием, и исторические, те, благодаря которым память и язык живущих на земле обогащаются солидным или скудным опытом, который наживают и накапливают даже самые неискушенные среди людей. Два механизма эти можно расценить и как один, представив вереницу поколений как этапы одной жизни, длящейся веками и тысячелетьями, но так проблему можно лишь отсрочить – от собственного индивидуального конца до вымирания человеческого рода, сколь бы поздно это ни произошло.
Задумавшись о собственной кончине, Паломар уже воображает смерть последних из людей – своих потомков и наследников: на разоренной, обезлюдевшей земле высаживаются исследователи с другой планеты, расшифровывают иероглифы на пирамидах, перфокарты электронных вычислительных машин, и память рода человеческого, возрожденная из пепла, вновь распространяется по обитаемой вселенной. Но сколько б ни было отсрочек, наконец придет момент, когда замрет в пустынных небесах иссякнувшее время, когда последняя материальная опора памяти о жизни обернется вспышкой жара или обратится в ледяной кристалл.
«Если рано или поздно времени придет конец, то можно было бы описывать его мгновение за мгновением, – размышляет Паломар, – а каждый миг, когда его отображаешь, удлиняется до бесконечности». И он решает, что займется описанием каждого мгновения своей жизни и, пока все не опишет, не станет представлять, как будто его больше нет. В этот миг он умирает.
***
Единицы, двойки, тройки, нумерующие заголовки в оглавлении – неважно, занимают они первое, второе или третье место, – кроме указания порядка также соотносятся с тремя кругами тем, соответствуют трем видам опыта, трем категориям вопросов, которые присутствуют – в неодинаковой пропорции – в каждой части книги.
«Единицы» в целом означают наблюдение – почти всегда за формами природы; текст близок к описанию.
Для «двоек» характерны элементы антропологии, культуры в широком смысле слова; опыт кроме внешней стороны явлений затрагивает также и язык, значенья, символы. Текст превращается в рассказ.
«Тройки» отражают более умозрительные построения, имеющие отношение ко времени, вселенной, бесконечности, взаимоотношениям меж личностью и миром, свойствам разума. Описание и рассказ сменяют размышления.
1. ПАЛОМАР ОТДЫХАЕТ
1.1. ПАЛОМАР НА ПОБЕРЕЖЬЕ
1.1.1. Чтение волны
1.1.2. Голая грудь
1.1.3. Солнечная дорожка
1.2. ПАЛОМАР В САДУ
1.2.1. .Любовные игры черепах
1.2.2. .Посвист дрозда
1.2.3. Бесконечный луг
1.3. ПАЛОМАР ГЛЯДИТ НА НЕБО
1.3.1. Дневная луна
1.3.2. Глаз и планеты
1.3.3. Созерцание звезд
2. ПАЛОМАР В ГОРОДЕ
2.1. ПАЛОМАР НА ВЕРАНДЕ
2.1.1. . С веранды
2.1.2. Брюшко геккона
2.1.3. Нашествие скворцов
2.2. ПАЛОМАР ДЕЛАЕТ ПОКУПКИ
2.2.1. Полтора кило гусиного жира
2.2.2. . Музей сыров
2.2.3. . Мрамор и кровь
2.3. ПАЛОМАР В ЗООПАРКЕ
2.3.1. Бег жирафов
2.3.2. .Горилла-альбинос
2.3.3. Подкласс чешуйчатых
3. УМОЛЧАНИЯ ПАЛОМАРА
3.1. ПАЛОМАР ПУТЕШЕСТВУЕТ
3.1.1. . Песчаный газон
3.1.2. . Змеи и черепа
3.1.3. Непарные туфли
3.2. ПАЛОМАР И ОБЩЕСТВО
3.2.1. .О прикусывании языка
3.2.2. .Об обидах на молодежь
3.2.3. Модель моделей
3.3. РАЗМЫШЛЕНИЯ ПАЛОМАРА
3.3.1. .Мир глядит на мир
3.3.2. .Вселенная как зеркало
3.3.3. .Как научиться быть мертвым