
Игорь Иванович Акимушкин
С вечера до утра

Откуда приходит ночь?
(Вместо введения)
Ночь приходит к нам с другой стороны Земли. Оттого это происходит, что Земля вертится — факт, в муках познанный человечеством и ныне известный каждому школьнику. И вокруг себя вертится, и вокруг Солнца. Вокруг Солнца обегáет наша планета за год — и оттого возникает чередование времен года. Вокруг своей оси вся масса Земли прокручивается за 24 часа (точнее, за 23 часа и 56 минут), и получается на Земле от этого верчения чередование дня и ночи. Солнце слишком далеко от нас — за 150 миллионов километров! — и его прямые лучи освещают и греют каждую секунду лишь немногим больше 50 % поверхности Земли. Дальше, по краям этой освещенной поверхности, по ту, обратную Солнцу, сторону земного шара, куда прямые солнечные лучи не попадают, а только отраженные в атмосфере, там образуются зоны сумерек — вечерних и утренних, а если делить их по научным категориям — астрономических, мореходных и гражданских.
Дальше за сумерками, вне сферы достижения всех вообще солнечных лучей, — круглая зона ночи. Примерно на 40 % земной поверхности простирает она свой мрак.
Земля вертится быстро, и так же проворно бежит с востока на запад, с меридиана на меридиан, из страны в страну, зона ночи. Бежит, одолевая на экваторе почти полверсты в секунду — около 1670 километров в час.
Перемещению зоны ночи по планете соответствуют «часовые пояса». На экваторе, где окружность Земли наибольшая, каждый «часовой пояс» максимально широкий. К полюсам Земли расстояния между широтами постепенно уменьшаются. Здесь и меньший путь в вечном своем круговороте пробегает за час ночная тень Земли. На каждый новый меридиан на своем пути (точнее, на каждый градус долготы) приходит она с запозданием на 4 минуты. Чем ближе к полюсу, тем короче ночь и длиннее день (летом, а зимой — наоборот) и ближе (во времени!) рассвет к закату. Уже на семидесятой параллели вечерние и утренние (астрономические!) сумерки встречаются (незаметно сменяют друг друга). От этого происходят так называемые белые ночи: с конца марта по третью декаду сентября (на 70-м градусе северной широты). Ближе к северу длиннее период белых ночей: с 28 января по 13 ноября на Северном полюсе. Южнее 48-й параллели (или севернее в Южном полушарии) белых ночей не бывает (но двумя градусами севернее они еще есть: с 21 июня по 12 июля).
На экваторе Земли (и в областях, близких к нему) день и ночь зимой и летом почти равны. Сумерки мимолетно краткие (24 минуты на экваторе), и ночь быстро наступает, лишь только сядет солнце (в шесть часов вечера).
Вечерние сумерки — предвестник ночи, быстрое (в тропиках) и постепенное (у нас) угасание дня. И тут возникает вопрос, который по-разному решался людьми в разных странах и в разное время: когда кончаются сумерки и начинается ночь?
Магометане считают началом ночи то время суток, когда на минарете в вытянутой руке не видно нитки. Если белую нить уже можно ясно отличить от серой — кончилась ночь, пришел день. У астрономов ночь короче: начало ее, когда уж давно мерцают в небе самые яркие звезды, а звезды «седьмой величины» (едва видимые невооруженным глазом) лишь только загораются. В этот момент солнце опустилось за горизонт на 18 градусов.
Мореходные, или навигационные, сумерки — когда очертания деревьев неясны и расплываются, линия горизонта не видна и на небе зажглись первые яркие звезды. (Солнце по ту сторону горизонта опустилось на 12 градусов.)
Гражданская ночь приходит еще раньше: лишь солнце успеет «удалиться» вдвое меньше за горизонт (на 6,5 градуса), на небе не блещет ни одна звезда, в полях еще достаточно светло, и небо светлое, но в домах и на улицах сумрачно (читать уже нельзя), и тогда зажигают городские огни.
Эти огни удлиняют человеческий день. Когда впервые вспыхнули дымные факелы и костры в пещерах, где жили наши далекие предки, сразу род людской получил много дополнительных и нужных ему светлых часов для труда и размышлений. Возможной стала и пещерная живопись, и рассказы устные у костра, обучение детей ремеслам, знакомство их с преданиями и традициями племени.
Словом, осветив свои жилища, человек приобрел лишнее время для труда, искусства и изобретений, для развития ума и рабочих навыков — для всего того, в чем ограничивал его мрак ночи.
Человек — существо дневное, как и предки его обезьяны, хотя неплохо видит и ночью: огонек свечи — больше, чем за версту, а детали ночного пейзажа — при освещении в миллиард раз более слабом, чем, например, на солнечном пляже. Но разницу в цвете этих деталей наш глаз не различает. Можно сказать, что ночью мы — абсолютные дальтоники: видим все темным и серым. Только при очень яркой луне замечаем кое-какие краски ночного ландшафта.
Животные, бодрствующие ночами, кажется, и на это не способны. А к темно-красному цвету вообще слепы: он для них все равно что черный и поэтому не пугает.
Вооружившись соответствующими фонарями и приборами, исследователи узнали многое о тайнах ночной жизни.
Мир ночи наших лесов и полей
«Нощный вран — сова»
Меркнут краски. Небо, голубизну теряя, блекнет. Алеет еще закат над дальним лесом, над островерхой темной его стеной, подпирающей небосвод, но понизу, в гуще кустов и деревьев, уже сумрачно. Туман, неведомо откуда появляясь, ползет по луговинам, застилая серой, белесой сверху пеленой потяжелевшие от росы травы.
Тьма наступает на тот бок Земли, который во вращении своем отвернула она от Солнца. Вот и небо помрачнело, и первые, «главные», звезды зажглись. Бездонная глубина небосвода насытилась мраком, переполнилась созвездиями. Ночь пришла. Полноликая луна пристально глядит на мир, равнодушная к тайнам ночи, извечно пред нею открытым…
Выйдем в ночь. Послушаем тишину. Лес в объятиях мрака. Черные притихшие деревья, черные силуэты кустов…
…Вдруг где-то на краю поляны, седым туманом раздвинувшей черноту леса, неожиданное и громкое «ху-ху-хууу». Тишина до звона в ушах. И опять — «ху-ху-хууу». Пауза. «Ху-ху-хууу» с некоторым дребезжанием на последнем слоге… Отрывистая трель «у»…
Шагнули туда, поближе, хрустнул невидимый сучок под ногой — резкое «кью-витт, кью-витт» тревожным окриком вспугнуло покойную дремоту леса. Затаилась, замерла настороженная тишина под хмурыми елями, в сонных ветвях берез.
«Филин ухает!» — скажет, возможно, ваш неопытный в ночных криках спутник (если вы не в одиночестве вышли в лес). На филина вроде бы похоже. Тому, кто его не слышал, такое суждение извиняется. Филинами оскудели леса: мало филинов осталось. А это «ху-ху-хууу» (с вариациями «ху» и «кью-витт») совсем нередко слышится в апрельском лесу: самец серой неясыти, обычной в Центральной России совы, зовет самку. Они живут в единобрачии, годами сохраняя верность друг другу. Весной после разлуки летят туда, где и прежде были их гнезда. И вот кричат тихими ночами, чтобы найти друг друга: он «ху-ху-хууу», она — «кью-витт» (или «кью-виик» — кому как слышится).
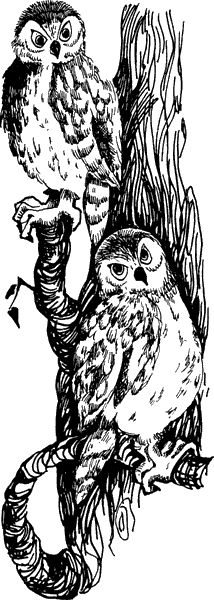
В наших лесах, парках, садах истребляют эти совы безмерное множество мышей, полевок, крыс — легионы мелких грызунов! Человеку большая польза от серых неясытей (впрочем, и от всех сов). Съедят они, конечно, и певчую птицу, и голубя, если им в когти попадутся, лягушку, ящерицу, насекомое, даже дождевого червя и рыбу, но мышевидные грызуны — главное, чем они кормятся.
Весной (да и все лето до осени!) тихими ночами над уснувшим хвойным лесом слышатся монотонные, тоскливые крики: «Дьюу… дьюу… дьюу…» С вечера до утра, всю ночь порой, эти унылые песнопения печально звучат из мрака.
Что хочет выразить этими криками сыч-воробей, самая крохотная сова наших лесов? Это не призыв к подруге, покинувшей его в одиночестве. Она годами с ним. Неразлучная пара. Даже зимой кочуют по лесам вместе, а если расстаются, то ненадолго. У них общие, на двоих, кладовые, с предусмотрительно заготовленными запасами пищи — в дуплах, в расщелинах между камнями.
Другой сыч, мохноногий, крупнее немного воробьиного, живет в тех же хвойных лесах Европы и Азии (а также в Канаде и США). По весне ночами много кричат мохноногие сычи «ку-ку-ку!» скороговоркой и на высоких нотах. Сыч домовый поселился у нас южнее Оки, Уральских гор и Байкала.
Сычи — самые маленькие совы (крыло, если расправить его, сантиметров десять всего). А филин — сова самая большая (когда крылья раскинет, полтора метра и больше между концами!).

Ночами (да и днем нередко) не дает филин покоя соседям. От мышонка до зайца, от синицы до тетерева — всех готов съесть. Даже ежа не спасают колючки от длинных когтей филина. В тайге и в степи, в пустыне, на равнинах и в горах разбойничает филин. Селится в местах уединенных, подальше от людей. Встретиться с ним — задача непростая. Однако отправимся в северный лес, куда-нибудь за Вологду (там, я знаю, на моховом болоте, где токуют глухари, живет филин). Проберемся узкой просекой в мелкорослый густой сосняк. К ночи придем на место. Присядем на лесину, будем смотреть и слушать.
Луна посеребрила половину поляны, вторая — как отрублена черной тенью леса. И вот беззвучно от той черноты словно кусок оторвался. В небо взметнулся, заслоняя по ходу пути светлые звезды. Пролетел через лунный свет по ту сторону поляны, затерялся в лесу. Потом глухое «ху-хуу» донеслось оттуда. Пауза. «Ху-хуу». «У-у-у» — протяжно и жалобно…
Ответили позади нас будто гудением: «у-у» — почти как из детской трубы. Сейчас же отделилась крылатая тень от черного леса, полетела, хлопая крыльями. Села на сук — совсем рядом. Подсвечена луной сзади — и видно, что сова, и видны уши на ее круглой голове. Длинные, торчком.
Да… уши длинные, а птица маловата… С серую неясыть. Пожалуй, и меньше. Тонка телом — стройная, как говорится. Разрешим сомнения: это ушастая сова — не филин.
Она почти в тех же странах живет, что и он, в тех же ландшафтах, но соседства людей не избегает. «Кочующая» птица — из северных областей в зимнюю пору улетает южнее. По пути на зимние квартиры и на зимовках собираются ушастые совы иной раз десятками. Вместе прячутся на день на одном дереве (или на нескольких рядом). Сидят, по своему обыкновению, тесно прижавшись к стволу.
Ну, а где же филин? Каверзный вопрос. Нету филина. Не дождались мы его, не увидели. Может, все тут уж вымерли… Беречь надо тех, что уцелели. Он, филин, говоря языком науки, «несомненно, заслуживает охраны как прекрасный памятник природы».
Теперь, если из лесов северных выберемся в места более открытые — в луга и степи с перелесками (либо в тундру, полупустыню, в горы!), найдем здесь еще одну сову с ушами (и тем похожую на филина). Ее называют болотной. Она охристо-рыжая, желтоглазая, черноклювая и (единственная из наших сов!) сама строит гнезда — на земле из сухой травы. На мышей охотится ночью и днем (обычно до полудня и вечером). Весной и ранним летом самцы этих сов летают над сырыми лугами, над зеленью полей, кричат «бу-бу-бу» и хлопают крыльями.
…А вокруг темная, теплая южная ночь раскинула, как писали в старину, мрачные крылья свои. И в этой ночи — свист! Не удалой вольницы, не разбойничий, а печальный и мелодичный — «сплю-ю». «Сплю-ю» — над садами, серебристыми в призрачном сиянии луны, над хлебами, обступившими уснувшее село. Так и зовут, как она сама о себе возвещает, эту ночную птицу — сплюшкой. Небольшая она. И тоже у нее — «ушки на макушке».
Сколько же тогда у нас ушастых на манер филина сов? Ответ такой: семь. Одна большая — филин. Две средних — ушастая и болотная. Четыре маленьких — сплюшка и три других совки. В Средней Азии — совка буланая, в Приморье — ошейниковая и уссурийская. А совка сплюшка к югу от Оки, Уральских гор и Байкала живет у нас почти всюду (кроме прикаспийских и среднеазиатских степей и пустынь). В Индии и Африке ее «сплю-ю», протяжное и мелодичное, тоже ночами слышится.
Совы — хищные птицы. Старые зоологи полагали, что ближайшие их родичи — орлы, ястребы, соколы — словом, дневные хищники. Но чем больше изучали сов, яснее становилось: сходство здесь только внешнее.
Взглянем на гнездо совы — как, из чего она его строит? Собственно, никак и из ничего. Есть готовое воронье — займет, немного подправит. Нет гнезда чужого — вытопчет самка филина ямку в земле и два-три, а то и пять белых яиц без всякой мягкой или жесткой подкладки в ней насиживает. В такой же ямке и белая сова больше месяца согревает в прохладные дни и ночи полярного июня полдюжины своих яиц. В дупле на голой древесине, в норе на сырой земле, на каменной жесткости в расщелине скалы (сыч) или где-нибудь под крышей сарая неплохо устраиваются совы со своим потомством. Только болотная сова сооружает кое-какое примитивное гнездовое устройство на земле.
В кишечнике древних хищных птиц нет слепых выростов (тех самых, остатки которых, атрофированные за ненадобностью, воспаляются у нас — вот и аппендицит!). У сов (у козодоев, кстати, тоже, а еще у кур и гусей) слепые кишки длинны и вместительны. Для чего? Непонятно. Как гуси и куры, зерна и зелень — пищу, которая переваривается в «бродильных чанах» слепых кишок, — они не едят. Возможно, унаследован совами и козодоями этот атавистический дар от общих предков-вегетарианцев. Зоба, который до предела наполняют мясом дневные хищные птицы, у сов нет. Поэтому сова ничего сразу много съесть не может. Остатки трапезы прячет где-нибудь в дупле, чтобы потом к ним вернуться.
Как ястреб, сокол или орел, ощипывать перья и шерсть с птицы или зверька, которых поймает, сова не будет. Проглотит целиком. Велика добыча — разорвет на куски, ест их с перьями и костями (филин, правда, большую добычу ощипывает, но всегда ли — не ясно).
Сокол и ястреб даже мясо отдирают от костей, чтобы твердое не есть. И они, конечно, глотают небольшие косточки. Попадают в желудок вместе с мясом и перья, и шерсть, но не в таком обилии, как у сов. Поэтому погадки (свалявшиеся в ком перья, шерсть, хитин и непереваренные остатки) дневные хищные птицы выбрасывают из желудка (через рот) не часто: когда от многих обедов накопится все то, что переварить нельзя. В их погадках немного осколков костей. Совиные погадки костями «нашпигованы» основательно. Ребра съеденных птиц и мышей и даже целые их черепа так хорошо в желудке обработаны, что годятся прямо из погадок в коллекции музеев.
Яйца у сов белые, с блестящей скорлупой. Новорожденные совята одеты пухом. Но слепые и глухие. Птенцы орлиного племени, взломав скорлупу яиц, уже с любопытством рассматривают мир черными глазками. Слышат с первого дня после появления на свет.
Глаза и уши совят открываются через неделю. Они скоро линяют, меняя первородный пух на мезоптиль — мягкие перышки, нечто среднее между пухом и пером, уникальное произведение природы, которого, кроме сов, ни у кого больше нет.
Собственно, совята не линяют по общему у птиц образцу. Пух не выпадает, а растет и растет — и вот оказывается, что сидит каждая пушинка на вершине мезоптильного пера.
Некоторые тонкие, ускользавшие от наблюдателей детали кормления совят теперь замечены.
Ястреб и сокол, ощипав добычу, рвут ее мелко (чеглоки — даже на тонкие волокна!). В клюв берут и держат затем над птенцами, те быстро хватают подношения.
У сов насыщению птенцов предшествует обязательная процедура «касания». Всем, что предназначается в пищу совенку, сова прикасается сначала к его голове, к углам клюва. Тогда только ее ребенок, точно очнувшись, реагирует на то, чего давно ждал, проголодавшись, и боком клюва хватает пищу.
Увидим ниже, ощупывание углами рта — проверка съедобности! — в обычае даже у взрослых сов. Это немного странно: ведь совы в ночных поисках полагаются не на осязание, как другие птицы, промышляющие в темноте (киви, некоторые утки и кулики), а на великолепный свой слух и всевидящее во мраке око.
Это око! Круглое, пристальное, не мигая зрящее, будто проникающее в суть вещей — какие сокровенные тайны скрыты в лупоглазой голове филина? Из-за глазастости, невозмутимого философского спокойствия, с которым взирает сова на грешный мир, объявили ее древние греки символом мудрости и познания.
В мультфильмах нередко весьма впечатляюще «крутит» сова глазами. Но реальная, живая сова этого делать не может: слишком прочно соединены они с черепом. Да и глаз совиный вовсе не круглый: лишь снаружи, в обрамлении век, кажется таким. Если вскрыть окружающие глаза ткани и вынуть его целиком из совиной головы, неожиданно предстанет он в виде частично окостеневшей укороченной трубки, сзади более широкой. Бинокль, короткая подзорная труба — этот телескопический глаз! Не круглая дагеррокамера с малым фокусным расстоянием, как почти у всех, взирающих на мир.
Угол зрения каждого совиного глаза — 160 градусов. Но когда сове этих градусов мало (ведь глазами не «крутит»!), она поворачивает голову вбок, назад и, не свернув шеи, даже дальше: на 210, а иные и на 270 градусов от фронтального положения (и все в одну сторону вокруг вертикальной оси!).
Темной ночью сова видит неподвижную мышь при освещении всего в 0,000002 люкса! Если и в 46 000 раз будет светлее, все другие птицы (кроме, может быть, козодоя) мышь не заметят. Трудно вообразить, как мала доля света, достаточная сове, чтобы с успехом охотиться. В ясный полдень под Москвой солнце освещает землю, например, с силой в 100 000 люксов!
Совы и днем неплохо видят. Не хуже, а некоторые и лучше человека. Больше того, они, как другие птицы и звери (и, по-видимому, ящерицы), на светлом небе, даже на фоне яркого солнца, отлично различают силуэты парящих птиц. Способность, утерянная нами, а возможно, и изначально не данная от природы. Некоторые совы охотятся и днем: это болотная сова, а еще — ястребиная. Нередко и филины, сычи.
Но есть и у совы зрительные дефекты. Она дальнозорка и близко перед собой, по-видимому, ничего не видит.
Положите мучного червя перед совой сплюшкой. Она безуспешно много раз попытается схватить его лапой, так как заметила, когда подносили, что он тут рядом. Но где лежит, не видит. Отойдет назад на несколько шагов, обозрит червя с отдаления и тогда уверенно схватит его.
Филин, когда поймает крысу, подержит ее немного в когтях — характерная для сов пауза! — задушит и поднесет к «лицу». Но не рассмотреть хочет, где у крысы голова, чтобы с нее начать есть, как у филинов принято. Нет, он глаза даже и вовсе закрыл, а крысу, прижимая слегка к клюву, «ощупал» осязательными перьями-щетинками, которые растут у «корня» совиного клюва.
Какой тонкий у совы слух, продемонстрировал один слепой сыч. Он слышал совершенно неуловимый нашим ухом «шум» медленно сгибаемых пальцев, смещение мышц и сухожилий! Совы слышат, как ползет по стене таракан… Их ухо раз в пятьдесят более чувствительный акустический «прибор», чем наше (хотя и работает в том же диапазоне частот). Из птиц только у совы есть своего рода ушные раковины — кожные валики вокруг уха, на которых растут особые твердые перья (торчащие над головой уши филина — украшения, к акустике не имеющие отношения). Звуки «загоняют» в уши и перья, распушенные веером вокруг глаз совы — «лицевое зеркало». «Загоняют», встав вогнутым щитом на их пути не позади ушного отверстия в голове, как у зверей, а перед ним. Это значит, что сова лучше слышит звуки, которые доносятся сзади. Но подвижная более чем на пол-оборота голова позволяет ей, не сходя с места, повернуть ухо к звуку с любой стороны.
Асимметричное положение на голове правого и левого уха (это у многих сов) — не уродство, а специальное приспособление, облегчающее точную пеленгацию источника звука. Пытаясь установить, откуда слышен шорох, сова комично выворачивает голову вбок и вниз.
Бесшумная, как тень, появляется сова на фоне серого неба. Не слышно ни взмахов крыльев, ни шелеста перьев. Невольно вздрогнешь, когда она вдруг возникнет над тобой… В ее мягком оперении предусмотрены природой разные хитрые глушители звуков, и поэтому бесплотным призраком летает сова в ночи.
Когда год на корма урожайный, у сов семьи многодетные — иные по два раза в лето гнездятся (сипухи даже и зимой!). А в голодные годы не все и размножаются, яиц тоже мало в гнездах.
Из гнезд совята вылезают рано. Еще летать не умеют, а уже пошли, отправились, где скоком, где порханием осваивают окрестности. Встретит их кто большой — распластаются на земле, крылья раскинут, голову вверх вывернут, клювом щелкают. Пугают! Не встретится никто, не поймает, не убьет — заберутся в куст, забьются в кочки, меж камнями, а то и в дупло. Лезут, цепляясь когтями, крыльями, даже клювом! Сидят, притаились, иногда покрикивают — родителям сигналы. Те их не бросают. Найдут — кормят.
Совы живут долго: сычи в неволе по двадцать лет и больше, а один филин 68 лет прожил! В мире больше ста видов разных сов. Обитают во всех странах (только в Антарктиде и на некоторых островах их нет).
И во всех этих странах (кроме приполярных областей севера и юга) летают во мраке лесов и степей другие ночные птицы — козодои.
Ночные «ласточки»
Странное название «козодой» рождено недоразумением: ночами летают эти птицы среди пасущегося стада, привлекают их насекомые, а народная молва решила (еще во времена античной древности), что сосут мягкокрылые птицы молоко коров и коз. Их широкий рот как будто бы для этого годится, что, конечно, не верно.
В наши леса, степи и полупустыни самцы козодоев прилетают из Африки (в Сибирь — из Индии) раньше самок. Прилетают ночью, а днем, прижавшись к земле или к суку, сидят неподвижно, полузакрыв глаза. Увидеть их трудно. Но в вечерних сумерках они выдают себя. Протяжная мурлыкающая или, скорее, приглушенная трескучая, несколько картавая трель — «трррр» — песня самца козодоя звучит над перелесками и полями. Выкрикнув резко «кувык», он срывается с дерева, на котором ворковал, и летит неровным полетом, лавируя между деревьями. Приподняв крылья, хлопает ими над собой. Веером распускает хвост, чтобы показать белые пятна на нем. Самка отвечает криком или летит на зов. Самец за ней.
Гнезд козодои не делают. Прямо на голой земле, на опавших листьях и хвое, на мху, порой даже на лесной тропе насиживают два яйца. Жесткие стебли, которые тут лежат, самка отбрасывает в сторону, чтобы не мешали. Самец насиживает меньше самки, обычно в сумерках и ночью. Врагов отводят от кладки, притворяясь ранеными, волоча крылья и перепархивая. А затем откатывают яйца (продвигаясь задом вперед!) на несколько метров в сторону, потому что прежнее их местоположение не безопасно.
Птенцы через несколько дней уже ползают вокруг. Днем прячутся у матери под крыльями, а угаснет солнце — тормошат ее, прикасаясь к щетинкам у рта: просят есть. Мать летит на охоту.
Летают козодои с закрытым клювом. Только перед тем как схватить жука или мотылька, раскрывают свой невероятно широкий рот. Насекомых приносят в горловом мешке. Возбужденно попискивая, встречают их птенцы. Родители погружают клювы в широкие их рты и отдают добычу.
Птенцы растут быстро. Две-три недели от голого места на земле, где они вывелись, далеко не уходят (но «уборные» в стороне: узкое белое кольцо высохшего помета окружает «гнездо»!). Потом, когда научатся летать, живут с родителями до августа — сентября, до отлета на юг.
В некоторых местах Средней Европы бывает у козодоев летом вторая кладка. Тогда разделяют родительские обязанности в семье так: самец заботится о первом выводке, а самка насиживает второй.
Когда погода плохая, насекомых мало, козодои, как и стрижи, цепенеют в неподвижности, температура их тела падает, энергия экономится. Много дней и ночей может длиться подобная голодная спячка.
Козодои — птицы ночи. Днем они не летают, если не спугнуть их с гнезда или с места дневного сна. Но и тогда пролетят немного и тут же где-нибудь невдалеке снова затаятся. А затаившегося на земле или на ветке козодоя, даже у себя под ногами или прямо над головой, заметить очень трудно.
Вполне доверяя своей совершенной покровительственной окраске, которая делает их невидимками, сидят они крепко, подпускают близко, позволяют почти наступить на себя — и тогда лишь внезапно сорвутся, заставив вас вздрогнуть от неожиданности, и легким вертким полетом умчатся в чащу леса.
Австралийские козодои, лягушкороты, когда сидят, вытянувшись вертикально, на суках или изгородях (закрыв до узких щелей глаза!), так похожи на обломки суков, что, случалось, человек, подойдя, мог положить на них руку, не подозревая, что это птица, а не кусок дерева!
Когда зори встречаются…
Короткими летними ночами, когда уже с подмосковных широт и севернее отсветы вечерних и утренних зорь почти встречаются, когда на западе до утреннего посветления востока не гаснет, а холодно, блекло светится над чернотой неподвижного леса зеленоватый край неба, — в эти июньские ночи над темными лугами, по лесным полянам и опушкам, в ивняках у воды слышатся звонкие или тихие, мелодичные и резкие, отрывистые и нескончаемые трели, свисты, стрекотание и вообще ни на что не похожие странно звучащие голоса птиц, которым, казалось бы, давно уснуть пора.
Соловьи поют не умолкая. Поют камышовки в кустах по сырым низинам, у рек и озер.
В полях и лугах в белесой туманной пелене «бой» перепелиный — «пить-полоть» («спать пора!»), через размеренные интервалы, вторгаясь в звуки ночи, заглушает на время однообразные трели полевых сверчков и уханье жерлянок в ближнем пруду.
Или вдруг резкое кряканье какое-то, звучный треск разрывает тишину, словно плотное полотнище. Трудно передать словами это монотонное (как у перепела, через интервалы слышное) «дерганье» — крик дергача (он же коростель), небольшой (с крупного дрозда) бурой птицы. Живет она рядом с нашими деревнями, летними дачами, в сырых низинах у озер и болот, в молодых хлебах, но увидеть ее трудно. Редко когда полетит, свесив ноги, или выйдет из трав и осок на открытое место и никогда здесь долго не задержится. Зимуют коростели далеко — в Африке. И, говорят, почти всю дорогу (по ночам!) идут туда пешком! Возможно, что и так, но как это увидеть и доказать?
Коростеля и родичей его — погоныша, пастушка, лысуху — называют пастушковыми птицами, а в народе часто — болотными курочками. Жизнь ведут незаметную, живут с нами по соседству, но мало кто их видел. Только разве лысухи (черные птицы с белым щитком на лбу) иногда плавают на плесах заросших камышами озер, тихих заводей и рек. Другие, как коростель, таятся в гуще болотных и приозерных трав. Редко летают, но бегают, пригнув голову, меж стеблями камышей и осок прытко, ловко и, можно сказать, тайно: мелькнут — и тут же в двух шагах уже невидимы. Тело с боков у них заметно сжато, чтобы легче между травами лавировать. Позвоночник гибок, как ни у одной птицы. Для тех же целей проворного маневрирования в дебрях трав, наверное, и костяные щитки у них на лбах — белые, красные, оранжевые — оберегают головы от наколов и порезов.
…Отрывистый посвист «фить-фить» (словно стадо или коней подгоняют!) слышится по вечерам и ночам вблизи прудов и озер, в густой щетине рогоза, из болотных кустов в сыром логу, порой у самой дороги. Пугает этот посвист иных запоздалых путников, так как похож на подозрительную перекличку хулиганов и прочих недобрых людей. Похож и на свист пастухов, погоняющих стадо или табун коней.
Этого свистуна и зовут у нас погонышем: тоже болотная курочка, собрат и сосед неблагозвучно «дергающего» неподалеку коростеля.
Тот, кто услышит свист погоныша и о пастухах подумает, еще более уверится в своих предположениях, когда «бычий рев» неожиданно громко потрясет влажный воздух над ближним болотом: «У-трумб-бу-бу» или «ум-муу-бу»… Словом, мычит кто-то быком в густых тростниках, в крепких местах, где скот обычно ни днем ни ночью не пасут.
Бугаем, болотной коровой, большой выпью называют эту птицу, которая столь странными серенадами с ранней весны и по июль приглашает самок на свидание. Они, невидимые в темноте, летают вокруг. Увидев, услышав их, самец выпь «мычит» еще азартнее и громче.
Выпи тоже порой живут вблизи от наших загородных домов, но многие ли их видели? Умеют таиться, пожалуй, получше болотных курочек. В упор увидеть выпь почти невозможно. Замрет, вытянув стрелой вверх тело, шею, клюв, в одной вертикали. Оперение у выпи — в тон тростников и болотных трав. А если стебли, укрывшие ее, колышатся на ветру, то и выпь покачивается в одном с ними ритме!

Загнанная врагом, выпь устрашает его как филин-пугач. Распушенная, припадает к земле: крылья раскинуты, полусогнуты, шея и перья на ней вздуты колоколом. Неожиданное превращение стройной птицы в несуразное пугало невольно заставит отшатнуться протянутую руку или оскаленную пасть. Короткого замешательства нападающего достаточно, чтобы улететь.
Прежде думали, что, производя свои странные звуки, выпь опускает клюв в воду и «дудит». Позднее заметили — все не так. Выпь раздувает пищевод, и получается резонатор. Потом она то поднимает голову вверх, то роняет ее на грудь и, выдыхая воздух, бубнит басом: «У-трумб-бу-бу…»
На юге страны, в местах болотистых, у воды, громким криком «квау-квау!» заявляет о себе небольшая, коротконогая цапля, названная кваквой. Коротконогая она, разумеется, относительно, в сравнении с другими ее голенастыми родичами, у которых чешуйчатые ноги-трости не в меру тонки и длинны. У кваквы спина и «шапка» на голове черные, крылья серые, а брюшко белесое. На затылке (весной и летом) два — четыре длинных тонких белых пера. Это и брачное украшение, и сигнальный вымпел.
Кваквы ловят рыбу, лягушек и насекомых по ночам и в сумерки.
В темноте, когда возвращаются они к гнезду, нелегко разобрать, кто подлетает — свои или враг? Чтобы детишки их узнали, кваквы предупреждают птенцов особым наклоном головы. Приближаясь к гнезду, кваква прижимает клюв к груди, и птенцы видят тогда ее сине-черную «шапочку» и несколько белых перьев над ней: цапля распускает их веером.
Если не будет этой сигнальной позы мира и родительского привета, птенцы испуганно, враждебно замрут в боевой позиции и, защищаясь, станут клевать нарушившего правила родителя. Даже аппетитная лягушка в его клюве не умиротворит их, не утихомирит агрессивных наскоков на кормящую мать или отца.
Лягушачьи концерты и жабьи похождения
Теперь приглашаю вас взглянуть любопытными, не брезгливыми глазами на то угощение, которое кваква принесла детям и держит в клюве. Это могут быть разные лягушки, их легко запомнить и знать полезно.
Хоровые неблагозвучные (согласен!) песнопения лягушек — обязательный аккомпанемент ко всем звукам летних ночей (в местах, разумеется, достаточно сырых).
«Уорр… уорр… уорр… круу!..» — размеренно, громко, гортанно, раздувая серые резонаторы — пузыри в углах рта, — кричат (и днем и ночью, а вечером особенно) большие зеленые лягушки. Их называют озерными, хотя чаще их можно встретить тем не менее на берегах больших и малых рек. Внезапное резкое — «кре-кре-кре… нек-нек-нек…» — каркающее соло то одного, то другого самца вырывается грубым крещендо из слаженного монотонно звучащего кваканья.
На небольших водоемах, с водой обычно непроточной, в прудах, на лесных карьерах, просто в лужах и канавах живут у нас другие зеленые лягушки — прудовые. Они ростом поменьше, цветом ярче, изумруднее и кричат не так громко и грубо (нередко и днем, но особенно звучные и многоголосые концерты задают по ночам, весной и летом).
«Коакс, коакс, коакс, кракс…»
Вдруг резкий вибрирующий выкрик — «реккеккекке!», и опять — «коакс, коакс, коакс…».
Раздувают усиливающие звучание белые или желтоватые резонаторы.
У озерных лягушек (помните?) резонаторы серые или даже черные. Когда резонаторы не вздуты криком, они обозначаются у углов рта узкими продольными полосами. Озерная лягушка сверху зеленая, но более блеклая, чем прудовая, часто оливковая, иногда бурая, с черными и темно-зелеными пятнами и светлой полосой вдоль спины. Это самая большая наша лягушка: от носа до конца тела 15–17 сантиметров.
Прудовые квакушки редко бывают больше дециметра (рекорд — 12–13 сантиметров). Самцы меньше самок (средняя длина 7,5 сантиметра). У озерных преимущество слабого пола в силе и росте не так велико. Прудовые лягушки, как упоминалось уже, обычно изысканно изумрудные, как и сочные травы в прудах, ими обжитых. Но иногда попадаются желтовато- или серо-зеленые и совсем редко — бронзово-коричневые или даже голубоватые.
Видовое название прудовых лягушек — «эскулента», что в переводе с латинского означает «съедобная». Те народы, которые едят лягушек, предпочитают прудовых многим другим. Мясо у них действительно очень нежное, как у юного цыпленка. Однако, уверяют знатоки, обычные травяные лягушки, которых часто встречаем мы в поле и в лесу, еще вкуснее.
Эти лягушки, несмотря на зелень трав, среди которых они живут, не зеленые, а разных оттенков бурого цвета — от грязно-желтого до почти черного. Сверху. А на брюхе у них мраморный пятнистый рисунок, основной тон которого грязно-белый (обычно у самцов) и буровато-желтый, красновато-коричневатый (у самок). А с однотонным светлым брюхом (без пятен) — очень редки.
Если попалась вам белобрюхая (без пятен на животе), то, скорее всего, это остромордая лягушка (она же — болотная). Тоже бурая (не зеленая), ростом поменьше травяной. Обычна в лесах, лугах, на болотах, в садах и рощах, как и травяная (и еще более обычна — в степях и лесостепях). Обе живут в таежных лесах Заполярья, но травяная — местами севернее остромордой, например, на Кольском полуострове (остромордой здесь нет) и по всей Скандинавии вплоть до Нордкапа. Травяная лягушка — самая северная из всех лягушек и ночами, пожалуй, самая молчаливая (хотя образ жизни у нее, впрочем, как и у остромордой, в основном ночной). Ее глуховатое, воркующее кваканье можно услышать (нередко из-под воды!) весной, когда травяные лягушки размножаются. На озерах и прудах местами лед еще не сошел, а они уже пробудились от зимнего сна на дне водоемов и заняты икрометанием.
Под Киевом (если весна ранняя) первые лягушки появляются уже в конце февраля, под Москвой — в марте — апреле (а на севере Франции — в январе). Отложат самки в воде студенистые комки икры (каждая полторы — четыре тысячи икринок) и уйдут путешествовать по суше — от воды уходят далеко: были бы места сырые, а дни нежаркие (в знойные сухие дни у травяных лягушек беспробудный летний сон, во всяком случае на юге Западной Европы).
Остромордые лягушки (в апреле, в начале мая) наполняют во множестве — кишмя кишат! — лесные болота, залитые весенними водами поляны, опушки и низины. Самцы в эту пору у них сине-голубые! Красивого небесного оттенка, который возникает в коже от лимфы, обильно ее наполняющей. Видели голубых лягушек весной?
Негромкие, казалось бы, вблизи, но далеко слышные голоса остромордых лягушек и днем и ночью воркующим гулом наполняют наши леса. Кричат они без перерыва: «Ко, ко, ко…» Слушаешь и думаешь: «Когда же умолкнут, хоть ненадолго?» Отойдешь подальше — вроде как тетерева бормочут на току…
Покончив с весенними делами (хоровым кваканьем и размножением), остромордые лягушки, как и лягушки травяные, распрыгиваются по окрестному сухопутью.
А лягушки зеленые, озерные особенно, даже и летом, закончив размножение, далеко от воды не уходят — лишь на расстояние немногих прыжков, которые у них достаточно велики (больше, чем у бурых лягушек), чтобы в несколько скачков поменять одну среду своего амфибиального существования на другую.

На юго-западе СССР, скажем на Украине, где-нибудь на поросшей кустами поляне, в темном грабовом лесу или дубняке, в ивняках у реки весной и все лето до осени скороговоркой кричит кто-то: «Крак-крак-крак…» Резко. Громко. Подумать можно, что птица какая-нибудь ночная. Пойдете на крик, приблизитесь осторожно, почти вплотную — вот он рядом! Но не видно… Еще шаг — кажется, рукой коснуться можно крикуна… Вдруг умолк, и тихо стало. Ищите в кустах уже не таясь, но никто не вспорхнул, напуганный, не бежит, не шуршит, не пробирается…
Даже если и днем это «крак-крак-крак» услышите и подойдете тихо и незаметно к самому кусту или дереву, с которых исторгается «крак-крак-крак», увидеть никого все равно невозможно. Но не дерево же кричит…
Очень мал громкогласный крикун, и зеленый он, как лист, на котором сидит, прилипнув всеми пальцами четырех крохотных ножек. Концы пальцев кругленькие, расширены в диски, клейкие снизу от выделений особых желез — весьма ценное эволюционное приобретение для ловкого прыгуна в листве (до самых макушек забирается!). Квакша! Маленькая (с наперсток) древесная лягушка. Самец-квакша, раздувая темное горло (у самочки оно белое), кричит громко и очень похоже на голоса некоторых хищных птиц.
Квакша зеленая, как было сказано. Но это в окружении зелени. Если приходится ей жить в ином цветовом окружении, меняет в тон ему и свой наряд — может стать (иногда за несколько минут!) бурой, серой, светло-желтой или почти черной.
Только весной и в начале лета, в апреле — мае, живут квакши в воде, где и размножаются. Потом переселяются на кусты, деревья и травы с широкими листьями. Лишь затяжные дожди могут прогнать их отсюда в какие-нибудь подземные укрытия или обратно в воду (правда, некоторые самцы по непонятной причине и в хорошую погоду почти все лето живут в воде).
И еще интересно: головастики у квакш в зрелом возрасте, перед превращением в лягушек, уж очень большие. Прямо переростки! Длиной 5 сантиметров — с самых крупных известных науке взрослых квакш (и больше самых крупных головастиков травяной и остромордой лягушек, зеленой и обыкновенной жаб, которые великаны в сравнении с квакшей!). Правда, три сантиметра занимает хвост, которого, как известно, у взрослой лягушки нет. Но и оставшиеся два сантиметра — это много: ведь лягушата-квакши, в которых головастики-переростки превращаются, и того меньше. Это парадоксальное явление — когда личинки крупнее существа, в которое она позднее превратится, — у другой лягушки, южноамериканского псевдиса, еще более поразительно: сама лягушка — 7,5, а ее головастик — 28 сантиметров!
Головастики жаб, упомянутых выше, очень невелики: зеленой жабы — 3, 4, 5 сантиметров (длина с хвостом), а обычной, серой, еще меньше. Жабята, впервые покинувшие воду, тоже крохотные, лишь через много лет вырастают иные из них в весьма и весьма солидных, толстых и рослых амфибий. В 20 сантиметров длиной — редко, но попадаются серые жабы, самки. А самцы до самого преклонного возраста сохраняют известную «стройность» и тонкость тела (насколько это вообще для жаб возможно) и небольшие его размеры (до 8–10 сантиметров).
У жабы кожа бугристая, не гладкая, как у лягушки, бородавчатая, у глаз — две большие овальные выпуклости (околоушные железы — паротиды), рот беззубый[1] и тайная ночная жизнь. Лишь в сумерках вылезают жабы из подвалов, нор, пещер, из-под половиц сараев, из-под бревен и камней и прочих подобных укрытий, где прятались весь светлый день, терпеливо дожидаясь ночного мрака, прохлады и сырости. Где скачком, но чаще перебежками (жабьей рысью!), плотно прижавшись к земле и выбирая пути поукромнее, выходят жабы на охоту за насекомыми, слизнями, червями, большая часть которых — злейшие враги огородов, садов и полей. Польза людям от этих жабьих ночных похождений огромна: в США попытались приблизительно оценить стоимость услуг, веками, ночь за ночью, приносимых жабами лесному и фермерскому делу, — миллиарды долларов в год! Так что берегите жаб. Может быть, многим они и несимпатичны, гадки даже… Но великие друзья наши! Избиение жаб, которым, к сожалению, еще занимаются некоторые люди, — дикость, глупость и нелепая жестокость.
Подобравшись к намеченной жертве, жаба не хватает ее ртом в быстром наскоке, как это, возможно, вам представляется. Нет, она «стреляет» языком! Жабий язык, как туго натянутая резинка, пулей вылетает изо рта и стремглав возвращается обратно с метко схваченной добычей. Путь туда и обратно совершается всего лишь за 1/15 неуловимую долю секунды! Увидеть язык в момент атаки невозможно. Лишь слабый щелчок, похожий на приглушенный хлопок хлыста, да торопливые глотательные движения выдают жабу. Крупные тропические жабы способны поразить цель языком-самострелом за десять сантиметров.
В наших лесах, полях, лугах и садах промышляют ночами две жабы — обыкновенная, серая, и зеленая (на западе страны еще и камышовая, а в Прибайкалье и на Дальнем Востоке — монгольская).
Первая — цветом серо-бурая, желто-бурая или почти черная с темными (иногда и с розоватыми) пятнами или без них. Глаза у нее (цвет радужины) золотистые или медно-красные! Вторая — оливковая (серовато-зеленая) с черными либо темно-зелеными крупными пятнами и множеством мелких, чуть приметных красноватых бугорков (у самцов обычно основной фон темнее, а пятна светлее, чем у самок). Цвет глаз зеленой жабы тоже зеленоватый с черным крапом. Дополнительный признак — кожная складка на подошве задней ноги вдоль внутреннего ее края. У серой жабы ее нет.

Перезимовав зиму в разных подземных укрытиях (на суше, главным образом в лесах, а не в воде, как лягушки), в апреле (а под Киевом уже в конце марта) жабы пробуждаются и теплыми ночами, когда температура не ниже пяти градусов, пробираются к воде — к местам, пригодным для икрометания. Сотни и тысячи жаб ползут сюда, особенно в дождливые ночи. Первыми появляются самцы. Они идут обычно тем путем, который не раз приводил их к воде прошлой и позапрошлой весной. Наблюдения показали, что жабы много лет помнят свои традиционные дороги (протяженностью до километра!) и самые приметные их ориентиры.
Короткими прыжками, но торопливо спешат жабы-самцы занять лучшие места на водоемах. У каждого здесь своя индивидуальная территория, которую он оберегает от других претендентов своего племени и где в теплые вечера и ночи, взобравшись на какой-нибудь бугорок или пук прошлогодней травы, высунувшись наполовину из воды, глухим «хрюканьем» (повторяя его 35–40 раз в минуту) приглашает на свидание самок. Шуршание в бугристых кочках, всякое (но не быстрое!) движение сходных с ним по росту предметов и животных его настораживает и привлекает — кажется ему, что это приближается жаба-самка! И, толком не разобравшись, он кидается нередко в погоню за прыгающей близко лягушкой. В эту пору, случается, жабы-самцы заключают в свои крепкие объятия даже карпов.
Самец самца от такого нападения предупреждает несколькими короткими (металлического тембра) выкриками «кунг-кунг» и особой позой: сильно дышит боками и вздергивает вверх голову. Интересно, что поза угрозы, предупреждающая естественных врагов, совсем иная. Жаба тогда, надувшись, на выпрямленных ногах приподнимается сколько может от земли и покачивается взад-вперед. Но ужей и многих птиц такое устрашение (и жабий кожный яд) не пугает. Напротив, даже удобно для нападения, особенно ужý, который без резвых ног не всегда может угнаться за удирающей скачками амфибией.
Вернемся, однако, к оживленным весной водоемам, куда скоро, через неделю примерно после самцов, являются жабы-самки. Эти, как толстые купчихи, передвигаются не спеша, не проворными скачками, а ползком и короткими перебежками. Посидят, отдохнут и опять ползут, перегруженные икрой. Бережно несут ее в чреве.
Когда самки прибудут (многие уже в парах с самцами, которые нашли их по дороге), то права собственности в пруду часто нарушаются. У серых жаб всегда избыток самцов, у зеленых — напротив: самок немного больше. Невзирая на границы своих и чужих владений, самцы компаниями в три — пять (иногда и в десять) «женихов» преследуют каждую новоприбывшую «невесту».
Соперник-победитель уплывает со своей невестой на солнечное мелководье у берега. Часами лежат они на дне, всплывая лишь, чтоб глотнуть воздуха. В теплый солнечный день начинается икрометание. Жабы плывут в заросли тростников и других водяных растений и, курсируя вокруг стеблей, наматывают на них трех-семиметровые студенистые шнуры, переполненные тысячами яиц.
Икрометание длится несколько дней, и сейчас же, закончив его, самки уходят из воды, чтобы вернуться сюда лишь следующей весной. Через несколько дней уходят и самцы. У некоторых от мест весеннего икрометания до летних охотничьих территорий путь дальний: километра два-три, но у многих лишь 150 метров. Добираясь темными ночами, когда все вокруг скрыто в однообразии мрака (особенно в той низкой позиции, с которой обозревает окрестности жаба!), эти амфибии каким-то чудом узнают, однако, нужное направление, и почти каждая находит то место, где жила в прошлые годы. Здесь ее охотничья территория, довольно обширная для маленького существа: 50–150 метров в поперечнике. Здесь, если не найдут других подходящих убежищ, нередко роют жабы свои собственные норы глубиной до 40 и больше сантиметров. После ночных охот возвращаются в них, используя эти убежища так же регулярно, как лисица свою нору (память у жаб отличная!). Но если ночи еще холодные, ниже 11–12 градусов, жабы, закончившие икрометание и благополучно добравшиеся до своих летних резиденций, вновь прячутся в землю и цепенеют в неподвижности. В мае в теплые вечера вылезают из укрытий (и те, что в апреле к воде не путешествовали, а таились в земле: незрелая еще молодежь, которой размножаться рано, и самки этой весной, так сказать «яловые» — жабы нерестятся не каждый год). Они очень голодны: с октября всю долгую зиму постились. Даже жабы, которые размножались в воде, ничего не ели в это беспокойное время. Ночные поиски пропитания — в этом теперь главное содержание их жизни.
А икра, оставленная в воде? О ней позаботится только солнце: его теплом согретые, развиваются в икринках зародыши. Недели через две (если погода стояла хорошая, то раньше, при плохой — позже) крохотные головастики вылезают из икринок. Обычно из всех разом. Дня два еще набираются сил под защитой студенистых стенок шнура, в котором были упакованы яйца. Затем плавают дружной ватагой, многотысячными стайками, живыми «лентами» (в метр шириной и несколько метров длиной) вьются в пруду. То у поверхности, то погружаются на дно. Все головастики в стайке дружно и разом совершают все маневры: плывут в одну сторону в едином ритме, никто не нарушает ненужной суетней, поворотами и бегством из рядов походный строй колонны[2]. Если кормятся, то все вместе, греются у поверхности — тоже. Они не пугливы: тень, упавшая на них с берега или с неба, не обращает их в бегство, а только сильные всплески и колебания воды. Однако гибель одного из них в зубах хищника или даже небольшая рана на коже, причиненная врагом либо экспериментатором, сейчас же производят замешательство и панику в стае жабьих головастиков — удирают они кто куда. «Запах страха» — особые вещества из пораженной кожи — попадает в воду: вот что напугало их! Такие же предупреждающие об опасности химические сигналы посылает в воду и кожа многих рыб. Пескарей, например. И не только пескари, но голавли и подусты сейчас же уплывают подальше от того места, где пескарь попал в зубы щуки и его поцарапанная кожа послала прощальный предупредительный сигнал оказавшимся поблизости собратьям. Но чем дальше родство между рыбами, тем хуже они понимают эти сигналы. Форель, скажем, уже не боится тех мест, где только что погиб пескарь, распространив вокруг запах страха. Так и жабьи хвостатые дети: ранения головастиков других жаб их пугают, а лягушек — уже нет.
…Время жизни в воде подходит к концу — почти три месяца длилось оно. Перед самым превращением в жабят впервые дышат головастики воздухом: поднимаясь к поверхности, глотают его круглыми ротиками, наполняя «новенькие», недавно функционирующие легкие. Тень, внезапно затемнившая воду, теперь их пугает — прибавилось опыта и уменья узнавать врагов глазами.
И вот вылезли и поскакали. Рассеялись во все концы от воды тысячи земноводных «Дюймовочек»: все почти в один день закончили превращение и в образе крохотных лягушат отправились в новую сухопутную жизнь.

Большинство скоро погибнет, потому что слишком беспомощны, потому что и светлыми днями много скачут, попадаясь чаще, чем взрослые жабы, на глаза всяким недругам. А недругов немало: ужи, полозы, лягушки, черепахи, свои же жабы (которые покрупней), ежи, сороки, вороны, хищные жуки и сороконожки, люди, ДДТ и прочими инсектицидами посыпающие поля, и жабьи мухи (уничтожающие, впрочем, и лягушек) с красивым именем «люцилия». Из яиц, отложенных мухой на живой жабе, выходят личинки и через ноздри и глаза забираются в мозг амфибии и едят его! Через два-три дня несчастная жаба умирает. Еще через пять-шесть дней личинки страшной люцилии, оставив от жабы лишь кожу да кости, переселяются в землю, превращаются в куколок, а еще через двое суток — в мух, готовых вскоре начать сначала свой истребительный репродуктивный круговорот.
«Жизнь и нравы» зеленых жаб похожи на описанные выше, но есть и некоторые отклонения[3]. Зеленые жабы лучше серых и многих других амфибий переносят сухость и зной лета, зимние и ночные холода и даже соленую воду, что для амфибий совершенно необычно. Поэтому живут они и в степях и даже в пустынях, размножаются не только в пресных водоемах, но и в солоноватых, с 1,5–2-процентным раствором солей, а это «рассол» весьма ощутимый: как в Черном море! Зеленая жаба и в горы поднимается выше всех земноводных — до 4200 метров (например, в Тибете). Ее чаще, чем серую, можно встретить днем. Более проворна: прыгает быстрее и дальше и умеет даже лазать. Ее головастики развиваются быстро: через 3–4 дня выходят уже из икры, еще через два дня теряют жабры, с первых дней пугливы (боятся тени!) и не живут стаями.
А самцы зеленых жаб весенними, а иногда и летними ночами «поют» так хорошо, как никто из амфибий не умеет: нежная трель «иррр… иррр…»[4]. Многие, кто не знает, думают, это птица поет!
Полезнейшие из полезных!
Когда жабы выходят на ночные охоты, сама пища, вполне пригодная для их пропитания, появляется из-под земли. Миллиарды примитивных созданий, сыгравших, однако, величайшую роль в истории нашей планеты, в созидании плодородия ее почв — дождевые черви всех сортов, пробив дырочки в грунте, вылезают на поверхность. Опавшие листья привлекают их. Ухватив беззубыми ртами и пятясь задом обратно в норку, уносят их черви в свои подземелья. Много было споров, много сделано опытов, но так и не решено окончательно: как так получается, что дождевой червь (совершенно ведь бездумное существо!) всегда весьма рационально и если смотреть со стороны, то, казалось бы, очень разумно берет лист — за узкий клиновидный конец, а сосновые иглы за черешок, чтобы удобнее было втянуть его в узкую норку. Если тянуть лист за черешок, а спаренные сосновые иглы, наоборот, за вершинку одной из них, то упрется он широкими у черешка краями (а одна из игл, не схваченная, оттопырится, ляжет поперек входа), и застрянет лист в крохотной норке, и даже той немалой силы, которую прилагает работающий червь, не хватит, чтобы затащить его под землю.
Впрочем, не менее умело черви транспортируют в норки, сделаны такие опыты, и другие предметы: птичьи перья и листочки бумаги разной конфигурации (каждый, в зависимости от его формы, наиболее удобным способом).
После теплых весенних дождей поздними вечерами и рано поутру дождевые черви (правда, не все) выползают на поверхность земли не в поисках листьев, а для иных важных дел, необходимых для продления рода. В быстро твердеющей слизистой капсуле развивается одно или несколько яиц. Крохотные червячки через 3–4 недели выходят из них и живут, подрастая, без всяких родительских забот.
Дождевые черви только на неопытный взгляд все одинаковые. Их много разных видов. В глинистых почвах живут самые крупные — до 30 сантиметров длиной. У воды, в сыром грунте, — самые мелкие (5 сантиметров). Другие предпочитают хорошо унавоженные места или роются без особого выбора, где придется. Специалисты различают по окраске, мелким щетинкам и прочим незначительным, казалось бы, деталям около 170 разных видов только в семействе лумбрицид, к которому принадлежат наши обычные дождевые черви. Все они, как вам хорошо известно, невелики. Но в жарких странах живут исполинские дождевые черви: австралийский мегасколидес, например, толст, как змея (3 сантиметра), а длина его — 3 метра!
Странным, возможно, покажется вам такое пристальное внимание серьезных ученых к невзрачным созданиям, которые годятся только на рыболовные крючки, как можно подумать без знания дела. Немногие люди отдают себе отчет, как полезны дождевые черви.
Чарлз Дарвин одним из первых оценил великое значение непривлекательного дождевого червя в жизни человечества. Несколько лет он терпеливо исследовал этих животных, таящихся в непроницаемой для глаз земле: наблюдать за жизнью и деятельностью червей трудно.
Труд Ч. Дарвина о дождевых червях, опубликованный в 1881 году, — одно из самых интересных и значительных исследований животных.
Дарвин установил, что черви, которые питаются перегноем, глотая землю, переваривая в ней все еще переваримые органические вещества и выбрасывая непереваримое, за несколько лет пропускают через свои кишечники весь пахотный слой земли! Когда их даже не очень много — 50–150 червей под квадратным метром почвы,[5] — они и тогда ежегодно выносят на поверхность в виде своих испражнений 10–30 тонн земли на каждом гектаре поля. Новейшие подсчеты на плодородных лугах дали еще более значительные цифры: 45–80 тонн в год (4,5–8 килограммов на квадратном метре!). За века вся местность, где черви живут, покрывается многометровым слоем земли, вынесенной ими на поверхность из нижних пластов. Камни, пни, развалины построек исчезают под ним. «Археологи, вероятно, не знают, — говорит Ч. Дарвин, — как обязаны они червям сохранением многих античных предметов». Черви задали им, правда, и лишнюю работу: то, что тысячелетия назад лежало на поверхности, теперь приходится раскапывать. Но ведь иначе все археологические находки давно бы уже погибли, растащенные, поломанные, разрушенные людьми и стихиями.
Итак, бесчисленная армия бессловесных, но бесценных «агротехников» и денно и нощно рыхлит почву под нашими ногами, попутно удобряя истощенные земли своими выделениями и унесенными в норки листьями. Роясь в земле и без меры ее глотая, дождевые черви создают прочную комковатую структуру почвы — воздух, влага и полезные бактерии лучше проникают в глубину. Бесчисленные норки червей, словно капиллярная сеть в живой ткани, обеспечивают идеальный дренаж и вентиляцию почвы.
Чтобы у вас не осталось никаких сомнений в исключительной полезности дождевых червей, еще раз обратимся к авторитету Ч. Дарвина за похвалой их агрономическим талантам:
«Черви превосходным образом подготавливают землю для роста растений… просеивают почву настолько тщательно, что в ней не остается плотных минеральных частиц… подобно садовнику, готовящему измельченную землю для своих самых изысканных растений».
Берегите, зря не убивайте этих нужных нам всем «агротехников». Тем более, что врагов у них и так немало: кроты, жужелицы, тысяченожки поедают их во множестве. Ежи, жабы, лягушки, скворцы, вальдшнепы и другие птицы… Даже совы! Сотрудники Ботанического сада Оксфордского университета наблюдали однажды, осветив гнездо совы красным светом (его не боятся ночные животные), удивительную картину: родители кормили совят… дождевыми червями! Ловили их недалеко на газонах парка и приносили детям поразительно много этого совершенно необычного для хищных птиц корма.
Много гибнет дождевых червей и от ДДТ и других средств против вредителей, которыми посыпают поля (опасных, как теперь выясняется, не только для насекомых, но и для всего живущего в полях и вокруг них!).
Летний зной и зимние морозы дождевые черви переносят без особого труда. Зарываются глубже и там в подземных камерах, «оштукатуренных» собственными экскрементами, свившись в клубки, пережидают в оцепенении неблагоприятное время.
Числился прежде среди врагов дождевых червей еще один, ныне реабилитированный наукой ночной охотник — паук атипус, строитель удивительных ловушек.
Сооружение это — паутинный футляр, без окон и дверей, без входа и щелей. Паук сидит в нем, словно заживо замурованный узник, ни днем ни ночью никуда не выходя. Нижняя часть футляра погружена в землю примерно на полметра, верхняя — торчит вверх или лежит на земле.
В футлярах прячутся паучихи, а самцы-атипусы — бродяги бездомные: бегают ночами по пустырям и холмам, по опушкам сосновых боров. Они ростом поменьше самок (8–9 миллиметров) и темнее, почти черные, как ночным бродягам и положено.
Впрочем, и домовитые их подруги светлому дню не очень доверяют: мир ночи для них безопаснее. Когда под жарким солнцем закипает жизнь на земле, они удаляются в глубины обитого шелком подземелья. А ночью заползают в стелющийся по земле рукав своей паутинной упаковки. В этом футляре караулят добычу. Ползет ли по мху сороконожка, мокрица и взберется ли на этот футляр, сядет ли на него комар — вдруг рвется под ним «земля», длинные крючья-челюсти хватают неосторожных путников и тащат вниз, в «колбасу».
Добычу паучиха подвесит на ниточках, а сама поспешит наверх — заделывать дыру в футляре. Лишь когда дело сделано, она уже не торопясь и с аппетитом пообедает.
Покинув материнский дом-трубу, молодая паучиха из рода атипусов тотчас, как только найдет подходящее место, строит свою собственную трубу-дом, в котором и сидит до самой смерти. Только какая-нибудь стихийная беда может выгнать ее из добровольного заточения в шелковом футляре.
Работает она темными и лунными ночами. Строит сначала надземный этаж. Плетет вокруг себя просторный паутинный каркас, предварительно привязав тонкими нитями его коническую вершину к травинкам. Поэтому первоначально все ее сооружение обтекаемым своим концом торчит вверх из земли, наподобие устремленной в небо ракеты на старте. Но позднее нити рвутся и хитроумная ловушка паука, поникнув, стелется по земле.
Соорудив каркас, паучиха роет внутри него под собой землю. Зажав в челюстях комочек земли, пытается протолкнуть его через переплетения своих строительных лесов. Частью это удается, но немало мокрой от слюны земли прилипает к паутинкам каркаса. Затем паучиха тщательно штукатурит землей и песчинками внутренние стены возвышающегося над ней паутинного конуса.
Потом опять, вращая брюшком, оплетает еще раз штукатурку паутиной. Снова роет под собой землю, выталкивает, сколько может, наружу, остальную вмазывает в стены. Так, постепенно, опускаясь все ниже и ниже, очень целесообразно с точки зрения организации труда заканчивает она и подвальные покои своего дома. Между надземным и подземным «этажами» никаких перегородок нет. Связывает их только тонкая нить. Ее паучиха, притаившись в подземелье, держит в лапке. Лишь только неосторожное насекомое опустится в полном неведении на оштукатуренную ловушку, весьма похожую на обломок стебелька, сотрясение нити сейчас же о том сигналит паучихе. Тихо крадется она наверх, подползает осторожно как раз под то место, где сидит муха. Лишь тонкая паутинная стенка разделяет легкомысленное насекомое и паука, готового эту стенку пробить острым и отравленным оружием. Какая разыгрывается затем драма, мы уже знаем.
Разумеется, не только атипусы, но и другие очень многие пауки (с сетями или без них) охотятся по ночам (или преимущественно по ночам). Пауки прожорливы, а ловушки, которые они плетут, весьма добычливы. Когда охота особенно удачна, некоторые крестовики, например, ловят в сети… по пятьсот насекомых за сутки. В лесах и лугах на каждом гектаре живет около миллиона, а местами и пять миллионов всевозможных пауков! Подсчитайте, сколько на каждом квадратном метре такого луга или леса гибнет каждые сутки разных насекомых — сотни тысяч! И в основном вредных — мухи, комары и другие им подобные…
Обратили ли вы внимание: многие типично ночные животные — истребители всевозможных вредителей. Пауки, совы, козодои, жабы, квакши, летучие мыши, о которых речь еще впереди, барсуки, сони (много майских жуков губят они!) — полезнейшие из полезных друзей человека, возделанных им полей и садов, оберегаемых лесов!
А ёж? Он тоже такой… Полезный!
Или, скажем, гадюки! Они уничтожают вредоносных мышей и полевок. Впрочем, типично ночными этих змей не назовешь. Охотятся они и днем и ночью: если температура ночного воздуха не ниже +3°C. Когда холоднее, прячутся гадюки по разным своим подземным убежищам и замирают в неподвижности. Но и в теплые, как нам кажется, ночи (от +10 до +14°C) гадюки обычно не выползают из-под пней, из мышиных нор и прочих пустот в земле. При такой температуре они достаточно подвижны и охотятся успешно, но съеденную добычу переварить толком не могут. Голодают, слабеют. Даже в более холодные ночи, когда в неподвижности цепенеют в подземельях, они меньше расходуют жизненных сил и, следовательно, питательных веществ. Значит, весной и осенью можно смело рассчитывать, что в ночных наших путешествиях по лесам ядовитые змеи не встретятся, хотя темнота под ногами многих именно тем и пугает, что в шорохах земли чудятся вездесущие змеи.
Весной по утрам появляются они на поверхности земли и… жадно пьют росу. Потом ползут греться на солнечные поляны, косогоры, вырубки, просеки. Лежат часами, так распластав тело, чтобы солнце освещало большую поверхность. Беременные самки для лучшего развития в них зародышей большую часть лета проводят на солнечных местах. Ночью, однако, далеко не уползая, исследуют норы грызунов, пустоты под корнями. Ползут не быстро, нет ни резвого поиска, ни стремительной погони. Наносят укусы, резко выкидывая вперед голову, обычно только тем полевкам, мышам, лягушкам, ящерицам и мелким птицам, которые окажутся близко к ним (и редко когда преследуют убегающую неукушенную жертву). Укушенную ящерицу или лягушку змея тут же заглатывает. Но мышь, получив смертельную дозу яда, находит обычно в себе силы пробежать еще некоторое расстояние, прежде чем мучительная агония пригвоздит ее к земле. В погоню за ней гадюка отправляется не сразу (спешить некуда!). Минуту-две лежит, словно обдумывая возможные пути предсмертного побега обреченного грызуна. Потом ползет по его следу, низко опустив к земле голову и словно лаская ее легкими прикосновениями своего раздвоенного языка. Временами открывает рот, наверное, чтобы лучше чуять запах преследуемого. Найдет жертву, быстро-быстро выбрасывая язык, ощупает ее (и обнюхает тоже) и затем глотает. Если место для трапезы неподходящее, возьмет в рот добычу, переползет с ней туда, где спокойнее или удобнее.
Змеи не прожорливы: чтобы жить и не умереть, гадюке достаточно на день пищи в сто раз меньше, чем весит она сама. Но обычно вдвое «перевыполняют» они эту норму минимального рациона. Разумеется, в среднем за несколько недель или месяцев охоты. Потому что бывает так, что поймает гадюка, скажем, две мыши и, съев их, сразу на 50–75 % увеличит свой вес. В следующие ночи, переваривая сытный обед, она и вообще на охоту не выйдет. Затем выйдет и, вполне возможно, ничего не поймает. Потом может начаться линька (а меняя шкуру, гадюки ничего не едят). Постятся и весной, когда у них свадьбы. И позднее беременные самки едой почти не интересуются. А там, глядишь, и зима пришла — пора прятаться в разные дыры и щели в земле, спать всю зиму до весны (иногда на глубине в два и больше метров). Вот и получается, что за год взрослая гадюка съедает всего несколько десятков мышей и других равных им по размеру животных. А если съест всего дюжину, тоже не умрет от истощения, потому что немногих граммов пищи (1–2 % от собственного веса) ей на суточное пропитание вполне достаточно. Но ведь это так мало! Крот, например, за сутки пожирает вдвое меньше, чем весит сам. А синица и крохотный королек еще прожорливее: первая за день съедает почти столько, сколько весит сама, а второй немного и побольше.
Весной, примерно в середине апреля, когда еще снег не всюду в лесу сошел, очнувшись от зимней спячки, первыми выползают из-под земли самцы-гадюки. Они сероватые, с темным зигзагом вдоль спины. Самки буро-коричневого основного тона, с таким же рисунком на спине. Попадаются и черные гадюки (обычно самки) и красновато-бурые без зигзагообразной полосы.
Самцы выползают и неделю или две греются на солнечных местах: у каждого своя территория, примерно 20 квадратных метров. Гадюки только в зимних убежищах собираются вместе, порой десятками и больше, а в прочее время близкого присутствия себе подобных не терпят. Затем являются самки.
Самцы находят их по следу и, ухаживая за ними, между собой ссорятся. А ссоры, особенно продиктованные ревностью, ведут, как известно, к серьезным конфликтам, которые кончаются дуэлями, драками, войнами. Для ядовитых змей два последних варианта исключены. А дуэли ведутся с соблюдением исключающих укусы правил, неопасными, так сказать, приемами.
У многих животных, как заметили в последнее время, спор из-за самок или территории решается не остервенелой дракой, а лишь демонстрацией силы в определенных, как говорят, «ритуальных» движениях и позах, а действительное применение силы с опасными для жизни и здоровья соперников последствиями категорически исключается.
У гадюк примерно такой же дуэльный ритуал, боевой «танец», как у гремучих змей (о котором я рассказал в книге «С утра до вечера»). Прежде думали, что это любовные игры самца и самки. Оказалось, нет: борьба самцов. Они друг перед другом возвышают головы, раскачивают их в определенном ритме, сплетают шеи в силовой борьбе, пытаясь прижать противника к земле, перевернуть вверх брюхом. Укусы почти никогда не наносятся.
Самки, которые должны родить в августе — сентябре от шести до двадцати змеенышей длиной 10–12 сантиметров, далеко от мест брачных дуэлей не уползают[6]. Самцы и небеременные этим летом самки удаляются (иногда и за километр) туда, где живут годами. Они охраняют от других гадюк охотничьи угодья, которые считают своими (борьба за них ведется в известной уже нам ритуальной манере).
Гадюки очень привержены к своим угодьям. Если там, где гадюка живет летом (но не весной и осенью, когда происходят миграции у этих змей к местам брачных встреч и зимовок, пролегающие нередко и по чужим владениям), поймать гадюку, унести метров за двести, пятьсот и даже за километр и выпустить в таком же лесу, где жить она вполне могла бы, гадюка все равно приползет домой, на прежнее свое обиталище. Больше того, даже если на несколько месяцев задержать ее в плену, скажем в террариуме, и выпустить потом на свободу, не очень далеко, разумеется, от того места, где она была поймана, она поползет к дому, очевидно определяя свой путь по разным зримым ориентирам — особого вида пням, корням, деревьям, конфигурации кустов, лесных опушек и полян. Впрочем, вопрос о том, как ориентируются гадюки в однообразии лесных почв, по которым пресмыкаются, еще не ясен. По-видимому, и запахи играют тут немалую роль. А некоторые исследователи полагают, что солнце, а на ночном небе — звезды, как перелетным птицам, указывают путь и змеям.
Как ни странно об этом слышать, память у гадюк хорошая. Наблюдая за ними в больших террариумах, зоологи заметили поразительную преданность друг другу самцов и самок. Год за годом некоторые гадюки сохраняют «супружескую» верность и в брачный сезон только старых своих партнеров терпят вблизи себя. «Это „персональное узнавание“, — пишет один исследователь, — удивительно, так как в другое время самец, кажется, не способен с первого раза определить пол или даже вид своего возможного партнера».
Ёж и некоторые другие ночные охотники
Всю зиму ежи спят где-нибудь под кустом, валежником, под корнями или в норе (чужой или самим ежом вырытой). Еще с осени натаскали они сюда, в свои зимние спальни, много разной листвы, мох. Рыхлым комом все это уложили, внутрь кома забрались и, свернувшись, уснули до весны, до апреля.
В этой спячке тело ежа холодеет, но в любой мороз температура его не ниже 5–6 градусов. Когда спит зимой еж, он, естественно, ничего не ест, дышит очень редко, все процессы обмена в его теле идут малым темпом.
Пробудившись весной, первым делом хотят есть. Немалый труд для колючего пропитать себя, всю ночь он топает, шуршит сухой листвой, пыхтит и вынюхивает, где пахнет съедобным. Ищет жаб и лягушек, разных вредных насекомых и слизней, разоряет мышиные гнезда, гнезда сонных ос и шмелей.
Потом, сытые уже, самцы ищут самок. Часто собираются вокруг одной по нескольку, и тогда их ссоры в тихие ночи слышатся издалека.
Ежиха поначалу совсем нелюбезна. Фыркает на кавалеров, наскакивает даже. Но они надежды не теряют и всюду за ней топают (топоток не громкий, но отчетливый). Между собой недружелюбны, грубят, отпихивают соперников и тут же требуют сатисфакции, дают и получают ее — не на пистолетах, а на иглах. Фехтуют, нанося удары колючками наползающего на лоб капюшона. Потом, заметив с тревогой, что причина их ссоры далеко уже ушла на коротких своих ногах, спешат за ней, заключив временное перемирие. И так много ночей подряд. И не только в апреле, а периодами все лето до августа. Потому что самки ежей не все в одно время готовы к деторождению, а иные, родив в начале лета, еще раз рожают в конце его. В общем, от мая до сентября можно найти в лесу новорожденных ежат, но чаще всего в июне — августе.
У каждой ежихи два — десять (в среднем семь) детенышей. Они очень малы: 12–25 граммов — вес в колючках рожденных, а длина 5–9 сантиметров. Они слепы, глухи, беззубы и редкими, мягкими, белыми иглами утыканы, как плохо ощипанные цыплята. Хоть иглы и мягки, но природой все-таки, чтобы мать не поранить, приняты меры предосторожности: иголки рождающихся ежат втянуты в разбухшую от обилия в ней воды кожу. А как родятся, иголки у них сразу топорщатся, а через двое суток уже начинают расти новые, более темные и острые. Через две недели ими уже вся спина малышей густо поросла, а «молочные» белые иглы все выпали. Тогда же и глаза у ежат открываются, а еще через неделю или две прорежутся острые зубки. На одиннадцатый день ежата уже умеют шаром сворачиваться. Отец их живет с матерью, пока они не родятся, а потом удаляется и больше к потомству своему не возвращается, предоставив матери все заботы о нем.
Первый день она ни на минуту от ежат не отходит. Кормит молоком. А ежата еще слепые и глухие, но уже дерутся. Из-за соска, в котором больше молока. Не кусаются, не царапаются, а боксируются. Кожа с иголками, которая на лбу у ежей наползает, очень подвижная. Ежата ее быстро выдвигают вперед и, как боксер кулаком, бьют этим колючим капюшоном своего противника. Слабенький ежонок, как от хорошего нокаута, летит от такого удара в сторону.
Мать-ежиха в их драки не вмешивается: эта возня им вместо гимнастики — сильнее будут.
Перед тем как выйти из гнезда, ежиха закутывает детенышей травой и листьями. Лежат такие маленькие пакетики в гнезде. Их и не видно, и тепло им в упаковке. Если место, где ежата родились, с точки зрения безопасности, не надежно, ежиха, бывает, одного за другим перетащит их всех во рту на новое, надежное.
Пока глаза закрыты, из гнезда колючие никуда не уходят. Но как только мир раскроет перед ними все свое зримое многообразие, они отправляются в путь. Разве не стоит пойти и узнать, что делается вокруг? И они уходят в темный мрак. Жмутся поближе друг к другу, и от матери им надо не отстать. А если кто отстанет и заблудится — жалобно пищит: «Ах, подождите!» И мать бежит назад, ищет, где он, отставший. Найдет и носом, носом подгоняет: не отставай!
Она учит своих чад, где искать улиток, каких жуков можно есть, а каких им пока лучше не трогать. Без ее разрешения ежата ничего в рот не берут.
Месяц и полтора обучает ежиха колючую компанию премудростям жизни и все это время подкармливает молоком. А потом ежата подрастут и разбегутся кто куда. На следующее лето у них у самих дети будут.
Сырости они не любят. В дождливые ночи не бегают, сидят дома, забившись под валежником или в густой куст. Поэтому болот лесных не любят. Сухие поляны и опушки им милее. Живут ежи и в степях, полях, в живых изгородях и кустах. Некоторые, нравами альпинисты, предпочитают дышать горным воздухом, поселяются в нагорьях, возвышающихся до двух тысяч метров над морем.
А есть и такие, которым нравится жить с людьми по соседству: на скотных дворах, в садах, сараях. Эти очень доверчивы. Людей не боятся. Но на всякий случай, пыхтя и комом (не очень плотным) свернувшись, иглами себя страхуют. И в неволе, и на воле очень любят ежи молоко. Бывает, где-нибудь в углу коровника ждут, не брызнет ли у доярки струйка молока мимо ведра. Для ежа это праздничное угощение. Люди, застав ежа за таким пиршеством, случалось, думали, что еж сам его себе надоил. Вот местами и родилось поверье, будто ежи доят коров. Это, конечно, сказки.
Но вот то, что змей ежи едят, правда. Даже гадюк ядовитых не боятся.
Увидит еж змею — потихонечку, незаметно к ней подберется, потом — быстрый бросок и, иглами прикрываясь, хватает змею острыми зубами, за что успеет схватить. Извивается гадюка, кусает ежа. Но куда ни укусит — всюду натыкается на колючий барьер. А еж атакует раз за разом и норовит укусить все в одно место. Когда перегрызет позвоночник, ест змею.
Бывают, конечно, и неудачи: изловчится гадюка и укусит колючего в нос. Вот тут беда. Хорошо, если нос, чуть распухнув, поболит немного и заживет. Но может еж и умереть от змеиного укуса. Не сразу. Несколько дней мучается. Опыты доказали, что еж раз в сорок легче переносит змеиные укусы, чем, например, морская свинка, которая уже через две-три минуты умирает от дозы яда, не смертельной для ежа. Но все-таки он не абсолютно к яду нечувствителен, как думали раньше.
Колючим барьером от всех отгороженный, еж немногих врагов страшится. Однако есть у него такие враги, что через колючую его оборону прорываются без труда. Филин из них самый опасный. И другие хищные птицы с длинными когтями и роговой броней на лапах (крупные совы и ястребы), смяв колючки, пронзают ежа своим бесчувственным к его уколам оружием. Тут все ясно.
Но вот как лиса умудряется съесть ежа, еще загадка. Она его, говорят, шаром свернувшегося, в воду будто бы катит, и там он волей-неволей должен развернуться — тогда хватает рыжая колючего за морду. Так ли, нет ли — опытами людей ученых пока такие повествования не проверены.
Впрочем, лисицы, ум и хитрость которых прославили многие басни и сказки, когда промышляют ночами, совершают и более, пожалуй, трудные охотничьи подвиги: умудряются ловить четвероногих икаров — белок-летяг.
По земле летяги бегают очень редко: верхний ярус леса и воздушные пространства между деревьями — вот их мир. По стволам, по ветвям лазают проворно, а прыгнув с дерева, планируют, растопырив лапки, сверху вниз. От передней лапки до задней тянутся по бокам тела летяги кожистые складки, поросшие шерстью. Расправит их летяга, широко раскинув в стороны все четыре ноги, — вот и парашют! Если стартовала она с большой высоты, то пролетит от дерева до дерева метров пятьдесят. На лету управляет хвостом, как рулем, ловко и быстро маневрирует в гуще и мраке леса.

Летяги — сумеречные и ночные животные. Зверьки редкие в северных лесах Европейской России. В Сибири их больше. Там, где летяг не беспокоят, они затевают ночные игрища — хороводы и догонялки вокруг деревьев, то быстро и вертко облетая их, то карабкаясь вверх, чтобы набрать необходимую высоту для нового полета (тут заигравшихся, наверное, и ловит лисица, в ловком прыжке хватая пролетающих невысоко над землей).
Мало кто из людей видел летяг.
Немногие знают и видели сонь: когда люди бодрствуют, эти зверьки спят, спрятавшись в дуплах и других укрытиях.
Сони похожи на очаровательных маленьких белочек. Но внешность ведь часто бывает обманчива: сони — хищники, днем они спят, а по ночам разбойничают. Мало им орехов, желудей, зерен, плодов разных; жуки, мотыльки, куколки бабочек, гусеницы (гладкие, не волосатые!), мыши, мелкие пернатые соседи на ветвях, их яйца, даже ящерицы и, говорят, змеи — все годится в пищу. И прожорливы — сто майских жуков за ночь; отличный, не правда ли, аппетит? А в голодное время, когда лес не в силах прокормить прожорливых сонь, они, случается, поедают друг друга. И счастье, если отделается побежденная соня лишь потерей шкурки с хвоста: она легко «снимается», как перчатка с руки, и соня, оставив хвостовое опушение в пасти врага, удирает с голым хвостиком, но живая. Он потом или сам отвалится, или она его отгрызет.

В средней полосе Европейской России — четыре вида сонь. Все холода они спят: 6–7 месяцев в году.
В начале лета самец сони-полчка[7] ухаживает за самкой, без конца цицикая. Через месяц в каком-нибудь дупле, выложенном листьями, уже копошатся три — десять голых и слепых детенышей. Три недели мать кормит их молоком, расположившись над ними сидя и со всех сторон укрыв четырьмя ногами и хвостом. Детишки сосут лежа на спинах. В первые же дни мать много и долго лижет их мордочки. Позднее они лижут ее истекающие слюной рот и язык. Затем она лижет их слюну. Смысл этого загадочного поведения не вполне ясен: возможно, слюна матери содержит какие-то необходимые для нормального развития сонь вещества.
Мать первые дни не покидает детенышей ни на минуту, позднее, отлучаясь, зарывает их в подстилку гнезда. Попробуйте суньте руку в гнездо, когда соня в нем: с умноженной материнством яростью встретит она непрошеное вторжение. А если и самец здесь (его самка первые две недели и близко к гнезду не подпускает), то и он отважно ополчится на врага, пустив в ход острые зубы и когти. Когда детеныши уже научатся лазать по веткам, нередко уходят они за отцом в довольно продолжительные ночные прогулки, и только голод заставляет их вернуться в гнездо к матери. Интересно, что подрастающее поколение садовых сонь возвращается из подобных прогулок в гнездо, следуя гуськом, вплотную друг за другом и за отцом. Эту плотную сомкнутую процессию назвали караваном.
Еще один ночной зверь — барсук. Он селится и в лесу, и в степи, и даже в пустыне. Лишь тундра ему не по душе. Норы роет больше всего по оврагам, но не всегда в лесу, порой на ровном месте, а в пустынях — в гладких солончаках, в песчаных буграх. Барсучья нора — грандиозное для зверя сооружение. В ней много отнорков, входов и выходов — иные в десятках метров один от другого. В норе чистота. Барсук, когда входит в нее, даже лапы отряхивает, чтобы сор в дом не занести. Поэтому и лисицу, известную своей неопрятностью, старается выжить из норы, если лиса, как часто и бывает, в ней поселится.
Барсуки не общительны: близкого соседства своих соплеменников не терпят.
Днем барсук спит, в сумерки вылезает из норы, бродит по лесу, вынюхивает съедобное, тут землю длинными когтями поскребет, там пень трухлявый раскидает: ищет всю ночь разных насекомых, лягушек, ящериц, змей, зайчат, птиц, птичьи яйца — всех, кого может одолеть.
Немало шмелиных гнезд разоряет барсук. Взбешенные шмели его кусают, а он, когда уже невмоготу, катается по земле, давит их. Потом опять спешит к гнезду, чтобы съесть и мед.

Барсук почти все солнечные часы проводит в подземелье, а для здоровья это, как известно, вредно. Потому иной раз, прервав дневной сон, он выходит на солнце. Лежит, сидит у норы на пригреве или бродит вокруг. Когда барсучата родятся, мать выносит их «позагорать» — надо полагать, чтобы рахита у них не было.
К зиме барсуки сильно жиреют, умножая вдвое свой вес: старые самцы — до пуда и в редких случаях до двух пудов. Там, где зимы холодные, спят эти звери в норах с октября по апрель.
Для лесного хозяйства барсук очень полезный зверь: он много истребляет личинок хрущей и майских жуков. Где барсуков перебили, гибнут от жуков-вредителей деревья.
…Только зеленой дымкой окутает май кроны деревьев и тихий сумрак опустится на прозрачные еще леса, как загудят над ними крылья многих тысяч шоколадных жуков. Они копошатся в молодой листве и кружатся с гулом вокруг.
Четыре года белыми жирными червями жили они во мраке вырытых в перегное подземелий. И вот вылезают теперь из аккуратненьких норок, деловито расправляют крылья, и жужжат, и летят вверх, к зелени деревьев. Для них березки — лишь салат, возбуждающий аппетит.
Немного позже самки опять зароются в землю и отложат там несколько десятков желтоватых яиц. А потом умрут. Коротка жизнь майских жуков: месяц радостного жужжания теплыми ночами — и конец. Но их личинки, уединившись в подземельях, живут годами и годами портят корни деревьев.
Иллюминация и погребения
В траве, на полянах, опушках в тихие теплые ночи зеленоватые загораются огоньки. Словно глаза неведомых ночных порождений глядят из мрака, сказочно преображая лес…
Редко, но можно увидеть, как некоторые, не самые яркие огоньки, мерцая, перелетают и падают в траву.
Это самцы светлячков, маленькие бурые жучки, ищут самок. Малоподвижные огоньки на земле — самки светлячков. Ночь за ночью сидят они и светятся.
Когда самцы поблизости, их фонарики горят особенно ярко. Посадите в стеклянные пробирки, хотя бы от таблеток, отдельно самца и самку. Положите пробирки с пленными жучками рядышком на траву так, чтобы они могли видеть друг друга, потом положите на некотором расстоянии. Вы заметите, что самка в первом случае светится гораздо ярче. Она даже поднимает кончик брюшка кверху, чтобы огонек был лучше виден.
Здесь, на конце брюшка, путем биохимических процессов особое вещество, люцифераза, заставляет соединяться с кислородом другое вещество — люциферин. Происходит окисление, то есть медленное горение, и в маленькой лаборатории светлячка рождается свет.
Живут светлячки в траве, под опавшей листвой в кустах. Питаются они гниющими растениями и мелкими животными.
Через несколько недель из отложенных светлячками яиц появляются на свет крупные личинки, черные с желтыми пятнами. Они еще больше похожи на червяков, чем даже самки. Днем личинки прячутся под камнями, под корой гнилых деревьев, разыскивая там маленьких улиток, которыми питаются. (А один ученый видел, как, наоборот, большая улитка проглотила светлячка и светилась изнутри зеленоватым сиянием.) Здесь перезимовывают, а на следующую весну из личинок развиваются взрослые светлячки.
Личинки светлячков тоже светятся в темноте. Не так хорошо, как самки, но все-таки светятся. Светятся даже яйца светлячков — такая уж это «яркая» семейка!
…Черный жук с оранжевым узором на темных надкрыльях патрулирует ночами по лесам и кустарникам. Ищет слабые дуновения в воздушном пространстве, аппетитные на его вкус (отвратительные — на наш!). Унюхав вздутиями своих усиков (в них у него органы обоняния) желанные «ароматы», летит в сторону повышенной их интенсивности — к месту, откуда они исходят. Мертвая мышь, крот, змея, ящерица, мелкая птица или рыба — вот что влечет его сюда. Возможно, всего лишь несколько часов назад сразила их смерть, а жук уже издали чует слабые еще запахи разложения.
Прямо к этой драгоценной для него и антигигиеничной для леса находке жук-могильщик снижается. Ползет, продираясь сквозь дебри трав. Со всех сторон исследует то, что прежде было живым, касаясь трепещущими усиками, толкает задними ногами, словно желая убедиться, насколько тяжела его находка и много ли сил и времени потребуется, чтобы ее закопать.
Если лежит найденный им труп на слишком твердой почве или на камне либо камешках, жук, обнаружив удивительную для малого его роста силу, сдвинет в сторону мертвую мышь. Если мешают работать стебли трав, он их у самого основания подгрызет. Когда земля достаточно мягка, начинает ее рыть и рыхлить, проползая под мышью туда-сюда и всякий раз небольшие кучки земли выталкивая головой из-под мертвой своей добычи. Скоро вокруг нее образуется земляной валик, а мертвое тело под собственной тяжестью оседает все глубже и глубже в подкоп, проделанный жуком. Этот подкоп — неширокая ямка, косо вниз вырытая, и мышь, погружаясь в нее, сгибается постепенно пополам: ноги, хвост и голова к животу прижимаются, и по мере погружения превращается мертвая мышь или там, скажем, лягушка в плотный, почти круглый комок. Энергично и сильно подталкивая, раскачивая его со всех сторон, жуки ускоряют его погружение в ямку.
«Жуки» — потому, что редко могильщики работают в одиночку. Пока первый прилетевший сюда занят был делом, явились и другие. Первоприбывший не всех принимает в товарищество, самцов гонит прочь (если сам самец), с самкой сотрудничает мирно и слаженно. Бывает и так, что целая компания разнополых могильщиков трудится дружно, пока не закончат все продиктованные инстинктом земляные работы. Затем самые сильные самец и самка прогонят всех других жуков и все дальнейшее совершают вдвоем. Но у большинства видов могильщиков самка заставляет удалиться и самца: одна остается в погребальных покоях, одна обслуживает потомство, которое скоро появится, весьма ответственно и заботливо, словно птица у гнезда с птенцами, а не насекомое (об этих ее заботах узнали биологи только в 1933 году!).
Закопав свою добычу за 3–10 часов упорного труда на глубину 6–10 сантиметров (крупные могильщики — на полметра и больше), жуки со всех сторон вокруг мертвого тела удаляют землю, освобождая свободное пространство для собственных передвижений. От этой главной подземной камеры, которую называют криптой, роют боковой ход или небольшие ниши в стенах крипты: в них или в боковом тупике замуровывает самка несколько десятков яиц. Сделав это, ползет назад — в крипту. В похороненной здесь добыче выгрызает сверху ямку («кратер», «воронку»). В нее, каплю за каплей, роняет слюну, а точнее, отрыгнутый пищеварительный сок. Операция повторяется много раз, и потому к сроку рождения из яиц личинок жука, что случается примерно на пятый день, весь мертвый (пищевой для жуков) ком — тело бывшей мыши, крота, лягушки и тому подобное — в значительной мере тем соком переваривается.
Тут жучиная самка совершает действия удивительные, которые лишь пролог к тому еще более удивительному, что последует вскоре и что — лишь часть того дивного и тайного, чем полон наш мир, вековечно загадочный, о котором безнадежно утверждалось: Ignoramus et ignoramibus (не знаем и знать не будем) — и что лишь ныне, в наше с вами просвещенное время, открывает и расшифровывает возмужавшая наука.
Жучиха-мать за несколько часов до вылупления личинок (как узнает она, что время это близко?!) приблизительно через каждые полчаса, словно нетерпением одержимая, ползет в боковую шахту, в стенках которой она замуровала яйца. Весь мусор, крупинки земли и камешки — естественно, нападали они здесь с потолка и захламили пол — убирает, уносит прочь, расчищает дорогу для малышей своих, личинок, которые вот-вот вылезут из яиц. Жучиха-мать негромко стрекочет, всякий раз проползая вблизи созревших своих яиц, словно наседка квохчет, словно торопит детишек, зовет их и успокаивает: «Я тут, я жду вас, я накормлю вас».
И кормит! Кормит, как птица птенцов! Личинки, собравшись в крипте, сидят в углублениях на мертвечине, полупереваренной желудочным соком матери. Сидят и энергично вертят головами, выпрашивая корм (как птенцы, только что не кричат!). А их шестиногая мать, последовательно посещая через 10–30 минут каждую личинку, 2–4 секунды насыщает ее голодный рот несколькими каплями питательной смеси, отрыгнутой из собственного рта. Позднее личинки и сами едят то мертвое, что приготовили для них мать с отцом. Если в первые часы их жизни не окажется рядом матери (погибла она или экспериментально удалена), они, проголодавшись, сами станут есть то, на чем сидят. Через неделю окуклятся. Но нормально развитые жуки редко вырастают из таких не кормленных матерью личинок.
Вскормленные жучихой, они растут быстро: через семь часов удваивают свой вес! Через неделю либо через 12 дней превращаются в куколок, зарывшись предварительно в земляные стенки крипты. Еще через две недели готовый новенький жучок-могильщик является из-за стены, проломив ее. Но бывает, что, поздно родившись, личинки, вполне уже зрелые, зимуют в земле. Лишь в конце мая следующего года окукливаются и превращаются в жуков (в июне). В том и в другом случае мать покидает их, когда в ее корме они уже не нуждаются, роет ход наверх — на чистый воздух — и в часы, когда ночь простирает «мрачные крылья свои», спешит на новые поиски мертвых мышей, лягушек и ящериц.
Ночные сафари[8] на потолке
В теплых и жарких странах пауки сцитодесы отлично обходятся без четырех стен и крыши, построенных человеком, — живут на вольном воздухе, на камнях. Но в широтах умеренных и прохладных, если и поселятся там, то всегда под крышей у людей.
С сумерками пробуждаясь и шествуя небыстро, ощупью, с вытянутыми вперед передними ножками, отправляются они в ночные сафари по потолку. Выследив дичь, паук не кидается к ней, а замерев… стреляет с дистанции миллиметров в шесть — вмиг всю обрызгивает, плюнув клейкой слюной. Все шесть мушиных или комариных ног и два крыла пришпиливает клейкими зигзагами к потолку.
Сцитодес, брызнув клеем, быстро охлаждает и алчный пыл встреченных им в ночном походе пауков-агрессоров. Не только, значит, мух он может к потолку пришпиливать, но кое-кого посильнее.
Оонопсы — крохотные паучки: все их тельце два миллиметра. И ноги, и брюшко, и головогрудь — все у них розовое. Одни живут под корой, под камнями, в сухой листве, птичьих гнездах. Другие — в темных углах человеческого жилья. Но и те и другие охотятся ночью — ползают очень забавно: словно идут ощупью, как слепые. Видят, впрочем, они действительно неважно. Насекомых тоже будто ощупью ловят, но, схватив, прочно держат коготками лапок. Если добыча, на которую они набрели, слишком велика или опасна, паучки неожиданно резво удирают.
Паук дисдера повадками напоминает крошек оонопсов. Такая же у него примерно походка, днем тоже под камнями отсиживается в шелковом доме, а ночью промышляет пропитание. Он тоже красив: головогрудь и ноги красные, а брюшко белое или буровато-серое, но раз в пять — семь мощнее у него фигура, чем у его собратьев оонопсов. Однако, представьте себе, ни мух, ни муравьев, ни уховерток этот совсем не маленький паук не ловит: ограничил себя диетой из крохотных тлей. Дисдера хватает сонную тлю за бока (если неудачно схватит, трясет ее и перехватывает удобнее) и протыкает ее длинными клинками челюстей почти насквозь — один упирает ей в спину, другой — в мягкое брюшко.
Паук харпактес яростью своих атак и длинным телом похож на хорька. Днем он тоже под камнями отсиживается или под корой, в сплетениях птичьих гнезд, а по ночам пиратствует. В разбойном походе вытягивает перед собой длинные передние ножки, словно слепой, идущий ощупью. Как встретит кого-нибудь, сейчас же неуловимо быстро снимет с него мерку: каков встречный и в высоту, и в ширину. Если мерка получится чересчур велика, паук моментально дезертирует — как ветром его сдувает в темноту.
Бывает, толком еще не сразу он разберется, кто перед ним, тогда дозорные ножки деревенеют и упираются в незнакомца, точно оглобли, не давая ему приблизиться.
Но когда харпактес решается напасть, он делает это без промедлений, яростно и побеждает даже пауков одного с собой роста.
По тем же темным углам и потолкам, где гуляют ощупью харпактесы, охотятся по ночам, обороняя свой тыл щитом, и пауки-гиены. Но щит их — не длинные деревенеющие в испуге ноги, а нечто более гибкое, хотя и не менее надежное.
Герпиллус — паук глянцевито-серый, роста среднего, хищности умеренной, днем отдыхает за пыльными картинами, в щелях потолков и стен. Ночь — его время: он выползает и промышляет сонных мух, комаров и безбожную моль, которая так неуважительно обращается с дорогими нашему сердцу костюмами.
Если в темноте паук невзначай наскочит на того, кто крепко может его побить, сейчас же резво удирает, прикрывая поспешное отступление импровизированным щитом. На бегу высоко вверх вздымает свое брюшко и, из стороны в сторону его раскачивая, поразительно быстро испускает из него клейкие нити, слипающиеся в широкую ленту — паутинное заграждение!
Кузен герпиллуса (в эволюционном смысле) — паук драссодес — хищности непомерной! Он светло-бурый, с розовой подкраской, гладкий и гибкий. Он не гиена — пантера среди пауков! Больше того — тигр! Никто из самых сильных пауков в смертельной схватке с ним не победит, ибо боевая тактика и оружие драссодеса так же коварны и опасны, как у гладиатора ретиария,[9] метко бросавшего накидную сеть.
Днем под камнями, в сухой траве или в опавшей листве, переварив обед и впечатления от минувших боев, сопутствуя мраку, выходят ночью драссодесы на добычу. Горе восьминогому, которого этот паучий тигр повстречает на пути!
Даже если это огромный по сравнению с ним паук канифло, драссодес не отступит. Два паука-гладиатора замрут на мгновение лицом к лицу: канифло — тяжелый, массивный, вооруженный будто бы и шлемом, и щитом, и длинным мечом, а ретиарий драссодес, такой на вид беззащитный перед врагом, пусть и быстрый, пусть и с сетью, которую он сейчас выбросит, но, право же, очень уж мал и легок.
Канифло в угрозе поднимает сильные передние лапы, раздвигает могучие хелицеры-мечи. А драссодес вытянул перед собой слабые в таком противоборстве ножки, чтобы предупредить преждевременный бросок врага. Затем следует маневр молниеносный и вначале непонятный. Драссодес быстро с фланга обходит противника и, описав вокруг него полукруг, кидается ему сзади на спину. Неуловимый укус в затылок — и тот мертв.
Этот обходный маневр и атака с тыла так стремительны, что не сразу можно понять, что произошло. А произошло вот что: когда паук-ретиарий обегал вокруг паука-секутория,[10] он выкинул из паутинных желез широкую клейкую ленту. Словно боевую сеть, предварительно заземленную, накинул ее на ноги врага с той стороны, с которой вокруг него обегал. Ноги в секунду связал и, прежде чем на спину врагу прыгнуть, еще раз заземлил свои путы.
Одна паучиха драссодес таким эффективным оружием за два дня победила (в садке у одного исследователя) не менее пятнадцати крупных и сильных пауков!
Ранней весной, в апреле, драссодесы с юностью расстаются и, возмужав, ищут по ночам уже не добычу, а самок, которые в эту пору еще невинны и природой к роли матерей не подготовлены. Женихов такое положение нисколько не расстраивает, а даже, пожалуй, радует. Паук-самец, считая себя в одностороннем порядке помолвленным, немедленно заявляет свои права на будущую жену примерно так же, как золотоискатель на свой прииск. «Столбит» находку: затягивает юную невесту паутиной. В этой шелковой упаковке паучиха линяет последний раз, созревает. И вот, не успев и дня перезреть в «девках» и даже проявить (по причине слабости после утомительной линьки) своего обычного дурного нрава, забронированная с малолетства паучиха становится матерью.
Когда позднее, в июле, паук еще раз пойдет свататься, он уже не так нахален и смел (ведь паучихи после свадьбы обычно убивают пауков!). Невеста его не слабая после конфирмации с переодеванием, не юная, не пугливая — и он, словно понимая, на какой теперь идет риск, раболепно согнувшись в коленях и трепеща всем телом — впрочем, это геральдическая условность, — опасливо ухаживает за ней.
Яйца мать-паучиха бережно охраняет, заключив себя и их в шелковом футляре.
Эхо в ночи
Волки, лисы, медведи, хорьки, куницы, ласки, зайцы, разные грызуны и олени… многие, очень многие еще звери да и птицы, не упомянутые здесь, некоторые утки, кулики, насекомые (порой даже стрекозы!), мокрицы и другие животные предпочитают ночные часы для поисков пищи, водопоев и прочих своих дел. Под защитой темноты одним легче найти добычу, другим безопаснее кормиться. Животные эти в основном «полифазные», то есть они активны попеременно и днем и ночью. Сон у них, как говорят, диффузный: в любое время суток, когда они сыты, когда устанут и захотят отдохнуть от тревог и забот.
Но есть еще животные типично монофазно-ночные (только ночью активные), о которых не рассказать здесь нельзя. Их неслышные (нам!) крики наполняют летние ночи высокочастотным звучанием и многократно отраженным его эхом. Эти ультразвуки пронзают мрак во всех возможных направлениях. А мы упиваемся тишиной. Ночи в лесах и полях не казались бы нам такими безмолвными, если бы наши уши могли слышать звуки высоких частот.
Звук, как известно, — это колебательные движения, распространяющиеся волнообразно в упругой среде. Одно колебание в секунду называют герцем, а тысячу — килогерцем. Человеческое ухо слышит лишь звуки с частотой колебаний от 16–18 герц до 20 килогерц. Более высокочастотные акустические колебания — это ультразвук, и мы их не слышим. Ультразвуками летучие мыши «ощупывают» окрестности.
В гортани летучей мыши в виде своеобразных струн натянуты голосовые связки, которые, вибрируя, производят звук. Гортань ведь по своему устройству напоминает обычный свисток. Выдыхаемый из легких воздух вихрем проносится через нее — возникает «свист» очень высокой частоты, до 150 тысяч герц (человек его не слышит).
Летучая мышь может периодически задерживать поток воздуха. Затем он с такой силой вырывается наружу, словно выброшен взрывом. Давление проносящегося через гортань воздуха вдвое больше, чем в паровом котле. Неплохое достижение для зверька весом 5–20 граммов!
В гортани летучей мыши возбуждаются кратковременные звуковые колебания — ультразвуковые импульсы. В секунду следует от 5 до 60, а у некоторых видов даже от 10 до 200 импульсов. Каждый импульс-взрыв длится обычно всего 2–5 тысячных долей секунды.
Краткость звукового сигнала очень важный физический фактор. Лишь благодаря ему возможна точная эхолокация, то есть ориентировка с помощью ультразвуков.
От препятствия, которое удалено на семнадцать метров, отраженный звук возвращается к зверьку приблизительно через 0,1 секунды. Если звуковой сигнал продлится больше 0,1 секунды, то его эхо, отраженное от предметов, расположенных ближе 17 метров, зверек услышит одновременно с основным звучанием.
А ведь именно по промежутку времени между концом посылаемого сигнала и первыми звуками вернувшегося эха летучая мышь инстинктивно получает представление о расстоянии до предмета, отразившего ультразвук.
Поэтому звуковой импульс так краток.
По-видимому, летучая мышь каждый новый звук издает сразу же, после того как услышит эхо предыдущего сигнала. Таким образом, импульсы рефлекторно следуют друг за другом, а раздражителем, вызывающим их, служит эхо, воспринимаемое ухом. Чем ближе летучая мышь подлетает к препятствию, тем быстрее возвращается эхо, и, следовательно, тем чаще издает зверек новые эхолотирующие «крики». Наконец, при непосредственном приближении к препятствию звуковые импульсы начинают следовать друг за другом с исключительной быстротой. Это сигнал опасности. Летучая мышь инстинктивно изменяет курс полета, уклоняясь от направления, откуда отраженные звуки приходят слишком быстро.
Действительно, опыты показали, что летучие мыши перед стартом издают в секунду лишь 5–10 ультразвуковых импульсов. В полете учащают их до 30. При приближении к препятствию звуковые сигналы следуют еще быстрее — до 50–60 раз в секунду. Некоторые летучие мыши во время охоты на ночных насекомых, настигая добычу, издают даже 250 «криков» в секунду.
Эхолокатор летучих мышей — очень точный навигационный прибор: он в состоянии запеленговать даже микроскопически малый предмет — диаметром всего 0,1 миллиметра!
И только когда экспериментаторы уменьшили толщину проволоки, натянутой в помещении, где порхали летучие мыши, до 0,07 миллиметра, зверьки стали натыкаться на нее.
Летучие мыши наращивают темп эхолотирующих сигналов примерно за два метра от проволоки. Значит, за два метра они ее и «нащупывают» своими «криками». Но летучая мышь не сразу меняет направление, летит и дальше прямо на препятствие и лишь в нескольких сантиметрах от него резким взмахом крыла отклоняется в сторону.
С помощью эхолотов, которыми их наделила природа, летучие мыши не только ориентируются в пространстве, но и охотятся за своим хлебом насущным: комарами, мотыльками, жуками и прочими ночными насекомыми.
В некоторых опытах зверьков заставляли ловить комаров в небольшом лабораторном зале. Их фотографировали, взвешивали — одним словом, все время следили за тем, насколько успешно они охотятся. Одна летучая мышь семи граммов весом за час наловила грамм насекомых. Другая малютка, которая весила всего три с половиной грамма, так быстро глотала комаров, что за четверть часа «пополнела» на десять процентов. Каждый комар весит примерно 0,002 грамма. Значит, за 15 минут охоты было поймано 175 комаров — каждые шесть секунд один комар!
Подобно людям, летучие мыши тоже могут ошибаться. И такое нередко случается, когда они устали или еще толком не проснулись после проведенного в темных углах дня. Это доказывают изувеченные трупы летучих мышей, еженощно разбивающихся об Эмпайр-Билдинг и другие небоскребы.
Если низко над рекой натянуть проволоку, то летучие мыши обычно задевают за нее, когда спускаются к воде, чтобы утолить жажду несколькими слизанными на лету каплями. Зверьки слышат одновременно два эха: громкое от поверхности воды и слабое от проволоки — и не обращают внимания на последнее, оттого и разбиваются о проволоку.
Нередко ошибаются летучие мыши еще и потому, что многие насекомые, за которыми они охотятся, обзавелись антиэхолотами.
Ночные мотыльки, например, густо покрыты мелкими волосками. Дело в том, что мягкие материалы — пух, вата, шерсть — поглощают ультразвук. Значит, мохнатых мотыльков труднее запеленговать.
У некоторых ночных насекомых развились чувствительные к ультразвуку органы слуха, которые помогают им заблаговременно узнавать о приближающейся опасности. Попадая в радиус действия эхолота летучей мыши, они начинают метаться из стороны в сторону, пытаясь выбраться из опасной зоны. Ночные бабочки и жуки, запеленгованные летучей мышью, применяют даже такой тактический прием: складывают крылья и падают вниз, замирая в неподвижности на земле.
У этих насекомых органы слуха воспринимают обычно звуки двух разных диапазонов: низкочастотного, на котором «разговаривают» их сородичи, и высокочастотного, на котором работают эхолоты летучих мышей.
К промежуточным частотам между двумя этими диапазонами они глухи.
Летучие мыши, привыкая летать по уже испытанным ими трассам, избирают гидом память и не прислушиваются слишком внимательно к своим эхолотам. Исследователи провели с ними такие опыты: соорудили разного рода препятствия на проторенных веками путях, которыми летучие мыши каждый вечер вылетали на охоту, а на рассвете возвращались обратно. Зверьки наткнулись на эти препятствия, хотя их эхолоты работали и заранее подавали пилотам сигналы тревоги. Но они больше верили своей памяти, чем ушам.
Попав в новое помещение, летучая мышь как бы обследует его, облетая кругами на разной высоте само помещение и все крупные предметы в нем. В ее мозгу возникает, по-видимому, из разрозненных «эхокусков» достаточно полная, хотя, очевидно, и мозаичная картина окружающего пространства, но картина не зримая, а услышанная! И в дальнейшем, ориентируясь в обследованном месте, эта удивительная «мышь» с крыльями полагается в первую очередь на свою превосходную память, доверяя ей, кажется, больше, чем позволяют изменчивые условия нашего непостоянного мира.
Дрессированных летучих мышей кормили из рук, держа их на определенной высоте. Привыкнув к этому, зверьки отлично запоминали положение кормящих рук, и, когда человек руку с кормом вдруг опускал, они проголодавшись, устремлялись к тому месту в пространстве, где, как помнили, была прежде рука, и летали, явно недоумевая, куда девались ждавшие их тут прежде мучные черви.
Привыкнув жить в клетке с открытой дверцей, летучие мыши, всякий раз возвращаясь из ночных полетов, безошибочно находили вход в нее. Но стоило клетку чуть переставить или передвинуть входом в другую сторону, они первое время не могли найти этот вход, хоть был он и рядом, а кружились у прежнего его места, куда направляла их звуковая память, словно не веря в реальность сигналов от эхолотов, убеждавших: это место пусто!
Ширококрылые летучие мыши, например ночницы, так сказать, степенны; полет у них спокойный, небыстрый — 15–16 километров в час. Узкокрылые вечерницы в резвом темпе одолевают за час пространство в 50 километров. Набрав скорость, летучие мыши могут и парить немного.
Стартуя с ветки или иного какого предмета, зацепившись за который задними лапками спала или отдыхала летучая мышь, она или просто падает вниз, а потом, расправив крылья, летит, или, находясь еще в положении «вниз головой», начинает махать крыльями и их силой вздымает свое тело вверх, после чего разжимает лапки и быстро пускается в полет. Спят летучие мыши не только в висячем положении — в пещерах часто лежат на горизонтальных выступах и карнизах. С них взлетают как с земли: подпрыгнув сначала немного, резко машут крыльями и взлетают.
По земле многие летучие мыши, вопреки ожиданию, бегают неплохо, а некоторые так и вовсе проворно. Опираются при этом на мозоли кистевого сгиба крыльев и подошвы задних ног. Лазают по вертикальным плоскостям тоже ловко, цепляясь когтями больших пальцев, которые торчат спереди из перепонки крыла, и когтями задних лап.
И вода, если упадут в нее, не страшна им: хлопая крыльями и вроде бы прыгая по воде, довольно быстро выбираются из нее на берег.
Летучие мыши, всем известно, днем прячутся по разным щелям, дуплам, чердакам, колокольням, пещерам, погребам, а ночами охотятся за насекомыми.
Правда, вечерницы и некоторые другие летучие мыши вылетают на охоту за майскими и прочими жуками рано: еще при свете зари, сразу после захода солнца. Ночью у них перерыв: отдых в дуплах, а перед рассветом опять они летают быстро, легко, ловко и высоко (над вершинами деревьев и в лесах, обычно лиственных и смешанных). Вечерницы — крупные летучие мыши.
Но и нетопырь-карлик тоже не ждет полного мрака, вылетает рано, после захода солнца, но летает у опушек, в парках, на улицах деревень невысоко — у низа крон, — вертко, с частыми поворотами. Сам невелик — размах крыльев около двадцати сантиметров. День проводит на чердаках, за наличниками окон и в дуплах.
Ночницы летают поздно, в полной уже темноте, небыстро, спокойно, прямолинейно, без резких бросков и поворотов (лишь некоторые — быстро и беспорядочно). Крылья широкие. Прудовая и водяная ночницы охотятся низко над прудами, реками и озерами. Ночница Неттерера тоже любит промышлять у воды (или среди листвы), летает небыстро, плавно, невысоко, а хвост на лету держит опустив вниз, не подгибает к телу, как другие ночницы.
Ушаны (у них не по росту большие уши: длина уха около 4 сантиметров, а тела и головы крылатого зверька 5–7 сантиметров) на ночные промыслы отправляются тоже в полной темноте. Полет у них медленный, порхающий. Трепеща крыльями, повисают порой у листвы или стен на одном месте в воздухе, высматривают насекомых, чтобы схватить с листа или стены и съесть. Когда спят ушаны (в дуплах, на чердаках, в развалинах), уши сгибают на спину и прячут их под крылья. Зимуют они там, где и летом жили, но в местах более теплых — в погребах, пещерах, на утепленных чердаках, в дуплах толстых деревьев и в колодезных срубах. Забираются туда поздно, в октябре — ноябре, а весной вылетают рано — в марте — апреле. В некоторых местах, удобных для дневного сна, обычно в пещерах и гротах, собираются летучие мыши разных пород в огромном числе. В Карлсбадских пещерах Нью-Мексико, США, светлыми днями спят миллионы летучих мышей!

Когда они вылетают в сумерках, то треть часа вьются над выходом из пещеры семиметровым в поперечнике столбом, издали (за две мили!) похожим на дым пожара. Из иных пещер вылет летучих мышей длится будто бы и не один час!
Когда спит летучая мышь, температура ее тела падает значительно, почти до уровня внешнего природного тепла. И обмен веществ тоже замедляется: кислорода ей требуется во сне в десять раз меньше, чем в полете.
Но еще вдесятеро меньше, когда спит она зимой где-нибудь под землей, в погребах, шахтах или на теплых чердаках. Многие летучие мыши из стран с холодными зимами улетают, как и птицы, зимовать на юг, юго-запад, где нет больших морозов. Одни — сравнительно недалеко: километров за 100–150, другие — за 300 (прудовые вечерницы). Большие ночницы с Украины «эмигрируют» осенью в Венгрию. А североамериканские и канадские летучие мыши из рода лазиурус зиму проводят на лазурных берегах Флориды и Бермудских островов, до которых тысяча верст пути над бурным в осеннюю пору океаном.
Рыжие вечерницы в южных районах нашей страны зимуют в дуплах толстых деревьев, на чердаках, в нишах и за оконными рамами разных заброшенных и полузаброшенных домов. Но из Прибалтики улетают они в Чехословакию, Германию; из-под Воронежа — в Крым, на Кавказ и даже дальше, в Болгарию. А один крошечный нетопырь-карлик, с тельцем в несколько сантиметров и весом в три — пять граммов, окольцованный под Днепропетровском, через 70 дней осенью объявился уже в Южной Болгарии, пролетев 1150 километров!
А теперь последуем в резиденцию тех, кто зимует в пещерах. Мы увидим, как висят они, завернувшись в свои крылья, под потолком и на карнизах вниз головой, иные лежат на горизонтальных выступах стен. Одни плотно друг к другу, в тесноте, — теплее так, другие поодиночке. Но все холодные, если пощупать их. Температура тельца падает порой до нуля. А в лабораториях экспериментально понижали ее даже до минус 4–5 градусов, и летучая мышь после этого не умирала!
Спят не все: призрачные тени мечутся тут и там по пещере. Иных влечет что-то и на волю — из пещеры в пещеру. Что ищут они среди зимы? Толком мы этого не знаем. Правда, возможно, беспокойны и просыпаются те из них, которые осенью не успели справить свадьбы!
Детеныши (два или один, слепые и голые) родятся у летучих мышей в июне — начале июля. Месяца через два они на вид почти взрослые, а до тех пор матери сначала носят их на себе (днем, когда спят, прикрывают их, чтобы согреть, крылом).
Позднее крылатые мамаши, улетая ночью на охоту, чад своих оставляют в убежищах, и те сами уже умеют, зацепившись задними лапками, висеть вниз головой. Когда на рассвете самки возвращаются, детишки попискивают — по-видимому, каждый по-своему, потому что матери узнают голоса своих детей и летят к ним (если не в обычае у них, как у некоторых других животных, кормить сообща и своих и чужих младенцев).
А еще позднее улетает подросший «мышонок» (на своих уже крыльях) в ночные рейды. Обычно ультразвуками мать сигналит ему, и он летит следом за ней. Если потеряет акустический ориентир, кричит по-своему: «Где ты?» Она возвращается. И он — за ней, стараясь больше эхопеленг не потерять.
Врагов у летучих мышей немного: хватают их по ночам совы, а в сумерках — хищные птицы.
В наших широтах летучие мыши страдают больше не от хищников, а от паразитов: блох, клещей, бескрылых мух, клопов (близких родичей наших постельных). Губит многих и быстро наступающая на пустоши и леса цивилизация. Мало осталось мест, пригодных для зимовок и дневного сна летучих мышей, оттого число их сильно сократилось.
Нужно ли говорить, что летучие мыши, уничтожая летними ночами мегатонны вредных насекомых, очень полезны человеку. Что их надо беречь и, по возможности, не разрушать разные старые колокольни, штольни, погреба и дуплистые деревья. Нужно научиться даже строить для них специальные дуплянки, башни и прочие необходимые им «спальни» для дневного и зимнего сна.
Джунгли во мраке
Сельва — лес лесов
В сельве «кровожадно-жестокой», в Амазонии, деревья высятся, как могучие колонны, и нет им края и конца, все вокруг собой закрывают. Не видно ни восхода, ни заката, ни солнца на небе. Душно… Сыро… И капель монотонная и днем и ночью, и хрип жаб, и птичьи ночные трели древесных лягушек, москиты днем и ночью, а в гниющей древесине, в древесине растущей — гул и стрекотание: это возятся, жужжат, пожирают друг друга бесчисленные пауки и насекомые и, конечно, муравьи, муравьи, муравьи — всех пород и размеров.
Здесь, в этом «зеленом аду», деревья стиснуты объятиями лиан, пышными одеяниями орхидей.
Эти зеленые паразиты, поселяясь на ветвях и стволах деревьев, отягощают их тоннами своей листвы.
Деревья тут все разные, не как у нас — дубы в дубравах, сосны в борах, ели в ельниках, осины в осинниках… В тропическом лесу деревья одной породы, одного вида разделяют версты расстояний. Понизу — никакого подлеска, ни кустов, ни травы, лишь мох на земле, да вязкая гниль, и лианы змеями ползут вверх по гигантским стволам, стремясь вознести свою листву поближе к солнцу, к свету — в крону леса. Внизу, под кроной, вечный сумрак и вечная капель.
Птицы, звери, бабочки стремятся туда же вверх, не желая жить в полумраке у корней и меж колоннад стволов.
Даже опытный натуралист, попадая в этот роскошный лес, чувствует себя новичком, посетившим зоопарк, вольно расположившийся в ботаническом саду, где нет этикеток ни на деревьях ни на животных, мелькающих в листве. Сколько бы он ни читал специальных руководств, сколько ни изучал бы зоологию и ботанику, тут на каждом шагу встречает незнакомые виды и разновидности, не внесенные еще ни в какие списки и руководства. Изобильный до умопомрачения мир тропиков изучен мало.
Многие животные (пожалуй, что и большинство) светлыми днями здесь спят, таятся по щелям, дуплам, под корнями и в листве. Ночью оживают тропические леса. А ночи темные: чернее, чем где-либо еще на поверхности земли. Ни один луч, даже при самой яркой луне и звездах, не достигает почвы у корней деревьев-великанов. Чувствительная фотопленка часами может лежать здесь открытая и не будет засвечена ни пятнышком черноты. Черная ночь и ранняя. Уже в шесть часов после полудня — а в пасмурную погоду так и в пять — темно в лесу. Пчелы, бабочки и дневные птицы с зеленых высот леса опускаются в сумрачные его низины и прячутся здесь до утра.
Разнокрасочные и вездесущие попугаи ближе к ночи, на закате, собираются шумными компаниями у какого-нибудь давно выбранного ими сухого дерева, и летают вокруг, и хрипло кричат, хлопая крыльями, и важно прохаживаются (вверх и вниз головами!) по отполированным их лапами сукам, исполняя своеобразный ритуал перед сном. Желтоклювые туканы, часто на том же дереве, затевают дуэтные «песнопения». Впрочем, их дикие выкрики пением назвать можно лишь при невнимании к точному смыслу слов. Усевшись тет-а-тет и вздевая к небу гротескные клювы, странно, не по-птичьи кричат туканы: «Хи-кнук! Хи-кнук!»

Точно в шесть тридцать вечера (из ночи в ночь!) громкий, флейтовый свист возвещает конец дня и начало ночи. Это тинаму, птица, похожая на куропатку, оставив своего супруга насиживать четыре красивых яйца, зовет другого самца. Зовет долго, печально и часто безответно.
И тут, словно послушные этой команде, ночные жабы и лягушки хриплыми голосами взрывают вдруг предночную тишину так, что лес дрогнет! Только обезьяны, ревуны громогласные, как львы, способны перекричать разноголосое кваканье, кряканье, стрекотание и молодецкий (почти птичий!) посвист бесчисленных амфибий.
А рядом, в сырой прохладе быстро овладевшего лесом мрака, огромная, почти двухметровая, ящерица игуана ползает по переплетениям толстых сучьев и, чавкая, пожирает свежую листву, бутоны и почки. Она прыгает с ветки на ветку не хуже обыкновенной обезьяны и порой, промахнувшись, плюхается светлым брюхом в гнилую бочажину, перенаселенную лягушками. Только «бух» да «бух» слышится в ночи, саму игуану не видно.

А внизу… внизу струится живой поток. Рыжие, длинноногие муравьи сауба бурыми волнами извергаются изо всех дыр муравейников.
Листья дождем падают с деревьев, когда передовые отряды сауба доберутся до их ветвей. Острыми челюстями обрезают муравьи черешки. Внизу ждут добычу муравьи-раздельщики — они ростом поменьше. Выгрызают из падающих листьев круглые и полукруглые пластинки, их тут же подхватывают муравьи-носильщики и тащат в гнездо. Идут строем, колоннами, и кажется, будто листва на земле ожила и шевелится, устремившись зеленым потоком в неведомый путь. Поток (в ночи это — темное колыхание плывущей в одну сторону листвы) вливается в муравейник, а из других его дыр-дверей исторгаются новые волны охотников за зеленой листвой. За ночь сауба начисто раздевают многие деревья. «Они величайшие из всех известных губителей листвы, их опустошения более значительны, чем причиняемые другими знаменитыми истребителями листьев, такими, как японский жук и походный шелкопряд» — так пишут про них.
Зачем муравьям листья? Если последуем за «величайшими губителями листвы» в их дом, увидим поразительные вещи! Дом сауба, называемых также муравьями-листорезами, — гигантское сооружение. Подземные катакомбы, разбросанные на площади в десятки квадратных метров, иногда уходят в глубину до десяти метров.
С поверхности, с небольшого насыпанного муравьями холмика, ведут под землю двенадцать — двадцать похожих на кратеры входных отверстий. Многократно разветвляясь, тянутся ходы от камеры к камере. Камер, полусферических подземных комнат, иногда бывает около тысячи. Высота их почти двадцать сантиметров, длина сантиметров тридцать. Центральная камера — резиденция муравьиной матки. Она окружена комнатами с расплодом — яйцами и личинками. Но нас интересуют верхние этажи муравейника: в них скрыт секрет листорезов. Сюда несут носильщики зеленый груз и передают его другим муравьям — самым мелким в муравьиной общине. Те впиваются в обрывки листьев челюстями, теребят их, трясут, разрывают на мелкие кусочки, скребут, взбивают и укладывают на дно подземелий. Затем удобряют зеленую массу. Каждый муравей берет челюстями и передними лапками щепотку зелени, подносит ее к концу брюшка, выделяет капельку экскрементов, смачивает зелень и зарывает ее в измельченную листву. Потом берет другой комочек зелени и удобряет его так же тщательно. Эти забавные манипуляции муравьев-садоводов, удобряющих грибные сады (так называют обычно их грибные посевы), давно уже сняты на пленку.
Затем муравьи-садоводы бегут за рассадой: приносят из других камер кусочки грибницы и засевают ими приготовленный компост.
Вскоре вся масса удобренной листвы покрывается беловатыми и бурыми нитями (гифами) грибов. Теперь новая забота у садоводов: острыми челюстями они прищипывают, подрезают грибную поросль, чтобы не развивались на ней плодовые тела, обыкновенные грибы — шляпки на ножках. Они муравьям не нужны: листорезы выращивают свои особенные плоды, которые нигде, кроме муравейников, не созревают. На концах обкусанных грибных нитей образуются раневые наплывы, богатые белком опухоли. Их называют муравьиными кольраби. Этими удивительными плодами (они представляют, по сути дела, самостоятельно выведенную муравьями пищевую культуру) насекомые питаются сами и кормят личинок. Вот для чего им листья, которые добывают сауба в своих ночных походах.
Сауба — не кусачие муравьи. Встреча с ними человеку опасностью не грозит. Но под сумрачными сводами девственного леса бродят муравьи, перед походными колоннами которых бежит все живое! Как сигналы лютой опасности, звучат в сельве зловещие крики птиц-муравьедов, предупреждая о приближении «черной смерти». Человек ничего еще не слышит: ни отдаленного гула сотрясаемой листвы, ни шелеста миллионов бегущих муравьиных ног, не чувствует и смрадного запаха их маленьких тел, а твари, более чуткие, уже разбегаются, разлетаются кто куда. Кто может — спасается, а кто не может или не успеет, того ждет лютая смерть. Эти бродячие муравьи-эцитоны (по-научному), или тамбоча (по-местному), «опустошают огромные пространства, наступая с шумом, напоминающим гул пожара. Похожие на бескрылых ос с красной головой и тонким тельцем, они повергают в ужас своим количеством и своей прожорливостью. В каждую нору, в каждую щель, в каждое дупло, в листву, в гнезда и ульи просачивается густая смердящая волна, пожирая голубей, крыс, пресмыкающихся, обращая в бегство людей и животных…» (Хозе Ривера).
Гнезд у муравьев-бродяг нет. Для ночных привалов выбирают они укромное место где-нибудь под большим камнем, на кусте или толстой лиане, и, сцепившись здесь в большой трепещущий ком (как пчелы), внутри него прячут матку и личинок, которых весь день несли рабочие муравьи, прикрывая собственным телом.
Так спят до рассвета, избавив на время от своего террора население сельвы. Но тут другие «террористы» под покровом ночи выходят на охотничьи тропы. Страшные, лохматые, восьминогие, восьмиглазые…
Ночь — время разбойничьих налетов пауков-птицеедов. Многие из них ядовиты, огромны (рекорд — 20 сантиметров на 20 в размахе ног!). Они днем жутким своим видом население тропиков не смущают: прячутся в густой листве, под корнями. Некоторые отсиживаются в норах, которые с удивительным трудолюбием роют глубиной иногда до метра, хотя природа не дала им никаких землероющих приспособлений. Ковыряют ее упорно коготками лапок, а расковыряв, выносят из ямки комочки земли, зажав их в челюстях. Одни вход в норку затягивают паутиной, другие нет.
Ловчих сетей пауки-птицееды не плетут.
Промышляют разбоем на дорогах джунглей. Ночь придет, и пауки-птицееды, уродства своего в темноте не стыдясь, выползают отовсюду, где от света прятались. У многих из них концы ног густо волосатые — прямо подошва получается из волос! На нее опираясь, легко лазают пауки по гладкой листве и сучьям. А если случится им равновесие потерять, падают без риска вниз даже с самых высоких деревьев. Только ноги пошире растопыривают.
О том, что эти пауки едят птиц, пишут давно. Еще в 1705 году вышла книга, а в ней даже картинка — лапу на горле поверженной птахи утвердив, ест мохнатый паук свою пернатую добычу.
Да мы и сейчас не можем утверждать, что подобными делами лохматые пауки не занимаются. Однако, наверное, очень не часто. Насекомые — вот их каждоночная дичь. Но убивают и едят лягушек, ящериц, мышей. А про ядовитую длинноногую граммастолу рассказывают, что предпочитает она охотиться на молодых… гремучих змей! За это перед пауком следовало бы шляпу снять, если бы сам он не был ядовит не меньше змеи.
Звери тропиков в ночных промыслах
В январе и феврале в лесах Южной Америки созревают плоды дерева альмендро — крупные плоские орехи. Их бурая сочная сверху кожура сладковата на вкус. Обезьяны, еноты-носухи (днем) и еноты кинкажу и олинго (ночью) рвут плоды и едят эту мякоть. Но скрытую под ней твердую скорлупу ореха разгрызть не могут: роняют орехи вниз. Под развесистые деревья (которые, как ни странно, из семейства бобовых) приходят ночами на откорм гурты южноамериканских свиней — белогубых и ошейниковых пекари. Плоды альмендро человек может разбить, только взяв в руки увесистый молот. Но пекари крушат их прочную скорлупу зубами!
Зоологи выделяют пекари в особое семейство. Некоторые анатомические признаки у них иные, чем у свиней настоящих, обитающих в Старом Свете. Например, верхние клыки растут не вверх, как у наших кабанов, а вниз. На спине у пекари — большая пахучая железа. Когда пекари напуган или рассержен, шерсть, вздымаясь, обнажает железу и резкий запах распространяется вокруг. Продираясь сквозь густые заросли (обычно у воды, где любят они жить), пекари оставляют на ветках свой специфический запах, который служит путеводной нитью для их собратьев.
Белогубые пекари крупнее и отважнее воротничковых и живут обычно большими стадами — 50–100 свиней. В таком сообществе (и с такими зубами!) они немногих врагов боятся: кидаются всем гуртом нередко и на охотника. Тапиров и оленей близкое соседство ошейниковых пекари не смущает. Но немедленно они уходят подальше, лишь только гурт белогубых свиней, распространяя сильный запах мускуса, с чавканьем и пыхтеньем подбирая с земли излюбленный корм свой, с угрожающим «кастаньетным» щелканьем клыками явится из мрака туда, где мирно паслись эти парно- и непарнокопытные.
Тапиры — родичи лошадей и носорогов. И в наши дни очень похожи они на древних прародителей своих и лошадиных. Верхняя губа и нос тапира вытянуты в небольшой хоботок, который уныло висит вниз. Но когда возбужден тапир, нос его, напрягаясь, гибкой трубкой изгибается во все стороны, с храпом и сопением вынюхивая возможных недругов и выискивая безопасное направление, куда близорукий, но с острым чутьем зверь тут же кинется, сокрушая растительные преграды.

Кинкажу, встревоженные этим стремительным бегством, побросав орехи, которыми лакомились в ветвях альмендро, лезут повыше, хватаясь за суки… пятью лапами. Четыре — обычных, пятая — хвост! Он у кинкажу длинный и цепкий («пятая рука», как говорится). Кинкажу — особого рода енот, а значит, из породы хищников. Только у двух хищных зверей цепкие, как у обезьян, хвосты: у кинкажу и бинтуронга, который живет в лесах Вьетнама и Индонезии (но о нем — чуть позже).
У кинкажу и язык весьма примечательный: очень длинный и гибкий. В любую щель может втиснуться и добыть мед или личинку какого-нибудь насекомого. Мед, фрукты — лакомство для кинкажу. Но и птичьи гнезда разоряет по ночам цепкохвостый енот и душит мелких зверьков и сонных птиц.

В тех же ветвях, затушеванных тьмою, не спеша, но с уверенной сноровкой лазает небольшой зверек, обладатель многих красивых имен: «золотая крошка», «сверкание ночи», «цветочек бальзы», «хвала богу», «шелковый муравьед»… Он чуть больше белки, в шелковистой золотистой шерстке, с голой «подошвой» на конце цепкого хвоста (чтобы удобнее хвататься хвостом за ветки!) — и в самом деле муравьед. Большого муравьеда вы, конечно, знаете: видели его в зоопарке. Ну, а это малый муравьед. В зоопарках он редкий гость. Как и у большого собрата, вам, надеюсь, известного, «фирменное блюдо» золотой крошки — муравьи и термиты, но только древесные. Острыми когтями он крушит их гнезда, сооруженные на ветвях, и длинным, тонким языком вылизывает всполошившихся насекомых. Он от врагов, сумевших найти его в темноте, в океане тропической листвы, не ищет спасения в бегстве. Стойко (и в буквальном, и переносном смысле) обороняется: за сук уцепившись хвостом и когтями задних лап, вверх солдатиком вытягивается, «молитвенно» вскинув к небу передние лапы с когтями, готовыми к удару. За эту оборонительную позу и получил малый муравьед прозвище «хвала богу». Но не к божьему милосердию взывает отважный зверек, а ждет, готовый сразиться, нападения. Попробуйте троньте его — и вот что случится, рассказывает Джеральд Даррелл, известный, надеюсь, и вам натуралист и писатель:
«Но вот я вновь тронул его, и он вдруг ожил: всем телом упал вперед, разрубив воздух передними лапами… Проделав это движение, муравьед выпрямился и застыл в прежней позе, неподвижный, как часовой, ожидая следующего раунда».

Острые когти, ядовитые зубы, всесокрушающая пасть и удушающие кольца мускулистых тел… С таким вооружением многие хищники в шерсти, перьях и чешуе — пумы, ягуары, оцелоты и прочие большие и малые дикие кошки, куньего племени гризоны и тайры, совы и гарпии, крокодилы, удавы и другие змеи — лишь погаснет вечерняя заря, выходят на разбойные промыслы.
Там же, в Южной Америке, и тоже ночной порой, крылатые тени в невысоком бесшумном полете устремляются в леса и на пастбища, к жилищам людей и в дикие джунгли за добычей особого сорта. Отыскав в ночи свою жертву — лошадь, корову, свинью, собаку, курицу либо иное домашнее, как правило, или дикое, что не исключено, теплокровное (обязательно) животное, — вампир (а это именно он!) приземляется, подбираясь ближе, проворно ползет (похож тогда на огромного бурого паука!). Или садится прямо на спящего зверя — тихо, осторожно. Мягкие подушечки на подошвах задних ног и на кистевых суставах этой страшной летучей мыши для того вампиру природой и даны, чтобы, опираясь ими о тело зверя при посадке, не разбудить его. Не чувствует спящее животное и молниеносного укуса.
В слюне вампиров, как и у пиявок, — особый фермент, который не дает крови свертываться, и какое-то еще, по-видимому, обезболивающее, анестезирующее вещество.
В Америке (от Мексики до Уругвая) — три вида вампиров. У всех морды бульдожьи, курносые, зубы очень острые, способные быстро наносить деликатные порезы (глубиной в 1–5 миллиметров), а желудки, как у пиявки или комара, — длинные, кишковидные, растяжимые, весьма пригодные для обильного наполнения жидкостью.

Вампир жаден и прожорлив: не улетит, пока не насосется (обычно за полчаса) крови так, что брюхо его шаром распухнет, так, что едва двигаться может (один вампир в неволе за 20 минут вылакал полную миску крови!). С трудом поднимают его крылья, и летит он куда-нибудь в дыру в скале, в пещеру, реже — в дупло или под крышу, и, забившись туда, висит, дремлет несколько дней в одиночестве или в сообществе с тысячью таких, как он, или других летучих мышей. Пока свою жуткую пищу не переварит и голод снова не выгонит его пиратствовать.
Сами по себе раны, причиненные вампирами, не опасны. Опасны порой кровотечения: они длятся по восемь часов после укусов и нередко обильны. Люди от потери крови после нападения вампиров не умирают, но щенки в индейских деревнях местами погибают почти все. Взрослые собаки редко страдают от вампиров, так как тонкий слух помогает им вовремя услышать ультразвуковой «шепот» атакующего кровососа. Скот же домашний, мулы, лошади, коровы, из ночи в ночь, питая вампиров своей кровью, худеет, беспокоится, мечется по пастбищам, плохо ест и гибнет. Мухи заражают личинками кровоточащие раны, резвые на расправу в тропиках всевозможные бактерии не отстают от них. Где вампиров много, скотоводство под угрозой, а местами и вообще из-за них невозможно. Ведь вампиры не только изнуряют животных переливанием крови (в себя!), но и заражают бешенством.
…«А-хю, а-хю… кхо-кхо-кхо!..» — хриплый кашель или кашляющий лай, потом ужасный рев и в конце «потрясающий землю стон, затем ворчание, подобное громовому стаккато». Жуткие крики, внезапно из лесной глуши вырываясь, гремят громоподобными раскатами над темной чащей. «Это самые ужасные и потрясающие звуки, услышав которые трудно сохранить душевный покой». И так еще про них пишут: «Львиный рев, волчий вой, даже вопль сирены — просто шепот по сравнению с достижениями больших бородатых вокалистов южноамериканских лесов».
Не очень, впрочем, велик этот «большой» вокалист — обезьяна ревун: рост — до метра, вес — 8 килограммов в лучшем случае. Но крик ее громогласнее, чем львиный рев: в гуще леса за две версты он хорошо слышится, а на открытом месте — за пять километров!
«Запевает» вожак стаи, затем — другие самцы. Вдруг все обезьяны разом исторгают такие вопли, что, и заткнув уши, рискуешь оглохнуть. Ближайшая территориально стая вторит немедленно соседям, и дикий концерт звучит порой часами.
Что заставляет их кричать среди ночи? Страх перед вампирами или «глубокое чувство одиночества, которое пугает обезьян, лишь только мрак сомкнётся вокруг»? (И то и другое, впрочем, несерьезно.)
Ревунам от природы положено ночами спать, как и всем обезьянам — американским и «старосветским». Всем, кроме одной — дурукули! Она единственная в мире, которая уподобила свой образ жизни совиному: спит днем, притаясь в листве. А в сумерках и ночами, лишь «мрак сомкнётся вокруг», с ветки на ветку по темному лесу рыщет, мелким разбоем кормится, терроризируя лягушек, ящериц, пауков, насекомых и сонных птиц.
Ее большие круглые глаза видят во тьме превосходно, и так она ловка в ночных набегах, что, сорвавшись с ветки, хватает в акробатическом прыжке летящего невдалеке жука или бабочку.
Ночами, особенно в часы, близкие к рассвету, соло и хоровые вопли ночных обезьян будоражат джунгли Амазонки и Ориноко. В их разноголосых криках слышится и собачий лай, и кошачье мяуканье, и даже рев ягуара, иногда — тихое, мелодичное щебетанье и чириканье. Обезьянка невелика, с небольшую кошку, а кричит пронзительно и громко. У нее, как у лягушки, есть резонаторы, усиливающие крик, — растяжимый мешок на горле и расширенная трахея. А губы, когда кричит, складывает она рупором.
Обезьяны и полуобезьяны, именуемые также лемурами, словно поделили между собой времена суток: первые ночью спят, днем кормятся, резвятся — словом, бодрствуют, активны, как говорят; вторые, наоборот, деятельны по ночам. В Америке лемуры не живут, а только — в тропиках Старого Света.
Оставив других, не упомянутых здесь, недремлющих по ночам обитателей американских лесов (их еще немало), отправимся в страны, известные людям до Колумба.
Возможно, первым там, в джунглях Индокитая, Индонезии или Филиппин, повстречаем бинтуронга, тем более что рассказать о нем давно обещано.
Самого увидеть его нелегко (бинтуронг — ночной зверь), но громкие крики бинтуронгов пугают редких в джунглях ночных путников. Бинтуронги путешествуют по ветвям не спеша, будто даже лениво, без суматохи ищут надежную опору, чтобы без прыжка перелезть на ближайший сук. Хватают его лапами и хвостом. У бинтуронгов хвост цепкий, как у кинкажу. Даже мартышкам и другим обезьянам Африки и Азии природа таких нужных жителям ветвей хвостов не дала: только лишь некоторых американских обезьян ими одарила. Там, в Южной Америке, счастливых обладателей цепких хвостов («пятой руки») много: кроме обезьян, опоссумы, сумчатые крысы, два муравьеда (средний и малый), восемь видов древесных дикобразов из рода коэнду и один хищный зверек, нам уже известный енот кинкажу.
Бинтуронг — тоже хищник (из семейства виверр, в котором и знаменитые мангусты), но только очень уж нехищный он хищник: в основном вегетарианец; впрочем, при случае поймать и съесть мелкого зверька или птицу бинтуронг не откажется. А зверек среди всей азиатской своей виверровой родни самый крупный — с хвостом метра полтора в длину. Шерсть у него темно-серая, лохматая, а уши с кисточками. Больше на медвежонка похож, чем на мангусту…
Но где же, однако, лемуры, ради которых мы из Нового в Старый Свет перебазировались? Почти все на Мадагаскаре! Кое-кто, впрочем, живет и в Азии, на родине бинтуронгов… Тонкий лори. Лемур круглоухий, большеглазый, почти бесхвостый, на длинных «паучьих» ногах… Медлительный. Лениво, осторожно, последовательно лапу за лапой, передвигает по сукам и, пока не укрепит одну, прочно обхватив сук, вторую не отпустит. Он не прыгает, как другие лемуры. Никогда! И очень редко гуляет по земле, а лишь по деревьям и не низко. А если ухватится за что, так оторвать этого цепколапого крошку (в нем и весу-то меньше фунта!) даже и человеку нелегко.

У него глаза совиные, круглые — невольную дрожь нагоняют на человека. Ночью видит лори этими глазами, надо полагать, не хуже совы. Ведь ночь для него полна жизненных приключений. Днем спит он в ветвях, изогнув спину дугой и спрятав голову меж бедер, и тогда неприметен совсем — комок мха.
Проснувшись на закате, первым делом чистится, долго, тщательно выскребает и причесывает шерсть нижними резцами и особым гребнем-когтем на задней ноге. И вот пополз — отправился на охоту за насекомыми, лягушками, мелкими птахами. Наверное, ест и листья, цветы, фрукты.
Подбирается к добыче, которую высмотрели глаза-плошки, медленно, как хамелеон, словно струясь по сукам. Но не стреляет, как тот, языком, а в молниеносном броске хватает обеими руками и быстрыми укусами в голову убивает. Осторожен. Никогда не схватит такого, в чем не уверен, что вреда нет и одолеть ему по силам.
Всякая новизна, необычность, в которую вдруг попадает, шум и яркий свет, даже солнечный, пугают его, нервируют до паники.
Самцы и самки тонких лори живут в одиночестве. А когда встречаются, то быстро расстаются.
Иное дело толстые лори: живут в верном супружестве, парами, а когда у них малыши родятся и подрастут, отцы, разделяя «тягловое» бремя матерей, носят их на своих животах.
Толстый лори пушистее, крупнее (на 10 сантиметров), массивнее, увесистее (вдвое, вчетверо) и медлительнее тонкого. По хребту у толстых лори, от ушей и до корня хвоста, тянется темная полоса, и когда, плавно извиваясь, лениво перебирая короткими лапами, карабкается он по веткам, то кажется, особенно в темноте, будто удав ползет! Подобие поразительное (посмотрите в фильме «Тропою джунглей»). Беззащитному животному это опасное сходство, рождающее у недругов обман зрения и ложный испуг, все равно что охранная грамота.
Хватка у толстого лори еще мощнее, чем у тонкого: его лапы смыкаются вокруг ветки почти так же «автоматически», как у птиц. Лори часами способны висеть вниз головой, уцепившись лишь одной ногой за сук.
…В лесах на западе Индонезии и на Филиппинах живут… гномы. По ночам, быстрые, как пули, и бесшумные, как призраки, скачут они по деревьям. У них огненные глаза, а на пальцах присоски. С дьявольскими улыбками, растягивая рот от уха до уха, окружают «яра-ма-я-ху», потерявшего дорогу человека, прыгают на него и, разумеется, сосут кровь.
В портрете этого демона, который довольно точно рисует легенда, легко узнать черты маленькой полуобезьянки долгопята. У него действительно огромные, блестящие в темноте глаза, большой рот, «до ушей», и длинные пальцы с присосками на концах. Стоит одному пальцу с присоской прилипнуть к любой отвесной и гладкой поверхности, даже к стеклу, и зверек уже висит, не падает! Зверюшка с цыпленка, а прыгает двухметровыми скачками!

Долгопят похож на сказочного тролля, но он не «кровопийца», как вампир. Это один из самых безобидных обитателей тропиков. Но и далекий от суеверий человек, когда впервые видит долгопята, испытывает невольное беспокойство. С выпученными сверкающими глазами, острыми ушами, задними ногами, похожими на ходули, и с оскаленным в беззвучном смехе ртом, он и в самом деле похож на черта (впрочем, скорее, на чертенка). Зоологи одному из видов долгопятов дали даже латинское название «спектр», что значит «призрак». В сумерках дикой чащи, где «лес и дол видений полны», а странные крики и шумы пугают непонятными страхами, жуткое впечатление производит долгопят.
Такую историю рассказывают про одного американского солдата, который заблудился в джунглях Филиппинских островов. Пробродив много часов, он прилег отдохнуть. Его пробуждение было кошмарным: прямо перед ним сидел призрак с оскаленным ртом и с двумя огненными шарами вместо глаз. «Лесной дух» усмехался злорадно и торжествующе. Обезумевший воин с криком бросился бежать напролом через чащу.
Когда несчастного нашли, он без конца повторял одну фразу: «Эти глаза! Эти глаза!» Солдат сошел с ума.
Маленький любопытный зверек спустился с дерева, чтобы получше рассмотреть — кто там храпит внизу? Наверное, бедняжка испугался не меньше возопившего в ужасе «джи-ая». Солдат мог убить его щелчком. Но у страха, говорят, глаза велики…
У долгопята тоже. Диаметр его глаза 16 миллиметров — лишь вдесятеро меньше самого зверька (как у каракатицы). В них зрачки от крохотной точки в одно мгновение расширяются во весь глаз, если вдруг свет померкнет. Долгопят — ночной зверь, и подобная адаптация к мраку «этих глаз» ему очень полезна.
Долгопят, как сова, и голову может повернуть на 180 градусов назад.
Увидит всевидящими во тьме глазами кузнечика, ящерицу, лягушку, упрет в нее немигающий взор, затем прыжок — и хвать добычу лапами! Быстро-быстро кусает ее острыми зубами, закрыв глаза, чтобы, наверное, в схватке не повредить их. Охотятся долгопяты и за крабами, и за рыбами и потому любят селиться в лесах по берегам рек и озер. Живут парами, реже — втроем-вчетвером. Гнезд не строят, в дуплах днем тоже, по-видимому, не спят, а прицепятся к тонким вертикальным стволам, подопрут себя снизу хвостом, замрут и невидимы, словно наросты грибные на дереве. Так дожидаются прихода новой ночи.
…Черные длинные тени восьмиметровыми скачками, словно ночные птицы, проносятся в листве. Падают с высоты дерева вниз, скачут, невидимые, сквозь нижние ветки и кусты к ближнему дереву и по нему стремительно опять в вышину…
Место действия — Мадагаскар. А «длинные тени», в восьмиметровых скачках одолевающие пространства между деревьями, — черные лемуры.
Здесь, на этом «острове лемуров», еще 20 видов других полуобезьян (65 % всех известных науке). Лесоразработки, уничтожившие уже девять десятых мадагаскарских лесов, грозят гибелью многим лемурам. Карликовый мохноногий лемур уже, кажется, как обитатель Мадагаскара числится лишь на бумаге: вымер. Такая же судьба ждет, по-видимому, в скором времени и лемура вари.
У него пышные баки и густой воротник на шее. И шерсть удивительно густая для жителя тропиков, помогает в ливни: так плотна, что дождевые потоки не пробивают ее. Окрашен очень красиво: у одних рас черно-белый мех, у других — рыже-черный. Живет в высокоствольных лесах на севере острова.

Вари мурлычет, мяукает, когда душевный покой его не нарушен. Но, возбужденный или испуганный, исторгает из своей небольшой груди такие жуткие и оглушительные вопли, что просто мороз по коже пробирает даже дальнего слушателя. «Зловещий хохот умалишенного…» — когда в этом роде вздумают вдруг упражняться вари в зоопарках, с нервными посетителями случаются неприятности. В диких горных лесах, усиленные многократно эхом, звучат хоровые вопли вари особенно страшно. Так зловеще, что человек невольно задрожит, особенно если услышит в первый раз.
За душепотрясающие крики и за манеру греться на утреннем солнце с раскинутыми руками и мордой, обращенной к великому светилу (в молитвенной позе), считали прежде мальгаши эту полуобезьяну священным солнцепоклонником. Боялись и не обижали вари. И те людей привыкли не пугаться. Ныне цивилизация и образование освободили многих от старых суеверий (вооружив новейшими ружьями), и вари лишились вековой «охранной грамоты», преподнесенной им суеверием. Так странно и по-разному зависит благополучие или гибель животных от древней веры человека в сверхъестественное. Недавно большое исследование лемуров провели на Мадагаскаре. Жизнь большинства полуобезьян протекает тайно во тьме ночи, так что много и увидеть вроде бы нельзя. Но ученые вооружились телеобъективами, оборудованными приборами так называемого ночного видения, в инфракрасном свете рассмотрели и сфотографировали настоящие цирковые номера. Вот какой, оказывается, акробатикой занимаются некоторые лемуры: скачут по деревьям стоя, солдатиками! Вытянутся на суку во весь рост, балансируя раскинутыми в стороны руками и хвостом, оттолкнутся задними ногами и летят над черной бездной внизу до другого дерева. На его сук «приземляются», тоже стоя на ногах, затем — новый прыжок в вертикальной позиции…
Человек, обезьяны и лемуры по научной классификации — представители высокоинтеллектуального отряда приматов. Самый крохотный наш собрат по этому отряду — мышиный лемур.
Он с крупную мышь. Серый сверху, беленький снизу, на мордочке, вдоль по переносице, белая полоса. Ночной зверек и кормится насекомыми, немного фруктами. Днем спит в дуплах, натаскав туда листьев. Строит в развилках из прутиков и гнезда, похожие на птичьи, и, чтоб мягче было, выстилает их шерстью.
Но самое замечательное у него, вроде как у белки-летяги (но не такая широкая), — собранная в складку кожа по бокам тела, натянутая от локтя до колена. И растяжимые воздушные мешки под кожей головы и спины. Все это — для лучшего планирования в прыжках с ветки на ветку.

В жаркий сухой сезон года (с июля по сентябрь) мышиный лемур, заранее запася жир, главным образом в хвосте и на ляжках, спит, не пробуждаясь не только днем, но и ночью.
Новорожденные мышиные лемурчики такие крохотные! Если бы папаши интересовались их весом, то убедились бы: он в тысячу раз меньше, чем у приматов из приматов — человеческих младенцев. Мать носит малышей, ухватив зубами за шкурку на боку, и они никогда не виснут на ней ни снизу, ни на спине, как у других обезьян и полуобезьян.
Еще один ночной деятель из дальней нашей родни живет в бамбуковых джунглях Мадагаскара. По-русски называют его «ай-ай», а еще «руконожкой», хотя «рукоделец» подошло бы больше, ибо удивительным рукоделием занимается ай-ай по ночам.
Вот он проснулся на закате, вылез из дупла и первым делом, как заведено у лемуров, причесывается. Чистит старательно, чтобы нигде не осталось спутанного после сна волосика, свою черную шерстку, и ушки, и глаза, и нос. У него пальцы длинные на удивление, а третий особенно — тонок, точно усох, кажется, одни лишь длинные-длинные косточки в нем остались. Третьим пальцем, подогнув остальные, руконожка и наводит чистоту.
Покончив с этим делом, прыжками с ветки на ветку поскакал по деревьям. Нашел дерево старое, изъеденное личинками жуков. И тут начинается главное его рукоделие. Сухоньким пальчиком постукивает ай-ай по коре, словно дятел клювом. Стучит и, близко приложив большие чуткие ушки к стволу, слушает: не обнаружится ли где по звуку пустота под корой — тут, значит, ход короеда! Не выдаст ли жирная личинка себя трусливой возней, испугавшись его стуков.
Как такое случится, сейчас же ай-ай вводит в действие свои удивительные зубы, которые столько раздумий и сомнений доставили зоологам. Ведь зубы-то у него, как у белки: клыков нет, а резцов сверху и снизу лишь по два. И резцы — ну прямо как у грызуна: без корней, растут всю жизнь, спереди с эмалью, сзади — без, поэтому самозатачиваются. Из-за этих зубов считали прежде, что ай-ай родом ближе к грызунам, чем к приматам. Учредили для него одного даже особый отряд. Но знаменитый английский биолог Ричард Оуэн, изучив молочные зубы руконожки, доказал, что по всем признакам это зубы примата. У взрослых они, правда, так изменяются, что первородный их вид и не узнать. А изменяются потому, что руконожка хоть и не грызун, но зубы нужны ему, чтобы грызть.
Так вот, установив в дереве точную дислокацию разветвленных ходов короедов, ай-ай тут же грызет кору. Прокусив в ней дырочку, сует в отверстие длинный третий палец и, личинку им подцепив, извлекает на свет божий (впрочем, ведь ночь, света, кроме лунного, может и не быть).
Ест ай-ай и сахарный тростник, грызет прочную скорлупу кокосовых орехов, плоды мангров.
А дайте ему яйцо, так он аккуратненькую дырочку в нем прогрызет, затем все тем же своим незаменимым пальцем через дырочку, не поломав скорлупу, все желто-белое содержимое яйца по частям извлечет и съест.
А знаете, как пьет ай-ай? Пальцем, именно пальцем! Быстро-быстро «лакает» им воду: обмакнет и обсосет, обмакнет и обсосет.
Искусные строит ай-ай гнезда — похожие на беличьи круглые шары, полметра в диаметре, с одним входом. Плетет их из листьев весьма известной пальмы «дерево путешественников» и сухими ветками укрепляет. В гнезде самка-руконожка кормит своего детеныша из сосков, которые у нее на брюхе, а не на груди, как положено примату.
Ай-ай молчалив. Редко слышат его голос — словно звук трущихся друг о друга кусков металла. Но в страхе он кричит «рронгзит», а не «ай-ай», как думали вначале и по ошибке так его и назвали.
Однако людей ай-ай не очень-то боится и нередко, вместо того чтобы бежать, вступает в бой: царапается и кусается. Веками охраняли его людские суеверия: убить руконожку, утверждало старое поверье, значит, подписать себе смертный приговор, который войдет в силу не позже, чем через полгода. Если случится — уснет человек в лесу, а руконожка его увидит, то соорудит будто бы ему подушку из веток. Если, проснувшись, найдет человек подушку у себя под головой — быть ему богачом. Если под ногами — скоро погибнет, несчастный, жертвой колдовства.
Калонг, тагуан, кагуан
Первый — летучая собака. Второй — летающая белка. Третий — шерстокрыл. Все трое — летающие звери. И летающие по ночам! У всех трех родина — Юго-Восточная Азия: как раз те места, с которыми мы, чтобы посетить Мадагаскар, недавно расстались.
Летучие собаки (или летучие лисицы), по-русски называемые также крыланами, — родичи летучих мышей (из того же отряда рукокрылых). Но головы у них остренькие (прямо собачьи!), ушки торчком, глаза большие. Крыланы крупнее летучих мышей. Калонг — самый большой крылан: когда распахнет крылья, метра полтора будет от конца одного крыла до конца другого.
Леса и плантации тропиков с дикими и культурными бананами, апельсинами, манго, гуавами, папайями, панданами, финиками, момбинами, авокадо, плодами баобабов и мангров — обильно накрытый для крыланов стол в любое время года. Повиснув на одной лапе вниз головой, другой подносят сорванный фрукт ко рту и едят. Едят и цветы, а некоторые и насекомых.
Кормятся по ночам и в сумерках, днем спят на больших деревьях, в густых непролазных кустах, некоторые в пещерах. Тысячами висят крыланы, как перезрелые плоды, на гигантских деревьях, сплошь увешав собой их кроны. И так много их порой здесь собирается, что суки, не выдержав чрезмерной тяжести, с треском ломаются, крыланы с криками летят вниз. Шум и гам такой, что даже гул уличного транспорта из-за него не слышен в тех городах, где летучие собаки поселяются на деревьях парков.

Деревья выбирают большие, прочные, возвышающиеся над округой, чтобы удобнее было к ним подлетать. Когда крыланы спят, повиснув на ветвях вниз головой, то ничто их почти не защищает ни от ветра, ни от ливней, ни от полуденного тропического зноя. Если прохладно, крыланы плотно со всех сторон укрывают себя, как одеялом, крыльями. Совсем холодно (ниже десяти градусов) — морду спрячут под крыло и дышат там воздухом, согретым собственным телом, еще и ногу одну туда же упрячут, а на другой висят. Когда тепло, крылья сжимают неплотно, чтобы ветерок обдувал. Если солнце печет жарко, совсем их распустят и крутят ими, изображая вентилятор. А если жара под сорок и более градусов, то — кто их этому научил? — лижут и грудь свою, и живот, и крылья: влага, испаряясь, охлаждает зверьков.
Один интересный крылан ни на кого из всей собакоголовой своей родни не похож, ибо голова у него — «дикая карикатура лошадиной морды, изображенной в профиль»! Ноздрястая, губастая, массивная — молотоголовым называют этого крылана. Родина его — Экваториальная Африка.
Про него пишут так: «Ни в каком другом звере не подчинено все так полностью голосовым органам». И еще: «Взрослые самцы обладают парой воздушных мешков, которые открываются по бокам носоглотки и могут быть по желанию надуты, и огромной, увеличенной гортанью. Она почти равна по длине половине позвоночного столба, заполняет большую часть грудной полости и оттесняет сердце и легкие назад и вбок. Крик, из всего этого возникающий, продолжительное кряканье или кваканье, поистине замечателен и, по-видимому, привлекает самок».
Молотоголовые самцы, в груди которых сердце уступило место духовому инструменту, часами ночи напролет через короткие интервалы квакают на деревьях, словно там, вверху, «пруд, полный горластых лягушек».
…Полумрак тропического леса. И все же, чтобы встретиться с тагуаном, самым крупным летуном в отряде грызунов, надо ждать полной ночной темноты. Днем тагуан спит в гнездах метровой ширины. А пока вот его словесный портрет: довольно лупоглаз, уши короткие и широкие. Со спины смотреть — черный с серым, а голова, бока шеи, ноги и летательная перепонка между ними — цвета каштана. Перепонка снизу — серо-желтая с пепельной каймой. Длина (с хвостом) 1,2 метра, размах «крыльев» — 60 сантиметров, вес — 1,4 килограмма.
Во тьме среди диких криков тропической ночи непросто услышать негромкое цоканье, похожее на звуки, издаваемые нашим неумелым в таких упражнениях языком, когда мы подражаем топоту копыт. Это проснулся тагуан! Он робок, но в ночи, укрытый мраком от нескромных взглядов, планирует с дерева на дерево. Жует листья, орехи и фрукты — это, кажется, и весь его корм. Он может почти в пикирующем полете опуститься до земли и, не коснувшись ее, плавно взмыть вверх. Он может выписывать в небе виражи и «мертвые петли», умело, как и парящая птица или планер, используя восходящие токи теплого воздуха, и тогда пролетает над лесными долинами почти полверсты!

Это тагуан. А кагуан? Он тоже ас среди тех, кого природа настоящими крыльями не наделила, а только летательной перепонкой, пригодной лишь для парения (как у нашей белки-летяги и у тагуана).
Одни знатоки считают, что кагуан, или шерстокрыл (ростом он с кошку), — насекомоядный зверь, нечто вроде летающей землеройки. Другие доказывают, что он лемур (летающий, конечно). Третьи же полагают — кагуан не то и не другое, а особое, в единственном лице представляющее целый отряд существо. Головой и мордой кагуан, или колуго, и правда похож на лемура, но зубы у него насекомоядного типа.
Его летательная перепонка более обширная, чем у любого летающего планирующим полетом зверя. Кожистая, поросшая шерстью (не голая, как у летучих мышей) и натянута почти от самого подбородка к концам пальцев на всех четырех лапах (когти на которых, странное дело, втяжные, как у кошек) и дальше — к концу короткого хвоста. Полностью растянув свой парашют, кагуан парит сверху вниз, как бумажный змей — в очертаниях почти идеальный прямоугольник, без каких-либо нарушающих чистую геометрию выступов и впадин. Пролетает в одном прыжке с дерева по воздуху метров семьдесят.
Бывает, что с дерева слезает кагуан на землю, но долго на ней не задерживается, спешит, неуклюже галопируя, взобраться поскорее по стволу вверх и снова парить и парить в пленительной невесомости над роскошью зелени, прикованной корнями к земле!

Днем кагуан спит в дуплах или повиснув на суку, прикрывшись своим парашютом. Шкура у него серо-охристая с мраморными разводами, очень похожа по цвету на лишайники, которыми обросли деревья в тропиках. Дополнительный камуфляж обеспечивают особые «пудреницы» на его коже; с них в изобилии сыплется зеленовато-желтый порошок, и потому шкура кагуана всегда припудрена в тон коре и листве. Если притронуться к нему, то пальцы пожелтеют.
С заходом солнца, очнувшись от дремоты, кагуан, побуждаемый к тому всемогущим аппетитом, рвет листья и плоды, но позы не меняет: висит так же, как провел часы, заполненные сновидениями, — вниз спиной. Ест долго, потому что пища его малокалорийна.
Представляя кагуана, нельзя не упомянуть о его универсальных зубах. Резцы у кагуана сильно выдвинуты вперед и зазубрены. Он не только скоблит ими мякоть плодов, но и… причесывается, как гребешком.
Когда к вечеру кагуан оживает, первым делом приводит в порядок свою смятую во сне напудренную шерсть. Причесывается, чистится. За сумерки и за ночь кагуан прихорашивается так часто, что его «гребень» быстро забивают обрывки волос. Однако конструкция его настолько совершенна, что в ней предусмотрены на этот случай специальные щеточки для чистки самого гребня. На конце языка кагуана — многочисленные бугорки. Быстро-быстро проводя языком по зубам, он очищает их от волос.
Природа сберегла два вида кагуанов: филиппинского и малайского, который живет в горных лесах Индокитая и на островах Ява, Суматра, Калимантан. Именно там, где обитают и другие странные летуны, которые фактом своего существования опровергают известную идею о том, что «рожденный ползать летать не может».
И рожденный ползать летать может!
Один из таких необыкновенных летунов — маленькая зеленая лягушка. «Зеленая», впрочем, не всегда: цвет ее кожи изменчив. Края ног и пальцы сверху оранжевые. А между пальцами — очень широкие перепонки. От внешнего пальца до локтя тоже тонкая перепоночка натянута. Растопырит лягушка все перепонки — получается надежный парашют. Чем с большей высоты прыгнет лягушка, тем дальше летит (по параболе!).
Если измерить расстояние полета по земле (от места приземления до дерева, с которого лягушка стартовала), то оно примерно будет равно двум пятым высоты, с которой полет начинался.
Эти лягушки, их называют «летающие калимантанские», живут в лесах, кустарниках и даже в высокой траве на Калимантане, Суматре и некоторых Филиппинских островах. Ночами множество их собирается на кустах и ветвях деревьев, растущих у воды. Самцы играют на «барабанах»: их кваканье похоже на звучание надутого воздушного шарика, по которому пальцем постукивают. А у самок (они крупнее самцов — сантиметров 6–7) дела поважнее. Выбрав нужные ветки (они над водой должны нависать), лепят на них свои… гнезда. Пенистые вначале и бурой корочкой твердеющие позднее. На листе, суку, корне или камне над водой самка-лягушка добросовестно, как хорошая хозяйка крем, взбивает задними ногами извлеченную из себя жидкость. Растет пенная шапка на листе: в нее прячет заботливая лягушка свои икринки. Снаружи пенистая колыбелька скоро прочной корочкой покроется, а внутри влага сохраняется долго. Головастики из икринок выйдут и нетерпеливой своей возней стенки домика порвут (либо ливни его смоют с листа). Упадут вниз, в воду, в ней будут жить до превращения в лягушат.
Летающие лягушки — из семейства веслоногих. У всех в этом семействе (а в нем больше ста видов) на концах пальцев — небольшие вздутия, шарики вроде бы. Когда прижимает лапки веслоногая лягушка к листу или коре, шарики сплющиваются в диски — получается присоска. Присоски прочно удерживают лягушачьи лапки на гладкой и отвесной поверхности листвы и древесных стволов, где веслоногие и живут.
Африка, Мадагаскар, Юго-Восточная Азия — их родина. Но лягушки-пилоты на этом обширном пространстве обитают лишь в странах азиатских: калимантанская летающая лягушка, о которой уже рассказано, еще яванская (изумрудно-зеленая, желтобрюхая с голубыми пятнами на перепонках лап) и еще одна, обитающая в лесах Калимантана, Суматры, Малайи и Лаоса. Эта парит, пожалуй, даже лучше всех других амфибий-пилотов: прыгнув с пятиметрового дерева, удаляется в полете на семь метров от него!
Некоторые и южноамериканские древесные лягушки умеют немного планировать, но сейчас мы знакомиться с ними не станем, у нас «рандеву» с другими пилотами из породы «рожденных ползать» (еще в более строгом предписании природы, чем для лягушек!).
Драко волянс — научное латинское название, по-русски оно значит — «летающий дракон». Небольшая (не длиннее ладони) древесная ящерица. Когда сидит на коре, совсем и неприметная. Но вот выросли у нее вдруг… крылья. Яркие, оранжевые! Прыгнул с ветки наш дракон-лилипут, пролетел десять или полста метров (не взмахнув цветастым великолепием своих крыльев ни разу и почти не потеряв высоты!). Хвостом и краями крыльев, как рулем, управляя на лету, развернулся, сверкнул ультрамариновым в черных пятнах брюхом и плавно опустился на сук другого дерева, перед посадкой немного взмыв вверх (чтобы скорость полета притормозить). Тут же крылья исчезли бесследно, словно и не было их.

Секрет их появления и исчезновения прост: пять-шесть очень длинных ребер летающей ящерицы, как на шарнирах, широко раздвигаются в стороны и растягивают собранную в складки эластичную кожу на ее боках. Планер готов к полету! Животное благополучно «придеревилось» — ребра прижало, и нет больше крыльев!
Ползет проворно вверх по коре (по пути глотая муравьев — любимую свою добычу) и вновь, раскинув оранжевый парашют, прыгает вниз, на другую ветку.
Стартуя с высоты в десять метров, эти удивительные планеристы пролетали (почти горизонтально!) до шестидесяти метров. Такие их достижения зарегистрированы биологами университета в Куала-Лумпур (Малайзия). Но в природе редко приходится им совершать дальние полеты: нескольких метров вполне достаточно, чтобы пересечь лесной прогал или ручей.
Крылья летающему дракону не только для полета годятся: то раскрывая их, то складывая (и раздувая ярко-желтый горловой мешок), угрожает он их огненными вспышками врагам. А самцы — и соперникам. Ухаживают за самками с тем же фейерверком цветовых вспышек. Самка безучастно принимает красочные признания. Сидит, не двигается, а самец вокруг нее ходит и прекрасное свое многоцветие демонстрирует.
Немного позже спланирует самка на землю и здесь зароет 1–5 яиц. Ухаживание и яйцекладки у летающих драконов в теплом климате их родины совершаются круглый год.
Обычный летающий дракон, о котором рассказано, живет в вершинах тропического леса (а где леса сведены — на каучуковых и других плантациях) Индонезии, Малайзии, Филиппинских и Молуккских островов. Чернобородый летающий дракон (крылья у него черные с мелкими желтыми пятнами) — в лесах Малакки, Суматры и Калимантана.
Прочие виды летающих ящериц (всего их 16) обитают тоже в Юго-Восточной Азии (Южная Индия, Индокитай, Южный Китай, Индонезия, Филиппины). У всех крылья яркие, у одного даже красные с темными поперечными пятнами и белым крапом.
Других летающих ящериц нет. Рассказывают, правда, что немного парить способны будто бы агамы-бабочки, земляки и родичи ящериц-планеристов (летающие драконы из семейства агамовых). Они тоже в известные апогеи своей жизни, растопыривая ребра, широко растягивают эластичную кожу на боках с черно-белым или черно-красным рисунком, словно вот-вот полетят! Но, увы, не летают, а лишь устрашают врагов или привлекают самок игрой красок на своих растягивающихся боках.
Есть, однако, другие земляки (и родичи тоже) у крылатых ящериц — бескрылые, безногие (пресмыкающиеся из пресмыкающихся!), но тем не менее летающие. Правда, не очень искусно.
На каждой кокосовой и других пальмах — свое особое население насекомых и рептилий. За насекомыми забираются на пальму и долго живут в ее кроне ящерицы гекконы.
С неукротимым желанием съесть их ползут на пальму древесные змеи. Если эти пальмы растут в Индонезии, на Филиппинах, а также и на Цейлоне, то обычно поселяются на них змеи из рода хризопелеа. Эти змеи тонки телом, с изящными головками, а чешуя их играет таким великолепием яркости и многоцветия, какое бывает только у тропических бабочек и немногих птиц.
Змеи без особого труда ползут вверх по стволу пальмы, цепляясь за любые его неровности чешуями живота, который у них как бы окаймлен с двух сторон выступающими килями, облегчающими подвисание на этих неровностях и отвесное восхождение. Питаясь ящерицами, обосновавшимися на пальме, змея и сама живет месяцами на приютившем ее дереве. Все бы хорошо, но вот запасы пропитания на этом дереве кончаются: всех, кого можно съесть, змея съела. Слезть вниз по гладкому стволу пальмы она не может, умеет ползать по нему только вверх. Как быть? Не дожидаться же в развесистых ветвях пальмы голодной смерти…
И змея прыгает вниз! С высоты в пятнадцать и даже двадцать метров! Напрягаясь, вытягивается палкой, растопыривает в стороны ребра, вдавленные немного внутрь (между двумя боковыми килями) брюшные чешуи образуют неглубокий желоб, который, подобно вогнутости под куполом парашюта, замедляет скорость падения. В косом полете сверху вниз змея-пилот без вреда для своего здоровья благополучно приземляется.
Именно таких змей, способных прыгать с верхушек пальм (и других деревьев), называют летающими, хотя, конечно, тут нет никакого полета и даже настоящего планирования. Сделан только первый шаг на пути к нему.
Многие змеи тропиков преимущественно ночные. Самая типично ночная из них и самая странная в дневном своем поведении — желтый бунгар, или крайт. Черная с желтыми кольцами змея бамбуковых и прочих джунглей Юго-Восточной Азии.
В темноте она действует энергично и смело — опасный враг многих… змей, больших и ядовитых, даже кобр (обычных, не королевских, трех- и пятиметровых, которые в единоборстве ее побеждают и, победив, глотают!). Как и эта знаменитая королевская сверхкобра, ищет бунгар, скрываясь во мраке, своих собратьев-змей, убивает и ест (иногда пожирает ящериц и… рыб).
Но днем… Светлым днем бунгар странно беспомощен. Свет пугает, ослепляет его. Зрачки его глаз круглые, даже днем мало уменьшаются в размерах, и дневной свет слепит змею. Оттого бунгар днем все норовит спрятать голову от света под извивы своего тела.
Бунгар нередко достигает двух метров, яд его весьма эффективен, парализует дыхание, и укушенный человек, если никакой медицинской помощи ему не оказать, умереть может за полчаса.
И, несмотря на это, поразительно беспечно, безбоязненно и без опасных последствий играют с этой змеей вьетнамские дети. Они ее и как палку швыряют (без всякого почтения), и в руки берут, на шею кладут… Как грубо и бесцеремонно с ней ни обращаются (бьют, колют, швыряют), она днем никогда не укусит! Это азбучная истина джунглей, и она известна каждому ребенку в деревнях тех стран, где эти змеи живут.
Необыкновенные чувства змей
Лишь в последние, послевоенные годы армии наиболее технически оснащенных стран снабжены необходимыми для ночных действий приборами, принцип которых основан на инфракрасном излучении. Природа такими «инструментами» наделила некоторых детей своих (отнюдь не самых безобидных) уже десятки миллионов лет назад. С миоцена третичной эры, по-видимому, гадюки и ямкоголовые змеи (возможно, и удавы) владеют ими. И гадюки, и ямкоголовые венчают змеиное царство, как цветы — растительный мир, а человек — «все сущее» на планете; иначе говоря, это самые молодые (в эволюционном смысле) и совершенные (морфологически) из змей. Так что понятно, почему у них не только конструктивно наиболее правильно решенный (и осуществленный на практике) ядоносный аппарат, но и кое-что более интересное для биоников. Этих змей называют «гончими псами среди рептилий». По следу преследуют они добычу, руководствуясь не только обонянием, но и еще кое-чем, о чем сейчас вам расскажу.
Гадюки и ямкоголовые змеи притихшую в траве мышь, невидимую из-за травы и темноты, чуют, видят, чувствуют (как еще сказать?) не обонянием, не глазами, а тем необыкновенным органом, которым только их (и еще, возможно, немногих) наделила природа.
На востоке СССР, от прикаспийского Заволжья и среднеазиатских степей до Забайкалья и Уссурийской тайги, водятся ядовитые змеи, прозванные щитомордниками: голова у них сверху покрыта не мелкой чешуей, а крупными щитками.
Люди, которые рассматривали щитомордников вблизи, утверждают, что у этих змей будто бы четыре ноздри. Во всяком случае, по бокам головы (между настоящей ноздрей и глазом) у щитомордников хорошо заметны две большие и глубокие ямки.
Щитомордники — близкие родичи гремучих и прочих ямкоголовых змей Америки, которых на их родине называют также четырехноздрыми: у них на морде такие же странные ямки.
Ямкоголовые змеи (кроталиды) водятся в Америке (Северной и Южной) и в Азии. Они похожи на гадюк, которых некоторые зоологи объединяют в одно с ними семейство.
Более двухсот лет ученые решают заданную природой головоломку, пытаясь установить, какую роль в жизни змей играют эти ямки. Какие только не делались предположения!
Думали, что это органы обоняния, осязания, усилители слуха, железы, выделяющие смазку для роговицы глаз, улавливатели тонких колебаний воздуха (вроде боковой линии рыб) и, наконец, даже воздухонагнетатели, доставляющие в ротовую полость необходимый будто бы для образования яда кислород.
Проведенные анатомами несколько десятилетий назад тщательные исследования показали, что лицевые ямки гремучих змей не связаны ни с ушами, ни с глазами, ни с какими-либо другими известными органами. Они представляют собой углубления в верхней челюсти. Каждая ямка на некоторой глубине от входного отверстия разделена поперечной перегородкой (мембраной) на две камеры — внутреннюю и наружную. Наружная камера лежит впереди и широким воронкообразным отверстием открывается наружу, между глазом и ноздрей. Задняя (внутренняя) камера совершенно замкнута. Лишь позднее удалось заметить, что она сообщается с внешней средой узким и длинным каналом, который открывается на поверхности головы около переднего угла глаза почти микроскопической порой. Однако размеры поры, когда это необходимо, могут, по-видимому, значительно увеличиваться: отверстие снабжено кольцевой замыкающей мускулатурой.
Перегородка (мембрана), разделяющая обе камеры, очень тонка (толщина около 0,025 миллиметра). Густые переплетения нервных окончаний пронизывают ее во всех направлениях.
Бесспорно, лицевые ямки представляют собой органы каких-то чувств. Но каких?
В 1937 году два американских ученых опубликовали большую работу, в которой сообщали о результатах своих многолетних опытов. Им удалось доказать, утверждали авторы, что лицевые ямки представляют собой… термолокаторы! Они улавливают тепловые лучи и определяют по их направлению местонахождение нагретого тела, испускающего эти лучи.
Ученые экспериментировали с гремучими змеями, искусственно лишенными всех известных науке органов чувств. К змеям подносили обернутые черной бумагой электрические лампочки. Пока лампы были холодные, змеи не обращали на них никакого внимания. Но вот лампочка нагрелась — змея это сразу почувствовала. Подняла голову, насторожилась. Лампочку еще приблизили. Змея сделала молниеносный бросок и укусила теплую «жертву». Не видела ее, но укусила точно, без промаха.
Экспериментаторы установили, что ямкоголовые змеи обнаруживают нагретые предметы, температура которых хотя бы только на 0,2 градуса Цельсия выше температуры окружающего воздуха.
В холодной комнате термолокаторы работают точнее. Они приспособлены, очевидно, для ночной охоты. С их помощью змея разыскивает мелких теплокровных зверьков и птиц.
Термолокаторы змей действуют, по-видимому, по принципу своеобразного термоэлемента.
Тончайшая мембрана, разделяющая две камеры лицевой ямки, подвергается с разных сторон воздействию двух разных температур. Внутренняя камера сообщается с внешней средой узким каналом, входное отверстие которого открывается в противоположную сторону от рабочего поля локатора. Поэтому во внутренней камере сохраняется температура окружающего воздуха. (Индикатор нейтрального уровня!) Наружная же камера широким отверстием — теплоулавливателем направляется в сторону исследуемого пространства. Тепловые лучи, которые испускает всякое живое тело, нагревают переднюю стенку мембраны. По разности температур на внутренней и наружной поверхностях мембраны, одновременно воспринимаемых нервами, в мозгу и возникает ощущение излучающей тепловую энергию добычи.
Органы термолокации обнаружены и у питонов, в виде небольших ямок на губах. Маленькие ямки, расположенные над ноздрями у африканской, персидской и некоторых других видов гадюк, служат, очевидно, для той же цели.
У африканских гадюк рода битис и некоторых других в верхней половине каждой ноздри обнаружили некий кожистый карман, который, возможно, функционирует как термолокатор. Но у многих гадюк следов подобных органов пока не найдено. Однако даже неподвижную (но живую!) мышь в полной темноте находят они, почувствовав ее присутствие уже на расстоянии, очевидно, как-то улавливая инфракрасные (то есть тепловые) лучи, хоть в малой дозе, но излучаемые в пространство крохотным тельцем грызуна. Здесь нас еще ждут интересные открытия.
Полярная ночь
Лемминги нужны всем!
Почти над всей тундрой и над всеми островами и морями, которые севернее ее, в декабре-январе — полная полярная ночь.
Месяцами не видно солнца. Над заснеженной равниной, над белыми холмами, над глыбами полярных льдов безграничным кажется царство полярной ночи. Ведь одна лишь тундра раскинулась на двадцатой части всей земной поверхности. А льды Арктики? Антарктида? Там, вокруг Южного полюса, тоже темнота полярной ночи, но в иное время — в июне — июле. Чем дальше от полюсов (в направлении экватора), тем раньше появится солнце над горизонтом в конце полярной ночи: сначала невысоко выкатится над южным краем земли и скроется вновь, так что утренние и вечерние зори, соединенные пространством и временем, и не различимы.
Но сейчас еще декабрь — январь, и мы в тундре. Темна полярная ночь, но не черна (как ночь тропическая!). Открытые просторы и белизна снега, свет ярких звезд, отраженный этой белизной, многокрасочные сполохи полярного сияния — «в такие ночи настолько светло, что мы могли охотиться, и в результате немало белых куропаток попало к нам в суп» (Нико Тинберген).
Это, разумеется, если небо ясное и луна озаряет заснеженную землю. Луна в полярные ночи всегда полная и циркулирует по небу, не уходя за горизонт, куда надолго скрылось солнце.
Куропатки, на которых охотился Нико Тинберген, — немногие из птиц, остающиеся на зиму в тундре. Ночью, как тетерева и рябчики, ночуют они в снегу, да и день почти весь копошатся там же, добираясь под сугробами до ягод водяники, морошки и побегов карликовых ив и берез.
К зиме тундряные куропатки побелели (летом они рыже-серые). Только в хвосте черные перья, а у самцов — черные полосы между глазом и клювом. У белых куропаток (другой вид, но они тоже водятся в тундре) этих черных «мазков» на голове нет. В остальном эти белоснежные зимой птицы и видом и повадками похожи. Оперение на лапах у них обильно густое до самых когтей. Птица ходит по рыхлому снегу, как на канадских лыжах, не проваливается.
Маскируясь под снег, белеют осенью многие из немногих зимних обитателей тундры: куропатки, зайцы, песцы, горностаи, ласки, копытные лемминги…
Лемминги… Их называют «самыми нужными существами» тундры. Они нужны здесь всем! Много леммингов — много песцов, горностаев. Самки песцовые тогда выводят по дюжине и больше детей. Белесые шкурой полярные волки и даже белые медведи в ту благополучную для них пору не голодают.
Мало леммингов — у песцов ни брачного веселья, ни игр, и многие не выводят щенят. И бывает, что родившихся, слепых и беспомощных, голодная мать бросает и уходит в безбрежную неопределенность.
…Северный олень, оставшийся по какой-либо причине зимовать в тундре, долбит копытом наст. Вот принюхался, фыркнул, ноги его нетерпеливо-быстро — хлоп-хлоп!.. Придавил. Подбирает губами что-то, хрумкает…
Горностай скачет по сугробам подобно летучей змее. И вот ринулся в снег, нырнул, как в воду. Там внизу суета, возня. Скоро зверек снова на снегу, а в зубах — добыча…
Полярная сова (белая и зимой и летом!), мягко махая крыльями, пролетела — темная тень ее причудливо струится по снежным наметам, — пролетела и пала… Поднялась в воздух и в когтях что-то унесла…
Что? Догадаться нетрудно: названные хищники и один парнокопытный поживились леммингами.
Когда много леммингов, и сова сыта, к югу из приполярной тундры кочевать не спешит. Мало леммингов — нет от сов покоя весной и летом ни гусям, ни другим птицам. И охотник с ружьем, ожидающий много южнее перелетных уток, бывает, не выстрелит ни разу для завершения биологической цепи — она уже оборвана в северных краях, где из-под когтистых совиных лап летят печальные утиные перышки.
Такова роль леммингов: смертью своей возвышать жизнь.
Лемминги — небольшие грызуны: около полутора десятков их видов живут в тундрах и северных лесах, окаймляющих Арктику и Субарктику Старого и Нового Света.
…Тельце длиной с небольшую ладонь (лесные и болотные лемминги поменьше), с маленьким хвостиком. Желтоватые, ржавые, коричневые, черные пятна на шерстке. Один из леммингов — норвежский — так и зовется пеструшкой. Немногие из настоящих леммингов к зиме светлеют. Полностью этой весьма удачной природной маскировкой наделены только копытные лемминги. Они зимой белоснежные, пушистые. Кроме того, у них копыта! Конечно, не настоящие, а все же копыта: разросшиеся к зиме и раздвоенные на концах средние когти передних лап. Рыть таким «вооружением» и снег и мерзлую землю легче…
…А было ранней осенью — тундра и каменистые горбы сопок еще хранили сытную зелень лета, но уже раз-другой холодное небо одарило землю снегопадами: бешено вертясь, липкие хлопья летели, летели, летели…
Уже подалась на юг пожилая супружеская чета сов: ей-то известно (опыт или зрелый инстинкт подсказал?), что внезапный снегопад быстро нанесет снегу в полметра — трудно будет ловить леммингов. А молодые совы пока здесь: им непонятно, почему надо улетать — ведь леммингов сколько угодно. Позже им придется, голодая, кочевать по снежной равнине все к югу и к югу. Непрактичная молодежь!
Очень много за лето расплодилось леммингов. Местами съедены ими начисто травы и мхи. Озабоченные зверьки, забыв об осторожности, сновали туда-сюда. Вопрошали как будто: что зимой есть будем? И вот, словно сговорившись, все двинулись, пошли…
Миграция леммингов — загадочное и впечатляющее явление.
Идут. Сначала одиночки, потом редкие стайки, потом — разреженный поток. При небольших миграциях заселяют окраинные леса, горы. Но бывают миграции грандиозные, когда грызунов ничто не может остановить: ни подходящее для поселения место, ни река, ни деревня, ни город, ни морской залив. Гибнут, но идут. Падают с круч в волны речные и морские. Тонут, но новые, следом идущие, падают…
Куда идут? Пока только неопределенный риторический ответ — к смерти! Почти все лемминги такой большой миграции, как правило, гибнут в пути.
…Не все лемминги ушли осенью из тундры. Некоторые зазимовали здесь.
Зима для всех мачеха. Даже такие прославленные полярники, как белый медведь, морж, пингвин, ей не рады. Одних она обязывает запасать кедровые орехи, грибы и прочий провиант, других — в скучной спячке терять драгоценное время жизни. Но многие, не умеющие делать ни того, ни другого, обречены на мучения от голода и холода. Пожалуй, единственному зверю зима — заботливая мать. Зверь этот — лемминг.
Природа словно компенсирует муки и страхи, которые выпали на долю всем поедаемым в тундре леммингам. У лемминга шубка достаточно теплая, чтобы не мерзнуть под сугробами, он умеет отлично там передвигаться, и, наконец, у него самой природой сбереженные запасы пропитания, которые не портятся в снежном холодильнике. Это огромные грибы подберезовики — на севере их червь не берет, — они не сгнили, не упали, а, заледенелые, занесены снегом. А крепкие листочки морошки, брусники, их ягоды, лишайники — им-то что от мороза сделается?! Годится на обед и душистая кора карликовых березок.
Свищет пурга над покинутой солнцем тундрой. Бесконечной кажется полярная ночь. Кого природа наделила инстинктом уйти, улететь, тот ушел, улетел. А кто остался… Тощие, голодные волки, песцы и росомахи бродят по белым полям и холмам. Зайцы в сугробы закопались: в длинных подснежных норах согреваются и корм, тут же роясь, ищут. И куропатки под снегом прячутся. Но лучше всех здесь леммингам: в снежном дворце бесчисленные ходы и галереи, каждая из которых — сказочная речка с кисельными берегами! По одной пойдешь — в подснежные заросли водяники забредешь, по другой — в чапыгу бредины либо в грибной подберезовый, мерзлый, но съедобный сад. И всюду под снегом лишайники — «олений мох», — которые в голодуху едят ведь не только северные олени, но и зайцы, лемминги, даже белые медведи! Даже землеройки — зверьки летом почти исключительно насекомоядные.
Каждую осень северные олени большими стадами уходят из тундры. Уходят в тайгу за пятьсот и семьсот километров от тех мест, где проводили лето. В тундре зимой им всем не прокормиться, да и теплее под защитой деревьев, чем в безлесных равнинах, где ветрам нет преград. В тайге олени объедают мохнатые бороды лишайников, которыми обросли стволы деревьев, и, роясь в сугробах на малоснежных склонах гор, щиплют ягель.
К зиме и многие песцы (известные полярники) уходят на юг — в леса, иные верст за тысячу, до Ленинграда и Калининской области…
Кто остался!
Полярной ночью, в декабре, тысячи гренландских тюленей, или лысунов, точно черные слизняки, если посмотреть с самолета, копошатся на льдах Белого моря. В феврале — марте, когда холодное солнце неохотно и ненадолго кажет лик свой из-за горизонта, родятся у тюленей белоснежные (с желтизной) детеныши. У нас называют их бельками. Месяц сосут своих ластоногих мамаш, а потом сами учатся рыболовству. А в мае уплывут за родителями на север, в Ледовитый океан.
В полярных льдах Шпицбергена встретятся они со своими собратьями, зимовавшими у Ян-Майена. Гренландские тюлени довольно странно поделили между собой зимние «квартиры». Одни зимуют у острова Ньюфаундленд, другие — на Ян-Майене (на полпути между Гренландией и Норвегией), а третье стадо облюбовало плавучие льды в горле Белого моря. Кроме этих трех лежбищ, нигде больше гренландские тюлени зимой не встречаются.

У тюленей, зимующих на заснеженных льдах, сейчас, по существу, нет иных врагов, кроме человека, промышляющего их с огнестрельным оружием. Но было время, когда часто беспокоил их на лежбищах страшный и опасный гость. Он невидимкой являлся из белых далей, сам тоже белый, как многоверстная вьюжная или морозная округа, подползал терпеливо, не забывая, однако, прикрывать передними лапами черный нос (чтобы не выдал!). Только нос у него и черный!
Лишь нечеткая тень, издали и невидимая, кривясь на снежных бугринах, обозначала, если внимательно вглядеться, путь сближения хищника с намеченной жертвой. Тюлень замечал эту обозначенную на снегу серым пятном свою гибель слишком поздно, чтобы успеть, ковыляя, доползти до студеной воды в дыре на льду и нырнуть. С ревом вздымалась массивная туша (300–500, а то и 700 килограммов в ней!) и скачками кидалась к тюленю… Долго после этого не интересовала белого медведя, сытно отобедавшего, такая мелочь, как лемминги, и тем более мхи и водоросли, которые голод принуждал его грызть.
Белые медведи уже не встречаются у берегов Баренцева, Карского и Белого морей. Родина их и постоянное местожительство — полярные острова и берега Северного Ледовитого океана, как американские, так и европейско-азиатские. Но на берегах живут белые медведи только в узкой приморской полосе, дальше чем на два километра в глубь материков обычно не заходят. Дрейфующие льды — вот их стихия. Вместе с ними и по ним постоянно путешествуют эти медведи. Летом заходят почти на самый полюс — до 86-го градуса северной широты! За ними туда же устремляются, как шакалы за львами, и песцы. Плавают и ныряют белые медведи великолепно. Далеко в открытом море (за десятки верст от льдов и суши) не раз их видели, даже медведиц с медвежатами. Плывут себе, не беспокоясь, что ни земли, ни даже льдов на горизонте не видно. Если скорость этих пловцов, как утверждают, 4–5 километров в час, то не раньше чем через много часов доплывут они до суши или льда.
В море белый медведь (он же ошкуй) ловит рыбу, на льдинах, да и в воде тоже, — тюленей, на берегу — песцов, леммингов, северных оленей, куропаток. Когда голоден, ест падаль, мхи, водоросли, лишайники.
Зимой, в полярную ночь, если бродит во льдах белый медведь, то почти наверняка это самец. Медведицы все спят в берлогах (но не во льдах, а на берегу) где-нибудь под обрывом, заметенным снегом. Медведица перед входом соорудит еще вал, толстую стену из снега с малым отверстием вверх. За ней, в глубине ледяной пещеры, спит всю зиму: пять-шесть самых холодных месяцев. Но медведицы яловые, небеременные, спят меньше: месяца четыре, поздно залегают и, пробудившись рано, бродят, как и самцы, по заснеженной пустыне.
В полную полярную ночь, в январе или немного позже, в ледяных колыбелях родятся у белых медведиц медвежата: один, два, иногда и три-четыре. Слепые и так малы, что в большой карман можно каждого положить! В занесенной сугробами берлоге, согретой телом большого зверя, даже жарко в сравнении с тем климатом, который царит над снегами под холодной полярной луной. Однако новорожденным малышам зябко. Дрожат они, зарываясь поглубже в густой мех маминой шубы. А мать, чтобы дети не мерзли, держит их между лапами и согревает своим дыханием. Так до весны и живут медвежата в полусне, посасывая и посапывая…
Еще один крупный зверь, житель северного Заполярья, и зимой не покидает родину свою — тундру. Он у нас не водится, а только на Аляске, в Канаде и Гренландии. Это странный на вид мускусный бык, или овцебык, самый северный житель в семействе полорогих (к которому, как известно, принадлежат и коровы, овцы, козы, антилопы и серны). Основания рогов у овцебыка смыкаются на лбу в роговой щит, как у африканского буйвола, шерсть бурая, длинная, на брюхе висит вниз бахромой почти до земли. Под этим шерстистым пологом в буран и ветер прячутся телята. Там тепло им у матери под брюхом, в укрытии из длинных волос.

Мускусные быки живут стадами, и когда вьюжной полярной зимой атакуют их голодные волки, все стадо занимает круговую оборону: быки, встав кругом бок к боку, рогами наружу, образуют непреодолимый для хищников оборонительный вал, внутри которого прячутся коровы и телята.
В ледниковое время мускусные быки обитали в Европе и Сибири, но позднее вместе с мамонтами вымерли. Недавно их снова завезли на Шпицберген и на север Норвегии, и они, кажется, здесь прижились.
Мускусными назвали этих похожих на баранов быков за резкий запах, который издает их шерсть в августе, в период «свадеб».
Под теми льдами Белого моря, на которых среди снежных наметов у голубеющих студеной водой продухов устроились на лежбища гренландские тюлени, проплывают порой большие морские звери — нарвалы. Спереди, перед тупой головой зверя, торчит двух-трехметровая «пика». Единственный зуб зверя! Из верхней челюсти, слева из-под губы, вырос он до невероятной длины — оружие получилось отличное! Обороняются нарвалы этой рапирой от моржей и страшных косаток, которые и больших китов, нападая стаей, рвут безжалостно. Двухметровым зубом пробивают снизу и полярные льды, чтобы сделать в них отдушины и через них дышать.
Нарвалы — из семейства дельфинов. Называют их также единорогами. Живут в Арктике, в Северном Ледовитом океане. Подо льдами, по которым путешествуют белые медведи, нарвалы заплывают летом тоже почти до самого полюса: их встречали у 85-го градуса северной широты.
В прежние времена очень ценился нарвалов бивень как лучшее средство от болезней и ядов. Острым ножом скребли с него мелкую стружку и, положив ее в кубки с вином, без боязни пили напитки, даже если опасались отравы, подсыпанной недругами.
Русские называли нарвалов бивень рыбьим зубом. Стоил он в те минувшие века дорого: до ста тысяч золотых талеров!
У калитки костыль дорог рыбей зуб,
Дорог рыбей зуб да в девяносто пуд.
Взрослый нарвал пятнист, вроде как леопард, но белуха, родич его и сосед, белая с желтизной. «Морскими канарейками» называют моряки белух, наверное, за «песнопения», нередко музыкальные.
«Она может громко хрюкать, глухо стонать и свистеть, издавать звуки, напоминающие плач ребенка, удары колокола, женский пронзительный крик, отдаленный шум детской толпы, игру на музыкальных стеклах или на флейте с переливчатыми трелями, как у певчих птиц» (профессор А. Г. Томилин).
Такова белуха, жительница морского Заполярья, прославленная поговоркой «реветь белугой». Ею завершился наш круг знакомств с животными, которые зимуют подо льдами, на льдах или на заснеженной земле суровой Арктики во мгле полярной ночи.
Еще лишь несколько слов о розовой чайке.
Красивая эта птица живет на нашем Севере, в немногих местах восточно-сибирской тундры — розовая, с сизой головой и черным «ожерельем» на шее. Люди науки узнали о ней в 1823 году и с тех пор немногие, даже из орнитологов, ее видели. Розовые чайки, выкормив птенцов в тундре, улетают зимовать в конце июля не на юг, а… на север! В Ледовитый океан, в те места его окраинных морей, где нет льдов.
Здесь только пингвины!
Придет весна, потом и лето в Арктику — светлые белые ночи сменят многодневный мрак, а на другом конце земной оси, вокруг Южного полюса, в Антарктиде, вступит в свои обширные владения южная полярная ночь. Темная мгла и здесь надолго укроет оледенелый континент. И все живое уйдет с Антарктического материка. Здесь нет никого из неморских, сухопутных животных, кто, как в Арктике, смирился бы с невзгодами полярной зимы, приспособился бы к снежному, ледяному царству, именуемому «Антарктида».
Никого…
Кроме пингвинов. Императорских. Странные птицы… Кто дал им такое несуразное побуждение — растить птенцов зимой, а не летом? Как и почему это случилось?

Все другие антарктические птицы, которых летом здесь немало (и среди них пингвины, но не императорские) следуют общему в природе закону — в странах холодных и умеренных размножаться весной и летом! Немногие его нарушают: скажем, медведи и клесты. Но первые зимой укрыты в тепле берлог, для вторых зимний лес предоставляет корм в изобилии — еловые шишки. А пища — топливо жизни: поел — «словно печечку в себе затопил». Всему живому зима страшна не столько стужей, сколько голодом.
Но императорские пингвины…
В апреле, антарктической осенью, свадьбы у них. Почти месяц ухаживания, брачных криков и игр. Появление яйца встречают с ликованием: радостными криками поздравляют друг друга. Самка скоро передаст яйцо самцу — с лап на лапы. На снег нельзя даже и уронить: остынет, и искра жизни в нем погаснет. Самец не просто забирает яйцо, а с церемониями, кланяется пингвинихе, машет крыльями, хвостиком трясет — очень волнуется. От яйца восхищенный взгляд отвести не может, клювом его нежно трогает. Но вот натешился и клювом перекатил яйцо к себе на лапы. Тут оно словно в пуховый карман попало — в складку кожи между лапами и брюхом пингвина. Там лежит, не вываливается, даже если самец ходит и прыгает, выбирая в толпе товарищей место потеплее, даже если чешет лапой голову или катится вниз по склону.
Ответственный родитель месяца два нянчится с яйцом, пока птенец не проклюнется, и еще месяц — с новоявленным потомком, пока не вернется из дальнего путешествия его супруга.
А птенец месяц голодает? Растущему организму голод решительно противопоказан: отец кормит младенца… птичьим молоком. (Так что младенцем назвать императорского птенца можно и без кавычек!) Это «молоко» (тут кавычки хоть раз, да нужны) — особый сок, который производят желудок и пищевод пингвина. Весьма питательный сок: в нем жира раз в девять больше, чем в коровьем (28 процентов), а белков — раз в десять (до 60 процентов).
А где же мамаши в это время гуляют? К океану пошли, за десятки верст: где пешком, где на брюхе, как на санях, крыльями себя подталкивая, добрались, наконец, до незамерзшей воды и ловят там рыб и кальмаров.
И вот торжественной процессией возвращаются, заметно пополневшие, к детишкам и отцам, вдвое похудевшим за трех-четырехмесячный пост на ветру и морозе: отцы ели (или пили) только снег. Большой шум и крик стоит над гнездовьем, тысячи птиц волнуются, раскланиваются, скачут с птенцами на лапах. Немало случается досадных недоразумений, прежде чем все пары воссоединятся. Каждая самка находит своего законного супруга и родного птенца, им сбереженного. И каждая приносит в желудке килограммов около трех полупереваренной пищи. Птенец тут же к ней на лапы (и в пуховый карман) пересаживается и кормится две-три недели тем, что мать по частям выдает из желудка, пока не вернется из путешествия к морю отец с новыми порциями пропитания. Кормит она птенца почти каждый час, так что скоро весь запас провианта, принесенного в желудке, истощается. А птенец растет неплохо: к папиному приходу порадовать может родителя несколькими килограммами приобретенного живого веса. Значит, и самка птичьим молоком подкармливает малыша.
Пятинедельный птенец уже не маленький и не легкий, в «кармане» ему тесно, и он впервые ступает неопробованными еще лапками на снег. Ковыляя, уходит в «детский сад», в кучу, составленную из его сверстников. Сотни их стоят темной толпой, и брат брату греет бока. Взрослые пингвины со всех сторон оберегают их охранным валом от ветра и от больших чаек и буревестников, которые к этому времени уже вернулись с Севера в Антарктиду: они малых пингвинов могут насмерть забить крепкими клювами.
Родители приходят и в крике и гаме находят своих детей среди тысяч чужих. Только их кормят: самые прожорливые зараз глотают по шесть килограммов рыбы!
Пятимесячные пингвины в родительских заботах уже не нуждаются. Пришла весна, а за ней и лето, льдины подтаяли, крошатся: на них выпускники пингвиньих «детских садов» плывут на практику в море. Туда же направляются и взрослые. В конце декабря, когда скудное полярное солнце во всю возможную в этих широтах мощь круглые сутки согревает оттаявшие прибрежья, уже пусто там, где долгую полярную зиму «гнездились» пингвины.
Вечная ночь в царстве Нептуна
Мрак пучины
Царство это велико и обширно: две трети (71 %) поверхности земли залито водой. Обширно и глубоко: величайшая гора мира Джомолунгма (прежде именовавшаяся Эверестом) устремляет в небо свои снежные вершины не более чем на девять километров (точнее, лишь на 8882 метра). А дно глубочайших впадин Тихого океана отделяет от поверхности моря толща воды в десять, одиннадцать и, возможно, двенадцать километров. Средняя глубина всех океанов около 3800 метров. Под большей частью их поверхности лежат глубины, достигающие шести километров. Самые глубокие впадины океанов (6000–11 000 метров) немного места занимают в просторах океанов — 1–5 % от их общей площади.
На всех глубинах, кроме самых малых, близких к поверхности, вечная ночь. Уже несколько миллиардов лет с начала истории Земли, когда впервые рожденная горными породами вода залила гигантские впадины нашей планеты и образовались океаны, ни один солнечный или лунный луч не коснулся глубинных вод.
В восьми — десяти метрах от поверхности исчезают красные и оранжевые краски, только желтые, зеленые и синие лучи проникают глубже. Еще двадцать метров — и лишь синие и фиолетовые тона окрашивают бездонную толщу вод. В 400 метрах от поверхности нет и их, глубже — вечный мрак.
Конечно, рубежи проникновения света в глубины моря не всюду одинаковы: они зависят от чистоты воды и высоты солнца в зените. Самая прозрачная вода в Саргассовом море. Здесь только один процент света, падающего на его поверхность, поглощается до глубины в 150 метров. Здесь глазам человека, который погружается в батисфере или батискафе, после последовательной смены красок: голубовато-зеленой, синей, черно-синей — лишь через 600 метров погружения открывается полный мрак. А на глубинах вдвое меньших освещенность еще такая, как полнолунной ночью в поле или в степи, когда краски и детали пейзажа наш глаз не различает, но все-таки еще неплохо видно. В других местах океана, например у берегов Ньюфаундленда, на глубине немногим более чем тридцать метров царит полный мрак.
Ниже восьмидесяти метров света очень мало, и растения не могут там жить и развиваться. Зона, ими обитаемая, занимает приблизительно лишь два процента объема водных масс Мирового океана.
Но и в поверхностной зоне, достаточно освещенной солнцем, ночь вступает в свои права много раньше, чем на суше в тех же широтах. Например, в середине марта на острове Мадейра ночь длится 10 часов. А в море у берегов этого острова на глубине около двадцати метров — 13 часов. На тридцати с небольшим метрах — уже 19 часов, а на сорока — почти круглые сутки темно, кроме 15 минут в полдень.
Мрак — не единственный фактор, который ставит жизнь на глубинах в особые, исключительные условия. Кому приходилось нырять хотя бы метра на три-четыре, тот испытал на себе (точнее, на барабанных перепонках своих ушей) начальный, пока еще слабый эффект другого постоянного воздействия глубинных вод на все и на всех, что попадает в их пределы. Давление! С погружением на каждые десять метров оно возрастает на одну атмосферу, на каждый квадратный сантиметр живого и неживого тела давит после такого погружения еще килограмм. На пятидесяти метрах водные массы нагружают уже пять дополнительных килограммов (на каждый квадратный сантиметр), на пятистах — пятьдесят и так дальше, до тысячи атмосфер на самых больших глубинах. Пробка, даже сравнительно неглубоко погруженная (на 900 метров), сжимается так сильно, что теряет половину своего объема. Кусок дерева менее податлив, но и он теряет здесь свою плавучесть, ибо его удельный вес от сжатия увеличился. Дерево на глубинах тонет! Стекло рассыпается в пыль. Телеграфный кабель, заключенный в прочную свинцовую оболочку, вполовину делается тоньше (на глубине уже одной мили). А человек… Человек, каким-либо образом попавший, скажем, на десять километров глубины в том беззащитном виде, как создала его природа (допустим такое невероятие!), сплющен будет со всех сторон так сильно, что превратится, надо полагать, в тонкую пластинку.
Холодно в глубинах океана! На всех широтах, даже в тропиках, где над морем — жаркое солнце. В тысяче метрах от поверхности температура воды лишь на четыре градуса выше нуля. В двух тысячах — три, в четырех километрах — лишь один градус по Цельсию.
В сильный шторм, когда на море вздымаются многометровые волны (самая высокая штормовая волна, научно зарегистрированная, — 15 метров!), когда буря превращает поверхность океана в хаос вздыбленных бешенством ветра пенных бурунов, в ливень соленых брызг, слабые, едва уловимые следы такого шторма затихают уже на глубинах в триста метров. Ниже все спокойно, никакого волнения, никаких водоворотов. Воды умиротворенно тихие. Ничто не колеблет их. Полный и вечный штиль!
Таковы «бытовые условия» в глубоководном царстве Нептуна. Холодная, мрачная пустыня, где толща вод давит с непомерной силой. Где камень и металл сжимаются. Возможно ли, чтобы живое тело все это выдержало? Чтобы сколь-нибудь высокоорганизованная жизнь могла здесь существовать?..
Так и думали: глубины океанов пустынны и безжизненны. Казалось бы, здравый смысл иного решения подсказать не может. Но первые же глубоководные экспедиции это скептическое заключение развеяли.
Начало сделали англичане. В 1872 году в четырехлетний рейд по океанам земли вышел исследовательский корабль «Челленджер». Пятьдесят больших томов с описанием и рисунками диковинных созданий — далеко не полный результат исследований, произведенных на «Челленджере». Через четверть века — поход по морям немецкого исследовательского судна «Вальдивия» (24 еще более толстых тома — результат этой экспедиции). В то же примерно время датский корабль «Сибога» добыл столько научных материалов, что описание их едва уместилось в 60 томах.
Затем были еще французские, бельгийские, датские, австрийские, индийские экспедиции и, конечно, наши, советские, ветераном которых стал знаменитый корабль Института океанологии АН СССР «Витязь».
Большая книга нужна, чтобы рассказать об этих экспедициях (даже об одном только «Витязе»!). Наша задача скромнее: знакомство с теми (далеко, конечно, не всеми), кто в океанской бездне живет — там, куда вторглись тралы и сети научных экспедиций.
Мысленно последуем за этими тралами: светлая голубизна вод, темнея, синеет, синяя — чернеет. Дальше мрак непроглядный.
И вдруг… то тут, то там свет во мраке! Мерцают огоньки… Вот облако вспыхнуло желтое… Красноватое сияние… Словно шлейф кометы, метнулось оранжевое пламя и тут же потухло…
Теперь это истина известная: в черной пучине океана многие его обитатели «зажгли» на своем теле «фонарики». Световой код — удобный метод общения между единокровными жителями глубин. Разнообразие опознавательных огней заменяет «узникам» вечного мрака яркую окраску обитателей суши. Животные одного вида находят друг друга по сиянию привычных огней. Самцы и самки идут на свидание, оповещая друг друга световыми сигналами. И вполне понятно поэтому, что расположение и число «бортовых» огней у самок и самцов (одного вида) не всегда одинаково. Еще издали по цвету и основному коду огней соплеменники узнают друг друга, а дополнительные «лампочки» оповещают их, к какому полу принадлежит каждый из них (есть и другое биологическое назначение у биолюминесценции — свечении животных, но о том позже).
Около половины типов[11] животного царства и больше трети всех его классов имеют в числе своих представителей светящихся животных.
В пресных водах живых светоносцев почти нет. Но в море их множество. Тут и одноклеточные «шарики» с хвостиками — жгутиконосцы. Тут и губки, испускающие сияние, и медузы, и кораллы, черви, сальпы, офиуры (а возможно, и морские звезды), раки, морские «пауки» и, конечно, рыбы, и всякого рода моллюски — улитки, каракатицы, кальмары, даже осьминог, черный, с двумя яркими «прожекторами» на голове и множеством мелких светящихся точек на спине. Научное название его — вампиротевтис инферналис, что означает примерно: адский осьминог-вампир. Вид у осьминога действительно «адский», вампироподобный — страшный. Но слишком мелковат он для упыря: не то что человеку — и не очень крупной рыбе не опасен. Как почти все жители больших глубин, вампиротевтис ростом невелик — лилипут в сравнении с теми своими сородичами, что прячутся в камнях и скалах недалеко от берегов.
Глубоководных осьминогов наука знает уже немало, но странно: все они лишены светящихся органов — фотофоров. Странно потому, что родные их братья и ближайшие родичи в подводном мире — кальмары — производят свет в расточительном изобилии.
Лишь еще один глубоководный осьминог — цирротаума, существо безглазое, хрупкое и прозрачное, как медуза, — кажется, наделен органами, производящими свет. Они у него необычные: спрятаны в присосках. Вернее, в бывших присосках. Чашечки их атрофировались, а ножки вздулись в виде усеченных веретен.
Свет в пучине
А кальмары? Кальмары и рыбы — в глубинах моря самые обычные светоносцы. Устройство и эффект действия их органов, производящих холодный огонь, очень интересны и разносортны.
Фотофор по конструкции напоминает прожектор или автомобильную фару. И форма у него приблизительно такая же — полусферическая. Орган покрыт со всех сторон, кроме обращенной наружу светящейся поверхности, черным, светонепроницаемым слоем. Дно его выстлано блестящей тканью. Это зеркальный рефлектор. Непосредственно перед ним расположен источник света — фотогенное тело, масса фосфоресцирующих клеток. Сверху «фара» прикрыта прозрачной линзой, а поверх нее — диафрагмой: слоем черных клеток-хроматофоров. Наползая на линзу, хроматофоры закрывают ее — свет гаснет.
Некоторые кальмары буквально усеяны крупными и мелкими фотофорами, и не только снаружи, но и изнутри: многие «в животе» носят «пояс огненных драгоценных камней». Свет от сияющих «камней» проникает наружу через прозрачные «окна» в коже и мускулатуре этих животных. Часто фотофоры сидят на глазах — на «веках» или даже на самом глазном яблоке, а иногда они сливаются в сплошные полосы, окружающие глазную орбиту светящимся полукольцом.
У таксеумы и батотаумы, причудливых обитателей глубин, глаза сидят на длинных стебельках, и каждый глаз наделен фотофорами.
В августе 1934 года американец Вильям Биб спустился в стальном шаре-батисфере на рекордную по тем временам глубину — 923 метра. Из окошка батисферы он увидел много диковинных созданий и среди них — небольших, неведомых науке креветок. Напуганные, пятясь, они вдруг выбрасывали ослепительное «огненное» облако. Через двадцать лет французы Кусто и Хуо «нырнули» глубже — на 2100 метров. Но уже не в батисфере, а в батискафе, глубоководной подлодке, изобретенной Огюстом Пиккаром (усовершенствованный батискаф в последние годы побывал на глубинах почти самых предельных!). Французские исследователи из иллюминатора батискафа тоже увидели вспышки живых огнеметов. В луч прожектора попал кальмар; вдруг он выбросил каплю какой-то жидкости, похожей на «белые» чернила. Она ярко вспыхнула в луче света. Позднее еще два кальмара извергли целые облака жидкого огня. Что это были за кальмары, определить не удалось. Но подобного им кальмара-пиротехника жители Средиземноморья знают давно (о нем писал еще Аристотель!). Научное имя его гетеротевтис. Он живет в глубинах Атлантического океана и Средиземного моря.
Стоит слегка потревожить гетеротевтиса, как он выбрасывает струйку светоносной слизи. При соприкосновении с водой она мгновенно загорается цепью сверкающих голубовато-зеленоватых точек. Некоторое время светящаяся слизь держится в воде отдельными шариками. Затем течения вытягивают ее в блестящие нити, которые испускают свет три — пять минут и внезапно гаснут.
Свои пиротехнические фокусы гетеротевтис может повторять много раз подряд, когда уже кажется, что он полностью израсходовал весь запас горючего.
Миллионы украшенных огнями «живых ракет» снуют взад и вперед в глубинах океана. Ночью глубоководные кальмары поднимаются к поверхности моря, и тогда великолепное зрелище подводной иллюминации становится доступным для людей. Но немногим исследователям посчастливилось быть свидетелями этой сверкающей пантомимы.
Люди, видевшие светящихся кальмаров во всем блеске их сияющего великолепия, описывают свои наблюдения словами, полными восторга и восхищения.
Зоологи с немецкого исследовательского судна «Вальдивия» поймали однажды в глубинах Индийского океана двух небольших кальмарчиков. Их немедленно посадили в ледяную морскую воду. Кальмары некоторое время жили и озаряли затемненную каюту мерцанием своих чудесных огней.
Карл Хун, зоолог с «Вальдивии», пишет, что со стороны казалось, будто «тело кальмара украшено диадемой из драгоценных камней. Средние фотофоры на глазах животного сверкали ультрамариновой лазурью, свет крайних напоминал блеск жемчуга, а огни нижней поверхности мантии сияли рубином.
Фотофоры позади них испускали снежно-белое сияние, кроме одного в центре, свет которого был небесно-голубым. Это было великолепное зрелище!»
Кальмар-светляк, хотару-ика, обитает в глубинах Тихого океана. Каждый год в апреле — июне миллиардные стаи хотару-ика подходят к самым берегам Японии (главным образом в залив Таяма) для размножения. Рыбаки в эту пору вылавливают тонны сверкающих кальмаров, которые идут — увы! — на удобрение, так как не годятся в пищу из-за своих мелких размеров.
Японский ученый Ватасе, именем которого был назван позднее кальмар-светляк, описал один из таких уловов.
«Сотни маленьких пятнышек разбросаны по всему телу кальмара… Днем это невзрачные точки, но ночью они сияют, как звезды на небе. Очень интересно рассматривать их под микроскопом. Каждое пятнышко затянуто наползающими друг на друга черными клетками (хроматофорами). Открыто лишь небольшое отверстие, через которое пробивается свет. Он так ярок, что напоминает луч солнца, проникающий в темную комнату через дыру в оконной занавеске. Когда кальмар хочет погасить свет, хроматофоры расширяются и покрывают весь орган».
Хотару-ика не велик, не больше указательного пальца, но у него по три крупных фотофора на концах нижней пары щупалец, по пять на каждом глазу и сотни мелких органов рассеяны по всему телу. Они могут вспыхивать одновременно или порознь. Сияние огней на концах щупалец затмевает своим блеском свет других фотофоров.
Эти огоньки горят так ярко, пишет биолог Ишикава, что «в темноте заметны лишь два быстро двигающихся лучезарных тела. Колебания невидимых щупалец вызывают периодические ослепительные вспышки, подобно световым эффектам электрического замыкания. Это что-то сказочное!»[12]
Светящиеся органы кальмаров работают очень экономно: восемьдесят и даже девяносто три процента излучаемого ими света составляют лучи с короткой волной и только несколько процентов — тепловые лучи. В электрической лампочке лишь четыре процента подведенной энергии преобразуется в свет, а девяносто шесть процентов — в тепло. В неоновой лампе коэффициент полезного действия несколько выше — до десяти процентов.
Глубоководные удильщики
Макрурусов теперь многие знают: на прилавках магазинов увидеть их можно рядом с треской, навагой и прочей морской рыбой. Впрочем, наваге и треске (а также и налиму!) макрурус — близкий родич. Но места обитания он избрал более глубинные, чем эти хорошо известные рыбакам и хозяйкам рыбы. Есть много разных видов макрурусов, или долгохвостов. И по крайней мере у пятнадцати из них под чешуей, на животе, спрятан «пузырек» с густой жидкостью — особая железа. В темноте она светится.
Тонкие перегородки делят светящийся «пузырек» на ячейки, их заполняет желтоватая слизь. В сильный микроскоп можно увидеть, что в слизи плавают какие-то крошечные палочки — каждая в тысячу раз меньше миллиметра. Светящиеся бактерии! Они живут в теле рыбы в особом, так сказать, садке. Этот садок называют мицетомом. Рыба по кровеносным капиллярам доставляет бактериям пищу и кислород, а бактерии благодарят ее голубым сиянием.
В Атлантическом океане у берегов Европы, а у нас на Мурмане и местами в Черном море обитает рыба-черт, или лягва-рыболов. Чертом она названа за нелепый вид, а лягвой — за странную манеру передвигаться по дну: прыжками, отталкиваясь грудными плавниками, словно лягушка — ногами.
Морского черта знали еще натуралисты античной древности, описывали его и многие средневековые естествоиспытатели. Странная рыба поразила воображение людей своим искусством приманивать добычу. На огромной ее голове растут три длинных, похожих на щупальца придатка (видоизмененные лучи спинного плавника). Первый из них похож на удочку с приманкой на конце.
Морской черт прячется в водорослях между камнями и выставляет наружу только щупальце-ус. И шевелит им. Плывет мимо рыба, и ей кажется, что это червяк извивается. Она подплывает поближе, чтобы его съесть. Тогда морской черт разевает свою непомерно большую пасть. Вода с бульканьем устремляется в его глотку и затягивает в эту прорву обманутую рыбу. Желудок у морского черта столь обширен, что в нем может комфортабельно поместиться животное почти таких же размеров, как и сам обладатель дьявольского чрева.
Как только исследователи со своими драгами и тралами вторглись в черные глубины океана, они обнаружили там много подобных морских чертей. Первый из них был пойман, правда, у берегов Гренландии еще в 1837 году, но основной улов принесли тралы британской океанологической экспедиции на корабле «Челленджер» и датской — на корабле «Дана». Рыб этих назвали морскими удильщиками. В музеях хранится уже около тысячи экземпляров удильщиков, которых систематики разделили на сорок различных родов и одиннадцать семейств.
Первое время нигде не могли найти самцов этих рыб. Удильщиков мужского пола принимали за совершенно других животных — так они не похожи на своих подруг. Самцов всех отнесли к семейству ацератид (в котором, кстати сказать, совсем не оказалось самок), а самки-удильщики числились в табелях зоологической классификации под рубрикой цератиоидеа, в которой не было самцов.
Это прискорбное недоразумение продолжалось до двадцатых годов нашего века, когда неожиданно выяснилось, что крошечные рыбки ацератиды, среди которых так и не нашлось ни одной самки, и есть «законные мужья» амазонок из группы цератиоидеа, которые во много раз крупнее их.
Открыли и еще более поразительные вещи: самцы-карлики, оказывается, как найдут свою самку, сейчас же хватаются за ее «юбку», впиваются зубами в голову или брюхо самки. Держатся крепко, не отцепляются, куда бы она ни плыла, и вскоре прочно прирастают (прямо головой!) к своей подруге. Губы самца и даже его язык срастаются с кожей самки (у этих рыб нет чешуи). Смыкаются в единую систему и кровеносные сосуды этих животных: по ним самец получает питательные вещества, которые приносит ему кровь из кишечника самки. Почти все его внутренние органы, кроме половых, атрофируются, чтобы освободить место последним, разрастающимся непомерно.
Во мраке океанской бездны влюбленным в нужную минуту нелегко найти друг друга. Поэтому и обзавелись рыбы-удильщики «карманными» самцами. Они всюду носят на себе этих «тунеядцев», кормят их соками своего тела, но зато, когда в назначенный природой час надо будет разрешиться от бремени икры, самец всегда окажется под рукой, чтобы оплодотворить ее.
Вторая уникальная особенность рыб-удильщиков — их рыболовная снасть. Как и у морского черта, на голове многих его глубоководных собратьев растет длинная удочка: у некоторых рыб-удильщиков она раз в десять длиннее тела. У других удочки, точно резиновые, могут растягиваться и сокращаться. На них дрожит приманка — небольшой шарик, в темноте он светится. Обманутая рыба, кальмар или рак бросаются на огонек и попадают в зубы рыболову.

Снаружи шарик покрыт слоем прозрачной, преломляющей свет ткани. Это линза-коллектор. Полость шарика разделена радиальными перегородками на отдельные боксы, наполненные слизью и бактериями. Пока микробиологам не удалось еще выделить из шарика-приманки чистую культуру бактерий. Однако и само устройство светящегося органа удильщиков и другие наблюдения говорят о том, что добычу свою эти рыбы приманивают с помощью света захваченных «в плен» бактерий.
У глубоководных угрей светящийся орган на конце длинного бичевидного хвоста, который может служить отличным удилищем, тоже, по-видимому, наполнен бактериями-светлячками. Закидывая этот хвост перед своей зубастой пастью, глубоководный угорь ловит, наверное, им добычу (ловит-то он ее зубами, но приманивает хвостом).
Другая промышляющая в бездне рыба, ультимостомиас, удочку с огоньками «носит» на подбородке. Это у нее она в десять раз длиннее тела!
Зоологами изучено уже много видов морских рыб, наделенных особыми мешочками или пузырьками (мицетомами) со светящимися бактериями. Железы с бактериями (или небактериальные фотофоры того же типа, как у кальмаров) располагаются где угодно: под глазами, на животе между плавниками, на нижней челюсти, на пищеводе, в стенках кишечника или на хвосте.
А у одной рыбы, пойманной экспедицией на «Галатее» в 1950–1952 годах, светящаяся приманка… во рту: на нёбе, позади острых зубов. Этому рыболову всего и требуется открыть пасть и закрыть ее, когда добыча, привлеченная иллюминированной пастью, вплывет в нее. Какие же процессы протекают в миниатюрных природных фонариках, заставляя их гореть без огня, светиться без накаливания?

Два вещества необходимы для производства биологического света — люциферин и люцифераза.
Люциферин,[13] очень сложное органическое вещество, близкое к витамину К и содержащее (по некоторым данным) фосфор, образуется в светящихся органах животного под влиянием фермента фотогеназы.
Еще одно вещество принимает участие в производстве «холодного огня» — кислород. Без кислорода свет не возникает, потому что биолюминесценция — это ведь медленное сгорание, окисление высокопродуктивного горючего — люциферина. «Воспламенителем» служит фермент люцифераза (белок, содержащий, по-видимому, тяжелый металл, подобно гемоглобину крови). Взаимодействие люциферина, люциферазы и кислорода происходит в фотогенной массе фотофора.
Хотя производящие свет вещества вырабатываются тканями живого организма, их дальнейшие преобразования, производящие свет, представляют собой чисто химический процесс. Иногда наблюдали свечение фотофоров даже у мертвых животных. Извлеченное из светящихся органов и высушенное фотогенное вещество начинает светиться в пробирке, если его слегка смочить водой. Высушенные рачки остракоды, например, более тридцати лет сохраняют способность светиться.
В минувшей войне сушеные рачки заменяли японским офицерам потайные фонарики: взяв на ладонь щепотку остракод и слегка смочив их, можно было прочесть донесение или рассмотреть карту.
Опознавательные огни и сигнализация, защита — «огневая завеса» (как у гетеротевтиса и глубоководных креветок!), и, наоборот, привлечение добычи, и, конечно, освещение (хотя бы небольшого пространства перед глазами) — разные назначения у биолюминесценции, одного из самых удивительных и красивых явлений природы.
Что они едят!
Огни, зажженные жизнью, — самая поразительная, пожалуй, черта глубоководного «пейзажа». У жителей глубин много, конечно, и других особенностей. Например, окраска. У многих она здесь черная или красная, немало и бесцветных созданий. Черная — понятно почему: маскировка. Черное на черном увидеть трудно. Впрочем, и любой другой тон либо просто бесцветность в полном мраке одинаково невидимы. Но вот почему на глубинах немало красных животных, не совсем ясно. Возможно, как полагают некоторые ученые, «при свете, который излучают светящиеся рыбы, эта окраска менее заметна».
Огромные глаза — еще одна характерная черта, по которой узнаются многие обитатели глубин. У некоторых диаметр глаз лишь вдесятеро меньше длины тела: рекорд, к которому среди жителей поверхностных вод приблизились немногие каракатицы, а среди жителей суши — филиппинские и индонезийские полуобезьянки долгопяты.
У глубоководных кальмаров и рыб бывают и телескопические глаза (с большим фокусным расстоянием и большой светосилой). Есть и стебельчатые глаза, вынесенные далеко в стороны на тонких ножках, словно дальномеры. Но немало здесь животных с глазами недоразвитыми или вообще безглазых. В первом случае эволюция, очевидно, шла по пути максимального усовершенствования оптической «аппаратуры», способной улавливать хотя бы крохи света. Во втором — начисто отказалась от всяких подобных усилий, компенсировав потерявшим зрение существам их утрату другими органами чувств. Например, осязанием. У многих рыб из головы, живота или из плавников растут длинные осязательные «бичи», «щетки» и даже целые «кусты», как у глубоководного морского черта, известного в науке под латинским названием линофрине арборифера. Более ветвистый и причудливый, чем оленьи рога, «куст» у него на «подбородке» и некое трехрогое сооружение на носу — вид у этого крохотного дракона глубин (несколько сантиметров длиной!) совершенно фантастический!
Другая глубинная рыба, бентозаурус, на трех длиннейших «ходулях» — гипертрофированных лучах двух грудных и хвостового плавников — способна даже стоять, как на треножнике, опираясь ими об илистое дно. У живущих с ней по соседству креветок тоже чрезвычайно длинные ноги, которые ощупывают большое пространство вокруг и в то же время увеличивают поверхность тела, а следовательно, и его плавучесть. Некоторые глубоководные крабы последнюю пару задних ног, густо поросших длинными осязательными волосками, постоянно держат над собой, страхуясь тем самым от внезапного нападения сверху.
Воды глубин безмятежно покойны — очевидно, поэтому многие здешние обитатели некрепкого, так сказать, сложения — с нежным мягким телом и тонким скелетом (у кого он есть), на котором ясно обозначились последствия хронического рахита. Ведь там, где они живут, вечный мрак, а это значит, что антирахитный витамин D в теле животных здесь не образуется: для этого необходим свет.
На привычный наш взгляд, многие глубоководные рыбы видом страшные — зубастые чудовища. Глядя на рисунки, их изображающие, невольно содрогнешься. Ведь масштаб, степень уменьшения или увеличения, не обозначен. И потому многим неведомо, что чудища, порожденные недрами моря, очень миниатюрны. В общем, карлики — кто ростом с мизинец, кто с ладонь, и совсем мало таких (во всяком случае, известных науке), которые длиной были бы около или немногим больше метра.
Но вот пасти у всех огромные: разумеется, относительно, соразмерно с телом. О некоторых рыбах без преувеличения можно сказать: она целиком — «живая пасть». У иных стенки глотки, желудка и брюха эластичны, как резина, и обладатель такого чрева способен проглотить добычу, втрое превосходящую его собственный рост.
Бесценная для жителя глубин способность! Местными пищевыми ресурсами его мрачная родина не богата. Растений — основной кормовой базы всего живого на земле — здесь нет.
Даже там, где у поверхности моря в каждом литре воды насчитать можно больше десяти тысяч микроскопических созданий, в основном одноклеточных, уже на ста метрах глубины их втрое-вчетверо меньше. На семистах метрах — меньше в сто раз, на двух тысячах — в двести раз, а на пяти километрах — почти в тысячу раз меньше: 10–15 микросозданий. Лучшие из глубоководных фильтровальщиков — погонофоры — сколько кубометров воды должны пропустить через сито щупалец, чтобы насытить свое «бесчувственное» тельце?
Удивительные существа погонофоры.
Еще в 1914 году поймали у берегов Индонезии первую погонофору. Вторую добыли в Охотском море много позднее. Но ученые долго не могли найти этим странным созданиям подходящее место в научной классификации животного царства.
Лишь когда исследователи на «Витязе» собрали обширные коллекции погонофор и привезли их в Ленинград, в зоологический институт, и здесь их изучил Артемий Васильевич Иванов, выяснилось, что погонофоры никому не родственники, не принадлежат ни к одному зоологическому типу. Специально и только для них пришлось учредить новый особый тип. Так оригинально они устроены.
Внешне погонофоры похожи, правда, на червей. Но только внешне. Они длинные, и нет у них никаких конечностей, лишь густая борода щупалец спереди — там, где полагается быть голове. Погонофоры никогда не вылезают из своих домиков — хитиновых трубок.
Трубки погонофор задними концами погружены в ил, а передние торчат прямо вверх. Из трубки, как чуб из-под папахи, буйно вьются длинные щупальца. Щупалец иногда двести, а то и двести пятьдесят.
Щупальца плотно смыкаются, иногда даже срастаются в один венчик, глубокую чашу, в которой «варится» пища. Внутри чаши, на щупальцах, густая поросль крохотных ресничек колышется, точно трава на лугу. Волны бегут сверху вниз и гонят воду в отверстие чаши.
Втекает она сверху, а вытекает снизу — между основаниями сложенных венчиком щупалец. Разная морская мелочь, парящая в воде, попадая в джунгли ворсинок, покрывающих щупальца, застревает в них. С другого конца, из тела погонофоры, в чашу все время поступает жидкость особого рода — пищеварительные соки, и отфильтрованная добыча здесь же, на сите, переваривается. Кровь, всосав ее, растекается по кровеносным сосудам и разносит из щупалец по всем тканям свой питательный груз.
Кровь у погонофор, как и у нас, красная. Есть у них и сердце, и простейший мозг, но нет никаких органов чувств.
Животные, как видите, очень занятные.
Погонофоры невелики ростом: 4 сантиметра — длина самых маленьких из них, 36 сантиметров — самых больших. Трубки в несколько раз крупнее своих обитателей, так что они живут не в тесноте. Но в темноте! На глубинах от 2 до 10 тысяч метров. Лишь немногие попадаются на мелководье у берегов.

Но мы отвлеклись. Рассказ о погонофорах, вполне, впрочем, уместный здесь, заставил нас несколько подождать с вопросом, который естественно возникает: «Чем кормятся жители самого нижнего „этажа“ нашей планеты?»
Многие морские звезды, голотурии, черви и раки едят ил. В нем немало органики, то есть веществ, которые могут напитать голодные желудки.
Другие жители царства вечной ночи кормятся «дождем трупов»: мертвыми животными, которые падают сверху. Часами сидит, например, рыба цепола на загнутом кончике своего хвоста и, подняв кверху широко раскрытую пасть, терпеливо ждет, не упадет ли ей в рот манна небесная. Морские лилии тоже в надежде вскидывают над собой ломкие щупальца, ожидая подачки сверху.
Но на милостыню многие ли могут просуществовать?
Бесспорно, мир глубин обречен был бы на голодную смерть и вымирание, если бы населяющие его хищники не совершали грабительских набегов к поверхности моря.
Делают они это по ночам и не всегда плывут до самого верха. В этом нет надобности. И вот почему: оказывается, все морские хищники, большие и малые, на всех горизонтах моря, не сидят по ночам «дома». Все плывут вверх, а перед рассветом возвращаются «домой». Те, что живут ближе к поверхности, поднимаются выше всех, а на их место приплывают снизу обитатели «подвальных этажей». Так с этапа на этап, с одного горизонта моря на другой, с поверхности океана на глубины транспортируют непоседливые обжоры в своих объемистых желудках более миллиона тонн пищи ежесуточно!
Много ли глубоководных «конкистадоров» добывают пропитание, предпринимая по ночам разбойничьи набеги в чуждые им области океана?
Приблизительно подсчитали, и оказалось, что общий вес участников этой глубоководной эстафеты должен быть не меньше двухсот миллионов тонн!
Вечная ночь в царстве Плутона
Ольм!
«Ольм — страшный дракон затеял игру в горах!» — с «ужасной» этой вестью пришли к священнику крестьяне словенской деревни Ситтих. Это было в 1751 году, во время большого наводнения. Реки вышли из берегов, затопили поля и селения. Бурные потоки изливались на поверхность гор и холмов из щелей и дыр — входов и выходов пещер и гротов, переполненных многодневными ливнями. Они и вынесли на свет божий виновника всех этих бед — согласно местным поверьям — Ольма!
Жалкое, однако, существо представилось глазам священника, когда он поспешил за перепуганными своими прихожанами к вздувшейся от паводков реке. Слепой, бледный тритон с пучками жабр по бокам головы и крохотными лапками слабо извивался у его ног.
Священник осторожно поднял с земли хрупкое создание, заспиртовал и послал знакомому своему натуралисту. Тот описал его под названием протея (с этого, собственно, и началось изучение фауны пещер, но о том — немного позже).
Протей, или, по-местному, ольм, — истинный (в научном и обычном смысле слова) житель подземного царства. Пещеры Триеста (северо-восточная Италия) и прибрежных областей Югославии — его родина. Лишь во время сильных наводнений и ливней вздувшиеся потоки иногда выносят его на поверхность земли. Предпочитает он воды тихие, которые текут ровно, небыстро, но может жить и на суше (в лабораториях неделями!). Вылезает из воды и ползает по сырой глине или известняку и прочим наносам и отложениям подземного сухопутья. Кроме жабр, у протея есть и легкие. Дышит он и всей кожей. Она цветом желтовато-белая.
Протей — альбинос. Но если поживет он некоторое время не в темноте, а в освещенном месте, то покрывается его тело бурыми и черными пятнами. Значит, пигмент кожей протея утерян не полностью: свет его словно проявляет, как на фотобумаге.
Бледное червеобразное тельце протея длиной сантиметров 20–25 (редко до 30). Лапки крохотные, для пеших путешествий малопригодные, на передних по три малюсеньких, словно бы зачаточных пальца, на задних — только по два. Хвост сверху и снизу с неширокой каймой (нужной для плавания). Голова похожа на щучью — с удлиненным, но тупым на конце рыльцем. По бокам, сзади на голове недлинные кисточки слегка трепещут, волнуемые током воды. Это жабры. Протеев без жабр не бывает. Не встречали, во всяком случае, еще таких.

Протей, как аксолотль, — личинка-переросток. Немолодое дитя, вроде головастика, который не захотел, а точнее, не смог стать лягушкой. И вот живет, до смерти оставаясь морфологическим «ребенком». Редкое в природе явление — размножение «головастиков», то есть незрелых по внешним признакам животных, без обычного в их племени превращения во взрослую стадию — называют неотенией. (Это все равно как если бы гусеница, не став бабочкой, начала бы вдруг размножаться!)
Жабрами дышат личинки всех тритонов и саламандр, а протей тоже своего рода тритон, только особого семейства, в котором всего пять видов.
Один вид — европейский (это протей). А другие четыре — американские. Родина их — восточные области Северной Америки. Эти заокеанские родичи протея — не пещерные жители и нас сейчас не интересуют.
Протей — слепец! Нечем ему смотреть, да и незачем: тьма беспредельная там, где он живет. У молодых протеев еще можно разглядеть точечные обозначения мест былого нахождения ныне недоразвитых глаз. Позднее эти глазки-точечки совсем зарастают кожей, и снаружи их не видно.
Казалось бы, у слепого узника подземелья незавидная судьба, жизнь убогая, повадки примитивные: плавает или ползает во тьме с единственным устремлением съесть какого-нибудь ракообразного или насекомого. Но нет: живет этот инфантильный обитатель «мрачного царства Аида» по-своему полной жизнью, в которой есть и эмоции (ревность, агрессивность, нежные отцовские чувства), есть привязанности (к подруге и обитаемой территории) и родительская ответственность. Как показали недавние наблюдения французских исследователей, у протеев довольно сложное поведение.
На северных предгорьях Пиренеев в особом бетонном бассейне с соответствующим грунтом, проточной водой, в которую были пущены разные водные ракообразные и насекомые и брошены опавшие листья, древесная труха и растения, создали биологи искусственные условия, близкие, однако, к тем, в которых обитают в пещерах протеи. Протеев поселили в этом бассейне. Они жили неплохо, не голодали, не болели, но размножаться почему-то не хотели…
До этого уже было известно, что вода нужна протеям «жесткая», богатая кальцием, сравнительно прохладная — от 6 до 15 градусов по Цельсию — и полный мрак. В таких условиях у некоторых любителей протеи жили по восемь — десять лет. Однако размножались редко. Французские исследователи знали также об опытах австрийца Каммерера, который, экспериментируя в 1912 году, установил, что в воде с температурой ниже 15 градусов протеи рождают живых детенышей, а в более теплой воде откладывают яйца.
Казалось бы, биологи все сделали, как надо, как подсказывал опыт всех, кто разводил протеев до них. Но ольмы, обретя на новом месте вполне сносные бытовые условия, обзаводиться детьми, как видно, не собирались.
Чего-то им не хватало. Меняли температуру воды: повышали, понижали и, наконец, остановились на 11,5 градуса. Никакого эффекта. И лишь когда положили в бассейн большие камни и глыбы известняка, стиль поведения протеев сразу изменился. Они заползали между камнями, забеспокоились, заметно оживились.
Каждый самец избрал укромный уголок под камнем и небольшую округу около него — индивидуальную территорию, как говорят биологи. Охранял ее от соседей, которые старались прибавить к своим владениям лишний кусок, и от нерасторопных самцов, не успевших еще обзавестись собственным имением. Слепой, на вид какой-то субтильно-беспомощный житель мрака весьма агрессивно и отважно боролся за жизненное пространство для своего потомства. Вскоре в тех местах, которые сильные самцы сумели отстоять, самки, их подруги, отложили большие яйца. Каждое на некотором расстоянии от другого было приклеено к камням в укромных уголках и щелях. Самки тоже активно защищали свою территорию. Но потом охладели к этому делу, покинули и яйца. Самцы же несли бдительную вахту около них, пока не вывелись личинки. Случилось это приблизительно через пять месяцев. Детишки родились крупные — 2,2 сантиметра длиной. Зачатки недоразвитых глаз, отчетливо у них заметные, доказывают, что предки протеев жили когда-то не во мраке пещер и глядели на солнечный мир вполне нормальными глазами.
Температурный рубеж в 15 градусов не имеет никакого отношения к тому загадочному обстоятельству, которое, как прежде казалось, разгадал Каммерер: будут ли протеи рождать живых детенышей или отложат яйца. Опыты Каммерера (как и некоторые другие его эксперименты, ошеломившие в свое время генетиков) были, очевидно, не точно поставлены. Что влияет на физиологические процессы протеев, побуждая их плодиться разными способами, пока не ясно.
Не ясно также и истинное назначение и роль в жизни протеев тех звуков, которые они издают при сильном возбуждении, изгоняя из легких воздух резким их сжатием.
Немало и других не разгаданных еще секретов в биологии «грозного» ольма, одного из самых безобидных существ мира. Нужно ли говорить, что к драконам, злым духам и прочим мифическим порождениям невежества он не имеет никакого отношения и причиной стихийных бедствий быть не может. Напротив, он сам жертва больших паводков и наводнений, которые выносят его на поверхность земли, в мир, гибельный для него. Народная фантазия соединила в едином вымысле и грозные силы природы, и странных «неземных» существ, появляющихся во время наводнений. Так родилась легенда об Ольме — повелителе горных рек.
К протею в гости
Представьте теперь, что мы нанесли визит протею в его мрачном уединении. По веревочной лестнице спустились в глубокую дыру-колодец естественного происхождения или иным путем проникли в карстовую пещеру. Спуск долгий, десятки метров, и происходит в полной темноте уже с первых метров входа в бездну. Поэтому электрические или ацетиленовые фонари нам необходимы.
Отвесно вниз и вниз уходит узкая шахта с причудливым рельефом на стенах. Но вот вроде бы ноги нащупали дно — покатый пол, сводчатые потолки подземелья и косо вниз уходящий во мрак коридор. Как глубоко и далеко уведет он нас, если последуем по нему, то во весь рост, то ползком одолевая узкие места?
Разные бывают пещеры.[14] Некоторые тянутся под землей десятки верст и уходят в глубину на сотни метров: коридоры, тоннели, прерываемые уступами, колодцами, обширные гроты, своды которых уходят в недосягаемую высь — кафедральный собор (да не один!) мог бы в них разместиться. Под ногами — мелкий гравий, но дальше пластическая глина, известняки, гипсы, местами доломиты и фосфаты (образованные из гуано летучих мышей и костей пещерных медведей). В них водой промыты причудливые русла, и сверху течет, сочится, капает вода — с потолка, по стенам. И конечно, почти в каждом проходе и гроте — вода под ногами: мелкие ручьи, бурные потоки, водопады, тихие заводи и озера. Плесы их не серебрятся, не играют зеленью или голубизной: глубокие озера в пещерах — черные, мрачные. Зато все вокруг сияет даже в призрачном свете маломощных фонарей: мы словно «вступили в волшебный дворец!».
«Сталактиты и кристаллы, — говорит Норберт Кастере, один из лучших знатоков пещер, — сверкали всюду; их изобилие, белизна, формы были фантастичны вне всякого вероятия. Мы находились как бы внутри драгоценного камня, во дворце из хрусталя… Там были микроскопические сталактиты и безупречно прозрачные гигантские кристаллы. Там были образования блестящие и тусклые, гладкие и состоявшие из колючек; молочно-белые, красные, черные, ярко-зеленые…»
Там были «длиннейшие иглы, тонкие, как паутина, дрожавшие и разбивавшиеся от дыхания и свисавшие с потолка и стен серебряные нити, блестящие, как шелковая пряжа». Их можно обернуть вокруг пальца, вязать из них узлы! Это редкая форма гипса. Под ногами — кусты и цветы, формой удивительно похожие на настоящие, но сотворенные природой из минералов — «прелестнейшие и нежнейшие» кристаллы. Вокруг — «колонны, занавеси, окаменелые каскады, сталагмитовые полы и коридоры, которые в целом называются натечными образованиями».
Поверхность прудов затуманена, словно пылью, тонкой пленкой карбоната кальция. И там, где веками она никем и ничем не потревожена, насыщаясь новыми солями, растет в толщину и коркой, подобной льду, покрывает поверхность подводных водоемов. В подземельях очень влажных шероховатости камней и щели между ними сглажены, «оштукатурены» рукой природы — чистая белая паста (аморфный кальцит) запорошила их мягким «инеем».
В неглубоких водоемах, в водоворотах, образуемых падающими струями воды, рождаются тусклые и блестящие, как фарфор, желтоватые и белые жемчужины: иные размером с голубиное яйцо! Это оолиты, пещерный жемчуг. Малые песчинки крутятся-крутятся в водовороте, кальцитовые соли, выпадая в осадок, покрывают их ровным слоем со всех сторон; подобно тому, как такая же песчинка под мантией моллюска превращается в морской жемчуг, рождается здесь жемчуг пещерный.
Обычные конические сталактиты (сосульками свисают с потолка) и сталагмиты (поднимаются с пола к потолку), украшают интерьер почти всех пещер. Но геликтиты встречаются в немногих из них. Это «сталактиты удивительно неправильной формы, как бы противоречащей закону тяжести… их химический состав тот же, — говорит Н. Кастере, — но законы, их образование и сложение до сих пор остаются почти полной тайной». Удивительные произведения природы, они причудливы и фантастичны. Тонкими нитями висят на сводах пещер, затем «как будто без всякой причины» резко изгибаются и тянутся вверх «под острым углом», вьются спиралями, «выбрасывают во все стороны щупальца, цепляются за соседние сталактиты, а иногда опять возвращаются к потолку, с которого они свисают».
Таково внутреннее убранство подземелий, заселенных протеями и другими пещерными жителями. Как трубы органа, сталагмитовые и сталактитовые фигуры вибрируют и, резонируя, усиливают далеко слышные под сводами гротов и галерей громкие и тихие звуки. Крохотная летучая мышь, трепеща крыльями в узком тоннеле или тупике, вызывает такое громыхание, что воздух содрогается! Удары сердца зажатого в узком проходе человека сотрясают пол дрожью, вполне ощутимой на дистанции в пять метров от источника этих биений. Взрывы надземных мин разносятся по всем подземельям жутким грохотом, подобным обвалу.
Порой слышатся странные звуки — мелодичная музыка «волшебной флейты». Это капли воды, падая с высоты в узкую скважину, изгоняют из нее воздух, производящий нежный свист. А полые сталактиты от ударов таких же капель издают звучные низкие ноты.
Так что не безмолвно подземное царство. Гулкие и порой музыкальные звуки оживляют его, не говоря уже о неумолчном журчании текучих вод.
И по-видимому, не такой уж устойчивый температурный режим всюду в этом царстве. Считается, что в среднем днем и ночью, зимой и летом, но в зависимости от широты и климата местности, в которой расположены пещеры, температура в них постоянна: около 11 градусов тепла (в югославских пещерах 8–9, в мексиканских — около 20 градусов). Но Н. Кастере утверждает: «Не существует ровной температуры даже в одной и той же пещере, уже не говоря о пещерах в целом. Температура под землей колеблется в зависимости от времени года, времени суток и даже от времени дня». Чем глубже пещера, тем холоднее в ней. Самые глубокие пропасти остывают до 0,5–6 градусов. Остужают их холодные горные потоки, текущие в них, и студеный воздух (в холодное время года и суток), через входы, трещины и расщелины в известняке проникающий в подземелья. В общем, там царит безветрие, но не всюду: местами «сквозняк» и воздушная циркуляция так сильны, что подобны порывам ветра на поверхности земли. Ветер в одной из пещер сорвал с Кастере и его спутников шляпы!
По этой, надо полагать, причине в пещерах неплохо дышится, воздух не испорчен. Впрочем, бывают и исключения, очень опасные для исследователей и всего живого: в некоторых пещерах есть так называемые карманы углекислого газа, сероводорода и других вредоносных испарений. Некоторые из них тем опаснее, что «плавают с места на место», появляясь там, где раньше их не было, — блуждающая атмосфера смерти!
Опасны и частые в пещерах внезапные наводнения — быстрое наполнение еще недавно сухих гротов и галерей подземными потоками. Они бывают и спонтанными, внезапными, и периодическими — вода через определенные промежутки времени то поднимается на многие метры, то куда-то бесследно исчезает.
В некоторых подземных источниках много углекислоты и большой осадок железа: нож, опущенный в них, быстро намагничивается, а стрелка компаса резко отклоняется. Эти источники, кроме того, и радиоактивны, а воздух над ними сильно ионизирован.
Высокая влажность, нередкие туманы, подземные ледники (в некоторых пещерах даже летом температура ниже нуля), местные перепады давления и, конечно, вечный мрак — не забывайте об этом! — таков мир, в котором живет протей, другие амфибии, пещерные сверчки, жуки, рыбы и прочие поселившиеся здесь создания, с которыми ближе познакомимся на следующих страницах.
Троглобионты
Предполагалось, что пещеры, как и глубины океана, безжизненны. Мнение это опровергнуто было Лауренти в 1768 году, когда он описал протея, а позднее и других пещерных жителей. Теперь открыты уже тысячи видов всевозможных поселенцев в мрачном «царстве теней» (только в одной Мамонтовой пещере в Кентукки, США, их больше ста!). В основном это простейшие одноклеточные, но и черви (полихеты, олигохеты, турбеллярии, планарии), улитки наземные и водяные, множество разновидностей ракообразных, насекомые (жуки, ногохвостки, кузнечики, личинки москитов и клопы), сороконожки, пауки, клещи, рыбы (больше двадцати уже известных науке видов), земноводные (протеи, саламандры), один вид пиявок (в пещерах Герцеговины) и… ни одного вида пресмыкающихся, хотя их-то, нам кажется, особенно должны привлекать всякого рода норы и дыры в земле. Нет и кишечнополостных (гидры, медузы, кораллы), мшанок и — странно! — двустворчатых моллюсков (ракушек), которые, казалось бы, могли, приспособившись, жить в пещерах. Таковы настоящие, истинные пещерные жители, которые подземелий никогда не покидают, во всяком случае, по своей воле. Число временных обитателей пещер, которые иногда или всегда поселяются здесь в определенное время дня или года, очень велико и включает многие виды млекопитающих (одних летучих мышей многие сотни!) и пресмыкающихся. Но о них разговор впереди.
Всех истинно пещерных животных (их около тысячи видов) объединяют некоторые черты.
Живут в темноте, где самые зоркие глаза бесполезны, и поэтому почти у всех они частично или полностью атрофированы. Тонкий слух и осязание оповещают этих слепцов о том, что зрячий мог бы увидеть. Усики у пещерных кузнечиков, жуков, пауков, сороконожек и ракообразных длины невероятной (у кузнечика фалангопсиса из мексиканских пещер они в 5–6 раз длиннее тела!), чуткими к прикосновениям щетинками густо поросли их конечности. Вещества, растворенные в воде, тоже источник информации для обитателей пещер, поэтому органы обоняния и вкуса у многих (особенно у ракообразных) сильно развиты.
Это мир альбиносов (полных или частичных) и лилипутов. Протей — великан подземного царства. Даже местные рыбы меньше его: 5–6 и лишь некоторые 14 сантиметров. Кузнечики — 9 (без усов), с усами — 60 миллиметров. Жуки (4–6 миллиметров), ногохвостки, клещи — совсем крохотные создания. И улитки тоже, как правило, не более нескольких миллиметров.
Малый рост, возможно, следствие скудного питания. Пищевые ресурсы здесь небогаты. Основной кормовой базы — зеленых растений, — как и в глубинах океана, нет. Пещеры живут за счет всякой (живой и неживой) органики, принесенной водой с поверхности: рачки, микроскопические водоросли, семена, полуистлевшие листья, ил и прочий гумус. Местами, в неглубоких гротах, корни деревьев, продираясь сквозь трещины в породе, ветвятся по стенам и потолкам подземелий. Они приносят с собой разную почвенную флору и фауну: грибную микоризу, тлей, других насекомых и пауков, которые разнообразят скудную диету местного населения.
Летучие мыши миллионными легионами спят в пещерах от утренней до вечерней зари и оставляют здесь тонны экскрементов, в изобилии насыщенных азотом, хитиновыми надкрыльями жуков и прочими непереваренными остатками ночных трапез. Ногохвостки доедают эти остатки. Плесень и грибы, разрастаясь на гуано, превращают его в своих тканях в более съедобные продукты. Пещерные улитки и насекомые кормятся этой плесенью.
Пауки и сороконожки охотятся на насекомых. Крохотные слепые клещи смело и успешно атакуют в 10–15 раз более крупных пауков и ногохвосток. Саламандры и рыбы едят клещей, пауков, насекомых, рачков, улиток и всех прочих, кого смогут поймать и одолеть. А умирая, все они оставляют органические вещества безжизненных своих тел для пропитания рачков, жуков, плесени и бактерий — круг несложных пищевых зависимостей замкнулся…
Истинно пещерных животных называют троглобионтами.
По другую сторону океана, в подземных гротах Техаса, живет пещерная саламандра тифломольг. Ее белое тонкое тельце длиной не более 11 сантиметров. Темные точки на месте атрофированных глаз едва заметны на тупорылой и плоской голове. Красные пучки жабр дополняют внешнее сходство с протеем. Очень похожа на протея и такой же, как и он, неотеник: размножается, оставаясь морфологической личинкой. Только лапки у этой личинки подлиннее, чем у протея, да и происхождение несколько иное: тифломольг из зоологического семейства безлегочных саламандр.

Недавно в пещерах Техаса найдены и другие безлегочные саламандры. Восточнее, в пещерах штата Джорджия, на большой глубине (до 70 метров) живет маленькая (7,5 сантиметра) саламандра Уоллеса. Она белая, совершенно безглазая (нет даже и пятен на месте бывших когда-то глаз), с очень длинными наружными жабрами и ногами. Размножается, как и протей, — неотенически. Даже гормоны щитовидной железы, которыми с успехом можно заставить аксолотля превратиться во взрослую саламандру, не произвели должного эффекта на эту закоренелую личинку.
Аноптихтис Джордана — слепая белая рыбка — обитает в пещерах Мексики. А рядом в реке Рио-Тампаон, воды которой в дождливое время вливаются в пещеры, — рыбка астианакс: первая — бесспорный потомок второй. Эволюционный, разумеется. С водами реки астианаксы заплывали (и сейчас заплывают) в пещеры. Некоторые из них здесь остаются навсегда. Окраска их бледнеет, и тогда очень похожи они на пещерных аноптихтисов. Особенно молодых, которые рождаются с вполне нормальными глазами. Постепенно, чем больше они живут и взрослеют, глаза атрофируются. И к тому времени, когда рыбки уже вполне взрослые, половозрелые, глаз у них уже нет.
Меняется и поведение рыбок: они беспокойно и постоянно теперь плавают. Полагают, что эти безостановочные движения — ориентировочные. Поскольку зрительные впечатления не оповещают слепых рыб об окружающем мире, они активно исследуют этот мир с помощью других чувств (осязание, обоняние, боковая линия), получающих более значительную информацию в движении. Повышенная моторность замечена и у других слепых пещерных рыб. Экспериментально ее можно вызвать и у непещерных астианаксов, если ослепить их.
Аноптихтис и зрячий его прародитель астианакс принадлежат к группе, называемой аквариумистами группой хараксовидных. Около 1350 их видов обитают в пресных водах Африки, Центральной и Южной Америки (страшные пирайи тоже из этой группы). У них на хвостовом стебле, сверху, — небольшой жировой плавничок, как у настоящих лососей, сигов и форелей. Но цекобарбус — житель пещер Западной Африки (от Конго до Анголы) из семейства карповых рыб. Его ближайший родич (и, очевидно, прародитель) — полосатый усач — живет в реке Конго и ее притоках.
Характерные черты усачей — пару усиков на верхней губе — пещерный житель цекобарбус сохранил, но потерял, веками обитая во мраке, яркие краски на своей чешуе. Он матово-белый, с розоватым оттенком там, где кровь просвечивает сквозь кожу, с темно-красными (от наполняющей их крови) жабрами. Глаз нет — лишь две плоские ямки обозначают пункты былого их местонахождения. Но свет от тьмы безглазая рыбка, однако, быстро отличает: если осветить аквариум, в котором она, подобно другим своим пещерным собратьям, безостановочно плавает, сейчас же усач-троглодит устремится в самый темный угол.
Почти все рыбы из семейства амблиопсид, словно сговорясь, поселились в пещерах, и почти все они слепые альбиносы. Это тем более странно, что другие пещерные рыбы — выходцы, так сказать, из разных племенных групп, даже из таких, которые никакого контакта с пещерами, казалось бы, иметь не могли. Например, из семейства бротулид, почти все представители которого — рыбы весьма и весьма глубоководные. Они попадались в тралы в 4500 и даже 7000 метрах от поверхности. А это очень близко к рекорду — наибольшей глубине (7579 метров!), на которой советские океанологи добыли самую глубоководную из известных пока науке рыб.
У всех бротулид, обитающих глубже двух тысяч метров, глаза недоразвитые и заросли кожей, более 70 видов семейства — живородящие рыбы. Даже те из них, которые когда-то каким-то непонятным образом поселились в пещерах Кубы и живут там поныне (стигиколя зубастая и люцифуга подземная).
О размножении пещерных рыб немногое известно. Одни из них живородящи, другие откладывают икру, по-видимому, не в определенный сезон, а в любое время года, по-скольку условия жизни во многих пещерах зимой и летом почти одинаковы. Самки пещерных рыб амблиопсисов оплодотворенную самцом икру вынашивают во рту, пока мальки не выведутся. А это два долгих месяца, потому что икра развивается медленно. Носят ли они во рту и мальков, как африканские рыбки-цихлиды, неизвестно.
Расставшись с рыбами, выберемся теперь на подземное сухопутье.
Мы в пещерах Америки.
…В тусклом свете красного фонаря (им освещаем мы путь, потому что красный свет пещерных обитателей не пугает) открылись нам фантастические подземные пейзажи. Осторожно продвигаясь среди причудливых известковых фигур, мы заметили странное движение на обмелевшем глинистом дне бывшего потока: бесшумная пульсация будто крошечных кузнечных мехов, а над ними мерное колыхание двух длинных стебельков — вперед-назад, вперед-назад… Три пары изломанных вверху острым углом ножек упираются в глину, конец пульсирующего брюшка в нее погружен… Пещерный кузнечик фалангопсис! Правда, мы искали не его, но раз встретились с ним, равнодушно мимо не пройдем. Посмотрим, чем он тут занимается.
Делом, оказывается, важным: глубоко погрузив в вязкую грязь длинный свой яйцеклад, освобождается от бремени яиц. А его усики несут в это время сторожевую вахту: колыхаясь над ним и вокруг, ощупывают пространство, впятеро и вшестеро более обширное, чем покрывает собой их обладатель (он ростом всего лишь с ноготь мизинца!). У кузнечика есть глаза (значит, еще недавно поселился он в подземельях), но нет вокруг для них видимости: пещерный мрак непроницаем для самых зорких глаз.
Вдруг усы подземного кузнечика прекратили свои сторожевые движения, замерли, простертые вперед. Он насторожился, словно пораженный новым, забытым в веках ощущением, словно пытаясь понять, что за странное сияние явилось перед ним. Луч света блеснул в его выпуклых глазках, никогда прежде не знавших ничего подобного, и они покраснели. Кузнечик раздумывал недолго, рывком рванул из земли яйцеклад и скачком метнулся в темный угол, за сталактит. Луч света последовал за ним и… тут мы увидели ее!
Перомискус! Торнилло! Белоногая пещерная мышь! Ослепленная, она сидела в углу и таращила большие глаза. Несчастный кузнечик, который, удирая от страшного света, попал прямо к ней в зубы, еще дергал ножками…
Ничего почти не известно о жизни этого удивительного грызуна. По-видимому, еще недавно поселился он в некоторых пещерах штата Нью-Мексико. Кормится здесь почти исключительно кузнечиками. Глаза у пещерной мыши большие: крупнее даже, чем у ее родичей, обитающих в лесах и полях Северной Америки (пещерная мышь — подвид обычной здесь белоногой мыши). По-видимому, эволюция ее глаз проходит первую стадию борьбы с темнотой, когда отбор идет еще по пути совершенствования органов зрения, чтобы потом оставить эти бесплодные попытки. Вторая эволюционная фаза приспособления к мраку — отмирание ненужных здесь глаз. Но усы у пещерной мыши уже очень длинные, слух и обоняние чуткие — они и руководят в поисках пропитания и партнеров, когда придет пора размножения: торнилло рождаются, живут и умирают в Карлсбадских пещерах Нью-Мексико, никогда их не покидая. Эти заокеанские родичи наших хомяков (а не мышей и крыс!), по-видимому, единственные млекопитающие среди истинных троглодитов (есть, впрочем, не вполне определенные сведения, что и некоторые неотомы, близкие к белоногим мышам, кустарниковые крысы, тоже перебрались на постоянное жительство в североамериканские пещеры).
Интересно было бы знать, не беспокоят ли этих теплокровных поселенцев подземелий пещерные… клопы?
Летучим мышам, ночующим и зимующим здесь, они очень досаждают. А когда древние люди, спасаясь от стужи ледников, поселились в пещерах (и, надо полагать, распугали летучих мышей!), то клопы, поголодав известное время, приспособились, в конце концов, пить кровь доисторических людей и так к этому привыкли, что и до сих пор, переселившись с людьми из пещер в дома, ее пьют: постельный клоп, как считают, произошел от клопа пещерного, извечного паразита летучих мышей.
Троглофилы
Троглофильные животные обитают и вне пещер, но более или менее регулярно поселяются в подземельях на определенное время года или суток, как летучие мыши, например. Это очень пестрая и обширная группа: составляют ее самые разные животные — от микроскопических рачков до гиен, леопардов и медведей.
Причины, побудившие их уходить в подземелья, тоже разные — зимние холода или, напротив, летний зной и сухость, поиски безопасного жилья и ночлега либо безотчетное врожденное стремление заселять все пригодные для этого земли и воды — повышенная, так сказать, жизненная экспансия. Этим последним словно бы безразлично, где жить — над землей или под землей. Таковы, например, некоторые рачки-циклопы, клещи, черви планарии.
Живородящие безлегочные средиземноморские саламандры (сардинская и итальянская) в сухое время года предпочитают жить в пещерах. Но в дождливые сезоны выходят и на поверхность, прячутся под камнями, в дуплах деревьев, во впадинах и расщелинах. Пещерные североамериканские саламандры из рода тифлотритон личинками живут в горных ручьях. Повзрослев, теряют жабры, глаза их зарастают веками, бурая с желтыми пятнами окраска бледнеет до белого тона, и в этом новом образе своем переселяются они на постоянное жительство в пещеры штата Миссури и соседних областей.
Для некоторых животных пещеры — теплые и покойные зимние квартиры. Поселяются в них не только летучие мыши: бабочки из рода трифоза на зимовках соседствуют в подземельях с крылатыми зверьками. Некоторые совы, а в Пиренейских горах медведи и барсуки дополняют их общество.
В непогоду, спасаясь от врагов, чтобы вывести здесь детей или просто спокойно выспаться, часто посещают пещеры дикие кошки, куницы, лисы, кролики, шакалы, гиены, леопарды и дикобразы. А из птиц — сычи, совы и галки.
«Для знатока галка — великолепный указатель местонахождения пещер и пропастей, — говорит Н. Кастере. — Внимательно наблюдая за галками, видишь, как они кружатся над какой-нибудь точкой, затем складывают крылья, падают перпендикулярно и исчезают в земле».
В узкие естественные колодцы, в глубокие, промытые водой дыры в известняке галки спускаются с непостижимой виртуозностью. Замедляя трепетом крыльев скорость падения, погружаются все глубже и глубже во мрак подземелья на десятки метров!
Одно гнездо Н. Кастере нашел на глубине более 30 метров по вертикали!
Чтобы накормить птенцов, галки 25 раз в час — почти каждые две минуты! — спускались и поднимались по отвесному колодцу, уходящему в мрачную бездну на глубину, равную высоте двенадцатиэтажного дома! Подъем был особенно труден, так как обычным полетом одолеть его нельзя: слишком узок вертикальный туннель, на дне которого птицам вздумалось устроить свое гнездо. Галка «поднимается, как автожир, короткими вертикальными взлетами, присаживаясь на каждый выступ, и так мало-помалу с громким шумом царапающих крыльев взбирается наверх».
Молодым галкам, которые давно уже оперились, долго приходится сидеть в гнезде: вертикально летать, как взрослые, они еще не умеют. Для родителей лишний труд и заботы от этого, но зато безопасность для молодого, не опытного в земных делах поколения здесь, в недрах известняковых толщ, полная — и от врагов, и от непогоды.
…«В марокканских Атласских горах в пропасти Улед Айях глубиною 326 футов по вертикали, — рассказывает Н. Кастере, — я сполз вниз по наклонному туннелю и оказался на подземном лугу в густой пышной траве, каждый стебелек которой был белым и прозрачным. Трава-альбинос колыхалась под ветром, и ее ростки тянулись к солнцу, которого им никогда не суждено увидеть».
И такие неожиданные феномены встречаются в пещерах.
Еще в прошлом веке Александр Гумбольдт, известный немецкий натуралист и первооткрыватель гнездовий странных пещерных птиц, о которых пойдет сейчас рассказ, в подземных гротах Венесуэлы с великим изумлением увидел… бесцветные побеги (высотой по колено человеку) масличных пальм и фруктовых деревьев, без всякой надежды жить и цвести проросшие на тучных кучах гуано.
Кто посеял их здесь?
…Тысячи птиц, разбуженных светом, сорвались с карнизов и стен и с оглушительным хлопаньем крыльев метались над головами людей, нарушивших их дневной сон. Птицы крупные (до метра в размахе крыльев!), бурые, большеротые… Определенно козодои…
Во многих пещерах Перу, Венесуэлы, Гвианы и на острове Тринидад живут эти птицы, известные в науке под названием жирных козодоев (или гуахаро).
Летучие мыши, теперь это всем известно, ориентируются во мраке ночи и пещер с помощью эхолотов — «ощупывают» пространство вокруг ультразвуками.
А как жирным козодоям удается без опасных столкновений летать в подземельях?
Погасите свет и прислушайтесь. Полетав немного, птицы скоро успокоятся, перестанут кричать, и тогда вы услышите мягкие взмахи крыльев и, как аккомпанемент к ним, негромкое щелканье. Вот и ответ на вопрос!
Это работают эхолоты! Их сигналы слышит и наше ухо, потому что звучат они в диапазоне сравнительно низких частот: около семи килогерц. Каждый щелчок длится одну или две тысячные доли секунды. Если заткнуть ватой уши гуахаро и выпустить их в темный зал, то виртуозы ночных полетов, оглохнув, тут же и ослепнут: беспомощно будут натыкаться на все предметы в помещении Не слыша эха, они не могут ориентироваться в темноте.
Дневные часы гуахаро проводят в пещерах. Там же устраивают и свои глиняные, обильно нашпигованные косточками плодов гнезда, прилепив их к карнизам стен. По ночам птицы покидают подземелья и летят туда (нередко за 50–40 километров), где много фруктовых деревьев и пальм с мягкими, похожими на сливы плодами. Тысячными стаями атакуют и плантации масличных пальм, срывая плоды на лету, трепеща крыльями и «подвисая» на манер колибри около дерева (возможно, что фрукты разыскивают гуахаро обонянием!). Плоды глотают целиком, а косточки потом уже, вернувшись в пещеры, отрыгивают. Поэтому в подземельях, где гнездятся гуахаро, всегда много молодых фруктовых «саженцев», которые быстро, однако, гибнут: не могут расти без света.
Гуахаро кормят птенцов по три — шесть раз за ночь. Растут их дети быстро и через два месяца весят уже в полтора раза больше взрослых птиц. Сидят в гнездах долго, по три и четыре месяца, пока не научатся летать.
Брюшко только что оперившихся птенцов гуахаро покрыто толстым слоем жира. Когда исполнится юным троглодитам примерно две недели, в пещеры приходят люди с факелами и длинными шестами. Они разоряют гнезда, убивают тысячи редкостных птиц и тут же, у входа в пещеры, вытапливают из них жир. Хотя у этого жира и неплохие пищевые качества, употребляют его главным образом как горючее в фонарях и лампах.
По другую сторону Тихого океана, в скалах и пещерах Юго-Восточной Азии (Индия, Индонезия, Полинезия) и на северо-востоке Австралии, гнездятся птицы, которые, подобно гуахаро, летая во мраке пещер, высылают вперед акустических разведчиков — иначе говоря, тоже наделены от природы ультразвуковыми эхолотами.
Это знаменитые саланганы, небольшие буроватые стрижи, хорошо известные всем местным гастрономам: из гнезд саланган… варят здесь превосходные супы! Сами гнезда (хорошо приготовленные) вкусом напоминают осетровую икру. Саланганы гнездятся на отвесных скалах, но чаще в пещерах у самого берега моря, подобраться к которым можно только с большим риском. Еще большие опасности ждут сборщиков гнезд, когда по бамбуковым лестницам лезут они на стены пещер, добираясь до поселений саланган.

Поставщики ресторанов и прочие торговцы дорого платят за гнезда: полшиллинга за первосортное, свежее, без примесей гнездо. За сезон один сборщик собирает до 40 000 гнезд (общим весом в полтонны) и зарабатывает около тысячи фунтов стерлингов.
Многие саланганы (всего их 17 видов) «вмазывают» в гнезда перья, травинки, несъеденных насекомых. Серая салангана делает их только из собственной слюны: ее гнезда особенно и ценятся. Но только свежие. Старые буреют, набивается в них пыль и мусор, заводятся личинки бабочек — из этих гнезд добывают желатин.
Салангана вьет гнездо так: прицепится лапками к скале и смазывает клейкой слюной камень, рисуя на нем силуэт люльки. Водит головой вправо и влево — слюна тут же застывает, превращается в буроватую корочку. А салангана все смазывает ее сверху. Растут стенки у гнезда, и получается маленькая колыбелька: 5–6 сантиметров ее длина. В этой «съедобной» колыбельке два-три раза в год выводят саланганы птенцов.
…В давние, очень давние времена, в эпоху ледяного нашествия, проживали в пещерах большие и опасные звери. От стужи ледников, наступавших с севера и с вершин гор, прятались они в подземельях, и здесь узкие дорожки в сырых галереях и тупиках не раз сводили их с другими искателями пещерного уюта — с прародителями нашими. Кровавые битвы разыгрывались тогда при свете дымных факелов в диком реве и криках…
Живописные свидетельства о страхе, уважении и даже мистическом преклонении пещерного человека перед пещерным медведем на века сохранили стены их некогда общего мрачного приюта.
Пещерный медведь — противник сильный и опасный. Когда стоял на четвереньках, то его могучий косматый загривок был по плечо пещерному человеку. А когда в ярости или любопытствуя поднимался на задние лапы, почти вдвое превосходил ростом одетого в чужие шкуры врага. Полутонной (и более того!) глыбой железных мышц, в неистовой ярости сокрушающих отвагу и хитроумие сынов человеческих, жутким дьявольским (как казалось им тогда) проклятием возникал он вдруг из неведомых страшных далей подземелий. Дремотный, мирный (редкое счастье в те дни!) покой многолюдной семьи, укрывшейся от жизненных невзгод в безмолвном мраке пещер, взрывал дикий зверь громогласным своим ревом, от которого содрогались нерукотворные интерьеры подземелий. Младенцы, захлебываясь плачем, надрывали сердца перепуганных длинноволосых женщин. Усталые охотники-мужчины в яростной тревоге поднимались с сыромятных шкур, чтобы дать бой и победить (иначе нас с вами не было бы!).
Пораженные артритом (зловредное влияние сырых пещер), с гнойными ранами на теле, измученные голодом, холодом и болезнями, они сжимали в руках примитивное свое оружие и сражались…
Не уважать силу духа этих породивших нас воинов разве можно! Но и грозного зверя, их врага, не уважать тоже нельзя: смелость и искусство его похождений во тьме запутанных подземных лабиринтов просто поразительны! Медведи ведь жили в пещерах не у входа, куда нетрудно забраться и легко выбраться. Нет, они уходили далеко и, блуждая в потемках (без всяких эхолотов!), спускались до больших глубин. Затерянные в дебрях подземелий, самые отдаленные тупики и узкие переходы до сих пор хранят следы этих отважных походов и полуистлевшие кости заблудившихся тысячелетия назад зверей, которым найти обратную дорогу к свету не удалось.
«Даже в узких вертикальных трубах, по которым можно взбираться только подталкиваясь кверху, подобно трубочисту, я, к своему удивлению, — говорит Н. Кастере, — находил на стенах, покрытых глиной или хрупким сталагмитом, следы медвежьих лап».
Пещерные медведи преодолевали в подземельях, казалось бы, совершенно непреодолимые преграды, они карабкались по отвесным стенам узких колодцев, перелезали через крутые и скользкие от сырости многометровые стены, проползали по узким коридорам, в которых ни развернуться, ни приподняться невозможно.
Глубокие озера и бурные потоки их не пугали: в полной тьме, где ни дальних, ни ближних берегов не видно, смело погружались они в холодную воду и плыли вперед и вперед. Малые их дети, медвежата-несмышленыши, доверчиво шли, ползли и плыли за косматыми мамашами. А тех непонятная нам страсть к подземным одиссеям уводила в такие черные дали, до которых только теперь лучшие из спелеологов с великим риском добираются.
В одной из пиренейских пещер следы когтей на известняках и глине рассказали исследователям драматическую историю медвежьих путешествий во мраке. Над подземным озером — его переплыли медведи — на высоте трех метров от воды зияло отверстие: вход в узкую галерею. Медведи заметили его и пытались, выскакивая из воды, зацепиться за край дыры и влезть в нее (многочисленные царапины от когтей наглядно повествуют об этом!). После неудачных попыток грузные звери с гулким плеском падали обратно в воду. Но некоторых такой, казалось бы, невозможный прыжок освобождал от студеного плена воды: они зацепились прочно и, подтянувшись, вскарабкались по отвесной стене, вошли в узкий коридор, но, увы, героические усилия, затраченные на овладение им, оказались напрасными: он скоро кончился непроходимым тупиком. «В конце этого тупика медвежонок, наверно, величиною с пуделя, оставил на полу следы своих коготков».
Как попало сюда это медвежье дитя, куда и многим взрослым зверям путь был отрезан? Конечно, не сам он, а мать каким-то непостижимым образом его сюда доставила. Сидел ли он у нее на спине, когда она карабкалась из воды ко входу в туннель, бросила ли она его туда, прежде чем влезть самой, или толкала и несла перед собой в зубах, — теперь мы можем только гадать об этом…
Беспредельная тьма и путаные лабиринты катакомб, как видно, не пугали медведей. Они находили силы и время порезвиться здесь: скатывались с илистых горок прямо в взбаламученную воду пруда, взбирались снова по склону и опять катились вниз, оставляя клочья шерсти на глине, сохранившиеся и поныне.
«Сохранили прекрасную полировку» и глубокие шрамы некоторые сталактиты, о которые терлись боками или точили когти эти гости (или пленники?) подземелий.
Много жило медведей в пещерах: в некоторых (например, в гроте Гаргас в Пиренеях) находят целые залежи медвежьих костей, самые большие музеи получили оттуда свои наилучшие образцы. А фосфатные отложения во многих подземельях Австрийских Альп образовались, как полагают, из разложившихся медвежьих костей.
Пещерных медведей погубили, по-видимому, «пещерные» болезни: скелеты этих зверей носят уродливые следы рахита, ревматизма и других артритов, неизменных спутников сырости и мрака — искривленные суставы, сросшиеся позвонки, костные опухоли и наросты, деформированные челюсти. Недоедание тоже сказалось: в пещерах есть было нечего, а на поверхности в студеной ледяной пустыне больной зверь с ревматическими дефектами, приобретенными в сырых казематах своего злосчастного убежища, плохим был охотником.
Род пещерных медведей постепенно вымирал и совсем угас в мадленскую эпоху неолита, в самый расцвет пещерной живописи, 15–20 тысяч лет назад, когда холод последнего оледенения привел в Пиренеи северного оленя.
Троглоксены
В пещеры попадают порой животные самые разные: падают ночью в глубокие колодцы или с водой низвергаются вниз через щели и дыры горных пород. Несчастные узники каверн: олени, собаки, кошки, крысы, жабы, рыбы, раки… всех припомнить и назвать невозможно — их множество. Олени, конечно, если и не разбились насмерть при падении, умирают здесь скоро: зелени трав и деревьев — пропитания для парнокопытных — нет в царстве Аида. Собаки и кошки живут дольше (спелеологи находили в подземельях случайно попавших сюда собак, которые так долго жили в темноте, что на незрячих их глазах «образовалась пленка»). Крысы и жабы, наверное, до конца дней, положенных им от природы, худо-бедно, но просуществуют здесь. Многие подобного рода случайные гости (троглоксены) доживают несчастный век свой узниками подземелий.
Из случайных гостей и пленников, сумевших выжить, и формировалась фауна пещер. Это так называемые пассивные поселенцы. Но были и активные. В межледниковое и послеледниковое время некоторые животные, привыкшие к холоду и большой влажности, укрылись в пещерах, когда ледники отступили и теплый, сухой климат воцарился на прежней их родине; так заселили, по-видимому, североафриканские и мексиканские пещеры слепые рыбки аноптихтисы, а гроты Европы — жуки из рода халева и другие насекомые и моллюски.
Это сравнительно молодые колонисты подземного царства. Но есть и более древние — уже миллионы лет здесь обосновавшиеся — с плиоцена. Среди них немало реликтов, так называемых живых ископаемых, нигде больше (или почти нигде) на земле не обитающих. Это, например, очень древние палеозойские рачки синкариды из некоторых швейцарских пещер. Ближайшие их родичи обитают на другом конце земли — в Австралии и Тасмании, природном заповеднике живых ископаемых. В тех же пещерах живет крохотная полихета: многощетинковый червь, поиски ближайших родичей которого увели бы нас далеко от гор и пещер — на дно морское. Удивительная и до сих пор еще толком не решенная загадка — почему в пещерах так много животных, переселившихся сюда из моря? Пути проникновения в подземелья из пресных вод и с суши понятны и, в общем-то, несложны. Там, где гроты соединяются с морем и в приливы заливаются соленой водой, дорога в подземелья морским обитателям тоже открыта. Но мест таких немного, меньше, чем разных входов и выходов из пещер на поверхность земли. Однако процент морских по происхождению пещерных животных довольно велик.
Свет в пещерах
Сравнивая, находят немало общих черт в условиях жизни в глубинах океана и в пещерных недрах земли. Вечный мрак, ровные, без резких колебаний температуры, скудность местных пищевых ресурсов (полная зависимость от принесенных извне продуктов).
Нет, впрочем, в пещерах чудовищного давления, нет и живых источников света, оживляющих призрачным сиянием пучину океанских глубин. Во всех пещерах мира нет светящихся животных (о растениях несколько слов — в конце). Во всех, кроме одной-единственной!
Эта «единственная» пещера в Новой Зеландии. Любимый туристами грот Уэйтомо. Он в 200 милях к северу от Веллингтона, в стране маори.
Спускаясь по запутанным лабиринтам, вырытым текучими водами в подножье известковой горы, туристы выходят наконец к подземному озеру. Поднимают кверху головы и замирают с раскрытыми ртами: над головами у них… звездное небо.
Шепот восторга или тихий возглас — и сразу гаснут одно «созвездие» за другим, и все вокруг скрывает чернота. Долго придется теперь ждать в безмолвии неосторожным туристам, если хотят они вновь насладиться утраченным видением. Не скоро снова зажгутся звезды на небе Плутона. А когда зажгутся, протяните вверх руку и, если потолок грота здесь не очень высок, может быть, вам удастся поймать одну «звездочку». Зажав ее прочнее в ладони — она живая, извивается, — несите скорее наверх из пещеры, на солнечный свет, и посмотрите, кого поймали.
Это светятся маленькие белые червячки. В темноте голубовато-зеленый ореол окружает задний кончик червя. «Горят» четыре «волшебные» палочки под кожей, снизу лежит под ними блестящий рефлектор, он усиливает свет.
«Червячок» — личинка длинноногого комара, которого ученые называют болитофила люминоза (местного имени у него нет). Комар ростом лишь вдвое больше москита и откладывает яйца на потолках и стенах новозеландских пещер (иногда и на скалах темных ущелий. Тот же комар или близкий его родич обитает в пещерах Тасмании, на юго-востоке Австралии и островах Фиджи). Из яиц выходят похожие на червей личинки и плетут шелковистые домики-трубочки. Вниз от домиков спускают тонкие клейкие нити длиной около полуметра. Это ловушки. Но для кого?
В водах подземного озера выводятся тысячи разных насекомых. Яйца и личинки многих из них заносят сюда надземные реки, низвергаясь в бездну через щели и трещины в земле. Молодые насекомые, закончив здесь развитие, покидают воду и устремляются вверх, к звездному, как им кажется, небу и тут прилипают к блестящим нитям, которые комариные беби развесили под сводами пещеры.
Как только добыча прилипнет к одной из клейких «бусин», нанизанных на ловчую нить, комариная личинка начинает пожирать эту нить (с ближайшего к ней конца) и таким образом «сматывает» ее, как спиннингист леску, подтягивая болтающуюся на другом конце добычу ко рту.
Тысячи других «голодных ртов», раскинув хитроумные сети тут же рядом на сталактитах, ждут терпеливо добычу: всех, кого жаждут съесть и лучезарные комариные личинки, и их самих, когда, закончив под сводами пещер свои таинственные превращения (и потеряв редкий дар — светиться!), в образе крылатых насекомых устремляются они во мрак, в поисках выхода из пещер. Вот тут-то многие из них станут жертвами пауков амауробиусов. Удивительные пауки — общественные! Живут дружными сообществами, как пчелы и муравьи, что для пауков, существ агрессивных и нетерпимых ко всякому соседству, в высшей степени необычно. Сообща плетут грандиозные сооружения — мелкоячеистые и прочные сети шириной метра полтора, а длиной до семи метров и больше! У каждой паучихи под общей кровлей своя отдельная комната (шелковистый «наперсток»), а в ней линзовидные коконы. В коконах — спеленатые яйца пауков. Из некоторых уже вывелись паучата. Подрастут и будут приняты в дружное сообщество пещерных пауков.
Жизнь, обновляясь в молодых поколениях, процветает и там, где воображение человеческое, мифы и религии поселили лишь бесплотные тени неправедных душ и мучителей их — чудовищный персонал ада.
Рассказывают легенды и о гномах, трудолюбивых карликах. Неутомимые старатели, вгрызаясь в недра гор, ищут они редкие руды, драгоценные камни и металлы. Добытые ими клады мерцают чудесными переливами, искрятся под сводами пещер изумрудами и золотом.
Изумленный исследователь подходит ближе, чтобы лучше рассмотреть удивительное мерцание. Берет пригоршню сверкающих «камней», подносит к свету фонаря — в руке у него… лишь комочек сырой земли.
Не силы волшебства свершили это обидное превращение: приглядитесь внимательно — видите тонкие матово-зеленые нити в комке земли? Это молодые ростки пещерного мха шизостега. Они и светятся в глубине подземелий.
Но свет мха не собственный, а отраженный, как в глазах кошки. Прозрачные округлые клетки пещерного мха устроены наподобие оптических линз. Они собирают жалкие крохи света, рассеянные в пещере, фокусируют их и узким лучом направляют на хлорофилловые зерна в тканях мха под линзами его поверхностных клеток. А эти зеленые чудо-зерна, используя световую энергию, сконцентрированную из немногих пойманных во мраке фотонов, создают из неорганических веществ (углекислого газа и воды — а этого в пещерах достаточно) питательные органические вещества: глюкозу, крахмал, а затем, добавив соли земли, — белки и жиры. Конечно, даже и этот удивительный мох со всем его оптическим совершенством может расти лишь недалеко от входа в подземелья или там, где через щели и дыры в породе проникают с поверхности земли хоть какие-то крохи света. В отдаленные глубины пещер еще ни один фотон естественным путем не попадал, и любой самый тонкий оптический прибор бессилен здесь поймать и сконцентрировать световую энергию.
Но там, где мох шизостега растет, сфокусированный им, а затем частично отраженный от хлорофилловых зерен свет сверкает во тьме гротов, подобно призрачному блеску драгоценностей, порождая сказки о шаловливых гномах и пещерных духах.

Оглавление
Откуда приходит ночь? (Вместо введения)… 3
Мир ночи наших лесов и полей
«Нощный вран — сова»… 5
Ночные «ласточки»… 14
Когда зори встречаются… 16
Лягушачьи концерты и жабьи похождения… 19
Полезнейшие из полезных!.. 30
Ёж и некоторые другие ночные охотники… 39
Иллюминация и погребения… 47
Ночные сафари на потолке… 51
Эхо в ночи… 55
Джунгли во мраке
Сельва — лес лесов… 64
Звери тропиков в ночных промыслах… 70
Калонг, тагуан, кагуан… 87
И рожденный ползать летать может!.. 92
Необыкновенные чувства змей… 97
Полярная ночь
Лемминги нужны всем!.. 101
Кто остался?… 105
Здесь только пингвины!.. 110
Вечная ночь в царстве Нептуна
Мрак пучины… 114
Свет в пучине… 119
Глубоководные удильщики… 122
Что они едят?… 127
Вечная ночь в царстве Плутона
Ольм!.. 133
К протею в гости… 137
Троглобионты… 141
Троглофилы… 148
Троглоксены… 155
Свет в пещерах… 156

