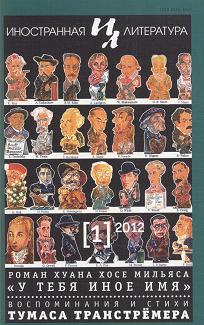
У тебя иное имя. Хуан Хосе Мильяс
Один
Был конец апреля. Часы показывали пять, и Хулио Оргас, как и всегда в это время по вторникам, уже минут десять как вышел от своего психоаналитика. Он пересек улицу Принсипе-де-Вергара и сейчас входил в парк “Берлин”, безуспешно пытаясь скрыть охватившее его волнение.
В прошлую пятницу ему не удалось встретиться в парке с Лаурой, и с того дня его не покидала тоска. Она душила его все выходные, заполненные невеселыми размышлениями под шум дождя. Она была так остра, что Хулио ужаснулся, представив на миг, в какой ад может превратиться его существование, если разлука продлится дольше. Он вдруг осознал, что в последнее время его жизнь вращается вокруг оси, которая проходит через две точки, и точки эти — вторник и пятница.
В воскресенье за чашкой кофе с молоком в его воспаленном мозгу вспыхнуло слово “любовь”, и Хулио улыбнулся, но слово погасло, и он почувствовал себя еще хуже.
Тоска все росла, но Хулио не стал размышлять над ее причинами, несмотря на давнишнюю привычку — в последнее время, после того как он начал посещать психоаналитика, заметно усилившуюся, — анализировать все, что происходило с ним не по его воле. И все же он не мог не вспомнить, как впервые увидел Лауру.
Это случилось тремя месяцами раньше. Был вторник, тускловато освещенный бледным февральским солнцем. В тот день, как и всегда по вторникам и пятницам на протяжении последних нескольких месяцев, Хулио простился с доктором Родо без десяти пять. Он шагал по направлению к издательству, в котором работал, как вдруг его охватило ощущение полноты жизни, чувство счастья, которое мгновенно преобразило окружающее: он уловил в воздухе запах весны. И тогда он решил изменить маршрут: вернуться на работу не тем путем, каким шел обычно, а дать маленький крюк и пройти через расположенный неподалеку парк “Берлин”, чтобы насладиться ощущением счастья и покоя, которое, казалось, разделяла с ним сама природа.
В это время суток парк обычно заполняли мамаши, выводившие детишек погреться на солнышке. Лауру Хулио заметил сразу. Она сидела на скамейке между двумя другими сеньорами, с которыми, видимо, вела беседу. У нее было самое обычное лицо и самая обычная фигура, но, должно быть, они напомнили Хулио о чем-то давно забытом, о чем-то темном и греховном, к чему он, Хулио, был каким-то образом причастен.
Она выглядела лет на тридцать пять, и в ее густых волосах уже пробивалась седина. Волосы вились на концах, словно пытались бунтовать, словно не хотели больше быть покорными и послушными. Но почти по всей длине они были безукоризненно прямыми, и завитки на концах лишь подчеркивали эту прямизну. Глаза у нее тоже были самые обыкновенные, но в них угадывалась способность проникать глубоко в душу, а если при этом уголки губ еще и изгибались чуть-чуть не то в заговорщической, не то в злорадной усмешке — под ее обаяние трудно было не попасть. Что до фигуры, то бедра у нее были несколько полноваты, но это ее не портило — женщина в таком возрасте и не должна выглядеть как мальчишка-подросток.
Хулио уселся неподалеку, развернул газету и принялся тайком разглядывать незнакомку. И чем дольше он наблюдал за ней, тем сильнее чувствовал какое-то необъяснимое беспокойство, и с каждой минутой в нем росла уверенность, что в этой женщине было нечто, чем обладал — может быть, не сейчас, а в давние времена — и он сам. Ее взгляд и улыбка, любое ее движение волновали его. И он вдруг понял, что с этого дня каждый вторник и каждую пятницу в пять часов вечера будет приходить в парк “Берлин” с единственной целью: смотреть на эту женщину.
И вот однажды, когда незнакомка была одна, Хулио сел на скамейку рядом с ней. Развернув газету, он некоторое время читал. Потом достал из кармана пачку сигарет, вынул одну и уже собирался снова положить пачку в карман, но вместо этого с нерешительным видом протянул ее незнакомке, и она взяла сигарету. Больше того, она поучаствовала в церемонии, предложив свою зажигалку. Хулио набрал в грудь побольше воздуха и завел ничего не значащий разговор, который женщина с готовностью поддержала. Странно, но создавалось впечатление, что оба старались говорить банальности, словно самым важным было именно разговаривать, а что при этом произносить — уже не важно.
Хулио сразу почувствовал, как напряжение отпускает его. В душе воцарялся мир, которого он бессознательно жаждал с той самой минуты, когда впервые увидел эту женщину. У него было такое ощущение, что его слова сцепляются с ее словами, преобразуясь в некую живую субстанцию, сплетенную из волокон сеть, которая опутывает и соединяет то, что принадлежит каждому из них по отдельности, являясь в то же время для них общим.
Позднее, охваченный одиночеством в своей квартирке с ковролином и бумажными обоями, он обдумывал случившееся, не веря самому себе, и с удовлетворением понимал, что приятные ощущения, которые он испытывает, придают его жизни остроту и заставляют сердце биться быстрее. Надо лишь постараться, чтобы эти ощущения не захватили его целиком и не подчинили себе. Он минуту пофантазировал, что в подобном случае могло бы произойти, но тут же с полуиронической, полуразочарованной улыбкой отогнал эти мысли.
Их последующие встречи более или менее походили на описанную выше, за исключением тех вторников и пятниц, когда он вынужден был делить Лауру с двумя или тремя ее подругами, с которыми она обычно болтала, встречаясь в парке. Впрочем, нельзя сказать, чтобы это ему сильно мешало. Наоборот: все вместе они сплотились в довольно дружную компанию, в которой к Хулио относились с искренним уважением.
Однако, незаметно для остальных, отношения между Хулио и Лаурой развивались. Им не нужно было встречаться наедине — речь шла о тайном союзе, укреплявшемся помимо их воли.
Хулио отдавал себе отчет в том, что происходит, но пока не видел для себя никакой опасности. Он полагал, что общение с Лаурой было его личным делом: так, маленькое интеллектуальное развлечение на фоне парка, которое можно прекратить в любой день, ничего не потеряв, но обогатившись при этом неким ценным опытом.
Он прекрасно проводил время каждый вторник и пятницу в парке, обсуждая с Лаурой и ее подругами их домашние проблемы, серьезность которых измерялась в придуманных самим Хулио единицах, получивших название “домострессов”. Так пролитый на диван в гостиной кофе с молоком равнялся двум домострессам, а детская простуда с высокой температурой тянула на десять. Ссоры с мужем могли — в зависимости от того, насколько накалялись страсти, — колебаться в пределах от пятнадцати домострессов до тридцати. Время от времени та из домохозяек, что набирала за неделю наибольшее количество домострессов, получала символический приз.
Хулио восхищала способность этих женщин смеяться над самими собой и грубоватый тон, которым они говорили о мужьях. Он был солидарен с ними, потому что разделял их чувства и еще потому что эта солидарность давала ему право находиться рядом с Лаурой, не только не вызывая осуждения со стороны ее подруг, но даже с их молчаливого одобрения.
Дети гуляли в стороне от компании взрослых, приближаясь к ним, лишь когда требовалось отстоять право собственности на ту или иную игрушку или пожаловаться на то, что их обижают.
Матери решали проблему на удивление быстро, и решения их были крайне несправедливы.
Дочь Лауры, четырехлетняя Инес, иногда подходила к Хулио и долго пристально смотрела на него, становясь, таким образом, невольным участником их тайного союза, но готовая в любой момент принять сторону матери.
Итак, тайная связь между Хулио и Лаурой все крепла, но ни он, ни она не отдавали себе отчета в том, насколько эта связь сильна, до прошлых выходных, перед которыми не произошло привычной встречи.
Вот почему в этот вторник в конце апреля он входил в парк с душою, полною надежды и страха. Позади были три дня терзаний и сомнений, три дня тревоги, и потому теперь в его глазах, пытавшихся отыскать Лауру, горела даже страсть, что вполне гармонировало с состоянием природы, пробуждавшей в сердце такие забытые чувства, как любовь или страдание.
Он увидел Лауру на ее обычном месте — под ивой, единственной в этом маленьком, почти всегда безлюдном парке. Он с облегчением вздохнул и с деланным равнодушием направился в ее сторону. Инес заметила его издалека, но сразу же отвернулась, и Хулио не пришлось притворяться и изображать радость от встречи с ней.
— Привет, Лаура, — произнес он, садясь на скамейку.
— Привет. У тебя есть сегодняшняя газета?
— Есть.
— Мне нужно кое-что посмотреть.
Хулио подал ей газету, и она, отложив в сторону вязанье, начала перелистывать страницы, словно хотела что-то найти.
Хулио между тем успокоился, волнение в его душе улеглось. Сейчас, когда он был рядом с этой женщиной, переполнявшее его чувство любви перестало быть мучительным.
Они сидели на скамейке одни — другие женщины почему-то не пришли, — вечер был необыкновенно хорош, и ему показалось, что одиночество последних месяцев было случайностью, затянувшейся случайностью, которая скоро минет: пройдет, как проходит все в этой жизни.
— Что случилось в пятницу? — спросил он.
— Дочка приболела. Весенняя простуда. Как обычно.
— Я тоже хожу простуженный. У нее температура была?
— Небольшая.
— Это десять домострессов. А где сегодня твои подруги?
— Повели детей в кино.
— А ты?
— Я не пошла.
Оба улыбнулись.
— Что ты ищешь в газете? — поинтересовался Хулио, помолчав немного.
— Так, ничего особенного. Кое-что о телевидении.
— Инес у тебя такая хорошенькая! — заметил Хулио, глядя на девочку, которая по-прежнему играла в стороне от них.
— Это правда, — благодарно улыбнулась Лаура.
Хулио еще некоторое время смотрел на Инес, словно его интересовали ее игры, а сам в это время думал, что те несколько фраз, которыми они с Лаурой обменялись, едва ли можно считать разговором, что их общение — если это можно назвать общением — происходило не на уровне слов, и даже не на уровне взглядов (хотя последние играли свою, и немаловажную, роль). И все же это было общение, это был разговор — совершенно необъяснимый, происходивший помимо воли собеседников. И разговор этот не прошел для Хулио даром: он чувствовал, как с каждой минутой в нем растет желание, как в его давно разучившейся любить душе вновь разгорается страсть.
И именно потому, когда Лаура сказала, что ей пора уходить, он почувствовал такую тоску, что не смог и не захотел прибегнуть к обычным средствам защиты.
— Подожди, не уходи, — попросил он. — Мне будет тоскливо.
Лаура в ответ заговорщически улыбнулась, разрядив драматизм ситуации.
— Это быстро пройдет, — успокоила она словами и взглядом.
Потом она поднялась со скамейки и позвала дочь. Хулио остался сидеть. Вид у него был подавленный.
На прощанье Лаура оглянулась:
— Ты придешь в пятницу?
— Приду, — ответил он.
Два
На следующий день Хулио проснулся больным. Будильник, встроенный в радиоприемник, вырвал его из липких лап ночного кошмара песней о любви, примитивной и какой-то уродливой: припев был слишком длинный, а строфы — коротенькие и плохо зарифмованные.
Он с трудом поднялся, свесил ноги с кровати и зашелся кашлем. Такое случалось с ним часто, но в это утро к обычным ощущениям прибавились еще болезненные покалывания по всей поверхности груди. Содрогания тела вызвали у него жалость к самому себе. Хотелось сжаться в комочек, но Хулио нашел в себе силы доковылять до ванной. В зеркале над раковиной он увидел свое постаревшее лицо и снова закашлялся так сильно, что ему стало очень стыдно перед своим отражением.
Приняв душ, он почувствовал себя лучше, и решил, что не стоит отменять намеченные на этот день дела, а нужно просто принять какое-нибудь средство от простуды. Но пока он медленно (гораздо медленнее, чем обычно по рабочим дням) брился, он обнаружил в горле и в груди два очага, из которых боль постепенно распространялась по всему телу, поражая всю мускулатуру. Возникшая после душа иллюзия хорошего самочувствия бесследно исчезла к тому моменту, когда он добрил подбородок.
Нужно было приготовить завтрак, и Хулио отправился в гостиную, оборудованную крошечной встроенной кухней. Он то и дело сглатывал, чтобы проверить, в каком состоянии горло. Оно было в ужасном состоянии. Когда, наконец, он сел с чашкой кофе в руках, то почувствовал, как его захлестывает горячая волна жара, и понял, что никакая сила не сможет оторвать его от стула.
Когда приступ прошел, он закурил сигарету, но табачный дым причинил горлу резкую боль. Он начал медленно спускаться в себя самого по воображаемой трубе, состоящей из хрящеватых колец. Спасло его пение канарейки, внезапно раздавшееся из клетки, что висела на вбитом в стену гвозде. “Кажется, у меня жар”, — сказал он птице, которая лишь посмотрела на него искоса без всякого выражения и без малейшего интереса. Подобное равнодушие показалось Хулио странным, и, чтобы канарейка лучше поняла его, он добавил еще одну простую фразу: “Наверное, не стоит идти сегодня на работу”. Птица смотрела на него точно так же, не выказывая ни осуждения, ни одобрения. “Ты похожа на нарисованную птицу”, — еле слышно произнес Хулио, испытывая суеверный страх перед канарейкой, которая вдруг показалась ему наделенной сверхъестественной силой.
После второй чашки кофе он принял решение остаться дома и испытал огромное наслаждение от этого решения — охвативший его жар уже привел его в то странное состояние, когда человек находится как бы между сном и явью. Хулио посмотрел на свой письменный стол, за которым воображаемый писатель (сам Хулио) заполнял гениальными строками стопки чистых листов, и подумал, что жар способствует творческому процессу.
Обшарив весь дом, Хулио, во-первых, нашел колдрекс, а во-вторых, успокоился. Решение уже было принято: он позволит себе роскошь провести в постели пару дней. Или даже больше, если ему не станет лучше.
Мысли о собственной болезни захватили его настолько же, насколько подростка захватывает первая влюбленность. Он позвонил на работу и спросил свою секретаршу:
— Роса, ты помнишь, что вчера я не очень хорошо себя чувствовал?
— Не помню.
— Ты просто не обращаешь на меня никакого внимания.
— А вы, вообще-то кто? Я что-то не узнаю.
— Это Хулио Оргас.
— Голос у тебя сиплый.
— Я умираю.
— А что с тобой?
— У меня боли в груди и в горле. И температура.
— Какая?
— Не знаю. Два года назад, когда я болел в последний раз, у меня сломался градусник.
— У тебя есть аспирин?
— Есть колдрекс. Это то же самое.
— Тогда вот что: позвони врачу, прими лекарство и ложись в постель. И приди в себя: вам, мужчинам, стоит раз чихнуть — и вы уже ведете себя так, будто вот-вот умрете.
— Если будет что-нибудь важное — позвони мне.
— Не волнуйся. Думаю, мы без тебя выживем.
— Спасибо, Роса.
— Да не за что. Выздоравливай.
Повесив трубку, Хулио обвел взглядом книжные полки и достал роман, который двумя годами раньше подарила ему женщина, вскоре после того погибшая в автомобильной катастрофе. В течение всего этого времени он не прикасался к книге из какого-то суеверного страха. Но жар изменил его восприятие окружающей действительности, и Хулио подумал, что сейчас самое время взяться за книгу. На улице было тепло и пасмурно. Темные тучи, все плотнее затягивавшие небо, предвещали скорый дождь. Не хотелось даже смотреть в окно. Хулио лег в постель, раскрыл роман и почувствовал себя счастливым. Очень счастливым. Перед тем как погрузиться в чтение, он некоторое время думал — точнее, мечтал, — о Лауре. Потом, словно желая устранить несправедливость или восстановить равновесие, вспомнил Тересу — женщину, что подарила ему книгу, которую он собирался начать читать. У них с Тересой был роман, и довольно бурный, окончившийся незадолго до ее трагической гибели. Хулио в то время как раз исполнилось сорок, он разошелся с женой, из-за чего у него началось нервное расстройство, и уже через несколько месяцев оно привело его в кабинет психоаналитика, которому с тех пор он отдавал значительную часть зарплаты за робкую, но иногда казавшуюся осуществимой надежду вернуть утерянное душевное равновесие.
Итак, он начал читать. И, добравшись до второй главы, обнаружил, что в книге подчеркнуты некоторые места.
Мысль о том, что подчеркнутые фразы были посланиями погибшей женщины, дошедшими до него с опозданием на два года, вызвала у него чувство вины, которое тут же довольно приятным образом претворилось в ощущение мира и покоя.
Он листал страницу за страницей, отыскивая следы карандаша и одновременно прислушиваясь к некоему невидимому, но подававшему хотя и слабые, но вполне уловимые сигналы присутствию. Сигналы эти становились все отчетливее, и вскоре Хулио уже казалось, что все пространство квартиры и даже многие уголки его души заполнены этим присутствием — расчетливым, наделенным интеллектом и преследующим определенную цель. Он снова стал перелистывать, не читая, страницы книги, пока не натолкнулся на абзац, строки которого были подчеркнуты красной шариковой ручкой. Идеи в этом параграфе были изложены совершенно тривиальные, так что Хулио перечитал его несколько раз в надежде найти скрытый смысл подчеркивания. К этому времени незримое присутствие заполняло уже все его существо. Он отложил книгу в сторону и закрыл глаза, готовясь к нападению. И вдруг воздух сделался густым, и до слуха Хулио донесся словно шум крыльев, сопровождаемый глухим постукиванием.
Он в испуге вскочил и хотел закричать, спросить, что происходит, но в горле словно ком застрял, и он мог произносить фразы лишь мысленно. Повинуясь безотчетному порыву, он побежал к дверям, ведущим в гостиную. Кинув взгляд на клетку с канарейкой, он увидел, что дверца ее распахнута и птицы там нет. Испуганная канарейка летала под самым потолком и билась то в стены, то в оконное стекло.
Хулио восстановил дыхание и стал ждать, пока птица вконец выбьется из сил и ее можно будет поймать. В конце концов, канарейка забилась в угол и застряла между стеной и книжным шкафом. Хулио осторожно приблизился к ней и с третьей попытки поймал, накрыв ладонью. Сердечко птицы билось с тем же отчаяньем, какое было и в ее глазах. Хулио отнес канарейку в клетку, удостоверился, что дверца надежно заперта, и, совсем обессиленный, вернулся в спальню.
В этот момент вторжение прекратилось. Силы, которые еще миг тому назад рвались захватить окружающее пространство, начали постепенно отступать, и через несколько секунд все вернулось в обычное состояние. Перед тем как лечь в постель, Хулио спрятал книгу в ящик тумбочки — чтобы не видеть.
Лежа с закрытыми глазами, он пытался вспомнить лицо Тересы. Когда ему казалось, что он уже ясно видит ее черты, они вдруг расплылись, неуловимо изменились, и перед мысленным взором Хулио возникло лицо Лауры. Какое-то время два эти лица сменяли одно другое, словно были двумя разными лицами одного и того же человека. Хулио с ужасом, усиленным болезненным состоянием, в котором он пребывал, воспринял это открытие. Ему было сорок два года, и он никогда не верил — исключая, возможно, годы ранней юности, — что человек может прожить больше, чем одну жизнь. Но потом он познакомился с женщиной по имени Тереса Сарго, в которую влюбился, как не влюблялся раньше никогда ни в кого. Их тайные встречи происходили в малолюдных барах и в крошечных отелях из папье-маше, где все настраивало на лирический лад и все, от стойки администратора до таракана в ванной, было фальшивым.
Это было странное время, когда счастье перемешивалось с печалью: ведь счастье и печаль суть ипостаси одного и того же явления, имя которому — любовь. Хулио никогда не отличался красноречием, но в те вечера, которые он провел с Тересой и которые изменили его жизнь, ему случалось говорить долго и достаточно умно и интересно.
Темное присутствие Тересы (она была женщиной темной — с темными глазами и темными волосами, темной была даже полоска пробора, место, через которое в голову приходят идеи) пробуждало в нем желание отыскивать логические связи, решать нерешаемые задачи с помощью той неясной субстанции, которую порождает любовь. Именно в то время, когда рядом с ним была Тереса (раньше, если ему и хотелось проявить себя в творчестве, то только в писательском), Хулио обнаружил в себе ту странную способность, от которой впоследствии стала зависеть его жизнь. Этой способностью, которую в какой-то момент он счел даже талантом, он был обязан, конечно же, Тересе. По тайным каналам она перетекала из Тересы в него и проявлялась в те незабываемые вечера (не в каждый из них), которые вспоминались ему теперь как робкая попытка контакта с абсолютным.
Она являлась на свидания — хрупкая, утонченная, раскованная — с десятиминутным опозданием. Но в ее глазах светилось такое обожание, такая любовь, что, едва встретившись с нею взглядом, Хулио забывал обо всем, с головой погружаясь в тот восхитительный космос, который звался Сарго (или, по-другому, — Тереса) и по сравнению с которым все остальное теряло всякую значимость. Случалось, Хулио забывал даже о времени и о том, что оно кончается. Им приходилось встречаться тайком, и у них почти не было денег, но это не имело для них никакого значения: в их отношениях не было места расчету, господствовавшему в обыденной жизни.
Они выбирали для свиданий бары и кафе, где собираются пенсионеры или юнцы. И в этих барах и кафе происходили чудеса. Первое чудо заключалось в том, что Хулио вдруг становился чрезвычайно красноречивым. Он говорил и говорил, прерываясь лишь на несколько мгновений, чтобы сделать глоток или насладиться производимым эффектом, глядя в блестящие от восхищения глаза Тересы.
Не меньше были они счастливы и в отелях, где время казалось сотканным из бесчисленных мгновений, каждое из которых тянулось вечность. Опьяненные счастьем, проникали они в крохотные номера, останавливались как можно дальше от кровати и долго стояли, глядя в глаза друг другу, замерев от необъятности желания, которое каждый читал во взгляде другого. Хулио поднимал руки и оттягивал воротник свитера Тересы, так чтобы стала видна бретелька той восхитительной детали одежды, что защищала и делала еще притягательней нежные груди его любимой. А потом они переступали черту, за которой не было иных ограничений пространства, кроме объема их собственных тел. Ведомые мудростью, наличия которой в себе ранее и не предполагали, они, не задумываясь над этим, воплощали свои давно забытые любовные фантазии, предавались отроческим играм сладостного — иногда мягкого, иногда несколько жесткого и даже жестокого — подчинения себе и покорности другому. Каждая частичка тела Тересы превращалась в источник наслаждения для обоих, подтверждением чего служили ее стоны и всхлипывания. Апогей заставал их на ковре в самых удивительных позах — лишнее доказательство того, что возможности человеческого тела безграничны.
И все-таки картина будет неполной, если не сказать еще об одной неотъемлемой составляющей тех дней — о горечи, которая примешивалась к счастью и создавала то особое состояние, которое оба они называли любовью. Потому что ведь не стали же они богами, не создали своего маленького космоса, в который не в состоянии проникнуть никакие нужды и потребности. Хулио потом часто думал о том, какая странная штука — любовь: возникает из необходимости того, из-за отсутствия чего по истечении отпущенного ей срока исчезает.
Горечь, которая в начале их отношений обычно проявлялась в чистом виде, заставляла их чувствовать острее, привносила в их счастливые встречи нотку грусти, без которой не обходится ни одна история любви.
Однажды дождливым октябрьским вечером они нашли приют в старом баре, посетителями которого были старики, коротавшие одинокие вечера за чашкой кофе с молоком и стаканом воды, атмосфера там была настолько тяжелой, что даже разговор не клеился.
Слова Хулио собирались в сгустки и комки, которым мозг отказывался придать хоть какой-нибудь смысл. И вдруг он почувствовал, как в груди у него защемило. Он сразу понял, что начинается приступ беспричинной тоски, и попытался снять его тем способом, каким всегда пользовался в подобных случаях. Он уставился в одну точку и замер, как рептилия, наметившая жертву. И тогда боль стала ослабевать, хотя и начала распространяться концентрическими кругами, заполняя всю грудь.
Тереса догадалась, что с ним происходит, и несколько секунд молчала, давая Хулио прийти в себя, а потом предложила покинуть бар.
На улице шел дождь, но это был теплый весенний дождик, несмотря на то, что уже давно давала о себе знать осень. Они добежали до машины Хулио, припаркованной на одной из соседних улиц, и забрались в нее, мокрые и счастливые. Звук бьющих по крыше машины капель усиливал ощущение одиночества и защищенности — то самое ощущение, которое было им необходимо в ту минуту. Тоска, сжимавшая сердце Хулио, уменьшилась настолько, что стала даже приятной. Она еще более сближала любовников, как сближает огонь костра или камина. Через несколько минут они заметили, что стекла машины — возможно, от их дыхания или от тепла их тел — запотели изнутри. Дождь лил все сильнее, а они были в надежном укрытии. Они стали целовать друг друга, словно желая слиться воедино с помощью губ и языка. На Тересе был тонкий свитер со свободным, низко спущенным воротником, и Хулио, оттягивая свитер, целовал ее плечи, разделенные почти пополам тоненькими бретельками. Его руки казались на удивление опытными, а ее — теряли силы с каждым мгновением, и он жадно следил за тем, как она все больше и больше отдается ему, возвращая сторицей каждое доставленное им удовольствие. Но когда в минуту самого большого наслаждения он заглянул ей в глаза, то вдруг увидел в них ту самую тоску, которую испытывал сам, и обе их печали слились, придавая особенную остроту наслаждению.
В тот день произошло кое-что необычное, а именно: в миг, когда Хулио почувствовал, что больше ему не выдержать, и опустил спинку сиденья, чтобы, не теряя ни минуты, овладеть Тересой, он вдруг услышал ее шепот: “Я видела странного человека”. Хулио тут же посмотрел в окно, но сквозь запотевшие стекла не было видно ничего, кроме крупных дождевых капель, каждая из которых еще больше отделяла и защищала Хулио и Тересу от всего мира. Он увидел лишь мелькнувшую за окном тень, даже силуэт которой было невозможно четко различить — вероятно, прошел человек под большим зонтом. Тогда Хулио подумал, что Тереса просто что-то вспомнила или, погруженная в свои мысли и ощущения, произнесла эти слова, вовсе не обращаясь к нему. Но его поразило, насколько точно фраза, произнесенная Тересой, передавала то непреходящее чувство вины, которое испытывают оба партнера в адюльтере.
Нет, печаль не мешала их счастью. Скорее она усиливала его и даже, можно сказать, упрочивала. В один прекрасный день Хулио понял, что не представляет себе, какими были бы их с Тересой отношения без этого привкуса горечи, без постоянного ощущения тревоги.
Со временем, однако, чувство вины и чувство печали слились в единое целое, и это положило начало той медленной эрозии, которую они оба замечали, но о которой никогда не говорили. Так однажды, когда Хулио уже терял над собой контроль, лаская шею Тересы, она вдруг сказала: “Пожалуйста, постарайся не оставлять следов”. Слова Тересы мгновенно погасили его порыв, хотя ей вовсе ни к чему было их произносить: Хулио в подобных вещах и без того был крайне осторожен, не столько потому, что определил границы, которые не позволял себе переступать, сколько потому, что это придавало их запретным играм еще большую остроту. Он полагал, что любовь есть воплощение забытых фантазий, есть, в своем роде, спектакль, а потому и участники его должны следовать в своих поступках тем же правилам, каким подчиняются актеры на сцене. С другой стороны, Хулио считал просто неприличным оставлять какие-то следы любовных утех на теле замужней женщины. Он был убежден, что любовник, поступающий подобным образом, добивается только одного: нанести оскорбление мужу, вступить с ним в открытое соперничество. Для Хулио подобное поведение было неприемлемо: любовник всегда находится в намного более выгодном положении, чем муж, и некрасиво подчеркивать свое преимущество.
С того дня в их отношениях наметилась трещина. Еще более разрослась она по вине самого Хулио. Однажды они с Тересой решили сходить в кино. Прежде у них никогда не возникало желания туда пойти, но сейчас оба, не признаваясь в этом друг другу, захотели внести в отношения новую ноту, что-то изменить, хотя бы встретиться в каком-то новом месте, а не в одном из давно приевшихся баров и укромных отелей.
Они выбрали кинотеатр в центре города — Тересе понравилось название фильма, который там шел. Хулио заранее, за два дня, купил билеты и заранее же передал Тересе ее билет: они решили, что будет лучше прийти в кинотеатр порознь. Договорились, что встретятся уже в зрительном зале, куда каждый войдет только после того как погасят свет.
Хулио опоздал на десять минут, но, когда капельдинер с фонариком провел его к месту, он с удивлением увидел, что кресло Тересы свободно, что ее еще нет. Хулио попытался сосредоточиться на том, что происходило на экране, но это ему не удалось. Посмотрев по сторонам, он решил, что они выбрали для встречи слишком людное место: зал был полон, единственное место, остававшееся свободным в его ряду, было место слева от Хулио — то самое, которое должна была занять Тереса. Он попытался незаметно рассмотреть лица окружавших его зрителей, но мог разглядеть в темноте лишь смутно очерченные профили, в которых, однако, его фантазия, подкрепленная чувством вины, заставляла узнавать то одного, то другого знакомого. Меж тем время шло, и Хулио уже начинал нервничать. Он окончательно уверился в том, что место для встречи выбрано неправильно. Темнота и одиночество усиливали его тревогу. Пустующее кресло рядом уже казалось Хулио убедительным доказательством неверности Тересы, и, испугавшись, он несколько раз суеверно скрестил пальцы, чтобы отогнать беду. Но вдруг он почувствовал какое-то движение слева от себя и увидел, как кто-то с трудом пробирается в его сторону, протискиваясь между спинками кресел и коленями сидящих.
Тереса села слева от Хулио, однако ни один из них не повернул головы в сторону другого. По прошествии нескольких минут Хулио успокоился и, не отрывая взгляда от экрана, коснулся локтем локтя соседки. Она никак не ответила на прикосновение, и у него мелькнула мысль, что, возможно, рядом с ним сидит не Тереса, а ее подруга или какая-нибудь другая женщина, посланная ему Тересой в качестве подарка. Мысль эта взволновала Хулио, заставив тут же забыть все пережитые мучения, и через некоторое время он, под прикрытием брошенного на подлокотник кресла плаща, уже ласкал руку соседки, размышляя о том, что всякий адюльтер может привести к подобного рода удвоениям, поскольку, когда противозаконная связь с одним человеком приобретает устойчивый характер, возникает болезненная необходимость и этому человеку тоже изменить. “Жизнь, — подумал он, беззвучно шевеля губами, словно произнося слова вслух, — это погоня за чем-то недосягаемым, что всегда оказывается впереди, иногда за линией горизонта, иногда за границей жизни и смерти”.
Когда рука Хулио забралась уже очень высоко под юбку соседки, а ее рука легла на самую чувствительную часть его тела, что-то почти неуловимое — запах духов, какое-то движение соседа по ряду, какое-то слово, прозвучавшее с экрана — резко вернуло его к действительности — к печали, к чувству тревоги. Он медленно убрал руки и отстранился от Тересы, которая (возможно, потому, что ее обидело такое поведение), не говоря ни слова, встала и вышла. Хулио испытал одновременно стыд и облегчение.
Некоторое время после этого они не встречались и даже не звонили друг другу. Наконец однажды Хулио позвонил ей на работу, и они договорились вечером встретиться. Встреча получилась напряженная. Хулио начал говорить о своем уходе от жены, и это поставило его в невыгодное положение: получалось так, что подтекстом его рассказа было скорее сообщение об одиночестве и беспомощности, чем о свободе и независимости.
— Почему вы расстались? — спросила она.
— Ну, решение приняла она. Она уже много раз начинала разговор о разводе, но, пока мы с тобой встречались, мне удавалось удерживать ее. А после нашего с тобой разрыва брак потерял для меня смысл.
— Супружеские измены укрепляют семью, — с некоторой долей жестокости заметила на это Тереса.
Хулио не знал, что ответить. Присутствие Тересы уже не порождало той субстанции, которая прежде питала его красноречие. Кроме того, в поведении Тересы угадывался скрытый упрек, и Хулио завладели чувство вины (за то, что допустил разрыв между ними, и, возможно, даже за то, что стал причиной возникновения той трещины, которая и привела к разрыву) и тоска по невозвратным вечерам, составлявшим его счастье в течение многих недель. Прощание вышло натянутым, они даже не поцеловались. Хулио попытался придать сцене долю драматизма:
— Мне хотелось бы унести что-нибудь на память о тебе?
Тереса иронично улыбнулась и достала из сумки книгу:
— Возьми. Это роман. Мне осталось дочитать одну главу, но, думаю, что мне уже неинтересно.
Хулио вернулся домой, поставил книгу на полку и сел ждать, когда закончится жизнь.
Через несколько месяцев ему позвонили. Какая-то женщина назвалась подругой Тересы. Она назначила Хулио встречу в одном из баров в центре и там сообщила: “Тереса умерла”.
— Как умерла?! — в смятении воскликнул он.
Женщина рассказала, что в последние месяцы Тересу часто видели с одним мужчиной, с которым они вместе пили.
— На прошлой неделе они возвращались из какого-то отеля за городом и не справились с управлением на повороте. Муж Тересы попросил близких друзей никому не сообщать о похоронах. О твоем существовании я знаю от Тересы. Она много о тебе рассказывала. Я подумала, что ты должен знать.
— Спасибо. А как он?
— Кто?
— Тот, кто был с ней в машине.
— В больнице. Весь переломанный, но, похоже, выберется.
— У тебя есть его телефон или адрес?
— Кажется, есть. Подожди.
Она порылась в сумке и вынула записную книжку. Написала на листке бумаги адрес и отдала Хулио, который уже не знал, что ему делать с этим адресом и зачем он его попросил. Спрятав листок на всякий случай, он задал последний вопрос:
— Кто был за рулем?
— Он.
Выходя из бара, Хулио чувствовал такую усталость, какая бывает после многочасового физического труда.
Было холодно и слякотно. Он шел к оставленной на парковке машине с ощущением, что переживает самый тяжелый момент в жизни. Он вспомнил в хронологическом порядке все потери, понесенные им за сорок лет, и почувствовал себя слабым и несчастным. Мучительно хотелось плакать, но он сдержался.
Три
Когда зазвонил будильник, Лаура резко села в постели, быстро опустила рычажок, заставив будильник замолчать, и некоторое время смотрела на мужа, который, перекатившись на середину кровати, крепко спал в своей помятой голубой пижаме.
С трудом разлепив веки, она встала с кровати, добрела до ванной и долго стояла там перед зеркалом — смотрела, какое у нее лицо в этот ранний час. Она пыталась посмотреть на себя чужими глазами: ей хотелось понять, осталось ли что-нибудь от ее привлекательности после восьми часов сна рядом с Карлосом. К счастью, зеркало не отражает ни запаха изо рта, ни нервного спазма в желудке, ни ощущения липкой от высохшего пота кожи — ночью ей всегда было жарко, она винила в этом своего начинающего полнеть мужа. Она почистила зубы, слегка поправила волосы и еще раз оценивающе посмотрела на себя, на этот раз — на плечи, на прямоугольный вырез ночной рубашки и маленькие холмики грудей под струящейся белой тканью. Осмотр ее в целом удовлетворил.
Потом она включила кофеварку и разбудила мужа.
— А что, будильник уже звонил? — спросил он спросонок.
— Да, — ответила она. — Ты его никогда не слышишь.
Часы показывали половину восьмого. Одна она останется дома не раньше, чем в девять, а до того времени нужно еще разбудить и одеть дочку, а потом проводить ее вниз и посадить в школьный автобус.
На кухню пришел Карлос. Глаза у него были сонные, казалось, он еще не совсем проснулся. Карлос подошел к столу — точно к тому месту, где жена каждое утро ставила для него кофе.
— Как спать хочется! — пожаловался он и, не услышав ничего в ответ, спросил, выждав некоторое время:
— У тебя все хорошо, Лаура?
— Все нормально. А что?
— Просто ты в последнее время какая-то напряженная. К тебе не подступиться.
— Устала немного, — попыталась закрыть тему Лаура.
— Ты полагаешь, у тебя есть причины для того, чтобы чувствовать себя усталой? — тон был ровный, спокойный, в нем не слышалось участия.
— Карлос, прошу тебя, не разговаривай со мной так. Я тебе не пациентка.
— Ты в этом уверена? — На этот раз в его голосе слышался явный сарказм.
Лаура посмотрела на часы:
— Пойду разбужу Инес.
Пока она занималась дочкой, зазвонил телефон. Карлос снял трубку, обменялся с кем-то несколькими фразами, потом выглянул в коридор и крикнул:
— Звонила домработница. Она сегодня не придет, у нее сын заболел.
— Спасибо, — ответила Лаура из комнаты дочери.
Минуты между тем шли, и стрелки часов показывали уже без четверти девять.
Карлос, одетый, вошел в кухню, приласкал дочку, которая в это время завтракала, и попрощался с Лаурой. Он попытался приласкать и ее, словно хотел утешить, но жена не ответила на ласку. Еще через десять минут мать и дочь спустились вниз. Вскоре подъехал школьный автобус и увез девочку.
Лаура вернулась домой. Сварила кофе, взяла сигареты и устроилась на своем любимом месте — в гостиной у большого окна. Напряжение, которое нарастало в ней с того самого момента, как она проснулась от звонка будильника, стало постепенно ослабевать. После третьего глотка кофе она почувствовала себя почти счастливой. Она достала сигарету, закурила. Какое наслаждение быть одной! Это почти то же самое, что быть с Хулио.
И вскоре она уже беседовала с ним. Она представила, что в дверь позвонили, и, когда она открыла, на пороге стоял Хулио. Он шепотом спросил, есть ли дома кто-нибудь еще, а она ответила, что нет, что она одна. А он сказал, что не смог дождаться пятницы и ему удалось каким-то образом узнать ее адрес. А она пригласила его войти, и они вместе позавтракали, а потом пили кофе и курили. А потом она стала рассказывать ему о той тайной жизни, что зародилась в ней после их первой встречи. Медленно, подбирая самые точные слова, она рассказывала, как питала и растила в себе эту тайную жизнь, пока месяц за месяцем ползли, добираясь каждый до своей высшей точки, и потом обрушивались, погребая под собой надежды и неудачи, тревоги и победы повседневного бытия. И о том, как она постепенно училась жить двойной — одна из них тайная — жизнью на глазах у других людей, наделенных, как ей казалось, каким-то странным, общим для всех свойством, которое позволяет им направлять всю свою энергию только на то, что они делают, и не отвлекаться, подобно Лауре, ни на что другое. Она рассказывала, как вскармливала свою любовь, и как вместе с любовью крепла и страсть, и как они обе набрали такую силу, что равновесие между двумя жизнями обессиленной Лауры стало нарушаться: перевесила та, что была важнее — тайная жизнь. И Лаура, прежде такая заботливая и внимательная, вдруг перестала волноваться из-за того, что у дочери корь, забыла про день рождения мужа, забросила свою коллекцию марок и уже готова была переложить все свои заботы на плечи окружающих ее людей, поскольку у нее не осталось больше желаний. Кроме одного: укрыться в том уголке души, который был известен только ей и в котором можно было вести нескончаемые беседы с ним — с тем, с кем она жила на подземных вызолоченных улицах, существовавших лишь в ее больном воображении.
— Это нелегкая жизнь, — произнесла она вслух, — тяжкая, как наказание богов, но в то же время соблазнительная, как подношение дьявола.
Ей понравился финал, и она решила на этом закончить. Посмотрела на часы и увидела, что фантазии отняли у нее всего двадцать минут. Но продолжать она не могла и не хотела — слишком устала.
Она позвонила матери, и у них состоялся самый обычный разговор, главной темой которого была очередная простуда Инес. Повесив трубку, она пожалела об этом звонке: ее раздражала зависимость от матери, но еще больше раздражала собственная неспособность разорвать эту их связь, похожую на паутину, по краю которой передвигались они обе, пристально следя друг за другом и подмечая малейший промах.
Она прибрала немного в гостиной, потом заправила постель дочери. Когда очередь дошла до спальни, Лаура решила прилечь и поспать немного. Лежа на спине и глядя в потолок, она думала о том, насколько больше нравится ей ее квартира, когда она остается в ней одна. Карлос превратился в гостя — чужого, неудобного человека, который, однако, спал рядом с Лаурой и был к тому же отцом ее дочери.
Через несколько минут она почувствовала, как ею овладевает ей самой непонятное желание. По телу пробегала дрожь, щеки полыхали. Тогда она устроила рядом с собой под одеялом местечко для Хулио и продолжила разговор с ним. Время от времени она отводила волосы со лба или проводила рукой по плечу, так что бретелька ночной рубашки опускалась все ниже и ниже, давая возможность увидеть намного больше, чем обычно позволял вырез. Разговаривая с Хулио, она не упускала из виду эти маленькие детали — шла генеральная репетиция спектакля, которому, возможно, не суждено было состояться. Вскоре она уснула, и ей приснилось, что она эмигрантка в далекой стране и уже двадцать лет или даже больше, как потеряла связь со своей матерью, так что не знала, где та сейчас и жива ли. Ее историей заинтересовался один из телеканалов. Журналисты разыскали ее мать, которая проживала в маленьком селении на севере Испании и была уже при смерти. Телевизионщики оплатили поездку Лауры в Испанию, с условием, что им будет позволено снять момент трогательной встречи матери и дочери. Лаура прибыла в селение, в котором жила мать. Там ее встретила целая официальная делегация и препроводила к ложу умирающей, где уже все было приготовлено для волнующей сцены. Лаура вошла в комнату и склонилась над старушкой. Они посмотрели друг другу в глаза и тут же поняли, что произошла ошибка: умирающая старушка не была матерью Лауры, а Лаура не была ее дочерью. Но каждая прочитала во взгляде другой нежелание разочаровывать многочисленных телезрителей (а может быть, они не хотели разочаровываться сами?), и они обнялись, заливаясь слезами.
Ее разбудил телефонный звонок. Звонила мать, которая сразу же почувствовала, что Лаура чем-то расстроена.
— Ты что, спала? — в голосе матери прозвучал укор.
— Просто домработница сегодня не пришла, и я немного устала, — извиняющимся тоном ответила Лаура.
— Не думаю, чтобы у тебя для этого была причина, дочка. Ты прибрала в доме?
— Наполовину.
— Тебе следует наладить отношения с Карлосом. Вчера мы с твоим отцом говорили об этом. Мы оба очень беспокоимся, потому что замечаем, что у вас не все ладно.
— Тебя волнует только то, что и другие это замечают, — сердито ответила Лаура.
— С тобой невозможно разговаривать, — услышала она в ответ. — Пойми, мы волнуемся, потому что любим вас.
— Не вмешивайся в мою жизнь, мама, — резко оборвала разговор Лаура и бросила трубку.
Она встала с постели. Сон окончательно испортил ей настроение. Она поставила греться кофе и почистила зубы. Потом закончила уборку в доме и надела халат — предстояло еще прибрать в приемной и в рабочем кабинете мужа, которые находились на верхнем этаже того же дома.
Это было просторное помещение с большими окнами. Позолоченная табличка на двери гласила: “Карлос Родо, психоаналитик”. Лаура кусочком замши натерла табличку до блеска. Потом вошла в приемную и смахнула пыль со стола и с книг. Порылась в картотеке, а затем села на диван и представила, что она пациентка. Потом представила, что Хулио — психоаналитик и что он слушает ее из угла комнаты, который ей не виден. Покончив с фантазиями, она вдруг поняла, что испытывает злость на Карлоса за то, что, в отличие от нее, он располагал местом, где можно укрыться, спрятаться от всех и вся. Она поднялась и грязной тряпкой еще раз прошлась по столу и по дверцам книжного шкафа. Стекла и без того не сияли чистотой, а теперь на них появились еще и мутные разводы, но на этой неделе стекла мыть не полагалось. Выплеснув злость, Лаура снова принялась фантазировать. Она представила себя вдовой. Ей позвонили по телефону из больницы, где работал Карлос, и сообщили, что ее муж в очень плохом состоянии.
— Что с ним?! — спросила она.
— Готовьтесь к худшему, — ответили ей.
Он умер от инфаркта, а она, совершенно очевидно непричастная к его смерти, тем не менее почувствовала себя виновной и поспешила укротить фантазию, прежде чем решит воспользоваться своим вдовством так, как она этого желала.
Кое-как закончив уборку, она спустилась по лестнице к себе домой. Подходя к дверям квартиры, она почувствовала сильный запах горелого. Лаура вбежала в кухню и выключила газ. Кастрюлька, в которой грелся кофе, была вся черная, эмаль на дне потрескалась. Лаура прислонилась к холодильнику и безутешно рыдала несколько минут. Потом отмыла плиту и вернулась в гостиную. Подошла к стоявшему у окна письменному столу, достала из потайного ящика свой дневник, села и начала писать:
“У меня сгорел кофе. Уже второй раз за неделю со мной случается подобное. Если я не буду внимательной, дело кончится несчастьем. Я только что вернулась из приемной Карлоса. Сидела там на его диване — или на диване его пациентов — и размышляла. Пришла к выводу, что он отнял у меня единственное, что мне принадлежало (впрочем, и это тоже было не совсем мое), потому что деньги, на которые он открыл кабинет для частной практики, дал мой отец.
Я не хочу винить мужа во всем, что со мной происходит. Но мне действительно кажется, что он ограбил меня, выпил мою кровь. С того дня, как мы поженились, вся наша жизнь j подчинена его интересам, интересам его карьеры. Я постепенно отказалась от всех своих стремлений, чтобы помочь ему достичь поставленной цели, и сейчас, когда он добился успеха, я не знаю, какая часть этого успеха принадлежит мне. Конечно, я могла бы, по примеру многих моих подруг, не бросать работу выйдя замуж. Но Карлос осторожно и умело сужал круг моих занятий и интересов и постепенно сделал из меня то, чем я сейчас и являюсь: вечно ноющую домохозяйку — тип женщины, который я ненавижу.
А теперь мое время ушло. Женщине вообще следует работать и получать зарплату, чтобы не превратиться в прислугу мужа, живущую на его деньги. Конечно, внешне все выглядит не так. Мы с мужем в некотором смысле образцовая пара. У него хорошее образование, и он прекрасный специалист. Я тоже окончила университет и работала, но оставила работу, потому что мне больше нравится заниматься семьей и домом. Но это только внешне. На самом деле все ложь. Парк полон лжи.
По ошибке я написала “парк полон лжи”, хотя хотела написать “мир полон лжи”. Не знаю, стоит ли сейчас писать о парке и о X.? Раньше я о нем уже кое-где упоминала. Кстати, нужно набраться смелости и спросить у него, почему он всегда приходит во вторник и в пятницу, и никогда не появляется в другие дни. Впрочем, мне почему-то кажется, что сегодня — хотя это не вторник и не пятница — он тоже появится. Подойдет своим птичьим шагом и будет такой же мрачный и нелюдимый. И все, хватит о нем, а то напишу что-нибудь, чего писать не надо.
Вчера вечером, сидя за вязаньем, я еще раз удостоверилась, что если смешать слова ‘конкретный’ и ‘абстрактный’, получишь ‘абскретный’ и ‘контрактный’, а если смешать ‘душа’ и ‘крыло’, получится ‘крыша’ и ‘дуло’, а вот если смешать ‘река’ и ‘рука’, то ничего, кроме ‘река’ и ‘рука’ не получится. Ничего не могу придумать со ‘счастье’ и ‘горе’. Получается ‘счаго’ и ‘ретье’ — бессмыслица. И еще: что делать с ‘сердцем’ и ‘разумом’?” Она закрыла дневник и снова спрятала его в потайной ящик стола. Посмотрела на часы и вынула из морозильника мясо. Потом удобно устроилась в кресле и взяла вязанье из стоявшей рядом плетеной корзинки.
Спицы мелькали, а Лаура думала, и вскоре связала три идеи и четыре или пять фантазий (это кроме изрядного куска свитера для Инес). Потом она перестала думать и фантазировать и начала повторять в такт движениям спиц: “Что так, что этак дальше будешь; у семи нянек дитя в мутной воде; в тихом омуте не суйся в воду; будь как дома, а табачок врозь; тише едешь людей насмешишь; любишь кататься готовь сани летом; сколько веревочке ни виться, а провожают по уму; всяк кулик и швец жнец...”
Четыре
В пятницу он все еще чувствовал себя неважно, но температура уже спала, так что он решил пойти на работу: его приводила в ужас мысль, что придется провести еще один день под назойливой опекой матери.
В среду, когда ему было особенно плохо — после историй с канарейкой и подаренной Тересой книгой, — его разбудили чьи-то шаги в гостиной. Ему снился кошмар, и от звука чужих шагов сердце его забилось и во рту пересохло.
— Кто там? — выговорил он наконец.
— Это я, сынок, — послышалось из гостиной. Дверь спальни приоткрылась, и в нее заглянула мать Хулио. — Я позвонила тебе на работу — хотела напомнить, что завтра у отца день рождения, и Роса сказала, что ты заболел. Я тут пыталась прибрать немного до прихода врача. Извини, что разбудила.
Хулио в третий раз за месяц пожалел, что в минуту слабости дал матери ключи от своей квартиры.
Мать вошла в спальню и начала привычно и деловито наводить порядок. Провела рукой по одеялу, разгладив складки, и тем же самым жестом провела рукой по лицу сына, не разгладив, однако, его первых морщин.
— У тебя жар, — сказала она. — Надеюсь, ты уже позвонил.
— Кому позвонил?
— Врачу, конечно, кому же еще?
— И не подумал.
— Ах, боже мой! Где у тебя записная книжка?
После недолгих препирательств Хулио сдался. Мать позвонила врачу и вновь принялась переставлять все в квартире на свой лад.
— Сварить тебе кофе, сынок?
— Лучше приготовь сок. Очень горло болит.
— Апельсины у тебя есть?
— Есть лимоны. В холодильнике.
Если накануне вечером у него болело только горло, то за ночь боль захватила еще и уши и верхнюю часть бронхов. Он испугался: а что, если он не поправится к пятнице? В пятницу у него встреча с Лаурой и с психоаналитиком. Он приподнялся на локтях и повернул голову, чтобы посмотреть в окно. За окном лило как из ведра.
В гостиной затрезвонил телефон. Мать подбежала к аппарату и сняла трубку. Звонила Роса. Разговор был странный. Хулио показалось, что женщины что-то замышляют против него. Напрягая слух, он расслышал несколько отрывочных фраз:
— Даже врачу не позвонил... прямо беда... в один прекрасный день... я так переживаю...
— В каком-то фильме... книги... Сколько ты платишь за свет?
— Кошмар какой... стирка три раза в неделю... Утюг...
— Нет, я здесь останусь... поест... ужас, а не сын.
Когда, повесив трубку, она вернулась в спальню, Хулио спросил спокойным тоном:
— Как ты можешь так разговаривать с незнакомым человеком?
— Я ее знаю. Мы по телефону много раз говорили, — обиделась мать.
— Этого недостаточно, чтобы рассказывать сколько раз в неделю ты стираешь или сколько платишь за свет.
— Да? И о чем тогда мне с ней говорить? О личной жизни?
— Стирка и счета за электричество — это и есть личная жизнь, мама, — ответил Хулио все так же спокойно.
— Это для тебя они личная жизнь, потому что у тебя другой нет. Кстати, чтобы ты знал: это Роса мне позвонила и сказала, что ты заболел. Видно, тебя-то она хорошо знает.
— Значит, про день рождения отца ты соврала?
— Да, соврала. И не вздумай позвонить ему — сам знаешь, какой он обидчивый.
— Не могу больше, — пожаловался Хулио: боль в голове стала невыносимой.
— Странный ты человек, — ответила она, продолжая прежнюю тему. — Всем и всегда недоволен. А люди должны помогать друг другу. Как же ты плохо выглядишь! Приляг поспи, пока врач не пришел.
Сама, однако, не замолчала, и не вышла из спальни, а продолжала говорить, бесшумно переставляя предметы и нарушая тот порядок, который время, пыль и отсутствие любви давно уже установили в спальне одинокого мужчины.
Хулио сжался в комок под одеялом. Он лежал с открытыми глазами: стоило их закрыть, как боль, пробегавшая по короткому кругу (горло — уши — лоб, в самой его глубине), усиливалась.
Поместив в скобки мать и ее голос, Хулио обвел глазами спальню, и ему показалось, что она, вместе со всем в ней находившимся, включая самого Хулио, отделена от общего процесса, превратилась в самостоятельную единицу, далеко отстоящую от тех мест, где происходят события. То есть комната, дверь, электрическая лампочка и его собственная мать, нервно пытавшаяся выбраться за стенки скобок, представляли собой клочок времени, настолько ветхий и истершийся, что, казалось, длился и воспроизводился в пространстве сам по себе, не оставляя следа в памяти. Прошло несколько секунд, и это ощущение еще более усилилось. Хулио подумал, что, возможно, в другой — реальной — реальности, они уже умерли, может быть даже много веков назад. Слова, произносимые его матерью — шумный, нескончаемый поток, словно струя, льющаяся из крана, были, следовательно, словами, произносимыми трупом, но это не придавало им никакого особенного смысла. И тогда Хулио закрыл глаза, сжался еще больше и вдруг услышал тихие, словно тоже проникавшие из какого-то другого, ограниченного и безымянного времени, первые такты “Интернационала”.
Но худшее произошло в четверг. Мать поставила перед ним поднос с обедом, состоявшим из чашки бульона и куска вареной рыбы, а сама села в изножье кровати. Хулио поднес чашку к губам и вдруг почувствовал какой-то давно забытый запах, неразрывно связанный с его жизнью и таившийся в каком-то самом дальнем уголке его обонятельной памяти, словно в ожидании сигнала извне, который позволит ему разорвать волокнистую капсулу, куда он был заключен, попасть в кровь и вместе с нею распространиться по всему телу, заполнив каждую клеточку.
Хулио отставил чашку, и мать тут же встрепенулась:
— Надо поесть, сынок. Даже если не хочется.
— Немного пресно, — попытался отвертеться Хулио.
— Лекарства тебе весь вкус отбили. Я положила кусочек ветчины, куриную ножку — она самая вкусная, — морковку, порей, лук...
От перечисления ингредиентов Хулио стало еще хуже, но он сделал несколько глотков, думая о том, что руки матери пробудили в нем воспоминание о самой сути их семейной жизни. Запах напоминал о чем-то очень знакомом, но Хулио никак не мог вспомнить, о чем именно. Он раскрывался в памяти, словно ядовитый цветок, заполнявший своими испарениями маленькую гостиную с большим круглым столом, стульями с потертой обивкой и черно-белым телевизором, стоявшим на низеньком книжном шкафу, в котором ютились несколько томов в кожаных переплетах.
Хулио понял, что переживает один из тех моментов, когда самые, казалось бы, малозначимые предметы становятся вдруг чрезвычайно важными, одну из тех минут, когда собственные руки и их продолжение — пальцы — кажутся выточенными из твердейшего камня. В общем, один из тех моментов, когда вещи обретают пугающую автономию, становятся независимыми, оставаясь в то же время фрагментами того, что когда-то являлось целым, но утратило целостность. Хулио испугался, что долго ему в таком состоянии не выдержать: ведь теперь даже поднять и опустить веки — самое простое, всегда машинально выполняемое движение — стало для него непосильным. К тому же веки падали резко и с шумом, подобно рифленым металлическим жалюзи старых лавчонок. Даже слова стали круглыми и тяжелыми, словно шары, до отказа наполненные смыслом. Они вкатывались в уши одно за другим, непохожие друг на друга, но связанные между собой, как вагоны поезда. И поезд тоже был старый.
Таких вот мучений стоило Хулио воспоминание о родительском доме, вызванное запахом бульона. И само это воспоминание не согрело его, не принесло облегчения. Наоборот, в нем ощущалась враждебность, и это ощущение было связано с матерью — это она была виновницей его страданий раньше и продолжает причинять страдание сейчас: под личиной доброты и ласки скрывалось воплощение зла.
Когда приступ прошел, Хулио дал себе слово, что завтра же пойдет на работу.
И вот наступила пятница. Пятница без температуры, но еще с заметной слабостью — болезнь, хотя и отступала, все же не сдала окончательно своих позиций. И он бодро, как и полагается выздоравливающему, поднялся и принял душ. Потом побрился и, пока варился кофе, поменял канарейке воду.
Дождь, ливший накануне, прекратился.
На работе он подписал несколько бумаг, ознакомился с одним проектом и ответил на три звонка. Один их них был от бывшей жены: она хотела знать, почему Хулио не встречается с сыном.
— Как будто у него отца совсем нет, — упрекнула она.
Хулио пообещал что-то неопределенное насчет воскресенья, но добавил при этом, что болен и пришел на работу только для того, чтобы решить один срочный вопрос. В двенадцать часов Роса принесла кофе с молоком и таблетку аспирина. Хулио поблагодарил ее, но предупредил, чтобы впредь она не сообщала его матери ни где он находится, ни что с ним происходит. В час его вызвал к себе директор — поздравил с тем, что продажи идут хорошо, и объявил, что в связи с этим Хулио в ближайшие дни получит премию. И еще добавил, что, в связи с ростом издательства, вводится новая должность — координатор коллекций и что обсуждается кандидатура Хулио.
— Я буду стоять за тебя горой, — уверил он.
Хулио поблагодарил с подобающей случаю скромностью и, как бы импровизируя, выдал пару идей, которые на самом деле вынашивал уже не меньше месяца.
Директор жестом выразил удовлетворение тем, что нашел подходящего кандидата, и заговорил о рукописи, которую ему очень хвалили, — сборнике рассказов.
— Вот она, — директор достал из ящика письменного стола стопку листов, сшитых с одного края. — Все, кто читал, предрекают успех.
Хулио взял рукопись, и начал листать, делая вид, что читает то одну фразу, то другую. Директор между тем рассказывал об авторе — молодом человеке лет тридцати с большим, по словам директора, будущим.
— Три года назад у него вышел роман и был очень тепло встречен критикой.
— Как его зовут? — спросил Хулио.
— Орландо Аскаратэ.
— Ужас какой.
— Ты его знаешь?
— Нет, просто плохо звучит. Кто дал деньги на публикацию?
— Кажется, какой-то муниципалитет. Скорее всего, они объявляли конкурс, и этот Аскаратэ стал победителем.
Директор поручил Хулио прочитать рассказы и изложить в письменной форме свое мнение. И дал понять, что, если оценка Хулио совпадет с оценками остальных, издательство возьмет на себя риск напечатать начинающего автора.
Хулио вернулся к себе в кабинет и несколько минут ничего не делал. Сначала он немножко помечтал о возможном скором повышении по службе, поздравив себя с тем, что правильно рассчитал все шаги, которые и привели к успеху. Его несколько огорчало, правда, что новость не вызвала у него той радости или тех бурных эмоций, которые, как ему всегда казалось, он должен был испытать в подобной ситуации. Он — собственными силами! — достиг вершин власти в большом издательстве, в большой компании, но не чувствовал никакого удовольствия от этого, словно самые заветные мечты, сбывшись, тут же теряют для нас всякую привлекательность.
А вот мысль о том, что после работы он встретится сначала с психоаналитиком, а потом — с Лаурой, волновала его. И тот и другая, каждый по-своему, давали ему возможность почувствовать себя свободным человеком, с обоими Хулио забывал не только о пустых и бессмысленных интригах на работе, но и о том подобии общения, которое заполняло его дни с того момента, как он вставал с постели, и до того как, замкнув круг, снова в нее ложился. Мир каждого из них был словно остров, и острова эти были рядом, и с первого можно было попасть на второй, и на каждом произрастали свои плоды, и каждый давал то, чего не мог дать другой.
Время не двигалось. И тогда Хулио взял рукопись Орландо Аскаратэ и начал читать первый рассказ. Он назывался “Конкурс”, и речь в нем шла о писателе, который в один прекрасный день придумал, как можно безнаказанно убить жену, оставив всех в уверенности, что произошло самоубийство. Осуществить свой план он, однако, не смог — духу не хватило, и тогда он решил использовать эту идею в других целях: написать детективный рассказ. В тот же день он садится за работу и через две недели ее заканчивает. Довольный результатом, он совершает довольно низкий поступок: показывает рассказ жене, которая, к его удивлению, не возмущается этим новым проявлением ненависти к ней — да и что тут, собственно, возмущаться: их семейная жизнь давно уже превратилась в ад! — а напротив, поздравляет с удачей и советует отправить рассказ на престижный литературный конкурс. Писатель, польщенный ее неожиданной похвалой, посылает рассказ на конкурс и возвращается к привычным занятиям и привычной ненависти. Проходит короткое время, и его жена кончает жизнь самоубийством, воспроизведя в деталях смерть героини рассказа. Писатель понимает, что если его рассказ получит премию, то будет воспринят всеми как донос писателя на самого себя, и ему не удастся доказать свою невиновность. Он тут же пишет организаторам конкурса письмо, в котором просит вернуть рукопись, но проходит несколько тревожных дней (за эти дни писатель сгрыз все ногти на руках и ногах), и он получает вежливый ответ: его желание не может быть удовлетворено, поскольку жюри уже приступило к чтению работ, а следовательно, по условиям конкурса, ни одна из рукописей уже не может быть возвращена. Ему советуют, тем не менее, обратиться к председателю жюри, в руках которого сейчас находится рассказ. Писатель понимает, что попал в умело расставленные силки, но все же добивается встречи с председателем жюри, который сообщает ему, что уже прочитал рассказ и что тот ему настолько понравился, что он собирается за него голосовать и всячески его продвигать. И что он уже отдал рукопись секретарше той организации, что проводила конкурс. Секретарша должна была ознакомить с нею остальных членов жюри. Писатель убивает своего собеседника, и вот тут-то начинается настоящий кошмар: ему приходится убивать одного за другим всех членов жюри, потому что как только он с кем-то встречается, то узнает, что рассказ уже прочитан и передан другому. И, разумеется, прежде чем умереть, все превозносят его сочинение.
На этом месте Хулио прервал чтение и поднял глаза к потолку. История что-то ему напоминала. Но он решил, что просто все детективные истории похожи одна на другую. Однако он не мог не отметить, что эта история очень интересно закручена и написана прекрасным слогом. Он решил не дочитывать рассказ до конца, чтобы не испытать разочарования: он не верил, что Орландо Аскаратэ удалось придумать финал, достойный мастерских завязки и развития сюжета.
И все же Хулио почувствовал укол зависти.
Зазвонил телефон. Хулио снял трубку:
— Слушаю.
— Хулио, я ухожу обедать. Не забудь, что в пять тридцать у тебя встреча.
— Ты же знаешь, что по вторникам и пятницам я хожу на английский.
— Да. И поэтому я назначила встречу на половину шестого.
— Просто сегодня после английского я еще иду к дантисту. Будь добра, отмени встречу до того как пойдешь обедать.
— Пожалуйста. Как скажешь, так и сделаю. Береги себя.
Он подождал, пока секретарша уйдет, и поднялся со стула.
Часы показывали половину третьего. Все ближе назначенный час.
Пять
“Я болел последние несколько дней. Я и сейчас еще не очень хорошо себя чувствую, но моя мать пригрозила, что, если мне и дальше придется соблюдать постельный режим, она станет приходить и ухаживать за мной. Так что мне ничего не оставалось, кроме как объявить, что я выздоровел.
“На работе мне дали премию и предложили мою кандидатуру на важную должность. Восемь или девять месяцев я делал все, чтобы эту должность заполучить. Я сплел за это время больше интриг, чем за всю предыдущую жизнь, и, наконец, добился своего. Но новость не принесла мне той радости, которую я ожидал. Удивительно, но она оставила меня равнодушным. А ведь я очень хотел занять это место. Почему же я не радуюсь?”
“Я обедал в баре неподалеку отсюда и за обедом размышлял обо всем этом. Я пришел к выводу, что, наверное, у успеха два вектора: один направлен вверх (это внешняя сторона, та, которую все замечают), а другой — вниз (это цена, которую мы за свой успех заплатили)”.
“Какую цену заплатил я?
Ну, я вам прежде уже рассказывал о своих юношеских мечтах — о том, что хотел стать писателем, но все откладывал и откладывал тот день, когда брошу все дела и сяду за письменный стол. Я и сейчас еще мечтаю об этом. Да, еще я хотел стать чахоточным, но мне не хватило таланта”.
“Но если говорить серьезно, мне никогда не удавалось написать больше трех страниц подряд, и при этом удалось подняться на довольно высокую ступень в крупном издательстве. Это я решаю, что следует опубликовать, а что нет, но подвластны мне лишь чужие творения. Другие пишут книги, а я решаю их судьбу. И хуже всего то, что, если бы мне предложили поменяться с этими другими ролями, я бы не согласился. Я до сих пор наивно верю, что эти две роли можно совместить. Но интуитивно чувствую, что каждый мой шаг вверх по лестнице власти отдаляет меня от возможности творить. Наверное, именно поэтому известие о предстоящем повышении не обрадовало меня.
Вот, собственно, о чем я думал сегодня за обедом...”.
“Если бы мы с Тересой по-прежнему были вместе, если бы она была жива — возможно, мне и удалось бы что-нибудь создать. Она меня... не знаю, как сказать... вдохновляла, что ли? Но вот что интересно: недавно я познакомился с другой женщиной — я о ней еще не рассказывал. Так вот, эта женщина совсем не похожа на Тересу, но иногда мне кажется, что это Тереса, явившаяся мне в другом облике”.
“То, что я сейчас расскажу, наверное, покажется вам абсурдом — вам ведь хорошо известно, что я никому и ничему не доверяющий скептик.
Одним словом, в прошлую среду, когда я лежал больной в постели, произошло нечто — мне очень стыдно, но я вынужден произнести это слово — сверхъестественное. Пока я читал роман, подаренный мне Тересой в день нашей последней встречи, комнату постепенно заполнило некое невидимое, но очевидное присутствие. А потом из клетки вырвалась канарейка и начала испуганно биться о стены.
Мне доводилось слышать, что мертвецы проделывают шутки такого рода: открывают птичьи клетки, заполоняют своим присутствием дом, зажигают и гасят свет и тому подобное.
После того что я уже описал, черты Тересы и Лауры (Лаура — это та женщина, о которой я сегодня упоминал) стали сливаться в моей памяти. Лицо одной проступало сквозь черты другой, словно давая мне понять, что Тереса воплотилась в Лауре, что она заполнила глаза, и жесты, и улыбку Лауры, чтобы показать мне: она все еще здесь, она по-прежнему может быть со мной, пусть даже в другом теле. Теперь я припоминаю, что когда впервые увидел эту женщину, Лауру, то мне показалось, что она явилась из другого мира. И в тот миг, когда я это понял, во мне что-то изменилось. Сегодня утром, прямо в своем рабочем кабинете, я начал писать детективный рассказ, и у меня получается довольно неплохо. Герой рассказа — писатель, который убивает свою жену. Точнее, не убивает, но ему все равно приходится расплачиваться за это. В общем...”
“Кстати, я хотел вам еще рассказать, что снова стал слышать “Интернационал”. Больше года его не слышал — и вот, пожалуйста: он вернулся. Также неожиданно, как исчез. И по-прежнему меня волнует, как волновал когда-то давным-дав-но... Полагаю, что теперь к восторгу примешиваются смутные угрызения совести и легкая грусть по безвозвратной минувшей юности”.
“Если бы я был на вашем месте и слушал то, что я сейчас говорю, я решил бы, что передо мной сумасшедший... Допускаю, что так оно и есть. Однако мое безумие не помешало мне преуспеть в жизни. Если, конечно, понимать под преуспеянием достаточную зарплату, достаточную власть и достаточную свободу...”
“Но, возможно, преуспевать — значит писать. Да, именно писать. Написать книгу и выразить в ней все, что я знаю и что мне неизвестно. Я люблю читать, да и по роду моей деятельности мне приходится много читать, и я давно заметил, что романы страдают тем же недостатком, что и сама жизнь, а именно полной необъективностью. И жизнь, и книги — однобокие. Они или описывают очевидное, или погружают читателя в скрытую ложь. Скрытую, потому что ее элементы состоят из той же материи, что и элементы очевидного и явного. Исключения, конечно, встречаются, но их немного”.
“Я знаком со многими писателями. Обычно это очень нервные люди. И очень лживые. Каждый уверен, что ему досконально известен роман его жизни, хотя на самом деле знает лишь кое-что о женщине, с которой спит. Наши знания о нас самих такие же неполные, как знания о герое любого романа”.
“Когда мой сын был маленьким, он часто плакал по ночам, и мне приходилось то и дело вставать к нему. Я стал записывать сны, которые снились мне в тот момент, когда меня будил детский плач. Иногда за ночь набиралось восемь-девять разных снов. А когда сын подрос и стал спать спокойно, я утром, во время бритья, с трудом мог припомнить хотя бы один сон. Я это к тому, что ночью, к примеру, с нами происходят вещи, которые необязательно запечатлеваются в нашей памяти, и вместе с тем потом, в течение дня, они влияют на нас тем или иным образом. Это касается не только снов, но и жестов, эмоций, незаметного старения, невысказанных желаний.
Ну вот.
И поэтому я говорю, что мне хотелось бы написать роман, в котором то, что происходит, и то, что не происходит, составляли бы единое целое. Проблема лишь в том, как описать то, чего не знаешь, не узнав его при этом. У меня уже есть хорошее начало: представьте себе мужчину зрелых лет, который в один прекрасный день вдруг начинает слышать “Интернационал”. И это приводит его, как и меня, на кушетку психоаналитика. А с этой кушетки он попадает в объятия женщины. И эта женщина на самом деле совсем не такая, какой ее видят все. И этот тип...”
“Знаете, я часто мечтаю о том, как пишу этот роман. Лежу на диване или смотрю телевизор и вдруг представляю себя сидящим за письменным столом. Я пишу роман, в котором то, что я знаю, и то, что мне не известно, искусно переплетаются и создают книгу, призванную увековечить мое имя. Этот роман открыл мне глаза на собственную жизнь, и благодаря ему я понял, к примеру, что в один прекрасный день я могу оказаться на вашем месте, а вы — на моем.
Я сижу, пишу и становлюсь все мудрее и мудрее. Так я себя вижу. И это помогает мне справиться с повседневностью. Я встаю утром, целый день зарабатываю деньги, кружусь в том же водовороте, что и мои современники, заслуживаю любовь ближних. А сейчас я даже, кажется, влюблен. И все это только затем, чтобы кормить типа, который целый день сидит за письменным столом и пишет историю одного ни во что не верящего скептика, страдающего слуховыми галлюцинациями марксистского толка”.
Доктор Родо прервал его впервые за сеанс:
— Откуда у вас это желание — вы уже много раз об этом упоминали, — чтобы все вас любили и все вами восхищались?
— Потому что, как мне кажется, это лучший способ скрыть то глубокое презрение, которое я испытываю к людям. Звучит возмутительно, согласен. Но тут я должен пояснить: я презираю в людях то, что меня с ними объединяет. То есть я презираю в них то, что мне не нравится в самом себе: пошлость, противоречивость, запах изо рта, тупость, перхоть, запоры, холестерин — вот несколько примеров из разных областей”.
“Вы наверняка скажете, что если я примирюсь с этими недостатками в себе, то прошу их и остальным. Но дело в том, что я никоим образом не собираюсь видеть в нас, людях, всего лишь стадо животных, которое бредет к неизбежному концу, зализывая свои язвы.
А я — я не иду в этом стаде. Предпочитаю трижды принять смерть каждого из них в обмен на признание, на какую-никакую славу...
Я хочу спастись, если говорить языком церкви, языком христиан. И иногда мне кажется, что спасение заключается в любви. Нужно любить так, как я любил Тересу. Или как сейчас я начинаю любить Лауру. И еще спасение в книге. В той самой, которую я пишу в своем воображении.
Я уже много лет представляю себя писателем, наделенным терпением мудреца, взявшимся за этот труд по зову сердца, подобно священнику. И эта мечта спасает меня, отгоняет тоску, наполняет душу покоем, без которого не справиться с унижениями повседневной жизни, — одним словом, помещает меня в особое пространство, отличное от того, в котором обитают другие люди. Те, о ком я мало знаю и кого не всегда понимаю. И главное, чего я в них не понимаю, — это как они могут выносить такую жизнь, как они могут жить и не писать?
Так что вы еще раз можете убедиться: я презираю в ближних то, что презираю в себе самом.
В то же время я сам, хотя и не пишу, вижу себя склоненным над листом бумаги. Иногда я задаю себе вопрос: какая разница между этим представлением и реальным действием? Разве тот, кто пишет, не рассказывает, в конце концов, о том, что я сейчас лежу на кушетке, рассказывая о своих проблемах молчаливому психоаналитику? Разве после этого он не расскажет о моей встрече с Лаурой? Разве он уже не рассказал о наших с Тересой отношениях и о ее глупой смерти?
Скажу больше: этот писатель знает обо мне то, чего не знаю даже я сам, и, следовательно, он единственный, кто может рассказать о моей жизни как о едином целом, рассказать так, что это будет интересно и важно”.
“С другой стороны, я иногда думаю о том, что мы с этим писателем можем однажды поменяться местами — ничего трудного в этом нет, в жизни так случается часто: стоит бросить кости — и судьба уже изменена. И может статься, в один прекрасный день я проснусь и займу свое место за письменным столом. И начну рассказывать о том, как наш герой просыпается, чистит зубы и дает корм канарейке. О том, как проходит его рабочий день, заполненный высокопрофессиональным исполнением служебных обязанностей и кабинетными интригами. И как он, одним словом, противостоит террору повседневной жизни, читая чужие романы и погружаясь в чудесные адюльтеры, благодаря которым входит в контакт с миром исчезнувших, умерших.
Однако у меня такое предчувствие, что этот писатель, — тот, что оправдывает мое существование, — на самом деле мой убийца”.
Шесть
Когда он вышел от доктора Родо, весна уже была в самом разгаре.
Солнце сияло в оконных стеклах, на деревьях лопались почки, и в целом казалось, что жизнь прекрасна.
Но были и другие ощущения, на которые следовало обратить внимание. Похоже было, что у Хулио снова начинался жар. И желание увидеться с Лаурой заметно уменьшилось, после того как он вышел на улицу.
Честно говоря, он был недоволен тем, как вел себя на приеме у доктора Родо: считал, что затронул слишком много тем, не остановившись подробно ни на одной. Но хуже всего было то, что он не удержался и рассказал о Лауре. До этого дня он хранил ее в самой глубине сердца и сознания.
К досаде на себя примешивалось чувство глубокой неприязни к психоаналитику, возникшее в тог момент, когда они с доктором прощались. У этой неприязни был тот же привкус, что и у бульона, предложенного ему матерью в четверг.
И действительно, когда они жали друг другу руки, расставаясь до следующего вторника, Хулио успел заметить на пиджаке доктора хлопья перхоти. Затем, когда он инстинктивно отвел взгляд и посмотрел на голову доктора, то увидел начинающуюся лысину, стыдливо прикрытую редкими грязноватыми волосами.
В ту минуту Хулио перестал воспринимать доктора Родо как психоаналитика: он вдруг стал одним из множества несчастных оборванных неудачников, что встречаются на каждом шагу.
Пересекая улицу Принсипе-де-Вергара, чтобы попасть в парк “Берлин”, он снова вспомнил прощание с доктором и к отсутствию волос и перхоти добавил круглое лицо с жуликоватой улыбкой и бегающие глаза, как у продавца, который не уверен в том, что продаваемый им продукт хорош, но все равно вынужден его продавать.
Вспомнив доктора, он вспомнил и себя, каким был несколько лет назад, до того как встретился с Тересой и подпал под ее благотворное влияние. Он вошел в парк и увидел свет, деревья, людей, гуляющих среди пыли и травы. Какой-то отдел его памяти — наверняка плохо закрытый — не выдержал давления чувств и взорвался, разлетевшись на кусочки. На одном из них Хулио увидел себя — много лет назад, за руку с сыном, на которого в то время возлагал смутные надежды и с которым связывал свое будущее. Только парк был другим, и чувства были другими, и другим был взгляд, способный пронзить жизнь насквозь. Как и накануне, когда он держал в руках поданную матерью чашку бульона, все напоминало ему о прошлом — затхлом, заплесневелом прошлом, давно погребенном в каком-то темном и сыром уголке памяти.
Где-то неподалеку раздался знакомый звук. Хор из мужских и женских голосов с воодушевлением запел социалистический гимн. Их воодушевление передалось и Хулио, и он зашагал в такт вдохновенной музыке к тому месту, где они обычно встречались с Лаурой.
Когда он увидел ее, страсть вспыхнула в нем с новой силой. “Интернационал” стал звучать тише, и сковавшее мускулы и взгляд напряжение, вызванное жаром, спало. Она не сидела на скамейке, а шла навстречу ему, нарушая неписаный закон их встреч. И на ней была яркая одежда, губы и глаза были подкрашены. И улыбка у нее была радостная, и радость была в каждом движении. Солнце просвечивало сквозь начинающие седеть волосы, а ее силуэт словно вобрал в себя все тела, которые он когда-либо желал.
Хулио на несколько секунд потерял сознание и увидел себя за рабочим столом — он описывал эту встречу в романе.
Стоило ему взглянуть на вырез пуловера Лауры, и к нему вернулись ощущения, испытанные когда-то с Тересой. Он сказал:
— Ты словно прекрасное виденье.
— Пойдем отсюда. Я оставила дочку у родителей, — ответила Лаура.
Они вышли из парка и пошли рядом — правда, на некотором расстоянии друг от друга, словно не были знакомы. Когда они поравнялись с его припаркованной неподалеку машиной, Хулио спросил: “Едем ко мне?”
Она секунду колебалась: “Не знаю. Мне немного тревожно. Ты живешь один?” — “Конечно”. — “Хорошо, едем. Это для меня самое надежное место”.
Хулио включил зажигание. Машина тронулась. Ему показалось, что у него внезапно снова начался жар. Плечи и шея горели, глаза слезились.
— Если хочешь, можем поехать в другое место.
— Нет-нет, едем к тебе. Это лучше всего.
Оба молчали, пока автомобиль с удивительной легкостью скользил в плотном потоке машин, заполнявшем улицы в послеобеденные часы. Водители возвращались к домашнему очагу, после того как целый день честно зарабатывали на хлеб для своих семей, но лица их выражали — кроме усталости — отвращение и отсутствие интереса к чему бы то ни было, а заявившая о себе во весь голос весна, казалось, не имела к ним ни малейшего отношения.
Хулио пришло в голову, что вот так, да, именно так описал бы ситуацию тот воображаемый Хулио-писатель — тот самый, который сидел за его рабочим столом, пил кофе, курил сигареты и исписывал один за другим листы бумаги с тем же тщанием, с каким ребенок заполняет любимыми игрушками пустую коробку из-под обуви.
Про коробку из-под обуви ему понравилось, и он повернулся к Лауре с улыбкой превосходства, которое, впрочем, догадался смягчить выражением беззащитности во взгляде.
Она сводящим с ума жестом отвела волосы со лба и спросила:
— Далеко еще?
Они ехали по Лопес-де-Ойос в направлении Авенида-де-лос-Торерос. Весна слепила прежним блеском, солнце, казалось, не собиралось садиться. Сумерки еще не начали сгущаться, но в гостиной, в дальнем от окна углу, где стоял письменный стол Хулио, уже легли первые тени. На столе лежало несколько книг, стопка чистых листов и целая коллекция шариковых ручек, разложенных на столешнице так же тщательно, как алкоголик расставил бы свои скудные этиловые запасы на небольшом прямоугольном пространстве. Все остальное было безликим и холодным, как обычно и бывает в квартирах в первые дни мая.
Хулио закрыл за собой входную дверь, подошел к столу и положил на него рукопись Орландо Аскаратэ. Потом сказал: “Здесь немного холодно”.
Лаура меж тем пересекла гостиную и остановилась возле висевшей у окна клетки с канарейкой. Она сказала птице несколько ласковых слов, и та в ответ запрыгала по жердочке, на которой до этого, казалось, дремала.
Хулио извинился и прошел в спальню, а оттуда — в ванную. Несколько секунд он смотрел на себя в зеркало, потом перевел взгляд на биде, потом — на душ. Он никак не мог решить, что ему делать. Наконец, снял пиджак и галстук, повесил их на крючок и, расстегнув верхнюю пуговицу рубашки, сел на край ванны. Его бил озноб: у него все еще была температура — не высокая, как раз такая, чтобы можно было перекраивать реальность на свое усмотрение, по меркам и лекалам, предлагаемым обстоятельствами.
Ему пришла в голову идея рассказа: холостяк приводит в дом замужнюю женщину, с которой едва знаком, оставляет ее в гостиной, а сам, извинившись, заходит в ванную, запирается в ней и кончает с собой. Женщина некоторое время ждет, а потом начинает звать мужчину. Она пугается — а вдруг у него инфаркт? — и пытается войти в ванную, но дверь заперта изнутри. Она решает, что у мужчины действительно случился инфаркт, и убегает из квартиры, забыв впопыхах сумку. Ночью, лежа в постели рядом с мужем, она размышляет о том, что сойдет с ума за те дни, пока не обнаружат труп мужчины и ее сумку в его квартире. И тогда она встает, идет в ванную и кончает с собой. Эти две смерти связывают между собой — очевидным доказательством служит сумка — и превращают в историю страстной любви, которую усталый инспектор равнодушным тоном рассказывает газетным хроникерам.
Или, может быть, так: он не кончает с собой, а просто теряет сознание, а она решает, что у него инфаркт, и ночью лежа рядом с мужем... и т. д. А он на следующий день обнаруживает сумку и решает вернуть ее хозяйке. Он находит в сумке удостоверение личности, узнает из него номер телефона владелицы и звонит ей домой. Полиция проверяет, чей это звонок... и т. д.
С некоторым усилием поднявшись, он вернулся в гостиную, где Лаура разглядывала книги. Потом приготовил кофе, и они сели на диван.
— Мы оба раскаиваемся в том, что совершили, нам обоим страшно, — начал Хулио.
— Я — нет, — высокомерно отозвалась Лаура.
— Что “нет”?
— Нет, не раскаиваюсь. Хотя мне тоже страшно.
— Почему страшно?
— Мне страшно, потому что я ничего не знаю о тебе. Знаю только, что ты можешь меня потерять.
Вдруг запела канарейка.
— Странно, — удивился Хулио. — Она в это время раньше не пела.
Лаура улыбнулась, словно необычное поведение птицы было для них с Хулио добрым знаком. И тогда он взял ее лицо в ладони, посмотрел ей в глаза и понял, что это лицо в обрамлении густых волос станет точкой отсчета в его жизни.
Они поднялись с дивана и обнялись. В их объятии была и страсть и отчаяние. Хулио сразу вспомнил забытые ощущения — порыв, ослепление, толкающие его все дальше и дальше, через темный туннель сознания к всепоглощающему наслаждению. Усилием воли он сдержал желание — не хотел спешить. И в этот момент с другого конца туннеля до него донесся срывающийся хрипловатый голос:
— Кто ты? — спросила Лаура.
Он подождал, пока стихнет эхо ее голоса, представил себя сидящим за письменным столом, склонившимся над листом бумаги — страницей романа его жизни — и ответил: “Я тот, кто нас пишет. Кто нас рассказывает”.
Канарейка снова запела, а Хулио забыл обо всем, кроме наслаждения обладать Лаурой.
Повинуясь неписаным правилам, канонам поведения, перед которыми всегда послушно склонялась его воля, он пересек глазами границу выреза, и у него захватило дыхание от того, что он увидел. Его не разочаровали ни грудь, ни то, чем она была прикрыта. Судьба была к нему милостива: он сделал правильный выбор. Он не стал открывать ее груди — боялся ослепнуть от их сияния, как слепли, увидев солнце, рабы, годами трудившиеся в темных пещерах. Он знал, что его друзья и помощники — сумерки и тени, а потому, сняв с Лауры юбку, он встал на колени, почтительно воздавая дань (все так же через священную ткань) всем прочим формам ее тела.
Лаура, погруженная в какое-то нервозное оцепенение, спрашивала теперь, а кто она — казалось, она не узнавала своих членов, не чувствовала границ своей кожи, не понимала, из каких глубин ее существа бьют все эти бесчисленные родники, стремящиеся лишь к одному — омыть губы, руки и глаза Хулио.
Ослабев от страсти, они рухнули на пол, не в силах больше сдерживаться. С трудом поднявшись, спотыкаясь, целуясь, добрались до спальни, и там, отгородившись от мира простынями, бросились в пропасть. И их крики слились с криками испуганных птиц, которые, казалось, кружили в темноте вокруг них.
После того как падение завершилось, они посмотрели друг другу в глаза, словно каждый хотел узнать в другом своего спутника в этом странном путешествии. Хулио чувствовал себя вконец обессиленным, страсть уступила место нежности и жалости к самому себе. “Что за жизнь”, — сказал он. Но сказал таким ровным, ничего не выражающим — словно взгляд птицы — голосом, что Лаура не извлекла из его слов никакой информации, которая могла бы быть ей полезна в первые мгновенья после случившегося.
— Я часто задавала себе вопрос, — начала она, помолчав, — почему именно вторник и пятница? Все это время я надеялась, что ты появишься в парке в какой-нибудь из понедельников, или в среду, или в четверг. Но ты ни разу не ответил на мой призыв.
Хулио улыбнулся и привлек ее к себе, переплетя свои ноги с ее ногами. Он снова почувствовал одиночество, и близость другого тела приносила облегчение.
— Я очень много работаю, — ответил он. — Во вторник и в пятницу я сбегаю с работы под предлогом посещения курсов английского языка. На самом деле я провожу это время не на занятиях: я лежу на кушетке в кабинете психоаналитика, который принимает на улице Принсипе-де-Вергара, недалеко от парка.
Погруженный в свои мысли, он не заметил ни испуга, мелькнувшего в глазах Лауры, ни тона, которым она задала следующий вопрос:
— Как его фамилия?
— Родо. Доктор Карлос Родо. А что?
— Просто я живу на этой улице, и мой сосед — психоаналитик. Но у него другая фамилия.
— Могу поменять своего психоаналитика на твоего. Будем назначать свидания в лифте.
Лаура провела рукой по груди Хулио и глуховатым голосом — похожим на тот, каким когда-то говорила в минуты близости Тереса Сагро, спросила: “А ты говоришь со своим психоаналитиком обо мне?”
— Никогда, — ответил Хулио. — Ты моя тайная страсть. Ты из другого мира, и с этим миром я поддерживаю связь лишь благодаря тебе. Я не могу никому о тебе рассказать — это означало бы гибель для нас обоих.
Оба молчали, придавленные грузом произнесенных Хулио слов, суровость которых не смягчили даже ласки. Но уже через несколько минут, когда Хулио вернулся из гостиной, куда ходил за сигаретами, Лаура вновь вернулась к этой теме.
— Обещай, что выполнишь мою просьбу.
— Какую? — спросил он.
— Обещай никогда и ни с кем, даже со своим психоаналитиком, не говорить обо мне. А если тебе придется сделать это — не называй моего имени, не рассказывай, как я выгляжу и где ты со мной познакомился. Говори обо мне так, словно я — сон, словно ты меня выдумал. Хорошо?
— Хорошо, — согласился Хулио. Взволнованный последними словами Лауры, он снова начал ласкать ее гибкое, словно свитое из проволоки тело, беспрекословно подчиняющееся его рукам. Их тела слились и заполнили друг друга, стали единым целым, как литейная форма и заполнивший ее расплавленный металл.
Они смотрели друг другу в глаза, и каждый находил в глазах другого самое убедительное оправдание собственного существования. И Хулио с удивлением обнаружил, что глаза Лауры были словно пленники — казалось, они временно оказались на чужом лице, не на том, для которого были предназначены. Они были уже не просто органом зрения, а символом тоски по прошлому и окнами в это прошлое, куда он так стремился, где жаждал найти желанный покой.
Семь
Карлос Родо проснулся в четыре часа утра с ощущением сухости во рту. Он решил, что виной всему амфетамины.
Ночную тишину нарушил доносившийся издалека, подобно раскатам грома, звук двигателя — летел самолет.
Справа от Карлоса спала, лежа на спине, его жена. Карлос посмотрел туда, где должно было находиться ее лицо, и подождал немного, пока глаза привыкнут к рассеянному свету, проникавшему сквозь окно. Постепенно, как проступает изображение на фотобумаге, погруженной в раствор проявителя, стали видны в полутьме те элементы, что в совокупности образуют лицо. Пристально вглядываясь в него, Карлос искал черты, придающие ему неповторимость. Искал вокруг губ и в тех полукруглых углублениях, где у людей обычно находятся глаза — но лицо, которое он видел перед собой, было лишено малейших признаков индивидуальности. Это было лицо без души — прекрасный надежный сосуд, способный принять одну за другой различные индивидуальности, противоположные характеры, разные имена.
“Это могла бы быть, скажем, Тереса, любовница моего пациента, погибшая в автокатастрофе. А могла бы быть Лаура, моя собственная жена, — другая Лаура, не та, которую я давно знаю, а похожая на женщину, о которой недавно мне рассказывал Хулио Оргас. У бедняги совсем плохая память, и каждый раз, упоминая о Лауре, он думает, что делает это впервые. Правда, до сегодняшнего дня он не называл ее имени, но правда и то, что за последние недели он рассказал достаточно, чтобы я мог догадаться, о ком идет речь. Лаура... Лаура...”
Он сел в постели и отбросил одеяло тем же испуганным жестом, каким мертвец сбросил бы с себя саван. Потом надел тапочки и направился на кухню, где достал большую бутылку воды, и сел за стол.
Нужно было все хорошенько обдумать. Прежде всего, разумеется, следовало избавиться от этого пациента — под любым предлогом передать его кому-нибудь из коллег. А после — наладить собственную жизнь. И не забывать, что своими профессиональными успехами он в большой степени обязан именно Лауре, что в последние годы она играла очень важную роль в его жизни. Он должен был вернуть Лауру, вернуть, и впредь относиться к ней с тем же трепетом, какой он испытывал, когда о Лауре говорил его пациент.
И нужно обстоятельно и спокойно проанализировать случившееся и понять, как все они могли оказаться в этом тупике. Впрочем, что касается Хулио Оргаса, то с ним все ясно: сам себе не отдавая в том отчета, он какой-то глубинной клеточкой сознания знал, кто такая Лаура, и, добиваясь ее, на самом деле хотел добиться совсем другого: занять место своего психоаналитика. Нормальное желание всякого пациента. Другое дело — сможет ли он это желание осуществить. Хотя бы частично.
А вот что касается его самого как психоаналитика, то потребуется разобраться — и это будет самое трудное, — почему он не сразу заметил, что происходит с его пациентом, почему не принял мер раньше, почему допустил, чтобы дело зашло настолько далеко? Возможно, ему придется признаться самому себе, что ему нравилось играть в эту игру — до той минуты, пока она не перестала быть игрой, перешагнув границы реальности. “Или, что еще хуже, я переживал процесс идентификации со своим пациентом: что-то в его сумасшествии напоминает мое, что-то в его прошлом имеет отношение к моей истории. Это я, сам того не зная — или не желая знать, — поставил капкан, в который мы попались. Все трое. Или четверо, если считать покойную Тересу.
Да... ну и дела... Что за жизнь!
Годы учебы, налаживания контактов, требующих постоянного умственного и физического напряжения поисков достойной работы, годы напряженной и плодотворной политической борьбы — а в результате жизнь дает трещину там, где этого меньше всего ожидаешь. Годы, потраченные на достижение успеха, который теперь оказывается ненужным, потому что зачем человеку успех, если у него при этом нет любви? А ведь я сам от нее отказался, бросил на произвол судьбы и забыл, как забыл молодость, прежние моральные ценности, совокупность принципов, следуя которым когда-то пришел к выводу о необходимости организовать свою жизнь. А ведь были еще и годы стыда и унижений, когда приходилось стучаться в сотню дверей, прежде чем откроется одна, годы отречений, годы, когда за деньги покупалось то, что было неосуществленной мечтой юности — одним словом, годы перемен, годы продажности, годы нищеты и самоотдачи, годы цинизма. Это они смогли превратить меня в одного из тех людей, каких я больше всего ненавижу”.
Вода была слишком холодная.
Он обвел глазами кухню: плита, стиральная машина, холодильник... Потом остановил внимание на более мелких и менее значительных деталях: блокнот на итальянском изразце, набор керамических банок, настенный календарь, картина... Все эти вещи были для него желанны, даже те, которые раньше ему не нравились. Память и грусть воспоминаний — очень опасная смесь: она обесцвечивает все, чего коснется.
Он медленно поднялся, вышел из кухни и, не зажигая света, пересек гостиную. Потом прошел через коридор в комнату дочери и задержался там немного — девочка раскрылась, одна нога свесилась с кровати. Он уложил и укрыл Инес, а потом прошел в ванную, где принял две таблетки снотворного. Вернувшись в спальню, он увидел, что Лаура переменила позу и теперь лежала на боку, но выражение лица ее при этом нисколько не изменилось. Он лег рядом с женой и погладил рукой ее тело, как погладил бы каменную статую, обладающую удивительным даром просыпаться. Потом закрыл глаза и, обхватив Лауру за талию, словно она могла улететь, погрузился в ночь. Миновал пространство, полное вспышек сознания, и едва приметным движением век вошел в туннель без стен, без тьмы, без света, без препятствий.
Погружаясь в туннель, он вспомнил еще один кусочек прошедшего дня — обрывок разговора, подслушанного в больничном буфете. Говорил мужчина: “Я сужу о людях не по лицу, а по обуви. Однажды я обнаружил за собой слежку только благодаря тому, что в течение трех часов я замечал рядом с собой в разных местах одни и те же ботинки. Это было в том самом году, когда я вернулся в Испанию из Франции. Первое, что я подарил сыну, были ботинки”.
Восемь
В ту субботу механизм встроенного в радиоприемник будильника сработал в то же время, что и в будние дни. Говорили о чиновнике, который исчез, после того как отправился на почту, чтобы послать заказное письмо. Похоже, это была программа о странных происшествиях, потому что за историей об исчезнувшем чиновнике последовал сюжет о служащем одной крупной коммерческой авиакомпании, который до самой пенсии получал надбавку за знание английского языка, которого на самом деле не знал. Недавно в результате цепи случайностей все открылось, и компания требует от своего сотрудника вернуть деньги, которые он получал в качестве надбавки за знание иностранного языка в течение последних тридцати пяти лет. Служащий оправдывался тем, что ему было все равно, знать английский или не знать, так как у него ни разу не возникло необходимости применить его. Когда он пришел работать в компанию, его просто спросили, знает ли он английский. Он ответил положительно и получил за это некое поощрение, которое не намерен возвращать. Защита строила свою линию на том, что старик знал английский раньше, когда он поступал на службу, а сейчас просто забыл в силу своего возраста.
Хулио протянул руку и выключил приемник. Он попытался снова заснуть, но тут в его памяти всплыли воспоминания о событиях минувшего вечера и заняли все его мысли. Он вспомнил, как в перерыве между объятиями прочитал Лауре один рассказ из рукописи Орландо Аскаратэ, которая сейчас лежала на ночном столике, и как солгал, что автор рассказа — он сам.
Рассказ назывался “Половина всего”. Хулио выбрал его случайно. Речь в рассказе шла об отце бедного, хотя и не нищего, семейства, которого вечное безденежье довело до нервного расстройства. Придя к выводу, что живет не по средствам, он решает сначала свести свои потребности до уровня своих доходов. Кое-как рассчитав семейный бюджет, он живет несколько месяцев относительно спокойно, но потом вдруг появляются новые расходы, и семье опять начинает катастрофически не хватать денег.
Он снова делает расчеты и приходит к заключению, что сумма дохода должна вдвое превосходить сумму расходов, или, что то же самое, потребности, подлежащие удовлетворению, должны обходиться в сумму, не превышающую пятидесяти процентов от общего дохода. Это единственный способ не пострадать от дополнительных расходов, которые возникают почти каждый месяц, а если повезет, можно даже что-то скопить.
И вот он собирает домашних и предлагает им свой план: аскетический образ жизни, который позволит добиться экономической стабильности. Но, будучи человеком неглупым и рассудительным, он понимает, что подобный план невозможно осуществить без четких нормативов и правильной психологической подготовки, а потому объявляет, что с этого дня семье придется сократить наполовину — ровно наполовину — все траты, которые прямо или косвенно влияют на семейный бюджет. Таким образом, один из сыновей будет ходить в школу через день, другой будет пользоваться автобусом только по дороге на учебу. Отец, который до установления новых правил выкуривал двадцать сигарет в день, должен будет сократить их количество до десяти. Мать будет покупать половину того количества продуктов, какое покупала раньше, в результате чего все похудеют и превратятся в половину себя самих.
Проходит некоторое время, и жизнь по новым правилам приносит свои плоды: в семье царят мир и покой, недостижимые без определенной степени экономической стабильности. Да и сама необходимость уполовинивать все и вся, державшая поначалу всех членов семьи в постоянном напряжении, постепенно перестала их тяготить и вошла в привычку. Теперь они делили все пополам машинально, даже не задумываясь об этом. Дошло до того, что мужчины в семье перестали брить те зоны, которые не имели никакого отношения к семейной экономике.
Вскоре члены этой странной семьи уже не только съедали половину порции и покупали газету через день, но и начали расти наполовину, влюбляться наполовину, добиваться успеха наполовину и так далее. Но, как бы то ни было, все эти меры позволили им не только укладываться в рамки семейного бюджета, а даже улучшить свое материальное положение, так что они с каждым годом позволяли себе половины все лучших и лучших продуктов и товаров.
На самом деле, рассказ большей частью представляет собой подробное перечисление всего того, что можно разделить надвое. Никаких сколько-нибудь значимых событий в нем не происходит. Однако действие развивается под постоянной угрозой, словно эта половинная форма существования должна закончиться апофеозом триумфа или разрушения, в то время как заканчивалось все банальным миром, что, с определенной точки зрения, могло таить в себе еще большую опасность.
Лауре рассказ очень понравился. Она от души смеялась (так Тереса смеялась над историями, которые сочинял для нее Хулио) и в конце поздравила “автора” и посоветовала опубликовать рукопись. Хулио был польщен и не испытывал ни малейших угрызений совести, за то что походя присвоил чужой труд. Если говорить честно, он на эту деталь даже не обратил внимания.
Сейчас, вспоминая минуты любви и сладость удовлетворенного тщеславия, он не мог бы определить, является рассказ “Половина всего” хорошим или плохим. И поскольку было еще очень рано, и выходные — Хулио чувствовал это — предстояли длинные и тоскливые, он взял рукопись Орландо Аскаратэ и раскрыл ее наугад в поисках начала какого-нибудь рассказа. Ему попался на глаза как раз тот рассказ, что дал название всему сборнику: “Жизнь в шкафу”. Хулио начал читать его с неохотой. Это была история человека, которому нравилось красть в супермаркетах. Однажды его застал за этим занятием охранник. Герой рассказа попытался убежать — при этом ему пришлось действовать быстро и в то же время спокойно, чтобы не привлекать внимания многочисленных покупателей. Он добрался до мебельного отдела и спрятался в большом замысловатой конструкции трехстворчатом шкафу. Сидя в темноте внутри шкафа, он через некоторое время услышал шаги и голоса. Прислушавшись, он понял, что это пришли грузчики и что шкаф сейчас будут переносить.
И действительно, ему начинает казаться, что земля уходит у него из-под ног, темнота вокруг словно бы приподнимается и начинает двигаться, унося его куда-то вместе с собой. Потом по нескольким более резким движениям он догадывается, что шкаф грузят в мебельный фургон, который тут же трогается с места в неизвестном направлении.
По дороге он слушает разговоры грузчиков, которые тоже едут в кузове фургона, и мучительно размышляет о том, как выбраться из ловушки, в которую попал. Он перебирает в уме всевозможные варианты побега, но ни один не кажется ему надежным. В конце концов, он поудобнее устраивается на дне шкафа, решив, что дальнейшие события сами подскажут выход из щекотливого положения, в котором он очутился. По прошествии неопределенного (в темноте он не мог рассмотреть циферблат часов, а другого способа определить, как долго он уже находится в шкафу, в сложившихся обстоятельствах у него просто не было) времени фургон останавливается в каком-то месте, и шкаф вместе с находящимся внутри него субъектом куда-то переносят — скорее всего, в чью-то квартиру. Какая-то сеньора властным, но иногда срывающимся голосом дает грузчикам указания, куда этот шкаф нужно поставить. Еще несколько ударов и толчков, и, наконец, шкаф застывает на отведенном ему месте и воцаряется полная тишина. Субъект в шкафу еще некоторое время выжидает, но именно в тот момент, когда он собирается выбраться из своего укрытия, раздается стук женских каблуков. К счастью, шкаф угловой, и в нем есть закуток, куда можно втиснуться. Наш субъект так и поступает. Стук каблуков приближается и стихает, ключ поворачивается в замке, и яркий свет заливает внутреннее пространство колоссального шкафа. Из своего закутка наш субъект слышит, как женщина, лица которой ему почти не видно, что-то напевает, оглядывая пространство шкафа. Потом снова, теперь уже удаляясь, стучат каблуки. Наш субъект не понимает, что означают звуки, которые доносятся из комнаты, но через некоторое время видит руку с длинными тонкими пальцами. Рука вешает на штангу шкафа вешалку с женским костюмом.
Внутренность шкафа заполняется костюмами и рубашками, которые делят темноту на сегменты и создают барьер между сидящим в шкафу субъектом и женщиной. Когда операция по развешиванию одежды завершается, дверца шкафа снова закрывается, и еще какое-то время субъект сидит на дне шкафа, машинально поглаживая шелковую юбку.
По прошествии некоторого времени те же самые шаги, притемненные или приглушенные другими, более глухими и менее торопливыми шагами, приближаются к шкафу. Слышатся голоса: уже знакомый и другой — более глухой и менее торопливый. Дверь шкафа открывается, и женщина с гордостью показывает мужчине проделанную ею работу — заполнение одеждой шкафа, который он ей подарил. Мужчина смеется, одобряет, хвалит. Но в его тоне угадывается равнодушие мужа, в круг интересов которого не входит ни сам шкаф, ни то, что в нем висит.
Супружеская пара уходит ужинать, не забыв предварительно закрыть дверцу шкафа, и наш субъект погружается в глубокий колодец, наполненный темнотой и тишиной. Он решает, что, наверное, пришло время сбежать. У него достаточно времени, чтобы оценить обстановку и решить, как поступить. Однако он не может шевельнуться. В ушах у него все еще звучит голос той женщины, а стенки шкафа и висящая в нем одежда дают ему ощущение надежности. Предполагая, что шкаф находится в супружеской спальне, он решает дождаться возвращения женщины, чтобы еще раз услышать ее голос. Он вспоминает изящную руку, мягкие и уверенные движения кисти, несущей вешалку с очередным предметом одежды, и приходит а неописуемое волнение от одной мысли о женщине, о которой он ничего не знает, кроме руки, голоса и звука шагов.
Дойдя до этого места, Хулио закрыл рукопись. Даже не заложив страницу, на которой остановился. Рассказ слишком сильно увлек его, и это было невыносимо. Хотя было еще рано и перед ним простиралась безбрежная пустыня субботнего дня, он решил встать и принять душ.
Потом поменял канарейке воду, сварил кофе, сел и снова почувствовал, что поднимается температура. Он поставил градусник, но с удивлением увидел, что температура нормальная. Жара больше не было, а симптомы остались. Он посмотрел на часы. У него закружилась голова, и он едва не потерял сознание. И в это время зазвонил телефон.
— Когда ты за мной заедешь? — услышал он голос сына.
Хулио подумал несколько мгновений и ответил:
— Я болею, сынок. Провалялся всю неделю с гриппом и до сих пор еще хожу с температурой. Давай отложим встречу на другой день. Не возражаешь?
— Да мне-то все равно, — ответил детский голос, который Хулио уже почти забыл. — Это все мама.
— Что мама?
— То же, что и всегда: твердит свое “как будто у тебя отца вовсе нет” и все такое прочее.
— Дома мама?
— Нет. За хлебом ушла.
— А ты что думаешь?
— Насчет чего?
— Насчет того, что твоя мать говорит.
— Мне все равно.
— Тебе все равно, есть у тебя отец или нет?
— Ну да... для чего нужен такой отец....
— Ладно, сын. Нам нужно об этом потолковать... В другой раз, договорились? Передай маме, что я болен и что я ей позвоню на следующей неделе.
Когда он повесил трубку, его лицо пылало. Ему было больно и стыдно. Он спрашивал себя, любит ли он сына. Он знал, что раньше любил его, как любят в себе самое слабое и незащищенное, но что с некоторых пор — приблизительно с того времени, как он расстался с женой, — стал игнорировать сына, как, начиная с определенного возраста, люди пытаются игнорировать, забыть свои поражения.
Он чувствовал себя беззащитным перед субботой, перед выходными, перед теми годами, что ему оставалось прожить. Он подумал, что его жизнь похожа на дерево, ветви которого — это различные события, благодаря им его судьба сложилась так, как сложилась. Он представил себе, что наделен властью отсечь мешавшие ему ветви — ту, что олицетворяла его брак, например, или ту, что источала животворный сок, вкусив которого, он поверил, что он — писатель, а потом испытал горчайшее в жизни разочарование. А вот одну ветку он оставил бы в неприкосновенности — ветку, олицетворявшую Тересу. И тот отросток от нее, что был Лаурой. Вот так: Лаура была отростком, ответвлением Тересы.
Запела канарейка. Хулио поднялся с дивана, подошел к письменному столу, сел и записал пришедшее ему в голову сравнение жизни с деревом. Потом начал сочинять историю о человеке, которому в один прекрасный день представилась возможность сохранить в своем прошлом только такие события, какие он сам захочет, и стереть все те, неприятные последствия которых отравляли ему жизнь. Это был отличный сюжет для рассказа. Намного лучше любого из сюжетов Орландо Аскаратэ, слишком надуманных и явно обличительных, — типичный случай, когда начинающий писатель пытается компенсировать недостаток жизненного опыта, пользуясь приемами, свойственными скорее юмористу, чем серьезному литератору.
Внезапно он почувствовал прилив сил. Он подумал, что лихорадочное возбуждение приумножает энергию духа, а потому писатель — хороший писатель — обязан иметь какую-то трещинку, какой-то изъян, какую-то слабость, которые ставили бы под сомнение его собственный триумф. Роман — жанр для зрелых творцов, сказал он себе и продолжил работу над “Древом познания” (именно таким было рабочее название рассказа, над которым он трудился).
На шестой странице он почувствовал, что выдохся, да и канарейка пела, не переставая. Он поднялся из-за стола, взял платок и накинул его на клетку, стараясь не смотреть птице в глаза. Когда он вернулся за письменный стол — он был уже другим человеком: прежнее возбуждение угасло. Хулио попытался реанимировать его, но все было напрасно, и в конце концов он сдался — в поражении есть своя сладость. К тому же поражение не было полным: на столе по прежнему лежали три исписанных листа.
Он посвятил их Лауре. Зажег сигарету и погрузился в воспоминания о том, что произошло вчера. И постепенно Лаура заслонила от него весь остальной мир, заполнила каждую клеточку его тела. Мысль о невозможности быть рядом с ней в это весеннее субботнее утро пронзала сердце острой болью. Ее отсутствие было сравнимо с ампутацией внутреннего органа, нехватка которого незаметна для постороннего глаза, но причиняет не меньшее страдание, чем отсутствие руки в минуту, когда хочется приласкать любимого человека.
Он поднялся из-за письменного стола и вернулся на диван. Лежа с открытыми глазами в той позе, в какой обычно читал или смотрел телевизор, он представил себя на хорошо известном ему месте на улице Принсипе-де-Вергара и мысленно зашагал по направлению к парку “Берлин”, на воображаемую встречу с женщиной, чьи руки накануне жарко обнимали его в его постели, а хрупкое тело сливалось с его телом, создавая немыслимые архитектурные формы. Залитая солнцем улица казалась пустынной. Человеческие фигуры и машины выглядели такими бледными, словно были нарисованы легкими мазками акварели, и исчезали так же быстро, как мысль, мелькнувшая во время сна. К тому моменту, когда воображаемый Хулио дошел до площади Каталонии, для Хулио реального он был уже персонажем, героем рассказа о любви и о супружеской измене. Осторожно повернув голову, он посмотрел на письменный стол, на пустой стул перед ним. Представил, как садится на этот стул, склоняется над белым листом и описывает страсть и неуверенность человека, который только что вышел от психоаналитика и теперь направляется в парк “Берлин” в надежде увидеться там с замужней женщиной. Вдруг ему в голову пришел неожиданный — он даже заставил Хулио улыбнуться — поворот сюжета: женщина, что под предлогом прогулки с дочерью приходила в парк и ждала там на скамейке Хулио, была женой того самого психоаналитика.
Идея показалась Хулио блестящей. Он был настолько доволен собой, что преисполнился к самому себе благодарности за подтверждение наличия у него подлинного литературного таланта. Из этого может выйти роман! Он был снова полон сил. Он сел за работу. Его уверенность в себе росла, и в какую-то минуту даже показалась ему опасной.
Он написал половину страницы, когда раздался телефонный звонок.
— Это ты, Хулио? — спросил голос Лауры.
— Да, я, я!
— Вчера я записала твой телефон, на случай если появится возможность позвонить тебе. Сейчас у меня есть минутка.
— Лаура, Лаура! — срывающимся голосом повторял Хулио. — Это ты! Я уже думал, что не доживу до понедельника без тебя или хотя бы без твоего голоса в телефонной трубке!..
— Послушай, — продолжала она. — У меня очень мало времени. Я не хочу больше встречаться в парке. Это может быть опасно. Если хочешь, в понедельник вечером я приду к тебе домой.
— Во сколько?
— В шесть?
— Хорошо, в шесть. Я буду ждать.
— Мне пора заканчивать. До встречи.
— До встречи, Лаура.
Хулио еще несколько минут постоял с трубкой в руках. Словно никак не мог поверить, что звонок не был сном. Потом, уже нисколько в себе не сомневаясь, перечитал написанное и пришел к выводу, что это как минимум неплохое начало неплохого романа. Что ж, он заслужил отдых.
Хулио снял платок с птичьей клетки, навел порядок на кухне и с чувством превосходства взял рукопись Орландо Аскаратэ. На второй странице, сразу под заглавием, были написаны адрес и телефон молодого автора.
Хулио набрал номер.
— Будьте добры господина Орландо Аскаратэ.
— Это я. Слушаю.
— С вами говорит Хулио Оргас из издательства, в которое вы отдали “Жизнь в шкафу”. Извините, что беспокою в субботу. Но завтра я уезжаю, и меня не будет две недели. Могли бы мы встретиться сегодня, чтобы поговорить о вашей книге?
Орландо Аскаратэ, судя по всему, несколько растерялся, но все же с удовольствием принял приглашение пообедать. Они договорились встретиться в половине третьего в одном дорогом ресторане, который выбрал Хулио.
Было двенадцать. Хулио позвонил в ресторан и заказал столик на двоих.
Девять
Хулио тщательно продумал свой наряд: одежда должна была говорить о том, что облеченный в нее человек далеко не беден и имеет высокий социальный статус, а по субботам может позволить себе некоторые не слишком дерзкие отступления от обязательных для повседневной одежды правил строгого вкуса. Правда, выбранный им пиджак спортивного покроя оказался слишком теплым, но Хулио все же решил пойти в нем: к нему отлично подходила голубая рубашка.
Он сидел за столиком в ресторане и ждал начинающего писателя. Тот задерживался, и Хулио уже начинал злиться. Он заказал аперитив и решил, что лучшим способом скрасить ожидание будет поразмышлять над возникшей у него утром идеей.
Итак, имелось несколько возможных вариантов развития сюжета:
а) пациент рассказывает психоаналитику о женщине, с которой познакомился в парке, добавляя при каждой встрече новые детали, и в конце концов психоаналитик догадывается, что речь идет о его собственной жене. В этом случае любовники, которые и не подозревают, во что впутались, оказываются в его руках;
б) психоаналитик не догадывается, что женщина из парка — это его жена. Но пациент и его возлюбленная, рассказывая друг другу о своей жизни, постепенно выясняют правду. В этом случае обманутый муж может стать марионеткой в руках любовников;
в) наступает такой момент, когда каждый из героев догадывается обо всем, но при этом полагает, что остальные ничего не знают. И каждый считает, что имеет над остальными двумя власть, хотя в действительности ею не обладает;
г) никто ни о чем не догадывается. В этом случае все персонажи живут каждый своей жизнью и зависят от механизма, который может смолоть в муку каждого из них в отдельности или всех сразу. Их судьбу определит случайность и внутренняя логика повествования.
Хулио понимал, что любая из перечисленных схем может породить почти бесконечное множество различных вариантов дальнейшего развития сюжета и что бесполезно строить схемы сейчас, когда работа едва началась — пусть все решится по ходу дела.
Появился метрдотель в сопровождении худощавого типа лет тридцати, который представился Орландо Аскаратэ. Он был в потертой кожаной куртке, какие носят летчики, и защитного цвета рубашке со множеством карманов. Костюм дополняли джинсы и ботинки на толстой подошве. Взгляд был живой, но, казалось, скользил по тем предметам, что попадали в поле его зрения, не задерживаясь на них и не проникая в них. Он сел, не спросив разрешения, и заказал самые дорогие блюда из тех, что были в меню. Из напитков попросил минеральную воду.
Хулио, который, пока ждал, выпил виски, заказал к обеду еще и бутылку розового вина. Поэтому, когда принесли второе, он уже сознавал, что не контролирует происходящее — но не потому что был пьян, а потому что все, происходящее вокруг, воспринималось его органами чувств словно магма, в которой его личное присутствие значило не больше, чем присутствие в огромном океане одного моряка, потерпевшего кораблекрушение.
— Жаль, — посетовал он, — запивать такое мясо минеральной водой.
— Я не пью спиртного, — просто ответил молодой писатель.
Хулио подумал, что, если бы Орландо Аскаратэ повел себя вызывающе, можно было бы нагрубить ему в ответ, но дело в том, что он вел себя — начиная с опоздания на встречу и кончая тем, что заказал самые дорогие блюда — с лишь едва заметным высокомерием, которое никак не давало оснований для того, чтобы к нему придраться.
— Так вот, мы прочитали вашу рукопись, — приступил, наконец, Хулио к главному. — Мнения, должен признаться, самые противоречивые. Скажу больше: даже я — хотя обычно я рукописей не читаю — вашу вынужден был пролистать, чтобы вынести окончательное суждение и решить, будем ли мы ее печатать.
— И что решили? — напрямую спросил Орландо Аскаратэ, которого, вопреки ожиданиям Хулио, совершенно не смутило подобное начало разговора.
— Ну, окончательное решение пока не принято, — ответил Хулио, растягивая слова, чтобы выиграть время. — Но мне захотелось познакомиться с тобой — не возражаешь, если перейдем на ты? Хотелось составить о тебе полное впечатление. Рукописи для этого оказалось недостаточно.
— То, что я пишу, не имеет ко мне лично никакого отношения, — твердым голосом ответил на это молодой автор. — И мне не кажется, что решение о том, публиковать “Жизнь в шкафу” или нет, не следует принимать исходя из того, какое впечатление произведет его автор. Ваше издательство всегда так отбирает книги для публикации?
— Нет. Обычно это происходит по-другому. Но когда мы берем на себя риск издать книгу начинающего автора, к тому же не получившую единогласного одобрения, мы должны представлять себе, насколько рискованны наши инвестиции. Другими словами, “Жизнь в шкафу” не оставляет сомнений в том, что у ее автора есть будущее. Нам не страшно потерять сейчас вложенные деньги, если есть уверенность, что через некоторое время мы их вернем. Поэтому нам нравится знакомиться с молодыми писателями: это дает возможность оценить то впечатление, которое они могут произвести на публику, ну и тому подобное.
— Ясно, — коротко ответил Орландо Аскаратэ, продолжая есть. Хулио отпил еще глоток вина и подумал, что нужно быть осторожнее и хорошенько думать, прежде чем что-то сказать. Его снова стало слегка знобить. “Наверное, у меня тридцать семь или чуть больше”. Он посмотрел вокруг. Зал ресторана был полон. Руки обедающих и приборы, которые они держали, начали соединяться таким образом, что возникала знакомая мелодия.
— Ты будешь кофе или десерт? — нарушил он, наконец, воцарившееся за столом молчание.
— Десерт, — сухо ответил молодой писатель.
Хулио подумал, что хорошо было бы убить Орландо Аскаратэ. Заманить его в глухое место и там забить до смерти. А потом опубликовать “Жизнь в шкафу” под своим именем. Нет, не получится: рукопись уже прошла через многие руки. И все-таки мысль об убийстве доставила ему удовольствие. Он заказал после кофе еще виски, и вдруг снова пришел в прекрасное расположение духа. Хороший обед поднял ему настроение. Теперь можно было продолжить неудачно начатый разговор. И вскоре он уже признался молодому автору, что тоже пишет.
— И почему же ничего не публикуете?
— Скоро опубликую все. Через год или два. Сейчас я работаю над одним романом с очень запутанной интригой. И работаю над ним с большим увлечением. Раньше я не хотел ничего печатать — все написанное казалось мне упражнениями для пальцев. Другое дело роман. Это плод зрелой мысли. Я полагаю, что, если в возрасте от сорока до пятидесяти человеку удается написать неплохую вещь, он может считать, что всего добился.
— И каков же сюжет вашего романа, если не секрет, конечно? — поинтересовался Орландо Аскаратэ, не обратив никакого внимания на комментарий по поводу идеального возраста для новеллиста.
— Никакого секрета. Я свободен от подобных предрассудков. Есть писатели, которые, если расскажут, о чем пишут, то уже не могут дальше писать. У меня все наоборот. Одним словом, это история одного типа, которому исполняется сорок лет и с которым с того самого дня начинают происходить удивительные вещи. В этом возрасте внимательный человек замечает, что жизнь вокруг изменяется, что она начинает показывать свою изнанку. Меняется восприятие реальности.
— Сколько лет вам? — прервал Хулио начинающий автор.
— Сорок два.
— Выглядите вы моложе.
— Спасибо. Кажется, мы начинаем друг друга понимать. Ну, так вот. Тот человек начинает посещать психоаналитика, потому что его беспокоят некоторые странные вещи, что с ним творятся.
— Какие именно? — невинно поинтересовался Орландо Аскаратэ.
— Ну, например, иногда, особенно по вечерам, у него бывают приступы прозрения, и он начинает видеть жизнь такой, какая она есть. То есть он начинает сознавать, что реальность не становится лучше от того, что мы стараемся изменить ее — строим планы, разрабатываем проекты... Кроме того, у него начинаются слуховые галлюцинации: в самые неподходящие моменты он слышит музыку, связанную с событиями его юности. Одним словом, он начинает ходить к психоаналитику и через несколько месяцев знакомится с женщиной, с которой вскоре вступает в близкие отношения. Женщина эта оказывается женой его психоаналитика, но ни один из персонажей об этом не знает. Точнее, все трое об этом знают, но каждый полагает, что знает только он, а остальные ни о чем не догадываются. Как видишь, есть очень много вариантов развития сюжета.
— Хороший водевиль, — улыбнулся молодой писатель.
Лицо Хулио исказилось ужасом, но его собеседник никак не отреагировал на это.
— Как ты сказал? — смог наконец произнести Хулио.
— Смотрите сами: путаница, треугольник — отличная основа для возникновения забавных ситуаций, отсюда постоянное напряжение... думаю, это хорошая идея.
Подошел метрдотель и спросил, не за этим ли столиком сидит дон Орландо Аскаратэ.
— Это я, — отозвался молодой писатель.
— Вас просят к телефону.
Оставшись один, Хулио понял, что проиграл. Все перевернулось с ног на голову. Даже телефонный звонок, который по старшинству и по занимаемому положению должен был быть адресован Хулио, оказался адресованным молодому писателю. Он спросил еще виски и постарался унять все нарастающее чувство жалости к себе и чувство ненависти к Орландо Аскаратэ.
Финал встречи был еще менее утешительным. Молодой автор вернулся за столик с таким довольным выражением лица, словно только что подписал контракт с Голливудом, и продолжил разговаривать с Хулио вежливым тоном, но с отсутствующим видом, не принимая близко к сердцу темы, которые с большим трудом находил его собеседник. Когда Хулио, пытаясь спасти хотя бы остатки своего имиджа, решил изречь что-нибудь оригинальное и сказал: “Я заметил, что в те моменты, когда у меня интенсивнее потеют подмышки, я и пишу интенсивнее, словно один поток порождает другой”, — он услышал в ответ: “Извините, но я уже немного опаздываю”.
Хулио попросил счет и в последний раз попытался взять ситуацию в свои руки.
— Что ж, на днях мы вам напишем и известим, какое решение принято относительно публикации вашей рукописи.
И тогда Орландо Аскаратэ поставил локти на стол, резко придвинул лицо к лицу Хулио и, нарушив сомнительный нейтралитет, который сохранял до этой минуты, произнес следующее: “Послушайте, сеньор Оргас, я не пью и не курю. Мне нужно совсем немного денег для того, чтобы жить, и я начисто лишен тщеславия. Я хочу этим сказать, что могу посвятить все мое время и все мои силы тому, чтобы писать. Я не спешу. Я знаю, что у меня получается хорошо и что если меня не напечатаете вы, то напечатают другие. Ждать недолго. Три, четыре, от силы пять лет. Мне все равно. В тот день, когда это случится, я стану знаменитым и мой труд окупится тысячекратно. Поэтому не переживайте за меня слишком сильно. Не пытайтесь покровительствовать или помогать мне. Я в этом не нуждаюсь. Если вы считаете, что “Жизнь в шкафу” представляет интерес, — напечатайте ее, и дело с концом. В противном случае — верните мне рукопись и расстанемся друзьями.
Хулио расплатился, и они вышли на улицу.
Прощаясь, Орландо Аскаратэ заметил:
— Мне показалось, что вы не взяли с собой счет.
— Зачем? — Хулио даже растерялся.
— Чтобы отдать в бухгалтерию. Вам ведь оплачивают расходы на деловые обеды?
Хулио не ответил. Пожал руку молодому автору и зашагал в сторону, противоположную той, в какую направился Орландо Аскаратэ. Зашел по дороге в бар, спросил кофе и коньяку, облокотился на стойку и стал размышлять над тем, в каком тоне следует составить рецензию на рукопись начинающего автора. Рецензия должна быть достаточно суровой, чтобы рукопись не пошла в печать, но при этом составлена достаточно умно, чтобы не возникло вопросов, если за публикацию возьмется какое-нибудь другое издательство и книга будет иметь успех.
Вскоре в бар вошла группа молодых людей, которые устроились рядом с Хулио. Они громко разговаривали, и Хулио, прислушавшись к их разговору, понял, что они студенты факультета искусствоведения. Судя по всему, они возвращались с нашумевшей художественной выставки и были очень взволнованы увиденным. Среди них был один юнец, который пытался произвести впечатление на присутствующих девушек категоричностью своих суждений. Хулио сразу его возненавидел. Не сводя глаз с вызывающе одетого юнца, слушал он его разглагольствования. Создавалось впечатление, что этот парень счастлив от того, что знаком с самим собой. А когда ему требовалось проиллюстрировать свою мысль, он всякий раз приводил в качестве примера собственные картины и скульптуры.
Расплатившись, Хулио направился к выходу. Он был уже совсем пьян. У дверей он обернулся и крикнул, обращаясь к юному гению: “Тупица! Ты просто тупица!”
Когда он вошел в квартиру, его поразила царившая в ней недобрая тишина. В окно светило солнце. Пахло бульоном.
Он включил телевизор и убрал звук. Упал на диван. Он не чувствовал никакой привязанности ни к месту, где пребывал, ни к окружавшим его вещам. Все было родным и в то же время чужим. Чужим из-за явной враждебности, которую проявлял по отношению к нему каждый из находившихся в квартире предметов, а родным, потому что являлось частью его жизни, его историей — как запах куриного бульона или немой телевизор. Лишь канарейка, казалось, была счастлива в этом царстве, словно тайком от Хулио захватила в нем власть. Птица и мебель казались заговорщиками, и их таинственная связь усиливалась сейчас, на склоне дня, из которого Хулио был безусловно исключен.
Он налил себе выпить и стал ходить из угла в угол. Он был совсем пьян. Он никак не мог успокоиться: ему необходимо было отомстить за перенесенное унижение. И тогда он посмотрел на письменный стол и представил, как сидит и пишет тот роман, который Орландо Аскаратэ назвал водевилем. Когда пациент догадывается, что влюблен в жену своего психоаналитика, то решает убить его. Убить с помощью его собственной жены. Это обычное и вполне правдоподобное преступление. Убийство происходит во время очередного сеанса, и жена жертвы уничтожает карточку убийцы в архиве мужа. Какой же это водевиль? Это трагическая история, полная страсти. Замысел ее уже почти готов. Разве это не самая лучшая месть — написать хороший роман?
Мысль эта его успокоила, и он хотел тут же сесть за работу, но решил, что прежде все же следует несколько часов поспать. Потом, ближе к ночи, он, не торопясь, примет душ и будет готов приступить к осуществлению поставленной задачи.
Десять
В то воскресенье Лаура проснулась в шесть утра. Рядом с ней крепко спал муж. Она осторожно приподнялась на локте, откинула одеяло и спустила ноги с кровати, прямо в заботливо приготовленные накануне тапочки. В доме было холодно.
У нее было в запасе несколько часов свободы: Инес и Карлос проснутся не скоро, а проснувшись, будут еще долго валяться в постелях. Поэтому она надела теплый халат, зашла по привычке в комнату дочери, посмотреть, как та спит, прошла в гостиную, встала у окна и долго смотрела, как поднимается над городом солнце, чтобы потом описать этот рассвет в своем дневнике.
Сварила кофе и с чашкой дымящегося напитка в руках вышла на лоджию. Шар солнца только начинал выкатываться из-за зданий, расположенных вблизи аэропорта Барахас. Лаура посмотрела на крыши, вздохнула и прочертила взглядом воображаемую линию, соединяющую ее дом с домом Хулио.
Потом вернулась в гостиную и достала из тайника дневник. Зажгла сигарету, допила кофе и начала писать: “Стоя на лоджии, я нашла взглядом твой дом. Пролетела над крышами и через окно проникла в твою гостиную. Канарейка спала.
Я еще ни разу не написала твоего имени на этих страницах. Благоразумие и страх не позволяют мне рассказать здесь о той новой жизни, которая открылась мне в прошлую пятницу. Я начала вязать тебе свитер. Я никогда тебе его не подарю, но он будет напоминать мне о тебе всякий раз, когда я буду вынимать его из шкафа. Сегодня я встала очень рано, чтобы побыть одной. Меня все раздражает. Даже одиночество. Сейчас, когда все спят, а я не то чтобы бодрствую, а скорее томлюсь бессонницей, я думаю о тебе. Я теряю благоразумие. Я не должна писать это. Не должна.
На самом деле я открыла дневник, чтобы записать в нем: “Любовь и секс дают “себовь и люкс”, “Принсипе-де-Вергара — это Версипе-де-Прингара”, “милый Хулио” — это “хилый Мулио”, “тайная любовь” — это “лайная бюмовь”, а “истовная любория” — это “любовная история”, а “стайная тасть” есть “тайная страсть”, и “бребовный лед” есть “любовный бред”.
Если бы я писала почаще, то, думаю, сплетала и расплетала бы слова с такой же легкостью, с какой вяжу и распускаю вязанье. Вязать и писать — занятия совершенно разные, но требуют одинаковой степени сосредоточенности, а еще для них необходимы желание расследовать и искать. А я, как мне кажется, наделена этими качествами в значительной степени. Суди сам: “Мсе волчат в гящем спороде дука я помаю о любе, темимый...”
В глубине коридора послышались шаги, и она поспешно спрятала дневник. Шаги казались неуверенными и затихали перед дверью в каждую комнату, так что Лауре хватило времени закрыть ящик письменного стола, достать из плетеной корзинки вязанье, сесть на диван и начать с отсутствующим видом работать спицами.
Карлос просунул голову в дверь гостиной.
— Вот ты где, — сказал он.
— Не спится, — ответила Лаура.
Карлос сел в кресло напротив нее. Встряхнул головой, чтобы прогнать сон, поежился от холода и, наконец, взглянул в глаза жены со всей серьезностью, на какую был способен утром в воскресенье: “Тебе не кажется, что нам пора поговорить?”
— О чем? — отозвалась она.
— О нас с тобой, Лаура. О нас с тобой.
— А разве что-нибудь случилось? — произнесла она, и спицы в ее руках задвигались быстрее.
— Пожалуйста, посмотри на меня, — попросил он.
Лаура подняла глаза от вязанья и увидела стареющего и лысеющего мужчину — у которого наверняка плохо пахло изо рта — в полосатой пижаме, которую она сама ему когда-то купила.
— Надень халат, замерзнешь, — сказала она ему, снова опуская глаза.
— Не хочу я надевать халат, я хочу поговорить с тобой, — в тоне Карлоса была не то мольба, не то раздражение.
— А я не буду с тобой разговаривать, пока ты не наденешь халат. Простудишься, а мне потом с тобой возиться.
Карлос послушно поднялся, вышел из гостиной и через некоторое время вернулся в белом купальном халате. Снова сел и закурил. Лаура посмотрела на него: он был все тот же, только теперь, в белом халате, он казался еще старше.
— Ну, и что ты хотел? О чем нам нужно так срочно поговорить?
— Можешь ненадолго перестать вязать?
— Не могу, — сердито нахмурилась она. — Я могу вязать и разговаривать одновременно.
— Хорошо, Лаура. Я вижу, что ты не хочешь идти мне навстречу. И что тебе не важно, что происходит со мной и с нами обоими.
Карлос замолчал, и она поняла, что он погрузился в себя — это было заметно по тому, как опустились его плечи. Через несколько секунд перед ней уже сидел подавленный человек, бьющий на жалость, чтобы получить то, чего не смог добиться другими способами.
— Со мной ничего не происходит. У меня все прекрасно, — пожала она плечами.
— У нас не получится разговора, если мы не начнем признавать очевидные факты.
— Признавай то, что касается тебя. У меня все в порядке, — не сдавалась она.
— А у меня нет, Лаура. У меня далеко не все в порядке.
В эту минуту взгляды их встретились, и Лаура увидела любовь в глазах странного субъекта, который сидел перед ней и в чертах которого едва угадывалось сходство с Карлосом — прежним, молодым Карлосом, которого она когда-то знала и любила так, что пожертвовала всем ради него.
— У тебя своя жизнь — работа, политика, карьера, амбиции... И ты хочешь манипулировать мной, как манипулируешь всем этим. А у меня ничего нет. Много лет я лишь убираю дом и начищаю твои ботинки, готовлю ужины для твоих друзей и воспитываю нашу дочь, словно она только моя. И вот, наконец, ты замечаешь меня. Только зачем мне сейчас это счастье? Объясни, зачем?
— Я не заставлял тебя бросать работу, когда мы поженились. Мы приняли это решение вдвоем. Во всем остальном я всегда делал то, чего хотела ты.
— Вот пусть так будет и дальше. Поэтому оставь меня в покое, пожалуйста, оставь меня в покое. Я хочу побыть одна. И чтобы мне никто не мешал.
Карлос снова погрузился в молчание — не понять, угроза ли заключена в нем или просто печаль. А Лаура мысленно похвалила себя за проявленную твердость. Она ни за что не хотела сменить тон в разговоре с мужем, не хотела быть более покладистой. Ее не останавливала даже мысль о том, что Хулио был пациентом Карлоса. Сейчас она была уверена, что на самом деле Хулио не рассказывал Карлосу о ней, иначе муж не преминул бы воспользоваться своим знанием. Она не замечала в муже ничего, ровным счетом ничего, что подтверждало бы опасения.
Она посмотрела на него с тем сожалением, с каким смотрят на собственную вещь, которая перестала приносить радость, и почувствовала, что ей чужда та модель семьи, которую они с мужем воплощали и о которой еще раз напомнила дочь, появившаяся в дверях гостиной.
Лаура положила вязанье в корзинку и поднялась с дивана.
— Одень девочку, чтобы не замерзла, а я пойду приготовлю тосты на завтрак, — сказала она мужу и направилась на кухню
Это был ад, но впервые в жизни она почувствовала, что именно в ее руках был тот рычаг, который регулировал силу огня, и именно она решала, кого из грешников следовало наказать более строго.
За завтраком она была весела и раскованна, пару раз пошутила с Инес, предложила выжать апельсиновый сок и сварить яйца всмятку. Наверное, именно поэтому Карлос начал вести себя так, словно не было утренней сцены. Заразившись весельем жены, он предложил отпраздновать начало весны и провести день за городом.
— Один мой приятель, — сказал он, — пригласил меня пообедать в его загородном доме в горах.
— Когда он тебя пригласил? — поинтересовалась Лаура.
— В пятницу, кажется.
— И ты до сих пор молчал? Вот видишь, я никогда не могу строить планы. Ты просто не уважаешь меня. Знаешь, поезжайте вы с Инес, а я сегодня собиралась перебрать зимнюю одежду и навести порядок в шкафах.
— Но, Лаура, я мог бы тебе помочь. Вдвоем мы быстро все закончим, и в полдень будем уже в пути. Тебе будет скучно одной дома весь день.
— Нет, лучше я сделаю все сама. Если управлюсь быстро, навещу родителей. Я уже давно у них не была.
Карлос робко попытался настоять на своем, но жена была непреклонна. Вероятно, побоявшись нарушить атмосферу доброжелательности и взаимопонимания, царившую за завтраком, он решил прекратить спор и стал готовиться к поездке.
Вскоре, после того как Карлос с дочерью уехали, раздался телефонный звонок. Лаура неохотно сняла трубку и услышала голос матери. Состоялся еще один тяжелый для обеих разговор о жизни. Лауре было неприятно слушать мрачные прогнозы относительно ее будущего, потому что она понимала: мать права. На самом деле мать облекала в слова те мысли, которые сама Лаура гнала прочь.
Она почувствовала себя окруженной невидимыми, но несокрушимыми стенами, возведенными за многие годы сначала ее родителями, потом — мужем, дочерью и другими людьми и событиями, в которых сама она играла двойную роль: была одновременно их вдохновительницей и их жертвой. Само собой разумеется, что эти стены, совершенные по архитектуре и призванные защитить ее именно от ее собственных страхов, не могли быть возведены без ее участия. “Как я могла, — вслух произнесла Лаура, — желать для себя такой жизни?”
Как бы то ни было, разговор с матерью вернул ее в то состояние, от которого она, казалось, за последние дни избавилась навсегда. Она стала смотреть на происходящее под прежним углом зрения: логика ее рассуждений снова строилась на том, что она виновата перед близкими, и цена малейшего отступления от законов этой логики была слишком высока.
И вдруг воскресенье показалось ей нескончаемым, и она горько пожалела о том, что не поехала с мужем и дочерью.
Была половина двенадцатого, и горячее весеннее солнце, льющееся в окна, постепенно согревало квартиру. Лаура вспомнила, каким холодным было солнце на рассвете. Ей стало жарко, и она сняла халат. Потом отправилась на кухню вымыть оставшуюся после завтрака посуду. Вымыла заодно холодильник, микроволновку, внешнюю панель посудомоечной машины. Усердия, с которым она все это надраивала, хватило бы на десять кухонь. Движения ее были резкими, словно она хотела побыстрее истратить все силы. Она пыталась поиграть в слова, но голова ее была занята круговыми мыслями, повторявшими движения мокрой салфетки по отмываемым поверхностям. Иногда эти круговые мысли отступали на второй план, а на первый выходили образы близких — матери, мужа, дочери... В том же ритме она навела порядок в собственной спальне и в комнате дочери. Посмотрела на часы — прошло чуть больше часа. Она принялась за шкафы, и эта работа ее, наконец-то, успокоила. Тревога утихла. На смену резким движениям пришли спокойные и размеренные, приносившие все большее и большее удовольствие. Одежда беспрекословно подчинялась рукам: пуловеры укладывались в аккуратные стопки, брюки занимали свои места на вешалках.
Круговые мысли отступали все дальше и дальше, пока не затаились где-то в глубине мозга. И точно так же, тихо и спокойно, как менялось содержимое полок шкафа, менялся и ход мыслей Лауры. Логика вины уступала место логике желания.
Когда она покончила со шкафами, еще не было двух. Она поняла, что может сейчас позвонить Хулио. И ее переполнила радость, не омраченная ничем, кроме боязни не застать его дома. Но Хулио был дома, он снял трубку и говорил с нею несколько незабываемых минут. И это он предложил — раз уж она одна — взять такси и приехать к нему: пообедать вместе, поболтать, ну и так далее.
Лаура, для которой все проблемы остались внутри шкафов, приняла предложение. А потому нежно опустила трубку на рычаг, привела себя в порядок, тщательно оделась, отыскала и прочла в энциклопедии статью о литературе в надежде, что ей пригодится что-нибудь оттуда для беседы с Хулио.
Когда она была уже совсем готова и собиралась выходить, ей пришла в голову здравая мысль — позаботиться о том, чтобы ее отсутствие дома не показалось подозрительным. Она позвонила матери: “Послушай, я собираюсь пообедать с подругой и провести с ней весь день, а Карлос в последнее время стал очень ревнивым и подозрительным. Поэтому, если будешь с ним разговаривать, пожалуйста, скажи, что я провела день с вами”.
Мать пыталась отказаться, придумала тысячу отговорок, но, в конце концов, все же уступила: не хотела оказаться виновной в еще большем разладе между дочерью и зятем. Это был разговор, полный скрытых угроз и невысказанных опасений, разговор, в котором мать и дочь выслеживали друг друга, словно враги, потому что каждая знала: поражение одной из них означает падение для обеих.
Об этом и размышляла Лаура, сидя в такси, которое везло ее к дому Хулио. И начинала понимать, что истинной причиной, побудившей ее просить мать об одолжении, было не желание сделать ту соучастницей адюльтера, а стремление выцарапать у матери разрешение на него.
Одиннадцать
Та встреча была словно подарок судьбы. Лаура смотрела, как Хулио ставит на стол тарелки, раскладывает приборы, достает из пакета деликатесы, только что купленные им в лавочке неподалеку. Все было отличного качества, к тому же Хулио накрывал на стол очень красиво — по всему было видно, что ему не раз приходилось это делать. У него был опыт. У него было прошлое, а у нее была только ее внутренняя жизнь.
Они обедали неторопливо, прерывая трапезу, для того чтобы выпить бокал вина или выкурить сигарету. Или посмотреть друг другу в глаза. Или посмеяться над шуткой. Смех особенно сближал их — это неизбежно для людей их возраста, оказавшихся в подобных обстоятельствах.
— Чем занимается твой муж? — спросил Хулио, когда утих смех, вызванный очередной шуткой.
— А ты? Чем занимаешься ты?
— Я работаю в издательстве. А твой муж?
— Он инженер.
Они помолчали немного. Потом Хулио заговорил: “Недавно в баре я слышал разговор двух инженеров. Разговор этот врезался мне в память. Он мне даже приснился потом. А когда я проснулся, то записал его — пригодится для рассказа.
— И о чем они разговаривали?
— Речь шла о человеке по имени Хавьер. Тот, что помоложе, сказал, что ничуть не удивлен случившимся, потому что Хавьер всегда был не от мира сего, на что его собеседник несколько свысока ответил: “Все дело в том, что Хавьер был шизотрусом”. — “Шизо кем?” — переспросил молодой. — “Шизотрусом, — повторил другой с ноткой раздражения в голосе. — Это слово я придумал сам, и означает оно человека, который может вести себя по-разному: быть или очень нерешительным или очень грубым и напористым. Как раз в тот день, когда случилось несчастье, он пригласил меня к себе домой послушать музыку”.
— В этот момент, — продолжал Хулио, — они заметили, что я прислушиваюсь, и стали говорить тише.
— Почему ты решил, что они инженеры? — спросила Лаура.
— Звукоинженеры. В наше время никто, кроме звукоинженеров, не станет просто так слушать музыку.
Оба засмеялись. Хулио предложил Лауре сигарету, поднес зажигалку. Лаура поперхнулась дымом. Глаза у нее блестели.
— И какой же сон тебе приснился? — поинтересовалась она.
— Вот этого я тебе не расскажу — сон был довольно неприятный.
Лаура была в черном свитере, очень свободном и с глубоким вырезом, и, беседуя с Хулио, она внимательно следила за тем, какое действие производит на него этот вырез, как тяжелеет его и без того помутневший взгляд.
— Я сниму туфли, если ты не возражаешь, — сказала она.
— Снимай, — согласился он.
Лаура, кончиками пальцев помогая туфлям соскользнуть с ног, наклонилась сначала в одну сторону, потом в другую. В результате этого маневра свитер сполз на левое плечо, обнажив правое, рассеченное, словно ледовое поле следом конька, белой бретелькой. Взгляд Хулио переместился на обнажившееся плечо и пронзил его, как луч прожектора пронзает туман.
— Хочешь кофе? — спросил он.
— Хочу, — взгляд ее был отсутствующим, а голос чуть дрожал, словно она отвечала совсем другому человеку и совсем на другой вопрос. Она поставила локоть на стол и начала накручивать локон на палец — точно так же, как это делала Тереса Сарго. Тогда Хулио поднялся, довольно грубо взял ее за волосы и повлек в спальню. За время короткого пути Лаура вспомнила свою мать, свою дочь и своего мужа, вспомнила, что было воскресенье. Но ей показалось, что все это из какой-то другой реальности — далекой и не имеющей никакого влияния на ее жизнь.
Хулио уже заломил ей руки и дал увесистую пощечину. Лицо его исказилось — теперь это было лицо вульгарного и жестокого мужчины. Но Лаура не испугалась, она понимала, что это всего лишь спектакль: жестокость Хулио не причиняла ей боли, она заставляла вспомнить давно забытые неосуществленные фантазии. И когда Хулио, осыпая Лауру оскорблениями, принялся срывать с нее одежду, она стала стонать так, словно вместе с болью испытывала острое наслаждение, а потом упала на пол, прикрывая груди руками, словно была робкой стыдливой девственницей, от чего Хулио совсем потерял голову. “Кто я и где я?” — спрашивала она себя, подчиняясь приказам Хулио, а в памяти у нее всплывали сцены из фильма про рабынь, который в отрочестве был причиной многих ее бессонных ночей.
Когда, вконец утомленные, они перебрались в постель, Хулио, снова ставший нежным и деликатным, налил Лауре вина и предложил сигарету. Он хотел сварить и кофе, но она отказалась: ей не хотелось ни на минуту отпускать его от себя.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил он.
Вместо ответа она прижалась к нему, словно хотела спрятаться в него, как в футляр, защищающий ее от житейских невзгод. — Так значит, все это существует, — произнесла она еле слышно, словно стыдилась признаться, насколько она неопытна.
— И это только начало, — уверил он, и в голосе его прозвучало некоторое превосходство.
— Ты знаешь, что тебе совсем не идет иметь канарейку?
— Почему? — удивился он.
— Не знаю. Просто ты кажешься таким угрюмым... На любителя домашних растений ты тоже не похож, и у тебя их нет.
— На самом деле мы с канарейкой враги, — улыбнулся Хулио. — Я купил ее когда-то, чтобы подарить сыну на день рождения. Но моя бывшая жена заявила, что не потерпит в доме никакой живности, и мне пришлось оставить канарейку у себя.
Пока Хулио и Лаура разговаривали, канарейка пищала в своей клетке так пронзительно, что почти заглушала их голоса. Лауре почудилось, что происходит что-то странное. Был все тот же воскресный день, и в окно все так же светило солнце, но Хулио вдруг весь напрягся и начал прислушиваться к писку птицы, словно в нем был какой-то смысл. Лаура смотрела на него, и ей казалось, что каждое движение каждого мускула его лица было подчинено одной цели: расслышать то, что хочет сообщить канарейка. Рот Хулио скривился и превратился в отверстие, единственной задачей которого было сдерживать дыхание, ноздри раздулись— казалось, пение птицы входит и через них тоже, а глаза неподвижно смотрели в одну точку на стене, словно отведи он их на миг — и возникнет посторонний звук, который помешает расслышать и понять сообщение.
— Что ты слышишь? — спросила Лаура.
Хулио встал с кровати и некоторое время стоял, как был, голый, на ковре, словно не зная, куда направиться.
— “Интернационал”, — сказал он. — Эта птица поет “Интернационал”.
Он направился в гостиную и ударил по клетке, чтобы музыка стихла. Но птица вспорхнула и запела еще громче. Лицо Хулио исказилось гневом. Он открыл дверцу. Канарейку он поймал почти сразу. Вытащил ее из клетки, посмотрел на крохотную головку, торчащую над его сжатым кулаком. Несколько мгновений они смотрели друг на друга с недоверием, потом тоненькая шейка вдруг ослабла, и головка упала на пальцы Хулио. Птица была мертва.
— Что случилось? — донесся голос Лауры из спальни.
Хулио с зажатым в кулаке трупиком пересек гостиную, вошел в спальню и остановился перед Лаурой, глядя ей в глаза.
— Сердечный приступ, — сказал он. — Умерла от сердечного приступа.
— Ты слишком крепко сжимаешь, — заметила она.
Хулио расслабил пальцы, и тельце птицы съежилось внутри его кулака.
— Это сердце, — еще раз повторил он.
Лаура ничего не сказала. Взявшись за краешек простыни, она потянула ее на себя, прикрывая грудь. Жест этот вызвал немедленную реакцию у Хулио. Положив птицу на рукопись Орландо Аскаратэ, лежавшую на тумбочке возле кровати, он резко сдернул с Лауры простыню, и она, обнаженная, инстинктивно сжалась.
— Одевайся, — глухим голосом скомандовал он.
Напуганная Лаура поднялась и начала собирать свою одежду, разбросанную по всей комнате. Хулио, сидя на кровати, неотрывно следил за ее движениями. Взгляд у него был воспаленный, губы сжаты от сознания собственной силы и от желания.
Когда Лаура наполовину оделась, он поднялся, подошел к ней, привлек к себе и снова принялся создавать при помощи ее тела немыслимые архитектурные композиции.
Время от времени она открывала глаза, чтобы посмотреть на трупик птицы, а потом снова закрывала их, как закрывают крышку собственного гроба, удостоверившись, что вокруг уже не осталось ничего живого. Птица уверяла ее, что смерть существует, заставляя подвергнуть сомнению незыблемость тех основ, на которых держалась ее жизнь. И она получала еще большее наслаждение от того, что с ней происходило и что казалось ей сном...
Когда желание было удовлетворено, его место заняла любовь. И они вернулись в постель, и ласки уступили место словам.
Потом, когда в поисках зажигалки для сигареты, которую они с Лаурой собирались выкурить вместе, Хулио шарил по ночному столику, он случайно коснулся птичьих перышек и не просто почувствовал холод смерти, но ощутил его как часть процесса охлаждения жизни как таковой. Тогда он поднялся с постели, взял канарейку и выбросил ее в мусорное ведро. Но когда он вернулся, по лицу можно было понять, что он не просто избавился от птицы и что он не забыл тот вечер, когда в канарейке воплотился дух Тересы. А Лаура, наблюдая за тем, как он уходит и возвращается, понимала, что она перестает быть прежней, что реальность возвращается и входит в ее жизнь в такт ударам ее собственного сердца.
Еще не начинало темнеть, однако ей казалось, что вот-вот наступит ночь.
— Если бы от некоторых людей можно было избавиться с такой же легкостью, — сказал Хулио, забираясь под одеяло.
— От кого ты хотел бы избавиться? — спросила она.
— От твоего мужа, например, — мрачновато отозвался Хулио.
Лаура молчала, прислушиваясь к сухим коротким ударам, с каждым из которых в ее сознание входило чувство вины, определяющее ее душевное состояние.
— Прочти мне какой-нибудь рассказ, — попросила она, чтобы избежать необходимости разговаривать.
Хулио, польщенный, взял рукопись Орландо Аскаратэ и выбрал наугад рассказ. Он назывался “Я потерялся”, и говорилось в нем о том, как один человек как-то в пятницу возвращается домой и застает свою жену больной. У нее симптомы обычного гриппа, ничего страшного, но, тем не менее, они решают отменить запланированную на выходные поездку. Они ужинают и ложатся спать. Всю субботу они проводят в постели: спят, читают журналы и занимаются любовью. В семь вечера человек просыпается, потому что ему хочется курить, и обнаруживает, что у него кончились сигареты. Жена все еще спит. Он осторожно встает, надевает брюки, свитер и выходит из дома, собираясь купить сигареты в баре напротив. Но бар по какой-то неизвестной причине оказывается в тот вечер закрытым. Наш герой, еще не совсем очнувшийся от слишком долгого сна, проходит еще пару улиц и видит наконец ярко освещенное изнутри помещение. Он входит, покупает сигареты, садится у стойки, заказывает пиво и пока его пьет, осматривается по сторонам. И у него возникает чувство, что эти предметы и это освещение он видел когда-то во сне. В баре два официанта и девять или десять посетителей, сидящих в разных углах. Герой вспоминает, что оставил дома спящую жену. Он боится, что она проснется до его возвращения, а потому поспешно расплачивается и выходит на улицу. Он идет по направлению к дому, но очень скоро замечает, что улицы ведут его не туда, откуда он пришел: они выводят к площадям, которые ему неизвестны, и на проспекты, о которых он никогда не слышал. Сначала он приходит в замешательство, но потом решает, что просто пошел не в том направлении, и возвращается к бару. Сориентировавшись, идет по другой дороге. Но результат оказывается таким же. Его охватывает страх, начинает сосать под ложечкой. Он снова возвращается в бар, чтобы позвонить оттуда жене. Его приход производит эффект брошенного в пруд камня: официанты и посетители, собравшиеся в центре бара, словно для того, чтобы обсудить важный вопрос, расходятся в разные стороны, делая вид, что не знакомы друг с другом. Герой чувствует на себе враждебные взгляды, и все же подходит к телефону, снимает трубку и опускает в щель монеты. Но когда он собирается набрать номер, то обнаруживает, что не помнит его. Это кажется ему абсурдом, он уверен, что память к нему вернется, а потому выжидает несколько секунд и повторяет попытку. Но все напрасно: цифры в голове не желают выстраиваться в нужном порядке. Комок подступает у него к горлу.
В этом месте Лаура попросила не читать дальше.
— Это очень тяжелый рассказ, — объяснила она. — Другие были веселее.
— Тебе не нравится? — в голосе Хулио прозвучал упрек.
— Не то чтобы не нравится, но просто мне самой немного грустно, и, когда я слушаю про несчастья этого человека, мне становится еще хуже.
Хулио закрыл рукопись, и снова положил ее на столик. В этот миг день кончился, и на обоих навалилась безнадежная тоска.
Лаура встала и начала одеваться с таким видом, будто собиралась на панихиду.
“Я отвезу тебя домой”, — сказал он, но она вдруг расплакалась и отказалась от его предложения. Она плакала, не переставая одеваться, а Хулио стоял возле кровати, растерянный и испуганный.
— Увидимся завтра, — не терял он надежды.
— Не знаю. Я тебе позвоню. Подожди, пока я позвоню тебе.
Она вышла на улицу, где было светло и тепло. Чтобы немного успокоиться, решила пройтись пешком. И по мере того как приближалась к дому, ею все больше овладевали круговые идеи, возвращавшие ее в привычный надежный круг, в котором были ее муж, дочь, мать и в котором сама она была под надежной защитой. Страх потерять их или страх обнаружить их на прежних местах заставил ее ускорить шаг. Дойдя до улицы Лопес-де-Ойос, Лаура огляделась по сторонам в поисках такси, и, когда подняла руку, чтобы остановить подъезжавшую машину, почувствовала себя прекрасной и никому не нужной.
Двенадцать
В тот день у Карлоса Родо была очень важная встреча, от которой зависело его будущее. Он вышел из клиники в одиннадцать и в одиннадцать двадцать уже входил в кафе, где должна была состояться встреча. Его уже ждали два человека средних лет, немного старше, чем сам Карлос Родо. Они были хорошо одеты, а их лица выражали если не крайнюю степень самодовольства, то, по крайней мере, изрядную самоуверенность.
Начался банальный разговор о новом похоронном бюро — судя по всему, один из собеседников Карлоса был владельцем этого заведения. Он-то и рассказал, что вчера поступило сообщение о заложенной в здании бомбе. Сотрудникам и клиентам пришлось срочно покинуть здание и вынести на улицу усопших.
Потом заговорили о том, ради чего собрались. Человек из похоронного бюро, самый разговорчивый из всех, сообщил, что он и его группа решили поддержать кандидатуру Карлоса Родо на вакантную должность в Аюнтамьенто. В обязанности человека, занимающего эту должность, входит координация и управление всеми муниципальными объектами здравоохранения. По тону разговора можно было понять, что речь шла о ключевом посте в системе здравоохранения и что Карлос Родо — в случае, если он эту должность займет, — вынужден будет взять на себя некоторые не закрепленные никакими договорами обязательства перед представителями группы, которая изъявила готовность ему помочь.
Кафе было в самом центре города, а потому среди посетителей было множество иностранцев из бесчисленных отелей, расположенных в этом районе. Тем не менее за одним из соседних столиков болтали за кофе с чуррос две домохозяйки.
Одна из них в это самое время говорила: “Так вот, на следующий день она пришла его навестить, и он рассказал, что головная боль у него прошла, что он спал, как в молодые годы, что наложил огромную кучу и что о своем шурине больше никогда не слышал”.
У Карлоса Родо удивленно поднялись брови, когда он услышал эту странную фразу, но усилием воли он привел мускулы лица в порядок и обратил все внимание на собеседников. Сейчас самым важным было найти правильный тон, точные слова и подходящую улыбку, которые должны были служить одной цели: убедить собеседников в том, что человек он скромный, но в своем деле является настоящим профессионалом, подчеркнуть его бескорыстие и отсутствие личной заинтересованности в той должности, которую ему предлагают. Он произнес: “Мне хотелось бы, чтобы выбор пал на меня не потому, что я являюсь членом нашей партии, а лишь по причине моих профессиональных заслуг.
Я понимаю, что, находясь на подобной должности, нужно уметь сочетать профессиональные аспекты с аспектами политическими. Вы знакомы с моим проектом, прекрасно знаете мое мнение по поводу того, как в настоящее время работают медицинские центры. Я сознаю, что те, кто трудится в Аюнтамьенто, должны, с одной стороны, разрабатывать и выполнять долгосрочные планы, но, с другой стороны, быть достаточно активными и заметными фигурами, чтобы их деятельность принесла политические дивиденды в короткие сроки. Я всегда придерживался мнения, что эти аспекты их работы являются совместимыми и даже, если хотите, взаимодополняющими. Я понимаю также, что в случае, если я займу эту должность, мне придется приносить многие насущные потребности в жертву политическим целям, некоторые из которых — я допускаю и такую вероятность — останутся мне неизвестны. Для этого существуете вы — люди, способные дать мне четкие указания в нужную минуту. Вы занимаетесь политической деятельностью, которая дает вам возможность глобального, целостного видения. У меня такого видения нет. Но я не наивен, а потому никогда не буду вставать на позиции, которые, даже будучи правильными с профессиональной точки зрения, шли бы вразрез с генеральным курсом партии, тонкости которого мне знать не положено. Одним словом, я полагаю, что если я займу тот пост, который вы мне предлагаете, то должен буду удерживаться от соблазна блеснуть профессионализмом (для этого у меня есть клиника, частная практика и статьи) и превратиться в еще один винтик общего механизма, постараться подчинить свои движения общему ритму. Это мое твердое убеждение. И в доказательство тому я, в тот же день, как вступлю в должность, вручу вам прошение об отставке, где будет стоять моя подпись, но не будет проставлена дата, с тем, чтобы вы сами смогли проставить ее, если это покажется вам необходимым”.
Речь, произнесенная Карлосом, произвела, судя по всему, благоприятное впечатление на его слушателей, и разговор принял другое направление. Собеседники сосредоточились на вопросах практических: кто и почему может выступить против кандидатуры Карлоса Родо и как устранить возможные препятствия на пути к достижению цели. При этом Карлосу Родо было предложено пару раз смошенничать и совершить пяток мелких подлостей по отношению к коллегам, на что тот, не колеблясь, согласился, словно речь шла о тактических приемах, которые нельзя считать грязными, если они приводят к победе: цель оправдывает средства.
Когда пакт был заключен, заговорили на общие темы, словно стремясь сгладить то неприятное впечатление, которое каждый из присутствующих мог произвести на остальных за то время, пока они вместе планировали будущие интриги.
Распрощавшись с собеседниками, Карлос Родо сел в машину и отправился через весь город на улицу Артуро Сориа, к своему психоаналитику, с которым не виделся уже семь лет — с того момента, как прекратил посещать его сеансы.
Первые минуты разговор шел легко и непринужденно. Карлос Родо вкратце поведал о том, чем занимался все эти годы, слегка подчеркнув те моменты, которые характеризовали его как успешного человека.
— И вот недавно, — добавил он, чтобы закончить тему, — мне предложили должность в Аюнтамьенто. Работа сама по себе ответственная — от меня будет зависеть все муниципальное здравоохранение — и, кроме того, может послужить (если я хорошо себя зарекомендую) трамплином для достижения еще более ответственных постов, например, в министерстве.
Психоаналитик, немолодой человек с черной бородой и в очках в тонкой оправе, дужки которых, казалось, вросли в его виски, выслушал рассказ о блестящей карьере Карлоса Родо спокойно, не прерывая, но и не поощряя рассказчика. Потом задал вопрос: “Вы пришли, чтобы поведать мне о вашей профессиональной деятельности?”
Карлос Родо почувствовал себя так, словно ему воткнули кухонный нож в тот уголок тела или души, где гнездится тщеславие. Он сидел напротив своего психоаналитика, их разделял лишь большой кабинетный стол — единственный темный предмет в залитой светом комнате, — и бросил быстрый взгляд налево, на обитый кожей диван, на котором когда-то провел множество часов. Мебель была расставлена так же, как в его собственном кабинете.
— Нет, — ответил он уже совсем другим тоном. — Нет. На самом деле, я пришел за советом. У меня сложились странные отношения с одним трудным пациентом, и я не знаю, что делать. Я мог бы обсудить этот вопрос с кем-нибудь из коллег, но боюсь, что моя профессиональная репутация слишком сильно пострадает. И я предпочел обратиться к вам.
Карлос Родо изложил случай Хулио Оргаса, не вдаваясь в подробности и останавливаясь только на тех деталях, которые считал совершенно необходимыми. Таким образом, рассказ получился лаконичным и сжатым, однако в нем не была забыта ни одна из допущенных Карлосом Родо профессиональных или человеческих ошибок, не скрыта ни одна из проявленных им слабостей.
Слушая своего коллегу и бывшего пациента, старик смотрел на него тем невыразительным взглядом, какой бывает у человека, который, научившись понимать страсти других людей, давным-давно избавился от собственных.
— И что вы сами думаете об этом? — спросил он, когда Карлос умолк.
— Ну, я полагаю, что пациент подсознательно знает, что Лаура — моя жена. Следовательно, он пытается занять мое место. С другой стороны...
— Не надо рассказывать мне о том, что происходит с вашим пациентом. Расскажите, что происходит с вами.
— Я не знаю, — ответил Карлос Родо, секунду поколебавшись. То есть я понимаю, что мои действия, с точки зрения профессионала, нужно рассматривать как несостоятельные. Полагаю также, что моя роль в развитии событий является гораздо более активной, чем может показаться на первый взгляд. Я не помню, в какой именно момент мне стало ясно, что женщина в парке — это моя жена Лаура, но совершенно отчетливо помню, как и когда я признался себе в том, что знаю, о ком рассказывает мой пациент. Хотя первое произошло, без сомнения, гораздо раньше второго. Таким образом, я подозреваю, что каким-то неуловимым образом способствовал, в ущерб своим же интересам, развитию отношений между ними.
— И почему, как вы думаете, вы это сделали? — задал очередной вопрос старик.
— Потому что мне доставляло и до сих пор доставляет острое удовольствие слышать имя Лауры из уст Хулио Оргаса. Вы можете подумать, что я извращенец, усмотреть во мне сходство с любителем подглядывать за другими. Но, мне кажется, речь идет о чем-то более сложном. Вы знаете, я никогда не относил себя к людям, для которых любовь имеет большое значение. Мои устремления — я никогда этого не скрывал — лежали в другой области: меня интересовали только политика, профессиональный успех и тому подобное. А вульгарные страсти — те, которые я считал вульгарными, — я всегда распределял между борделями и случайными связями: они не должны были становиться препятствием на моем пути.
— На пути к чему?
— Вы прекрасно знаете к чему: к общественному признанию. Я никогда этого не стыдился. Это такое же законное стремление, как и всякое другое. Вам это хорошо известно: вы многого добились. Я женился на девушке, которая мне нравилась, но в которую я не был страстно влюблен. Я был уверен, что смогу подчинить ее энергию, сложить с моей и направить обе на достижение поставленной цели. И, надо признать, все шло хорошо: Лаура отказалась от собственных стремлений (если они у нее вообще когда-нибудь были) и посвятила свою жизнь мне. Так что все было на своих местах. Она не просто любила меня — она восхищалась мной. И восхищалась моими достижениями. Я хотел создать крепкую семью. А для этого достаточно, чтобы один любил, а другой был умен. Поэтому мне кажется, что отсутствие влюбленности с моей стороны — это большое преимущество. Однако с тех пор, как Хулио Оргас начал говорить мне о Лауре, я уже не могу жить без этих рассказов. Постепенно я начал влюбляться в собственную жену, и, если на каком-либо из сеансов речь не заходит о ней, я сам осторожно навожу пациента на эту тему. И это происходит со мной в сорок лет, когда я достиг зрелости и уже был уверен, что время, когда со мной могло стрястись подобное, миновало навсегда. И хуже всего то, что я не могу отказаться от этого пациента — он необходим мне: он звено, которое все еще соединяет меня с Лаурой. Я влюбился в нее, благодаря ему.
— Объясните мне, пожалуйста, — попросил старик, глядя своими серыми глазами поверх оправы очков, — что значит слово “циник”?
— Ну, — начал Карлос Родо тоном легкого превосходства, — это слово, произнесенное вами так, как вы его произнесли, имеет оттенок некоторого морализаторства, которого я в вас раньше не замечал. Я допускаю возможность, что вы хотите заклеймить меня циником, если понимать под цинизмом осознание и признание собственных желаний и способность формулировать их тогда, когда это представляется нужным.
Однако мне кажется некорректным давать на основе психоанализа моральную оценку этим или каким-либо другим поступкам.
— Здесь ставится под сомнение не мой профессионализм, — ответил на это старик своим обычным нейтральным тоном, — а ваш.
— Согласен, согласен. И я сам в этом виноват. Я понимаю, что произвожу неважное впечатление, но я не за этим пришел.
— Вы в этом уверены? Уверены, что пришли сюда не с той же целью, с какой ходите в бордели, — дать свободу проявления тем граням своей личности, которые вы не решаетесь или не хотите демонстрировать в других местах?
— В каких местах? — несколько растерялся Карлос Родо.
— В постели со своей женой, например.
— Извините, но я пришел сюда просить о помощи.
— И в чем вам нужно помочь?
— Я и сам не знаю.
— Прекрасно знаете... Вы пришли за советом, которого я не могу вам дать, потому что моя работа заключается в другом. Ключ к решению проблемы, которая возникла у вас с пациентом, в ваших руках, а не в моих. Вы помните, на чем мы с вами остановились в психоанализе? Сколько, кстати, времени прошло с тех пор?
— Семь лет. Мы тогда расстались вопреки вашему желанию. Вы настаивали, что психоанализ еще не закончен, что нам следует продолжить. Но у меня было иное мнение. Вы знаете, что моя профессиональная подготовка безупречна.
— Теоретическая подготовка.
— У меня такое впечатление, что вы выставляете мне счет за решение, которое должен был принять я и только я, — заметил Карлос Родо, стараясь, чтобы его тон был менее агрессивным, чем его слова.
— Вам известно, — медленно ответил старик, — что такое решение не в компетенции пациента.
— Но я не был обычным пациентом. Я был специалистом в этой области и имел право на собственное мнение и право принять решение самостоятельно.
— Вы так и поступили. А теперь ответьте: мог ли бы психоаналитик с тем уровнем подготовки, который, как вы считаете, есть у вас, попасться в сети, расставленные вашим пациентом?
— Хорошо, согласен: имел место досадный промах с моей стороны. Именно потому я здесь. Я не знаю, что мне делать! — теперь в его голосе звучало искреннее отчаяние.
— Что ж, — сказал старик с едва заметной улыбкой, больше похожей на отцовскую, — связь между пациентом и психоаналитиком — это тонкая нить, которая иногда рвется напрочь, не оставляя надежды на то, что ее можно будет снова соединить. Наша с вами связующая нить давно разорвана, так что я, не являясь больше вашим психоаналитиком, волен сказать вам одну вещь. Возможно, это прозвучит как приказ, но я предлагаю воспринять мои слова как совет: возобновите сеансы, курс не завершен. Хороший специалист не совершил бы ошибки, которую совершаете вы в случае с пациентом, о котором вы мне рассказали. И еще: задумайтесь над вашими с ним непростыми отношениями. Вы утверждаете, что не можете обходиться без Хулио Оргаса, потому как он является связующим звеном между вами и Лаурой; утверждаете с полной уверенностью, не оставляющей места сомнению, что влюблены в Лауру, вашу жену, а между тем из того, что я услышал, вытекает, что на самом деле вы влюблены в вашего пациента, и ни в кого другого. Вдумайтесь: вы с ним примерно одного возраста, оба жаждете общественного признания, у обоих неспокойна совесть и оба не желаете признаться в этом самим себе. И оба, как кажется, безумно влюблены в одну и ту же женщину. Когда я слушал, как вы описываете своего пациента и его порывы, у меня возникло ощущение, что вы говорите о себе самом. Ваш пациент — это ваше зеркало. Вы сказали мне, что он вот-вот получит повышение и станет одним из руководителей издательства, в котором работает, а вы в это время как раз собираетесь занять очень важную должность в здравоохранении. Поразмыслите над этим. Я не говорю: подумайте о власти — во-первых, потому что вы уже о ней думаете, а во-вторых, я не хочу, чтобы меня считали моралистом. Проблема не в том, что человек стремится к власти, а в том, что в этом стремлении отсутствует внутренняя логика.
Карлос Родо вышел от коллеги злой на самого себя. И зачем только он поддался слабости и обратился за помощью! В машине он включил радио и напряг мышцы лица, чтобы стереть с него выражение отчаяния. Стоявшее в самом зените солнце заливало светом улицы, крыши, слепило пешеходов. Карлос Родо почувствовал укол в затылок — сигнал невралгии, которая не заставила себя ждать. Достал из кармана флакон с лекарством и проглотил две капсулы. Он был огорчен тем, что на старика не произвел никакого впечатления рассказ о его многочисленных достижениях, и впервые за долгие годы усомнился в том, что действительно добился успеха.
Был вторник. Вечером на очередной сеанс должен был прийти Хулио Оргас.
Тринадцать
— Что за жизнь! — воскликнул Хулио Оргас, устроившись на диване. — В прошлое воскресенье у меня была Лаура. Мы обедали, занимались любовью. А потом я убил свою канарейку, которая была виновата лишь в том, что не вовремя начала высвистывать “Интернационал”. Кончилось тем, что у Лауры испортилось настроение — а может быть, ее начали мучить угрызения совести, — и она почти убежала из моей квартиры. Не знаю, что нам делать. У меня складывается впечатление, что наши отношения нас никуда не приведут.
— А куда, по-вашему, они должны привести? — спросил у него за спиной Карлос Родо нейтральным тоном, лишенным какой бы то ни было эмоциональной окраски — тем самым, каким он всегда разговаривал с пациентами.
— Не знаю, но уверен: все, что не ведет нас к счастью или гибели, ведет в никуда... в абсолютное никуда. Вчера я работал допоздна — на меня сошло вдохновение. Покончил с делами, которые ждали своего часа не один месяц, и написал стоившую мне немалых усилий рецензию на сборник рассказов одного молодого и дерзкого автора.
— И почему же эта рецензия стоила вам усилий?
— Нужно было высказать в ней два взаимоисключающих мнения: с одной стороны, нельзя было не отметить достоинства рукописи, а с другой — следовало подвести к выводу о нецелесообразности ее издания. Только не спрашивайте меня почему.
— Я и не спрашиваю.
— Что ж, возможно, этот вопрос я задал себе сам. Все дело в том, что я создал шедевр. Три страницы хитросплетений и соединений несоединимого, написанные к тому же длиннейшими периодами. И на этих страницах спрятано мое преступление. Если бы я тратил столько усилий на написание своих романов, я бы давно прославился.
— О каких романах вы говорите?
— Если бы этот вопрос задали не вы, мне послышалась бы в нем ирония. Я имею в виду, естественно, те романы, что мною не написаны. Для меня они, однако, в определенном смысле существуют, словно, после того как я их задумал, они начали развиваться сами по себе, помимо моей воли и без моего ведома, как будто кто-то другой писал их по моим указаниям в том, другом, измерении — том, что скрыто от нас за событиями повседневной жизни. Все мы полагаем, что наша жизнь состоит из того, что на виду, что всем заметно, что происходит или может произойти. Вот вы, например, считаете себя моим психоаналитиком, а я считаю себя вашим пациентом, моя секретарша убеждена, что я ее шеф, а я верю, что она моя секретарша. Лаура не сомневается, что для меня она Лаура, в то время как она для меня Тереса, и я не знаю, к кому она обращается, когда говорит со мной, но уверен, что не к Хулио Оргасу. И вот так, принимая все эти условности, мы и живем. Нет, не подумайте, я не против условностей: благодаря им строятся города и прокладываются автомагистрали, возвышаются империи и формируются иерархии, и все, в общем, функционирует, и неплохо, так что мы в конце концов начинаем верить, что одни вещи происходят раньше других и что первые являются причиной вторых. Но на самом деле все обстоит не так. На самом деле мое место и ваше, к примеру, являются взаимозаменяемыми. Почему вы — психоаналитик, а я — пациент? Только потому, что у вас есть соответствующие дипломы, а мне необходима помощь? Вы даете согласие на то, чтобы лечить меня, а я соглашаюсь лечиться, хотя и сам не знаю от чего. Таким образом, деньги переходят из одних рук в другие, и условная жизнь идет своим ходом. Но наши с вами отношения в один миг могут измениться с той же легкостью, с какой возникли. Иногда все обстоит хорошо, и я со всем согласен, даже со светофорами и с политической системой. Я что-то делаю, и делаю неплохо. Меня повышают по службе. Мой сын хочет, чтобы я сводил его в кино и так далее. Но все же иногда я ненадолго, пусть всего лишь на несколько секунд, мрачнею, превращаюсь в другого человека, хотя окружающие — благодаря соглашению, которое мы все заключили, — продолжают видеть меня таким, каким я был раньше. А что со мной в такие минуты происходит? А происходит то, что я вхожу в контакт с обратной стороной вещей, с иным измерением.
В одном из рассказов Орландо Аскаратэ — того типа, на чью рукопись я писал рецензию, я вам говорил, — повествуется о писателе, романы которого имеют успех только тогда, когда выходят под именем его жены. А у меня есть рассказ — тоже ненаписанный (на бумаге, по крайней мере) — о двух писателях, которые вместе едут в поезде на чрезвычайно важную международную конференцию и, пропустив бокал-другой, решают обменяться текстами своих выступлений. И один из них имеет на этой конференции оглушительный успех, и все литературные приложения печатают его речь и его фотографии на первой полосе, и скоро он становится знаменитым, в то время как истинный автор доклада не просто остается в тени, но и терпит неудачу за неудачей, с каждым днем опускаясь все ниже. Отсюда следует, что не стоит тратить время на поиски собственного пути или стремиться сформировать себя как неповторимую личность. Если бы мы действительно были неповторимыми личностями, нам не потребовалось бы для доказательства этого столько бумаг: справок, паспортов, дипломов и тому подобного. Вот что я по этому поводу думаю.
Хулио замолчал и, приподняв голову, начал рассматривать носки своих ботинок. Находящийся вне поля его зрения Карлос Родо был для него всего лишь сгустком субстанции — правда, слегка грузноватым и лысоватым. Молчание длилось несколько минут, пока его не нарушил психоаналитик:
— Вы рассказали это для того, чтобы подвести меня к какому-то выводу?
— Я хотел показать, что наши действия ни к чему не ведут.
— Как и ваши с Лаурой отношения?
— Вот именно: как наши с Лаурой отношения. Хотя здесь мне нужно быть осторожнее: в прошлое воскресенье она вдруг перестала быть Тересой, но может в любой момент опять стать ею — это не зависит ни от нее, ни от меня.
— И от кого же тогда это зависит?
— Сие есть тайна, связана она с другою стороной реальности, которую мы не можем видеть и которой не можем управлять. Если бы то, что происходит со мной, происходило с героем рассказа Орландо Аскаратэ, то все зависело бы от автора. Впрочем, нет: у меня такое впечатление, что кто-то диктует этому парню то, что он пишет. Попробую объяснить по-другому, и, может быть, вы меня поймете. Я влюбляюсь в женщину, когда думаю, что в ней есть нечто, чего нет у меня, но на что я, тем не менее, имею право. На самом деле мне кажется, что каждая из женщин, на которых я смотрю, обладает фрагментом чего-то, что принадлежит мне. И если случайно в одной из них обнаруживается сразу несколько таких фрагментов — я влюбляюсь. Само собой разумеется, они и понятия не имеют, что владеют моей собственностью. И Лаура не догадывается, что в ней живет Тереса — живет в ее жестах, в ее глазах, в ее голосе, в том, наконец, как рассыпаются ее волосы, когда она кладет голову мне на грудь. Но проходит время, отношения достигают определенной точки, и то, что казалось явным и очевидным, неотъемлемо присущим моей возлюбленной, вдруг исчезает, испаряется и таким же неожиданным образом появляется в другой женщине. И тогда женщина, которую я любил, становится плотной и бесцветной. В ней может еще теплиться какая-то искра, оставаться крохотный осколок того, чем обладала она прежде, но мне этого недостаточно. Мне нужно все или ничего. Иногда мне кажется, что женщины, владеющие тем, что принадлежит мне, передают это друг другу, чтобы свести меня с ума. То, что я сейчас сказал, может показаться вам чушью, но дело обстоит именно так: у женщин есть общие интересы, которые для нас, мужчин, недоступны, они делятся секретами, которые не должны достигать мужских ушей. В последние дни, лежа в постели с Лаурой, я каждый раз думал о том, что ее влагалище соединяется тайными протоками с влагалищами всех женщин, какие были, есть и будут. И каждый раз, входя в нее, я чувствовал, что вхожу в широкую реку, образованную слиянием всех этих потоков.
— Вам известно, что такое бред?
— Это то, что я вам сейчас рассказываю. Но вот в чем дело: бредом можно счесть что угодно. Все зависит от того, под каким углом зрения смотреть. Одно очевидно: женщины, нравится нам это или нет, сообща владеют тем, что является и нашей собственностью. Некоторые из них — те, в которых я обычно влюбляюсь, — умеют лучше хранить то, что ищем мы все, хотя и каждый по-своему. Тереса, к примеру, была чудесным сосудом для хранения совокупностей и для хранения абсолютного. И Лаура тоже: в ней могут уживаться, не мешая друг другу, пятьдесят тысяч разных женщин.
— Вы бредите сознательно. Если так пойдет дальше, то мы, как вы сказали в начале нашей беседы, никуда не придем. Все, что вы наговорили с той минуты, как начался сегодняшний сеанс, есть не более чем дымовая завеса, за которой скрывается ваш страх: вы боитесь разобраться в том, что с вами происходит.
— Бредить сознательно... — задумчиво повторил Хулио, глядя в потолок. Интересное словосочетание. Если бы такое сказал я, вы бы тут же к моим словам прицепились: усмотрели бы в них новую тему для психоанализа. Но я действительно собирался рассказать вам кое-что забавное. В прошлую субботу мне в голову пришла идея нового романа, в котором вы являетесь одним из персонажей. Я уже начал его писать. Речь в нем идет об одном человеке, который, как и я, ходит на сеансы психоанализа к человеку, похожему на вас, и который влюбляется в женщину, похожую на Лауру. В конце концов оказывается, что Лаура — жена психоаналитика, то есть ваша жена. И вот, начиная с этого места, повествование может развиваться в разных направлениях.
— И в каких же? — тон Карлоса Родо стал чуть менее нейтральным, чем обычно.
Хулио вкратце изложил основные варианты.
— Карлос Родо дополнил: “Мне кажется, вы упустили из виду еще одну возможность”.
— Какую? — удивился Хулио.
— Психоаналитик и его жена понимают, что происходит, а пациент — нет.
— Ну!.. Эту вероятность я исключил, поскольку я в данном случае являюсь не только рассказчиком, но и главным героем, и, сами понимаете, не хочу выставлять себя дураком. И к тому же такой поворот сюжета завел бы повествователя в тупик: ни один психоаналитик не станет играть в подобные игры. Если, конечно, речь идет о профессионале, таком, как вы — а персонаж романа, который я собираюсь написать, очень на вас похож. В жизни такие ситуации могут встречаться, а вот в литературе — никогда.
— Это почему?
— Просто жизнь полна невероятных происшествий, которые являются отличным материалом для газетных репортеров, потому что, насколько бы невероятными они ни казались, они являются свершившимся фактом. Однако те же самые происшествия в романе будут выглядеть фальшиво. Законы правдоподобности различны для реальности и для художественной литературы,
— И на каком же из вариантов вы в конце концов остановились?
— В этом-то и проблема: любой из них хорош в качестве завязки сюжета, но ни один ни ведет ни к чему.
— Похоже, сегодня ничто не ведет ни к чему.
— Я хочу сказать, что, сколько бы я ни думал, не могу найти достойного финала ни для одного из вариантов развития сюжета. Точнее, любой из них ведет к развязке, которой мне хотелось бы избежать. И сейчас вам полагается спросить меня, что это за развязка.
— И что это за развязка? — не заставил себя ждать Карлос Родо.
— Преступление.
— Какое именно преступление?
— Преступление на почве страсти, но интеллектуальное по форме. Преступление, от которого выигрывают оба любовника, и притом настолько безупречное, что у них даже не возникает чувства вины.
— То есть жертвой должен стать я? — мрачно произнес сгусток Карлоса Родо.
— Я не ожидал, что вы примете историю так близко к сердцу. И я вам за это очень благодарен.
— Я просто пытаюсь объяснить, что сюжет вашего романа, скорее всего, лишь скрытое проявление агрессии, которая направлена на меня и которую вы не решаетесь продемонстрировать открыто.
— Это было бы слишком простое объяснение. Я сознаю, что вы воплощаете для меня целый ряд наделенных властью людей, связь с которыми я до сих пор не могу разорвать. Но, насколько я понимаю, одной из ваших задач как психоаналитика и является воплощать в себе этих людей. А сейчас, если вы не возражаете, вернемся к разговору о моей работе, а я — напоминаю — писатель.
— Вы уверены, что вы писатель?
— Уверен, доктор. Быть писателем — значит иметь особый темперамент. Писатель в чистом виде — это тот, кто за всю жизнь не написал ни строчки: лучше не давать себе возможности потерпеть поражение в том, что для тебя важнее всего на свете.
— На предыдущих сеансах вы говорили совсем другое. Вы говорили, что невыносимо страдаете от того, что не можете писать.
— Наверное, был в плохом настроении. А сегодня у меня настроение прекрасное.
— Можно узнать почему?
— Не знаю, возможно потому, что я начал писать роман. Или потому, что предчувствую: в скором времени что-то должно произойти. А может быть, причина в другом: выйдя от вас, я пойду в парк, встречу там Лауру, и она, вполне вероятно, догадается, что я больше не влюблен в нее.
— Для вас это означает свободу?
— Думаю, да. Это позволит мне уделять больше времени моему роману. Нельзя одновременно писать и жить, нельзя быть одновременно писателем и персонажем.
— И почему нельзя?
— Не могу объяснить. Нельзя, и все.
— Вы говорили о предчувствии. О том, что что-то должно произойти. Что вы имели в виду?
— У меня такое бывает. Я замечаю едва уловимые признаки событий, уже имевших место в других измерениях, но еще не нашедших отражения в нашем. Например, что мой отец скоро умрет, или что, вернувшись домой, я найду на столе уже написанный роман.
— Какой из этих вариантов вы выбрали бы, будь ваша воля?
— Это неправильная постановка вопроса. Эти события являются единым целым.
— Хорошо, вернемся к тому, о чем говорили раньше. Вы утверждали, что не хотите, чтобы развязкой романа стало преступление. Но вы не объяснили почему.
— Это банально. С определенной точки зрения сюжет моего романа можно рассматривать как комедийный: в нем наличествует любовный треугольник и существует много возможностей для создания запутанных, двусмысленных и при этом очень смешных положений, если читатель ждет именно этого. А если я добавлю сюда преступление, то выйду за рамки водевиля и окажусь в жанре детектива. Получится неоправданное скопление малых жанров.
— Итак: преступление не выход из конфликта?
— Дело в том, что оно-то как раз и является выходом. Преступление облегчает боль, и в конце концов каждый оказывается на своем месте: убитый — в гробу, убийца — в бегах, подстрекатель страдает от угрызений совести, наследники плачут, а читатель со спокойной душой закрывает книгу. Есть ситуации, единственным выходом из которых является преступление. Но я не чувствую себя в силах написать подобное произведение. Кроме того, в этом случае повествование снова заходит в тупик. Будут ли пациент и его любовница по-прежнему любить друг друга, после того как покончат с психоаналитиком? Возможно, и будут, но, чтобы такое продолжение выглядело правдоподобным, потребуется написать еще страниц тридцать, продумывая каждое слово. А может быть, они разлюбят друг друга, и тогда роман получится увечным. Какой смысл заставлять двух невинных любовников совершать преступление, которое ничего не решит?
— Вы разбираетесь в этом лучше, чем я, — пожал плечами Карлос Родо, но, насколько я понимаю, персонажи произведения иногда выходят из повиновения и поступают не так, как хочет автор.
— Вы хотите, чтобы жертвой стал я, и я вас в этом не упрекаю. В самом деле, развитие сюжета может пойти и по такому пути. Психоаналитик может убить своего пациента. Но кто тогда будет продолжать повествование? Ведь рассказчика не станет? Признаюсь, впрочем, что как раз сегодня, за обедом, мне пришла в голову мысль несколько расширить образ повествователя, добавить несколько холодных, как помада на губах трупа, блесток, и дать читателю увидеть часть истории с точки зрения психоаналитика и его жены. При условии, что удастся достичь желаемого эффекта холодности, получилось бы неплохо. Но опыт подсказывает мне, что все персонажи, включая второстепенных и даже третьестепенных, начинают очень активно развиваться, если дать им малейшую волю. Как бы то ни было, вариант, который вы только что предложили, есть лишнее подтверждение ранее высказанной мною мысли: люди легко могут поменяться ролями, достаточно одной случайности. В комедиях положений никто не является на самом деле тем, кем кажется, и в этом смысле их можно назвать реалистическими. Но я не хочу писать реалистический роман.
— Создается впечатление, что вы вообще никакой роман не хотите писать.
— Разумеется. При условии, что этот ненаписанный роман войдет во все энциклопедии и о нем будут написаны целые тома исследований на всех языках мира. Чем более утонченным становится искусство, тем больше приближается оно к ядру непознанного, к пропасти.
— И какова роль читателя во всем этом? Вы уже трижды о нем упоминали.
— В одном детективе — сейчас не вспомню чьем — жертвой является именно читатель. Конечно, автор не может заставить читателя делать то, что он, автор, захочет, но читатель — участник действия. А иногда даже помеха для него — когда у него начинается одышка или когда щелкает зажигалкой, закуривая очередную сигарету. И, по сравнению с другими персонажами, именно он теряет больше всех. Поверьте мне: я выступал в роли читателя множество раз.
— И что же он теряет?
— Время и невинность. Такова жизнь.
— Хорошо, — поднялся со своего места сгусток Карлоса Родо, — закончим на сегодня. Мой вам совет: подумайте до пятницы о своем отношении к нашим сеансам. Мне кажется, вам следует его изменить. Сегодняшнюю встречу вы превратили в игру, при этом единственной вашей целью было избежать разговора о том, что действительно является важным.
— Вам кажутся плодотворными только те сеансы, на которых я мрачный и злой?
Вместо ответа Карлос Родо протянул пациенту руку, которую тот (отметив про себя, что на плечах психоаналитика слишком много перхоти) пожал, прежде чем уйти.
Четырнадцать
Когда Хулио вышел на улицу, солнце уже давно спряталось за затянувшими все небо облаками, которые были обязаны своим появлением стоявшей весь день жаре. Но было сухо, и ничто не предвещало дождя в ближайшие часы.
Подгоняемый нетерпением, он попытался пересечь улицу Принсипе-де-Вергара в том месте, где не было светофора, и его едва не сбила мчавшаяся на большой скорости машина. Возмущенный водитель что-то кричал ему, но Хулио, даже не взглянув в его сторону, продолжал бежать к парку. Однако оскорбления водителя достигли его слуха, и, когда он остановился, чтобы перевести дыхание, он вдруг почувствовал, как на смену хорошему настроению приходит состояние подавленности. Юная парочка, проходившая мимо, разглядывала его, как разглядывают чудака или попрошайку в костюме и при галстуке. И тогда он заметил, что он слишком тепло одет для такого жаркого дня: на нем был плащ, в котором он проходил всю зиму. С Хулио лил пот, волосы растрепались. Под пристальным взглядом юнцов он вдруг отчетливо понял, что начинает стареть и что этот процесс необратим.
И тогда, вместо того чтобы идти в парк, он направился в ближайший бар, где заказал у стойки виски и пошел в туалет. Там он снял плащ, поправил узел галстука, пригладил руками волосы и некоторое время разглядывал зубы, пытаясь определить, насколько они потемнели за последнее время. “Такое чувство, что я прихорашиваю труп”, — пробормотал он, обращаясь к своему отражению, которое ответило ему вымученной улыбкой. С перекинутым через руку плащом он вернулся к стойке, взял свое виски и начал пить, рассчитывая паузы между глотками, чтобы опьянение наступало постепенно и медленно, чтобы алкоголь действовал именно на те зоны его характера, которые особенно в нем нуждались. Позади, за ближайшим к стойке столиком, ссорились влюбленные подростки. Она опустила голову, и ее искаженное плачем лицо закрыли волосы. Официант подмигнул Хулио, кивнув на парочку: “У них вся жизнь впереди. Еще успеют натрахаться, так что пока могут тратить время на ссоры”.
Вульгарность этой фразы покоробила Хулио и пробудила какое-то давно забытое воспоминание, и в ту же секунду восприятие реальности изменилось, как изменилось оно несколькими днями раньше, когда мать подала ему чашку с бульоном. На несколько мгновений он застыл неподвижно, опершись правой рукой на стойку, в надежде, что все вернется на свои места. Наверное, лицо его исказилось — он понял это по напряженному взгляду официанта.
Тогда он глотнул еще виски и перевел взгляд на экран телевизора, стоявшего на другом конце стойки. На экране женщина с длинными волосами и изумленными глазами объявляла о выступлении хора молодых священников, исполнявших грегорианские песнопения. Картинка сменилась, и экран заполнили сутаны, каждая из которых была увенчана лицом с отсутствующей улыбкой. Несколько секунд священники простояли в нерешительности, потом тот из них, что казался старше, вышел из строя, повернулся спиной к зрителям, взмахнул рукой. Рты открылись, и из них полились первые такты “Интернационала”.
Хулио заплатил за виски и вышел на улицу. Движение еще не было интенсивным. Машины останавливались и трогались с места четко и быстро — казалось, чья-то рука управляет ими с помощью невидимого пульта. Пешеходы деловито двигались в разных направлениях с таким видом, словно единственное, что их беспокоило, была работа их собственных внутренних механизмов. Пелена облаков казалась теперь куском ткани, туго натянутым на раму.
У входа в парк несколько старичков играли в петанк. Некоторые были совсем старые, но это была старость стали — казалось, с годами они не дряхлели, а становились крепче.
Хулио шел к тому месту, где обычно встречался с Лаурой. У него снова слегка поднялась температура, и неприятные ощущения помогали ему оценить каждое движение своего тела, особенно таза и плеч, и это возбуждало его. У него было крепкое тело и светлая голова, способная принять решение или отдаться чувству.
Но Лауры не было. Он поискал среди немногочисленных деревьев, стараясь не привлекать внимания знакомых женщин, которые, как всегда, привели сюда своих детей, но не обнаружил ни Лауры, ни ее дочери. Тогда Хулио покинул парк, сел в свою припаркованную неподалеку машину и поехал в издательство. За время короткого пути он пришел к выводу, что все еще любит эту женщину, но не ощутил никакой грусти. Наоборот, он чувствовал себя спокойным и уверенным. И знал, что все будет хорошо.
Его секретарша уже ушла, но на столе лежала оставленная ею записка: “Звонил большой шеф. Он хочет с тобой поговорить. Целую, Роса”.
Хулио набрал телефонный номер из четырех цифр и подождал несколько секунд, пристально глядя на листок с написанными рукой секретарши строчками. Потом произнес: “Роса оставила мне записку. Вы хотели меня видеть?” Повесил трубку, пружинисто встал со стула и направился к кабинету директора.
— Продолжаешь учить английский? — спросил шеф, как только Хулио вошел.
— Да, — ответил тот. — Языки такая штука — чем больше знаешь, тем отчетливее понимаешь, как далек от совершенства. И еще к дантисту ходить постоянно приходится.
— А что так?
— Пара коренных зубов никуда не годится. О чем вы хотели со мной поговорить?
Директор выдвинул ящик стола и достал оттуда рукопись Орландо Аскаратэ, к обложке которой скрепкой была прикреплена рецензия, написанная Хулио. Посмотрел сначала на рукопись, потом поднял глаза на Хулио и, помолчав, произнес: “Мне показалось в прошлый раз, что ты меня понял. Эту книгу мы издавать будем. Так решено наверху”.
Хулио помолчал немного, разглядывая стоявший напротив него ящик с карточками, словно тот представлял для него чрезвычайный интерес, потом ответил: “Да я не имею ничего против. Перечитайте внимательно мою рецензию, и убедитесь, что я не написал о рукописи ни одного плохого слова. Единственное, что вызывает у меня некоторые опасения, это коммерческая сторона дела.
— Теперь все ясно, — сказал директор, давая этим понять, что вопрос о публикации рукописи закрыт. — Эти вопросы пусть тебя больше не волнуют. А рецензию возьми и подкорректируй. И, пожалуйста, выражайся попроще: у тебя там встречаются такие длинные фразы, что, когда дочитаешь до конца, уже забываешь, о чем шла речь в начале. И помни, что официально решение принимаешь ты и берешь на себя ответственность тоже ты.
— Согласен, — кивнул Хулио и заговорщически улыбнулся директору. Но тот на его улыбку не ответил.
Вернувшись в свой кабинет, он разорвал написанную им ранее рецензию и взялся за новую. На третьей фразе он уже получал удовольствие от работы: слова как будто сами стекали с кончика шариковой ручки и послушно выстраивались во фразы, занимая именно для них предназначенные места, как занимают свои места фигуры в геометрическом узоре. Он не испытывал никакой злобы к Орландо Аскаратэ: он никогда бы до такого не опустился. “Жизнь в шкафу” будет иметь успех, а ее автор прославится.
Хулио вышел из издательства в семь. Облачная пелена уже не казалась туго натянутой — сейчас это были огромные рыхлые кучи, с трудом передвигавшиеся в сторону юга. Когда он шел к гаражу, где оставил машину, его окликнул по имени человек примерно его лет, полностью облысевший, но при этом выглядевший как постаревший подросток. На нем были джинсы и переливавшаяся всеми цветами радуги рубашка, поверх которой был надет довольно мятый льняной пиджак. Ботинки на нем были желтые.
Это был Рикардо Мелья, когда-то однокурсник Хулио, а впоследствии автор полудюжины приключенческих романов, имевших относительный успех. За последние годы Хулио несколько раз пересекался с ним на презентациях книг и коктейлях, имевших очень отдаленное отношение к литературе, но старался избегать его — отчасти оттого, что испытывал зависть неиздаваемого писателя к более удачливому коллеге, отчасти потому, что презирал Рикардо за манеру одеваться и за его книжки. Рикардо Мелья очень настойчиво приглашал зайти посидеть в баре, и Хулио в конце концов согласился — все же это лучше, чем просидеть весь вечер одному в квартире. Все бары по соседству оказались переполнены, и Мелья предложил: “Слушай, а пойдем ко мне домой? Я живу в двух шагах отсюда, на Сеа-Бермудес. У меня нам будет спокойнее”. Хулио не смог удержаться от соблазна. Он чувствовал себя очень комфортно рядом со второстепенным писателем, сознавая, что сам он был представителем издательства первостепенного. С другой стороны, Рикардо Мелья болтал без умолку, и Хулио достаточно было время от времени вставить какое-нибудь междометие. Реальность по-прежнему виделась в странном свете, а приятное ощущение, какое бывает при повышенной температуре, не покидало его. Хулио чувствовал каждую клеточку своего тела, каждую капельку пота, покрывавшего его. Он казался сам себе рельефным комом, положенным на плоскую фотографию, которая пыталась выдать себя за жизнь.
Они вошли в роскошный подъезд, находившийся под надежной защитой двух охранников и одного консьержа.
— Просто здесь живет один министр, — пояснил Рикардо, когда они поднимались на лифте.
Квартира была огромная и вся заставлена предметами искусства, вывезенными из Африки и Южной Америки. Просторная гостиная была разбита на несколько зон, и в каждом из ее многочисленных углов стоял большой, обитый кожей, диван и столик со стеклянной столешницей на единственной золоченой ножке. В простенках между многочисленными окнами были развешаны слоновьи бивни, шкуры различных животных и музыкальные инструменты, большей частью Хулио неизвестные. Женщина и парнишка лет пятнадцати-шестнадцати играли в парчис на лежащем посреди гостиной персидском ковре. Женщина была блондинка с маленькими блестящими глазами. Ей было около сорока, но зрелость только подчеркивала ее достоинства. Заметно было, что природа и время работали над ней прилежно и не спеша. Ее нос был безупречен, а рот чуть великоват — словно создан для улыбки. Просторная оранжевая блуза была надета прямо на голое тело, и маленькие груди соблазнительно приподнимали тонкую ткань. Когда она встала с ковра, Хулио заметил, что под ее обтягивающими брюками тоже ничего не было надето.
— Моя жена и ее сын от первого брака, — представил игроков в парчис Рикардо Мелья. — А этого важного сеньора, — он указал на Хулио, — зовут Хулио Оргас. Он издает хорошие книги и продает их за хорошие деньги. Он мой товарищ по университету и не только по университету.
— Будете играть с нами? — спросила женщина.
— А и правда, давай? — поддержал ее Риккардо Мелья. — Пара на пару: ты с моим другом, а я с твоим сыном.
Хулио привела в восторг мысль о возможности хоть как-то пообщаться с этой женщиной, но ему очень хотелось выпить, а виски ему никто не предложил. Перед парнишкой стояла бутылка кока-колы.
— Как тебя зовут? — обратился Хулио к женщине, бросив кости.
— Лаура, — ответила она, обнажив в улыбке зубы, прекрасно сочетавшиеся с декором стен.
— У меня есть подружка, которую тоже зовут Лаура, — улыбнулся Хулио. — Но это не ты.
— Никогда не говори “никогда”, — парировала она, слегка щурясь, словно была близорука. — Твоя очередь бросать, Рикардо.
Некоторое время они играли молча. Парнишка сидел с отсутствующим видом, но каким-то странным образом контролировал каждое перемещение каждой фишки на доске. Когда партия уже близилась к концу, Рикардо Мелья поднялся с ковра и жестом пригласил Хулио следовать за ним. Женщина и мальчик продолжали играть. Помещение, куда они пришли, служило, вероятно, кухней, хотя больше походило на операционную. Рикардо Мелья открыл один из шкафов и достал оттуда несколько маленьких конвертиков.
— Они, — кивнул он в сторону гостиной, — в парчис играют целыми днями. А мы с тобой пока нюхнем. Здесь кока. Чистая, привезена из Колумбии.
Мелья показал, что и как нужно делать, Хулио следовал его указаниям. Когда порошок попал в ноздри, он с трудом удержался, чтобы не чихнуть.
— Мне очень нравится твоя жена, — произнес он беспристрастно, словно повторял чьи-то слова.
— Она из тех баб, что мужиков тысячами с ума сводят. Я пытался ей изменять, но не смог.
— Почему?
— Потому что у нее есть какой-то секрет, которым, кроме нее, не владеет никто.
— И что это за секрет? Сейчас я похож на своего психоаналитика.
— Если б я знал! Это какая-то мистика. Она с одинаковым энтузиазмом играет в парчис и готовится к путешествию в Китай. Такое впечатление, что у нее отсутствует шкала ценностей. Ты меня понимаешь? И потом, всегда кажется, что она только что вернулась из таинственных мест, куда остальным смертным путь заказан.
— Понятно, — кивнул Хулио, сохраняя прежнюю беспристрастность тона.
Они сели друг напротив друга за большой белый стол, в центре которого стояла какая-то необыкновенная ваза. Рикардо Мелья разлил виски и, проведя рукой по лысине, предупредил: “Пока не пей. Подожди, пока кокаин начнет действовать”. И вдруг добавил: “У меня тут сзади какая-то шишка. Вот увидишь: окажется, что это рак”.
— Какой рак? — спросил Хулио.
— Пластиковый. Они самые гигиеничные.
Оба посмеялись и снова замолчали. Обоим, казалось, было очень хорошо. Хулио обвел взглядом кухню. Сделал глоток и поинтересовался: “Слушай, Рикардо, откуда у тебя деньги на всю эту роскошь?”
— А! Отовсюду понемножку. Бизнес. Сейчас я на мели, но вот-вот должен закончить роман и пару сценариев. А потом уеду в сельву ненадолго. Набираться впечатлений.
— С Лаурой?
— Нет, она останется здесь. Она думает, что я Хемингуэй.
Хулио задумался. Он почти видел, как мысли движутся внутри его головы, как формируются суждения, как память регистрирует их. Он наблюдал за ходом мыслей с той же легкостью, с какой наблюдал за работой висевших на противоположной стене часов в прозрачном корпусе.
Да, видно, Рикардо Мелья принадлежит к числу типов, для которых заработать деньги ничего не стоит. Он говорил о поездке в сельву (подумать только: в сельву!) с той же легкостью, с какой другие говорят о походе в ресторан. Хулио сделал еще глоток виски и предостерег: “Будь осторожен, не то дело может кончиться тюрьмой или еще чем похуже”.
— С чего бы это? — удивился Рикардо Мелья.
— Нельзя иметь так много хороших вещей, ничего за это не платя.
Рикардо Мелья долго раздумывал над словами Хулио. Потом заговорил: “Ты рассуждаешь как истинный христианин. То есть, полагаешь, что если случилось что-нибудь хорошее, то потом обязательно должно произойти что-нибудь плохое. Поэтому ты и писать не смог.
— Сейчас я влюблен, — возразил Хулио, — и, если повезет, напишу роман.
— Любовь не помогает писать романы. Она отнимает слишком много сил, — произнося эти слова, Рикардо Мелья выстукивал стаканом по столу ритм одному ему слышной мелодии.
— Ты помнишь “Интернационал?” — спросил Хулио.
— Конечно, помню. Мы пели его на трех языках. Только я его давно не слышу.
— А я слышу, но не обращаю внимания. Кстати, ты ведь моложе меня, а почему-то совсем лысый.
— Это из-за химиотерапии.
— Ясно, — ответил Хулио. — Можно попросить тебя об одолжении?
— Говори.
— Ты мог бы прикончить одного типа, которого я тебе укажу? Одного инженера?
— И что мне за это будет?
— Я приобрету для нашего издательства роман, который ты заканчиваешь.
— Надо подумать. Позвони мне через пару дней.
Следующие пятнадцать минут прошли в молчании, иногда прерываемом смехом — но каждый из них смеялся над своим. Рикардо Мелья снова налил виски в стаканы и, прежде чем сесть, снова погладил лысину. Хулио вздохнул: “Подумать только, сколько раз за день у человека меняется настроение! За сегодняшний день я дважды был настроен иронично, дважды грустил, один раз радовался, один раз пришел в отчаяние, дважды испытал эйфорию и дважды чувствовал себя подавленным.
— Удивительно! А как ты себя сейчас чувствуешь?
— Спасибо, прекрасно. А ты?
— И я прекрасно, спасибо. А как твоя семья?
— Прекрасно, прекрасно. Все прекрасно, большое спасибо!
— Не за что.
Они допили виски, и Рикардо Мелья налил еще.
— Послушай, Рикардо, — начал Хулио, — тебе удается дойти до сути, когда ты пишешь?
— О чем это ты?
— О сути, о бездне.
— Я пишу приключенческие романы, и в них есть и пропасти, и бездны, и утесы и ущелья. Но того, о чем говоришь ты, в них нет.
— Понятно. Это бывает только у поэтов.
— Гомики они, твои поэты, — без всякой злобы ответил на это Рикардо Мелья.
— Я забыл покурить, — Хулио достал из кармана пиджака пачку сигарет.
— Я не курю. Но теперь уже все равно: у меня же рак.
— Ну, да. Пластиковый. И не обижайся: ты это сам сказал.
— Оно и лучше: я смогу его почистить моющим средством. Не то что другие, у которых он весь грязный.
Хулио сосредоточенно курил. Его голова работала с быстротой и точностью калькулятора, а сигарета имела особый вкус — гораздо более интенсивный, чем тот, который он ощущал, когда курил, выйдя из кино. Потом произнес: “Рикардо, я пришел к выводу, что существует вечная жизнь”.
— В таком случае ты уже можешь идти, а мне еще нужно закончить роман, два сценария и пять партий в нарчис. Они поднялись из-за стола, и Рикардо Мелья проводил Хулио к выходу. Уже в дверях Хулио вспомнил: “Я забыл свой плащ в гостиной, но это не важно: я тебе его дарю. Все равно скоро будет совсем тепло”.
— А я тебе дарю свой модный пиджак. Бери, — и Рикардо снял пиджак и протянул Хулио. — Когда будешь его стирать, суши в скомканном виде, чтобы он как следует помялся.
Когда Хулио вышел на улицу, была уже ночь. Огромная яркая молния разрезала небо. Хулио остановился на тротуаре, залюбовавшись ею. Он понимал, что она через миг должна исчезнуть, но она не исчезала. Она была такой четкой, что казалась неоновой рекламой. Потом она погасла, как гаснет электрический свет, и прогремел гром. А за ним, словно вторя громовым раскатам, мимо Хулио прогромыхал мусоровоз, перетряхивавший в своем нутре отбросы.
Те два квартала, что нужно было пройти от дома Рикардо до принадлежавшего издательству гаража, он шел под дождем. Капли были редкими, но крупными и тяжелыми. Хулио шел медленно, словно танк или экскаватор, с такой же, как у них, уверенностью и точностью передвижения. Ничто в ту минуту не могло бы остановить его.
Когда он сел в машину, мотор которой зазвучал, как симфония, к нему вернулась уверенность, что вскоре что-то произойдет. Муж Лауры умрет или превратится в Хулио. И тогда Хулио займет место инженера и будет рядом с Лаурой до конца своих дней. Я заберу сына, думал он, и у Инес будет старший брат. А если этого не произойдет — что ж: будет вечная жизнь. То есть не вечная жизнь, а другая жизнь: в конце концов, и она может оказаться не вечной. И в этой другой жизни его душа будет лететь рядом с душой Лауры, они полетят над реками и океанами, а когда будут пролетать над сельвой, увидят, как Рикардо Мелья пишет что-то в толстый блокнот, сидя на стволе дерева, а рядом с ним гориллы играют в парчис.
Не успел он войти в квартиру, как зазвонил телефон. Он снял трубку: “Слушаю”.
— Хулио, Хулио, это я Лаура! Я уже который раз тебе звоню!
— Меня не было дома. Я еще пока не научился находиться в нескольких местах одновременно. Сегодня, когда я не увидел тебя в парке, я хотел покончить с собой, но не успел: встретил приятеля и проболтал с ним весь вечер, а сейчас уже немного поздно.
— Что с тобой, Хулио? Ты напился?
— Да, чтобы думать о тебе. Я хочу, чтобы мы жили вместе. И чтобы мой сын тоже жил с нами. Потому что так будет лучше для Инес.
— Я тоже, Хулио. Я тоже хочу быть с тобой. Но придется немного потерпеть. Поэтому сегодня я и не пошла в парк: не нужно, чтобы нас видели сейчас вдвоем.
— Должно случиться что-то, после чего все изменится, так?
— Да, кое-что произойдет.
— Хорошо. Тогда, с канарейкой, это был несчастный случай. Эти птички такие хрупкие, поэтому у нее случился инфаркт миокарда.
— Я знаю. Не волнуйся, забудь про это. И потом... ты знаешь... мне понравилось.
— Если хочешь, я куплю еще канареек, и мы будем убивать их всякий раз, когда будем заниматься любовью. Где сейчас твой муж?
— В своем кабинете. Работает.
— Я в это время уже не работаю. Я мог бы быть хорошим мужем.
— Ему просто нужно написать доклад. Все, пора заканчивать разговор. Береги себя, Хулио, и не пей из-за меня. Все уладится. Сейчас ложись спать. Иди осторожно, не ударься о мебель. Не ушибись. И не пытайся встретиться со мной. Я тебе позвоню. Целую, целую тебя крепко. Прощай.
— Прощай, жизнь моя! Знаешь, когда я был молод, я никому не мог сказать “жизнь моя”, потому что считал, что для любви было не время — надо было делать революцию и все такое... Я был аскетом, когда был молодой. А сейчас хочу купить себе пижаму, как у Рикардо Мельи, а на работу буду ходить в его модном пиджаке. И к своей секретарше Росе буду отныне обращаться не иначе как “жизнь моя”.
Лаура уже повесила трубку. Хулио сделал то же самое, посмотрел на клетку, все еще висевшую на своем месте, подошел к дивану, лег и принялся наблюдать за воображаемым писателем, который, сидя за его столом, писал его роман — роман под названием У тебя иное имя, потому что именно это было и фабулой, и сюжетом — безвыходным сюжетом, который мог бы заполнить пустоту, возникшую после исчезновения другого имени — имени Тересы, — и помочь преодолеть расстояние, все еще отделявшее его от Лауры.
Пятнадцать
— Сегодня опять будешь работать допоздна? — спросила Лаура мужа, убирая со стола.
— Придется, — ответил он. — Нужно закончить тот доклад для Аюнтамьенто.
Карлос Родо, прихватив пару стаканов, направился следом за женой на кухню.
— А почему бы тебе не поработать дома? В гостиной тебе было бы удобно.
— Мне лучше работается у себя в кабинете. И потом, у меня там пишущая машинка и все необходимые документы под рукой. Я бы выпил еще кофе.
— Что ж, поднимайся в кабинет, если хочешь. Я приготовлю термос с кофе, как вчера, и принесу тебе чуть позже.
— А если девочка проснется?
— Ничего страшного: я только поднимусь к тебе — и сразу обратно.
Карлос Родо выглядел не то подавленным, не то усталым. Пока Лаура мыла посуду, он пошел посмотреть, не раскрылась ли во сне дочка. Потом прошел в ванную, открыл висевший над раковиной шкафчик, взял один из стоявших там пузырьков, вытряхнул на руку две капсулы и проглотил их, запив водой. Потом снял пижаму и переоделся в синий спортивный костюм, висевший на крючке около двери.
Когда он вернулся в гостиную, Лаура вязала у телевизора.
— Что показывают? — спросил он.
— Какой-то фильм. Хичкок, кажется.
— Я посижу с тобой немного перед тем как пойти работать.
— Как хочешь. Кофе я сварю попозже.
Они молча сидели перед телевизором. Когда началась реклама, Карлос Родо заметил как бы между прочим: “Инес сказала мне, что вы уже несколько дней не ходите в парк”.
— Да, в последние дни мы туда не ходим. Из-за одного типа. Бездельника, который садится с нами и болтает безумолку.
— Он вам мешает?
— Нет, он просто противный. На следующей неделе сходим, посмотрим — может быть, ему надоело, и он перестал приходить.
Они еще немного помолчали, потом Карлос Родо неуверенным тоном спросил: “Ты себя в последнее время лучше чувствуешь?”
Спицы в руках Лауры замелькали быстрее. Несколько секунд она, глядя на экран, внимательно слушала рекламу и только после этого ответила: “Я меньше нервничаю. Думаю, это бесконечные домашние дела виноваты — отнимают слишком много сил. Не беспокойся, все пройдет. А как твои дела продвигаются?”
— Хорошо. Уже почти окончательно решено, что эту должность займу я. Придется немного побороться, из-за того что я не чиновник. Поэтому мне так важно поскорее закончить доклад и утереть нос одному советнику, который пытается пропихнуть на это место своего друга.
— Тебя ведь тоже пропихивают друзья? Это и называется политикой.
— Ты не совсем права. Дело в том, что у нас есть проект. Очень прогрессивный, тщательно продуманный, составленный в том же духе, что и проекты, уже давно и с успехом действующие в других странах. Мы здесь отстали от остальных лет на сто.
— И ты будешь зарабатывать больше, чем зарабатываешь сейчас?
— Оклад будет не намного больше. Но у меня будет больше частных пациентов, и я смогу направлять пациентов к своим коллегам.
— А они будут тебе очень обязаны?
— Разумеется. Но все же эта должность — только трамплин. Я мечу в министерство.
Лаура подняла глаза от вязанья и улыбнулась: “Хочешь стать министром?”
Карлос Родо, тоже улыбнувшись, снисходительно ответил: “Я достаточно хорошо для этого подготовлен. Мне почти сорок, а это время собирать плоды двадцати лет напряженной учебы и изнурительной работы. Есть теория, согласно которой человек, занявший высокую должность в возрасте примерно сорока лет, потом всю жизнь будет занимать руководящие посты. Поэтому, если я не добьюсь ничего сейчас, я не добьюсь ничего никогда.
— Ты добьешься, — снова опустила глаза Лаура. — У тебя сильная воля и хорошие связи.
— Добьюсь, если мне удастся немного успокоиться, — голос Карлоса Родо дрогнул при этих словах.
— Ты знаешь, что всегда можешь рассчитывать на мою поддержку.
— Как ты смотришь на то, чтобы завести еще одного ребенка? — сейчас голос Карлоса Родо звучал более уверенно.
— Не торопи события, Карлос, — остановила она.
Реклама кончилась. На экране снова замелькали кадры фильма. Он был черно-белый, и Лаура подумала, что, когда привыкаешь к цветному изображению, черно-белые фильмы кажутся схематичными.
Карлос Родо еще несколько минут посидел рядом с ней на диване, потом поднялся с видом человека, который собирается приступить к тяжелой физической работе. Он казался повеселевшим, и глаза его светились решимостью.
— Ну что ж, — произнес он, — пойду поработаю.
— В следующую рекламную паузу принесу тебе кофе, — ответила Лаура, не глядя на мужа. — Положу побольше сахара: сахар полезен при умственной работе.
Когда дверь за мужем закрылась, Лаура бросила вязанье в корзинку, уменьшила звук телевизора и подошла к телефону. Она набрала номер Хулио.
— Привет, Хулио, это я, Лаура, — произнесла она, когда ей ответил голос на другом конце провода.
— Привет, Лаура. Я чувствовал, что ты сейчас позвонишь.
— Как ты себя чувствуешь? Лучше, чем вчера?
— Вчера у меня выдался трудный день. Похмельем мучился. Но сейчас все в порядке. Послушай, Лаура, — Хулио заговорил быстро, путаясь в словах, — не знаю, что тому виной — то ли возраст, то ли весна, но я весь горю... я сегодня дважды мастурбировал... я могу думать только о тебе, все, что я ни делаю и ни говорю, ведет к тебе.
— Молчи! Молчи. У меня сердце готово разорваться. Нужно потерпеть. Ты не чувствуешь, что приближается решительный час?
Хулио немного помолчал. Потом заговорил снова: “Да, меня уже несколько дней не покидает предчувствие. Словно кто-то подает мне знак. Я вижу все в другом свете. Лаура, вчера я был пьян, но сегодня я почти не пил, только немного виски, и я по-прежнему уверен, что хочу жить с тобой.
— Не хочешь стареть один, так ведь? — задала она провокационный вопрос, и Хулио, даже не видя ее, догадался, что она улыбается. — А что ты сейчас делаешь?
— Смотрю по телевизору фильм Хичкока. А когда он закончится, сяду писать. Я пишу роман.
— Если он получится таким же замечательным, как твои рассказы, будет просто здорово. А кому ты его посвятишь?
— Тебе, жизнь моя, тебе. Послушай, я купил себе джинсы и пару цветных маек — устал от костюмов и галстуков. Они меня старят.
— Ты стройный, джинсы на тебе хорошо будут смотреться.
— Как думаешь, не продать ли мне машину? Куплю вместо нее мотоцикл — огромный, какие сейчас делают, и объедем на нем вместе с тобой всю Европу?
Лаура весело засмеялась, а Хулио добавил: “Я серьезно. Вчера я был у одного приятеля — он мой ровесник и совсем лысый. Но выглядит гораздо моложе меня, потому что носит модную одежду. Он подарил мне отличный белый пиджак — знаешь, из этих, что всегда выглядят мятыми.
— Сколько раз сегодня ты наливал себе виски, любимый?
— Раза два. Но помногу.
— Весна свела тебя с ума, — подвела итог Лаура игривым голосом, растягивая слова — словно это она сама была весной.
— Ты свела меня с ума, Лаура, — возразил Хулио.
Они помолчали несколько секунд, словно оба в один миг отказались продолжать общение через посредника, который не позволял им видеть друг друга, или словно после вспышки веселья вдруг оба погрустнели.
— Мне пора закачивать разговор, — быстро проговорила Лаура, как если бы кто-то приближался к ней.
— Не забывай меня, — попросил Хулио. — Не забывай меня, жизнь моя!
Лаура повесила трубку и пошла на кухню готовить кофе. Поставив кофеварку на огонь, она вернулась в гостиную, и тут же снова зазвонил телефон. Звонила ее мать.
— С кем ты разговаривала, дочка? Невозможно было дозвониться.
— С одной знакомой, которую терпеть не могу. Вы с ней на пару сегодня не дадите мне досмотреть фильм.
— Да его уже в третий или в четвертый раз показывают. А что Карлос делает?
— Он наверху, у себя в кабинете. Работает.
— Как продвигаются дела с новым назначением?
— Да вроде все хорошо. Конкурентов почти нет.
— Хоть бы ему повезло, дочка! Ему это сейчас очень нужно.
Лаура не ответила: не хотела продолжать этот разговор.
— После того что ему пришлось пережить... — мать сделала еще одну попытку спровоцировать ее.
— Что ты имеешь в виду, мама? — спросила Лаура.
— Ваши отношения, что же еще. Никак они у вас не ладятся!
— Мама, не начинай! — начала злиться Лаура.
— Это ты не начинай. Скажи правду: у тебя есть другой мужчина?
— Какой другой мужчина! У меня на это нет времени.
— Послушай, дочка: приключения — вещь приятная. Только вот долго они не длятся, и после них во рту остается привкус горечи. Если не кончается чем похуже.
— Тебе это известно из собственного опыта? — спросила Лаура с нарочитой жестокостью. Она хотела повесить трубку, но не могла: слова матери задевали ее. Они продолжали оскорблять друг друга, понимая при этом, что взаимные оскорбления не ослабят их связь, а лишь упрочат ее. Каждая из них жила в лабиринте собственных грехов и ошибок, в которых все больше запутывалась, и эти лабиринты давно переплелись между собой.
— Я твоему отцу не изменяла! — с болью в голосе воскликнула мать.
— Ну и зря.
— Послушай, дочка, давай прекратим этот разговор. Запомни только: что бы ты ни сделала, твоя мать всегда будет на твоей стороне. Даже если будет умирать от боли и стыда. Всегда на твоей стороне.
— Этим ты даешь мне разрешение?
— Прощай, — ответила мать и повесила трубку.
Лаура вернулась на кухню и выключила газ: кофе кипел уже несколько минут. Но выкипело совсем немного. Лауру удивило, что она не испытывает ни малейшего чувства вины и более того: уверена, что это чувство никогда больше ее не остановит. Никогда не омрачит ее жизнь. Переливая кофе в термос, она думала о том, что своим теперешним спокойствием обязана матери, что та словно взвалила их общую вину на свои плечи, облегчив дочери путь к намеченной цели. И вдруг Лаура поняла, что за всеми разносами, которые устраивала ей мать, за всеми проповедями, что она ей читала, скрывались ободрение и поддержка. Мать словно подталкивала дочь к запретной черте — осторожно, со сдерживаемым нетерпением, — словно умоляла сделать последний шаг. И это была даже не мольба: это был приказ.
Она долила в термос молока из бутылки, положила двенадцать ложек сахара, потом взяла термос и прошла с ним в ванную, где пересыпала в него содержимое флакона с голубыми капсулами и завинтила крышку. Удостоверившись, что дочь спит, взяла ключи и поднялась в приемную мужа.
Карлос Родо сидел за печатной машинкой. Увидев входящую жену, прервал работу и улыбнулся: “А вот и кофе. Очень кстати!”
Пот лил с него градом, а волосы так слиплись, что стала заметна намечающаяся лысина. Во взгляде сквозило если не сумасшествие, то крайнее возбуждение.
— Пей понемногу, — посоветовала Лаура, — чтобы на весь вечер хватило. Боюсь, будет невкусно: я положила слишком много кофе и слишком много сахару. Пей, словно это сироп.
Вернувшись домой, она снова зашла к дочери — проверить, не проснулась ли та, потом пошла в гостиную, выключила телевизор и открыла ящик письменного стола. Раскрыв извлеченный из тайника дневник, начала писать: “Сделать можно все, но не все разрешено делать. Недозволенное прячется внизу, и его пожирают живущие в канализации крысы. Дозволенное обитает на поверхности, и его потребляют министры. Дистанция между разрешенным и запрещенным (то есть между распрещенным и зарешенным) не всегда одинакова. Порой дистанция растворяется, словно яд в кофе (или словно як в коде), и тогда дозволенное и недозволенное становятся единым целым. И тогда не возбраняется совершать жестокие деяния (или дестокие жеяния), как на карнавале в Рио-де-Жанейро. А когда праздник кончается, все снимают маски и костюмы (каски и мостюмы) и возвращаются к обычной жизни — иногда счастливой, иногда нет, но без вмешательства полиции (или полешательства вмелиции). Однако те, кому не хватает ума или здравомыслия, отказываются снимать маски и продолжают творить бесчинства, за что в конце концов их задерживают и сажают за решетку. Этим я хочу сказать, что можно наведываться в ад или в лепрозорий, но только так, чтобы об этом не догадались ни соседи, ни близкие родственники. Вопрос заключается в том, сумеешь ли потом вернуться к нормальной жизни (или к жирмальной нозни). Завтра напишу все это еще раз. Но понятным языком. Привет от меня X.”
Она закрыла дневник, спрятала его в потайной ящик и направилась в коридор. Хотела зажечь свет, но передумала и вернулась в гостиную. Подошла к телефону и набрала номер Хулио. Услышала на другом конце провода вязкий, глухой, сонный голос, несколько секунд подержала трубку возле уха и повесила ее.
Зайдя в ванную, она умылась. Наложила на лицо крем и начала медленно раздеваться. Раздевшись донага, почистила зубы и вернулась в гостиную. Снова набрала номер Хулио. И, когда он ответил, начала ласково водить трубкой по бедрам и ягодицам под доносившиеся до ее слуха отчаянные “Алло! Алло! Слушаю!” Потом повесила трубку, с загадочной улыбкой пошла в спальню. Легла, нагая, в постель и уснула.
Шестнадцать
В четверг Хулио появился на работе одетый в джинсы, голубую майку и мятый пиджак Рикардо Мельи. Обут он был в белые спортивные туфли и того же цвета носки.
Роса, секретарша, открыла при его появлении рот, забыв даже поздороваться. Хулио сел за свой стол и принялся просматривать компьютерную распечатку сводки о продажах за последний квартал, обводя карандашом названия тех книг, которые были уже распроданы. Затем нажал кнопку вызова секретарши.
— Садись, — предложил он, когда Роса вошла.
Она села напротив него и положила на колени раскрытый блокнот, собираясь записывать. Со стороны могло показаться, что она не хочет смотреть в глаза своему шефу.
— Как тебе мой пиджак? — спросил Хулио.
— Очень резкая смена имиджа, — ответила она, улыбнувшись.
— Так нравится или нет, жизнь моя?
Роса поколебалась:
— Они сейчас в моде. И подходят для всего — и как спортивная одежда годятся, и как выходная, и на работу можно прийти.
— Ты это серьезно? — спросил Хулио неуверенно.
— Ну да, — ответила Роса, почти не колеблясь, словно вдруг стала поклонницей нового стиля. — К нему рубашку светлых тонов и кремовый галстук — получится отлично. И тебе очень пойдет.
— Просто на выход я хотел купить костюм целиком. Такой же мятый. И кожаный галстук.
— Мне кожаные галстуки совсем не нравятся. Черт его знает почему.
— Бывают и красивые.
— Может быть, но мне не нравятся.
Хулио закурил и оглядел кабинет. Действительность по-прежнему демонстрировала свою обратную сторону.
— Этот шкаф для бумаг похож на гроб.
— Но он очень удобный.
— И шторы ужасные. Когда-то они, возможно и казались элегантными. Всякий раз, когда я на них смотрю, вспоминаю крохотную гостиную в доме своих родителей.
— Если хочешь, я попрошу, чтобы нам их поменяли.
— Да ладно, не стоит. Может, лучше журнальный столик поставим для комплекта?
— Как скажешь, — в тоне секретарши прозвучала не то растерянность, не то усталость.
Хулио закрыл глаза и подпер рукой голову, словно отдыхал после тяжелой умственной работы: “Я сегодня всю ночь писал”.
— Что?
— Что писал? Роман.
— И как он называется?
— “У тебя иное имя”.
— Звучит красиво.
— Посмотрим, что получится. И опубликую его в другом издательстве, чтобы никто не посмел сказать, что я использовал служебное положение в личных интересах.
— И когда думаешь закончить?
— Не знаю. Зависит от многих причин. Сначала нужно уладить одно заковыристое дело. — И совсем другим тоном добавил: — А сейчас возьми этот список и составь письмо с рекомендацией переиздать те книги, названия которых я обвел карандашом.
— Хорошо. Да, тебе звонил начальник производственного отдела. Соединить тебя с ним?
— Не нужно. Оставим на завтра. Скажи, что я на заседании. И послушай, Роса...
— Да?
— Ты знаешь, что я иду на повышение?
— Слухи давно ходят.
— Последуешь за мной или мне придется искать новую секретаршу?
— Мы с тобой навек вместе. К тому же я смогу гордиться тем, что у меня самый модный шеф в издательстве.
Хулио дал понять, что разговор окончен, и секретарша вышла из кабинета. Часа два он работал, и работал очень интенсивно — казалось, новая одежда придавала ему сил и энергии. Потом просмотрел прессу, зевнул, закурил и подумал о Росе. Она была женщина самая обычная: не красавица и не уродка, не умница и не дура, но в последнее время Хулио с удивлением начал замечать за ней очень интересные вещи, которые объяснил для себя наличием у нее особого ума, не поддающегося измерению обычными мерками. “Она ведет себя с людьми так, — думал Хулио, — словно в отношении каждого заранее выработала свою стратегию. А потому ни один из ее поступков не является спонтанным: он часть продуманного, точно рассчитанного и никому, кроме нее, не известного плана”.
Его размышления прервала сама Роса: она сообщила, что Хулио хочет видеть директор. Он вышел из кабинета и направился к шефу. Все, кто попадался ему навстречу в бесконечных коридорах издательства, замирали на месте, а потом долго смотрели ему вслед.
Директор был не один: с ним был президент издательской группы. При виде входившего Хулио директор в изумлении выкатил глаза, а президент, напротив, подошел к нему и, протянув руку, произнес: “Я рад, что хотя бы один из моих служащих не носит надоевшую уже униформу. Не знаю почему, — на этот раз президент обратился к директору, — но у вас все одеваются в серое. В других компаниях уже начали одеваться менее официально. Что больше соответствует духу времени.
— Хулио, — начал директор, оправившись от шока, — всегда был впереди других. Иногда даже слишком.
— Но такие люди нам и нужны. Люди с новыми идеями, с новой манерой одеваться — с новым стилем, одним словом.
Хулио слушал их разговор отстраненно и задумчиво, словно речь шла о другом человеке. Он сознавал, что говорили о нем, но находился в другом измерении, так что генеральный директор и президент могли видеть лишь декорацию. Однако этой декорации было достаточно, чтобы одержать победу.
— Что ж, — подвел итог президент, — директор уже говорил о новой должности, на которую мы планируем назначить тебя. Однако в последние дни, изучая твое личное дело и твой послужной список в нашем издательстве, я пришел к выводу, что ты будешь более полезен не в качестве координатора, а в качестве заместителя директора. В ближайшие годы нам придется столкнуться с чудовищной конкуренцией. Новые технологии уже сейчас заставляют нас менять привычные схемы. Мы сможем выжить, только если станем лучшими, расширим ассортимент продукции и завладеем теми сегментами рынка, которым до сих пор не уделяли должного внимания. Чтобы заниматься всем этим, тебе необходима власть, какую может дать лишь работа в генеральной дирекции. Мы хотим расширять производство, но очень продуманно, мы хотим зарабатывать больше, но не любой ценой. Главная задача сейчас — разработать четкий план развития, который выведет наше издательство на первое место. Ты будешь пользоваться поддержкой директора и моей поддержкой. В твоем распоряжении будут любые средства, которые ты сочтешь нужными. Мы делаем на тебя ставку и надеемся, что ты оправдаешь наши ожидания.
Хулио бросил взгляд на генерального директора — тот выглядел растерянным. “Еще год — и я сяду в твое кресло, сукин сын”, — подумал Хулио и перевел взгляд на президента, но посмотрел не в глаза, а как бы сквозь него, словно его внимание привлекло что-то, находящееся у президента за спиной. Помолчав секунду, заговорил бесцветным голосом: “В последние годы мы уделяли исключительное внимание производственной сфере, потому что нам удавалось продать все, что печаталось на наших машинах. Но сейчас, как вы сами говорите, все изменилось, а в будущем изменится еще больше. Нельзя и дальше делать упор на производство, нужно обратить внимание на коммерческую сторону дела. В последнее время этими вопросами почти никто не занимался. С другой стороны, издание печатной продукции в будущем будет зависеть, безусловно, от новых технологий. Но не только. Нужно будет заняться и нашим имиджем. Вот о чем нам следует задуматься, если мы хотим выжить. И для этого нужно разработать хороший план, действенный проект, который позволит избежать неприятных сюрпризов и даст нам преимущество перед конкурентами. Я уверен, что такая работа в компетенции именно генеральной дирекции, и полагаю поэтому, что с организационной точки зрения будет более полезно и целесообразно поручить мне работу именно там, вместо того чтобы назначать меня на должность простого координатора. Тем более что я прекрасно могу выполнять эту работу, и находясь на посту заместителя генерального директора.
Директор, казалось, был доволен спокойной и прохладной реакцией Хулио, который даже не поблагодарил за новое назначение. Реальность вдруг стала похожей на глину: так легко она принимала различные формы, повинуясь его капризам. Ему вдруг показалось, что он может делать с ней все, что ему будет угодно, что достаточно лишь захотеть, и желание тут же исполнится. Генеральный директор тоже стал что-то говорить, пытаясь соперничать с речью, произнесенной Хулио, а тот, глядя на него, вдруг понял: Орландо Аскаратэ не был протеже президента. Никаких указаний сверху, на которые намекал генеральный директор, не было: решение о публикации “Жизни в шкафу” было его личным решением. И тогда Хулио заявил: “Одно из первых мероприятий, которые мы обязаны провести, это пересмотр нашего портфеля на ближайшие годы. Мне кажется, в нем есть вещи, которые нам не годятся, которые попали в список публикаций, благодаря некоторой нашей инерции и отсутствию критического подхода. Подобные произведения могут подорвать уважение к нашему издательству. Я имею в виду, в частности, сборник “Жизнь в шкафу” Орландо Аскаратэ. И дело не в том, что книга плоха сама по себе: я лично дал на нее положительную рецензию, а в том, что ее автор недостаточно серьезен, чтобы делать на него ставку в предстоящий нам трудный переходный период.
Генеральный директор слегка побледнел и поспешил вмешаться: “Совершенно с тобой согласен, Хулио. Как раз вчера я взял эту рукопись домой и читал ее всю ночь. Книга неплохая. Но не дотягивает до нашего уровня. Сегодня утром я отдал распоряжение не публиковать ее.
Хулио кивнул, подтверждая его слова, и слегка сжал губы. Он вдруг почувствовал запах бульона, того самого, чашку с которым подносила ему мать, и понял, что окружающая реальность, та самая привычная, обыденная реальность, полна щелей, сквозь которые люди, подобные ему, могут проникать, чтобы увидеть жизнь с другой стороны. Эти щели искусно замаскированы под обычаи, правила поведения, привычки. Но иногда они открываются — как открываются раны, как открывается рот, — и поводом для этого может послужить что угодно: от чашки бульона до реинкарнации. И через эти щели человек способен проникнуть в лабиринт, из туннелей которого может управлять жизнью, как кукольник управляет марионетками.
Разговор продолжался еще около часа, но ничего существенного больше сказано не было. Хулио вернулся в свой кабинет, сообщил секретарше хорошие новости и отправился обедать.
Он хотел в одиночестве насладиться триумфом, а еще хотел пройтись по улице в своих новых джинсах, голубой майке и мятом пиджаке. “До будущего рукой подать, — сказал он себе, не разжимая губ. И добавил: — Прощай, Орландо Аскаратэ! Полезай в свой шкаф и затеряйся там среди его ящиков”.
Он пообедал в дорогом ресторане неподалеку от издательства. А после обеда выпил три чашки кофе и две порции виски и из-за стола поднялся в той степени опьянения, когда знакомые улицы кажутся улицами совершенно чужого города. Ему совсем не хотелось возвращаться на работу. И неожиданно для себя он решил навестить Рикардо Мелью, чтобы рассказать об удаче, которую принес его пиджак.
Ему открыла жена Рикардо, одетая в прозрачную тунику. Войти она не предложила.
— Привет! — сказал Хулио.
— Привет! — ответила она с улыбкой, предназначенной не ему.
— Рикардо дома?
— Рикардо? Нет. Он уехал в сельву.
Хулио подумал немного и пришел к выводу, что она говорит неправду.
— В какую сельву? — спросил он.
— Не знаю, — пожала она плечами. — Где-то в Гватемале, кажется. Он никогда ничего не говорит.
— Можно войти на минутку? — спросил Хулио.
Женщина посторонилась, давая ему пройти, и они вместе направились в гостиную. Она шла чуть впереди, ее туника развевалась, образуя многочисленные причудливые складки и обрисовывая то одну, то другую часть стройного тела — сквозь ткань просвечивала розовая тугая плоть.
Мальчишки-подростка на сей раз в гостиной не было. Хулио сел на один из многочисленных диванов и сообщил: “Я только что пообедал”.
— Понятно, — ответила женщина.
— Я не верю в историю про сельву, — заявил Хулио без всякого перехода.
— Но он мне велел говорить это всем друзьям.
— Мы с ним не друзья, — возразил Хулио. — Если честно, мы с Рикардо всегда друг друга недолюбливали. Мы полжизни друг друга избегали. До того самого дня, когда я приходил к вам. И, между прочим, я тогда уже заметил, что он что-то скрывает.
— Что ж, раз ты ему не друг, — сказала женщина просто, — я могу тебе сообщить. Он в больнице. Видимо, скоро умрет. Ему три месяца проводят химиотерапию. Но если такая болезнь поразит в молодом возрасте или в возрасте около сорока — сделать ничего нельзя. Эти заболевания — не процесс, а быстрое разрушение.
Женщина закрыла лицо руками и заплакала, как маленькая девочка, которую несправедливо ругают взрослые.
— Рикардо с болезнями всегда не везло, — сказал Хулио, хотя вовсе не собирался этого говорить: казалось, кто-то вложил ему в уста заранее подготовленный ответ.
Он поднялся и вышел, не дожидаясь, пока женщина по имени Лаура перестанет плакать и отнимет руки от лица.
Улицы были странными. Особенно для человека, которому казалось, что под его загрубелой кожей открываются сотни артерий, по которым текут и газ, и гниль, и электрический ток. А еще вода, крысы и рабочие, которым надлежит поддерживать всю эту мешанину.
“Как мне повезло, что это не коснулось меня!” — думал Хулио, который считал, что болезнь Рикардо Мельи — это рок, это как лотерея, билеты которой розданы всем представителям поколения — по нескольку штук каждому. Если коснулось одного — других уже не коснется. Так что ему ничего не грозило. Ему повезло. Случай умеет выбирать. Рикардо слишком спешил. Слишком много писал. Слишком много путешествовал. Слишком много зарабатывал, имел слишком большой успех. За все это и расплачивается. Нужно идти вперед потихоньку, шаг за шагом, как я, чтобы не гневить всемогущий случай.
Дул легкий ветерок, приносивший прохладу. “Зря я оставил ему плащ, — подумал Хулио. — Он ему все равно не пригодится”.
Витрины магазинов были очень нарядны.
Семнадцать
На следующий день была пятница, и Хулио проснулся рано и встал легко. Он был взволнован произошедшими накануне событиями и не мог дождаться часа встречи с психоаналитиком: ему не терпелось рассказать обо всем доктору Родо. А потом, несмотря на запрет Лауры, он заглянет в парк и, если повезет, встретит там ее.
Все утро он выбирал мебель для своего нового кабинета — кабинета заместителя генерального директора — и кокетничал — так, чтобы другим не было заметно, — с Росой, в глазах которой уже светилась робкая надежда.
Накануне вечером, чтобы отпраздновать тот факт, что страшное случилось не с ним, а с Рикардо Мельей, он купил себе очень легкий пиджак в крупную сине-зеленую клетку, и на работу явился в новом пиджаке свободного покроя, серой рубашке с косым воротом, джинсах и спортивных туфлях.
Он пообедал в кафетерии на улице Принсипе-де-Вергара — съел сэндвич и выпил пива — и направился на прием к доктору Родо, заранее предвкушая удивление психоаналитика при виде его нового наряда. Взглянув на свое отражение в витрине магазина, мимо которого проходил, Хулио сам не сразу узнал себя и счел это хорошей приметой. “Чтобы побеждать, — подумал он, — нужно уметь становиться немного чужим самому себе”. Навстречу ему шел мужчина, который нес на плечах маленького ребенка. И Хулио, поравнявшись с ним, сказал: “Никогда человек не поднимается так высоко, как в те минуты, когда сидит на плечах у отца”. Мужчина улыбнулся и зашагал дальше. А Хулио почувствовал легкие угрызения совести — он вспомнил о своем сыне. Но эти мысли улетучились, едва он подумал о том, какое прекрасное будущее ожидает его: он будет зарабатывать намного больше и с ним не случится несчастья, подобного тому, какое случилось с Рикардо Мельей.
В приемной доктора Родо вместо доктора Родо он увидел субъекта с набрякшими веками и глубокими залысинами.
Субъект пригласил Хулио пройти и сообщил ему, что доктор Родо скончался во вторник рано утром. От остановки сердца, как та канарейка. Субъект сообщил также, что является коллегой доктора Родо, и предложил свои услуги, на случай если Хулио захочет продолжать сеансы психоанализа.
— Мы работали в одном ключе, — добавил он.
Хулио представил себе двух психоаналитиков, работающих внутри огромного ржавого ключа, и с трудом удержался от улыбки.
— Дело в том, что у меня галлюцинации, — сказал он.
— Какого рода галлюцинации? — поинтересовался психоаналитик с набрякшими веками.
— Слуховые. Это похоже на слуховые помехи, которые заглушают все мысли и мешают думать о сути вещей. Но если вы мне дадите вашу визитную карточку, я подумаю несколько дней и, возможно, позвоню вам.
— Обязательно звоните.
— Посмотрим. Такие вещи иногда сами проходят. Там будет видно.
Выйдя на улицу, Хулио бросил карточку в урну. Смерть психоаналитика казалась ему еще одним подтверждением тех предчувствий, которые не оставляли его все предыдущие дни. Он был счастлив, сам не понимая отчего, и решил, что нужно поспешить домой — вдруг Лаура будет звонить?
В квартире было жарко. Он разделся донага и налил себе виски, положив в него сразу несколько кубиков льда. Потом сел за письменный стол, положил перед собой чистый лист бумаги и написал четким почерком: “Хулио Оргас. ‘У тебя иное имя’. Роман”.
“Так значит, психоаналитик умирает, — думал он. — Что ж, это упрощает дело”. Он уже собрался начать писать, как зазвонил телефон. Это была Лаура.
— Хулио, — произнесла она спокойным голосом, — мой муж умер.
— Все вокруг умирают, — ответил Хулио. — Рикардо Мелья, мой психоаналитик, а теперь еще и твой муж. Прими мои соболезнования, хотя, не скрою, я рад.
— Хулио, — тем же тоном повторила Лаура, — я сейчас не могу долго говорить: здесь моя мать и моя дочь. Но сегодня вечером, после одиннадцати, приходи ко мне домой. Инес будет уже спать, и я расскажу тебе все.
Хулио записал адрес, не обратив внимания на то, что номер дома был тот же самый, что и номер дома психоаналитика, к которому он ходил. Весь вечер он был чрезвычайно возбужден, и его настроение резко менялось. После третьей порции виски он включил телевизор, лег на диван и заснул, наблюдая за воображаемым писателем (самим собой), который исписывал лист за листом, выводя точную и запутанную фабулу романа “У тебя иное имя”. “Психоаналитика убили его жена и его пациент”, — сказал он, перед тем как погрузиться в сон.
Он проснулся в десять часов от голода. Открыл банку консервов и съел ее содержимое стоя. Потом принял душ, побрился, надел модный пиджак Рикардо Мельи и вышел.
Ровно в одиннадцать тридцать он подошел к подъезду Лауры, к подъезду своего психоаналитика. Это совпадение было, без сомнения, одной из тех щелей, что появляются порой на твердой и гладкой поверхности реальности. “Происходит что-то странное”, — думал он, поднимаясь в лифте.
Лаура поцеловала его и провела в гостиную, предупредив, чтобы он говорил потише: “Девочка спит”.
Они сели друг против друга и долго смотрели друг другу в глаза, и безграничная любовь перетекала из глаз одного в глаза другого, словно по руслу, издревле предназначенному для этой цели. Лаура была немного бледна и улыбалась улыбкой падшего ангела. Ни он, ни она не решались заговорить. Потом она поднялась, подошла к письменному столу и достала из тайника свой дневник. “Вот, — протянула она дневник Хулио, — прочитай то, что я написала сегодня после похорон. Здесь все”.
Хулио читал последние страницы дневника, и до него доходило то, что в глубине души он уже знал: что Лаура была женой Карлоса Родо и что, безумно любя Хулио, она решилась убить мужа — не столько для того, чтобы убрать препятствие, сколько затем, чтобы показать, на что она способна ради любви.
— Но ему же наверняка делали вскрытие? В его смерти обвинят нас, — высказал опасение Хулио.
— Нам нечего бояться, — заверила она. — В последние дни он находился в постоянном напряжении. Ему приходилось слишком много работать, и он постоянно принимал амфетамины и транквилизаторы. Он уже много лет не мог жить без этих таблеток, но сам себе не признавался в своей зависимости от них. Сердце у него остановилось, когда он был наверху, у себя в приемной, — писал какой-то доклад. Доза, растворенная в кофе только ускорила процесс. Труп обнаружила я, так что у меня было время вымыть термос, прежде чем я позвонила одному из коллег мужа по клинике. Они давно подозревали, что необычайная работоспособность Карлоса объяснялась приемом стимулирующих препаратов, и я лишь подтвердила это. Из дружеского расположения к нему и для того чтобы избежать скандала в Аюнтамьенто, куда его собирались принять на работу, коллеги написали в документах, что смерть наступила в результате остановки сердца. Сейчас он уже похоронен, любимый, больше нам ничто не угрожает.
Хулио был растерян и даже немного испуган тем, с какой легкостью можно менять существующее положение вещей и как хорошо все складывается для него. “Это дело рук Тересы, — подумал он, — Тересы Сагро, которая сейчас надевает ради меня маску вдовы”. Подумав еще несколько секунд, он произнес: “Но это именно то, что происходит в романе ‘У тебя иное имя’, который я сейчас пишу”.
— Просто наша с тобой история, любимый, это настоящий роман, — ответила на это Лаура, закидывая ногу на ногу.
— Как легко убивать! — задумчиво произнес Хулио.
— Когда это делается во имя любви, — добавила она.
Всю ночь они разговаривали, не касаясь друг друга. Когда занялся рассвет, они обнялись...
Они никак не могли насытиться. Наконец, Лаура сказала: “Тебе пора уходить, любимый. Я не хочу, чтобы тебя увидела дочка, когда проснется. У нас вся жизнь впереди”.
— Вся жизнь, любовь моя. Наша жизнь и жизнь других. Вся жизнь, — ответил охваченный страстью Хулио.
Когда он вышел на улицу, над городом поднималось солнце.
— Рассвет... — думал он. — Какое странное слово. Какая странная жизнь! Какое странное все вокруг! Я ни в чем не виноват, в случившемся нет даже тени моей вины. Мы просто глина, мягкая и изменчивая — еще одно слово, которое, должно быть, происходит от слова “измена”. Но, Боже, какая любовь! Как мы любим друг друга! И какой у меня получится роман!
Он припарковал машину неподалеку от своего подъезда. Подметальщик мел тротуар огромной щеткой, насвистывая что-то себе под нос. Хулио приблизился к нему:
— Извините, что это вы насвистываете? — спросил он.
— “Интернационал”, сеньор, гимн социалистов, — услышал он в ответ.
Улыбнувшись про себя, Хулио открыл дверь подъезда, вошел в лифт, нажал нужную кнопку и вдруг почувствовал абсолютную уверенность в том, что, когда он войдет в свою квартиру, то обнаружит на письменном столе законченную, совершенно готовую рукопись романа под названием “У тебя иное имя”.