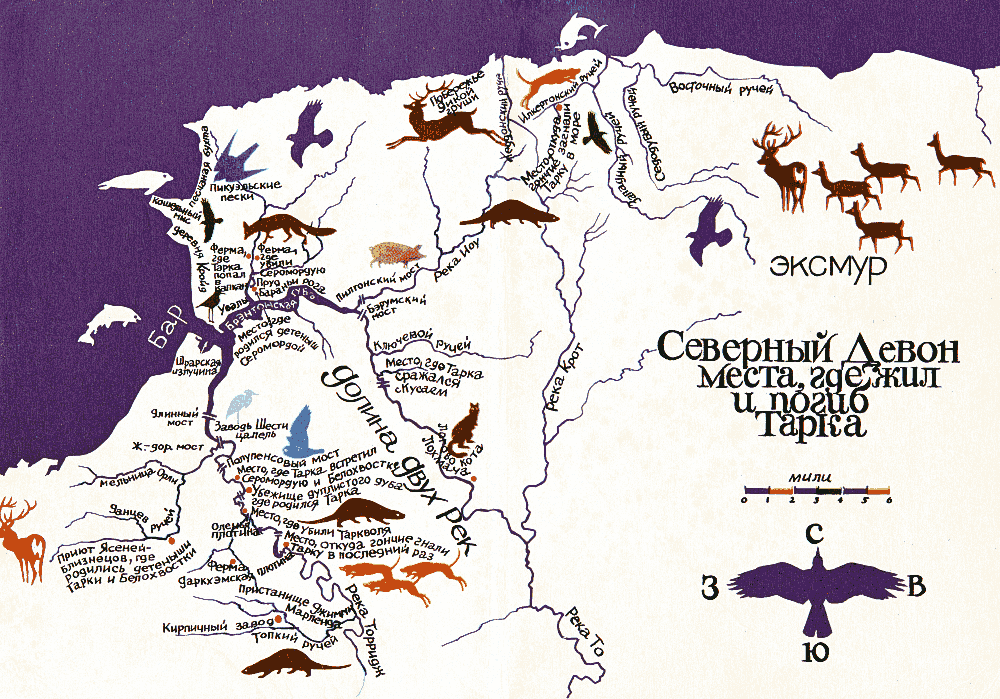Illustrated by C. F. Tunnicliffe, R. A.
Генри Уильямсон
Выдра по имени Тарка
Ее радостная жизнь и ее смерть в долине Двух Рек
Памяти Уильяма Генри Роджерса,
эсквайра, бывшего наставника в Итоне
и ловчего Черитонской охоты
В ЗАЩИТУ ДИКОГО ЗВЕРЯ
Немало воды утекло с той поры, как оборвалась жизнь бесстрашного и веселого Тарки. Неузнаваемо изменились места, где он провел свой короткий, полный опасностей и борьбы век. Но еще сильнее изменились люди, иным стало их сознание и отношение к животным. Давно забыты своры разнопородных собак, натасканных на выдру, отошли в область преданий дикие погони, вышел из обихода сам этот вид охоты, когда десятки людей, мужчин и женщин, вооруженных кольями, во что бы то ни стало стремились проколоть тело почти беззащитного зверя, считая это чуть ли не подвигом. Много лет потомки Тарки спокойно живут под защитой закона.
Однако спокойствие это относительно. Загрязнение рек привело к резкому сокращению рыбных запасов, а различные гидротехнические сооружения практически лишили выдр необходимых условий для существования. И хотя тихие ручейки не оглашаются более ревом гончих и атуканьем охотников, выдр в Англии, как, впрочем, и во всей Западной Европе, становится все меньше. В ряде стран этих отважных ночных рыболовов относят к исчезающим животным. В последние годы стало очевидным, что без помощи человека спасти их уже невозможно.
И человек пришел на помощь. Осенью 1974 года в небольшом английском городке Иршэм, в графстве Суффолк, состоялось учредительное собрание нового добровольного Выдрового объединения (Otter Trust), на котором был рассмотрен и принят проект строительства специального центра по спасению и разведению в неволе выдр, обсуждены научная программа и пропагандистская деятельность, избрано правление. Президентом его стал сэр Питер Скотт, председатель комиссии по редким видам Международного союза охраны природы. Имя этого известнейшего защитника природы хорошо знают советские читатели. В числе вице-президентов Объединения — профессор Б. Гржимек, замечательные книги которого неоднократно переводились на русский язык.
В 1975 году Выдровое объединение приступило к строительству питомника. Средства на это были собраны на добровольных началах среди энтузиастов охраны животных. Большую помощь в строительстве оказали самые широкие слои населения Суффолка.
Выбор территории для питомника оказался очень удачным: два глубоких, заросших по берегам старыми ясенями и дубами ручья позволили создать искусственный пруд с островами и системой проточных каналов. Уже на следующий год было построено два десятка больших вольер для разведения выдр. И хотя вольеры эти обнесены сеткой, они предоставляют животным все необходимые для размножения условия. Будущие обитатели вольер частично были отловлены, частично куплены в зоопарках.
9 сентября 1976 года питомник Выдрового объединения был открыт для посещения. В первые же три воскресных дня, несмотря на плохую погоду, посмотреть выдр, полюбоваться их играми пришло свыше трех тысяч человек. Это были дети и внуки тех, кто когда-то, становясь сплошным заслоном поперек реки, встречал изнемогающего от усталости Тарку ударами острых, окованных железом кольев! Это ли не знаменательно? Это ли не свидетельство коренных перемен, произошедших в сознании людей? То, что полвека назад считалось нормой, сейчас воспринимается как дикое варварство, не вызывает иных чувств, кроме возмущения и гнева.
А ведь перемена отношения человека к животному, особенно к хищнику, произошла не сразу и не случайно. С доисторических времен эти отношения были традиционно антагонистическими. Хищное животное — это прежде всего конкурент, и философия наших предков была примитивно проста: зачем, к примеру, скармливать рыбу выдре, если ее можно съесть самому или на худой конец продать? Со временем отношения эти еще более обострились: дичи и рыбы становилось все меньше. Человек «не замечал» бесчисленных труб, из которых в реки стекали потоки смертоносной для рыбы черно-коричневой жижи — отходов кожевенных, пивоваренных, ткацких и множества других заводов и фабрик. Зато он нередко находил на берегах остатки трапез выдр — головы и хребты лососей, язей, угрей. И простое сопоставление приводило его к не менее простому выводу: рыбы стало мало потому, что ее съели проклятые выдры. Смерть выдрам! Этот лозунг еще 50 лет назад звучал не только в Англии, но и по всей Западной Европе.
Непримиримо враждебные отношения между человеком и хищными животными не поколебало и то обстоятельство, что к середине XX столетия трудами ученых были вскрыты истинные причины обеднения природы, в том числе запасов рыбы. Однако большинство тех, кто ставил сети и другие ловушки, научных трактатов не читали, к пессимистическим прогнозам ученых относились как к чудачествам, а государственную рыбинспекцию люто ненавидели, считая ее таким же врагом, как и выдр. И все-таки на рубеже 50-х годов отношение человека к выдре и другим хищникам коренным образом изменилось. Напрашивается вопрос — почему?
Можно с уверенностью сказать, что причина кроется не в охранных законах, хотя сами по себе они чрезвычайно важны. Закон — это отражение определенного уровня знаний и строя мыслей, идей. Но если знания выступают изолированно от общественной мысли, закон оказывается нежизнеспособным. Поэтому причины пересмотра отношения человека к хищным животным следует искать в другом и прежде всего — в длительной и напряженной воспитательной, просветительской работе. На Западе эту деятельность в конце прошлого и начале нынешнего века возглавили Чарльз Робертс, Эрнест Сеттон-Томпсон, Генри Уильямсон, а в наши дни подхватили такие широко известные зоологи-писатели, как Бернгард Гржимек, Джой Адамсон, Джеральд Даррелл, Лоис Крайслер, Фарли Моуэтт, Джейн и Гуго ван Лавик-Гудолл и многие другие. И если книги пионеров анималистской литературы можно уподобить первым каплям, которые только начинали долбить камень недоверия и невежества, то сейчас стремительный поток произведений о животных просто снес этот камень, дав жизнь качественно новому поколению защитников и борцов за сохранение животных, за охрану природы нашей планеты.
На фоне современных красочно оформленных и превосходно иллюстрированных книг о животных повесть о Тарке может, пожалуй, показаться несколько старомодной. Но к ней и надо относиться, как к памятнику первых этапов борьбы за спасение животных. Творчество Генри Уильямсона, как и произведения Сеттона-Томпсона, обладает особым очарованием, в литературном плане оно принципиально отличается от творческой манеры, например, Дж. Даррелла или Б. Гржимека. Уильямсон прежде всего художник, который воздействует на чувство. Для большей выразительности он противопоставляет дикое животное, постоянно гонимое и одинокое, человеку и собаке, как бы олицетворяющим злой рок. (К этому же приему постоянно прибегал и Сеттон-Томпсон: достаточно вспомнить серебристого лиса Домино и гончую Геклу, Крэга, Кутенейского барана, и охотника Скотти.) Вместе с тем, стремясь вызвать максимальное сочувствие, жалость к своим четвероногим героям, Уильямсон незаметно наделяет их человеческими чертами, но, несмотря на некоторую погрешность против научных концепций, несмотря на налет легкой сентиментальности, он добивается главного: симпатии к животному, осуждения неразумных действий человека. А в те времена это действительно было главным!
Современная литература о животных исходит из иных принципов. Сейчас для писателя-натуралиста главное — показать органическую связь человека с каждым из животных, населяющих Землю, раскрыть необходимость тесного и в известном смысле двустороннего союза с животными, подчеркнуть ответственность человека за их судьбу. При таком подходе на передний план выходит детальное знание, а эмоциональный элемент появляется лишь как следствие этого знания. Что же касается силы эмоционального воздействия на читателя, то она зависит от арсенала изобразительных средств и в конечном итоге — от литературного таланта ученого, пишущего о животных.
Следует подчеркнуть, что во всем, что касается деталей жизни выдры, Уильямсон профессионально безупречен. И хотя его повесть о Тарке — подлинно художественное произведение, в ней содержится интереснейшая и достоверная информация о самых различных сторонах биологии этого до сих пор еще очень мало изученного животного. Именно поэтому, помимо эстетического удовольствия, она позволяет читателю получить множество новых для него сведений и о выдре, и о природе юго-западного побережья Англии.
Семена, посеянные Уильямсоном, попали на благодатную почву. Выросшие из них растения уже плодоносят, и у нас нет более оснований беспокоиться за судьбу потомков Тарки: они никогда не разделят его печальной участи.
В. Флинт, д-р биол. наук
ПРЕДИСЛОВИЕ
Люди сообщают друг другу о том, что они видят, слышат, осязают, обоняют, ощущают на вкус. Они договорились между собой, что гром — страшен, небо — сине, шиповник — колюч, сероводород — смраден, а терн — терпок. Но одинаково ли мы воспринимаем то, что передают сознанию наши пять чувств, нам знать не дано. Когда мы переходим за границы физических ощущений и вступаем в область интеллекта, мы можем больше узнать друг о друге. При всем том ум мужчины — тайна для его родного брата, ум женщины — тайна для ее родной сестры, а между мужчиной и женщиной в том, как они понимают одно и то же, лежит непроходимая пропасть. По сути дела, нам еще далеко не все известно о наших ближних. Однако в течение многих веков люди записывали и до сих пор находят в себе мужество записывать то, что потом называют Историей, — другими словами, запечатлевают и воссоздают отношения между отдельными индивидами и между группами индивидов. Мало того, мы склонны принимать эти записи на веру, разве что есть очевидные доказательства их ложности, хотя, право же, историк должен быть очень смелым человеком, чтобы притязать на проникновение во внутреннюю суть исторических событий.
Но если летописцу человеческих жизней нужна смелость, насколько дерзновеннее тот, кто пишет историю жизни животных! У одних животных те же пять чувств, что у нас, у других, возможно, больше или меньше и, как бы там ни было, качественно они, скорее всего, отличаются от человеческих. Повседневная жизнь зверей, птиц, рыб окутана непроницаемой тайной, а чтобы проникнуть в нее, у нас нет иных средств, кроме тех, которые мы используем, изучая жизнь человека, а именно наблюдение и воображение. К тому же нашей возможности наблюдать животный мир поставлен довольно узкий предел, ибо мы не способны (без помощи громоздких аппаратов, и то на короткий срок) жить в воздухе или под водой, а воображение, будучи ограниченным рамками только людского опыта, легко может направить на ложный след. Нужно признать, что биографы животных склонны наделять своих героев человеческими чертами и приписывать им человеческие мысли — я сам этим грешу.
Меня попросили представить читателям Генри Уильямсона — куда более здравого и глубокого знатока животных, жизнеописателя выдры по имени Тарка. И если я имею хоть какое-то право вести за руку человека, чья великолепная книга показывает, что он прекрасно умеет ходить без посторонней помощи, то лишь потому, что я — историк и в этом качестве вынужден широко пользоваться наблюдением и воображением.
Мне могут возразить, что дело историка — копаться в пыльных бумагах и покрытых плесенью фолиантах. К сожалению, в большинстве случаев так оно и есть. Но это не единственные доступные историку документы. К ним, в числе многого другого, относятся также старые жилища и старые дороги, и эти «документы» с ним делит биограф диких зверей — у выдр, как показывает нам Уильямсон, издревле существуют свои убежища и тропы, да и не только у выдр; кто может, скажем, определить точно возраст барсучьей норы или гнезда сапсана? А если перейти к еще более частному примеру: сброшенные оленем рога тоже «документ», пусть и не человеческий, а олений, в котором тот, кто всегда в поисках, многое может прочитать. Генри Уильямсон все время выискивает такие «документы» и умеет их объяснить.
Но лучший наблюдатель диких зверей не тот, кто всегда в движении, а тот, кто умеет затаиться недвижимо, и не трудно увидеть, что Уильямсон следил за своими героями не шелохнувшись, в течение долгих часов, днем и ночью, в дождь и вёдро, и, как бы ни уставали его глаза, он всегда был начеку.
Уильямсон изучал повадки не одного какого-нибудь дикого животного, а многих, и благодаря этому сумел, хотя бы отчасти, разобраться в отношениях между различными живыми существами. Не менее внимателен он и к их среде, он знает дикую флору не хуже, чем дикую фауну, и я не ошибусь, предположив, что он замечает абсолютно все, что попадает в его поле зрения. Он может наблюдать игру двух выдр в реке, но если на противоположном берегу появится уж, через щель в изгороди выглянет ночная фиалка, а над головой чета ворон нападет на канюка, Уильямсон не обойдет вниманием никого из них.
Однако он не только хранит в себе сокровищницу знаний, которыми щедрой рукой делится с нами, у него есть также воображение, а воображение обогащает и делает еще более прекрасным то, что он извлекает из наблюдений.
И наконец Генри Уильямсон обладает достаточным талантом, чтобы в самой привлекательной форме предложить нам свой литературный «товар». Если уж на то пошло, он даже слишком совестливый художник и, возможно, порой в своем стремлении довести каждую фразу до совершенства заходит чересчур далеко. Но не успеваем мы вменить ему это в вину, как он завоевывает нас таким вот пассажем: «Он (Тарка) выполз на поросший травой бугорок, покатался по нему, отряхнулся и двинулся дальше. Тарка бродил по моховине, пока вновь не услышал голос бегущей воды. Он доносился из впадины с измытыми, оползшими, искрошенными краями — слабый голос новорожденной реки».
Дартмур и Эксмур — это прежде всего стихия воды, и здесь Уильямсон в буквальном смысле слова — в своей стихии. Он любит воздух, о чем свидетельствуют описания ворона, сапсана и других птиц, он любит землю, что подтверждается его этюдами, посвященными горностаю, лисе, барсуку. Но больше всего он любит воду — пресную, солоноватую, соленую; туман, дождь, снег, лед — она мила ему во всех ипостасях. Я думаю, для него, как и для некоторых других, Дух Природы все еще, как и до возникновения жизни, блуждает по лону вод.
А теперь мне пора отпустить руку Генри Уильямсона и предоставить ему самому вести читателя дальше по вересковым пустошам, лугам и болотам, по суше, по рекам, по морю вслед за выдрой по имени Тарка. Мне посчастливилось пройти с ним этот путь раньше других, и если все остальные читатели найдут это путешествие столь же увлекательным, каким нашел его я, значит, автор создал для нас более прекрасный и счастливый мир, в котором мы сможем найти пристанище среди наших житейских трудов и забот. И будем ему за это благодарны.
Джон Фортескью
Год первый
1
Сумерки над лугами и водами, мерцание вечерней звезды за холмом, «кра-аррк» Старого Нога — цапли, влекомой темно-серыми крыльями к устью реки. Белое расплывчатое пятно над сухим тростником вдоль берега — сова-сипуха; она только что вылетела из-под среднего пролета каменного моста, там, где некогда была протока.
Ниже Протокового моста на подмытом берегу росло двенадцать больших деревьев. Когда-то их было тринадцать — одиннадцать дубов и два ясеня, — но дубу, за которым восходит Полярная звезда, не везло с рождения, с того самого дня, как из набухшего черного желудя, занесенного на берег паводком более трехсот лет назад, проклюнулся светло-зеленый крючок. На втором году жизни проросток попал под копыто вола, раздавившего два ржаво-красных листочка, и молодой дубок стал расти вкривь. Расщелина на разветвлении принимала в себя дожди в течение двух веков, пока вода, скованная морозом в ледяной клин, не расколола ствол; непогоды последующего столетия выдолбили в стволе дупло, а разливы каждую весну вымывали из-под дуба землю и камни. И вот однажды дождливой ночью, когда лосось и кумжа поднимались от моря навстречу бурному коричневому потоку, дерево вдруг застонало. Стоны раскачивающегося ствола эхом отозвались в корнях; полевки в страхе покинули свои подземные жилища. Дерево противостояло ударам ветра до самого рассвета, но, когда на земле наступило, наконец, затишье, оно издало громкий крик, спугнувший сову с насиженного места, и с первым лучом солнца упало в реку.
Потом вода отступила, плавник, застрявший на ветках, отметил верхнюю границу половодья. Река медленно текла через заводь, отсвечивая под чистым зеленым небом. У дальнего конца заводи она огромной, с брызгами звезд на когтях, лапой охватывала небольшой остров, где росла одинокая плакучая ива. На подходах к острову течение незаметно убыстрялось, волны с ропотом били о камни, стремительными струйками накатывались на мели. Миновав остров, река неслась сверкающим потоком меж заросших ольшанником и ивняком берегов. За излучиной она еще ускоряла свой бег, мелодично журча на перекатах из нагроможденных паводком камней и наконец, утратив веселый нрав, погружалась в глухое молчание соленых глубин моря. Топкие в низовьях берега были прорезаны дренажными канавами. Каждые двенадцать часов море подходило к рукаву чуть ниже Полупенсового моста — миг лёта для Старого Нога, — а сизигийные приливы облизывали откосы до самой излучины. Вода тут же уходила вспять, ибо море здесь не знает покоя.
Упавшее дерево чернело в тускло мерцающей Лососьей заводи. Над лугами бесшумно поднимался туман, белый, точно пушистая бахрома на совиных крыльях. С тех пор как стерлись последние тени, он полз сюда из леса за мельничной протокой, донося своим дыханием ароматы дня, когда пролеска и первоцвет сгибались под тяжестью пчел. Теперь пчелы спали, лишь мыши шныряли среди цветов. Туман стлался над прошлогодней листвой — бесшумный и светлый дух вод, издревле наполнявших широкое некогда речное русло; говорят, что в стародавние времена морские приливы покрывали всю эту низину и римские галеры подходили к самым холмам.
По стенкам выемки, оставшейся на берегу, к ломаным корням дуба текли струйки земли. Это трудились полевки: чистили ходы, рыли новые шахты и штольни, отгрызая мешавшие корешки. Их услышала выдра, свернувшаяся клубком в сухой верхней части дупла, и, встряхнувшись, встала на короткие ноги. Через проделанную дятлом дыру высоко над головой она видела чуть различимые светлые точки — созвездие Большого Пса. Выдра была голодна. Она лежала в дупле с полудня, изредка судорожно подрагивая во сне.
Сова опустилась на торчащий вверх сук, когти ее царапнули по коре. Выдра выглянула наружу, и сова, ушные отверстия которой были не меньше кошачьих, услыхала легкое прикосновение ее усов к стенке дупла. Однако прислушивалась сова к другому — шороху листьев под лапками мышей. Уловив эти едва различимые звуки, она до тех пор всматривалась, пока не заметила движенья; тогда с пронзительным и зловещим криком, от которого мышь в страхе припала к земле, сова ринулась вниз и схватила свою добычу. Выдра лишь мельком взглянула на сову: все ее пять чувств были направлены на то, чтобы обнаружить врага.
Она замерла на месте. Шерсть на спине поднялась дыбом. Длинный хвост напрягся. Двигался лишь нос, впитывая запахи, принесенные туманом из леса. К аромату цветов, тоже неприятному для нее, примешивался дух, заставивший ее мгновенно насторожиться. Сердце учащенно забилось — она была готова бежать или сражаться, если не будет иного выхода. Ни для одной выдры из тех, что кочевали, охотились и играли в долине Двух Рек, не было более страшного запаха, чем этот — запах Капкана, огромной пятнистой гончей с заливистым ревом, вожака стаи, загнавшего десятки выдр, о чем говорили зарубки, сделанные не на одном охотничьем коле.
Нашу выдру гнали нынче утром. Когда она перебегала перекат, Капкан схватил ее зубами за голову, оставив длинные борозды на шерсти. Ловчий велел отогнать собак, увидев, что выдра беременна, и она уплыла вниз по течению и спряталась в дупле омываемого рекой ствола.
Туман унесло к морю. Удары ее сердца замедлились: она быстро успокаивалась. Выдра погрузила голову и плечи в воду, задержала дыхание и замерла, прижав для устойчивости длинный, толстый, заостренный хвост к шершавой коре. Она выслеживала рыбу. Даже полевки, вновь выглянувшие из норок, не услышали, как выдра скользнула в воду.
Ее темный силуэт возник вверху перевернутого конуса света и был замечен форелью, которая стояла, шевеля плавниками и хвостом, позади затонувшей ветки. Спускаясь к каменистому дну, выдра углядела блеск чешуи, когда рыба уходила зигзагом к себе в пещерку. Выдра была в шести футах под поверхностью; на этой глубине ее глаза, не выступавшие над короткой шерстью, улавливали малейшее движение в воде, пронизанной звездным светом. Она различала предметы на расстоянии, равном четырем длинам ее тела, но за этими пределами все скрывалось во мраке, так как водное зеркало отражало изнутри темное ложе реки. Выдра плыла вслед за форелью над водорослями, обыскивая каждый валун. Она хорошо ориентировалась в Лососьей заводи. В подводной охоте ее острый нюх был бесполезен, ведь дышать она там не могла.
Выдра заглядывала за камни, всматривалась в каждую выемку на берегу. Она плыла не спеша, медленно и спокойно отталкиваясь от воды крепкими задними лапами с плавательными перепонками между пальцев, используя хвост в качестве руля, когда ей требовалось подняться, опуститься или повернуть в сторону. Она нашла рыбу под корнем ясеня; когда та, пытаясь скрыться, метнулась у нее над головой, выдра отпрянула назад и вбок и схватила рыбу зубами. В бухточке на берегу, истоптанном копытами скота, приходящего сюда на водопой, она с хрустом сожрала свою добычу, придерживая ее передними лапами и наклонив голову набок. Она съела рыбу до самого хвоста, бросила его на лепешку грязи, упавшей с коровьего копыта, и только принялась пить, как из-под Протокового моста до нее долетел призывный свист. Тонкий, резкий, звучный, он разносился далеко вокруг. Выдра радостно отозвалась — ведь звал самец, с которым она спарилась два месяца назад. Он последовал за ней от запруды, привлеченный запахом в ее отпечатках на промоинах и на выдриной тропе, которая пересекала заливной луг между двумя излучинами. Самец плыл под водой, виден был только нос, разрезавший гладь реки, спокойной в эту безветренную ночь.
Но вот прямая струя закрутилась воронкой. Стоявшая на берегу выдриха услышала, как ноздри с шипеньем втянули воздух, и нос скрылся. Она тут же скользнула в воду, не подняв ни малейшей зыби. Самец учуял рыбу.
На поверхности заводи стали всплывать пузырьки; две серебряные цепочки разматывались звено за звеном вверх по реке. В двадцати ярдах от воронки, где все еще кружились меж темных ветвей созвездья, показалась плоская голова с тупой мордой и свирепо торчащими усами и снова скрылась — выдра перевернулась так плавно, что лишь чуть-чуть всколыхнула концы воздушных цепей. Для вдоха понадобилось всего полсекунды.
Пузырьки, каждый величиной с плод боярышника, выходя из ноздрей, пробегали по морде и шее и гроздьями поднимались вверх — самец плыл, прижав к груди передние ноги. Поближе к мосту пузыри стали с чернильный орешек — самец заметил рыбу и пустил в ход все четыре перепончатые лапы. Дорожка опять закончилась воронкой у окаймленных водорослями каменных устоев моста, а между быками среднего пролета стремительно пронеслась легкая водяная стрела: проходная кумжа, эта морская форель, ушла на глубину всего в трех дюймах от сомкнувшихся челюстей выдры.
На реке снова наступила тишина, лишь журчала вода среди камней и корневищ. Старый Ног спустился на землю возле дренажной канавы позади дамбы, двумя милями ниже Полупенсового моста. У скирды сена сова только что поймала вторую полевку и проглотила ее целиком, как и первую, пойманную пятью минутами раньше.
Там, где в дальнем конце заводи река цепкой лапой обнимала валуны, кумжа вынырнула из воды, спасаясь от своего злейшего врага. Она упала боком на плоские камни, дернулась разок всем телом и застыла — лишь поднимались и опадали жабры. В тот же миг выдра-самец был рядом. Подняв нос, он втягивал ноздрями воздух; от реки неслось тонкое, прерывистое, сердитое «гиррк-гиррк-гиррк» — угроза самки. Она подбежала к рыбе, выхватила ее у самца и принялась есть.
Пока она ела, разрывая мясо и с хрустом разгрызая кости, самец играл камешком; только когда самка отвернулась от объеденной рыбы, он подошел к ней с приветственным «так-а-так» и лизнул в морду. Ее узкая нижняя челюсть опустилась в широком зевке, открыв белые острые «собачьи» зубы, загнутые назад, чтобы удобнее было удерживать рыбу. Зевок означал, что она довольна. Плывя сюда, самец уже успел поймать и съесть кумжу и теперь был готов поиграть, но самка не последовала за ним в воду. Она почувствовала толчки в животе и повернула прочь от реки.
Выдриха миновала место, куда приходил на водопой скот, пересекла ивняк и, выбежав на луг, стала искать сухую траву и мох под боярышником у мельничной протоки и овечью шерсть, застрявшую на колючках разросшейся куманики. Вскоре она набрала полную пасть и вернулась к реке. Отталкиваясь одними задними лапами, поплыла к упавшему дубу, забралась на выступ коры под дуплом и заползла внутрь. В двух ярдах от входа разбросала свою ношу по древесной трухе и вновь поплыла, теперь за сухим темно-серым прошлогодним тростником; она откусывала стебель за стеблем, то и дело останавливаясь и сторожко прислушиваясь. После трех-четырех рейсов нырнула под воду и принялась плавать взад и вперед вдоль берега в поисках форели; хлопая хвостом, выгнала из-под камней несколько гольцов, притаившихся на мелководье. Время от времени выдриха отвечала на свист самца, но она так торопилась устроить гнездо, что перестала охотиться, хотя все еще была голодна, и побежала через пойму к пруду, где рос широколистный рогоз. По пути она неожиданно вспугнула крольчонка, убила его двумя укусами за ухом и съела, от нетерпения раздирая на куски. Позднее, ночью, неуклюжий барсук в поисках червяков и улиток нашел голову крольчонка, лапки и шкурку и сжевал их до конца.
Луна поднялась за два часа до рассвета; светлая рябь на воде обрадовала выдриху — ведь она была молода, — и, позвав самца нежным, как звук флейты, свистом, она поплыла против течения к высокому арочному мосту и спряталась среди веток и прутьев, нанесенных половодьем на нос каменного волнолома. Здесь самец ее и нашел, но, пока он карабкался наверх, самка нырнула и поспешила под пролетом к нижнему концу волнолома; она встретилась с самцом морда к морде в лабиринте воздушных пузырьков и тут же повернула обратно. Они играли так с полчаса, переворачиваясь на спину боковым махом хвоста и ни разу не коснувшись друг друга, хотя в своем круговом танце каждый раз чуть не сталкивались носами. Это была старая-престарая игра, она доставляла им наслаждение, но вызвала голод, поэтому они отправились на охоту за лягушками и угрями в дренажную канаву на заливном лугу.
Здесь они потревожили Старого Нога, который обозревал одно из своих многочисленных рыбных угодий, разбросанных по долине. «Крак!» Хлопая крыльями, он взлетел перед ними, бороздя воду длинными, тонкими зелеными пальцами. Выдры охотились в канаве, пока луна не стала совсем прозрачной, затем вернулись к реке. Поиграли еще немного, но в лесу мягкими, низкими, гортанными голосами уже начали переговариваться галки, выискивая в перьях паразитов. Запел жаворонок. Самец свернул на восток и побежал по выдриной тропе, проторенной задолго до того, как у острова Плакучей ивы сделали запруду для мельницы. Его нора была на берегу мельничного пруда.
Выдриха, лениво распластавшись всем телом, отдалась течению, и оно понесло ее над отмелями и покрытыми рябью плесами к убежищу Дуплистого дуба. В то время как она, забравшись в гнездо, вылизывала себя, в дальней деревне запели петухи. Умывшись, выдра умостилась поудобнее, свернулась, положила морду на хвост и уснула.

Убежище Дуплистого дуба перед Протоковым мостом.
Восходящее солнце посеребрило туман, окутавший луг густой пеленой, над которой виднелись лишь спины и головы коров и волов. Проплыла сова, широко раскинув мягкие крылья. Сова парила над туманом, сама легкая, как туман; солнце высвечивало белоснежные перья на груди и под крыльями, зажигало золотом желто-серую спинку. Она подлетела под средний пролет моста и, зацепившись когтями, втиснулась в одну из ниш, оставленных в каменной кладке. Весь день она простояла среди мышиных костей, часто помаргивая глазами, порой зевая. В сумерки сова отправилась вниз по течению на правый берег реки и, усевшись на той же самой ветке упавшего дуба, защелкала клювом, подзывая своего дружка, дневавшего в амбаре неподалеку от деревни.
Сова вновь улетела, крылья спокойными взмахами несли ее вниз, в поля, на гибель мышам; но выдра так и не покинула дупла. Инстинкты, служившие ей до сих пор, были притушены странным, глубоко затаенным чувством, тлеющим у нее в глазах. Она лежала на боку, время от времени все ее тело пронизывала боль. Ей было страшно. Песня реки, бегущей мимо островка Плакучей ивы, прокралась в убежище и успокоила ее; тихий свист самца за мостом был ей поддержкой и ободрением.
Когда тусклый свет луны, истощенной, как перезимовавшая птица, просочился сквозь облака, повторявшийся раз за разом зов самца замолк. Но выдре было все равно, она больше не нуждалась в поддержке. Она прислушивалась к другим звукам — слабому мяукающему писку, и стоило ей его услышать, как она поворачивала шею и нежно облизывала языком головку, которая была меньше, чем ее лапа.
Весь следующий день и ночь и еще один день выдра лежала, свернувшись в клубок, обогревая своим теплом трех слепых выдрят, но под вечер, когда над холмами еще не погасло зарево заката, она скользнула в воду и стала рыскать вдоль берега, поглядывая вверх то налево, то направо, то вновь налево. Что-то блеснуло в темноте! Спина выдры выгнулась горбом, она поджала под себя задние лапы и, оттолкнувшись, рванулась вперед; над спиной извилистыми струйками потекли большие воздушные пузыри — она двигалась лишь чуть-чуть медленнее, чем в прошлый раз, когда гналась за форелью. Хвост, всего на треть короче тела, более двух дюймов в толщину у основания, помогал ей поворачиваться так быстро, что она с легкостью схватила рыбу, мелькнувшую над головой.
На мелководье выдра жадно принялась есть, заглатывая едва прожеванные куски и угрожающе «гирркая» на тени. Чуть утолив жажду несколькими торопливыми глотками, тут же опять нырнула в воду, поймала угря, сожрала все, кроме головы, и вернулась в убежище. Но она все еще была голодна и опять оставила детенышей. Взбежав на берег, поднялась на задние ноги и встала торчком, ловя носом воздух. Из лесу доносилось пронзительное стрекотанье черных дроздов, бранивших молодых неясытей, которые еще не умели ухать. Выдра опустилась на передние лапы и снова побежала к реке. Волоча по песчаной промоине тяжелый хвост, с разбега бесшумно погрузилась в воду.
Первым и самым крупным детенышем в помете был выдренок-самец; когда он сделал свой первый вдох, он был меньше пяти дюймов длиной от носа до того места, где начинался его малюсенький хвостик. Шерстка, серая и пушистая, напоминала нераспустившиеся сережки вербы. Его звали Тарка — это имя дали выдрам много лет назад жители здешних мест, обитавшие на болотах в конусовидных хижинах. «Тарка» — значит «Маленький Водяной Кочевник» или «Кочующий, Подобно Воде».
Когда Тарка был голоден, он, как и две его сестры, начинал пищать, прижимаясь к теплому телу матери, а та, почувствовав, что крошечные лапки шарят по шерсти и крошечные носики, сопя, тычутся ей в живот, распластывалась во всю длину и поднимала вверх лапу. Мать следила, чтобы выдрята были чистые, и много раз за день переворачивалась на спину и, вытянув голову и перестав «мурлыкать», вылизывала их, беспомощных в своей слепоте. Порой ее короткие уши настораживались, она вскакивала, рыжевато-коричневые глаза загорались яростью, жесткая шерсть на загривке вставала дыбом: она слышала звуки, предвещавшие опасность. Днем самец был далеко, он спал в норе у запруды, но ночью его свист изгонял ярость из ее глаз, и она вновь ложилась, удовлетворенно вздыхая, в то время как детеныши, отпихивая друг друга, вместе с молоком впитывали в себя жизнь.
Это был ее первый помет, и она была счастлива, когда веки Тарки наконец расклеились и блуждающий взгляд его водянисто-голубых глаз остановился на ней. Ему исполнился месяц. До рождения выдрят мир матери-выдры был пустыней, теперь он сосредоточился в глазах ее первенца. На следующий день, осмотрев все, что было кругом, выдренок начал играть: хлопал мать лапой по носу и покусывал ей усы. Он обижал сестер, делаясь все сильней и здоровей, глаза его потемнели, и он еще усердней сражался с материнскими усами, щекотавшими его, когда она его мыла, держа передними лапами. Однажды, допьяна насосавшись молока, он впервые зарычал на нее, чтобы она перестала вылизывать ему животик, и так разъярился, когда она не испугалась, что попытался откусить ей голову. Выдриха открыла рот и «захахакала» — часто и прерывисто задышала; так выдры смеются. Тарка, отбиваясь, лягал ее, а она делала вид, что намерена перегрызть его пополам. Выдренок не испугался: он царапал ей морду, стараясь вырваться на волю. Мать осторожно отпустила его, и он тут же, еще нетвердо стоя на ногах, вновь пошел штурмом на ее голову, но так нарычался, что его стошнило и, когда она привела его в порядок, он уснул у нее на шее.
Через две недели Тарка совсем осмелел — отползал от матери на целый шаг и не возвращался, хотя она встревоженным «мяуканьем» призывала его к себе. Выдра боялась дневного света, который просачивался в нору через вход, но Тарке страх был неведом. Ему нравилось смотреть на пляску веснянок под солнцем над подернутой рябью рекой. Как-то утром, жмурясь от яркого блеска, Тарка увидел, как на ветку над дуплом села птичка чуть крупней воробья. Но оперенье!.. Видно, сам Птичий Бог расцветил ее красками, похищенными у скал, листьев, папоротника и неба, сделав их еще сочнее в своем рвении, ибо лапки птицы были розовее прожилок в горных расселинах Дартмура, крылья — зеленее лопнувших почек боярышника, шея и головка — голубее полуденного осеннего неба, охристо-рыжая грудка — ярче, чем орляк. Ее черный клюв лишь немного уступал по длине телу. Это был Алцион, зимородок-рыболов. Никогда еще его наряд не блистал таким великолепием — ведь его подруга только-только снесла семь белых глянцевитых яичек в гнезде в глубине норки, вырытой на обрывистом берегу.
Зимородок глянул блестящим коричневым глазом на Тарку, и тому очень захотелось с ним поиграть. Ветер взъерошил изумрудные перья, Алцион припал к ветке, вглядываясь в воду. Тарка запищал, приглашая его поближе. В ответ птица издала резкий, внезапный свист и полетела вверх по реке, а Тарка, сморщив носик, изумленно щурился на пустую ветку, не в силах понять, куда пропал его гость.
Выдренок вернулся к матери, поиграл с ней в «кусачки» и заснул. Проснувшись, он увидел, что одна из сестер чем-то забавляется, и тут же захотел взять это себе. Повернув головку набок, она хлопала по чему-то лапой, но так как «оно» не убегало, она хлопала его второй лапой, склонив шею на другой бок. Тарка осторожно пополз к сестре, намереваясь отобрать игрушку, и тут заметил, что «оно» на него смотрит. Это испугало выдренка, и он зашипел. Сестра отскочила назад и тоже зашипела; шум разбудил самую маленькую из выдрят, и она фыркнула на мать. Та облизала ей мордочку, зевнула и закрыла глаза.
Тарка вновь стал крадучись приближаться к тому, что глядело на него. Понюхал и отполз прочь. Опять подкрался ближе, но сестренка зашипела, и Тарка вернулся к матери. Когда в следующий раз он приблизился к тому, что его так напугало, оно выглядело совсем по-иному; Тарка смело ткнулся в него носом и двинул лапой. Это был всего-навсего череп полевки, и теперь, когда померк свет, падавший сверху из проделанной дятлом дыры, тени в пустых глазницах исчезли, и он больше не «смотрел» на Тарку. Выдренок принялся катать череп; внутри него загремели зубы. Этот звук понравился Тарке. Он играл черепом, пока не услышал, как одна из сестер пищит от голода, и поспешил к матери.
Однажды вечером, когда выдрята остались одни и Тарка играл своей погремушкой, он увидел живую полевку, проникшую в дупло через отверстие у корней. Почуяв выдру, полевка в страхе бросилась бежать по пустому внутри стволу; «туннель» был так широк, что Тарка без труда пополз за ней вслед. Путь кончился у вывороченных корней, на которых все еще держались остатки вскормившей их земли. Оттуда тянулись к солнцу молодые побеги — гибель дуба обернулась благом для семян полевой горчицы, которые лежали погребенные в холодной земле задолго до того, как пророс желудь.
Полевки с писком заметались среди корней, спеша укрыться в норках, ибо отважный исследователь выдриного дома поднял тревогу, крича, что за ним гонится огромная ласка. Тарка не знал, что его запах вселил в них страх; по правде сказать, он вообще не знал, что такое полевка. Он заметил движенье, и это привлекло его, потому что он всегда был готов поиграть, а игра означала для него движение. Писк прекратился.
Стало тихо, и тут Тарка услышал, впервые в жизни, древнюю песнь реки, которую выводили звонкие струйки, бежавшие меж камней. Он хотел подобраться поближе к этим звукам и пополз вдоль корневища, а когда достиг середины, увидел с обеих сторон пустоту. Он был один. Тарка попробовал повернуть обратно, но задняя лапка соскользнула, и он повис поперек корня, не в силах двинуться ни назад, ни вперед. Он заверещал, зовя мать на помощь, но она не появилась. Тарка стал зябнуть, писк его звучал все жалобнее.
Пять минут спустя воду под каменным мостом прорезала острая как стрела струя; ее расходящийся углом след достигал берегов прежде, чем его слизывало течением. Струя шла вверх. Это возвращалась домой выдра-мать. За те тревожные полчаса, на которые она покинула молодых, ей удалось поймать и съесть двух угрей и шесть небольших форелей. Напротив поваленного дуба выдра пересекла реку и стремительным движением вскинула над водой голову и плечи. Она присматривалась, принюхивалась, прислушивалась. Не успели сбегавшие по усам капли шлепнуться вниз, как выдра нырнула; тело ее складывалось чуть не вдвое — с такой силой она отталкивалась всеми четырьмя лапами. Затем капли стали падать у самого убежища.
Выдриха услышала крики Тарки, и страх удвоил ее скорость. Звезды все еще плясали на поднятой ее носом волне, а она была уже у вымоины возле корней дуба. Тарка дрожал от холода. Сотни сердец под рыжими шубками учащенно забились, когда послышалось укоряющее ворчанье. Взяв сына за загривок, выдра понесла его на берег. Она плыла, высоко задрав голову, стараясь не замочить выдренка. Позднее, лежа в теплом гнезде, она позабыла свой страх и закрыла глаза, наслаждаясь близостью детенышей.
На следующую ночь Тарка вновь взобрался на корень и точно так же повис. Он пытался ползти обратно, когда над ним склонился какой-то зверь с незнакомым Тарке запахом, орошая его каплями, падавшими с усов. Выдренок зашипел на него и: продолжал шипеть, в то время как мать, щелкая зубами, прогоняла незнакомца. Затем Тарка почувствовал, что она больно хватает его за шкурку и поднимает вверх. Держа в пасти беспомощно болтающегося выдренка, самка грозно «гирркала» на самца, который проплыл за ней из любопытства до самого дуба. На следующую ночь самец попытался заглянуть в дупло, но выдриха оттащила его за хвост и сделала вид, что хочет потопить. Самец счел это неплохой забавой, и они, дразня и заигрывая, гонялись друг за другом по воде и под водой до самого островка Плакучей ивы; там самка покинула самца, вспомнив о Тарке.
2
В середине мая на упавшем дубе начали с надеждой раскрываться почки, проклюнулись красновато-коричневые листки. У входа в свой дом-норку на ветке ольхи сидели семь зимородков-слетков, поджидая, не появится ли голец, или жук, или рачок, или «стеклянный угорь» — эльвер, или молодая форель, а ветер перебирал их мягкие перья. После заката семь длинных клювиков укладывались на плечо, лишь порой поднимаясь, когда раздавался свист более громкий и пронзительный, чем свист родителей; но ночь предназначалась для других охотников.
Пока стояла полная, яркая луна, выдры охотились за рыбой, которая укрывалась в Кряквиной заводи ниже Полупенсового моста, — окунями, кефалью и камбалой. Выдрятам уже минуло два месяца, и они научились протискиваться сквозь отверстие, ведущее из дупла к корням, и пробегать на заросший травой берег. Однажды ночью, когда выдрята играли у подножия ясеня в «кучу малу», они услышали материнский свист. Он не был таким пронзительным, как свист самца, зовущего подругу, скорее напоминал писк стекла под мокрым пальцем. Тарка сразу перестал кусать за хвост младшую сестренку, а третий выдренок бросил грызть его шею. Со всех ног они промчались по корню к стволу и скрылись в дупле. Мать ждала их с форелью в пасти. Тарка понюхал рыбу, когда мать разрывала ее на части, и отвернулся — запах показался ему неприятным. Выдрята, отпихивая друг друга, потянулись к сосцам, самка легла и принялась кормить их, пока не устала. Тогда она стряхнула их с себя и уплыла вверх по реке с самцом, пришедшим сюда вместе с ней.
Вернувшись, выдриха принесла двух лягушек с ободранной кожей, пойманных в болотистом, поросшем тростником русле старой протоки. Она уронила их в гнездо и скользнула обратно в воду, не обращая внимания на писк детенышей. Тарка лизнул лягушку, и ему понравился ее вкус; он оскалил свои молочные зубы, не подпуская сестер, но сам есть лягушку не стал. Выдрята играли, рыча и катаясь, пока не вернулась мать; они тут же подбежали к ней. Выдра принесла угря и перекусывала его теперь на кусочки — от хвоста до парных плавников у головы. Тарка заглотал несколько кусков, потом облизал мордочки сестер, так вкусно они пахли, и вылизал свои лапки. Он мылся — впервые в жизни.
Новая пища сразу изменила характер выдрят. Они стали быстрыми и свирепыми. Часто их возня на берегу прекращалась лишь тогда, когда раздавался крик ночной птицы или далекий лай пастушьего пса. Они вздрагивали всякий раз, как вздрагивала мать. Они познали страх. Порой на закате, когда мать покидала дом и отправлялась охотиться вверх по течению, они выбегали из убежища и верещали, зазывая ее домой. Она возвращалась и прогоняла их обратно. Движения выдры утратили былую плавность; теперь, выходя с детенышами на луг, она то замирала в нерешительности на месте, то металась судорожно взад-вперед. Она часто становилась торчком и прислушивалась, повернув нос к деревне. Время от времени по Протоковому мосту к дому возле плотины проходили и проезжали люди, и стоило выдре услышать голоса, как она переставала охотиться и спускалась по реке, чтобы быть рядом с детьми. Человечьи голоса пугали ее, но на грохот поездов в долине и проносящиеся огни автомобилей на шоссе за железной дорогой выдра не обращала внимания; она привыкла к ним и знала, что они не причиняют вреда.
Раскрылись почки ясеня, так долго запертые в своей оболочке, напоминающей коровье копыто, выпустили зеленовато-коричневые побеги. Всю ночь напролет куковали кукушки. Среди зеленых сочных стеблей недотроги цыкали камышовые овсянки. Вскоре на юге низкого ночного неба загорится тускло-красный Антарес.
Однажды теплым вечером, когда вода в реке спала, выдриха подплыла к дубу и позвала детей и, хотя они были очень голодны, не забралась в убежище, а ожидала их с рыбой в пасти под деревом. Выдрята скулили, выглядывая из дупла и двигая головками из стороны в сторону; весь их вид говорил о том, что внизу страшно. Выдра перевернулась на спину, выпустила поблескивающую чешуей рыбу и тотчас снова схватила ее. Двое младших выдрят вернулись в истоптанное лапами гнездо, чтобы вылезти наружу через туннель у корней, но они слишком растолстели и не могли сквозь него протиснуться. Возможно, Тарка пошел бы вместе с ними, но уж очень ему хотелось рыбы. Он не сводил с нее глаз, нос вдыхал ее запах, рот наполнился слюной. Выдренок пищал, «гирркал», шипел, все было напрасно: рыба не приходила. Выдриха плавала, лежа на спине, и звала его в воду.
Тарка внимательно смотрел на мать. Ему хотелось рыбы, но он боялся расцепить лапы. Рыба не приближалась, поэтому он плюхнулся вниз, в черную, трепещущую звездами заводь. Его сжало в ужасных холодных объятиях, он ничего не видел, не мог вздохнуть, но все же пытался идти вперед; его душило, давило, у него грохотало в ушах, все его зовы о помощи оставались втуне. Наконец мать подплыла под него, Тарка прижался хвостом и лапками к ее спине, и выдриха вынесла его к полоске камней, окаймляющей островок, где на мелководье колыхались закрытые белые цветы и зубчатые листья водяного лютика. Тарка чихнул, отфыркнулся и стряхнул воду с мордочки; он увидел звезды у себя над головой, ощутил на голове материнский язык.
После того как Тарка съел рыбу, его захватила новизна обстановки. Он играл с рыбьим хвостом, когда услышал свист, который так часто доносился в убежище с реки, и увидел зверя с широкой, плоской головой и длинными торчащими усами, который уже однажды маячил над ним. Тарка зашипел, потом зарычал и побежал к матери. Ляскнул зубами на обнюхивающий его нос. Самец перевернулся на спину и тронул Тарку лапой, приглашая поиграть. Тарке тоже хотелось перекатиться на спину, но размеры незнакомца внушали ему благоговейный страх.
Часом позже все три выдренка благополучно наелись рыбой на камнях островка. Самке надоело заманивать остальных выдрят в воду, она вытащила их из дупла за шиворот и кинула в заводь.
Самая первая выдра, нырнувшая в воду, испытала, наверно, тот же страх, что испытал в ту ночь Тарка, Тысячи лет назад его предки были наземными животными; они охотились в лесах и по берегам рек, идя по следу зверьков и птиц, как все остальные члены семейства куньих. В долине Двух Рек это семейство насчитывало несколько родов. Самые крупные из них — барсуки — жили в норах, вырытых среди корней кустов и деревьев, и к воде подходили только напиться. С ними в родстве были горностаи, охотившиеся на кроликов и разорявшие птичьи гнезда, ласки, высасывавшие кровь у мышей, черные хорьки, так редко встречающиеся теперь в лесах, и куницы, настолько истребленные человеком, что в долине Двух Рек осталась лишь одна куница, нашедшая себе прибежище в самом глухом лесу, где никогда не ставили ловушек и не стреляли из ружей, где не вспугивали оленя и не травили лис. Она была очень стара, ее клыки стерлись до основания. Выдры знали пруды в Арлингтонском лесу и играли там днем, в то время как цапли мирно вышагивали по отмелям, и никто из них не боялся владелицы тех мест, нередко сидевшей на берегу и глядевшей на диких тварей, которых она считала младшими братьями людей.
Давным-давно, когда в устье Двух Рек ревели лоси, выдры шли за угрем, мигрирующим осенью в море из прудов и болот. Они следовали за угрем на мелководье, и один старый самец так часто входил в воду, что однажды поплыл, а позднее, когда стало очень голодно, так часто опускал голову, чтобы схватить рыбу, что однажды нырнул. Другие выдры взяли с него пример. Между пальцами на лапах у выдр, как у собак и волков, была кожная перепонка; с каждым новым плавающим поколением пальцы растопыривались все больше, перепонка между ними становилась все шире, когти короче. Хвост, служивший в воде рулем, сделался длиннее, толще и мускулистей. Выдры превратились в подводных охотников.
Лось исчез, и кости его лежат под песком в угле, который тысячелетия назад был лесом. И все же этого времени оказалось мало, чтобы привычка охотиться в воде превратилась у выдр в инстинкт. Поэтому страх Тарки перед водой родился тогда же, когда родился сам Тарка, и ему пришлось побороть его, заменить слабый инстинкт привычкой, точно так же как, побуждаемые голодом, это сделали некогда его праотцы.
Когда следующей ночью Тарка вошел в воду и попробовал подойти к матери, вода удержала его. Выдренок так обрадовался, что решил самостоятельно переплыть реку, — он обнаружил, что легко может повернуть обратно, двигая заднюю часть туловища и хвост. Очень довольный, Тарка поворачивай то в одну, то в другую сторону: на восток — к островку Плакучей ивы и поющей воде, на запад — к гнезду зимородка, Кумжевому камню ниже Протокового моста и к выдриной тропе через луг в большой излучине. Снова на север, затем на юго-запад, туда, откуда дули штормовые ветры. Вверх-вниз, назад-вперед, порой наглатываясь воды, порой втягивая ее через ноздри, чихая, кашляя, фыркая, но все время оставаясь на плаву. Он научился держать нос над струйкой, которая расходилась по обе стороны от его головы.
Плавая так в свое удовольствие, Тарка заметил луну. Она плясала прямо перед его глазами. Он и раньше видел луну, возле дуба, и даже пытался тронуть ее лапой. Сейчас он попытался ее укусить, но она уплыла от него. Тарка пустился за ней вдогонку. Лупа изогнулась серебряной рыбкой и ушла к дальнему берегу, поросшему осокой, но когда он подплыл туда следом за ней, лупа больше не извивалась. Она ждала его, она хотела с ним поиграть. Тарка слышал, как на другом берегу пищали сестры, но кинулся за луной по лугу. Он бежал среди лютиков и кукушкина цвета, среди сверкающих копий травы. Он бежал все дальше и дальше, лунный свет мерцал на его шубке. Сухая, она была каштаново-бурая, как пыльца на старых дождевиках, но сейчас вода прилизала шерсть.
Выдренок остановился, прислушиваясь к блеянию ягнят; мимо пролетела ночная бабочка, пощекотав ему мордочку крыльями. Пока он чесался, какая-то птица, то парящая, подобно ястребу, то трепещущая на одном месте, заглотала бабочку одним движением широкого, огромного рта и скрылась из виду. Тарка забыл про игру с луной. Он припал к земле среди трав, поднимающихся над головой, как лес: одни — похожие наверху на его хвост, другие — на его усы, и все — шелестящие под ветром. Козодой вернулся, хлопая крыльями с таким звуком, словно где-то с треском ломали сухие прутья. Тарка обрадовался, услышав зов матери, и запищал. Потом прислушался. Свист раздался ближе, и Тарка побежал по сырой траве ей навстречу. Выдренок не знал, как напугана была мать, не знал он и того, что каких-нибудь пятьдесят взмахов отделяют от него птицу с большими глазами и размахом крыльев в целый ярд. Козодой уже увидел птицу, потому он и хлопал крыльями, предупреждая об опасности свою подругу, которая сидела на яйцах среди папоротника в лесу.
Козодой сделал круг и спланировал в сторону. Тарка мчался со всех ног. Большая птица с двумя пучками перьев на голове падала камнем, расставив когтистые лапы, чтобы удобнее было схватить добычу. Выдриха заметила это и понеслась вперед так быстро, что травы смыкались позади нее с шумом, похожим на шум вихря, провозвестника юго-западного урагана. Птица — болотная сова — думала, что Тарка — крольчонок, и на секунду повисла в воздухе, примериваясь, достаточно ли он мал, чтобы напасть на него. Ей понадобилось на раздумья всего шесть взмахов; с пронзительным криком, чтобы устрашить и покорить свою жертву, она ринулась вниз. Но Тарка вышел из семьи, еще более яростной и скорой в движеньях. Шипя от злости, он прыгнул и укусил атаковавшую его сову. Одна ее лапа схватила Тарку за спину, пропоров когтями шкурку; второй лапой сова вцепилась в траву. Щелкая клювом, она повернулась, чтобы долбануть выдренка в затылок, но тут удар, нанесенный выдрихой, сорвал половину перьев с ее груди. Выдра наступила на птицу, укусила ее раз, другой, третий, и сове был конец.
Мать схватила Тарку за загривок, встряхнула, подняла, пересчитала его боками все ухабы до берега, протащила по гальке и бросила в воду. Он послушно последовал за ней на другой берег, туда, где самец, лежа на спине, внимательно следил, как два выдренка играют кончиком его хвоста…
Когда прошло две недели с того дня, как выдрята научились плавать, родители стали приносить им живую рыбу и выпускать ее на мелководье. А когда им исполнилось три месяца, мать взяла их с собой вниз по течению. Они миновали остров Плакучей ивы, перебежали пойму, направляясь туда, куда, разглаживая топкие берега, достигало море. Прилив шел вспять, обнажая ил, предоставляя пресной воде разрушать каменное русло.
Тарка галопом помчался к реке через высокий зеленый тростник, остановился у дренажной канавы, понюхал следы кроншнепа, кормившегося там во время отлива. У самой воды увидел другой след — отпечаток пяти широко расставленных пальцев и пяти глубоко вонзившихся в грязь когтей. Здесь недавно* проходил отец. Они увидели его сразу за Полупенсовым мостом; наполовину высунувшись из воды, он жевал рыбу, даже не потрудившись придержать лапой. Он сгрыз ее, быстро заглатывая куски, всю целиком, и как только кончик хвоста исчез в пасти, повернулся и нырнул в погоне за следующей.
Мать привела выдрят в заводь ниже моста и пошла по мелководью в дальнем ее конце. Она внимательно всматривалась в камни, коричневые и скользкие от водорослей, выдрята тоже всматривались в них. Они следили за светлыми струйками, накатывающими на отмель, иногда пытались их укусить. Тем временем выдра побежала к верхней части заводи и скользнула в воду. Она плыла от берега к берегу, чаще, чем обычно, высовываясь наружу, потому что она не охотилась, а гнала рыбу вниз, к выдрятам. Тарку охватил охотничий азарт: увидев рыбу, он нырнул и кинулся вдогонку. Желая увеличить скорость, Тарка отталкивался всеми четырьмя лапами, и вот — смотрите-ка! — он плыл под водой, как настоящая взрослая выдра! Тарка никогда еще не видел такой большой рыбы, и хотя он двигался за ней со скоростью чуть ли не двухсот толчков в минуту, она почти сразу от него ушла; Тарка сердито «гирркнул», и — ах! — он больше не плыл под водой, как настоящая взрослая выдра, а фыркал и кашлял на поверхности — бедный полузадохшийся выдренок, «мяуканьем» призывающий мать.
Ему стало лучше, когда он съел пойманную матерью кефаль, — рыба поднялась по реке с приливом и осталась в заводи. Поздно ночью Тарка поймал головастика в выемке от коровьего копыта и почувствовал себя настоящим охотником. Он играл с ним, перебрасывая из лапы в лапу и катаясь на спине по грязи, он ни с кем не желал делиться своей добычей и, когда мать подошла посмотреть, что он делает, закричал: «Исс-исс-ик-янг!» — извечная угроза всех куньих, означающая в переводе на человечий язык: «Уходи прочь, не то я выпью твою кровь!»
Махая обвислыми серыми крыльями над островом Плакучей ивы, когда солнце только-только позолотило ее верхушку, Старый Ног увидел в Лососьей заводи пять бурых голов. Три головки поменьше и одна большая свернули у поваленного дуба налево, самая большая двинулась дальше, вверх по течению. Выдрята устали и не хотели, чтобы мать умывала их, когда они наконец очутились в дупле. Позднее Тарка столкнул сестренку с самого уютного места — материнской шеи — и сразу уснул. Время от времени его задние ноги чуть подрагивали во сне. Он пытался поймать сверкающую рыбу, которая извивалась прямо у него под носом, как вдруг что-то вырвало его из сна. Тарка громко зевнул, но мать зашипела на него сквозь зубы, и он притих.
Над поваленным дубом с коротким, пронзительным «пи-ит» вниз по реке промчался зимородок. Выдра встала на передние лапы и повернула голову к выходу из дупла. Вскоре после того как исчез зимородок, на ветку ясеня рядом с убежищем села горлица и настороженно огляделась вокруг; она только что слетела с двух яичек, чуть не упав на землю со своего плоского, похожего на плот гнезда в боярышнике возле запруды. Горлица вытянула крыло и принялась расправлять опахало махового пера, которое ушибла о ветку, так внезапно поднявшись с куста. Трижды проведя по перу клювом, она тряхнула крыльями, прислушалась и продолжала охорашиваться.
Тарка зажмурился, глубоко вздохнул и примостился спать дальше на шее младшей сестры, но опять открыл глаза, когда мать подбежала к выходному отверстию. Выдра прислушивалась к звуку, похожему на тонкий комариный писк. Шерсть у нее на загривке поднялась дыбом. Издалека донесся низкий, переливчатый рев и пронзительные вскрики. Выдра тут же вернулась к детенышам и стала над ними в защитной позе; она знала — на реке идет гон.
Тарка сжался в комок и тоже прислушался к далеким звукам. Теперь различить их было легче. По-прежнему все перекрывала низкая, басовитая нота. Гон, почти не прерываясь, становился все громче и громче. Послышался другой, более близкий звук — это задели о ветки крылья вспорхнувшей горлицы.
Минуту спустя раздался тихий, сипловатый свист — подняли тревогу синички, гнездящиеся в ясеневом дупле. Прилетела с моста сова, села на плющ, обвивающий ствол ясеня, заморгала глазами, завертела золотисто-серой головой. Одна из синичек, не больше человечьего пальца, сердито порхала с ветки на ветку в нескольких дюймах от ее клюва. Сова медленно моргнула. Рев нарастал, звучал уже у моста; сова повернула назад голову, не шевельнув туловищем, и уставилась в ту сторону. «Чизи-чизи-чизи-тин!» — засвистела синичка, когда сова снялась с места и плавно понеслась прочь. Тарка привык к их щебету — он приветствовал выдренка всякий раз, как тот выглядывал днем из убежища.
«Чизи-чизи-чизи-тин!» — вновь просвистела синичка, и тут Тарка увидел в отверстии дупла голову самца, упирающегося мокрыми передними лапами в выступ коры. Самка зашипела на него, щелкнула у носа зубами, и самец исчез.
Гон шел совсем рядом. Со всех сторон слышался глухой топот ног. Выдрята заползли в самый темный угол. Атуканье звучало все громче. Но вот топот бегущих ног прекратился. Вода несколько раз с плеском лизнула полузатопленный ствол, зацарапали по коре когти, входное отверстие потемнело, и по дуплу гулко прокатился басовитый рев, который перекрывал голоса всех собак. Выдра отпрянула, тело ее напряглось, шерсть стала дыбом, казалось, она растет на глазах. «Суишь-суишь-суишь» — хлестал хвост. Она узнала другой звук — голос человека, высокий и звонкий, как рожок, с которым ему так часто приходилось делить дыхание, и шипела всякий раз, когда он выкрикивал клички собак. Голос умолк. Прозвучал рожок. Защелкали арапники.
Гончие, шлепая лапами, выбирались на берег — все, кроме той, что заливалась у входа в дупло. Это был самый крупный выжлец в стае, черно-белый, с большими, отвислыми брылами. Голова у него была черная, лишь на носу и лбу белели старые шрамы, оставшиеся после собачьих драк. Теперь с ним никто больше не дрался, ибо вся стая признала его вожаком. В его жилах текла кровь борзых, а один из его предков-ищеек загрыз человека. Был в его роду и мастифф. Его мать и отец подняли и загнали не одного оленя в болотах Эксмура и умерли у камелька, всю жизнь верой и правдой прослужив «красным курткам» [1]. Брюхо этой огромной пятнистой гончей перерезал розоватый рубец, так как во время второго сезона охоты на оленей самец-пятилетка распорол его острым концом рога; после этого Капкан больше не мог гнать зверя так быстро, как раньше. Охотники на выдр купили его за гинею, прельстившись длинными ногами, и теперь никто лучше него не выслеживал добычу в долине Двух Рек.
Капкан держался за край передними лапами, зубы крошили набухшую гнилую древесину. Он мог засунуть в дупло лишь голову. Пока он бил задними лапами, стараясь найти точку опоры, выдра подбежала к нему и укусила за ухо, как раз в том месте, где были вытатуированы голубые инициалы его первоначальной стаи. Капкан зарычал, не разжимая оскаленных зубов. Три маленькие пасти в дальнем конце раскрылись и зашипели в несказанном страхе.
А затем Тарка услышал крик, который ему предстояло часто слышать во время будущих кочевок, крик, который для всех выдр, живущих в долине Двух Рек, означал одно: сколько ни плавай, сколько ни петляй по земле, как незаметно ни выскальзывай из убежища или дренажной канавы — все напрасно.
— Ату его!
Крик донесся снизу реки, от острова Плакучей ивы. Он вырвался из горла старика в синей куртке и белых бриджах, стоявшего опершись подбородком на руки, в которых он сжимал ясеневый кол, почти такой же, как сам он, высокий и старый. Со своего наблюдательного поста он заметил в прозрачной, чистой воде какое-то движение, словно колыхнулись коричневые плети водорослей. Прочь слетела шляпа, серая, как лишайник, взмыла вместе с рукой вверх, и вновь раздался крик:
— А-ту его!
Рожок старшего егеря пропел короткий, тревожный сигнал, в воздухе зазвенели клички собак, и вот уже он бежит с ними от дуба туда, где среди испещренных пурпурными крапинами стеблей болиголова на плоских, нагроможденных половодьем камнях стоял старик.
Вскоре звук рожка вновь раздался возле убежища, громче сделался рев. Над головой Тарки прозвучали гулкие удары — по стволу пробирался человек. Заплескалась вода, из разинутой пасти в дупло пахнуло псиным духом; шерсть на спине выдры поднялась, но тут раздался сердитый крик:
— Отрыщь, Капитан! Отрыщь! — Просвистел арапник, щелкнул удар. — Отрыщь, Капитан!
Визгливый лай затих, псиный дух стал не таким резким. Гон ушел вверх по реке. Хвост выдры задрожал. Шерсть на спине прилегла, но вновь поднялась, когда сверху послышалось какое-то царапанье. Ее нос вытянулся вперед, она задышала открытой пастью, сделала несколько тревожных шагов. Тарка чихнул. Табачный дым. На ветках над ними сидел человек.
Через полчаса гон снова вернулся к дубу. Миновал его. И тут Тарка услышал новый и страшный звук — словно по камням ползла гигантская многоножка, подкованная железом.
— Ату его! Вот! Вот! Вот! Он идет вниз!
Железные подковы быстрее зацокали по камням. Здесь, на мелководье, стояли нога к ноге около десятка мужчин и женщин и будоражили воду кольями с железными остриями, чтобы не дать самцу уплыть в соседнюю заводь вниз по реке.
Тарка и двое других выдрят снова учащенно задышали: оглушающий рев Капкана и визгливая трель Капитана послышались совсем рядом. О ствол стали разбиваться частые мелкие волны. На реке, между Протоковым мостом и заслоном выше острова Плакучей ивы, ревело и заливалось с десяток гончих. В дупло заглянуло заросшее щетиной лицо, и прямо над головой Тарки раздался голос:
— Отрыщь, Росинка! Отрыщь! — Стук ботинок по стволу. «Исс-исс-сс!» — Отрыщь! — и Росинка, получив удар по носу, исчезла.
Не сумев прорваться сквозь заслон, самец повернул обратно под мост. Гон стал затихать. Снова донеслось «чивиканье» синиц.
Выдра расслабила мышцы и принялась искать в шерсти клещей, словно и не было никакой охоты. Люди и собаки собрались теперь выше моста, там, где стоял следующий заслон. Тихо журчала вода. Чуть шелестели стрекозиные крылья над светлой рябью реки. Тишина, безмятежное «чи-ви» синички, расклевывающей чернильный орешек на дубовом листке, солнечный луч, проникший сквозь пробитую дятлом дыру и медленно двигающийся по сырой древесной трухе. Выдра легла, задремала, вновь вскочила, когда за мостом взорвался разноголосый рев и крики «ату!». Теперь все звуки последних часов — гон собак, зов рожка, возгласы людей — слились воедино, окрепли, но вскоре их заглушил новый низкий звук, похожий на грохот мельницы, когда вертится водяное колесо. Затем к нему присоединилось долгое однотонное пронзительное стаккато рожка и торжествующие вопли выжлятников и старшего егеря. Звуки затихли, прекратились — только одна собака продолжала свой брех, — вновь вспыхнули и вновь затихли. Но еще долго сгрудившихся кучкой выдрят пугало странное сопение матери…
Время от времени щелочки совиных век размыкались, темные глаза внимательно следили, как с известкового выступа между камнями пролета падают капли воды. По каменной кладке Протокового моста уже не пробегали рябью желтые блики. Тени деревьев на лугу стали длинней. Прошло больше часа с тех пор как на реке наступил покой. На яворе у моста запел черный дрозд. Выдра выглянула из дупла, прислушалась. Солнечный свет на поле пугал ее меньше, чем псиный дух, которым все еще тянуло с реки, и, позвав детенышей, она скользнула вниз, побежала под берегом и скрылась в траве. «Исс-исс-сс!» Местами земля была сырой от воды, что скатилась с собачьих морд, боков и правил. Только ворона видела, как мать с выдрятами спешила по лугу к мельничной протоке, и провожала их карканьем до леса, где жужжали пчелы вокруг пурпурных копий наперстянки, порхали меж плетьми жимолости пеночки-теньковки. Выдры бежали бесшумно и быстро среди зеленых побегов пролески, вверх по прошлогодним почерневшим листьям, пока далеко внизу снова не увидели реку, где сверкали солнечные зайчики и молодой зимородок, один из сыновей Алциона, прочерчивал голубую дорожку в тени дубов.
3
Желтые венчики растрепанного козлобородника и лютика уже давно закрылись, когда над отблесками неба в ручье запорхала серокрылая трясогузка, то перескакивая с камня на камень, то танцуя на одном месте. В янтарных к вечеру лучах солнца, над прозрачной водой роились весенние мушки. Трясогузка, трепеща крылышками, бросилась с мшистого камня и проглотила одну. В воде отразилась ее грудка, более светлая, чем лютик. Птичка не летала, она прыгала в воздухе, беспечно и блаженно высвистывая «чис-сик, чис-ик», пока не оказалась у берега, где рос расколотый явор. Побежала, подрагивая хвостиком, к песчаной промоине и принялась клевать ползающих там мух, оставляя на песке следы легких лапок. Прискакала к кромке воды, втянула клювом капельку и закинула назад головку, чтобы ее проглотить. Она сделала всего два глотка и, взлетев в тревоге на ветку явора, стала всматриваться вниз.
У противоположного края ручей бурлил водоворотами, но здесь, под явором, был глубокий и темный затон. Из воды показался нос — сердце трясогузки испуганно забилось: поднялась коричневая голова со свирепо торчащими усами, два черных глаза оглядели все вокруг. Не увидев никаких врагов, выдра вышла на песок, волоча мокрый хвост. Остановилась, прислушалась, принюхалась, затем побежала к явору и принялась осматривать все входы и выходы между оголенными корневищами на крутом берегу. Выдра знала это убежище, она спала здесь в детстве, когда мать покинула реку и двинулась по ручью к Белоглиняным карьерам.
Трясогузка все еще сидела на дереве, когда выдра снова вышла наружу. Она засвистела, и птичка улетела. Через заводь двигались три головки: две впереди, одна, чуть побольше, за ними — Тарка плыл позади сестер. Выдрята забрались в убежище, оставив на песке рядом со следами трясогузки отпечатки своих лап — пять пальцев и подушечка.
Явор был некогда расколот и обожжен молнией, однако в нем еще оставалась жизнь, и летом он покрывался редкой листвой. Его ствол облюбовали две бурые, как мыши, птички; опираясь на жесткий хвост, они поднимались по белоснежной, мертвой древесине, выискивая в трещинах мокриц и пауков. Каждую весну эта парочка пищух строила между стволом и отставшей корой гнездо из веточек, измельченной древесины, сухих травинок и перьев. Здесь гудели, возвращаясь к себе домой, шмели, а когда трава становилась жесткой и ломкой от первых морозов, они прятали головы в передние лапки и засыпали — если оставались в живых — до того времени, как снова распускался первоцвет. Здесь, когда деревья почти совсем облетали, ковылял на коротеньких ножках еж, ворчун Иггиуик, в одеянии из сухих листьев явора, потемневших под кистью осени. Свернувшись клубком, он закрывал подслеповатые глазки и засыпал до весны. Явор всем им был другом. Была у него подруга и среди людей; впервые она увидела его, когда ребенком ходила сюда с отцом, охотившимся на выдр. Ей казалось тогда, что старый обугленный явор — многоногий великан, который попал в огонь и кинулся к ручью, чтобы остудиться, а его обнаженные половодьями корни — тонкие ноги, согнутые в деревянных коленях и опущенные в воду. Ручей решил потопить великана, и тот, чтобы удержаться, зацепился пальцами ног за дно. Девочка превратилась в высокую и прекрасную девушку, а старый великан по-прежнему сидел, охлаждая в ручье свои тринадцать ног, и каждый июнь, когда она проходила здесь с отцом вслед за гончими, которые выслеживали выдр, на его голове был свежий зеленый парик.
Не одна выдра спала в пещере за корнями; некоторые из них умерли здесь, и воды ручья унесли их кости в море во время разлива…
Мать и детеныши лежали, свернувшись клубком, на сухой земле в дальнем конце убежища, в пяти футах от воды. Выдрята погрузились в глубокий сон, прерываемый сновидениями, в которых огромная черная морда скалила на них длинные зубы. Тарка обхватил лапками шею матери, ее лапа придерживала его на груди. В норе было тепло и уютно, но выдра не спала.
В сумерки, когда дневные и ночные охотники встречаются друг с другом на пороге дня и ночи, она услышала, как черные дрозды бранили сов, а когда дрозды умолкли и, распушив перья, уснули в кустах боярышника и плюще, выдра услышала, как пьет воду барсук, похрюкивая при каждом глотке. Совиная перебранка перешла в обычные охотничьи крики. Наконец выдра зевнула и забылась сном.
Она проснулась, когда сова раз двадцать слетала с мышами во рту в гнездо попавшего в силки канюка к своим еще не оперившимся птенцам, а барсук был уже за много миль от своей норы в дубняке. Выдра была голодна и, не будя детенышей, выскользнула из убежища. У кромки воды она с минуту прислушивалась. Затем повернула и, вскарабкавшись на высокий берег, побежала на луг, где паслись коровы, громко фыркавшие всякий раз, когда она останавливалась неподалеку, встав на задние лапы. Все было спокойно, никаких угрожающих звуков; выдра спустилась к реке, вошла в воду и поплыла на мелководье. Пробравшись сквозь путаницу стеблей и листьев водяного лютика, она вышла к цветам, что росли среди камней: норичнику, дуднику, цикуте. Через их заросли, с хрустом давя лапами сочные полые стебли и пышные соцветия, она вошла в крапиву, обожгла нос и несколько раз чихнула. Пробежала под низкими ветками прочесавшего ей спину терна на кочкарник. Как и на лугу, она обследовала его до самой середины, поднимаясь во весь рост и прислушиваясь. Выдра услышала, как пережевывают траву коровы, хриплое «крекс-крекс» коростеля, подающего голос возле нетронутых пучков болотной травы и пощипанных зонтиков сусака. Она повернула и побежала обратно, теперь другим путем, спустилась к ручью через высокие стебли недотроги, забралась на большой валун и легла на него головой к воде. Прижав хвост к другой стороне валуна, она засвистела, зовя выдрят.
Тарка уже давно выглядывал из убежища и, услышав свист матери, без малейшего всплеска скользнул в воду. Он плыл через заводь, поджав передние ноги и отталкиваясь задними. При каждом толчке пальцы растопыривались, и его перепончатые лапы единым движением посылали тело вперед. Следом двигались сестры; расходящиеся от их носов струйки разбивались одна о другую. Выдрята проплыли сквозь гущу водяных лютиков туда, где в воде неподвижно лежала мать. Они потыкались головками в ее морду и запищали, давая знать, что голодны. Никакого ответа. Они кусали ее за хвост, они улещивали ее, они обхаживали ее, они сердито шипели, но мать не подавала признаков жизни. Отчаявшись, выдрята отстали, и тут выдриха внезапно подпрыгнула и «захахакала». Выдры «смеются» почти беззвучно, тут главное не звук, а выражение морды с поднятыми вверх кончиками губ и вращение головой. После испытанного накануне страха ее распирало от радости, и мертвой она притворилась ради шутки. Позвав детенышей, выдра нырнула и тронулась вверх по течению.
Выдрята знали, что мать ищет рыбу, и плыли за ней, принюхиваясь к пузырькам воздуха, лопающимся на поверхности воды. Выдра выглянула наружу, держа в пасти рыбу, и они пустились к ней наперегонки, угрожающе «гирркая» друг на друга. Мать вывела их из заводи на мелководье, выронила рыбу — форельку унции три весом — и поплыла к усыпанному галькой берегу, возле которого было глубже. Тарка схватил еще живую рыбку, отнес на мшистый валун и съел меньше чем за минуту.
В узком ручье мальки ловились так быстро, что Тарка скоро насытился, и двое других выдрят, подстегиваемые голодом, успевали выхватывать у него рыбу, в то время как он переворачивался на спину, чтобы позабавиться, пытаясь поймать ее над головой. Сестры были меньше Тарки ростом, но быстрее в движениях. Время от времени выдрята принимались плавать вдоль берега под водой, глядя по сторонам, но мать перепугала всю рыбу, и та укрылась в порках, так что им редко удавалось увидеть мерцающую спинку. Частенько выдрята цапали зубами камни или корни, приняв их за форель.

Выдра-мать играет с детенышами (Тарка справа).
К концу ночи убежище Горелого явора осталось в полутора милях позади. Над дубами и лиственницами стали парить канюки — пора было прятаться. Выдра с детьми вышла из воды и повела их через ивы, ясени и заросли куманики к еловым посадкам по другую сторону узкоколейки. Два года назад ее мать укрывалась в большой кроличьей норе неподалеку от опушки леса, и теперь она вела туда своих собственных детей. На сухой земле перед входом в туннель Тарку встретил незнакомый запах, но мать не обратила на него внимания. Она побежала по туннелю вперед, и тут же из другого входа выскользнула лиса, не желая встречаться с выдрой-матерью под землей, да и вообще нигде.
В то время как выдры мылись, лиса сидела возле норы и изредка зевала. Живот ее был переполнен, она вволю наелась мышей, жуков и молодой крольчатины. Лису клонило в сон. Вспомнив о пеньке лиственницы, к которому она всегда ходила чесаться, лиса побежала туда. Вокруг пня на земле валялись рыжеватые клочья шерсти, а одна его сторона была отполирована до блеска. Вволю начесавшись, лиса потрусила к серой каменной стене позади коровника и, вскарабкавшись на нее, стала ждать восхода солнца.
Заброшенная кроличья нора была сухая, в ней гулко отдавались дневные звуки: пронзительные свистки локомотивов, раздающиеся всякий раз, как состав, который тянул с карьеров на моховых болотах платформы с белой глиной, подходил к шлагбауму на дороге; человечий голос, монотонно повторяющий «ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку»; лай пастушьего пса, рыскавшего по полю, в то время как коровы, покачивая боками, гуськом шли на дойку по узкой вытоптанной тропе; монотонный шум, похожий на жужжание попавшей в паутину мухи, — это проезжал по мосту и рельсам автомобиль; «кеий-кей» канюков и карканье ворон над лиственничным лесом. Все эти звуки не тревожили выдр.
Когда наступили сумерки, мать с детенышами снова спустилась к ручью. Там они встретили лису, которая спокойно лакала воду, стремясь утолить жажду, вызванную шерстью бесчисленных проглоченных ею мышей. Лиса посмотрела на выдру; выдра посмотрела на лису. Лиса продолжала лакать, пока мускусный запах выдры не испортил воду, а затем побежала понюхать, чем пахнет в норе. Она пробыла там минут десять, принюхиваясь и размышляя; наконец, удовлетворив любопытство, отправилась в ночной обход… не забыв почесаться о пень лиственницы.
А выдра повела детенышей вверх по ручью, затем через поле. Вдали от воды движения ее стали тревожными. Она часто останавливалась, поднимала голову, втягивала ноздрями воздух. Стоящий в поле курятник из оцинкованного железа заставил ее сделать большую петлю — там пахло человеком. Возле старых сапог, брошенных каким-то бродягой под живой изгородью, Тарка зашипел от страха, повернул и пустился наутек. Выдрята становились такими же проворными и осторожными, как мать.
Наконец, они добрались до канавы, которую помнила выдра. Она наклонилась над покрытой бурой ряской водой, прижала к берегу хвост. За секунду до их прихода здесь квакали лягушки, но сейчас они молчали и старались поглубже зарыться в ил. Выдра шарила под водорослями носом и лапой, вытаскивала лягушек и кидала на траву. Выдрята схватили было по лягушке, но тут же отбежали с сердитым «гиррканьем». Когда мать поймала всех лягушек, которых смогла найти, она принялась свежевать добычу, потому что у этих лягушек была очень плотная кожа.
Выдры не доели лягушек, так как обнаружили в канаве угрей. Иггиуик, еж, шкура которого напоминала колючий утесник, а мордочка — поросячье рыльце, нашел объедки и только принялся радостно их поглощать, как рядом послышалось хрюканье барсука. Пискнув от страха, еж свернулся клубком, но барсук раскусывал иглы, словно это были стебли песколюба. Иггиуик пронзительно закричал — как песколюб, охваченный огнем. Вскоре от бедного ежика остались лишь лапки, зубы и игольчатая шкурка.
Выдры были слишком далеко, чтобы услышать предсмертный вопль ежа; за полчаса они продвинулись вверх по ручью на целую милю. Мать плыла впереди, детеныши с трудом поспевали за ней. Иногда, увертываясь от пасти выдры, рыба прошмыгивала назад на расстоянии плавника мимо ее усов, и, стремясь схватить добычу, выдрята сталкивались друг с другом. Выдра оставляла рыбу детенышам, а сама вновь принималась рыскать от берега к берегу.
Ручей делался все мельче и уже, под утро он был не шире ярда. На следующий вечер выдры покинули камыш, в котором спали, и, перебежав проселочную дорогу, вышли на коренник, где обитали кроншнепы и бекасы. Тарка напал на след зайца и бежал по нему из любопытства, пока мать не позвала его. По мху идти было мягко, здесь хорошо держались всевозможные запахи — кипрея, касатика, дикой утки, горностая, болотной совы, сороки… а один раз им попалось издающее зловонье маховое воронье перо.
Выдры подошли к тонкой струйке воды и двинулись по ней вниз; вскоре с первой струйкой слилась вторая. Вместе они образовали поток, стремившийся к реке меж белых глинистых берегов. Выдриха поискала рыбу, но, ничего не найдя, выбралась наверх по крутой выдриной тропе и пересекла железнодорожные пути возле группы строений, над которыми поднималась высокая черная труба. Это был кирпичный завод. Перед ними тем же путем шла какая-то чужая выдра; пройдя еще с четверть мили, они услышали свист, доносящийся из ложбины позади березняка. Побежав на зов, они оказались возле глубокого, окаймленного тростником пруда; на глинистом берегу выдра-самец играл крыльями селезня. Тарка спрятался за спину матери: он испугался незнакомца. У того было рваное ухо, пострадавшее в драке два года назад. Мать с детенышами нырнула в пруд, самец остался на берегу, катаясь на спине и подбрасывая утиные крылья обеими лапами.
Некогда пруд был карьером, из которого брали белую глину. Выдрята еще никогда не плавали в такой глубокой воде. По берегу рос широколистный рогоз; было начало июня, и колеблемые ветром пыльники роняли цветочную пыльцу на сочные цилиндрические головки, которые с наступлением осени увянут и приобретут тускло-коричневый цвет. Среди стеблей рогоза прятался выводок утят, а мать кружила в звездном небе и ласковым «кря-кря-кря» уговаривала их не шевелиться. Она взлетела, когда старый самец словил и съел селезня, подплыв под него снизу. Селезень в это время пытался проглотить лягушку и громко щелкал клювом. Когда выдра схватила селезня, лягушка ускользнула, но, еще не уйдя под воду, начала надуваться и поэтому не смогла спрятаться на дне. Энергично работая лапами, Тарка увидел снизу ее темный силуэт на тусклом зеркале пруда, отражающем серый донный ил. Тарка поймал лягушку и сожрал под кустом боярышника, выросшего из ягоды, которую некогда выронил у пруда дрозд.
Некоторое время мать и детеныши плавали взад-вперед по пруду вместе с самцом. Заметив выдр, лягушки и угри попрятались, поэтому выдриха выбралась на берег сквозь покрытые серым лишайником кусты боярышника и побежала через ситник к следующему пруду. Они прочесали четыре пруда, прежде чем поймали достаточно рыбы, но наконец насытились и начали играть. Четвертый пруд оказался самым большим и таким глубоким, что Тарке не хватало дыхания, чтобы следовать за взрослыми в мрачную глубину, хотя он много раз и пытался. Он знал, что они играют, и писком вызывал их наверх. Иногда со дна поднималась и проплывала мимо цепочка светящихся пузырьков — единственное свидетельство выдрьих забав; Тарка видел, что делается над ним сверху, но снизу все было укрыто мраком, и он лишь изредка слышал мать и незнакомого самца.
Самец был счастлив, что появилась другая выдра и ему было с кем поиграть. Его охотничьи странствия остались в прошлом: когда-то он убивал лосося в Северне, пожирал сайду среди скал на Портлендском мысу и миног в Эксе. Теперь он навсегда поселился в тростниковых и ситниковых крепях у бывших карьеров, и всякий раз, как другие выдры приходили на пруды, тянущиеся неровной цепью по широкой плоской ложбине, воды которой собирал ручей, старый полуглухой самец присоединялся к их компании. Когда они попадали в Глубокий пруд, он заманивал какую-нибудь выдру на дно, где, наполовину уйдя в клейкий ил, уже много лет лежал ржавый, обросший водорослями локомотив. Как радовался старик, спрятавшись в паровозной трубе и неожиданно выплыв оттуда навстречу ищущей его выдре! Набрав в легкие воздух, он вновь и вновь опускался на дно, но, если другая выдра тоже пыталась спрятаться в трубе, он яростно кусал ее немногими оставшимися у него сточенными зубами.
В течение трех лет он жил, питаясь лягушками, угрями и дикой птицей, обитающей в прудах. Рабочие с глиняных карьеров нередко видели его, когда возвращались с работы в грузовиках, и прозвали Джимми Марленд.
…Засохли и упали в воду пыльники рогоза, а мать с детенышами все еще оставались в краю прудов. Здесь Тарка попробовал своего первого фазана, пойманного выдрихой в заповедном лесу. Это был петух с одним крылом — второе отвалилось зимой после того, как его перебила дробинка. Птица очень быстро бегала и едва не выклевала выдре глаза, сражаясь за свою жизнь.
Днем все семейство спало в тростниках. Сидя в гнезде из откусанных матерью примятых стеблей, Тарка наблюдал за переливчатыми стрекозами, летающими над водой. Рядом, на камышинке, он увидел личинку стрекозы — наяду, накануне выползшую из пруда после двух лет охоты на головастиков, мальков и дафний. Наяда обсохла на солнце, натужилась, хрупкая сероватая оболочка дала трещину на спине, и оттуда появились голова и ноги бесцветного полупрозрачного насекомого с коротенькими вялыми крыльями. Насекомое приникло к стеблю и застыло; день разгорался, сморщенные крылья расправились и затвердели. Молодая стрекоза вдохнула полуденный воздух и засверкала пурпурными отблесками, в глазах отразилось пламя летнего дня. Пруд искрился на солнце. Крылья стрекозы, низко прижатые к бокам, тоже заискрились, распахнулись, по ним, как бы в предвкушении полета, пробежала дрожь. Мгновенье — и стрекозы не стало: она затерялась среди других носящихся по воздуху стрекоз, чьи тела, опоясанные желтыми и черными кольцами, переливались зеленым, красным и синим огнем.
Куковали кукушки; среди зеленых вымпелов рогоза щебетали камышовки. Иногда самец взмывал вверх и парил по-соколиному невысоко над водой, высвистывая «уак-у-у, уак-уак-у-у», а за ним, взволнованно переговариваясь, летели уже мерившиеся птенцы. Самка-кукушка не выпевала своего имени, из ее горла вырывались частые однотонные нотки, похожие на перезвон колокольчиков, нанизывались блестящими бусинками одна за другой, чтобы привлечь самца, — она выбрала себе гнездо камышовки и хотела, выбросив одно из лежавших там яичек, подложить свое небольшое серовато-коричневое яйцо с толстой скорлупой. Когда кукушка, наконец, полетела над прудом с яйцом камышовки в клюве (чтобы потом проглотить его), на нее кинулся ястреб-перепелятник, и яйцо упало в воду. Плюх! Тарка проснулся, увидел яйцо, нырнул, подхватил его, принес в гнездо и съел, прежде чем тень от потревоженной его движением травинки вернулась на прежнее место.
4
Однажды утром Тарка катался на спине, нежась в лучах солнца, как вдруг вдалеке раздался охотничий рожок и вскоре после этого — рев гончих, идущих по следу. Самка прислушалась и, когда голоса собак стали громче, направилась вместе с выдрятами через тростник в заросли куманики на северном берегу пруда. Ветер дул с юга. Выдра бежала по ветру, выдрята за ней. Время от времени мать останавливалась, прислушивалась и принималась лизать языком шею; если бы за ней наблюдал человек, он бы, наверно, подумал, что она не боится преследования.
Сердце выдры учащенно билось; стоило ей остановиться, напряжение взбудораженных нервов делалось непосильным, облегчить его могло лишь движение. Вот гончие пустились вдогонку за Джимми Марлендом — он плавал в пруду и выглядывал из-за тростников. Устав плавать взад-вперед под водой, Джимми тоже пробрался сквозь заросли куманики и побежал по небольшому торфянику к ручью. Старый самец был толстый, на широких, коротких лапах и — для выдры — медленный в движениях. Собаки натекли на его след, когда он был посредине заросшего камышом участка, где мхи и лишайники хорошо удерживали запах. Старый самец достиг ручья и поплыл вниз по течению, пока не добрался до дренажной трубы, где он частенько прятался и раньше. Вскоре в трубе послышался гулкий рев Капкана, но пристанище Джимми было надежным. Затем в трубу пополз терьер по кличке Кусай и, застряв в каком-нибудь футе от него, затявкал ему прямо в морду. С годами слух Джимми притупился, и эти звуки не обеспокоили его; не испугали его и глухие удары железной палки над головой. Кусая кликнули обратно, и на его месте затявкал другой терьер, затем и его отозвали. Голоса смолкли. Спустя несколько минут за спиной выдры раздался какой-то шум, затем в нос ей ударила вонь. Джимми Марленд перетерпел и вонь, и грохот, а когда через час вылез из трубы на яркий дневной свет, на расступившейся воде расплывалось радужное пятно. До самого вечера старый самец вылизывал серовато-желтый мех на брюхе и выкусывал саднящую кожу между пальцев, но так и не избавился от запаха парафина.
Самке с детенышами опасность не грозила, хотя гончие и пошли вниз по ручью, напав в лесу на их след, — лесничий остановил гон. В лесу водились молодые фазаны, и всюду были расставлены ловушки для их врагов. С ветки дерева возле лесного кордона свисали трупы множества хорьков и ласок: одни позеленевшие, другие — с вылезшей шерстью, некоторые — с засохшими сгустками бурой крови на перебитых лапах и носах. Все они, как и при жизни, скалили зубы. Рядом с ними висели пучки перьев с когтями и клювами, бывшие некогда сычиками, пустельгами, сороками, ястребами-перепелятниками и канюками. Краски и блеск их оперенья исчезли, глаза потускнели; скоро они упадут на землю, и из праха поднимутся цветы.
На ручье обитали оляпки, чьи резкие отрывистые крики «дзит-дзит, дзит-дзит» напоминали звук точильного камня; эти маленькие проворные темно-бурые птички с белыми грудками в полете были похожи на зимородков, потерявших свою яркую расцветку. Неясыть, прижавшаяся к стволу лиственницы, тоже заметила выдр, которые плыли вверх по ручью, и ее глаза, притушенные дневным светом, как темно-синий плод терна, притушенный восковым налетом, следили за ними, пока мать с детенышами не заползли в каменную расщелину ниже водопада, где величавый чистоуст бросал широкие перистые тени и фиалка освежала свои корни в мокром мху.
С заходом солнца у верхушки лиственницы с жужжанием зароились майские жуки, и неясыть, голодная после пятнадцатичасового недвижного сидения, взлетела сквозь путаницу шишковатых веточек и схватила лапами двух из них. Она съела жуков в воздухе, наклоняя голову, чтобы подцепить их клювом, и когда поймала и проглотила еще с десяток, заухала, подзывая свою подругу — неясыти любят охотиться парой, — и, сев на низкую ветку другого дерева, снова принялась сторожить крольчонка. Прошло несколько минут, и сова резко опустила голову: из лесу шла выдра с выдрятами.
В полночь небо на западе сделалось бледно-голубым и вогнутым, словно внутренняя сторона двустворчатой раковины на морском берегу. На холмистом окоеме, где еще замешкался свет, темнели силуэты деревьев. Под летними звездами раздавалось пронзительное «взз, взз» сотен стрижей, коротавших ночь в двух милях над землей; в хорошую погоду они держатся в воздухе много суток подряд и не садятся даже на ночлег. Тарка услышал их далекие крики, в то время как с наслаждением терся шеей о травянистый бугор муравейника.
Вдруг из лесу донеслось громкое «стрекотанье». Выдры обернулись. Четыре головы обратились к деревьям. Самка перестала выкусывать шерсть, выдрята забыли о своей игре с головой коростеля. «Стрекот», далеко разносившийся по росистой траве, был встречен таким же сердитым и резким «стрекотом».
Когда любопытные выдры добежали до опушки, к стрекотанью присоединились новые звуки. Вокруг мелькали зеленые точки, словно капли росы, блестящие под луной, — то были глаза горностаев, собравшихся посмотреть, как на лесной тропе дерутся два самца. Пробегая по краю канавы, идущей вдоль тропы, горностаи встретились у входа в дренажную трубу, откуда доносился аппетитный запах. Труба, прикрытая кусками дерна, лежала рядом со стволом дуба, перекинутым через канаву. Оба мостика соорудил лесник: один для себя, второй — для горностаев и ласок; их любовь к туннелям и трубам была ему хорошо известна. В лесу было много таких крытых переходов, и, чтобы сделать их заманчивее, лесничий клал внутрь кроличье мясо и требуху.
Самцы старались вцепиться один другому в шею за ухом, чтобы перекусить сонную артерию. Они катались по земле, царапая друг друга острыми когтями, хвосты с черными кончиками дрожали от ярости.
Ласки и горностай, услышав шум драки, сбежались на тропинку, вытоптанную в земле сапогами лесника. Неясыти и сычики пялились сквозь ветви дубов; рыскающая по лесу лиса вслушивалась издали и продолжала охоту. В густо увитом плющом падубе проснулась ворона, протянула «а-а-а-а!» и опять зарылась клювом в перья на груди. Тарка описывал вокруг горностаев круг за кругом; два других выдренка верещали и «гирркали» от возбуждения. Вдруг Тарка почуял запах кроличьего мяса внутри трубы; младшая сестренка тоже почуяла его. Она оказалась проворней Тарки, и, когда он подбежал к одному концу трубы, ее голова и плечи уже скрылись в другом. Тарка оскалил зубы, чтобы выхватить у нее мясо, но тут раздался громкий щелчок, лязг железа, что-то ударило Тарку сбоку по голове, громко зашипела и заскулила сестра.
В ту же секунду мать была возле нее и в жгучей тревоге забегала вокруг трубы. Она часто и тяжело дышала и сопела, как в тот раз, когда гончие рвали самца, металась вдоль канавы, приказывая выдренку следовать за собой, возвращалась и лизала его хвостик. Зеленые огоньки разом погасли.
Потревоженный грохотом в дренажной трубе закокал в своем владении фазан, в ответ с вызовом пропел петух, сидящий среди кур на яблоневой ветке возле сторожки лесника в лощине за лесом. Выдра, сопя, царапала куски дерна, прикрывающие трубу. Послышался собачий лай. Подзывая свистом Тарку и второго выдренка, мать отбежала в сторону, но сразу же вернулась, заслышав крик младшего детеныша: выдренок выполз из трубы и повис, прищемленный за хвост.
Лай перешел в нетерпеливое повизгивание; дверь сторожки отворилась, раздался голос человека. Все звуки отчетливо доносились сюда из лощины. В то время как выдриха пыталась перекусить цепь, пружину и сомкнувшиеся дуги капкана, Тарка с сестрой бежали среди молодых дубков, шурша желто-коричневой прошлогодней листвой и ломая стебли пролески, из коробочек которой сыпались на землю черные семена. В лесу лежали вязанки ореховых прутьев — когда они просохнут, ими будут переплетать тростник для крыш. Выдрята подползли под одну из них, спугнув ласку, сосущую кровь у летучей мыши. Ласка в ярости прокричала «как-как-как!» — и скрылась, волоча в пасти обмякшую мышь. С поля долетел громкий собачий лай и угрожающее «гиррканье» выдры. Тарка услышал, как взвизгнула собака, затем услышал еще один звук, заставивший его зашипеть, — крик человека.
Когда лесник, бегущий по полю, был в двадцати ярдах от опушки леса, выдра перестала грызть цепь капкана и отбежала в сторону. Собака бросилась на выдренка, готовая его разодрать, но ярость незнакомого зверька заставила ее приостановиться. Пока лесник продирался через подлесок, выдра оставалась подле детеныша. Думая, что в капкан попался барсук или лиса, лесник собирался убить их палкой из падуба, которую нес в руке. Он всматривался вперед, и тут собака, молодой еще поисковый пес, с рычанием кинулась обратно, что-то с размаху ударило лесника по ногам — выдра весила пятнадцать фунтов, — острые зубы чуть не прокусили кожу сапога у лодыжки. Лесничий жахнул палкой, но промахнулся: палка задела лишь землю. Он побежал в сторожку за ружьем, кликнув собаку, так как боялся, не искусали бы ее.
Отчаянные метания выдренка помогли ему вырвать железный колышек из земли, и выдренок медленно заковылял вдоль канавы и дальше, по молодому дубняку. Мать засвистела, подзывая Тарку и второго детеныша, и они выбрались из-под вязанки прутьев и побежали за ней. Выдра сделала несколько шагов, затем вернулась к выдренку, медленно идущему следом с капканом на хвосте; капкан бороздил куманику, лязгал о камни, задевал корни деревьев. Закокали фазаны, сидящие на ветвях; с падуба с тревожными криками слетели черные дрозды; в куманике недовольно засвистели крапивники и зарянки; ежи свернулись в покрытый иглами мяч; полевки сжались в комок под увядшим мхом у подножия дубов.
Позади послышался треск — это лесник с шумом продирался через мелколесье, — легкий топот собачьих лап неподалеку и «гав-гав-гав», призывающее хозяина. По морде выдры текла кровь из ран, нанесенных зубами детеныша, в то время когда она пыталась высвободить его хвост. Выдренок метался из стороны в сторону, корчился и сопел: не понимая, что случилось, он кусал матери лапы, уши, шею, нос. Выдра отскочила от него, чтобы схватиться с досаждавшим псом, ее желтые глаза светились, как самоцветы.
Когда к ним подбежал лесник, выдренок еле дышал под тяжестью капкана, который он проволок свыше ста ярдов. Лесничий выстрелил туда, откуда раздавался лязг железа, и лязг затих. Из второго ствола он выстрелил наугад в темноту леса, прислушался. Услышал вдалеке стук дробинок и скрежет капкана, который пытался поднять пес.
На рассвете ворона, спавшая в плюще, что обвивал падуб, увидела новый труп, висящий среди хорьков и ласок, которые некогда вбежали в дренажную трубу с одного конца, но никогда не выбежали с другого. Ворона сказала «а-а-а-а!» и, взлетев на дерево-виселицу, выклевала выдренку глаза.
С наступлением дня выдра с двумя детенышами была уже далеко от леса; они добрались до новой заводи, глубокой, темной и почти неподвижной. Подплыли к островку, где росли козья ива и молодой ясень, а на верхушках деревьев раскачивались плотики из небрежно переплетенных тонких сухих веток — гнезда вяхирей. Когда выдра вышла из воды, голуби уже не спали и ворковали с голубками. У одного конца островка росла зеленая осока; зимние паводки нанесли сюда прутья и корни, и выдры подлезли под них. Мать вытоптала посреди осоки местечко, нагрызла на подстилку стеблей, а немного позднее, услышав поблизости кряканье, бесшумно погрузилась в воду. Ее голова показалась возле гнезда камышницы; самочка неуклюже взлетела с шести больших яиц, коричневых, словно кудрявые соцветия осоки, и испещренных черными пятнами. Выдра отнесла их к детенышам одно за другим, и те разбили яйца и высосали их, а потом стали играть скорлупками. Порой Тарка переставал играть и принимался скулить — болела ссадина на макушке. Тогда мать вылизывала ранку, умывала его всего, с ног до головы, и он засыпал. К тому времени, как она сама умылась и выкусила свинцовые дробинки из шерсти, уже взошло солнце.
В гнезде было тихо, минуты текли вместе с солнечным светом. Поденки, чьи крылышки похожи на тончайшие прозрачные листочки, вылуплялись из куколок, плавающих в воде, и начинали свой танец над заводью в тени. Шелестя яркими крыльями, их ловили пунцовые, голубые и ярко-зеленые стрекозы. Мир и покой царили в затоне, где расходились круги от играющей рыбы, а волнистое зеркало реки отражало деревья и небо, и серых горлиц меж зеленых побегов ясеня, и полевок, грызущих сладкие корни на берегу. Вот закричала камышница — в сопровождении своего первого выводка она выплыла из-под куста боярышника, нависшего над водой; косые лучи солнца освещали труху прошлогодних листьев, которая стелилась по дну как дым. Выдра слышала все голоса дикой жизни, в то время как лежала без сна, думая о погибшем детеныше. Выдрята еле слышно посапывали, лишь изредка ноздри их трепетали и дергались лапы — казалось, они бежали во сне.
5
Когда Тарка проснулся, он увидел среди веток ясеня чей-то насмешливый глазок. Тарка вытянул голову и фыркнул, глазок исчез. Из гущи ветвей донеслось звучное «тиканье».
Услышав его, синичка-лазоревка, выискивающая зеленых гусениц на листьях прибрежного боярышника, перелетела на островок и запиликала возле крапивника. Подружка синицы сидела в гнезде из мха и перьев в дупле пня, прикрывая крыльями тринадцать птенцов, а подруга крапивника грела своих восемь птенчиков в сплетенном из травинок шаре, спрятанном сбоку в стоге сена. Оба гнезда находились на расстоянии нескольких сотен взмахов крыльев от островка, однако когда самочки, обе меньше пальца человека, услышали зов своих сородичей, они покинули птенцов и поспешили к ним. Их тревожные крики послужили сигналом для всех птах. С полей прилетели дрозды. Высвистывая свою звонкую, замысловатую песенку и подергивая хвостиками, они сели на ветки над головами выдр. Вскоре на деревьях собралось множество мелких птиц; их разноголосый хор привлек внимание шести птиц покрупнее, которые плавно взмыли с берега одна за другой. Эти веселые и дерзкие птицы всегда стремились туда, где была суматоха, а нередко и сами являлись ее причиной. Подняв хохолки и выпучив светло-голубые глазки, шесть соек издавали пронзительные, резкие звуки, словно где-то с треском рвали парусину.
Выдрята лежали спокойно, но выдра подняла голову. Она и раньше встречала соек и знала, что иногда настойчивый крик этих нарядных родственниц ворон привлекает внимание человека. Около получаса она была в тревожном ожидании, готовая укрыться с детенышами в спасительной воде, если крики соек участятся, указывая на приближение человека — самого главного врага.
Птицы проголодались. Увидев, что выдры не обращают на них внимания и не причиняют вреда, улетели обратно крапивники, синички и красногрудки — так в Девоншире называют зарянок. Сойки остались, но, когда, охотясь за дикими голубями, на деревья спикировал ястреб-перепелятник, они снялись с веток и вместе с двумя воронами, присоединившимися к ним, скопом напали на ястреба.
И снова в зеленом убежище воцарилось спокойствие; в полуденной тишине безмятежно ворковали горлицы. Весь день над островком мерным шагом двигалось солнце. Но вот вершины холмов запылали огнем, тени поднялись с вод, поползли вверх по стволам деревьев и растаяли в вечернем полумраке. Над полями проплыла белая сова, одна из сотен сов, что огромными ночными бабочками облетали дозором пастбища и пашни, орошаемые Двумя Реками. Распустив крылья веером, она плыла над мышиными тропами среди цветов и полевицы, откуда взлетали комары-долгоносики. Донеслось рокочущее «урррр…» и резкое «уик…уик» козодоя, полетело сквозь низкий туман, над которым поднимались растрепанные головки кукушкина цвета и затвердевшие семенные коробочки сусака. Перестали, наконец, махать и хлопать крыльями голуби и пристроились на ночлег в ясеневых ветвях.
В воду плюхнулась капля, вторая, третья — это выдра подняла голову из реки; она поджидала, не трепыхнется ли где плавник, не плеснет ли хвост рыбы. Набрав в легкие воздух, она бесшумно двинулась к другому концу островка, где после принесенных юго-западным ветром дождей и разлива реки образовалась промоина. Здесь паслось семейство выросших уже камышниц. Нырнув под них, выдра увидела лапки и смыкающиеся с ними отражения — темные силуэты на более светлой поверхности заводи. Она схватила одну из птиц и утащила под воду; убив ее несколькими укусами, поспешила к выдрятам, выставив из воды нос, глаза и усы. Детеныши уже ждали ее и при виде добычи подбежали и вырвали камышницу у матери из пасти; поставив лапы на мертвую птицу, они с урчаньем раздирали ее на куски. Когда выдра вернулась к промоине, камышницы уже исчезли; она нырнула и стала искать рыбу.
Поздно ночью мать с выдрятами вернулась в лес и принялась свистом звать оставленного детеныша. Она не знала, что он мертв, просто чувствовала, что ей его не хватает. Выдриха бежала, опустив нос к земле, и свист далеко разносился в тишине ночи; время от времени, когда горе особенно ее донимало, она останавливалась и начинала скулить. Петух, спавший на яблоневой ветке возле сторожки лесника, услышал ее и закукарекал, разбудив пса в будке; пес залаял, будя хозяина. Лай прогнал выдру из лесу, и к концу ночи, когда семейство добралось до большой реки, погибший детеныш был забыт.
Много дней подряд они охотились и играли среди высоких лесистых холмов, меж которыми змеей извивалась и петляла река. Когда в сумраке ночи на небе повис узкий серпик луны — четвертый по счету, который увидел Тарка, — выдренок мог уже проплыть под водой тридцать ярдов, не высовывая носа, чтобы перевести дыхание. Однажды его сестренка поймала большую форель, пригнанную матерью против течения, и, когда она тащила трепыхавшуюся рыбу на камни, Тарка схватил форель повыше хвоста. Сестра ляскнула на него зубами, выпустив рыбу, и Тарка поволок ее прочь. Сестра прокусила темную, в красных крапинках кожу форели, и так, дергая каждый к себе, они разорвали ее на части и съели, держа в лапах и чавкая. А ведь раньше они обычно заглатывали рыбу не жуя. При малейшей угрозе, что другой выхватит у него кусок, каждый выдренок быстро отворачивался; очень скоро от форели остался лишь огрызок хвостового плавника.
Когда они наелись, «гиррканье» умолкло; наступила пора играть. Напившись, Тарка шаловливо цапнул сестру за голову и, словно приглашая поймать его, помчался по мелководью к заводи. Он плыл, стараясь загребать только задними лапами, как это делала мать, когда не гонялась за рыбой, но стоило сестре оказаться так близко, что она могла дотянуться до кончика его хвоста, как он пускал в ход все четыре ноги и одним движением своего «руля» поворачивал на сто восемьдесят градусов. При одном из поворотов сестра поймала его, и они принялись «кататься», дрыгая лапами, как котята, и притворяясь, что сейчас загрызут друг друга. Старый Ног, самая мудрая цапля в долине Двух Рек, опускаясь на берег заводи, услышал, как лопаются на воде пузырьки. Он смотрел, не отводя глаз, готовый взлететь, если появится опасность. Вот закрутилась воронка и показались два темных гладких тела, свившихся клубком. Ног ждал. Клубок подкатился ближе. Опустив голову с острым клювом — роговое копье на длинном, скрытом узкими перьями древке, — Ног зашел по колени в воду. Но не успел он погрузить свое «копье», которое пронзило не одного угря, не одну водяную крысу, как в ярде от него возникла голова выдры. Услышав ее резкий свист, выдрята расцепились и ушли на глубину. Цапля с хриплым прерывистым клекотом испуга и гнева сорвалась с места и медленно замахала крыльями, вобрав голову в тощие плечи и вытянув назад ноги. «Кра-арк!» — прокричал Старый Ног, направляясь на другое рыбное угодье.
Несколько ночей подряд выдрята, наевшись, спускались по течению к мельничной запруде и играли, всегда вместе с матерью, которая охотно поддразнивала их. Однажды она позвала их так, словно их ждет еда, но когда они кинулись к ней со всех ног, на камне лежал только большой лист. Выдрята поняли, что это шутка, и принялись гоняться за матерью. После месяца засухи запруда обмелела; они взбаламучивали ее, поднимали с илистого дна обрывки листьев, веточки и мелкие камешки. Выдра давала себя поймать и наслаждалась яростью, с какой рычали и кусались детеныши, не причиняя ей вреда.
Однажды утром с Атлантики задул юго-западный ветер и пригнал низкие тучи, быстро бегущие над землей. Косой серый дождь скрыл деревья на склонах холмов. Молодой месяц казался светящейся личинкой, наматывающей на себя кокон в ночном небе. Река, вздувшаяся от дождей, устремилась к морю коричневым потоком, и к ночи их убежище у подножия ольхи, растущей в трех футах от берега, оказалось затоплено. Выдр помчало паводком через водослив Даркхэмской плотины, где цепкие лапы струй обнимали ветки, застрявшие на его гребне. Выдры распластались по поверхности и отдались течению. Шум половодья наполнил Тарку восторгом. Взобравшись на бревно, мчавшееся впереди, он с ликующим криком вновь прыгнул в воду. Сделал вид, будто пена — это рыба, и перевернулся на спину, стараясь схватить ее лапами. Река влекла его вперед, вода была всюду: над ним, под ним, и он свистел, переполненный радостью. Запахи, принесенные паводком, пробудили в выдрихе воспоминания о большой рыбе, и она вела сейчас детей к излучине выше Протокового моста, где они с самцом ловили лосося и кумжу еще до того, как родились выдрята.
Постепенно тучи ушли на северо-восток, к холодным моховым болотам и вересковым пустошам на плоскогорье, и когда выдры подплыли под Роутернский мост, на темно-синем небе сияла яркая луна. Вокруг головы Тарки вспыхивали пузырьки. Стремительно несущаяся вода откатывалась назад над песчаными мелями. За излучиной русло стало глубже, течение спокойнее: на полмили ниже реку перегораживала бетонная плотина. Здесь начиналась запруда. Выдры двинулись дальше, за следующий поворот, и вскоре оказались у того места, где плавный поток белой от пузырьков воды, разорванный у левого берега каскадом рыбохода, с грохотом низвергался вниз. Над рекой висел туман. Внизу, у рыбохода, выпрыгнула из воды большая «сосулька», вспыхнула под луной серебром.
Выше рыбохода река катилась темная и глянцевитая, ниже — клубилась пенистой толчеей. Внезапно в пене мелькнуло и исчезло серебристое мерцание. Передвинулось ниже, вспыхнуло вновь. Старый Ног, стоящий внизу рыбохода, чуть не свалился, сцепившись длинными зеленовато-серыми трехпалыми ногами, — так поспешно он кинулся к воде. Вот вторая рыба попыталась перебраться через плотину; ударяя хвостом из стороны в сторону, она с трудом двигалась вверх по водосливу, а вода своими когтями тащила ее назад. В сумятице волн молодая — первой четверти — луна разбилась на мириады звезд. И вдруг все звезды слились в одну — это месяц, увеличившись в размерах, поднялся из воды серебряным серпом и бесшумно поплыл по заводи неба в оглушительном грохоте падуна.
Выдры лежали в водовороте возле правого берега, подальше от каскада, ниспадающего по рыбоходу. Медленно кружилась вода. Вместе с ней кружилось колесо из веточек, спаянных пузырьками. Опустив хвосты по течению, кружились и выдры. Когда лосось прыгнул, тело выдрихи напряглось, ноздри раздулись, но не успели брызги упасть обратно, как мышцы ее вновь обмякли. Блеснул и исчез лоснящийся затылок. Выдрята нырнули вслед с такой быстротой, что, наблюдай за ними человек, он бы поразился, когда она успела подать им сигнал.
Выдры плыли вдоль берега, пока тяга воды не ослабла. Тогда в поисках рыбы мать повернула на середину русла и зигзагом двинулась обратно в темном и мутном потоке разлившейся реки. Встречное течение вынуждало их работать всеми четырьмя лапами. Тарка держался слева от матери, сестра — справа. Иногда его относило в сторону или кружило в водовороте. Он как раз выбирался из воронки, когда мать, то ли почуяв рыбу, то ли увидев быструю струйку воды, бегущую от ее спинного плавника, повернула и понеслась по течению, оставив выдрят позади. Тарка повернул за ней и пошел полным ходом. Вдруг мимо него промелькнула длинная узкая рыба, такая большая, каких он никогда не видел. Через несколько секунд за ней вдогонку промчалась выдриха. Тарке пришлось вынырнуть, чтобы набрать воздуха, и когда он опустился, он был один. Выдренок знал, что, убегая от погони, рыба всегда идет вверх, поэтому он плыл против течения, от края к краю, как всегда делала мать.
Прошло несколько минут, и, не найдя ни матери, ни сестры, Тарка вылез на берег, где мокрая трава и веточки, застрявшие на нижних суках орешника, показывали, как высоко поднялся и как опускается паводок. В «окнах» на лугу плескалась вода и выискивали корм камышницы. Возвращаясь после безуспешной погони за птицами, Тарка услышал свист матери. Выдру, перебравшуюся вслед за рыбой через плотину, снесло по рыбоходу и швырнуло о бетонный край среднего водосброса. Волны били ее, пока, задыхаясь, фырча и кашляя, она не выбралась оттуда, где был самый сильный напор воды, на галечные завалы, нагроможденные у более низкого берега прошлыми паводками.
Неудача разъярила выдру, и она повела детенышей по залитому водой лугу в лес на поиски кроликов. В этом лесу выдра никогда не слышала «клик-клак» захлопнувшегося капкана, поэтому ничего не боялась. Зато кролики боялись ее и оповестили друг друга об опасности глухими ударами задних ног, и те, кто не задал стрекача в чистое поле, спрятались в норах, положив уши на спину и дрожа всем телом. Обессилев от страха, они сжались в комок, приникнув мордочками к земле в самой глубине отнорков. Выдры забрались туда следом за ними. Двенадцать пищащих кроликов были вытащены наружу и убиты, с трех из них мать тут же содрала шкуру. В то время как они ели, в одном из отнорков раздалось резкое стрекотанье, загорелись две колючие зеленоватые точки. Там стоял Стиккерси, горностай, в бешенстве от того, что в его владениях появились водяные хорьки. Стиккерси был вдвое меньше выдриного хвоста, но выдры не боялся. Он приблизился к самому ее носу и так бесновался от запаха свежей крови, что выдра повернулась и пошла обратно к реке, чтобы не слышать воплей крошечного зверька.
Когда наступило полнолуние, Тарка уже сам добывал себе пищу. Он охотился в заводях и узких проливах меж островками за излучиной выше Протокового моста, где, по словам удильщиков, был лучший клев в долине Двух Рек. Как-то августовской ночью, наигравшись у дубового щита, за которым начиналась мельничная протока, Тарка оставил мать и побежал вдоль берега. Пронзительный крик заставил его застыть на месте. Тарка поднял лапу; его ноздри раздулись. Крик донесся с луга, где еще оставались островки нещипаного ситника и осоки. За первым криком послышались другие — невнятные гортанные звуки, которые медленно взмывали в воздух и заканчивались мелодичным певучим свистом, немного похожим на тот, каким переговариваются выдры во время игры. Это подняли тревогу кроншнепы, кормившиеся на лугу вместе со своими детьми, которые прилетели сюда с моховых болот, где они родились. Тарка часто ночами слышал крики кроншнепов, но так они еще никогда не звучали. Раздались шаги, и с реки предостерегающе свистнула мать.
Помня, что сопровождало звук шагов в прошлый раз, когда дуплистое дерево дрожало от собачьего рева, Тарка со всех ног помчался к реке. Выдриха вышла из воды и стояла на берегу, втягивая ноздрями ночной воздух. Тревожные крики кроншнепов смолкли, с неба посыпалась перекличка: «Тви-тви-тви». В прибрежной осоке стали переговариваться между собой какие-то певчие птицы, их позывы сопровождались нежной песенкой, предназначенной подругам, когда те нянчат птенцов в подвешенных к зеленым камышам колыбелях.
До Тарки донесся зловещий для него голос человека и собачий дух, от которого шерсть на загривке стала дыбом. Выдриха угрожающе «гирркнула» и вместе с выдрятами сбежала с берега и скрылась в осоке. Луна спряталась за тучи.
На берегу черными силуэтами на фоне неба возникли фигуры двух мужчин и длинноногой охотничьей собаки — помеси шотландской овчарки с борзой. Мужчины неуклюже спустились вниз, к кромке воды. На мгновение наступила тишина, и, заглушая мягкий плеск волн и шум ветра в деревьях, взмыла ввысь трель кроншнепа.
Царапающий звук и крошечная вспышка огня. Темнота. Снова чиркнули спичкой, прикрывая от ветра рукой, пока она не разгорелась; красноватые отблески заплясали на неясных тенях деревьев, отражающихся в воде. Неровный свет вырвал из темноты лица двух мужчин. Один из них держал в руке острогу со сверкающими зубьями. Они стояли тихо и настороженно. Затем юношеский голос ярдах в десяти вверх по реке произнес:
— Эй, Шереспер, там через касатик славный коричневый кобелек лупит. Вот бы его поймать!
Ему никто не ответил. Оба мужчины пристально вглядывались в воду. Вот тот, у кого был факел, медленно поднял руку и протянул вперед палец — по заводи скользила тонкая струйка. Острога взмыла над головой второго и, дрожа, повисла в воздухе.
Хриплый голос шепнул:
— Пора! — и острога врезалась в воду.
Воздух прочертила огненная кривая, водная рябь рассыпалась множеством огоньков, — это тот, кто держал факел, бросил его и вошел в воду вместе с юношей, прибежавшим, как только он увидел прыгнувшего лосося. Они искали рыбу ощупью, глядя на ходящее ходуном древко остроги; вдруг один из мужчин крикнул, что зубец проколол ему руку. Он поднял ее вверх, покрытую кровью, и, ругаясь во все горло, орал, что ему оторвало палец.
Тот, кто оставался на берегу, подобрал с земли факел — пропитанные керосином тряпки, привязанные к палке, — и, зайдя в реку, насколько ему позволяли высокие сапоги, протянул факел вперед. Юноша крикнул, что схватил рыбину за жабры, но долго ему ее не удержать. Не успел товарищ подойти к нему, как он выпустил рыбу, вопя, что его укусил за ногу коричневый кобелек.
На залитом лунным светом берегу возле почерневших, чадящих тряпок, лишь кое-где еще тронутых огнем, они перевязывали свои раны. В то время как третий, единственный не пострадавший, наклонился, чтобы поднять с земли пустой мешок, раздалось рычание пса. Рычание усилилось, пес помчался вперед, взвыл от боли и пробежал в обратную сторону, сопровождаемый двумя желтыми огоньками.
— Славный коричневый кобелек, да? Ты его видел в касатике? — проворчал браконьер по прозвищу «Шереспер», потерявший фалангу пальца. — Нам нечего тут и носа казать, когда такие кобельки бродят в округе.
6
Желтые — с ясеня, вяза и ивы, коричневые — с дубов, ржаво-красные — с каштанов, пунцовые — с куманики, плыли по воде первые расцвеченные осенью листья. Буки, сохранявшие рыжевато-коричневый наряд под дождем и градом, были не в силах устоять перед ветром. Покинули свои убежища ласточки-береговушки и все малые певчие птахи, остались только зимородки и цапли. Умолкли птичьи голоса, лишь касатик вздыхал в тишине. Закручивался спиралью вянущий тростник, ливни ломали его хрупкие верхушки.
Начали спускаться к морю угри. Самки шли из прудов и озер, из сточных и дренажных канав, с горных ручьев Дартмура, где издревле брали свое начало Две Реки. Они плыли по мутным водам, змеями скользили по мокрой траве, ползли по рытвинам и колеям, по дренажным трубам. Глаза их становились все больше и больше. Их гнало единое чувство: желание попасть к морю, а оттуда, где у берегов Ирландии кончалась материковая отмель и дно круто спускалось вниз, — дальше, в океан. Чтобы добраться до нерестилища, этим рыбам приходилось идти против Гольфстрима, пересекать Атлантику; только тогда они наконец оказывались в огромном «бассейне» со стоячей водой, где под плавучими водорослями двигаются в абсолютном мраке удивительные светоносные рыбы. Здесь мечут икру угри всего света и здесь они гибнут, в глубине Саргассова моря, откуда прозрачными, плоскими, сжатыми с боков лентовидными личинками они отправились некогда во внутренние воды Европы. Проделав свое колоссальное путешествие, «стеклянные угри» — эльверы — входили в устья рек и поднимались к прудам и канавам, где жили и нагуливались — если их не убивал человек, выдра, цапля, чайка, баклан, зимородок, другая водная птица, сычик и щука — до тех пор, пока инстинкт не гнал их на поиски прародины в Мексиканском заливе.
Угри в долине Двух Рек истребляли икру и мальков лосося и форели, а выдры истребляли угрей. Тарка стоял на мелководье, на нанесенных паводком плоских камнях, а угри, извиваясь, двигались мимо его ног. Сперва, поймав угря, он съедал небольшой кусочек возле хвоста, но, насытившись, стал просто выхватывать их из воды, кусать и кидать обратно. Чем больше он убивал, тем в больший приходил раж: он рвал рыбу, пока у него не заболели челюсти. Угри были покрыты слизью, и, закончив забаву, выдренок еще с полчаса умывался на мшистом камне.
Пока продолжалась миграция угрей, выдрам было легко добывать себе пищу, поэтому они совсем не охотились. Они следовали за угрями по реке и поедали их, всегда начиная с надхвостья и оставляя голову и парные плавники. Большую часть ночи выдры играли. Мать привела детенышей к крутому глинистому берегу, отполированному за многие годы десятками выдр, которые с него катались. Внизу, в реке, примерно в десяти футах от обрыва, была котловина. Скользнув головой вперед по глинистому склону, Тарка увидел, что там кружатся семь пузырьков и веточка посредине; ему захотелось поймать веточку и поиграть. Но когда он нырнул, оказалось, что веточка исчезла, а на ее месте поднимается целая гроздь пузырьков, серебрясь вокруг расплывчатого силуэта чужой выдры. Послышались удары хвоста, и Тарка посмотрел туда, откуда они доносились. Он увидел чужого выдренка, плывущего в пенистых брызгах с веточкой в зубах. Тарка пустился вдогонку, но вскоре путь ему преградила вырванная с корнем ива, обломанные ветви которой купались в реке. Тарка вскарабкался на ствол, стряхнул воду с морды и с ликующим свистом побежал обратно на «горку». Выдренок был уже здесь, все еще с веткой во рту, а рядом с ним взрослая выдра. Тарка сердито «гирркнул» и кинулся обратно к воде. Взрослая выдра запищала, побежала следом, лизнула в мордочку и «замурлыкала» ему в ухо. Тарка зашипел на нее и свистом позвал мать; мать пришла на его зов, но не стала гнать незнакомую выдру и выдренка.

Выдры на глинистой «горке» на берегу (во время игры они не только скользят, но катятся боком или кувыркаются через голову).
Эта выдра дала жизнь многим пометам к тому времени, как мать Тарки появилась на свет. Шерсть ее поседела на голове и плечах, морда тоже была седой. Клыки стали длинными и желтыми, а трех резцов не было вовсе. Она знала каждую речку и каждый ручей, что текли на север, к морю. Она кочевала по холодным моховым болотам и вересковым пустошам трех графств, ее травили четыре стаи гончих. Звали ее Серомордая.
Всю ночь Серомордая играла с семьей Тарки на «горке» и осталась с ними, когда на востоке порозовели низкие облака. День пятерка провела на острове Плакучей ивы, и Серомордая свернулась клубком возле Тарки и вылизала его шкурку, словно он был ее собственный детеныш. Затем умыла другого выдренка, с белым кончиком хвоста. Серомордая встретила Белохвостку три недели назад, и с тех пор они стали ходить вместе. Между взрослыми выдрами была симпатия и дружба, они ни разу не «гирркнули» и не зашипели друг на друга. Мать Тарки не помнила Серомордую, а ведь старая выдра играла однажды с ней и ее братьями в одном из прудов для домашних уток неподалеку от устья реки.
Ветер гнал вниз по долине серые ливни, и река затопила норки ласточек-береговушек, дырявящие высокие песчаные берега. К морю, ударяясь друг о друга, неслись деревья, ветки и трупы животных. Осенний паводок был такой мощный, что выдры предпочли не охотиться в реке и откочевали в глубь долины по суше, кормясь полевками, которых половодье выгнало наружу, и кроликами. Выдры ловили их в старой норе в лесу, там, где висели прибитые к дубу трупы цапель, зимородков, краснозобых гагар и бакланов. Одних из них застрелили, других поймали в силки. Бакланы были обезглавлены, так как Комитет по охране природы, существовавший в долине Двух Рек, платил по шиллингу за голову. С крошечных телец зимородков были срезаны крылья: в городах охотно покупали их яркие перья для украшения дамских шляп.
Стоял октябрь, пора осеннего равноденствия. Прошел еще один ураган, и в лесах над извивами реки стали видны оставшиеся с лета птичьи гнезда. Как красива была облетающая дикая вишня! Ветер срывал с веток пунцовые листья и, кружа, уносил вдаль. С новым паводком выдры спустились в реку, лишь изредка оставляя ее, чтобы пробежать от изгиба к изгибу через поля и моховины по невидимым тропам, проложенным их сородичами еще в те времена, когда плуг не бороздил землю и первобытные люди охотились на выдр ради их шкурок с деревянными копьями, обожженными на огне. Тропы эти были древнее, чем поля, ибо поля возникли на месте прежнего, более широкого русла, где во времена оны выдры тащили по грязи свои тяжелые хвосты.
Они доплыли с течением до Полупенсового моста и залегли на день в тростниках. Там их потревожила собака, и следующей ночью они двинулись в глубь суши, чтобы поискать пристанища в барсучьих норах на склоне холма. Барсуки лишь поглядывали на них, принюхивались и прятали свои полосатые черно-белые морды. За несколько ночей до того, на рассвете, в тот же самый барсучий городок среди сосен забралась лиса, но хозяева прогнали ее, так как она неприятно пахла и ее привычки были не по вкусу чистюлям барсукам. Но если бы лиса забежала к ним днем и ее учащенное дыхание сказало бы им, что ее преследуют гончие, они не покусали бы ее и не выгнали прочь, а приютили, ибо человек был их общим врагом.
Барсуки позволили выдрам спать в одной из «печурок» — так жители Девоншира называют камеры, соединенные переходами, потому что по размеру и форме они напоминают обмазанные глиной маленькие печки, в которых местные хозяйки до сих пор пекут хлеб. Выдры были чистоплотны, умывались перед сном и не были неприятны барсукам. С наступлением ночи выдры и барсуки вместе покинули нору. Тарка держался поближе к матери — уж очень большим и страшным показался ему старый барсук, храпевший весь день в соседней камере на подстилке из мха и сухой травы. Барсуки заковыляли по своим тропам в кустах терновника и бересклета, а выдры двинулись другим путем — через куманику на склоне холма до самой его вершины. Они пробежали вдоль длинной грядки объеденной овцами капусты, пересекли проселочную дорогу, пробрались сквозь живые изгороди, разделяющие небольшие поля. Пройдя из конца в конец пастбище и лес, где росли дуб и остролист, они вышли к ручью, берега которого были изрезаны канавами и размыты приливом. Внезапно Белохвостка пустилась трусцой по грязи — она узнала Ланкарскую губу, куда впадал ручей, текущий сюда по долине из Приюта Ясеней-Близнецов, где она родилась. Был час отлива, и вода бежала ниже крутых глинистых берегов. Выдры нырнули, раскинули лапы, и течение понесло их под мост к реке, к широкой и мелкой заводи, которую пересекали круглые черные железные быки Железнодорожного моста, — заводи Шести цапель. Всякий раз как Тарка пытался вылезти на берег, чтобы схватить одну из пичужек, кормившихся у кромки воды, ноги его погружались в ил и брюхо тянуло вниз. Взлетали напуганные выдрами птицы, будя криками эхо по всей округе. Кричали галстучники, зуйки, кроншнепы, бекасы, травники и золотистые ржанки. На протяжении всего пути к морю, в пронизанную звездным светом даль, их сопровождали птичьи голоса.
Коричневая вода укачивала, несла выдр по огромной кривой, и тут Тарка увидел что-то, от чего его сердце наполнилось страхом. Большая Медведица, бывшая раньше перед ними, очутилась почему-то слева, касаясь ручкой ковша далеких деревьев. Звезды, принадлежащие реке и ночи, были друзьями, но эти странные огни казались каждый во много раз больше утренней звезды. Мерцающей цепью протянулись они через реку, отбрасывая туманный ореол, словно занялся рассвет, который для выдр в долине Двух Рек всегда служил предостережением.
Выдрята были встревожены огнями, но взрослые выдры не проявляли страхе, и Тарка продолжал плыть поверху. Едва они приблизились к морю, как ночной ветер, поднявшийся часа за два до того, когда прилив затопил бар [2] в эстуарии, донес до них глухой грохот.
Вскоре стремительное движение реки замедлилось, натолкнувшись на встречный напор прилива. Небольшая волна подняла Тарку и прокатилась дальше, другая свернулась, как двустворчатый моллюск, и разбилась над его головой. Тарка отряхнул воду с усов и облизал губы — незнакомый вкус понравился ему. Он стал лакать воду. Зыбень — предвестник прилива — колыхал его вверх-вниз, игриво кидал в морду брызги. На каждой ребристой мели и илистом берегу вода лизала гальку и валуны и откатывалась с еле слышным журчаньем, оставляя за собой шапки пены, трепещущей и лопающейся на ветру. Выдры все энергичнее отталкивались лапами, спускаясь к морю; вскоре глинистые берега сменились песчаными отмелями, и вот уже они плыли по мелководью, где из норок морских червей выскакивали воздушные пузырьки. На воде, разворачиваясь по течению, темнели какие-то силуэты; «флип-флап» — билась о них волна. Тарка испугался рыбачьих лодок, но взрослые выдры словно и не заметили их. Огни на мосту сделались большими и яркими и перестали мигать. Еще лодки на причале. Грохот автомобилей и повозок стал громче, показались фигуры. Впереди, в двухстах ядрах от них, на двадцати четырех пролетах разной формы и величины раскинулся Длинный мост. Серомордая нырнула, остальные четверо нырнули следом — старая выдра учуяла человечий и собачий дух.
Тарка оставался под водой столько, сколько ему хватило дыхания. Затем бесшумно поднялся наверх, огляделся, чтобы убедиться, что ему не грозит опасность, набрал воздуха и снова ушел вниз. Он поднимался семь раз, прежде чем выдры достигли моста; на восьмой он оказался прямо под одним из пролетов. Выдренок плыл между двумя быками, как мог сопротивляясь натиску прилива.
Так Тарка впервые миновал Длинный мост — его построили монахи вдоль брода за два столетия до того, как в верфях на морском побережье легли на стапеля галеоны, посланные потом против Испанской Армады. Проходя под мостом, выдры вынуждены были напрягать все силы и держаться правого берега реки, где мощь прилива была меньше. В ту ночь они ныряли в эстуарии на глубину в поисках камбалы. Найти плоских рыб было нелегко — обычно, увидев над собой черные тени, палтусы и лиманды вжимались в песок, и пятнистая желто-серая кожа совершенно скрывала их. Выдры ворошили дно, выгоняли рыбу наверх и, схватив в лапы, несли на берег, чтобы там ее сожрать.

Выдра с камбалой у Длинного моста ночью, между приливом и отливом.
Вскоре Тарка научился есть крабов, разгрызая зубами панцирь. Вместе с остальными выдрами он выискивал их среди скал под каменной набережной рыбачьей деревни, которая стоит там, где встречаются Две Реки; часто по ночам на головы выдр низвергались ведра помоев и мусора, опорожняемые местными жителями. Однажды кто-то высыпал полное ведро горячей золы, обжегшей Тарку и Белохвостку.
Днем выдры спали в тростниках пруда, где жили домашние утки. Поднявшись с приливной волной во второе ответвление эстуария — Брэнтонскую губу, где стояли на приколе небольшие парусники и барки с гравием, выдры на рассвете оставили соленую воду и перебежали через восточную дамбу к пруду, формой напоминающему бараньи рога. Здесь, в чуть солоноватых водах, они ловили кефаль, занесенную сюда морем в те времена, когда был сломан волнолом, и, радужную форель, выпущенную в пруд его хозяином. В этих водах «удил» рыбу Старый Ног. Ночью в камышах хлопала крыльями и крякала всевозможная водоплавающая птица: кряквы, дикие утки, чирки, широконосики, красноголовые нырки, гоголи и не принадлежащие к утиному племени лысухи и поганки.
На четвертую ночь после прихода выдр к пруду Бараньи Рога ласточки, на закате примостившиеся среди широких листьев рогоза, не уснули. Они все еще щебетали, когда первые звезды замерцали в воде, потому что получили сигнал покинуть столь любимые ими зеленые луга. Уцепившись лапками за бархатные головки рогоза, птицы переговаривались нежными «припевными» голосами, которые люди редко слышат, так они тихи. Ласточки говорили о серых волнах с белыми гребешками, о ветрах, сбивающих взмах крыла, о раскатах грома в освещенных солнцем тучах под ними, о бурях, голоде и усталости, которые им предстоит перенести, пока они не увидят снова сверкающую кипень прибоя у африканских берегов. Но никто не говорил о тех, кто упадет в море, будет убит во Франции, Испании и Италии или разобьется о стеклянные окна маяков, потому что эти перелетные птички с вильчатыми хвостами не думали о страданиях и смерти. Они были чисты и радостны духом и чужды повадок людей.
Любопытный Тарка наблюдал за ними весь день. Он смотрел, как они стремительно проносятся над его головой, поднимая ветер и затемняя небо, слушал их резкие крики, когда, упав на воду, они плескались в покрытом рябью пруду. На закате, как раз в то время, как он потягивался, готовясь покинуть гнездо, они взлетели к звездам в едином дружном порыве. «Кра-арк! Кра-арк! Кра-арк!» — произнес Старый Ног и с мрачным видом застыл на мелководье у края пруда. Для многих из синекрылых странников, начавших утомительный перелет из страны соломенных крыш и глинобитных сараев, это был последний английский голос.

Пруд Бараньи Рога; на заднем плане — Увалы.
Несколько дней спустя, играя в пруду, Тарка услышал тихий, мягкий свист. Выдры перестали играть и прислушались. Свист повторился, и мать Тарки тоже засвистела. Ответный свист был громкий и резкий. Выдриха поплыла ему навстречу, Серомордая и Белохвостка следом за ней. Этот свист заставил Тарку яростно закричать «ик-янг!», — а когда выдренок так кричит, значит, он уже не детеныш, а взрослый самец.
Прошлой ночью выдры охотились за рыбой в эстуарии возле увитых водорослями плетней и столбов занесенной илом запруды, куда в былые времена прилив загонял лосося. Они вернулись к Утиному пруду по выдриной тропе через поля и сточные канавы, и по отпечаткам их лап пошел старый самец.
Он выследил их до самого пруда. Это был крупный, толстоногий самец с длинными усами и плоской головой, раза в два, если не больше, тяжелее Тарки. И хотя Тарка крикнул: «Ик-янг!», он сжался от страха и, шипя, припал к сестре, когда незнакомец обнюхал ее, а затем лизнул в нос. Это очень странно подействовало на мать: свирепо кинувшись к дочери, она опрокинула ее на спину, укусила и загнала на глубину. На поверхность всплыло множество пузырьков. Тарка нырнул, чтобы посмотреть, почему мать так непонятно себя ведет, но самец круто развернулся, взвихрив воду воронкой, и ляскнул на него зубами. Перепуганный Тарка поплыл к берегу и заполз в сухой чертополох. Отсюда, пока обсыхали мокрые бока, он свистом призывал мать. Тарка видел, что она плывет с поднятой вверх головой, а чужой самец делает вид, будто кусает ее. Выдриха не обратила внимания на зов сына и нырнула, играя с самцом. Несколько часов кряду Тарка бегал по травянистой кромке пруда, следя за играющей матерью. Один раз самец поднялся с кефалью в пасти, даже не потрудившись ее убить, прежде чем кинуть вверх брюхом. Тарка свистел вновь и вновь, пока старый самец не вышел из воды и не прогнал молодого самца, осмелившегося звать его подругу.
Тарка убежал. Он пересек дамбу и двинулся вверх по каменистому руслу, ловя камбалу и зеленых крабов, которые кормились у открытого устья сточной трубы. Он встретил Серомордую и Белохвостку, и вместе они вернулись к Утиному пруду, распугав всю дикую водяную птицу. Тарка плыл по завитку Бараньего Рога, когда большой самец услышал удары его задних лап и снова пустился за ним в погоню. Тарка нырял и петлял, и хотя чужак дважды укусил его за шею и один раз за лапу, поймать не смог — выучка матери сделала выдренка сильным и быстрым. Тарка вылез из воды, но самец преследовал его дальше, через островки травы, чертополох и заросли обтрепанного касатика до самой дамбы; там самец обернулся и засвистел, подавая сигнал подруге. Услышав чужой свист — на самом деле это было просто эхо, — он в ярости помчался к Утиному пруду. Тут засвистел Тарка, и самец вернулся, чтобы его убить. Тарка перелез через дамбу и со всех ног пустился по обмелевшей губе к западному берегу. Там он остановился и несколько раз прокричал «Ик-янг!», но, если бы чужак вернулся в ответ на вызов, вряд ли Тарка ждал бы своего врага, чтобы выпить его кровь.
Матери он уже стал безразличен, хотя она никогда до конца не забудет, что любила выдренка по имени Тарка.
7
Тарка остался один. Молодой самец свирепого и преследуемого племени, единственными друзьями которого были его враги — охотники на выдр. Детство кончилось, и теперь его имя действительно стало соответствовать образу его жизни, ибо он стал бездомным кочевником, и почти все люди и собаки были против него.
Тарка охотился за рыбой во всех затонах и протоках Брэнтонской губы, ел, что мог найти среди перистых пахучих листьев морской полыни, растущей вместе с приморской свеклой, лишенным запаха кармеком и солеросом в занесенных илом трещинах отлогой каменной дамбы. Как-то ночью его охватило непонятное беспокойство, и он поплыл с приливом к верхней части губы, которая была немногим шире, чем баржи с гравием, пришвартованные к ржавым якорям, наполовину скрытым в траве, и к деревянным полусгнившим кнехтам. Единственное живое существо, которое видело, как он здесь появился, была крыса, бежавшая на землю по причальному канату; почуяв выдру, крыса пискнула и, поспешно перебравшись через ветку утесника, привязанную к канату, чтобы преградить крысам путь, юркнула на корабль.
Тарка выбрался из прибрежного ила на дамбу и пошлепал вдоль идущей по ней пешеходной дорожке, то и дело останавливаясь, поднимая голову и принюхиваясь. Наконец он добрался до места, где река, пройдя по трубе под дорогой, падала в бетонный водоем и бежала оттуда по каменистому склону в губу. Войдя в воду выше рыбохода, Тарка тронулся вверх по реке, обогнул несколько излучин, миновал ферму, проплыл по еще одной трубе под проселочной дорогой. Он скользил на приливной волне все дальше и дальше, пока наконец не достиг каменного моста возле железнодорожной станции. По мосту проезжала запряженная лошадью повозка, и Тарка распластался у камня; лишь три дюйма воды покрывали его голову, спину и хвост. Когда повозка проехала, он увидел дыру и залез в нее. Это было устье керамической дренажной трубы, разбитой на стыке. Тарка нашел внутри сухое местечко. Когда все успокоилось, он вылез, подплыл под мост и двинулся вверх по течению в поисках рыбы. На рассвете он возвратился в трубу.

Каменный мост. Брэнтон.
Его разбудил громкий стук копыт, но стук постепенно затих, и Тарка вновь свернулся клубком, положив голову на пушистый хвост. В течение дня топот слышался еще не раз, потому что ниже моста был брод, куда фермеры пригоняли лошадей на водопой. Тарка дважды полз по трубе к выходу, но оба раза там, где она обрывалась, был яркий свет, и он возвращался обратно. В сумерки он выскользнул из трубы и поплыл вверх по реке. За мостом рос каштан, под ним был сарайчик, откуда доносилось негромкое покрякивание уток. Тарка выбрался на берег, зацепившись передними лапами за побеги плюща, и стал всматриваться в темноту. Густой утиный дух манил его, как манят ребенка яркие краски. Рот выдренка наполнился слюной, сердце учащенно забилось. Он сделал несколько шагов вперед, он думал о теплом мясе, и глаза его, отражая лучи лампы в кухонном окне фермы по другую сторону двора, загорелись янтарным огнем. На каштане зашуршали под ветром последние порыжевшие листья. А затем сочный утиный дух разрезала тонкая, чуть уловимая струйка — запах человека; дрогнул листик плюща, порвалась паутинка, шепнула что-то вода, и две янтарные бусины исчезли.
Вдоль реки, где проходила пешеходная тропа, стояло ярко освещенное здание. Там вертелись колеса, а между ними двигались блестящие приводные ремни. Их глухой ритмичный шум напоминал топот множества ног. Тарка нырнул, однако вскоре вынырнул, потому что возле электростанции путь преграждал водопад. Тарка кинулся к правому берегу, но уткнулся в крутую бетонную стену. Он снова нырнул, поплыл обратно и вылез на сушу. Долго не решался пересечь железнодорожный путь, но наконец перебежал через рельсы и потрусил дальше, пока вновь не добрался до реки, что протекала далеко внизу под пешеходным мостом.
Более часа Тарка плыл вверх по течению, обшаривая береговые затоны в поисках рыбы, как учила мать. Вдруг в песчаной промоине он почуял родной выдрий дух. Тарка засвистел и поспешил по запаху, сохранившемуся в отпечатках лап. Скоро послышался ответный свист, и чувство радости охватило все его существо.
На валуне, поджидая его, сидела небольшая выдра и вылизывала шкурку; белый кончик ее хвоста купался в воде. Когда Тарка приблизился, она взглянула на него, но не двинулась с места, не перестала лизать себе шею и тогда, когда, положив передние лапы на валун, он посмотрел снизу ей в глаза. Тарка запищал и вышел из воды, чтобы стать на задние лапы и дотронуться до ее носа. Он лизнул ее в морду, и радость вновь мощной волной затопила его, но выдриха по-прежнему не обращала на него внимания, и он заскулил и ударил ее лапой. Белохвостка «гирркнула» и укусила его за шею. Затем скользнула в воду и, игриво помахивая хвостом, поплыла прочь.
Тарка прыгнул за ней, догнал, и они стали играть. Они перевертывались в воде с боку на бок, и к Тарке вернулось чувство, которого он не испытывал с раннего детства, когда они жили в дупле дуба и ему было так холодно, и голодно, и одиноко без матери. Он снова запищал, как маленький выдренок, зовя Белохвостку, но она убежала от него. Тарка последовал за ней на луг. Странная это была игра, грустная это была игра — и игрой-то ее не назовешь; Тарка был обескуражен. Он преследовал молодую выдриху, но она «гирркала» и кусала его за шею всякий раз, что он пытался лизнуть ее в морду. Наконец он перестал пищать, опрокинул Белохвостку на спину и наступил на нее лапами, будто это был лосось, только что вытащенный из воды. С криком ярости она сбросила его и встала морда к морде, шипя сквозь зубы и хлеща по земле хвостом.
После этого она перестала обращать на него внимание и, вернувшись к реке, словно его и не было, принялась искать под камнями бычков-подкаменщиков и угрей. Тарка искал рядом с ней. Он поймал похожую на угря черно-желтую рыбку, присосавшуюся круглым ртом к боку форели, но Белохвостка не пожелала ее принять. Это была минога. Тарка ронял рыбку перед Белохвосткой вновь и вновь, делая вид, будто только сейчас поймал ее. Выдра отворачивалась от его приношения с таким видом, точно это она поймала миногу, а Тарка вот-вот выхватит ее. Подыхающая форель, из которой минога много дней подряд высасывала жизнь, поплыла вверх брюхом, уносимая течением. Это была форель-каннибал, сожравшая множество мелких форелек общим весом раз в пятьдесят больше, чем ее собственный вес. Она отравилась гудроном, смытым с дороги в реку последним дождем. На следующий день дохлую форель съела крыса, а еще через три ночи Старый Ног пронзил крысу своим «копьем» и проглотил ее. Крыса прожила веселую и жестокую жизнь и умерла, так и не познав страха.
А минога осталась жить — Тарка уронил ее в воду и в унынии покинул Белохвостку. Пройдя несколько шагов, он обернулся и посмотрел, не идет ли она за ним. Она повернула голову, она смотрела ему вслед! Он пришел в такой восторг, что его свист — горловой звук, похожий на крик кроншнепа, — сделался тихим и нежным, как песня флейты. Выдриха ответила. Он был влюблен в Белохвостку, и, как у всех диких птиц и животных, его чувства были столь же неистовы, сколь и скоротечны. Он больше не испытывал ни голода, ни усталости, он готов был сражаться за нее до смерти — ведь она ответила на его свист! Они побежали на заливной луг, и там, подстегиваемый все растущим желанием, Тарка бросился на нее и повалил на спину, но тут же отпрянул от ее ляскнувших зубов. Белохвостка вскочила, и они стали носиться друг за другом среди островков сусака, спугнув вышедших на кормежку кроликов и заставив подняться в воздух вальдшнепа, который только что прилетел с длинного, узкого острова в семнадцати милях от бара перед устьем реки.
Белохвостка была моложе Тарки. Ее мать убили во время последнего охотничьего сезона в конце сентября, и Белохвостка прожила одна три недели, пока ее не встретила старая серомордая выдра и не стала заботиться о ней.
Тарка и Белохвостка вернулись к реке и принялись играть в прятки среди сухих стеблей дудника и болиголова. Однако стоило ему перейти от игры к ласкам, как она принималась угрожающе «гирркать». Понемногу выдриха смягчилась и позволила Тарке облизать ей голову и даже сама разок лизнула его в нос, прежде чем убежать. Белохвостка боялась его и одновременно была рада, что они вместе; она чувствовала себя очень одиноко с той поры, как потеряла Серомордую, когда собака одного из местных жителей выгнала их из временного гнезда в ситнике.
Тарка настиг Белохвостку на берегу и принялся выделывать вокруг нее кульбиты. И тут на реке показалась плывущая снизу выдра с тремя белыми пятнышками на лбу. Это был могучий, неторопливый в движениях самец с жесткой шерстью, который спустился сюда с моховых болот специально, чтобы найти себе молодую подругу. Тарка с криком «ик-янг!» кинулся на него, но самец, весивший тридцать фунтов, укусил его за шею и плечо. Тарка зашипел, отбежал, мотая головой из стороны в сторону, и снова устремился в атаку. Старый самец сбил его с ног и несколько раз укусил. Тарка был так истерзан, что бежал. Самец погнался следом, но Тарка не повернул обратно, чтобы с ним сразиться. У него были разодраны голова и шея и в трех местах прокушены узкая нижняя челюсть и язык.
У валуна, где сидела Белохвостка, когда он впервые ее здесь увидел, Тарка остановился и прислушался к свисту старого самца. В темноте журчала по гальке, напевала песню река, катя свои воды к морю. Тарка подождал, но Белохвостка так и не появилась, тогда он погрузился в воду и отдался на волю течения, которое понесло его вниз, через все повороты, под каменными пролетами мостиков, соединяющих проселочные дороги и тропы. Он плыл, почти не шевеля лапами, слушая песню реки и изредка лакая воду, чтобы охладить язык. Колеса и ремни электростанции вертелись и сверкали за стеклами окон, точно крылья стрекоз.
С верха плотины Тарка скользнул вниз плавно, как масло. Вода медленно влекла его, невидимого чужому глазу, мимо каштана, под мостом, мимо затихшей железнодорожной станции, фруктовых садов и лугов, пока он не оказался наконец у горловины губы. Течение спустило Тарку в водоем над рыбоходом и снесло по уклону к соленой воде. С отливом он проплыл мимо парусников и барж с гравием. Тихо и дружелюбно пересвистывались галстучники и кулики-воробьи, бегающие по песку вслед за накатом. Кружился и подпрыгивал на волнах швартовочный бочонок; по фарватеру, который превратился в покрытую илистой жижей дорогу, где криво торчали облепленные водорослями вехи для измерения глубины, расхаживали кроншнепы, вытаскивая червей длинными изогнутыми клювами. Тарка плыл дальше вместе с отливом. Его вынесло в эстуарий, где морские валы размывали песчаные банки. Он услышал свист выдры и радостно на него отозвался. Здесь ловила рыбу Серомордая и звала к себе Белохвостку.
Старая выдра, научившаяся терпению за долгую жизнь, полную невзгод и страхов, зализала его раны, погладила искусанную морду и шею. Они поохотились вместе, а днем забрались в одну из дренажных канав, которые перерезали болота, орошаемые прозрачным ручьем, текущим с гор на севере долины. Ночь за ночью охотились выдры в море и часто при отливе играли в заводи напротив рыбачьей деревни у подножия холма. Все бугры и впадины песчаного взморья продувал ледяной северо-восточный ветер, но Серомордая привела Тарку в теплое укрытие в заломах камыша возле того места, где днем скрывалась выпь. Тарка привязался к Серомордой, а она приносила ему рыбу, словно он был ее детеныш, и, когда подошло время, спарилась с ним.
8
Прибрежные деревья роняли последние сухие слезы, которые чернели и набухали от ила, когда попадали в заводь, где кончался прилив. И после паводка (лосось, пройдя через песчаный бар, как раз пустился в долгий путь на нерестилища, туда, где искрилась по гравию еще юная здесь река) рифы и отмели широкого эстуария были усеяны черными лоскутьями. В ноябре тополя стали похожи на заляпанные грязью перья чаек, воткнутые в землю; на их верхушке после осенних ураганов трепыхались один, два, от силы три листочка.
Однажды вечером, когда отлив тянул стоящие в фарватере буи на запад и чайки бесшумно и низко летели над морем к застилаемым мглою утесам на мысу, выдры отправились в путь. В прозрачном воздухе мигал яркий глаз маяка, белевшего, словно вымытая ветром и морем кость у подножия дюн. Выдр вынесло в открытое море в бурлящем воронками и барашками кильватере парусника, и отдаленный грохот волн, бьющих о бар, звучал все громче и громче. За неровной от седых бурунов линией окоема клонился к закату пасмурный день, по холодному морю разлилась багрянистая бледность.
Вздымались и опадали волны; парусное суденышко расталкивало носом идущие от бара огромные валы. Вот оно поднялось на гребень и тут же нырнуло в хлябь. Слева, от берега, пополз туман; там, на серой гальке, лежал разбитый, распотрошенный морем эсминец. Он лежал уже многие годы в обломках, похожий на растерзанного жука в сером коконе паутины на ветке утесника. Огромный вал, один из тех, что доносят брызги до кочкарников, где пасут скот местные жители, выкинул его на сушу возле Галечной гривы. Тарка и Серомордая спали там днем под ржавыми листами корабельной обшивки, свернувшись калачиком на гальке, нанесенной морем с Геркулесова мыса.
К двум часам пополуночи выдры проплыли пять миль вдоль прибрежной отмели и добрались до пещеры за мысом, о которой вспомнила Серомордая, когда почувствовала в чреве толчки. Отлив оставил между скал глубокие лужи, и выдры принялись искать там морских собачек, бычков и прочую таящуюся под водорослями рыбью мелюзгу. Они ловили креветок, которых ели с хвоста и бросали головы, срывали зубами со скал мидий и, держа в лапах, раскалывали раковину и слизывали тело моллюска. Пока Серомордая выкапывала рыбку-песчанку, Тарка исследовал бухточку, где обитал омар с одной клешней. Омар прятался под скалой на глубине двух ярдов в самом конце расщелины, слишком узкой, чтобы туда можно было заплыть. Четырежды пытался Тарка подцепить омара передней лапой со сточенными от рытья в песке когтями, в страстном нетерпении добраться до него рвал зубами водоросли. Омара тревожили много раз за его жизнь; чуть не каждый житель соседних деревень Крайд и Хэм пытался вытащить его из убежища длинной палкой с крючком на конце. Он не раз терял клешни, и после того, как ему оторвали девятую, мозг отказался дать сигнал, чтобы отросла новая ей на смену. Главным врагом омара был старик, по прозвищу Простофиля, который каждое воскресное утро приходил во время отлива с кроличьей шкуркой и потрохами и кидал их в бухточку, надеясь выманить омара из расщелины под скалой. Но омар был слишком хитер, чтобы поддаться на эту уловку, и потому уцелел.
Днем выдры отдыхали в заливаемой морем пещере на сухом выступе стены. Здесь жил Джаррк, тюлень, который взбирался на площадку под ними, отталкиваясь от земли ластами и подбрасывая тело вверх. Иногда Тарка плавал внутри пещеры, переворачиваясь на спину, чтобы ухватить пастью капли минеральной воды, падающие с каменного свода, но только если Джаррк был в море — охотился за морским угрем там, где скалы Кошельного барьера срывали пену с приливной волны.
Самый большой морской угорь, по имени Гарбарджи, еще ни разу не попадался Джаррку, потому что стоило угрю увидеть своего врага, как он уходил на дно в зеленую, как панцирь краба, воду и прятался в самом глубоком подводном гроте — там, где лежали обросшие ракушками пушки с военного сторожевого судна «Ласка», потерпевшего крушение сто лет назад. Когда тюленя поблизости не было, Гарбарджи высовывался из грота и, не мигая, глядел в воду, подстерегая рыбу, чтобы кинуться на нее и проглотить.
Однажды утром Тарка, голодный после штормовой ночи, охотился среди водорослей футах в тридцати от тускло поблескивающей поверхности воды, как вдруг над ним что-то мелькнуло. Взглянув наверх, он увидел узкую голову с длинным, крючковатым хищным клювом и две большие перепончатые лапы, вытянутые вперед. Это был Ойлегрин, баклан; его глянцевито-черные с зеленоватым отливом перья отражали дневной свет. Ойлегрин перевел взгляд, гладкая узкая голова на мгновение блеснула, и, приняв этот блеск за отсвет чешуи более мелкой рыбы в верхних слоях воды, плывущая под бакланом сайда повернулась, чтобы подняться и схватить ее. Баклан и Тарка одновременно увидели, как сверкнула ее стальная спина и серебристо-серое брюхо. Ойлегрин круто вошел в воду и стремительно погрузился вниз, перебирая лапами быстрее, чем выдра. Плотно прижатые перья тускло мерцали в воде, когда он несся в погоню за сайдой. Гарбарджи тоже увидел сайду и отпустил выступ скалы, который обвивал своим мощным хвостом. Морской угорь был длиннее человека в полный рост и толще, чем Тарка. Он весил девяносто фунтов. Извиваясь всем телом, он проплыл над покрытыми водорослями обломками «Ласки», и крабы сразу же попрятались в жерла орудий.
Птица, зверь и рыбы образовали стрелу, острием которой была сайда, гибким стержнем — морской угорь, зубцами острия — выдра и баклан. Вытянув длинную шею, нацелив вперед крючковатый клюв и подталкивая себя перепончатыми лапами, Ойлегрин плыл вдогонку за струйкой пузырьков, вырывающихся у него из горла. Сайда отвернула в сторону, когда Тарка был совсем рядом, тот кинулся за ней. Ойлегрин затормозил и переменил курс, пустив в ход четырнадцать жестких и коротких хвостовых перьев и одну поднятую вверх лапу. Сайда бросилась вниз вдоль отвесного утеса, с которого свисали водоросли, но, встретив Тарку, снова поднялась и была поймана Ойлегрином.
Наткнувшись на утес, стрела преследования изогнулась дугой, заструились плети и ленты водорослей, помчались вверх пузырьки. Гигантский морской угорь укусил баклана за шею. Захлопали крылья, раздался скрипучий сдавленный крик, послышалось бульканье, словно из бутылки выходил воздух. Тарка во всю ширь раскрыл пасть, но его зубы не могли прокусить кожу угря. Мрак сгустился, там, где они боролись, вода сделалась мутной.
Вот тут-то Джаррк, обшаривающий дно у подножия утеса, увидел выдру, которая поднималась наверх, и только поплыл за ней, как заметил морского угря посреди мути — крови Ойлегрина, — расплывающейся в темно-зеленой воде. Гарбарджи держал баклана в зубах. Удары ласт мгновенно рассеяли кровавую завесу — тюлень погнался за морским угрем. Гарбарджи выпустил баклана, и расщелина в утесе приняла нового жильца. Джаррк одним движением гладкого тела всплыл наверх и повис у самой поверхности, выставив голову, чтобы глотнуть свежего воздуха; тут он снова увидел Тарку в шести футах от себя. «Ваф-ваф» — игриво пролаял Джаррк. «Исс-исс-сс!» — в страхе засвистел Тарка. Сайда спаслась и позднее вместе с другими рыбами кормилась пощипанным крабами мертвым бакланом.
Однако выдры редко охотились днем; обычно они нежились под теплым полуденным солнцем на песке бухты позади Длинного утеса, на выступе которого был сторожевой пост Одноглазого Чакчека, сапсана. Однажды утром Чакчек, лишь слегка распустив крылья, с боевым кличем «ейк-ейк!» спикировал на Тарку и со свистом пролетел почти над самой его головой. Чакчек был хороший летун и быстро поднялся туда, где над пропастью, на высоте, с которой было удобно бросаться на жертву, ждала его самка, высматривая внизу сизых голубей, куликов-сорок, вьюрков и кайр. Когда они унеслись вдоль северной оконечности мыса, Кронк, ворон, трижды глухо каркнул и взмыл ввысь, чтобы покружиться вместе со своей подругой в восходящих воздушных потоках.
Возле Песчаной бухты был Бакланий утес, где почти весь день сидели пять бакланов, переваривая лежащую в зобах заглотанную ночью рыбу. Возвращаясь с охоты, каждый баклан, плавно махая черными крыльями, пролетал мимо утеса, затем ярдах в пятидесяти разворачивался, летел с наветренной стороны обратно и неуклюже опускался на камень среди своих собратьев. У многих торчал из клюва рыбий хвост; они растопыривали крылья и двигали плечами, чтобы протолкнуть рыбу дальше. Даже самая высокая волна не могла достать вершины Бакланьего утеса.
В полумиле от Кошельного мыса, на который так стремительно накатывается прилив, протянулась подводная каменная гряда — Кошельный барьер. Течение привело сюда стадо тюленей, идущих следом за лососем домой, на остров Ланди. С ними была приплывшая с севера чужая самка. Несколько дней тюлени охотились за рыбой возле Котельного Барьера и играли с радостно ревущим Джаррком в любимую игру: гонялись за самой маленькой самкой, которая была не черного и не буро-коричневого, как все они, а редкого серебристо-белого цвета. Они заплывали за скалы, разыскивая ее, и иногда оставались под водой чуть ли не четверть часа. Как-то раз, когда Тарка подстерегал окуней на глубине свыше двадцати футов, он столкнулся нос к носу с Джаррком и от страха и неожиданности пустил большой пузырь. Тарка повернул и устремился наверх, к свету, а Джаррк кружил вокруг него по спирали. Джаррк никогда не сердился, потому что у него не было врагов, которые могли бы его напугать, и когда Тарка зашипел и «загирркал», похожие на ятаган усы на широкой морде тюленя дрогнули, верхняя губа поднялась, обнажив желтые зубы. «Ваф-ваф!» — весело пролаял Джаррк. «Ик-янг!» — пискнул Тарка. Тюлень фыркнул; затем его блестящая спина изогнулась, и он перевернулся в воде, как бочка.
Когда тюлени покинули Кошельный барьер и отправились в семнадцатимильное плаванье к родному острову, одна тюлениха осталась с Джаррком. Это была чужая серая самка, и часто, когда остальные тюлени резвились в воде, она обследовала дальний темный конец пещеры за Длинным утесом на песчаной отмели с разбросанными по ней валунами. Серомордая осматривала отмель с той же целью, и нередко обе самки проплывали одна мимо другой. Однажды тюлениха заплыла с приливом в пещеру и не возвратилась. Она пряталась там три дня, а затем зашлепала ластами по песку и плюхнулась в воду, очень голодная.
Серомордая уже не раз побывала в пещере во время прилива и отлива, и в то утро, когда серая тюлениха вернулась в море, она обогнула Длинный утес и вылезла среди пены прибоя на усеянные «блюдечками» скалы Котельной бухты. В трехстах футах над ней, сидя на краю песчаной кручи, ворон Кронк следил, как она шныряет среди валунов. Под ним, мимо своих «насестов» на крутизне сновали, переплетая воздушные пути, чайки. Серомордая достигла подошвы обрыва и вскарабкалась вверх по каменистой осыпи, которая образовалась во время осенних ливней. Осыпь начиналась у Тропы Добытчиков, вытоптанной в течение столетий осторожными ногами людей, которые спускались сюда после шторма, чтобы подобрать то, что море выбрасывало на камни Кошельной бухты. Дорожка была не шире овечьих троп на мысу. Серомордая пробежала по ней и, повернув у покрытого лишайником валуна, скрылась с глаз Кронка. В прошлую ночь она уже была здесь несколько раз.
Не прошло и минуты, как ворон неторопливо прыгнул с кручи и, раскрыв крылья, поднялся вместе с ветром; повернув, он поплыл обратно над тем же местом, где только что сидел, над силками-петлями у кроличьих троп в траве, к стене из плоских камней ярдах в ста от обрыва. Кронк следил за одной из петель, затянувшейся на шее кролика рано утром; два часа кряду кролик, хрипя и задыхаясь, рвался на волю, но наконец издох. Он уже остыл, в его длинной шерсти суетились блохи. Кронку хотелось полакомиться, но он боялся приближаться к кролику, пока не узнает наверняка, что охотник, поставивший накануне ловушку, не приготовил рядом силок и для него. Ворону хорошо были известны повадки охотников и стальные капканы, и силки из медной проволоки. Не останавливаясь, не выдавая себя ни единым движением крыла или хвоста на случай, если за ним следит охотник, Кронк несколько раз пролетел над пойманным кроликом. Он был осторожен в своих действиях, многое узнав о людях за сто с лишним лет.
Ворон ждал, чтобы кролика заметил Мьюлибой — канюк, что парил сейчас на распластанных крыльях. Когда Мьюлибой распорет ему брюхо одним ударом крючковатого клюва, ворон закричит «крак-крак!», призывая подругу, и они прогонят канюка, если тот не попадет в силок. А если петля его затянет, оба — и кролик, и птица — достанутся без труда на обед ему, Кронку. Так рассуждал старый ворон.
Серомордая дошла до конца Тропы Добытчиков, взобралась по пружинящим под ногами куртинкам кермека, усеянного перьями чаек, пустыми ракушками и рыбьими костями, и двинулась по другой тропинке к вершине обрыва. Время от времени она останавливалась, глядела по сторонам, нюхала воздух. Подобрала перышко, пробежала с ним несколько ярдов и бросила. Она металась среди кустиков, заглядывала в кроличьи норки, вытаскивала оттуда сухие стебли, занесенные ветром. Кронк следил, как она бежит, быстро перебирая ногами и низко прижимаясь к земле, вдоль узких, извилистых, протоптанных кроликами ходов. Вот она остановилась возле попавшего в петлю кролика, укусила его за шею, дернула к себе. «Крр-крр!» — сказал Кронк.
Ворон слетел со стены, покрытой накипным лишайником, растворяющим камни своей кислотой, и, описывая над Серомордой круги, громко и резко каркнул, чтобы созвать чаек. Спикировал над выдрихой, хрипло каркнул еще раз. Скоро над Серомордой пронзительно «хохотали» не менее полусотни серебристых чаек. Напуганная шумом выдра побежала обратно тем же путем, которым пришла сюда; чайки последовали за ней, а кролик достался Кронку. Чайки увидели ворона, вернулись и снова принялись «хохотать», но не осмеливались подлетать слишком близко. А Кронк невозмутимо клевал и рвал мясо, зная, что чайки подадут сигнал тревоги, если из-за северного или южного угла стены, закрывавшей подход, появится человек.

Серомордая на Кошельном мысе.
С пучком коричневого сухого кермека в пасти Серомордая скользила вниз по осыпи у конца Тропы Добытчиков, когда крики чаек громче зазвучали над кручей. «Куок-куок-куок!» — сердито бранились несколько сотен голосов. Чайки кружили над выдрой. Она услышала свист крыльев и, взглянув наверх, увидела клюв и глаза ворона; ворон стремительно приближался, глаза и клюв становились все больше. Кронк уже девять раз опускался на землю и теперь, поднявшись в воздух в десятый раз, подлетал к краю обрыва в то самое время, как в трехстах ярдах оттуда вышедший из-за северного угла стены человек сделал свой десятый шаг. На середине отвеса Кронк раскрыл крылья и понесся, не шевельнув и пером, вокруг мыса.
Визжа и галдя, чайки поднялись с ветром выше, и, услышав их крики, серая тюлениха, качавшаяся на волнах за полосой бурунов, отплыла ярдов на двадцать и обернулась, чтобы посмотреть на кручу. Она знала, что метание чаек и крики «куок-куок-куок» говорят о появлении человека. Тюлениха плохо видела вдаль, но ей было известно, что такое человек: однажды в нее стреляли.
Серомордая обогнула Длинный утес, держа в пасти переплетенные между собой корни, и вылезла на песчаный берег. Тарка лежал на спине и играл зеленым камешком — это был отшлифованный волнами кусочек стекла, который Тарка нашел на дне. При виде выдрихи он перевалился на ноги — под шерстью не выступила ни одна кость, ни одна мышца — и побежал ей навстречу, посмотреть, что она несет. Видя, что он в проказливом настроении, Серомордая подняла голову, стараясь убрать от его зубов свою ношу, но Тарка толкал ее, не зная, с какой целью она принесла корни. Он откусил три тоненьких корешка и, оставив ее у входа в пещеру, побежал забавляться стекляшкой.
Тюлениха следила подслеповатыми глазками, как человек спускается по тропе, а его спаниель мнется на полдороге, боясь идти дальше. Тарка играл гладкой, плоской стекляшкой под оранжевой от лишайника крутой стеной Длинного утеса. Над кручей рассеянной беспорядочной стаей носились чайки. Еще выше рассекал крыльями воздух черный ворон, всемогущий Кронк; иногда он переворачивался на спину и тут же принимал прежнее положение — это он тренировался в ударе клювом снизу вверх, или «насаживании на кол», которому в далекой юности его научил родитель. А над вороном мерцала, парила на высоте, кружась по своей орбите, темная звездочка — Чакчек Одноглазый, сапсан с сизовато-серыми крыльями и кремовой грудью, тоже был на лету. «Крр-крр!» — сказал Кронк, в то время как море и земля поменялись друг с другом и вновь вернулись на место. «Крр-крр-крр!» — человек скрылся за Длинным утесом, и Кронк понесся по ветру следом за ним.
В тысяче футов ниже ворона Тарка постукивал лапами по стеклянному камешку, тускло-зеленому, как дневной свет, видный сквозь гребень волны, опадающей на песок. Беспрерывный грохот бурунов при отливе казался еще громче из-за эха, летящего от крутизны, и Тарка увидел человека, спускающегося по Длинному утесу, прежде, чем услышал его. Человек перепрыгивал с валуна на валун и не заметил Тарку, но когда добрался до песка, обнаружил следы двух выдр. Один след вел прямо в пещеру — четкие отпечатки пятипалых лап, лишь кое-где смазанные неровным следом другой, прыгавшей выдры. Первый след уходил в темноту, второй поворачивал обратно к мокрой серой гальке, где валялись панцири крабов, пробки, рыбьи хвосты и кусочек зеленого стекла. На взрытом песке валялись три корешка кермека.
Человек пошел вдоль отпечатков, ведущих в полутемную пещеру; он перебирался через холодные, как лед, камни, освещая фонариком «озерца», куда в тишине с громким плеском падали сверкающие капли. Он двигался медленно и то и дело посматривал через плечо на все уменьшающийся круг дневного света. Свод пещеры был коричнево-красный от солей железа. Иногда нога человека скользила на камне, расшатанном бесчисленными приливами и отливами. На некотором расстоянии от входа пещера поворачивала влево, преграждая доступ свету и рокоту моря. Человек шел дальше, пригнувшись, выискивая путь при свете фонарика в руке. Озерца воды стали мельче, в них не было жизни, не было водорослей; спускающийся свод сделался сухим. У стены раздался писк. Протянув перед собой фонарик, человек увидел четыре светящиеся точки; они качнулись, исчезли, вновь возникли — одна пара над другой. Снова пронесся жалобный крик, словно плач голодного младенца. На сером валуне у ног тусклый свет вырвал из темноты черное пятно, словно деготь вперемешку с измельченными рыбьими костями, — экскремент выдры.
Человека пронзил холод; перед ним бесшумно двигались из стороны в сторону светло-желтые глаза. Носком ботинка он поддел что-то, загремевшее на камнях, и, взглянув вниз, увидел кость, а рядом с ней еще кости, черепа и ссохшиеся шкуры. Он поднял челюсть с косо посаженными тупыми коренными зубами. В этой пещере умерло немало тюленей.
Снова жалобный крик невдалеке. Пещера полого поднималась вверх; скрипели под ногами камни, вдавливаясь друг в друга, звук гулко разносился под сводом, отдавался многоголосым эхом. Перед ним зашевелилось что-то белое. Протянув руку, человек коснулся мягкой, теплой шкурки тюлененка и сунул ему в рот палец, чтобы унять «плач». В то время как он нянчился с тюлененком, послышались всплеск, громкое пыхтенье: «ух, ух!» и шлепки — казалось, огромные ладони хлопали по плоским валунам. Направив фонарик в темноту, человек увидел два тускло-красных глаза и услышал сердитое мычание тюленьей матки.
Человек отнес белька к внутренней стене пещеры, затем поспешил к другой стене, где выступы породы образовывали естественные ступени. На верхней ступеньке, сжавшись в комок, стояла выдра. По форме головы человек догадался, что это выдриха: старая самка с седой шерстью на морде. Он поднялся, насколько отважился, повыше и разглядел гнездо из сухих водорослей, травинок и кермека. Он заглянул туда. Выдра с шипением металась по узкому уступу. Детенышей в гнезде он не увидел, и не похоже было, что выдра собиралась ощениться.
«Ух, ух!» — пыхтела тюлениха, измученная долгим и тяжким путешествием по камням. Она спешила, опираясь «ладонями» ласт о землю и посылая тело вперед короткими толчками со скоростью идущего человека. Матка добралась до детеныша и принялась ласкать его языком, издавая звуки, похожие не то на плач, не то на мычание. Затем повернулась спиной и, зачерпывая задними ластами мелкие камешки и песок, стала кидать их в человека. Человек вынул из кармана дудочку, сделанную из ветки бузины, и тихонько заиграл. Тюлениха посмотрела на человека; видно, незамысловатая песенка успокоила ее. Она лежала неподвижно рядом с детенышем, который, повернув голову набок, принялся сосать молоко. Человек, продолжая играть, подходил к ней все ближе и ближе. Медленно прошел мимо животных и, облегченно вздохнув, двинулся к свету.
9
Напуганные появлением человека, выдры в ту же ночь покинули мыс и вернулись в Увалы. По пути они поохотились на кроликов в огромной норе на дюнах. В логах и лощинах лежал холодный туман; песколюб и засохшие стебли чертополоха и коровяка покрывались изморозью, и по утрам казалось, будто на песке выросли гигантские причудливые грибы. На жестких волосках выдрьей шерсти иней оставался белым, но на более коротких и мягких таял, превращаясь в бусинки воды. Побелело все, кроме птиц, волов и выдр. Осока и тростник на Утином пруду были белыми, белым был и такелаж на парусниках, стоявших в устье реки. Вмятины от коровьих следов затянуло хрупким ледком. В холодном безветренном воздухе далеко разносилось кряканье уток и селезней, летящих с прудов и заливаемых соленой водой болот к морю, где они спали днем.
Выдры залегли возле коровника в тростнике с белыми перистыми верхушками. Над ними, клонясь к закату, медленно двигалось тусклое красное солнце, не грея и почти не светя.
Два дня и две ночи Увалы окутывала морозная мгла, а затем поднялся северный ветер; он лился, как жидкое стекло, с Эксмурских холмов, и все вокруг стало отчетливо видно. Ветер хлестал по земле хворостинами ив, свистел в островках исполинского камыша. Под натиском вихря, несущегося над ямками, где, распушив крылья, прижались к земле жаворонки и коноплянки, неистово скрипели колоски песколюба. Ветер, словно злой дух, выпущенный на волю после гибели солнца, стирающий все живое с лица земли перед новым сотворением мира, с силой швырял песчинки в ноги и взъерошенные перья пичужек; казалось, он хочет вдохнуть в них смерть, сорвать с хрупких косточек покров из плоти и перьев и до тех пор перемалывать их, пока они вновь не превратятся в ничто, как до родовых мук планеты. Тщетно жесткие острия песколюба описывали по песку магические круги: по земле шествовал Дух Льда и заклясть его не могли никакие земные силы.
Северный ветер принес незнакомую плотно сбитую птицу, бесшумно парящую над сухим орляком Папоротникова холма, где укрылись от холода Серомордая и Тарка. Ее белое одеяние пестрело буроватыми крапинами и полосами, радужина яростных глаз была ярко-желтая, цвета лишайника на камнях. Милю за милей влекли ее сюда мягкие, неслышные крылья из студеных краев, где северное сияние пронзает застывшим взглядом ледяные поля. Это была полярная сова по имени Бьюбью, что значит Ужасная. Она рыскала над трясинами и кроличьими норами, и много уток и кроликов приняли смерть от ее покрытых перьями лап.
Так же тяжело и беззвучно, как полярная сова, плыли над сушей и морем серые тучи; ночь наступила беззвездная; на дамбе громко стенал ветер в телеграфных проводах. Когда Тарка с подругой бежали к губе навстречу приливу, небо вдруг взорвалось кликами. Усатые головы поднялись, застыли; насторожились уши. С минуту выдры не трогались с места, пока звуки, похожие на рев гончих, не пронеслись мимо. За входом в губу разворачивалась по ветру длинная вереница гусей; медленно махая вогнутыми, опущенными книзу крыльями, они образовали скользящий к югу косяк. С засоленных болот взмывали крики золотистых ржанок, вплетаясь в журчащую песню кроншнепов — цепочку лопающихся звеньев-пузырьков.
Вслед за белолобыми гусями, любителями клевера и трав, от Полярной звезды с воем примчалась вьюга. Ночью сеял мелкий сухой снег; нигде не ложась, быстрее песчинок кружил он по мшарникам и пригоркам, набивался в кроличьи норы. Днем все — деревья, дюны, коровники и дамбы — скрылось в снежной круговерти.
Наутро снег повалил тяжелыми хлопьями, и вместе с ним на землю камнем упала птица с белыми крыльями и одним ударом когтистой лапы свернула голову гуся. Птица стояла на сраженной добыче, вцепившись в нее черными серповидными когтями желтых лап; крючковатый клюв разрывал мясо гуся вместе с грудиной. Ее оперенье, цвета снега и тумана, было в серо-бурых пестринах, как оперенье Бьюбью. Каждое перо было скроено и натянуто для стремительного падения в разреженном воздухе полярных просторов. Выпуклые коричневые глаза глядели не менее гордо, чем глаза Чакчека. Это был сокол Арктики — кречет.

Кречет с убитым гусем.
За меняющими очертания сыпучими дюнами, за неровным окоемом пурпурно-серого моря садилось солнце, словно исчерпавшая себя в пространстве звезда, гаснущая в испускаемых ею самой эманациях распада. Летел по ветру снег; летел над пустыми раковинами улиток и обглоданными скелетами кроликов, над белыми, ободранными песком мертвыми кустами бузины. Все было прах и тлен; казалось, на всем протяжении Увалов жизнь замерла навсегда. Ночь и день слились воедино, не было видно ни луны, ни звезд, ни солнца. Но вот вьюга стихла, и бледный снег неподвижно лежал под бледным небом.
* * *
Звезды снова вернулись на небо — днем над Увалами висели, мерцая каждая на своей высоте, шесть черных звезд и одна белая, побольше: шесть сапсанов и кречет. Падение темной точки, свист стремительного полета с высоты двух тысяч футов, слышный на полмили окрест; красные капли на гонимом ветром снегу… Ночью мерцали, как соколиные крылья, истинные звезды — сверкающие доспехами дозорные Вселенной. Вышла на свою орбиту луна, белая и холодная, ждущая не одно столетие, когда ринется вниз хищной птицей новое солнце, вонзит в Духа Льда звездные когти, и тот рассыплется в огненном ливне. На юге шествовал Орион-Охотник, за ним, изрыгая зеленый лай, бежал по пятам Сириус — Большой Пес. В полночь Охотник и Гончая, блистая, неслись в ледяном вихре вдогонку за звездами — потухшими солнцами, которые возвращались в Вечный Мрак.
* * *
Пролетая над прудом Бараньи Рога, Старый Ног увидел в тростниках Серомордую — единственное темное пятно в белой пустыне. Она прикрывала собой выдренка, свернувшись вокруг него и положив морду на хвост. Всю вьюгу она пролежала в гнезде из пуха и разгрызанного на куски тростника; от тепла ее тела таяли снежные хлопья. Два дня и ночь она защищала от снега слепого детеныша, а когда воздух очистился и злой мороз сковал воды пруда, затянул льдом ручьи и повесил сосульки на дренажных канавах и трубах, Серомордая поднялась и позвала Тарку. Он ответил с северного рога пруда.
Тарка поддерживал открытой продушину во льду, выкусывая лед, едва она замерзала. Рыбу увидеть было трудно — верхние слои воды, покрытые льдом, плохо отражали свет. С холодами рыба зарылась в ил, и, рыская в мутной бурой воде, Серомордая видела сверху только свое неясное отражение. Пернатая дичь почти вся переселилась в эстуарий, и, когда на отмели надвигался прилив, оттуда неслось такое же несметное множество голосов, сколь несметны были серебряные острия звезд на ночном небе. Оставаясь под водой и выставляя для вдоха лишь широкие ноздри, выдры поплыли наперерез быстрым волнам к песчаным банкам, где кормилась птица. Серомордая подкралась снизу к утке и схватила ее; услышав отчаянное кряканье, соседние птицы подняли тревогу по всей округе. Тысячи крыльев взбаламутили воду. Охотник, пробирающийся меж тростников в утлой лодчонке, спустил курок, но поздно: дробь, оставив в воздухе длинный светящийся след, просвистела над головой Серомордой, когда та уже нырнула. Выдра с уткой в зубах поспешила ко входу в губу и съела добычу на куче обледенелых веток и водорослей, оставленных последним приливом.
На следующую ночь мороз запечатал полынью, и ее нельзя было найти; не осталось даже кольца из чешуек и рыбьих костей — их подчистили крысы и вороны. Серомордая пыталась выцарапать рыбу, вмерзшую в лед, как вдруг раздался грохот, скрежет, скрип, затем — «бум!» — ледяной покров раскололся, и из пролома хлынула вода. Когда все успокоилось, стало видно отражение Ориона и красно-зеленые сполохи Сириуса, но прямо на глазах Серомордой звездный свет потускнел, и Дух Льда раскинул по воде белые ветви.
Мороз стал более жгучим. В эстуарии появились песчанки в белом зимнем наряде, они бегали по кромке прилива, словно несомая ветром морская пена. За ними прилетели пуночки, и вместе они двинулись к югу. Камбала и палтус уплыли в более теплые воды за баром, и часто выдры поднимались на поверхность с пустой пастью, если не считать какого-нибудь зеленого краба. Старый Ног так исхудал, что стал похож на пучок растрепанных ветром серых листьев, зацепившихся за две тростинки. Все его рыбные угодья вдали от моря замерзли, речушки и ручьи скрылись под ледяной броней, и единственным местом, где он мог при отливе пустить в ход свое «копье», были затоны Шрарской излучины, откуда в прежние времена выбирали гравий.
Холмы и котловины Увалов пересекали тысячи следов: крестики лапок жаворонков, вьюрков, трясогузок, ворон и чаек; трехпалые, похожие на оттиск листа с тремя жилками, — цапель и выпи; побежка ласок и горностаев, лисий нарыск, заячий малик, круглые переступы барсуков. Многие малые птицы так ослабели, что не могли летать, и их поедали крысы и ласки, а тех съедали совы и соколы.
К эстуарию спустились другие выдры, населяющие долину Двух Рек, некоторые — еще детеныши десяти-двенадцати фунтов весом, не отходившие от матерей. С соленых болот по выдриной тропе к Утиному пруду пришли целые семьи из трех, четырех, а одна — из пяти выдр (мать и четыре выдренка с моховин на горах, где в торфянике брали начало Две Реки), но, увидев, что пруд замерз, ушли по губе на побережье. Однажды ночью у перевернутой дырявой лодки Тарка встретил Белохвостку с ее другом; она царапала замерзшую грязь, где виднелся замурованный льдом перепончатый след дикой утки. Один взгляд — и они прошли один мимо другого во мраке.
Многие самцы блуждали в одиночку. Последним, медленно и устало после недель голодовки, появился Джимми Марленд — старый самец с рваным ухом, который играл с матерью Тарки в паровозной трубе на дне глубокого глиняного карьера. Он хромал по скользкому выдриному лазу, утоптанному десятками ног; воспаленные пузыри между пальцами, образовавшиеся от парафина, были обморожены и кровоточили. Был отлив, когда он перелез через белую дамбу и заковылял к воде по черному твердому илу, с хрустом ломая хрупкие от мороза стебли солероса.
Услышав свист по другую сторону губы, Джимми Марленд вошел в воду и поплыл. Он медленно бил лапами, и течение относило его в ледовом крошеве, оставленном последним приливом. По извилистым рытвинам и промоинам в иле и соленой грязи уже перестали сочиться струйки. Ночь была такой холодной и темной, что даже заунывный свист золотистой ржанки и то смолк. Под неподвижными остриями звезд море бесшумно отходило от суши.
Джимми Марленд пересек губу и вылез, дымясь паром. Дыханье замерзало у него на морде, а хвост заканчивался сосулькой. Он втащился на высокий берег, где Тарка терся головой и шеей о рыбу больше его ростом, с рваными ранами, зиявшими по всему ее тускло поблескивающему длинному телу. Неделю назад, спасаясь от Джаррка, она заплыла за песчаный бар, и, когда поворачивала мимо тюленя, тот выхватил зубами кусок ее брюха. Умирающего лосося носило взад-вперед приливом и отливом, пока Серомордая и Тарка не поймали его. Это был настоящий пир! Не успели они вытащить дымящуюся рыбу из моря, как на ее чешуе засверкали ледяные кристаллы.
Тарка катался по хрустящему снегу, а старый самец рвал рыбу, пыхтя от напряжения, перемалывал зубами кости и замерзшее розовое мясо, а когда на миг переводил дыхание, «гирркал» на Тарку, отгоняя его прочь. Тарка, согретый сытостью, до тех пор катался по снегу, пока не скатился в воду. «Хью-ии-ии-ик!» — просвистел он.
Когда Серомордая подошла к рыбе, самец с рваным ухом уже наелся до отвала. Он заковылял вразвалку по замерзшей грязи туда, где Тарка скатывался с берега в воду. Тяжело раскачиваясь всем телом, побежал на «горку» и, напружинив ноги, соскользнул вниз на своих искалеченных лапах. Серомордая услышала радостный свист играющих самцов и присоединилась к ним. Но вот ее отвлек крысиный писк у недоеденного лосося; он напомнил ей о детеныше, потому что перед вьюгой крысы так же пищали вокруг окаймленной костями и чешуей полыньи, где Тарка ловил рыбу.
Тарка играл, пока не проголодался, тогда он снова побежал к лососю, и Джимми Марленд остался на «горке» один.
Отлив шел вдоль оплетенных водорослями вех, воткнутых в дно по фарватеру. От медленной, придавленной талым снегом воды белым паром поднимался туман. Снежная каша сгустилась, запеклась коркой и вдруг застыла. Острия звезд поблекли. Перестал вспыхивать Орион, онемел зеленый язык Сириуса, потускнел Лебедь, потерял свой блеск Бык.
«Кэк!» — хлопая крыльями, каркнул Старый Ног, поднимаясь с остатков лосося в тот миг, когда к нему подкралась лиса. Кончик его открытого клюва покраснел от замерзшей крови пронзенной им крысы, которая сейчас торчала у него из глотки. Качаясь от слабости из стороны в сторону, свесив тонкие как тростинки ноги, Ног полетел к затонам Шрарской излучины. «Кэк!» — позвал он подругу, стоящую по колени в воде в пятидесяти ярдах от «горки», где катались выдры. Цапля не шевельнулась, вода — тоже.
«Крарк!» — прокричал Старый Ног на рассвете, пролетая над губой и вновь зовя подругу. «Хью-ии-ии-ик!» — свистел Тарка Джимми Марленду, не отвечавшему ему с тех пор, как острия звезд вдруг затуманились и исчезли. «Хью-ии-ии-ик!» — этот жесткий пронзительный звук услышала Серомордая в крепях Утиного пруда. «Хью-ии-ии-ик!» — неслось по свободному ото льда пространству губы и дальше, по всему эстуарию.
Бьюбью видела, как Тарка направлялся к восточной дамбе; она повисла над ним, трепеща крыльями, затем полетела прочь. В пятидесяти ярдах ниже Таркиной «горки» полярная сова села на что-то, что закачалось и заскрипело, но не надломилось под ее весом. Несколько раз обернувшись по сторонам, Бьюбью устремила пристальный взгляд своих желтых глаз на морду, намертво вмерзшую прямо перед ней. Морда была неподвижна, без признаков жизни. Сова опять осмотрелась и полетела прочь; ее узкий «насест» закачался на тонюсеньких ногах, словно кивая голове Джимми Марленда, глядящего подернутыми пленкой глазами из сковавшего воду льда.
10
Маленький тощий выдренок в гнезде среди замерзшего, согнутого, как ноги дохлых пауков, тростника всякий раз встречал Серомордую сиплым писком. Сколько она ни лизала его, сколько ни ласкала, это не приносило ему утешения — мороз лишил его глаз. И днем, и ночью, если она не грела и не кормила выдренка, Серомордая рыскала в поисках еды и, хотя ее все время терзал голод, играла с Таркой, съезжая головой вперед с заснеженного холма. Чтобы промыслить добычу, им приходилось идти к эстуарию, потому что с каждым приливом в устье губы с пронзительным скрежетом и оглушительным гулом, далеко разносящимся над Увалами, громоздились, образуя торосы, плавучие льдины. При отливе мороз спаивал их в высокий, сплошной барьер.
Обе выдры до пузырей обожгли языки, когда лизали лед, и теперь, чтобы утолить жажду, терлись языками о снег на дамбе посреди белого дня. Как-то ночью в поисках пищи Серомордая забрела в деревню. Под каштаном на ферме за мостом она обнаружила сарайчик с утками, но хотя больше часа искала, где бы пролезть внутрь, так ничего и не нашла. Утиный дух причинял ей жестокие муки.
Мимо прокралась лиса; пушистая «труба» опущена вниз, уши прижаты к затылку — «топ, топ, топ» по снегу…
Не сумев добраться до уток, Серомордая пошла по замерзшей губе к эстуарию и у домика промышлявших лосося рыбаков на булыжном уклоне дамбы встретила Тарку. Лиса последовала за ней в надежде еще раз полакомиться лососем. Она ходила за выдрой до рассвета, была рядом с ней и при восходе солнца, когда та возвратилась к убежищу в заломах Утиного пруда. Серомордая почуяла лису и погналась за ней, но вскоре оставила. И хотя потом по лисьему следу пошла собака местного жителя, лиса вернулась, зная, что выдра прячет детенышей где-то в тростниках. Это был старый лис по имени Фэнг-овер-Лип — Клык-над-Губой; подгоняемый голодом, он исходил всю долину.
Когда на снегу стал гаснуть бледный свет дня, с северо-запада, размеренно ударяя тугими крыльями и вытянув длинные шеи, потянулись гуртом большие белые птицы. «Хомпа, хомпа, хомпа» — разнеслось в холодном воздухе. Серомордая и Тарка ели водоросли и крабов на отмелях Шрарской излучины, но когда лебеди опустились в эстуарии, выдры скользнули в воду и поспешили туда, где плавали гости. Фэнг-овер-Лип высосал несколько мидий, за которыми ныряли выдры, разгрыз крабью клешню и побежал по берегу вслед за ними.
Над ровными унылыми песками распростер свои лучи маяк, как крылья мушки-однодневки. Вдоль высокого берега Шрарской излучины мигали стоящие неровной чередой фонари. В одной из пивных моряк распевал песню, далеко разносившуюся по воде. Лебеди поднимались по реке с приливом, выдры — следом за ними. Они отощали и ослабели от голода, потому что мидии, улитки да изредка кислый зеленый краб не могут насытить выдру, которая в безбедные дни съедает за один присест трехфунтовую кумжу, а через два часа снова голодна.
В нижнем конце Шрарской излучины воду перерезает белая лента, там, где в клубах кипени прилив делится на два потока и движется навстречу Двум Рекам на юг и на север по узким заливам-губам. Проплыв мимо Вороньего острова, лебеди повернули на север. Они сошли с быстрины и, обратившись навстречу приливу, принялись кормиться на мелководье над песчаной банкой. Выдры подплыли ближе — их совсем не было видно, только широкие ноздри торчали из воды. Когда они были в десяти ярдах от ближайшего лебедя, скрылись и ноздри, лишь тянулись кверху цепочки невидимых во тьме пузырьков. Лебедь заметил под водой смутное очертание, но не успел отдернуть голову — Тарка прокусил ему шею. Тяжело забили по воде крылья. «Кью-ю-ур-лик, кьюр-р-р-лик!» — подняли на отмели тревогу кроншнепы; их долгий, повышающийся на конце свист разнесся по всему эстуарию. От берега к берегу прокатился дискантовый сигнал — «тиа-тиа» — травников; стремительными кругами помчались над водой галстучники. Старый Ног закричал: «Кра-р-рк!». Лебединые крылья вспенили воду, разметали брызги; удар одного крыла пришелся по Тарке, и его в беспамятстве понесло прочь. Но Серомордая повисла на лапах лебедя и не отпустила их даже тогда, когда он поволок ее, чуть не полностью вытащив из воды. На много миль окрест лебедь протрубил о своей ярости и страхе. Бьюбью Ужасная полетела на этот глас.

Лебеди возле Вороньего острова за Шрарской излучиной; на заднем плане — белый домик на дамбе.
Но прежде чем полярная сова прибыла на поле битвы, Тарка очнулся и поспешил на помощь подруге. Увидев, что внизу идет сражение, Бьюбью расставила пальцы, открыла клюв и с громким зловещим криком пошла вниз, но, когда она, словно тень хаоса, повисла над водой, там не было ничего, кроме перьев и пузырей. Бесшумная, как снег и туман, с глазами, пронзающими темноту, как северное сияние, с когтями, острыми, как когти бесснежного мороза, летела над Шрарской излучиной полярная сова Бьюбью; вот она ринулась на старого лиса, но его рык и лясканье зубов отогнали ее прочь.
Выдры тащили лебедя наперерез приливу под скрежет плавучих льдин. Тарка прокусил ему артерию на шее. Постепенно страх смерти покидал лебедя, и его трепыханье делалось слабей. Когда выдры отдыхали, птица неподвижно лежала на воде. Она слышала, как высоко, в далеком небе, крылья ее сородичей отбивали полетную песню — «хомпа, хомпа, хомпа». Лебедь три раза судорожно дернулся и затих навсегда.
Тарка и Серомордая вытянули его на берег, вонзили зубы в горло и, закрыв глаза, пили горячую кровь. Вот они принялись рвать птицу, забивая пасти перьями, но только добрались до мяса, как подкрался лис. Его тоже терзал голод: в ту ночь он съел одну-единственную мышь, которая сама питалась только ивовой корой и была шкурка и кости. С храбростью отчаяния лис кинулся на выдр. Шум привлек барсука-самца, выкапывавшего корни приморской свеклы из расщелин между камнями дамбы. Барсук тяжело и неуклюже потопал вниз по склону, через водоросли, туда, где на гальке, распушив «трубу» и подняв загривок, Фэнг-овер-Лип угрожающе тявкал на двух выдр.
Барсук, которого кое-кто из охотников на барсуков называл Блади Билл Брок — Кровавый Билл Брок, еще никогда не был так голоден. Две последние ночи его желудок был совсем пуст. Кровавый Билл не боялся никого из животных. Выдры пытались прокусить его шкуру, но не могли причинить ему никакого вреда, потому что под серыми длинными, заостренными на конце волосками у него была на редкость крепкая кожа. Сердито хрюкая, он оттолкнул их в сторону, схватил зубами лебедя и поволок прочь. Выпустил на миг, чтобы укусить Серомордую, и вдруг неподвижно застыл, подрагивал лишь нос. Не двигались и лис, и Серомордая, и Тарка. Их головы были повернуты в сторону белого домика, маячившего на дамбе. Открылась и снова закрылась дверь.
За человеком выскочили две пастушьи собаки с подрезанными хвостами и кинулись по галечнику, но нашли только круг из белых перьев. Зазвенели источенные волнами ракушки, словно с моря подул ветер и побежал вдоль берега к черному от смолы деревянному госпитальному судну. Это уходил восвояси лис. Неуклюжий барсук двигался медленнее, его медвежьи когти скользили на булыжном скате дамбы. Тарка и Серомордая лежали в воде на глубине трех футов, только носы и уши виднелись над водой. Они слышали топот кинувшихся за Биллом Броком собак, затем хриплый мужской голос. Один пес взвизгнул, за ним второй, и каждый вернулся к хозяину на трех ногах, а толстокожий барсук, вновь подхватив лебедя, благополучно продолжал свой путь, у него-то все четыре ноги были целы.
Несколько часов спустя все, кроме самых крупных костей, лап, крыльев и клюва, было в желудке барсука, а сам он храпел в песчаной кроличьей норе, где проспал трое суток подряд.
Серомордая возвратилась к Утиному пруду; морские водоросли и моллюски — единственное, чем ей осталось кормить себя и выдренка. Он подполз к ней на нетвердых лапках и открыл рот, чтобы приветственно «мяукнуть», но из горла не вылетело ни звука. Его ноги дрожали, голова не держалась на шее и падала на тростниковую подстилку. Лапки выдренка были обморожены, глазницы пусты. Серомордая смотрела на него немигающим взглядом, затем легла, чтобы укрыть его своим телом. Она «разговаривала» с ним, брала в лапы и лизала мордочку — только так могла старая выдра выказать ему любовь. Детеныш отполз, попытался найти молоко, но не нашел: молока не было. Потом он заснул. Хотя было еще совсем светло, Серомордая оставила гнездо, чтобы поискать какую-нибудь пищу, и пошла по следам оленей, темневшим на пороше.
Самка благородного оленя, спустившаяся с нагорья в стаде вместе с олененком, не покидавшим ее со дня своего рождения в мае прошлого года, почуяла запах выдры и пустилась бежать. Теленок не отставал от нее. Серомордая некоторое время преследовала их, но, увидев на снегу птичку с поджатыми лапками, которая уже не могла взлететь, свернула. Один глоток, и косточки, кожа, перья — все, что было крошечным желтоголовым корольком, — исчезли в пасти выдры. После безуспешной попытки проникнуть в сад фермы Серомордая вернулась к Утиному пруду, перебравшись через губу в трехстах ярдах от того места, где люди разбирали на дрова корпус старого парусника со снятыми мачтами. На поле она подобрала череп овцы, пронесла несколько шагов и опять бросила. Она уже много раз вот так поднимала и бросала его.
Когти мороза крепче вонзились в землю. Над Увалами не раздавалось ни одного птичьего голоса: все вьюрки и коноплянки, которые здесь остались, были мертвы; они тщетно пытались извлечь семена солероса из его мясистых соцветий. Даже вороны умерли от истощения. В морозном воздухе разносились лишь визг пил, удары топоров, голоса людей, стеклянный шорох ветра в почерневшем бодяке, блеянье овец и ягнят, карканье воронов да глухой рокот волн, разбивающихся о бар.
День за днем над Увалами висело безмолвие; окруженное туманным ореолом солнце незаметно скользило в ночь, играющую сполохами северного сияния. С Эксмурских холмов спустились новые стада благородных оленей и бродили по Большому Полю, которое покинули даже крысы. Олени заходили в сады деревни, где одни из них погибали от пули браконьера, другие — засыпали смертным сном. Одетый в баранью шубу пастух всю ночь размахивал руками и топал ногами возле костра на кочкарнике, где пасся скот. У заваленных мешками с соломой плетней вокруг временных овечьих загонов рыскали, крадучись, барсуки, лисы и горностаи и дрались за тело того из них, кто погибал раньше. Над овчарней с ягнятами, черный в свете луны, с карканьем летал Кронк. «Кэк!» — крикнул Старый Ног, ковыляя на нетвердых ногах к Шрарской излучине с дюн, где он прятался, дрожа от холода, во время приливов. Завывал ветер, пронизывая скелет его подруги, подломившийся в коленях, возле безглазого, с пробоиной на макушке черепа Джимми Марленда, скалившего зубы во льду.
После того как две лисы и барсук погибли от пули, Серомордая перестала ходить туда, где овцы жевали мороженую репу и безмятежно подставляли сосцы махающим хвостиками ягнятам. Однажды ночью, обезумев от голода, она побежала к деревянному сарайчику с утками во дворе фермы возле железнодорожной станции. Высоко над сарайчиком вздымался каштан, черный, голый, страдающий — одну из его ветвей мороз расщепил пополам. До Серомордой сюда наведывалось много других гостей.
Фэнг-овер-Лип начал подкапываться под прогнившие доски пола, но, вернувшись на следующую ночь, учуял, что за день дыру углубили и поставили взведенный капкан. После лиса к сарайчику с хрюканьем пришел Кровавый Билл Брок и нажал головой на сторожок, удерживающий дуги-захваты. Капкан захлопнулся на серой шкуре, но не причинил зверю никакого вреда. Барсук стал копать дальше — вниз, затем вверх; к утру он докопался до досок пола, но когда пришел вечером, его ждал новый капкан с «пастью» пошире, чем барсучья спина; он лежал ничем не прикрытый, словно подзадоривал барсука. Заржавленные «губы» растянулись в стальной ухмылке, на сторожке был запах человека. Билл Брок, за свою жизнь защелкнувший вхолостую не один капкан, сердито хрюкнул и убежал.
Звезд в ту ночь не было, небо хмурилось тучами. Пока Серомордая шла вверх по замерзшему ручью, повалил снег; он падал большими хлопьями, похожими на лебяжий пух. От эстуария, чуть слышные в мглистом, влажном воздухе, беспорядочным хором неслись крики чаек, возвратившихся сюда с юго-западным ветром. Юг шел приступом на Север, и этот мягкий ветер был его глашатаем. Смолк наводящий ужас голос Бьюбью — полярная сова уже покинула Увалы.
Серомордая прошла под мостом и, почуяв уток, выбралась на берег. Когда она трусила мимо ульев, до нее донесся звук, от которого у старой выдры перехватило дыхание, — «ик-клак» захлопнувшейся западни. По земле, извиваясь, катался Тарка, стараясь вырваться из привязанного к цепи тяжелого капкана. Капкан не отпускал. Тарка замер, сердце его гулко билось; он сопел, шипел, пускал слюну. При виде этого у Серомордой сжались ноздри, и она задышала, широко открыв пасть. Позвала его. Зазвенел капкан, залязгала цепь. Серомордая бегала вокруг Тарки, пока не прекратились вырывавшие жилы прыжки; обессилев, Тарка упал на длинную заржавленную пружину, из его ноздрей вырывались кровавые пузыри. Громко закрякала утка, а когда умолк скрипучий сигнал тревоги, стало совсем тихо — снежные хлопья еле слышно опускались на крышу сарая. Хлопья мягко садились на шкуру Тарки и скатывались капельками воды. Вдруг в тишине раздался стон каштана, на землю упало тельце овсянки, уже много недель как примерзшее к ветке. Оно упало рядом с Серомордой и тут же отлетело к сараю от взмаха ее хвоста; она стояла над Таркой и яростно грызла железные дуги.

Двор фермы, где Тарка попал в капкан.
Далеко в эстуарии чайки бегали по песчаным банкам сквозь желтую пену наката. Их ликующие неумолчные крики предвещали конец зимы. Под каштаном Серомордая перепиливала острыми пеньками изломанных зубов кости защемленной лапы. Пробежала крыса, привлеченная запахом крови, но, увидев, чья это кровь, тут же скрылась. Морда самки была изодрана, но Тарка не сознавал, что кусает ее.
Вот она перегрызла толстые и крепкие сухожилия, и Тарка был свободен. Он кинулся к реке. А Серомордая осталась, вспомнив о выдренке.
Треск дерева услышали утки и заметались по сарайчику, безостановочно крякая. Громко залаял в конуре сторожевой пес. Из дома в ответ донесся крик; пес стал рваться с цепи. Оба, и Тарка, и Серомордая, знали, что последует за собачьим лаем и человечьим криком! Серомордая оставалась под полом, пока не распахнулась дверь, — только тогда она бросилась прочь; ее кровоточащая пасть была вся в занозах.
Когда, взяв фонарь и ружье, фермер подошел к сараю, он обнаружил, что капкан защелкнут и в нем зажаты три пальца перепончатой лапы; снег вокруг был забрызган кровью. Заметив цепочку красных точек, уходившую вдаль, фермер поспешил к домику одного из работников и постучал в дверь. «Одна есть!» — закричал он так же точно, как лет за пятьдесят до того кричал в дверях церкви во время богослужения его отец, зовя мужчин выйти в погоню за лисой, оставившей на снегу свой нарыск.
Работник и два его сына надели сапоги, сушившиеся на очаге, и вышли к фермеру. Вооружившись вилами, рукояткой мотыги, ломом и ружьем, они пошли по следу раненой выдры. При свете фонаря было видно, что красные точки ведут через железнодорожный разъезд и дальше, мимо заснеженной сортировочной станции. «Эй, пошли с нами!» — крикнул фермер трем мужчинам, возвращавшимся из пивной. Было десять часов вечера. У одного из мужчин оказалась палка, другие набрали камней.
Собака, колли, нашла выдр в сарайчике, куда Тарка заполз в поисках убежища. Тарка отступил в угол за груду мешков с минеральным удобрением, а Серомордая кинулась на пса, шипя и ляская сломанными зубами. При свете фонаря ее глаза светились грозным темно-коричневым огнем. Пока Серомордая сражалась с колли, Тарка отыскал в стене лазейку. Ослабленная голодом, долго отбиваться старая выдра не могла, и, как сказал потом фермер, не было нужды тратить заряд, когда можно было просто пригвоздить ее к земле вилами и стукнуть ломом по голове.
Они отнесли убитую выдру на ферму, и фермер нацедил из сорокаведерной бочки в погребе по кружке пива для всех, кто ему помогал. В то время как они пили — «За ваше здоровье, хозяин!» — во дворе снова залаяла собака. Ей крикнули: «Заткни пасть!», но она не умолкала; тогда фермер вышел и пнул пса сапогом под ребра. Колли взвизгнул и спрятался в будку, но не успел фермер войти в кухню, как собака снова подняла отчаянный лай. Ее ударили по затылку ручкой кнута, сделанной из оленьего рога, но даже это не умалило ее желания сказать хозяину, что во дворе враг. Всю ночь она то и дело вновь принималась лаять, и на рассвете ее отхлестали кнутом, зажав голову дверью. Фермер, человек бедный и не очень крепкий, был не в духе после бессонной ночи. Когда он успокоился, он дал псу освежеванную тушку выдры и похвалялся потом его бесстрашием и прочими достоинствами в железнодорожном трактире, рассказывая, как пес «упредил» его и как выследил двух «аграмадных хорьков, серых, что твои мыши» до сарая, где один из них убежал через дыру в стене. Он не стал рассказывать, какой шум поднял колли после того, как они вернулись, полагая, что это не делает псу чести. Откуда было знать ему, человеку, чьи чувства притупила цивилизация, что всю ночь у него на дворе выдра-самец дожидался своей подруги, которая так и не появилась.
Днем, в тумане, под дождем, Тарка ушел и спрятался в тростнике у заболоченного пруда. Увядший, покрытый сосульками тростник мог теперь кануть в скопившийся за многие поколения ил, уснуть и, возможно, грезить о жарком лете, когда потянутся к солнцу молодые зеленые стебли, о колеблемых ветром пыльниках, роняющих золотую пыльцу, о спелых семенах, которые выпестует смуглая мать-осень. Южный ветер отцеплял от его длинных корней когти Ледяного Духа, высвобождал из каждой коричневой головки сонмы летучих семян.
Лед на пруду покрылся таким слоем воды, что по нему могло плыть птичье перо; по ночам в каждой ямке от копыта сияла звезда.
Через семь восходов зазеленел на холмах мох, закувыркались, заныряли с нежными любовными песнями чибисы, в Увалах расцвел первый цветок — скромная весенняя крупка с крошечными светло-желтыми цветочками на безлистном сверху стебле. Под полуденным солнцем пасущиеся на кочкарнике коровы казались серебряными. На идущих от маяка телеграфных проводах крыло к крылу сидели коноплянки, посылая в небо песни. Из пунцовых грудок вылетали пленительные звуки, словно алые мазки кармина, уносимые теплым южным ветром.
А когда сияющий щебет умолк, я пошел к пруду и снова обшарил все тростники, и снова напрасно. Тогда я направился к губе; спустился по изрезанному извилинами серому торфу к сочащейся струйками жидкой грязи, где коноплянки, трепеща крылышками, выклевывали семена солероса. Там я напал на побежку выдры, но отпечатки были старые, их уже не раз заливало приливом, и во многих из них лежали сброшенные шкурки личинок. Каждый четвертый был с изъяном — в грязи отпечатывались только два когтя.
Следы вели вниз, к заплескам низкой сейчас воды, где море размывало их до конца.
Год последний
11
Напоенные водой болота и лесистые взлобки Великих топей были затянуты дымкой; облака стелились у подножия горы. Над тусклыми зеркалами мочажин бесшумно плыл туман, влекомый приглушенным ветром. Порой холодный порыв доносил медленное журчание: здесь, в трясине, брали начало Пять Рек — в торфянике, более темном, чем выдра, которая поднялась по одной из них до ее истока.
Южный склон горы был изборожден лабиринтом извилистых вымоин, среди которых выступали серые от мха бугры. В самой большой вымоине, меж берегов из крошащегося торфа, вода стояла черно и почти недвижно. Выдра вышла на сушу, подняла голову, огляделась, втянула носом воздух. Капли с ее хвоста падали в воду, неторопливо кружились взболтанные крупицы торфа и оседали на дно. Жизнь реки начиналась беззвучно, во тьме торфяника (некогда это был вереск, цветший под солнцем незапамятных времен), но на склоне, среди зеленого ситника, река оживлялась, веселела, встретив гранит, который помогал ей спеть первую песню.
Тарка взобрался на одну из серых подушек мха и вытоптал посредине мягкую и теплую постель; длинные, густо растущие слоевища приятно холодили откинутую на них больную лапу. Свернулся калачиком. Упругие стебли скрытого мхом вереска пригнулись под тяжестью его тела. Тарка двигался сюда от самого устья, днем спал в кочкарнике и убежищах на берегу реки, ночью кормился. Он ничего здесь не узнавал, эти вересковые пустоши и моховые болота не были знакомы ни его глазам, ни ушам, ни носу. Когда лапа болела, он лизал ее. Странствие вверх по реке, вздувшейся от талого снега, доставляло ему радость; он охотился за рыбой и играл ветками и камнями, слушая, как над мраком долин разносятся призывные крики сов.
Тарка спал клубочком во мху, пока не уплыли на север последние, выбеленные солнцем пряди облаков, не засверкали светлой синевой мочажины. Солнце разбудило его, и он услышал щебет птицы — маленького желтовато-серого конька: только они двое и были здесь, на болотах. Птичка тревожно следила, как выдра греет на солнце грязное серое брюхо с вытертой шерстью и катается по земле, чтобы почесать уши о вересковую ветку. Конек никогда еще не видел такого зверя, и, когда Тарка с плеском свалился с бугра в воду, птичка взвилась в небо и тут же, залившись звонкой песней, пошла вниз, трепеща крылышками, казалось, слишком слабыми, чтобы удержать ее на высоте. Раз за разом она взмывала вверх и опять падала чуть не до земли, наконец повернула вместе с ветром и плавно села в вереск. Вновь по пустынным просторам блуждали только вода и воздух. Но вот мимо кочек с жухлой травой и островков ситника с завядшими коричневыми метелками зашлепали по бурому мягкому торфу перепончатые лапы.
Бегом по мочагам, топча похожие на пауков пучки ржаво-красной пушицы, Тарка добрался до более глубокой и широкой вымоины, окаймленной ситником. Спустился по набухшему, крошащемуся торфу в застывшую, прозрачно-коричневую воду. Поплыл, отталкиваясь задними лапами, по извилистому потоку, выискивая угрей под тиной, которая закручивалась за ним темной спиралью поднятых со дна торфяных частиц. Минута — и русло расширилось. Над осыпающимися краями мелкой котловинки рос вереск, раскинув спутанные ветки. На некоторых еще висели прошлогодние соцветия колокольчиков — их нежный шелест вторил заунывной песне ветра.
Тарка пробежал мимо груды торфа, наваленной у подножия столба, который отмечал ныне высохшее Крэнмирское карстовое озеро, где многие тысячелетия бродили его предки. Ночью здесь проходила лиса, выискивая черных овальных жуков; эти жуки, бабочки и мелкие пичужки — коньки, каменки, изредка бекас — вот все, что она могла найти в топях. В то время как Тарка выбегал из карстовой воронки, над его головой стремительно промчалась птица, скользя на изогнутых темных крыльях; увидев его, она закричала: «Гоу-бек, гоу-бек, гоу-бек!». Это была шотландская куропатка; она жила и выводила потомство на нижних, подветренных склонах горы. Куропатка летела к югу, за семенами воробейника. Он разросся там из единственного семечка, занесенного с распаханных холмов на шерсти овцы, за которую оно зацепилось своим крючочком. Семена воробейника были излюбленной пищей шотландских куропаток, живших у истоков Пяти Рек.
Тарка следил за куропаткой, пока она не скрылась внизу, затем потрусил дальше, ничего не найдя в мочагах, где скользили на фоне неба лишь отражения облаков да изредка — одинокая птица. А затем водой завладело солнце, разбив каждую мочажину на тысячи сверкающих, жарких осколков. Выдру охватила внезапная радость; Тарка пустился в галоп и тут же провалился в трясину по самое брюхо, выполз на поросший травой бугорок, покатался по нему, отряхнулся и двинулся дальше. Тарка бродил до моховине, пока вновь не услышал голос бегущей воды. Он доносился из впадины с измытыми, оползшими, искрошенными краями — слабый голос новорожденной реки. Тонкой извилистой нитью, не шире спины выдры, укрытая травами, склонившимися над ней, она стремилась вперед, в поисках пути к морю.
Вот струйка упала каскадом со своего первого уступа, рассеяла первые пенные брызги; пробежав по балочке между увалами, вышла к болоту, поросшему зеленым мхом и камышом, затем, набрав силы и блеска, поспешила по галечному руслу, посверкивая и напевая. Она журчала над гранитными валунами, плескалась среди кукушкина льна с красно-бурыми коробочками на верхушках побегов, похожих на выпь с поднятым вверх клювом. На многих валунах рос серебристый лишайник с черным подбоем, сморщенный, словно кожа диковинного зверя: крошечные серо-зеленые кусты и деревья, лапы с пунцовыми «костяшками» суставов, лосиные рога, раковины, морские водоросли. Эти вкоренившиеся в гранит лишайники казались фантастическими и хрупкими миниатюрами удивительного и ныне забытого мира доисторических вересковых пустошей и моховых болот.
Где быстрым ручейком, где заводью, а где водопадом река (у нее уже было имя — То) текла, становясь все шире и глубже, меж крутых и высоких холмов. Вот она омыла корни своего первого дерева — тонкоствольной, скупо усеянной почками ивы, нежного дерева, ошибкой попавшего в этот край камня, дождя и злых серых ветров. Под деревом, пощипывая душистую травку, стояла черноголовая овца. Вдруг она взбрыкнула и поскакала вверх по склону к ягненку, спавшему возле нагретого солнцем камня, — это прямо у ее ног из воды выглянула незнакомая, лоснящаяся, страшная морда; Тарка только что выловил форель, первую на протяжении мили, съел ее, напился и снова скользнул в реку.

Река То в трех милях от Крэнмира.
За час он поймал полтора десятка рыб — самая крупная весом не больше нескольких унций, — затем забрался на гранитную плиту и задремал под лучами солнца. Высоко над ним реяла небольшая птица, взмывала «по косой» в небо, затем, приспустив крылья, камнем падала вниз. Всякий раз, устремляясь к земле, птица веером раскрывала хвост; рассекая воздух, перья вибрировали, раздавался звук, средний между блеяньем ягненка и голубиным воркованьем. С ней рядом летала подруга. Это была пара бекасов; они выбрали себе куртинку ситника для гнезда, а Тарка их потревожил. Он заснул и лежал неподвижно. Забыв о нем, птицы сели на землю и принялись искать червей, погружая длинные клювы в болото. Когда солнце залило высокие скалистые пики, Тарка проснулся и поплыл вниз по течению. Небольшой черный косматый вол, пивший у галечного брода, почуял выдру, фыркнул и отпрянул от воды, напугав коров.
Ночью звезды тускло мерцали сквозь холодные плывущие с гор испарения. Все было влажным — увядшие колокольчики вереска, молодые ржаво-красные побеги черники и голубики, мхи, лишайники, травы, камыши, камни, деревья. День занялся серый и беззвучный. Тарка возвращался к реке по неровной, кочковатой тропинке, когда гигантский одуванчик-солнце выглянул из-за охваченной светом вершины Косдон-Бикон. Трава, вереск, лишайники, кусты голубики, мхи, камни — все, что двигалось навстречу выдре, исчезало, не успев появиться, словно растворялось или тонуло в странно светящемся море. Ледяная корочка таявших в солнечной дымке листьев, травы, былинок и веток горела огнем. Жители здешних мест называют это утреннее сияние «глазурью».
Тарке стало радостно от света, затопившего все вокруг, и он принялся кататься по земле, играя найденным в траве блестящим шариком — старым пометом пони. Позднее, спускаясь бегом к реке, он увидел углубление под скалой. Однако там было холодно и сыро, а Тарка любил спать в сухом месте. Он выбежал оттуда поближе к солнцу и устроился на плоской вершине.
Скала стояла за водопадом, внизу она была зеленая от плауна. Плаун поблескивал в брызгах, с него стекали капли. Тарка помылся, не слыша речного шума. Высохни вдруг река, он услышал бы тишину. В прозрачном потоке колыхались зеленые водоросли, ленивее, чем машет хвостом стоящая рыба.
На камень неподалеку от Тарки села плотная темно-бурая птичка с белой грудкой и шейкой и, задержавшись на миг, нырнула. Это была оляпка. Она бежала по дну, выискивая жуков, рачков и личинки ручейников. Набив полный зоб, вышла на мелководье, вспорхнула в радуге капель и стрелой полетела обратно вдоль Извилистого русла. Возле скалы, где лежал Тарка, оляпка приостановилась и сунула голову в мох в шести дюймах от клокочущей пены. Из мха донеслись быстрые резкие нотки, словно песня воды и камней отточилась на оселке горла певчей птицы. Оляпку приветствовала его подруга, сидящая в мокром гнезде на пяти белых яичках. Когда самочка проглотила принесенную ей пищу, самец снова полетел вверх по течению. Он летел и пел, его песня вторила песне реки.
Тени сдвинулись, и водоросли, яркой зеленью струившиеся утром, потемнели в воде. Оляпки еще много раз попеременно подлетали к гнезду, но так и не увидели выдру, неподвижно спящую в каменной чаше над ними.
На следующую ночь Тарка спугнул кролика из вросших в землю валунов, рассыпанных во впадинке на вершине. Неподалеку оттуда вздымал голову, плечи и торс огромный сивуч — высокий утес, выточенный и отшлифованный дождями и ветром. Кролик добежал до норы в северо-западной части утеса, но тут же в ужасе повернул обратно, учуяв запах столь страшного ему горностая. Парализованный страхом, потеряв надежду спастись, кролик тоненько пискнул и застыл, словно в гипнотическом трансе. В ответ раздалось громкое «стрекотанье», и в тот же миг, схватив кролика за горло, горностай поволок его внутрь. Только горностай, которого звали Суэгдэггер, собрался убить свою добычу, как следом за ним в нору вбежал Тарка. Суэгдэггер отпустил кролика и повернулся к незваному гостю, вдвое больше него; его белый с черным кончиком хвост угрожающе бил по земле, глаза светились зловещим блеском. Одним ударом задних ног, таких стремительных в беге, кролик без труда мог свернуть ему шею, но бедняга все еще сидел, прижавшись к земле и утрачивая капля за каплей способность к сопротивлению. Тарка кинулся на него. Суэгдэггер с сердитым «стрекотом» оборотился к выдре, и Тарка цапнул его за плечо. Горностай выбежал наружу, но у входа повернулся и яростно зафыркал. Тарка только раз взглянул на зеленые точки — глаза горностая — и продолжал свое дело. Суэгдэггер отошел, взобрался на утес и «застрекотал», будя безмолвную ночь. Всходила луна, чуть различимая в тумане; серая неподвижная гранитная россыпь вторила звонким и жестким звукам. «Кэкх-кэкх-кэкх!» — посылал свой клич во все стороны Суэгдэггер, сзывая себе на помощь горностаев Каменного холма.
Тарка съел половину кролика, и тут сильный запах заставил его снова поднять глаза. За низким отверстием он увидел уже несколько зеленых точек: они мерцали, качались, снова застывали на месте. Тарка продолжал есть. В темноте слышались негромкое фырканье, сопенье, внезапный шорох, тихий топот лап, царапанье, короткое чиханье. Тарка осмотрелся, нет ли какого-нибудь другого выхода — ему хотелось быть одному. Заметил в стене щель и сунул туда морду, прежде чем протискиваться вперед. В нос ему ударила едкая вонь — за расщелиной было гнездо, где хоронились детеныши Суэгдэггера.
Когда Суэгдэггер забрался на утес, его подруга преследовала кролика в трехстах ярдах оттуда и, услышав зов самца, примчалась обратно. У норы уже собралось множество горностаев. Острозубые, кровожадные, бесстрашные, они мелькали туда и сюда, вдыхая восхитительный запах свежатины, извивались гибкими туловищами, поднимали головки и нюхали, нюхали, нюхали… Лязг жующих зубов заставлял метаться все возрастающую стаю. Суэгдэггер шипел от ярости, и то пробирался к входу мимо нетерпеливо снующих сородичей, то отбегал прочь.
Маленькие злые детеныши в расщелине, куда не мог дотянуться Тарка, услышали голос матери и стали плевать во врага — все незнакомые движущиеся предметы были для них врагами. Врезавшись в скопище горностаев, самка вбежала в нору и бросилась на Тарку, стремясь укусить его за ухом. Тарка скинул ее с себя и попытался убить, но она снова атаковала его, а с ней вместе — Суэгдэггер и все его племя, сбежавшееся на зов. Тарка топтал горностаев ногами, чувствовал уколы их зубов по всему телу, прокусил одного чуть не насквозь, но тот продолжал сражаться. Тарка снова схватил его пастью, придерживая передними лапами, но изувеченный горностай яростно вцепился выдре в горло и повис словно второй хвост. Расшвыряв горностаев, Тарка вырвался наружу, вся стая кинулась следом, даже четверо детенышей, которые заразились общим возбуждением и решили поиграть. Они гнались за Таркой с пронзительным «стрекотаньем» по валунам и кочкам до самой воды. Тарка нырнул, подняв брызги, три горностая прыгнули за ним, но холодное купанье пришлось им не по вкусу, и они, отфыркиваясь и чихая, выбрались на берег — гибкие, цепкие, пружинистые, как ветви ивы. Не найдя выдры, самцы затеяли драку между собой.
В то время как самка с детенышами бежала вверх по склону, ей встретился идущий на водопой барсук. Серый топтыга — живой гранит, чья голова была массивнее, чем все ее тело, — неуклюже свернул в сторону. Он не хотел нарываться на лишние неприятности, к тому же только что прикончил остатки кролика под Тюленьим утесом.
Поток огибал подножие крутого холма, по склонам его, среди скал, темнели низкорослые деревья и ползли каменистые осыпи, которые расщепляли стволы и вырывали из земли корни ив, боярышника и остролиста. Оставив позади моховины и вересковые пустоши, поток превращался в настоящую реку с мостами, притоками, островами и мельницами…
Скоро на дубах раскроются первые листочки; сороки давно прикрыли гнезда колючими ветками боярышника; долго после сумерек парили в небе канюки. Зимородки и оляпки уже вывели птенцов — почти под каждым каменным мостом висело гнездо оляпки, напоминающее космы кукушкина льна. Невинные белые цветочки дикого терна побурели, пожухли и облетели под ветром. Желтые нарциссы — лесные и луговые братья белых садовых нарциссов — нежно сжимали в увядших лепестках семена, надежду зимы. Чистотел давно был забыт весной, его листья скрылись под тянущимся вверх щавелем, крапивой и цветущим пролесником. Барсучат уже научили гадить в «уборных», а не в гнезде. Стояла середина апреля, ласточья пора в здешних краях. В большой куче сучьев на носу островка возле моста шумно возились выдрята, им не терпелось поиграть с плавающей на воде луной. Их мать, сестра Тарки, кинулась на него, когда он сунул нос в сучья, и укусила за плечо, потому что все вселяло в нее тревогу, а помнить своего маленького брата она не могла.
Хотя птицы бранили его, лисы рычали и даже родня прогнала его прочь, у Тарки было много друзей, с которыми он играл и тут же забывал их: палки, камни, водоросли, снулая рыба, а один раз — пустая жестянка из-под какао, яркая забавная штука, которая так странно лопотала, плывя над отмелью, но в затоне за ней ушла на дно, выпустила наверх пузыри и больше не захотела играть.
12
На закате, когда Тарка шел по отмели к затону, он вдруг почуял запах собак на взрытом лапами песке промоины под старым ясенем. Бесшумно нырнул и поплыл по течению, лишь изредка поднимаясь, чтобы вдохнуть воздух. Миновав две излучины, Тарка вылез из воды и прислушался. Взбежал в нерешительности на берег, встал на задние лапы, роняя капли воды. Он был встревожен. В лесу за лугом резко кричал сычик, где-то пищали полевки, сухо кашляла овца. Тарка снова нырнул, поймал и съел рыбу, а затем принялся играть тугой струей, которая, сплетаясь и расплетаясь, падала из дренажной трубы — вода плескала ему на морду и грудь, а он пытался схватить ее лапами и укусить.
За второй излучиной от реки протянулась через поле выдриная тропа, и Тарка тронулся по ней. На полпути он заколебался. От покрытой росой травы исходили незнакомые запахи, валялись апельсиновая кожура, обрывки бумаги, торчал деревянный шест; Тарка поскреб истоптанную землю и снова, опустив нос, пошел вперед. Там, где подбитые гвоздями сапоги раздавили окурок сигареты, пахло человеком. Тарка повернул и двинулся было обратно, но тут в дальнем конце тропы раздался свист выдры-самки. «Хью-ии-ии-ик!» — ответил он и побежал на голос. Посреди луга Тарка внезапно остановился, словно наступил на ловушку. В воздухе, перебивая запах выдры, стоял густой псиный дух. Трава была забрызгана кровью и пеной. Шерсть на спине Тарки поднялась дыбом. Он громко засопел открытой пастью, завертел головой из стороны в сторону, словно высматривая гончих, и исчез, бесшумный, как его низкая тень под луной.
За поворотом темная река мелела, поднималась каменистыми перекатами, дробившими лунный свет. Тарка заметил, как на отмели мелькнул выдрий хвост, затем увидел выдру, настороженно смотревшую на него. Это была Белохвостка. Она подошла к нему, лизнула в морду и, «замяукав», затрусила вдоль берега. Тарка — за ней. Она была грязная, взъерошенная и несчастная. Поймав форель, выдра позвала Тарку, но, когда он приблизился, сердито «гирркнула» и стала сама есть рыбу. Снова запищала и нырнула в воду. Так, следуя за ней, Тарка возвратился к песчаной промоине напротив старого ясеня, возле которого утром с ревом прыгали гончие. Все время, пока они шли вверх по реке, самка звала кого-то, искала под нависшими берегами, на дне заводей и затонов. Здесь, наконец, она выползла на песок, держа в пасти мертвого выдренка, и уронила его на гальку. Облизала с головы до хвоста, «мяукнула» и снова нырнула. Вернулась еще с одним и положила его рядом с первым. Возможно, она умела считать только до двух, а возможно, просто не знала, сколько детенышей она с перепугу сбросила в воду, когда терьер выгнал ее из убежища под старым ясенем. Ловчий видел, что выдрята камнем пошли на дно пронзенного солнцем затона, и отозвал гончих. Собаки кинулись вверх по реке и три часа спустя нашли и убили самца, в то время как он пытался перебраться по лугу к лесистому склону.
Старый самец и Белохвостка кочевали вместе с того самого дня, когда осенью самец прогнал от нее Тарку. Ее первый помет появился в январе; реки уже замерзли, и однажды, вернувшись домой, Белохвостка не нашла выдрят. Терзаемая болью, она звала их, искала, но ей больше не пришлось кормить детенышей своим молоком: подобравшийся по льду барсук вытащил их из гнезда лапой с длинными черными когтями и сожрал всех до одного. Горе Белохвостки было так остро, что скоро иссякло, и она снова спарилась со старым самцом на орляке Папоротникова холма.
А теперь Белохвостка была опять объята горем. Две ночи подряд, когда они с Таркой спускались по течению, она то и дело переставала охотиться и принималась бесцельно бегать по берегу, заглядывая во все ямки и скуля. На третью ночь она оставила его и ушла к старому ясеню, где у нее было гнездо из тростника. Она занесла в убежище камень, положила его в гнездо и принялась облизывать, но внезапный крик заставил ее снова выйти наружу. Белохвостке показалось, что крик идет от камня, лежащего на мелководье, и, взяв его в пасть, она отнесла камень под ясень. Скоро все гнездо было забито мокрыми, камнями.
Тарка продолжал путь в одиночку. Но мере того как река уходила от своих истоков, луга и поля, меж которых она текла, все шире расстилали зеленый ковер на древнем мелкоземе — лоне долины. Дубовые вырубки по склонам заполонила наперстянка, накапливающая в зеленых листьях молодую силу, чтобы воздеть пурпурные стрелы к июньскому небу. Днем река казалась сверху разодранной клювом канюка гадюкой с коричневыми пятнами на бело-голубых витках скрученного спиралью тела. Вдоль нее тянулись две узкие блестящие полоски; они то подходили к самому берегу, то покидали его на излучинах, то перекидывались с одного берега на другой по каменным мостам с железными фермами. Под мостами висели галочьи гнезда из прутиков, овечьей шерсти и обрывков бумаги, подобранной в садах возле домов. Громовые раскаты над головой не беспокоили галок, они, как и выдры, привыкли к громыханью поездов.
За одним из мостов река замедляла свой бег в широкой заводи, куда впадала небольшая, текущая к югу речушка под названием Крот; казалось, она задумалась на миг, прежде чем повернуть на север вместе с То — своей старшей сестрой. Тарка плыл над самым дном Кротовой заводи, когда дрожащую, скрученную водоворотом луну перерезали темные узкие тени. Взмах мощного хвоста, толчок задними лапами о каменный выступ — и Тарка уже мчался вслед за рыбьей стаей. Рыба уходила зигзагом — вверх, вниз, наискосок. Тарка гнался, пока наконец не поймал одну рыбину, но, в то время как он плыл к берегу, ему попалась другая. Он бросился за ней, не выпуская первой из пасти, и цапнул ее лапой, когда она пыталась уйти у него за спиной. Тяжелый, сужающийся книзу хвост в два дюйма толщиной у основания и тринадцати дюймов в длину, который мог одним ударом оглушить рыбу, позволял выдре поворачиваться в воде почти так же быстро, как на суше.
Убив рыбу, Тарка тут же выплевывал ее — теперь он охотился для забавы. В воздухе яркими вспышками сверкали ельцы; преследователь кидался за выпрыгивающей рыбой и наносил удар в тот миг, когда она падала вниз. По воде стало растекаться темное пятно, и со дна, колыхаясь всем телом, поднялась камбала — видимо, она решила, что начался разлив, когда в Кротовую заводь приносило червей. Эта морская рыба жила непривычной ей и одинокой жизнью в пресных водах с того самого дня, как ее проглотила в эстуарии цапля и изрыгнула живой из зоба четверть часа спустя, когда птицу, летящую вверх по долине, подстрелил инспектор рыбнадзора.
Камбала увидела расплывчатые очертания выдры и быстрым волнообразным движением пошла вниз, на дно. Ее заметил одноглазый морской угорь, лежащий в воловьем черепе, который застрял в расщелине скалы. В пустой глазнице угря торчал зазубренный конец ржавого рыболовного крючка, стержень которого высовывался у рыбы из горла, — крючок уже почти совсем разогнулся, когда лопнула леска.
Тарка подплыл к угрю со стороны слепого глаза и разинул пасть, чтобы схватить его за спину позади парных плавников. Угорь был длинней Тарки. Почувствовав зубы выдры, он обвил хвостом ее шею и укусил за нос. Вверх поднялись две цепочки пузырьков; в одной из них пузырьки были мелкие, как горчичное семя, — стержень крючка закупорил Тарке левую ноздрю. Затем цепочки разорвались, и на поверхность стали выскакивать лишь отдельные пузыри: угорь душил выдру. Тарка пытался подцепить рыбу, но его короткие когти были источены, ведь он много недель подряд выцарапывал форель из ее гранитных убежищ, а кожа угря была скользкая. Распластавшись на дне заводи, камбала следила за схваткой своих врагов.
Тарка бил угря лапами, терся телом о гальку и подводные камни, норовя отодрать его от себя, подняться наверх и там сожрать. Три долгие минуты, пока хватало дыхания, он силился освободиться от петли. Затем медленно и тяжело всплыл и попробовал выбраться на берег, но берег обрывался крутым отвесом. Когда голова угря оказалась в воздухе, он расцепил зубы, вонзившиеся в кровоточащий нос выдры, и канул на дно. Тарка чуть не выпрыгнул из воды, и тут же — плюх! — пошел, как голыш, следом и схватил рыбу за хвост. Но угорь увернулся, и Тарка не смог его удержать. Подплыв под угря, он укусил его позади шеи и опять разжал пасть. Угорь из последних сил старался уйти и спрятаться в пустом бычьем черепе, но Тарка выволок его наверх; так он и играл с рыбой, всякий раз избегая ее острых зубов. Наконец угорь совсем ослабел, и, вытащив поверженного врага на мелководье, Тарка покружил возле него, притворяясь, будто никакого угря там вовсе и нет, и выел самый лакомый кусочек хвоста.
После этого он вымыл морду и опять нырнул в заводь, где устроил бойню среди ельцов; скоро уже несколько десятков серебристых рыбок качалось на боку. Тарка губил рыбу, пока луна не скрылась за вершиной холма. Тогда, устав от охоты, он отдался на волю течения, и оно вынесло его из заводи и помчало дальше, мимо островка посреди реки — узкого, похожего очертаниями на выдру, с хвостом из ила, намытого быстрыми волнами на его нижний конец. На островке рос ивняк и ольшанник, почти весь переломанный деревьями, которые увлекало за собой половодье.
Два часа спустя Тарка снова проголодался и сожрал раздобревшую на легкой добыче двухфунтовую форель, которую поймал под железнодорожным мостом, третьим от Кротовой заводи к морю. Ниже моста, справа от реки, шло ее старое, высохшее русло; лишь кое-где меж каменистых перекатов виднелись затянутые зеленой ряской лужи, оставшиеся после мартовского разлива. Закон жизни — беспрерывное изменение — был и законом воды. Столетиями она вытачивала это покинутое ныне ложе, каждый паводок заполняла его камнями и наконец ушла из него, избрав новый путь. Безмолвное русло сплошь заросло куманикой, боярышником, бузиной, шиповником и крапивой. Это было убежище ужей, лягушек, мышей и одичавшего рыжего кота без передних лап. Первые три года своей жизни этот кот жил впроголодь, кормился мышами на мельнице и отзывался на кличку Лохмач. На четвертый он ушел в лес и только успел разжиреть, охотясь на кроликов, как попал в капкан. Он прихромал к мельнице и опять стал домашним котом, но когда лапка отвалилась, а культя зажила, Лохмач вернулся к суровой лесной жизни. Еще раз попал в капкан и остался без второй лапы. Вот уже два года, как он скрывался в старице реки, рыская ночью по лесу, питаясь лягушками, мышами, жуками и снулой рыбой, которую выдры оставляли на отмелях и берегу. Двигался он прыжками, на задних лапах, как кролик. Из култышек передних лап торчали длинные когти, что помогало ему удерживать добычу, но мешало мыть морду. Порой, продираясь сквозь подлесок за выдрой, гончие «подавали голос» по Лохмачу, нашедшему себе приют в глубокой кроличьей норе среди густого боярышника.
Тарка набрел на его след и побежал вдоль старого русла. Лохмач сидел на валуне и следил за тропой полевок. Тарка остановился, удивившись не меньше, чем кот. Лохмач прижал уши к затылку, выгнул горбом всклокоченную спину и испустил такой вопль, что у Тарки поползли по телу мурашки. Крик, громкий и протяжный, вырвался из глотки кота сквозь стиснутые зубы. Когда Тарка поднялся на задние лапы понюхать то, что так орет, вопль перешел в глухой угрожающий скрежет. Чтобы удержать равновесие, Тарка дотронулся до камня, на котором стояло незнакомое существо, и оно издало звук, похожий на тот, который Тарка слышал, когда через парапет причала у деревни возле эстуария на него высыпали горшок горячих углей. При воспоминании об ожоге Тарка обратился в бегство. Оставшись один, кот опустился на обрубки лап и поднял уши, прислушиваясь к возне полевок.
Когда на следующую ночь Белохвостка шла по следу Тарки, Лохмач сидел в старом сорочьем гнезде из сырого мха над входом в кроличью нору. Снова вопль и скрежет зубов, снова плевки и шипенье, и снова выдра поспешила вернуться в реку.
Тарка миновал последний мост, куда не доходил прилив, а с восходом солнца вылез на берег возле глинистой «горки» и свернулся калачиком на постели из листьев касатика. По прикрытому илом мелкому гранитному ложу бежала прозрачная вода. Сновали взад-вперед ласточки, их витки над лугами становились все шире и круче. Все живое грелось на солнце. Листья щавеля под дамбой посерели от ила и соли, высохших после того, как прилив лениво отхлынул вспять. Среди почерневших и ломких морских водорослей, лежащих под стеной дамбы вперемешку с сухими стеблями и метелками ситника, белели звездочки ложечницы. Солнце медленно двигалось над дубняком, что рос по крутому склону от самой воды; с нижних обесцвеченных веток свисали водоросли. По касатику, среди которого лежал Тарка, золотыми птицами порхали горячие солнечные блики. Вот блестящий клювик света скользнул за лист и до тех пор клевал Тарку в глаз, пока не разбудил. Тарка зевнул, перевернулся на спину, лениво втянул носом ветер, чуть колышащий зеленые острия. Ветер был чистый, и Тарка продолжал лежать спокойно.
Над рекой один за другим, словно звезды в поясе Ориона, проплыли три канюка; верхняя птица летела, размеренно махая крыльями, средняя описывала круги, а нижняя то делала виражи, рея на широких, закругленных крыльях, то входила в «штопор», опускаясь в воздушные воронки у верхушек дубов. Стволы деревьев были темные, солнце высекало цвет — желтизну и светлую зелень — лишь из верхних ветвей.
Темный частокол леса перерезала блестящая голубая стрела — это летел вниз по реке зимородок. Канюки уплыли к югу на тающих в золотом ореоле крыльях и утонули в солнечных лучах.
«Пиит!» — раздался короткий, резкий крик там, где серебряное острие прочертило по илу ржавую дорожку. С рыбой в клюве зимородок мчался к птенцам, ждущим его в песчаной норе над Мышиной заводью. Вдоль берега вились, щебеча, воронки, повисали над головами волов, склевывали хрусткокрылых мух с их губ и между рогами. Тарка зевнул и опять задремал.
Из-за гребня дубняка поднялась темная тучка, и зелень молодых листьев поблекла. Застучал по касатику дождь. Река миллионами брызг устремилась навстречу принесенным с Атлантики каплям. Но вот тучка ушла, и снова луг заструился жаром и блеском. Ласточки летели вверх по течению и, покидая у излучин сверкающую рябь и желтые чашечки калужницы, стремительно пересекали луговину и садились на дорогу у моста. Здесь, в ухабах и рытвинах, скапливалась после дождя сероватая грязь, которая застывала крепче, чем просоленный морем коричневый ил. Найти ее можно было только здесь, потому что с обеих сторон дорога круто спускалась к мосту, и, опасаясь повредить ноги лошадей, ее не покрывали гудроном. Воздушные каменщики готовились строить гнезда на стропилах коровников и амбаров; они летали попарно, вознося хвалу солнцу.
Неподалеку от моста росла бузина, прямая и крепкая, как дубок в парке, одно из немногих деревьев этого семейства с мягкой древесиной, не искалеченное ветрами в долине Двух Рек. Его крона частично прикрывала автомобиль, в закрытом кузове которого, спрятавшись от ветра, сидели несколько мужчин и женщин. Они ожидали гончих, Чтобы выйти к парапету моста, а возможно — если будет надежда быстро и без хлопот убить свою жертву — и на луг за низкой деревянной оградой. Другие автомобили остановились на самом мосту. Увидев коричневые клубы выхлопных газов, застилавшие солнце, ласточки вновь взмывали в небо и уносились вдаль. Вдруг рев собак за мостом стал громче — выдра проскочила сквозь заслон и приближалась сюда.
Это была Белохвостка. Ее гнали уже три часа. Крики охотников, голоса собак, топот ног преследовали ее, когда она металась то вверх, то вниз по реке, от убежища на глубину, из глубины на мелководье.
— Ату его!
Белохвостка увидела лица и размахивающие руки над парапетом моста, но не повернула обратно.
Напоенные светом капли скатывались по зеленым листьям касатика, его острия, казалось, впивались концами в небо. Тарка лежал неподвижно, насторожив уши. Капли шелестели, падали на землю с мягким, сочным звуком. Белохвостка пробиралась сквозь крепь, пасть ее была широко раскрыта. Тарка, уже с полчаса прислушивавшийся к отдаленным крикам людей и голосам собак, заметил ее приближение. Внезапно до них донесся громкий заливистый рев — это Капкан нашел глубокие отпечатки лап Белохвостки там, где она выходила на берег.
Выдры пробежали меж стеблей касатика, спустились в реку. Тарка распластался на мелководье и поплыл, лишь слегка отталкиваясь лапами от каменистого дна. Он двигался медленно, как угорь, плавно, как вода, свободным волнообразным движением. Время от времени вылезал у самой кромки ила, пробегал несколько шагов и вновь бесшумно нырял. Гончие топтались вокруг того места, где он отдыхал, взлаивали, напав на горячий след.
Длинную заводь Тарка одолел самым быстрым своим аллюром; каждые пятьдесят ярдов он высовывал нос, чтобы вдохнуть воздух, и сразу же уходил вниз. Он уже оставил позади дубняк и поравнялся с узкой канавой; сюда стекали воды небольшой лощинки, где паслись волы. С одной ее стороны был высокий, поросший деревьями берег, с другой — топкая грязь. С корней деревьев в шести футах над головой Тарки свисали морские водоросли. Тарка пошел вдоль русла, укрывшись под широкими, заостренными листьями осоки. Дойдя до трясины, он выбрался наверх и побежал по протоптанной стадом тропе, за которой опять начиналась топь, отделенная от противоположного берега дамбой.
На реке раздался голос Капкана, и Тарка скользнул в другую канаву, заканчивающуюся трубой. Бурая грязь сменилась черной, липкой тиной, и его коротенькие ножки переступали с большим трудом. Труба выходила к «горке» на берегу. Путь вел в темноту, свет прорывался только сквозь щели в круглом деревянном люке, который не пропускал на поля прилив. Тарка ткнулся носом в щель, втянул воздух и притаился.
Два часа он неподвижно лежал позади люка, пока гон не замер вдали. Постепенно бег реки замедлился, песня ее примолкла, наступило затишье. Но вот послышалось журчанье тонких струек, плеск наката, шелест медленно идущих вспять веточек и пены за каймой ила — море снова наступало на сушу. Села на берег цапля и, прошествовав по грязи, вошла по колено в воду. С илистого дна поднималась в поисках пищи камбала. Цапля наклонила голову, всмотрелась, сделала шаг и стремительно опустила клюв. Настороженно прислушалась. С реки тянулась тонкая ниточка звука, за нее зацепилась петлей еще одна, еще и еще; они летели по воздуху, словно осенние паутинки. Это сзывали обратно гончих. Опять настала тишина, и цапля вернулась к ловле. Ленивые темные волны омывали ее тонкие зеленые голени. Всплеск, мерцающий трепет, брызги воды — цапля, шагая, глотала рыбу за рыбой. Ярдах в двадцати от деревянного люка птица вдруг выпрямила длинную шею, приподнялась на пальцах, выскочила на песок и тяжело взлетела в воздух, поджав ноги и втянув голову в плечи. Цапля увидела людей.
Запахи, принесенные приливом с низовья, перекрыли слабый выдриный дух, и стаю уводили обратно в псарню. Через щели в разбухшем ясеневом люке до Тарки донесся, словно охотничий рог, голос старшего егеря, который разговаривал с собаками, радостно валившими следом за ним по берегу реки. Впереди бежал старый Менестрель — он всех их выучил находить и «показывать» выдр. Морда к морде с ним трюхал Капкан, у правила — рано состарившаяся от бесконечного плаванья Дева. За ними следовала усердная Бедолага, которая часто работала в одиночку; где только можно было ошибиться, она ошибалась; стоило стае оказаться у высохшей старицы То, она и никто другой наводила на след Лохмача; если от стаи отбивалась собака, это опять же была Бедолага. Рядом с ней бежал Капитан, черный, в рыжих подпалинах жесткошерстный пес, похожий на помесь борзой с шотландской овчаркой. Обычно егерь не брал его на важные охотничьи сборы, потому что голос Капитана резал ухо, как обоюдоострый нож. Когда он натекал на след, он не ревел — верещал, а на гону захлебывался визгом, разбрызгивая слюну. Среди гончих, то и дело принюхиваясь к траве в поисках крысиной норы, сновал терьер Кусай, а за ним, как добродушный, ленивый и сильный парень на поводу у остроглазого продувного мальчишки, трусил Руфус, которому полевые мыши казались куда вкусней, чем подтухшая выдра. За Руфусом следовала Росинка; ее длинная желтовато-коричневая шерсть завилась от сырости кольцами, уши свисали почти до земли.
Часто, когда охотники делили между собой трофеи, эти уши хлопали среди обтянутых синими гетрами ног и зубы покусывали шерстяную ткань, словно это была бурая шерсть их добычи. Рядом с уорфдейлской сукой — Росинка была единственной чистопородной выдриной гончей в стае — бежали Повеса и Актер, грязно-белые псы, настолько похожие друг на друга, что никто, кроме егеря, не мог их различить. За ними следовали Данник и Прыгун, которые вечно грызли корневища дерева, в которых укрывалась выдра; Болиголов, слепой на один глаз, некогда проткнутый терновой колючкой, и покрытый серой нитью шрама; Ураган, престарелая ирландская оленегонная со сточенными клыками; Грач, Звонарь, Горлан, Певун, Кэролайн, Морячка, Русалка и Браслет, который всегда стоял в стороне от стаи, когда собаки «показывали» убежище выдры, и заунывно ревел, как сирена маяка. Последними бежали Весельчак, вступающий в драку с другими собаками, когда те набрасывались на выдру, Зубач и Плевел — гончие, ходившие раньше на лис. Собаки валили по верху дамбы между низеньким, семенящим старшим егерем и длинноногим выжлятником, привыкшим к ходьбе еще в те времена, когда мальчишкой он пересекал поле за полем по пути в школу.
В двадцати шагах позади стаи шел ловчий с двумя членами охотничьего клуба. Он говорил о том, что день прошел прекрасно, хотя, конечно, жаль, что им не удалось взять выдру. Вдруг старый Менестрель остановился и поднял морду. В холодном воздухе, тянущем с реки, явственно чуялся выдриный запах. Вот воздушная струя достигла Капкана; он вскинул голову, взлаял и кинулся по травянистому берегу к разрытому дерну над «горкой». Заколыхались плюмажами собачьи правила. Капкан прыгнул в воду, за ним — половина стаи. Бедолага принялась терпеливо обнюхивать илистую прибрежную полосу. Капитан захлебнулся визгом.
До дна было три фута. Гончие полезли вверх по «горке», некоторые скатились обратно, оставляя на затвердевшей глине под жидкой грязью глубокие следы когтей. Они заливались и царапали землю перед круглой деревянной крышкой люка, а сверху дирижировал хором Браслет. Терьер Кусай, тявкая и подвывая, нетерпеливо протискивался вперед под их лапами и между боками. Охотники перешли речку вброд, нащупывая путь окованными металлом кольями. Думая, что в дренажной трубе скрывается выдра, которую они гнали пять часов, и что в прилив усталым собакам вряд ли удастся убить даже измученную выдру, если она уйдет в воду, ловчий не отозвал стаю от люка, когда повел Кусая к открытому концу трубы, возле которого, словно огромные раздавленные ягоды ежевики, чернели глубокие следы Таркиных лап. Кусая легонько потрепали по спине и подтолкнули в темную дыру. Он быстро пополз вперед, дрожа от возбуждения.
Тарка повернул от исполосованной светом крышки, зачмокала липкая типа. Его сердце билось так быстро, как стучат капли иссякающей струи. «Бум-бум-бум!» — гудело под собачьими лапами набухшее дерево у него за спиной. Тарка осматривался по сторонам в поисках пути к спасению. Он пополз назад, прочь от оглушающего грохота, и увидел приближающегося врага до того, как смог унюхать его. «Ис-ис-ис!»
Они встретились и сплелись в скользкий от тины клубок. Терьер мертвой хваткой вцепился в хвост выдры. Тарка кусал его, стремительно, как жалит гадюка, за щеку, плечо, бок, ухо, нос. Звуки глухих ударов, чмоканье грязи, рычание и шипение стали еще слышнее, когда подняли крышку и свет упал на два — рыжее и черное — ходящие ходуном пятна. В отверстие протянулась рука и схватила выдру за хвост; другая рука взяла за загривок пса. Из трубы вытащили длинного черного скользкого зверя с повисшим на нем терьером. Кругом с заливистым ревом прыгали гончие. Рука поймала Кусая за обрубок хвоста, другая — сдавила морду с боков, стараясь раздвинуть челюсти. Тарка, болтавшийся вниз головой, извивался и корчился всем телом; вот спина его выгнулась дугой, и, внезапным движением вскинув голову, он вонзил зубы в сжимавшую его руку. Рука дернулась, выпустила хвост. Тарка упал, змеей заскользил между сапог и собачьих лап и съехал по илистому склону, увлекая за собой Кусая.

Старый егерь, Кусай и Тарка.
Гончие топтали его, старались «замять». Вот Тарка скрылся под ними, вот его схватили, отбросили в сторону, снова подняли, затрясли. В какой-то момент его держали одновременно восемь пастей. Собаки глухо и злобно рычали. Мелькали, заслоняя его, белые, коричневые, черные бока и спины. Тарка прокусил Капкану брылы, подкинутый кверху — цапнул за нос. Кусай все так же висел у него на хвосте, у самого основания. Клубок собак с терзаемой выдрой докатился до кромки воды и распался. Собачьи головы снова задрались вверх, послышался рев. Гончие опустили носы, кое-кто нырнул следом за Капитаном, чей острый, как нож голос резал воздух.
Но Тарка исчез, а с ним и Кусай. Минуту спустя терьер показался ярдах в сорока от места драки и поплыл к берегу, отфыркиваясь и пыхтя; в зубах он все еще стискивал волоски из хвоста выдры.
13
На стрежне прилив стремительно шел вперед. Он нес с собой сучья; порой на поверхности мелькал кончик ветки и вновь скрывался. Тарка огибал их, двигаясь к ленте воды, бегущей под неровным гранитным отвесом левого берега наперерез приливу. Узкая лента струилась к морю. По пути она задевала корни дубов и увлекала водоросли, висящие на них после утреннего отлива. Выдра подплыла к одному из корней, с трудом схватилась за него когтями, дыша открытой пастью. Две розовые точки над носом тут же сделались красными; кровоточили лапы, спина, шея, плечо, бок и хвост. Пока Тарка был среди гончих, он не ощущал ни страха, ни боли, все его чувства, все силы претворялись в движенье с единственной целью — спастись. Теперь, в соленой воде, раны засаднили. Он лежал с четверть часа неподвижно, со страхом прислушиваясь, не раздастся ли голос Капкана.
Но гончих не было слышно. Вода поднялась еще выше, сняла Тарку с корня и помчала дальше. Он миновал Мышиный карьер и дубняк и теперь плыл меж лугов, вдоль глубокого излучистого русла. По берегам густо рос боярышник, на его нижних ветвях висели сухие водоросли с застрявшими в них веточками, травинками, а иногда — скелетом кролика или птицы. Зацепившись за боярышник, колыхалась в воде ветка куманики, причесывала колючками накипь прилива. Выше рос горицвет — его нежные бледные венчики поднимались на высоких стеблях с мертвых пней, некоторые уже поломанные и поникшие, втоптанные в грязь и погрузившиеся в сон.
Река кружила, неуверенно петляла по мягким пастбищам. Тускло поблескивала приливная волна, серо-коричневая, в желтых крапинах, как тюленья шкура. В иле, по сторонам, лопались пузырьки. Волна вынесла Тарку к середине последней доступной морю излучины и застыла, как мертвый тюлень. Начинался отлив. Тарка вылез на мелководье, где по камням журчала пресная вода, и подошел к двум скалам, покрытым зеленым водяным мхом. Там он сел и, попив, чтобы выполоскать из пасти соль, принялся зализывать раны. На траву легли длинные тени, высоко над долиной разносился еле слышный визг стрижей, с нетерпением ожидающих захода солнца, когда они начнут свои таинственные звездные игры.
За тем местом, куда достигал прилив, круто уходили в воду голые земляные откосы, лишь наверху бахромой нависала трава. Выглядывали из земли проростки недотроги. Качались под вечерним ветром зеленые ивы. Тарка шел под берегом по сухой гальке и чистым песчаным промоинам, пока не добрался до корней высокого дерева в дальнем конце рябившей водоворотами заводи. Он заполз в темноту, на сухой выступ корня, и заснул.
Когда Тарка, вялый, голодный, с онемевшим телом, вышел из своего убежища, на высоком майском небе сквозь ветви уже посверкивали звезды. У зеленых скал вода низвергалась десятками прозрачных струек. Тарка пробежал верхом до следующей излучины, спустился к реке, пересек мель и поднялся на противоположный берег. Он сделал петлю, которая вывела его к железнодорожной насыпи, пролез сквозь низкую живую изгородь из кустов боярышника, взобрался по откосу к рельсам и пошел по деревянным шпалам, чтобы вонь машинного масла, гудрона и гари перебила его запах, если гончие нападут на след.
У следующего моста, под которым было гнездо сычика, Тарка сошел с колеи к воде и двинулся вниз по течению; он выискивал рыбу под камнями и в омутах. Оставил позади дамбы с травянистыми уклонами, проплыл мимо лодок, вытащенных на галечный мыс перед длинным автодорожным мостом. Поймав камбалу, Тарка направился к берегу, но берега не было. Вода с плеском лизала каменную стену. Тарка подплыл под пролет моста и съел рыбу на песчаном наносе у старой брошенной ванны из оцинкованного железа. За автомобильным мостом на двух круглых железных, глубоко ушедших в гравий быках стоял железнодорожный. В то время как Тарка огибал правый бык в надежде найти прилепившихся там мидий, о подножие быка плеснула волна. Море снова шло в наступление. Оно затопляло ребристые песчаные мели, переговаривалось с камушками и ракушками, бурлило на перекатах и нетерпеливо спешило дальше. «Хью-и-ик!» Тарка схватил зубами пену, не обращая внимания на то, как защипало раны. «Хью-и-ик!» Соленая волна пришла с моря, а море — друг выдрам.
Плывя дальше по взбаламученной заводи, Тарка увидел метнувшуюся в сторону большую рыбу и бросился вслед. Задние лапы поджались под брюхо и с силой толкнули его вперед, спина изогнулась дугой, открыв глубокую, чуть не до позвоночника рану, нанесенную зубами Капкана. Пошла кровь, но Тарка не чувствовал боли в радостном азарте погони за рыбой. Кефаль — одна из многих, поднявшихся от эстуария вместе с приливом в поисках пищи, — от страха чуть не врезалась в набережную. Спас ее только прыжок: взлетев на ярд в воздух, она шлепнулась обратно и помчалась вниз по реке. В том месте, где выпрыгнула рыба, Тарка выглянул наружу и снова нырнул. Подплыл к основанию стенки и, повернув у железнодорожного моста, сделал три толчка направо, затем — три налево, высматривая, не блеснет ли чешуя. Он двигался под набережной, пока не встретился с приливом. Вот еще одна рыба мелькнула перед ним в мутной круговерти и устремилась в узкий приток; Тарка — за ней, но ничего не увидел и вернулся на простор реки. Переплыл на другую сторону, к верфи, затем пошел обратно, вдоль моста, отыскивая рыбу у каменных волнорезов.
Когда он добрался до набережной, вода с шумом неслась между быками. Проплыв под стеной, Тарка свернул в рукав — речушку Иоу — и отдал себя на волю прилива. Слегка ударяя лапами, он пересек русло зигзагом от края к краю, выискивая рыбу. Всякий раз, приближаясь к скользкому откосу берега, он высовывал плечи и голову, чтобы набрать воздуха и оглядеться, затем, оттолкнувшись задними ногами от гальки, плыл к другому. Тарка часто отклонялся, чтобы взглянуть на вещи, валявшиеся на дне: дырявые чайники, кастрюли и миски, ломаные канистры.
Он заметил неясные силуэты рыб сверху и позади и преградил им путь, когда они кинулись было к морю. Кефаль помчалась от него с быстротой, втрое превышавшей быстроту выдры, но Тарка уверенно следовал за ней. Прилив шел уже со скоростью шести узлов, увлекая за собой рыбу. Тарка погнал кефаль дальше. Вот они миновали еще один — Пилтонский — мост, за которым текла по трубе вода из мельничной протоки. Здесь каменная стена кончалась, и над глинистым берегом наклонялся частокол из увешанных водорослями деревянных свай. Тарка проплыл мимо склада пиленого леса, и через минуту речушка снова повернула на север, затем на восток. Она была похожа на большого, раздувшегося слизняка.
За следующим мостом рыба-вожак изогнулась — блеснула чешуя — и, ударив хвостом, бросилась назад на расстоянии какого-нибудь дюйма от пасти Тарки. Тарка схватил зубами пустоту. Кефаль ускользнула, а с ней еще шесть серых сестер, однако двум последним рыбам Тарка вновь загородил дорогу и погнал их по прямому, все сужающемуся руслу в мелкий затон с непривычной для кефали неподвижной и прозрачной водой.
Они находились в миле от устья Иоу. Луна дробилась яркими каплями по быстрой ряби и вновь, как ртуть, сливалась воедино. Каждые десять ярдов из темной глубины, пропарывая ее, поднимались две грозди блестящих бусин и опять уходили вниз. Порой оттуда вылетала серебряная стрелка и заканчивалась в водовороте, поднятом рыбьим хвостом. И каждые десять ярдов наружу выглядывала усатая голова, чтобы определить направление — внизу почти ничего не. было видно, — и опять исчезала. Тарка плыл над самым дном, энергично работая лапами, чтобы преодолеть встречную силу течения, готовый подскочить и схватить рыбу, если она попытается проскользнуть мимо.
Он поравнялся с мостом, по которому проходила узкоколейка; мост отбрасывал густую тень. Высунув голову, чтобы вдохнуть воздух, Тарка увидел за полосой тени светлое расплывчатое пятно — это переливалась вода через гребень плотины. Он снова нырнул и еще быстрее стал вертеть головой из стороны в сторону, потому что здесь, в темноте, рыбе легче было уйти от него, хотя глубина не превышала двух футов.
Когда Тарка достиг середины тени, хвост его серпом взметнулся вверх, туловище выгнулось, задние ноги коснулись камней. Он подскочил. Чешуя рыб, идущих на него во мраке, отражала только мрак, но Тарка заметил тончайший волосок света — это мерцала лунным инеем струйка, бегущая за спинным плавником. Зубы Тарки схватили хвост ближней рыбы, рыба вырвалась; тогда выдра повернула свой «руль», штопором вошла в воду и снова взметнулась: пасть захлопнулась на горле кефали. Тарка всплыл наверх и вытащил пятифунтовую рыбину (та извивалась всем телом) на груду камней у водослива. Придерживая добычу передними лапами, Тарка наклонился над ней и принялся ее пожирать, хотя жабры рыбы еще поднимались и опадали, с каждым разом все слабей и слабей ударял хвост.
Вскоре Тарке надоело жевать костистую голову кефали, он впился ей в загорбок и вырвал большой кусок. Он ел минут пять без передышки, затем вытянул шею с колючей, торчком, шерстью и возбужденно втянул воздух. «Хью-и-ик!» Ноздри его раздулись. «Хью-и-ик!» Белохвостка посмотрела через гребень плотины и скользнула вниз. «Йнн-йинн-и-и-икк-р!» — зарычала она, оскалила белые клыки и вырвала рыбу у Тарки; он перекатился на спину и принялся играть ее хвостом. Затем снова стал на лапы и поглядел на воду через прямоугольную арку между быками — он вспомнил про вторую кефаль.
Тарка спрыгнул с камней. Начисто обглодав скелет, Белохвостка последовала за ним.
Канава, где в быстрой, прозрачной воде связками горностаевых шкурок колыхались бурые водоросли, тянулась в нескольких ярдах от речушки, мимо побеленной известью мельницы со сломанным водяным колесом. На травянистом берегу канавы была ограда из старых железных кроватей, и тут, на фоне искореженных каркасов, Белохвостка увидела темные очертания Таркиной морды. Он ел. Заметив Белохвостку, громко свистнул. Пробегая по траве, она почуяла запах чешуи — здесь Тарка тащил волоком свою добычу. «Йинн-иккр!» — снова зарычала она, подскочила к кефали и схватила ее лапами. Тарка следил за ней. Затем слизал кровь с ран и опять побежал к реке. Он бежал охотиться за большой рыбой.
На лугу возле мельницы была куча отбросов и сора, ее сваливали там мусорные фургоны. В месиве из тухлого мяса и гнилых овощей рылась свинья с поросятами. Они с жадностью уплетали яичную скорлупу, кости и угли. Здесь при свете ущербной луны в низком, все густеющем тумане Тарка и Белохвостка затеяли странную игру. Начала ее Белохвостка. Подняв перед Таркой фонтан брызг, она вышла на берег. Когда же он последовал за ней, Белохвостка помчалась вокруг луга, сначала в одну сторону, затем в другую. Она почти вплотную пробегала мимо Тарки, но ни разу не взглянула на него. Немного погодя выдры вернулись к речушке и принялись резвиться, точно пара дельфинов. Затем вместе вышли на берег и разбрелись в разные стороны. То удаляясь от реки, то опять к ней подходя, пролезая в квадратные ячеи проволочной ограды, они кружили по луговине, словно бесцельно, не узнавая друг друга, блуждали по невидимому лабиринту. Снова в воду — пить и охотиться за угрями, и снова к странной игре на лугу.
Каждый делал вид, что не замечает другого; выдры были счастливы тем, что они вместе, и старались вернуть себе острую радость первой встречи.
Делая седьмой круг по лугу, Белохвостка подбежала к поросенку; почуяв ее запах, тот вскочил, хрюкнул, заверещал, затем застыл. Десять черных рылец поднялись от аппетитных отбросов, перестали хлопать горячие ушки. Белохвостка двинулась дальше, и все поросята вскочили и с визгом пустились наутек. Матка, увесистая и осторожная свинья, с глазками, заплывшими жиром, съевшая в ту ночь, помимо двадцати фунтов прочей снеди, двух крыс и кота, вытянула пятачок и, переваливаясь всем телом, пошла на тревожный запах. «Ис-исс-исс!» — угрожающе закричала Белохвостка. Если бы свинья поймала ее, к утру от выдры остались бы одни кости, ведь она весила всего четырнадцать фунтов, а свинья — семьсот. Белохвостка призывно засвистела, и Тарка кинулся на свинью.
Семьсот фунтов живого веса вернулись от ограды с разодранными ушами, без кончика хвоста, а Тарка принялся жевать траву, хотя и не был голоден: он хотел избавиться от неприятного вкуса во рту.
Всю ночь над долиной носились стрижи так высоко в поднебесье, что даже совы не слышали их пронзительных криков. А когда на востоке стала разгораться золотая заря, стрижи тремя воронками полились вниз, к земле. Их узкие крылья со свистом резали воздух. Тарка и Белохвостка лежали на спине в мельничной запруде и смотрели, как птицы смыкаются в цепи и мчатся прочь, одни — вверх по долине, другие — к морю. Вдруг головы выдр поднялись, повернулись и вместе ушли под воду — их слуха достиг лай гончих в псарне на Пилтонском холме.
Днем Тарка и Белохвостка двинулись к реке по канаве, которая выходила из мельничного пруда. Вскоре травянистые склоны сменились цементными стенами, над которыми возвышались дома Бэрума — ряды окон и голубятни на крышах, где ворковали голуби. Те, что постарше, время от времени скашивали обведенные красной каемкой глаза на небо — подходила нора, когда из гнезд на неприступных скалах Кошельного залива и Геркулесова мыса и на красных утесах побережья прилетали сапсаны и кружили над крышами городка.
С насеста на ветке дерева у канавы выдр заметил петух и закричал: «Ку-ка-ре-ку!», гребень его налился кровью. Когда же снова взглянул в воду, он там ничего не увидел и громко сообщил курам о своем торжестве. Тарка еще не забыл, к чему в прошлый раз привел петушиный крик.
Канава прошла вдоль дороги, миновала кирпичный утес — одну из стен городской лесопилки — и повернула обратно у запертого колеса; вода низвергалась через шлюзный порог и по трубе устремлялась в губу. Был отлив. Тарка и Белохвостка проплыли над затопленными белыми цветами ложечницы к излучине, где лежал спиленный лес, и, выйдя на берег, стали искать убежища в дубовых бревнах. В то время как они пробирались по шероховатому стволу, пискнула крыса, за ней вторая, и скоро пищали уже все обитающие в штабеле крысы. Старый самец увидел Тарку и кинулся бежать, подав сигнал остальным — самцам и самкам без детенышей. Одни из них попрыгали в воду, другие скрылись в кладках досок, где тоже жили крысы; между хозяевами и пришельцами завязался бой. Все утро из досок доносился пронзительный писк, не заглушаемый даже громким звоном циркульных пил. Крыс услышали пильщики, и во время обеденного перерыва один из них пошел за своими хорьками [3].
Тарка и Белохвостка бок о бок лежали в пустом стволе дуба, свернувшись калачиком и тесно прижавшись головами. Дупло было сырое; в его щелях торчали скелеты мышей и воробьев, видевших Тарку еще малым выдренком. Были там и рыбьи кости, хранившие чуть слышный запах, но и они не вызывали у него воспоминаний. Осенью — выдра с детенышами уже давно покинула этот гостеприимный приют — дуб срубили, оставив в земле корни, отволокли на лошадях через луг и переправили вместе с другими деревьями на лесопильню.
Укрывшись в штабеле бревен, выдры слышали грохот мельницы на другом берегу, гудки автомобилей и голоса людей. Все утро Тарка то и дело подрагивал ушами — его раздражало назойливое жужжание запутавшейся в паутине синей мухи, которую сосал паук. Муха сдохла, но жужжание не прекратилось, однако Тарка больше не шевелил ушами, потому что звук доносился издалека, от моста, по которому шли автомобили. Когда солнце поднялось к зениту, шум стих, и выдры услышали звонкое чириканье воробьев. Затем и оно умолкло, воробьи улетели кормиться на безлюдных проселочных дорогах. Тарка перестал прислушиваться к шагам и уснул.
Белохвостка очнулась на мгновение раньше Тарки. Перед ней в тусклом свете, падающем сквозь щель между стволами, мерцали два глаза, розовые, как цветы шиповника, который каждое лето распускается по берегам Двух Рек. Выдры ни у кого еще не видели таких глаз. Розовые глазки мигнули и придвинулись ближе; туловище под ними было белого цвета. Резкий запах зверька, смешавшийся с запахом человека, его дерзкое молчание, его сходство с ними самими, хотя он был нелепо мал, встревожили выдр, и они поднялись на нош. Зверек, не мигая, глядел на них бледными глазами, затем понюхал у Белохвостки кончик хвоста. Тарка тронулся следом за подругой, более напуганной, чем он. Когда они бежали вдоль ствола, на спину Тарке вскочила крыса и вцепилась в шерсть; перекосив глаза, она верещала сквозь ощеренные зубы.
Крыса вопила от страха перед хорьком, не перед Таркой. Этот прирученный человеком член куньего семейства, по кличке Резвый, с холодной яростью преследовал крысу. Пока Тарка выбирался наверх через зазор между бревнами, хорек прыгнул на крысу, отодрал от коры, за которую она ухватилась, и, прокусив шею, стал сосать кровь. Услышав новый писк, Резвый бросил обмякшее тельце и скользнул туда, откуда он раздавался.
Когда Белохвостка выглянула из-под бревен, она увидела над собой собаку; склонив голову набок, та уставилась на выдру блестящими глазами. Рядом стоял человек с дубинкой. Белохвостка выскочила, собака с лаем отступила на несколько шагов, дубинка опустилась. Белохвостка успела повернуть назад, столкнулась под колодой с узкомордым хорьком и кинулась за штабель.
Необъятное небо, белесое от жары, заливающей пыльный полуостров, ослепило Тарку, одеревеневшего от ран и ссадин. Он медленно потрусил к травянистому берегу, но человек настиг его и нанес удар. Удар лишь скользнул по телу, однако заставил Тарку ускорить бег. Человек, торопясь убить его, кинул ясеневую дубинку вслед выдре. Она просвистела мимо Таркиной головы и прочертила борозду в горячей подсыхающей грязи. Тарка пробежал по трещинкам, уже начавшим змеиться по глинистому склону, и бесшумно нырнул. С моста видели, как он коричневой тенью оплывал валуны, еле-еле ударяя задними лапами и ни разу не показавшись на поверхности потока, настолько мелкого, что он мог прикрыть лишь старый сапог.
Всю ночь Тарка свистел на реке, но не получил ответа. Дважды он возвращался к излучине у затихшего лесного склада, где иголочки крысиных глаз прокалывали гаснущий лунный свет, но Белохвостки так и не нашел. Прилив отнес его на две мили вверх, к железнодорожному мосту, где в отбитом у галок гнезде лежали яички четы сычиков. Эти крошечные совы, чуть побольше дроздов, охотились и днем, и ночью, выискивая рачков, лягушек, куличков, майских хрущей, червей, крыс, мышей, бабочек и прочую мелочь, которую могли поймать и убить. При виде Тарки они «заорали», как кот Лохмач, «залаяли», как лисицы, «закашляли», как овцы, «заквакали», как лягушки. Когда же он двинулся по узкому притоку, что протекал вдоль небольшой долины, они «захохотали», как серебристые чайки, и принялись носиться над самой его головой. Отогнав Тарку от гнезда, сычики радостно заухали и оставили его в покое.
Тарка миновал дорогу и спустился в мельничный пруд, где умирали три угря. Поднявшись по Ключевому ручью среди вишневых садов, растущих на северных склонах долины, Тарка добрался до большой, огражденной деревьями впадины на откосе холма, которая мерцала, как светлое ночное небо. Тарка увидел две луны: одну над вишнями, другую — перед собой: он очутился в затопленном известковом карьере. «Хью-и-ик!» Свист, нежный, как позыв золотистой ржанки, эхом отозвался у каменного отвеса по другую сторону воды. Тарка нырнул, но сколько ни погружался, так и не достиг дна. Края карьера круто уходили в недвижные глубины, только в дальнем его конце под пригорком, выпирающим, как сустав, была маленькая бухта.
Тарка не нашел в карьере рыбы и мимо печей для обжига извести и покинутых домиков обжигальщиков вернулся к ручью. Взобрался на правый берег, перебежал по заросшим травой синевато-серым слоистым отвалам пустой породы к другой каменоломне. На кучах шлака у разрушенной печи с обвитой плющом трубой чернели заросли терна, в темной стоячей воде купали ветви замшелые ивы. В трещине высокой трубы свили гнездо пищухи; при урагане труба качалась, ибо поддержкой ей служил только плющ, корни которого, словно цемент, скрепляли камни и не давали трубе упасть. Вот уже пять лет подряд пищуха выводила птенцов в трещине трубы, в гнездышке, похожем на скопление случайно занесенных ветром веточек и сухих былинок. Вороны и сороки ни разу не нашли гнезда, так искусно оно было сделано и хитро спрятано.
В мрачных водах карьера жили крупные, медленно плавающие рыбы; одну из них Тарка преследовал чуть не до самого илистого дна, лежащего на глубине сорока футов, но рыба ушла. Это был карп, проживший на свете больше полувека и такой мудрый, что он знал разницу между рыболовным крючком, наживленным просто катышком теста с анисовым семенем, и крючком, где тесто наживки для крепости было смешано с ватой. В первом случае он «дул» на наживку, а когда тесто смывалось с крючка, глотал его, во втором — даже не приближался к наживке.
— Хью-и-ик!
Небо нахмурилось. Тарке не удалось поймать карпа и очень хотелось есть. Он потрусил к ручью.
— Хью-и-ик!
Ответом ему было лишь эхо, и Тарка двинулся дальше.
14
Когда под пчелиными ножками качаются колокольчики вереска, а вокруг зеленых колючек утесника обвиваются красноватые шнуры повилики, высасывающей из него сок, это значит, что в Эксмуре лето. Плоскогорье овевают ветры, где так привольно соколам, коршунам и сапсанам; одевают покровом кустики черники, лишайник, папоротник и — по оврагам — замшелые деревья, где так привольно лисам, барсукам и благородным оленям; окропляют дожди и орошают горные реки, где так привольно выдрам.
Вересковые пустоши и болота Эксмура видели солнце еще тогда, когда красным шаром с неровными краями оно катилось в клубах первозданных испарений, не похожее на растущий по склонам одуванчик с ослепительными лепестками-лучами. Почва в здешнем краю скудная — лишь прах умерших животных и растений. Дожди ручьями возвращаются к нижним склонам, к пастбищам и полям укрытых от ветра долин, к приютам людей.
Тут привольно оленям, барсукам, лисицам, выдрам и сапсанам, безжалостно губящим все, что вырастил человек, — и растения и домашних животных, все, что он накопил, поколение за поколением, и предназначил себе; поэтому их убивают. С появлением железа и пороха война против самых крупных губителей подошла к концу; все они — саблезубые тигры, медведи, волки — в этих краях исчезли, и остатки их костей лежат на скальной породе, возникшей здесь при сотворении мира, под лишайниками, мхами и травами или в музеях городов. Некогда сам добыча, затем охотник, добывающий себе этим пропитание, теперь человек охотится на досуге. Среди всех тех, кого жизнь вынуждает возделывать поля, разводить скот и держать птицу, у диких животных, оставшихся в Эксмуре, почти нет друзей, которые беспокоились бы об их судьбе. Фермеры, дай им волю, уничтожили бы поголовно всех хищных пернатых и зверей, их не трогает, что бессловесные твари — детища той же земли, что и люди, не огорчает мысль, что они могут исчезнуть навсегда. У охотников нет жалости к животным, которых они убивают в отведенный для этого срок, и к тем, которые погибают по их вине, лишь бы ничто не помешало забаве, естественной, как они полагают, для человека. И поскольку они лишены этого неразумного, на их взгляд, инстинкта, они не понимают и презирают тех, кто жалеет зверей. Жалость невозможна без воображения, этого всеозаряющего огня; воображение поднимается над вещным миром, как радуга над землей. Но как ни прекрасна небесная радуга, она не помогает выращивать хлеб.
В центре Эксмура стоит Дубрава — высокая, ныне безлесная гора, где на склонах до самого верха растет одна осока. В начале лета дикий дух этих мест звучит в голосах кроншнепов, которые, взлетев из своих убежищ над головами подруг и птенцов, плывут по ветру на волнах нежной, несущейся ввысь песни. На распростертых, поддуваемых ветром крыльях они медленно падают вниз с мерным и звучным «тлюид-тлюид». Едва не коснувшись земли, взмахивают несколько раз крыльями и, повиснув в воздухе, испускают последние нотки, которые взмывают в небо, как золотые пузырьки. Высокие, важные, с длинными, загнутыми клювами, они неторопливо шагают к своим неоперившимся птенцам, в изумлении стоящим на кочках. Подруга кормит певца, а дети приветствуют его восторженным криком… У кроншнепов редко бывает больше трех птенцов, потому что вороны обычно похищают из каждого гнезда первое снесенное самкой яичко. Только найдя разбитые пустые скорлупки, кроншнепы начинают следить за черными ворами, скрывающимися за горой…
Но вот кроншнеп вздымает крылья и бежит прочь от гнезда; из раскрытого клюва несется переливчатое тремоло, крылья хлопают, и он вновь взвивается вверх, чтобы принести на пустынную землю песню небес.
У подножия двух холмов лежит небольшое озеро, куда стекают воды из перемежающихся кочкарником трясин, под названием Цепи. Озеро, глубокое, с бурой неподвижной водой, отражает кайму ситника и тростника, осоку на склонах и небо. В северной своей части оно переходит в топь, куда забредают олени и пони. На противоположной стороне из него выбегает ручеек и спешит к югу по узкому руслу то тонкой струйкой, то каскадом, то затихая в заводи, то с шумом падая вниз. Как-то днем из ручейка, чуть шире, чем туловище выдры, выбрался на берег Тарка и взглянул сквозь зеленый листовник на лощину, по которой пришел. Все, кроме ручья, было недвижно. Тарка поднялся по склону и увидел внизу озеро. Услышал скрипучее кваканье лягушек и помчался к берегу, окружающему темную торфяную воду. Почти у самого края он остановился.
Вдоль кромки прыгала, глядя на Тарку, самка ворона, иссиня-черная от когтей до свирепо нацеленного на него клюва. Расходились круги по воде там, где тихо, без плеска, нырнули лягушки. Птица сделала три прыжка к куче дохлых лягушек, остановилась, припала к земле, вытянула голову с прижатыми перьями и уставилась на Тарку. Глазки ее поблескивали, трепетала беловатая пленка третьего века. Ворониха не боялась выдры.
Она с самого утра охотилась здесь на лягушек, приманивая их клювом: стоило лягушкам-самцам услышать чирканье клюва по воде, как они поднимались на поверхность и обращали выпученные глаза в сторону звука. Ворониха скрипуче и хрипло каркала. Шеи лягушек надувались, и они вызывающе квакали в ответ, приняв издаваемые птицей звуки за предсмертные крики гибнущей самки. Лягушки проплывали в нескольких дюймах от птичьего клюва. Одна, а то и две прыгали в воздух, и тогда птица открывала клюв и ловила их — одну, а то и двух. Действовала она молниеносно. Подтащив очередную жертву к куче уже убитых лягушек, пронзала ей голову клювом и неторопливо шла на новое место охоты. Она могла унести за раз восемь-девять лягушек к птенцам, ждущим ее в гнезде на груде камней у истоков реки Экс. Мать летала к ним с полным ртом, широко разинув клюв.
Тарка задрал голову, втянул носом воздух. Упорный взгляд маленьких глазок, как и черный клюв, был устремлен прямо на него. Тарка унюхал лягушек, сделал вразвалку три шага к воронихе и снова остановился. Птица не шевелилась, но ему не нравился ее взгляд. Тарка отвернулся и пошел прочь. Она поскакала следом и ущипнула его за кончик хвоста, прежде чем он успел скользнуть в воду.
«Кррок-кррок-кррок!» — прокаркала ворониха, скосив глаза на небо. Тарка лежал в воде и смотрел, как она выхватывает из кучи лягушку за лягушкой и набивает ими рот; вскоре птица сорвалась с берега и полетела через холмы на восток.
Вернулась она вместе с самцом, они парили над озером бок о бок. Иногда ворон складывал крылья, делал «бочку» и снова кружил на распахнутых крыльях. «Крук-крук!» — сказал он подруге, увидев на темном фоне воды еще более темный силуэт плавающей выдры. Ворон широко раскрыл клюв, приготовился к спуску и с протяжным «Крон-н-н-н-нк!» медленно пошел вниз по пологой, как лезвие косы, кривой от одного отороченного зеленью берега до другого. Перекувырнувшись несколько раз в воздухе и описав два-три круга, он опустился на склон холма и зашагал вниз, к воде, ловить лягушек.
Каждый день вороны по нескольку раз прилетали на озеро. Самец дразнил Тарку, стоило ему увидеть выдру, докучал, когда тот грелся под солнышком на берегу. Подцепив клювом лягушку, ворон останавливался в нескольких футах от Тарки и ронял свою ношу с наветренной стороны. Однажды, когда Тарка сам играл лягушкой и на миг повернулся к ней спиной, ворон схватил лягушку и отбросил ее. Птица и выдра играли вместе, но ни разу не коснулись друг друга. Часто ворон — один из трехсот сыновей Кронка — ронял ветку в воду, и Тарка гнался за ней, а потом, выйдя на сушу с зажатой в лапах веткой, катался по земле. Изредка ворон исподтишка щипал Тарку за хвост, и тот с шипением кидался на птицу. Ворон увертывался, подпрыгивал и хлопал крыльями, но не взлетал — разве только Тарка загонял его в озеро.
Днем Тарка спал в камышах на трясине в северной части озера. Если он не был слишком усталым после ночной охоты, он просыпался от трескучего «крон-н-н-н-нк» и спешил по берегу или среди водорослей играть с вороном. Как-то утром на небе показалось сразу пять птиц; они летели цепочкой — мать, трое воронят и ворон, — точно черное созвездие Ориона. Птицы сели на высокий травянистый косогор, подошли к воде, и птенцы стали наблюдать, как мать приманивает лягушек. Тарка подбежал было к ним, но тут пронзительно завопили воронята, гортанно закаркали вороны и принялись бить его клювами и хлопать по морде крыльями, оттесняя назад. Всякий раз, как Тарка всплывал, чтобы набрать воздуха, они набрасывались на него и так измытарили, что он навсегда зарекся приближаться к воронам.
Когда ветер рассеял семена пушицы, и осока, побурев под солнцем, поникла к земле, кроншнепы улетели на побережье и реки. Чертили небо кривым пунктиром коньки, но щебет их затихал, и вновь наступала тишина. Однажды после полудня тишина всколыхнулась, и на красно-коричневом гребне холма возникло подобие голой дубовой ветки. Это был олень-пятилетка. Высунув язык, он мчался на юг, к лесистым долинам. И снова на землю спустилась тишина. Но вот гребень перерезала вереница гончих, без единого звука бегущих от Цепей по следу оленя. Из своего гнезда в камышах Тарка следил за ними, пока они не растворились на горизонте, Не успел он улечься, как над западным склоном с шумом и свистом пронесся тетерев и полетел над озером; за косачом следовала серая тетерка с двумя тетеревятами. По укосу холма проскакали два всадника в красных костюмах, за ними — молодой фермер на неоседланном жеребце. Затем показался серый гунтер; лицо сидящего на нем охотника было таким же красным, как костюм. Остальные охотники появлялись поодиночке, через большие промежутки времени, на измученных лошадях.
В тот вечер Тарка расстался с озером и перешел по Цепям к ручью, который блестящей нитью вытекал из болот. Вместе с ним Тарка вступил в узкую лощину. Луна скрылась за горным хребтом. Примерно через милю у подножия горы ручей сворачивал на север, выточив себе русло в сером крошащемся камне. Лощина расширялась у Седого дуба; расколотый ствол дерева, черный, как его собственная тень в лунную ночь, испещрили блестящие дорожки слизняков. Рядом с Седым дубом стоял молодой дубок, укрытый им от зубов и рогов оленей, — юный сын у могилы отца.
И Тарка тронулся к морю по Дубовому ручью, который бежал по склонам и долам, разбивая луну на осколки и теряя их под купами деревьев на берегах. Голос ручья звенел по всему лесу, где барсуки искали мышей и черных слизней, струился от листа к листу и уходил в летнюю ночь.
Там, где Дубовый ручей встречался с другим, чтобы дальше вместе разыскивать море, Тарка напал на выдриный след. Он узнал запах Белохвостки и направился вверх по второму ручью — здесь до него проходили чужие выдры. На исходе ночи, плывя по заводи, выдолбленной в граните водопадом, Тарка увидел перед собой темный силуэт. Выдра медленно покачивалась на воде, голова ее ударялась о камни. Она была мертва уже несколько часов. Накануне свист играющих выдр услышал владелец здешних мест и поставил под завесой водопада капкан, закрепив его на выступе скалы, где выдры отдыхали после радостного купания в клокочущей пене. И выдры снова пришли сюда.
Железо тонет в воде, и сколько бы ни звали мать выдрята, она не могла долго выдержать с таким грузом на ноге.
Когда вздувшееся тело перевернулось, Тарка услышал звяканье металла и в страхе нырнул, оставив позади цепочку пузырьков.
К восходу солнца он пробежал две мили, пересек лес и поля — то стерню, где стояли чередой копны, то участки, засаженные свеклой и турнепсом, то пастбища для овец — и нашел третий ручей под горкой, которая звалась Нищенский привал. Тарка двинулся вверх по течению, мимо фермы, где по мелководью шлепали утки, и дальше, под мост, возле араукарии с листьями, острыми, как сорочьи клювы. Вот он миновал дома и мельницу на берегу, и вокруг раскинулись безлюдные луга, где распевали свои песни одни лишь жаворонки. Тарка плыл от берега к берегу в поисках убежища на день. В полумиле за мельницей он увидел камень с широким отверстием, наполовину скрытым в воде. Над ним нависала лещина. В то время, как Тарка забирался под камень, низкое августовское солнце зажгло зелень листьев золотом весны.
15
Разбудил его оглушительный собачий рев. Он увидел лапы, с плеском переступающие по мелкому дну, несколько черных носов и свисающие языки. Отверстие было слишком мало, чтобы туда прошла хоть одна голова. Тарка скорчился в ярде от входа, вдавился в холодный гранит. От страшного шума стало больно ушам.
На бурых камнях переката заскрежетали подкованные сапоги, застучали обитые железом острия охотничьих кольев.
— Отрыщь! Капкан! Менестрель! Отрыщь!
Тарка услышал звук рожка, и низкий вход посветлел.
— Отрыщь! Капкан! Капкан! Отрыщь!
Рожок пропел еще раз, потише — стаю уводили прочь. Под камень сунули кол и стали вслепую тыкать по сторонам, затем забрали. Тарка увидел сапоги, человечьи руки и морду терьера. Раздался шепот:
— Вперед, Сэмми. Взять!
С рук соскочил кудлатый коричневый песик. Сэмми унюхал Тарку, затем углядел его и стал пробираться к нему бочком. «Тяв-тяв-тяв-тяв!» Выдра не шевелилась, и терьер подполз поближе, вытянув голову и громко тявкая.
Тарка не вынес раздражающего его шума. Через минуту, раскрыв пасть и шипя, он двинулся мимо терьера; злобное тявканье перешло в пронзительный визг. Люди на противоположном берегу стояли молча и неподвижно. Они увидели голову Тарки, залитую солнечным светом, — свет падал сквозь деревья позади них и зажигал бурые плоские камни переката теплой желтизной. А Тарка увидел трех людей в синих куртках; люди не шевелились, и он скользнул в прозрачную, холодную воду. Она не покрыла ему спину, и Тарка вернулся к корневищам на берегу. Побежал, прячась в тени и под папоротником, своим обычным шагом. Один из мужчин заметил, что у выдр нет чувства страха.
Ни одна гончая не подавала голоса, но причина их молчания была не известна Тарке, да он бы и не понял ее. Он проснулся в смятении и страхе, он страдал от мучительного шума, он оставил опасное место и теперь убегал от своих недругов — людей. Когда он шел с поднятой головой вверх по ручью, все его чувства — обоняние, зрение, слух — были настороже, чтобы уберечь от гончих — его заклятых врагов.
Так как Илкертонский ручей был узкий и мелкий, выдре по охотничьим законам полагалось дать четыре минуты форы. Когда истекли эти минуты, Тарка услышал позади звуки рожка, голоса собак и крики егеря:
— Вот, вот, вот, вот! Пошел! Возьми! Вот, вот, вот, вот! Возьми!
Стая во всю прыть возвращалась к ручью. Гончие бултыхались в воду возле большого камня, пытались просунуть голову в дыру, разбивались на смычки или в одиночку спешили по мелководью за мокрым, дрожащим от возбужденья терьером и громко взлаивали, втягивая носом запах выдры.

Капитан и Менестрель «показывают» убежище у Илкертонского ручья.
Первым в погоню устремился Капкан, за ним — Кэролайн, Морячка, Капитан и Повеса. Они промчались мимо терьера, и Капкан в нетерпении свалил его с ног. Сэмми вскочил, дрожа всем телом, и бросился вслед.
Тарка погрузился в пронизанную солнцем воду по самые ноздри и замер. Он лежал бурой колодой наискосок к камням, на которых покоился его хвост. Там его и увидел егерь. Тарка поднял усатую голову и поглядел на него. Рядом раздавались голоса собак. От заводи, где был Тарка, ручей полого спускался вниз. Когда Капкан, идя по чутью, прыгнул в заводь, Тарка бесшумно нагнул голову и коричневой маслянистой пленкой скользнул под брюхом у пса, беззвучно вынырнул и двинулся по затянутым тиной камням. Прилизанная шерсть блестела на солнце. Казалось, он идет не спеша, у самых собачьих морд, чуть не наступая им на лапы.
— Пусть собаки сами его загонят! Не натравливай их, не то они разорвут его на куски!
Стая смешалась, гончие скололись со следа; запах выдры был похож на скрученную из многих прядей веревку, конец которой они пытались распутать. Но вот Канкан натек на выходной след и повел стаю вперед.
Он заметил Тарку, когда тот пробегал по плоским камням, где вода едва прикрывала ему хвост, и с вытянутым правилом бросился выдре наперерез. Тарка выскочил на берег. Затрещали, зашелестели засохшие ветки и листья живой изгороди — Тарка выбирался на луг. Он бежал по траве и слушал, как яростно ревет Капкан, этот огромный черно-белый пес, продираясь сквозь заросли лещины, колючей куманики и раскинувшей тонкие ветви жимолости. Пробежав с полсотни ярдов по лугу, Тарка влез на насыпь и спустился по откосу к шоссе. Гудрон жег ему лапы, но даже когда на него устремилось огромное темно-красное чудище, он не свернул на луг, где вереницей неслись гончие. Несколько раз содрогнувшись всем телом, чудище замедлило бег и остановилось, в нем, тыкая в выдру пальцами, поднялись фигуры людей. Тарка нырнул под автомобиль и снова выбежал на закатное солнце, слыша, как, перекрывая крики людей, доносится сзади разноголосый хор гончих, которые так рьяно взбирались на высокую насыпь, что сталкивали друг друга вниз.
Тарка побежал по укрытому тенью кювету, среди обрывков газет, банановой кожуры, апельсиновых корок, окурков и смятых коробок из-под шоколадных конфет. Перед ним возникло еще одно, на этот раз желтое чудище; оно росло с каждой минутой, из него высунулись люди и уставились вниз. Тарка промчался ярдов двести по дороге. Его душила вонь, оглушал шум, огнем жгло глаза. Задержавшись на миг в кювете, он прислушался к собачьему хору, звучащему теперь по-иному: собаки выбирались на шоссе. Тарка пробежал еще ярдов двести, затем вскарабкался на насыпь, пробрался сквозь пыльную траву и шиповник, цепляющийся за шерсть, и спустился по лугу к ручью. Плюхнулся в воду и поплыл; он плыл, пока перед ним не поднялись скалы и валуны. Влез на них и пошел дальше, бороздя мох и лишайники хвостом и оставляя за собой запашистый след. Подал голос мчавшийся впереди всей стаи Капкан.
В ручье — что на мелях, что в заводях — Тарка двигался ровно, не сбавляя хода, но и не торопясь, хотя и быстрее течения; он скользил вместе с потоком, пересекал затоны, огибал валуны, оставляя свой запах в мокрых оттисках лап и хвоста.
По зеленому, испещренному тенями лугу спешили люди, неподалеку послышались хриплые крики и звуки рожка. Гончие дружно взорвались ревом — Тарка понял, что они добежали до берега. Закружилась воронками под ударами перепончатых лап напоенная светом вода. Через тень и рябь, по омутам и перекатам Тарка уходил от собак. В лучах солнца ручей сверкал янтарным блеском, лоснилась гладкая бурая шкура выдры, когда ее спина на миг показывалась из воды. Тарка скользил неторопливым змееподобным движением. Гончие были уже недалеко.
За излучиной ручей протекал возле шоссе. Там выстроилось множество автомобилей. В них дожидались мужчины и женщины с украшенными зарубками кольями — «охотники» на колесах.
Перед Таркой вырос мост. Гончие гнались за зверем по пятам, и он не обратил внимания на людей, склонившихся над парапетом. Люди кричали, махали шапками, подбадривали собак. За мостом плавали утки; с громким кряканьем они вышли на берег и заковыляли во двор фермы. Поравнявшись с тем местом, где только что были птицы, Тарка тоже вылез и устремился за ними. Пытаясь взлететь, утки захлопали крыльями, но он догнал их колонну, врезался в нее, разметав птиц, и исчез. Рев Капкана звучал все ближе, за ним, впереди остальной стаи, валили Русалка и Капитан. Егерь, выжлятник и полевой сторож остались далеко позади, за живыми изгородями и насыпями.
У фермы гончие скололись. Озадаченно опустив носы к земле, они носились взад-вперед. Пронзительный визг Капитана сообщил, что Тарка прошмыгнул под воротами. Русалка побежала вдоль мокрых отметин в пыли, но свернула в сторону, увидев цепочку более крупных перепончатых оттисков. След спутался снова. Басовито взлаял Капкан, за ним другие гончие, однако настигли они только утку, которая в ужасе закрякала и забила крыльями. Какой-то человек с граблями в руке погнал собак прочь, крича на них и грозя ударить. Из глубины двора раздался голос Росинки, и гончие помчались к ней, но отпечатки лап привели их к другим воротам, и хотя они пытались их перепрыгнуть — не могли достать до верха и шлепались вниз. А под ворота ушла утка, не Тарка.
Запах выдры исчез. Гончие катались в пыли, подходили к людям и нюхали карманы, выпрашивая подачку. Руфус нашел кроличью шкурку и сожрал ее, Данник затеял драку с Весельчаком — в шутку, так как они побаивались друг друга, лишь Капкан отправился дальше. Гончие ждали, когда их поставят на след. Но вот подбежал потный егерь в белом, сдвинутом с красного лба котелке, за ним два выжлятника и собрали собак в стаю. Резкий утиный дух остановил гон.
А Тарка пробрался по дренажной трубе обратно в ручей и теперь отдыхал, отдавшись течению, с каждой минутой приближавшему его к журчащей мгле — узкой лесистой долине. Яркое расплывчатое пятно — зимородок. Сидя на ветке, он выглядывал жука или гольца. Зимородок увидел, как тень выдры разорвала светло-золотые ячейки сети, которую закинула рябь на каменное ложе ручья.
Проходя под крутым берегом мимо корневищ ивы, Тарка услышал тявканье терьера. Сэмми прополз по дренажной трубе за ним вдогонку и теперь, черный от липкой грязи, выглядывал из ее конца, нетерпеливо призывая своих рослых друзей. К тявканью Сэмми присоединился рев Капкана. Старый выжлец был на берегу, под трубой — он опять натек на след выдры там, где зверь коснулся камней. Тарка заметил его в каких-нибудь десяти ярдах и нырнул. Он плыл, отталкиваясь всеми лапами, вниз по течению; от его морды бежала тонкая струйка, ее тень на дне казалась золотой стрелкой, пущенной к морю.
И снова Тарка покинул воду и двинулся по суше, чтобы развеять свой запах. Он пробежал ярдов двадцать, когда на берег вылез Капкан, а за ним Весельчак и Данник. Собаки втягивали носом выдриный дух, стелющийся по земле. Тарка добрался до прибрежных деревьев, всего на одну длину тела опередив Капкана, и, как набухший чурбан, свалился в ручей. Капкан прыгнул следом, ляскнул зубами, но вода была другом выдре, и та скользящим грациозным движением увернулась от пасти, которая, сомкнись она на Таркиной голове, раздробила бы ему череп.
Могучие дубы не пропускали здесь солнечный свет, отражали эхом шум водопада. Ручей бежал, сужаясь, стремительным потоком, кружились воронки у покрытых водой камней. Гул становился все громче, неслись мелкие брызги. Тарку и Капкана мчало вперед. Через просвет в листве упал широкий солнечный луч и осветил дымку над падуном. Тарка скользнул вниз на тяжелых белых водных отвалах. Капкана швырнуло следом за ним. Оба исчезли в бурлящей пене. Но вот появилась маленькая коричневая головка и стала озираться, ища своего врага в порушенных пенных сотах. Рядом вынырнуло черно-белое тело; вытянув шею, гончая тщетно пыталась выбраться из потока, который тащил ее вниз. Тарка был господином водоворотов, они служили ему игрушкой. Он радостно качался на волнах. Вдруг высоко над ним пропел рожок. Вновь отдавшись течению, Тарка понесся вниз по ущелью в заводь, над которой громоздились к небу утесы, и стал искать убежища под кучей сочившихся влагой, заросших папоротником камней.
Он увидел под водой две ноги, рядом — два колеблющихся перевернутых их отражения, а над ними — расплывчатые очертания плеч и головы человека. Тарка свернул от рыболова обратно на стрежень, а когда поднялся, чтобы вдохнуть воздух, снова услышал звук рожка. По дороге на косогоре между егерем и выжлятником валила стая, перед ними бежали люди с кольями в руках; они торопились к мосту у подножия холма, чтобы устроить там заслон и не дать выдре уйти в море.
Капкан остался далеко позади. Он ослабел, хрипло дышал, был весь избит, голову покрывали ссадины, в глазах стоял туман, но пес по-прежнему плыл следом за Таркой. Тарка миновал еще одного рыболова, и крошечный перовидный крючок случайно вонзился ему в ухо. Закрутилась, разматываясь, вертушка: «ж-ж-ж-ж», — пока вся блестящая нить не прошла через пропускные кольца; удилище изогнулось дугой и вновь со свистом выпрямилось, когда лопнула леска.
Тарка увидел мост, под ним на камне фигуру человека и лица наверху. Услышал крики. Человек под мостом заорал, сдернул шапку и стал махать ею егерю, который, спотыкаясь на шатких камнях, спешил вместе со стаей по красной крутой дороге. Тарка вылез из последней заводи выше моста, пробежал по мшистому, уже залитому камню и скользнул у человека между ног.
— Ату его!
Когда Менестрель с плеском кинулся в ручей, Тарка успел миновать мост. Стая неслась через проем между концом парапета и склоном холма, голоса собак звенели под фермами, отдавались эхом от стен домов на высоком скалистом берегу.
Гончие прыгали в прозрачную воду среди гниющих автомобильных шин, битых бутылок, консервных банок, ведер, старых туфель и прочего выброшенного за негодностью хлама. Один раз Тарка повернул обратно; много раз он оказывался под ногами собак. Ручей был недостаточно глубок, чтобы прикрыть ему спину, и достаточно мелок, чтобы гончие могли двигаться вдвое быстрее его. Порой на Тарку наваливалась вся стая, готовая его разорвать, а затем маленькая головка появлялась у скалы, ярдах в десяти от сгрудившихся собак.
Между валунами и скалами, обросшими ракушками и космами морских водорослей, мимо изъеденных червями столбов, отмечавших во время прилива фарватер рыбачьим лодкам, выдра уходила от гончих. С каждого столба стремительно взлетала чайка и сердито кричала на них. Наконец Тарка достиг моря. Медленно вошел в подернутую зыбью воду и нырнул, увернувшись от зубов Менестреля в тот самый миг, как через стаю пробежал Капкан. Гончие заплыли за полосу прибоя, егерь погрузился по пояс, прочие остановились у кромки лениво плещущих волн. Говорили, будто выдру загнали чуть не до смерти и, возможно, ее носит теперь где-нибудь у отмелей. Прошло еще несколько минут, и егерь вынул из-за пазухи рожок. Только он набрал в легкие воздух, задержал дыхание и сложил губы, чтобы протрубить четыре долгие ноты отбоя, как в ярде от Капкана вынырнула бурая голова со свирепыми темными глазами. Тарка посмотрел на пса и прокричал: «Ик-янг!»
Голова скрылась. Подплыв под собаку, Тарка вцепился зубами в ее брылы и потащил под воду. Пес попытался вывернуться и укусить выдру, но ему это не удалось. На поверхность стали выскакивать пузыри: пес задыхался. Гончие не понимали, что происходит. Задние лапы Капкана слабо задергались в воздухе. Егерь с трудом подошел к нему и потянул к берегу, но Тарка разжал зубы, только чтобы передохнуть; набрав свежего воздуха, он снова подплыл под Капкана и снова схватил его. Лишь когда на Тарку набросилась вся стая, он выпустил своего врага и исчез в волнах.
Еще долго после того, как выжлеца откачали и стая повалила вверх по увалу холма, чайки летали над морем у устья ручья. Иногда одна из них опускала желтые перепончатые лапы, чтобы сесть на воду, и всякий раз, вспугнутая щелканьем белых зубов, снова взмывала вверх, в беспокойно кричащую стаю. На горизонте шел грузовой пароход, волоча по небу длинный хвост дыма. Над побережьем Уэльса клубились низкие тучи. Монотонный глухой шум гребного винта доносился в мирной безветренной синеве туда, где лежал Тарка, довольный и сонный, однако не терявший из виду бледно-желтых, глаз ближайшей птицы. Наконец чайкам надоело глядеть на него, и они улетели обратно к столбам. Перевернувшись на живот, Тарка зевнул, потянулся и спокойно поплыл вдаль.
16
Тарка плыл на закат. Он заметил расщелину в высоком красном утесе и скользнул туда на гребне волны. Волна разбилась, не дойдя до дальнего темного края пещерки; Тарка взобрался повыше, на выступ, куда не доставал прибой, и свернулся на холодном камне. Проснулся он, когда бакланы и чайки летели с тихого, как сумерки, моря на утес, где был их ночлег. Внизу, в каменных чашах между скалами, уже поднялась крутая зыбь — начинался прилив; среди зеленых и красных водорослей забегали в поисках пищи креветки и крабы. Внезапно недвижные прежде водоросли разметались под ударами выдриных лап. Тарка нашел краба, вылез с ним из воды, но краб оказался горьким, и, бросив его, Тарка двинулся на глубину.
С вечерним приливом к берегу подошла стая сельди, за которой следовали дельфины; когда они всплывали наверх набрать воздуха, их черные шкуры поблескивали в волнах. Некогда у этих теплокровных млекопитающих были уши, лапы и шерсть, но теперь их ушные раковины сделались крохотными, как острие колючки, а пятипалые лапы превратились в ласты. Их предки, в стародавние времена принадлежавшие к тому же клану, что предки выдр и тюленей, рано ушли в море и приспособились к жизни в новой стихии, когда тюлени еще ходили по суше. Детенышам, рожденным под водой, не нужна материнская спина, чтобы подниматься к животворному воздуху, ибо наследственная привычка превратилась у них в инстинкт.
Старый самец подпрыгнул с откоса волны неподалеку от Тарки и упал с громким плеском на спину, чтобы стряхнуть с кожи рачков-паразитов. Рядом самка кормила дельфиненка. Лежа под ней брюхом кверху, он вдыхал воздух, когда мать всплывала и кувыркалась. Тарка поймал сельдь и с удовольствием съел ее, сидя на камне, но, когда нырнул еще раз, увидел, что рыба ушла.
Неделю Тарка спал в заброшенной печи для обжига извести на лугу над ручьем, который спускался с небольшого отрога, куда не достигал прилив. В то время как выдра обследовала верховья, над болотами и пустошами прошли дожди, ручей вздулся, и Тарку вынесло обратно в море мутным ревущим потоком. Он направился на запад под высоким береговым обрывом, откуда каскадами низвергалась вода; днем отдыхал на поросших папоротником увалах.
Однажды Тарка проснулся от каких-то ужасных, невнятных звуков, которые струились по ветру высоко над ним. Он приподнял голову и услышал свист — казалось, с неба устремились на жертву соколы. С грохотом посыпались осколки камней, затем в воздухе мелькнули олень и три гончих и свалились со скалы. Снова наступила тишина, но скоро утесы зазвенели от криков морских птиц и галок. Слетелись вороны и канюки. В воздухе мелькали черные, белые, бурые крылья, раздавалось карканье, призывные крики и пронзительный визг. Около часа птицы дрались, отталкивая друг друга, но вот из-за восточного отвеса берега показалась моторка с человеком в красной куртке и распугала их. Увидев Тарку, спускавшегося с выступа, чайки окружили его шумной стаей, но он добежал до моря и нырнул. А ночью, когда, сидя на валуне, он ел угря, ветер донес до него запах Белохвостки.
На рассвете Тарка уже плыл у подножия Большого палача; он шел по следу, пока восходящее солнце не усеяло бликами морскую гладь, не напоило золотом эфира облака над холмами Уэльса.
В сумерках крысы, рывшиеся в водорослях, которые отлив оставил на побережье Дикой груши, дружно запищали, втянув острыми носиками мускусный запах «водяных ласок». Стуча зубами, они кинулись врассыпную, когда среди них промчались галопом их самые страшные враги. Вот одна крыса взлетела в воздух и вновь упала, прокушенная насквозь. Выдренок не был голоден, он убил ее просто так, для забавы. Затем нырнул за Белохвосткой, которая заботилась о выдрятах с тех самых пор, как их мать попала в капкан под водопадом.
Шесть часов спустя на побережье появился Тарка. Его свистящие, резкие крики пронзили плеск и удары волн на узкой прибрежной полосе из крошеного глинистого сланца. Тарка прошел по следу до выдриной постели под скалой и опять сбежал к морю. В заводи за Шиповниковой пещерой он снова почуял выдру. На дне лежала плетеная ловушка — верша с чем-то, что медленно поворачивалось то туда, то сюда вместе с лентами водорослей. Из щелей между прутьями торчали щупальцы темно-синего омара. Наевшись до отвала, омар пытался выбраться наружу, оставив выдренка, которого он пожирал. Выдренок не нашел выхода из верши, куда залез во время прилива, намереваясь съесть омара.
«Хью-и-ик!» Тарка не знал, что такое смерть. Ему никто не ответил, и он поплыл дальше среди мерцающих точек, испещрявших зыбь.
Бабье лето осеннего равноденствия, когда из поднебесья на папоротники звонкой трелью льется грустная песня жаворонка, внезапно сменили бури. Они срывали с деревьев листья, с ревом взбивали воду, закручивали барашки и развешивали на скалах белопенные гирлянды. Звезды и верхушки утесов все глубже тонули в туманной мгле, пока Тарка двигался на запад. Как-то ночью, когда он пил в заводи под небольшим падуном, его напугало громкое завывание; оно откатывалось от стен тумана, отголоском звучало вдали и опять возвращалось чуть слышным эхом, словно призрачные гончие вели во тьме гон. Тарка скользнул в воду и спрятался под водорослями, но мерные звуки не приносили вреда, и он перестал их замечать. На Бычьем мысу, на камне под белой башней маяка, сирены которого оглашали море, предупреждая моряков о смертоносных рифах, Тарка снова нашел след Белохвостки и радостно засвистел.
Так, пробираясь под каменистыми осыпями по бухточкам, где валялась ржавая обшивка разбившихся кораблей, Тарка дошел до конца земли. Занималась заря. Торчали из серого моря скалы, вспарывали, белили бурунами прилив, идущий через залив от Кошельного мыса к мысу Морт. Одна скала возвышалась над всей грядой — это был Утес смерти. На его вершине стояла большая черная птица, из глотки которой торчали рыбьи хвосты. Ее мокрые крылья были раскинуты в стороны, чтобы уравновесить набитый зоб. Это был большой баклан, прозванный рыбаками Пастором. Каждый день до наступления сумерек он стоял в этой неудобной позе на Утесе смерти, покачиваясь под грузом проглоченной рыбы.

Утес смерти и Пастор на вершине.
Устав бороться с валами, что накатывали с океана, Тарка повернул у Утеса смерти и поплыл к земле. По угорью, покрытому ломаными корнями кермека и осколками серого камня, взобрался на тропу, отгороженную со стороны моря железным тросом. Соленые ветры разъели железо, превратили его в ржавую труху. Вереск над тропой оказался крепче железа, но его побеги были еще более обнаженные, чем корни.
За гребнем мыса, где не так разгуливал ветер, вереск стелился низкими кустиками. В зеленых впадинах, среди пощипанной овцами травы, росли грибы, крапчатые, как совиное оперенье. Небо все розовело, и Тарка нашел себе укрытие под разрушенным кромлехом — местом погребения доисторического человека, чьи кости давно обратились в прах и проросли на солнце вереском и травой.
Весь день Тарка проспал в тепле, а на закате сбежал вниз, к морю. Он плыл к югу наперерез течениям, которые вымывали в круче похожие на раковины бухты и неслись мимо скал в широкий залив. Длинные волны разбивались на отмелях, оставляя пену, похожую на грязно-белых тюленей. В барашках плавали окуни, ловили песчанок, поднятых прибоем со дна. Реявшая высоко в небе чайка увидела трепыхавшуюся на отмели рыбу и бурую ленту водорослей над ней. Чайка плавно скользнула вниз, но тут бурая водоросль стала на короткие лапы и втащила пятифунтовую рыбу на твердый сырой песок. «Кэк-кэк!» — сердито закричала чайка. «Тью-лип, тью-лип!» — галстучники вспорхнули и, трепеща крыльями, полетели всей стаей прочь. Появились новые чайки, сели рядом. Тарка пировал под шум крыльев и пронзительный визг. Насытившись, попил воды, тонкой струйкой текущей по широкому и мелкому песчаному руслу. «Хью-и-ик!» Он помчался галопом, опустив нос к земле. Взбежал на дюны, задевая сухие коробочки дикого ириса; оттуда посыпались круглые оранжево-красные семена. Мимо пустынной дороги, между засохшими стеблями крестовника и ворсянки, вверх по увалу к невозделанной вершине холма, сквозь папоротник, утесник и куманику спешил он по следам Белохвостки. Нашел голову кролика, которого она поймала, и поиграл ею, катая в лапах и свистя.
Песни жаворонков смолкли. Когда Тарка достиг вершины Пикуэльских песков, облака на востоке уже зарделись румянцем, и Дубовый холм в семнадцати милях соколиного пути казался лежащей на земле тенью. Тарка спустился в глубокий овраг, где по сухому руслу до самых прибрежных дюн росли утесник, боярышник и падуб. Овраг шел на юго-запад, стволы склонились на северо-восток, горькие и низкорослые от соли и ветра. Под кустом падуба, рождающего изуродованные цветы и лишенные колючек листья, истерзанного плющом, толще в обхвате, чем обвиваемый им ствол, Тарка забрался в кроличью нору, расширенную многими поколениями ее владельцев, и улегся в темноте.
Ветер порывами тянул по оврагу, шевелил жесткие сучья терна, с писком тершиеся друг о друга. Трещали и скрипели сухие ветви бузины, словно жалуясь на свои лишения. Чайки с криком делали виражи от холма до холма над сгрудившейся далеко внизу отарой. Под тусклым небом поблескивал песок. Вдоль всего темного основания мыса тянулось белое кружево бурунов. Ветер нес по оврагу брызги и рев моря. Тарка спал.
Проснулся он около полудня от голосов людей. Между увалами плыл туман. Тарка лежал неподвижно. Вот у посветлевшего входа что-то сказал человек, и в нору пополз зверек; Тарка встревожился: он вспомнил его запах. Глаза зверька мерцали розовым светом, на шее тенькал колокольчик. Тарка отполз подальше и выбрался через другой вход, за которым следил мокрый, дрожащий спаниель, сидя на взгорке за спиной человека с ружьем. При виде выдры спаниель отскочил, и Тарка заскользил вниз по оврагу, еще прибавив ходу, когда раздался лай, крик и два выстрела. Дождем посыпались веточки, но он продолжал бежать, скрытый колючим кустарником. На дно оврага, цепляясь за ветки деревьев, спустились двое мужчин, но за Таркой последовал один спаниель. Пес яростно лаял, однако не осмеливался подойти. Хозяин свистнул ему, и спаниель вернулся. Тарка спрятался под кустом куманики и уснул. Когда стемнело, он вылез из-под веток и стал взбираться по склону.
В поле, за изгородью, Тарка напал на кроличий след и кинулся по нему через согнутый ветром боярышник за каменную насыпь и снова на пустошь. Кролик лежал за кочкой, припав к земле; Тарке хватило одного укуса, чтобы его убить. Наевшись, Тарка попил дождевой воды из овечьего черепа, который валялся среди ржавых плужных лемехов, старых чугунных чайников, консервных банок и скелетов овец; часть из них была растерзана собаками и все — очищены от мяса воронами и воронами. Тарка поиграл овечьей лопаткой, потому что до нее мимоходом дотронулась Белохвостка. Бросившись на холодную кость, он цапнул ее зубами, словно это была его подруга. В ту ночь, пересекая насыпи и поля, Тарка находил для себя много игрушек.
След привел его к пруду в топком поле у подножия холма. Тарка нырнул, распугав камышниц. Поймал угря и поиграл с ним; на следующее утро дохлого угря нашли на илистом берегу рядом с оттисками когтистых лап и шерсти — там, где выдра каталась на спине. «Хью-и-ик!» Пройдя по трубе, несущей тонкую струйку воды в другой прудок, поменьше, Тарка оказался в саду приходского священника. «Хью-и-ик!» — вновь раздалось под ночным небом, где тучи то и дело застилали луну.
Тарка обогнул пруд и прополз через дыру под стеной в дальнем конце сада. За ней тек ручей. Он проходил вдоль кладбищенской ограды и бежал дальше, мимо домика с соломенной крышей, где перед очагом с кленовыми головешками сидели человек, собака и кот. Ветер занес в щель под дверями дух выдры, и кошка злобно зафыркала; распушив на спине шерсть и ударяя хвостом, она замерла у корзинки, в которой лежали котята. Когти выдры заскрипели по гальке у плоского камня, откуда, стоя на коленях, фермерские дочери промывали свиные потроха для мясного пудинга. Под камнем жил угорь, разжиревший на перепадавшей ему требухе. Высунь он хвост чуть подальше, Тарка схватил бы его зубами. Белохвостка тоже пыталась поймать угря в предыдущую ночь.
— Хью-и-ик!
Дверь домика распахнулась, мой спаниель с лаем выскочил наружу. «Скиррр!» — с подрезанной ветви вяза на кладбище взлетела сова. Из трубы под дорогой донеслось сердитое шипенье выдры. Я зажег спичку и увидел на красной грязи оттиск лапы с двумя когтями, точно такой же, как тот, что вел в море после Студеной Зимы.
Тарка исчез. Его путь пролегал в темноте и журчании по узкому укрытию трубы, по ручью возле палисадника у дома фермера, по другой трубе и вновь по ручью мимо фруктового сада, к заливному лугу внизу. Совы, охотившиеся вдали от моря, в долине, слышали пронзительный свист выдры.
— Хью-и-ик!
Часто след Белохвостки терялся: после того как здесь прошли выдры, дождь прибил песок и размыл отпечатки их лап.
Тарка двигался по ручью. У деревушки Крайд за поворотом дороги была запруда, на ее травянистых берегах рос боярышник, подстриженный в форме гриба-поганки. Пробираясь по краю пруда среди дикого ириса, корней боярышника и явора, Тарка увидел голову, глядящую на него из воды; от головы струился приятный запах. Тарка кинулся к ней — это была стоящая торчком коряга. Проплывая мимо, о нее потерлась Белохвостка. Тарка куснул корягу и направился дальше, понюхал деревянный затвор шлюза, вылез наверх и побежал по берегу мимо неподвижного, покрытого мхом мельничного колеса. Внизу, в гостинице, люди слышали его пронзительный свист. Залаяла собака, и Тарка свернул на узкую проселочную дорогу, которая поднималась на вершину холма. На сырых, истоптанных копытами участках дороги он снова напал на след — выдры пробегали тем же путем, вспугнутые той же собакой. Отпечатки вывели его в поле через насыпь, где в лунном свете чернели прямые стебли коровяка, на забывшую плуг стерню, колючую для перепончатых лап выдры. Морской ветер переломал здесь весь папоротник.
Внезапно Тарка услышал громкое бормотанье бурунов, увидел маяк за Увалами и радостно понесся по жнивью. Он бежал так быстро, что вскоре стоял на краю песчаных взлобков, куда залетали брызги прибоя. Спустился вниз по уступам, поросшим левкоем, — его листья уже рассыпались прахом в осеннем сне.

Тарка в Увалах на пути к эстуарию.
След шел через дюны с остриями песколюба к мшистым изложинам, где тянулись к небу бирючина и тупоголовый камыш. То и дело попадались кроличьи черепа и пустые раковины улиток. Тарка пересек Лошадиную топь — поташник, который там рос, возник из одного-единственного семечка, занесенного много лет назад с идущего по Атлантике грузового судна, — и добрался до дамбы перед входом в Брэнтонскую губу. Прилив принял Тарку на лоскутья пены, взбитой Двумя Реками, — здесь они встречались и болтали между собой. Тарка пробежал по западной дамбе и двинулся по выдринной тропе к пруду Бараньи Рога.
— Хью-и-ик!
Подплыл к деревянному мостику у сарая для лодок, к ракитам на островке.
— Хью-и-ик!
Тарка охотился в солоноватой воде, пока рассвет не притушил звезды; тогда он протиснулся сквозь тростники путем, которым ходил прежде, хотя и забыл об этом, и уснул в старом гнезде, где лежали кости и небольшой череп.
17
Весь день раскачивались на ветру, грозили небу ржавые кинжалы тростника, без устали кивали головки рогоза. К закату гнездо опустело. Пурпурные лучи окрасили багрянцем траву на лугу, черепичная крыша коровника над дамбой стала того же оттенка, что небо. На западе все — одинокий дом, глинобитный сарай, деревья, живые изгороди, низкие, неровные очертания Увалов — растворялось в огненной мге.
Шел отлив. По серому илу бежали тонкие красноватые струйки. В соленой грязи под дамбой змеились широкие трещины, полыхая небесным огнем. Бегали, заглядывая туда, песочники и галстучники, их легкие тени гасили пламя, горящее на воде. С водорослей на каждом намокшем насесте стекали последние капли, таяла пена, всасывались в песок воронки — море откатывалось назад. Болтались, кружились стоящие на якоре бочонки-буи, собирали вокруг себя кипень, которую тут же уносило течением. Возле старой, поломанной верши для крабов, чуть выступавшей из-под воды, без малейшего плеска возникла небольшая голова и двинулась дальше с отливом. По палубе парусника ходили люди; другие, дожидаясь товарищей, сидели на веслах в лодке у трапа. Залаяла собака, лай перешел в визг; она скулила, пока ее не спихнули за борт. Из воды поднялся фонтан красноватых брызг.
Люди спустились в лодку, разом ударили весла; собака, тяжело дыша и подвывая, поплыла за кормой. Выдру поднесло к ним поближе, и один из людей показал на нее чубуком. Выдра скрылась. Ярдов через пятьдесят ее голова появилась возле якорной цепи, которая свисала с носа суденышка, танцующего на волнах, а рядом с ней — ломаная верша. «Выдра», — сказал человек с трубкой, и тут же забыл про нее. Рыбаки направлялись в трактир «Плуг» пить пиво.
Когда они вышли на дамбу, голоса их стали едва слышны. Над илом и водой порхали, вились стаи куличков. Взлетела замешкавшаяся ворона; вдоль дамбы, чуть не касаясь длинными крыльями жухлой травы, проплыла сова и пропала в небе.
Там, где губа расширялась, ил был смыт с песка и гальки. Ниже каменного водобоя дамбы, красневшего листиками приморской свеклы в щелях булыжника и брусчатки, был островок из плоских камней. Его отделяла от дамбы узкая протока, по которой с шумом стремилась вода. На камнях стоял Старый Ног, следил, не блеснет ли чешуя. По протоке несло, качая и стукая о берега, крабью ловушку, и на глазах у цапли из нее выпрыгнула рыба. Старый Ног уставился вниз, в сумрак, где колыхались темные водоросли, и увидел, что за рыбой гонится сужающаяся сзади тень. Рыба была бирюзово-желтая, длинный спинной плавник струился за ней, как вымпел. Старый Ног выхватил яркую рыбку под самым носом у Тарки, подбросил, поймал резким движением, от которого она проскользнула ему в горло, и проглотил, а выдра все еще искала ее.
Тарка заметил над собой движущееся пятно и, не поднимаясь на поверхность, поплыл в море.
Краски поблекли, прибой стал серым. Далеко за болотами на белой башне маяка загорелся светлячок. От эстуария опускалась по спирали какая-то птица, описала круг перед островком, села и стала искать корм. Это был кроншнеп. Он увидел Тарку, из загнутого книзу клюва вырвалось «карканье», перешло в свист и закончилось затихающей вдали громкой трелью. Кроншнеп улетел. Сородичи на дюнах услыхали его сигнал, и их звонкие крики расцветили гаснущий день до самых дальних берегов.
Ниже островка из воды торчали ряды черных, обвитых водорослями плетней, укрепленных с помощью кольев. Они загораживали заводь с трех сторон, во время прилива их затопляло водой. Это была старая Лососья запруда. Плетни столько раз срывало якорями, опущенными с барок и парусников, команды которых дружили с рыбаками, ловившими рыбу сетью, что владелец запруды забросил ее. С плетней «удили» рыбу цапли, а при отливе вороны склевывали с кольев моллюсков и разбивали их, роняя на камни.
Когда прилив остановился, Старый Ног подлетел к седьмому плетню в западном ряду, где всегда отдыхал во время отлива, если не слишком объедался, не был влюблен или потревожен человеком. Он стоял, покачиваясь и изгибая шею; его хватка уже не была такой цепкой, как прежде, когда он садился на вершины деревьев. Только он собрался перепрыгнуть на песчаную отмель, как из лагуны сверкающей дугой выскочил лосось и с глухим стуком шлепнулся обратно. Старый Ног пронзительно вскрикнул и свалился с плетня. Снизу выглянули три морды и тут же скрылись. А Старый Ног побрел вдоль плетней, глядя себе под ноги. Лосось был во много раз тяжелее Старого Нога, но лосось — рыба, а цапля — рыболов.
Тарка плыл мимо запруды, когда услышал позади плетней свист Белохвостки. Высунулся наружу, прислушался.
— Хью-и-ик!
Раздался ответный свист — голодный, жалобный, скулящий; такой звук издает стекло, если по нему провести мокрым пальцем. Свист Тарки был ниже, более глубокий и звучный. Тарка пересек узкую полоску песка, перебрался через плетеные загородки. Нырнул; по запруде пошли круги. Отпечатки его лап на песке расплылись, наполнились водой.
«Кэ-эк!» Старый Ног от возбуждения отрыгнул еще живую пескарку — лосось выпрыгнул снова, сверкнула дуга. У хвоста рыбы щелкнули зубы Белохвостки. На поверхности возникли три выдриные головы, плоские, как пробочные поплавки лососьей сети, и опять исчезли, еще прежде, чем раздался двойной всплеск.
Лосось, разрезая воду, промчался между выдрятами. Те, как один, ринулись вслед. Тарка вклинился между ними и, приноравливаясь к детенышам, замедлил скорость. Белохвостка, более быстрая, чем Тарка, догнала их, и обе взрослые выдры поплыли по краям, замыкая ряд. Строй поворачивая то правым, то левым флангом, когда какая-нибудь из них вырывалась вперед. Выдрята в нетерпении натыкались друг на друга. Лосось снова бросился назад, навстречу течению, стремясь добраться до верхних плетней, где было глубже и безопасней. Тарка встретил его, лосось повернул, удар хвоста разбил воду. Выдры, не разрывая цепи, загнали рыбу на мелководье у нижних плетней. Она стояла в двух футах от дна, но, когда они кинулись на нее, ушла, проскользнув мимо одного из выдрят.
Прилив отступал, вода убывала, обнажая верхний ряд загородок; вскоре показалось дно. По промоине в песчаной банке несся поток, по мере того как осушалась лагуна, он делался все шире. Лосось стоял запертый в верхнем конце запруды так неподвижно, что креветки, спрятавшиеся в песке рядом с ним, вылезли из своих убежищ. Рыба отдыхала, открывались и опадали жабры. Тем временем к ней подкрадывалось по отмели какое-то странное приземистое существо. Похожее на огромного головастика, с которого, словно водоросли, свисала кожистая бахрома, оно передвигалось на грудных плавниках, как на лапах. Голова напоминала бочонок с ртом-щелью во всю ширину. По краю челюстей шел частокол длинных, острых зубов, которые загнулись внутрь, как только чудище закрыло пасть, приближаясь к лососю. На голове торчали три подвижных луча, на конце первого луча был придаток, которым он размахивал, как приманкой. Это был морской черт, рыбаки называют его «удильщик». Покинув привычные ему глубины, он вошел в эстуарий вместе с сизигийным приливом и, попав в лососью запруду, оказался в ловушке.
Морской черт двигался очень медленно, и лосось не догадался, что перед ним враг. Близко посаженные глаза над огромным зубастым ртом были прикованы к рыбе. Позади поплыли цепочки пузырьков, замаячили силуэты выдр. Лосось взметнулся со дна и попал в пасть-пещеру; поднялись острия зубов, и челюсти сомкнулись.
Выдры трижды обогнули лагуну в поисках лосося, затем забыли про него и тронулись вниз вместе с отливом. Над эстуарием сияли звезды, парили в воздухе крики бродящих по мелководью птиц. Выдр несло в море мимо белого домика на дамбе, мимо безмолвного темного госпитального судна — лишь в одном иллюминаторе мигала свеча — к длинной косе, за которой были дюны, поросшие песколюбом. Здесь они вышли на берег и затеяли шумную возню. В то время как выдрята катались по песку и кусались, Тарка и Белохвостка играли в прятки — делали вид, будто ищут и не могут найти друг друга. Взбегали на дюны и спускались на брюхе вниз. Подбирали палочки, пустые оболочки яиц ската, старые кости, перья морских птиц, пробки, принесенные приливом, и высоко подбрасывали их лапами. Прятались между подушками трагаканта и внезапно выскакивали из-за них.
На мокрые отмели падали лучи маяка, горели красными угольками огни деревни за заводью. «Крю-лик, тлюи-тлюи-ик!» Кроншнепы видели, как выдры подплыли к Шрарской излучине. Белохвостка и Тарка наелись мидий у черно-белого полосатого бакена и двинулись вместе с выдрятами к затонам у нижней гряды.
Лососи, неудержимо стремясь на нерест в пресных водах, где они родились, шли вверх по фарватеру, а следом за ними — тюлень; он вырывал зубами кусок из брюха каждой пойманной им рыбы и оставлял ее, чтобы погнаться за другой. Тарка притащил одну из раненых рыб к скалам, и выдры содрали с нее чешую, так им не терпелось добраться до розового мяса. Они отрывали слой за слоем, начиная с загорбка, роняя куски, чтобы слизать свернувшуюся рыбью кровь, налипшую в уголках рта. Тарка и Белохвостка ели спокойно, но выдрята «гирркали» и рычали. Когда они обглодали рыбу до костей, мордочки их серебрились от чешуи. Выдры — чистюли, поэтому они помыли подбородки, усы и уши, а потом напились в пруду за домом, стоящим на дамбе.
Четыре выдры лежали в тростнике, отдыхали, дремали, а дождь рябил серую водную пелену. Клонились под ветром к земле стебли дикого сельдерея. Тучи сгустились; вода, побуревшая от паводка в верховьях рек, чуть не переплескивала через дамбу. Только тогда выдры покинули пруд.
С приливом в губу поднялась кефаль, и один косяк, чуть не в сотню рыб, проплыл через дренажную трубу под дамбой. На исходе ночи выдры, пожиравшие угрей в окаймленных тростниками рвах, где текла с холмов пресная вода, нашли этот косяк в котловине в углу Лошадиной топи. Два часа подряд они гонялись за рыбой, а когда вся рыба была перебита, Тарка и Белохвостка вернулись с отливом в море, оставив молодых выдр на самостоятельную жизнь.
Следующая ночь выдалась безветренной и тихой: ни плеска, ни журчания в широкой заводи, по которой огни деревни змеились, как серебряные и золотые угри. Звуки далеко и отчетливо разносились над спокойными водами, и рыбаки, которые стояли кучками на набережной после закрытия пивных, слышали жалобный свист молодых выдр, блуждавших в миле от деревни по берегу, где попискивали галстучники. Свист раздавался три ночи кряду, а затем с юго-запада пришел шторм, и в эстуарии загрохотали валы.
Черные лоскутья листьев кружились и кувыркались в разлившейся запруде над Протоковым мостом, как кружатся и кувыркаются грачи высоко в сером ветреном небе. Светило солнце. Плотина при паводке напоминала ткацкий стан: падающая вода — основа ткани — была желто-белая от пузырей; взад-вперед поперек водослива сновали воздушные пустоты — нити утка, тянущиеся за сверкающим челноком. Внизу вытканное воздухом водное полотно с треском рвалось на камнях, нанесенных разливом; волны взлетали, ревели, бросали вверх пену и брызги. На гребне плотины застряла ветка, камни ободрали с нее всю кору. То и дело на струящихся нитях основы мелькали узкие грифельно-серые тени, длиннее руки человека; они медленно шли навстречу потоку, ударяя из стороны в сторону хвостами, пока их не сносило вниз, в толчею волн, ревущих, как полярные медведи во время драки.

Лосось у рыбохода Оленьей плотины во время разлива реки Торридж.
Лососям никак не удавалось добраться до гребня. Некоторые рыбы пытались подняться по рыбоходу, но здесь, на перепадах ступеней, напор паводка был еще сильней. Наверху по запруде, почти уйдя в воду, плавала птица, следила ярко-красными глазками, не мелькнет ли форель. Клюв — острый, как осколок камня, оперенье — коричнево-черное сверху и серо-пенное внизу. Это была чернозобая гагара в зимнем наряде. Когда Тарка увидел ее с берега, она покачивалась на волнах, расправляя то одно, то другое крыло. Выдра испугала гагару; она наклонилась вперед и пропала — быстро, как сверкнувшая на повороте рыба, не оставив следа. Когда же она вновь вынырнула, выдра исчезла. Птица вытянула вперед голову и шею и торопливо поплыла вверх по реке. У верхнего конца запруды гагара увидела другую выдру и с испуганным жалобным криком, загребая концами маховых перьев воду и подымая брызги, побежала, чтобы подняться с разгона в воздух. Взлетела все еще с вытянутой шеей и, проворно и часто махая крыльями, понеслась за излучину.
Тарка и Белохвостка, привлеченные паводком и солнцем, пришли из лесу днем поиграть. Тарка перевалился через гребень плотины; желто-белая сумятица воды, швыряя из стороны в сторону, снесла его вниз. Через минуту вверх по бетонному водосливу стала медленно двигаться узкая грифельно-серая тень, за ней, увереннее, другая, еще темнее — выдра. Рыба и зверь с трудом продвигались вперед, казалось, они повисли на водной ткани. Но вот Белохвостка отдалась сверкающей гладкой кривизне потока. Миг — и обе, выдра и рыба, исчезли. Стремительная пенная баламуть вынесла их на прибрежные камни в сорока ярдах оттуда; там через час инспектор рыбнадзора и нашел тридцатифунтовую рыбу, которая шла в пресную воду на нерест. Ее жаберные крышки обросли коркой океанских моллюсков, на загорбке зияли рваные раны: выдры свершили свой свадебный пир.
Остались позади ноябрь, декабрь, январь, февраль — хотя выдры знают только день и ночь, солнце и луну. Белохвостка и Тарка следом за лососем добрались до верховьев большой реки, но в начале нового года снова спустились поближе к устью. Проплыв с отливом под Полупенсовым мостом, они пересекли пойму до заводи Шести цапель, посреди которой чернели быки Железнодорожного моста. Сразу за мостом было устье ручья, размываемое морем, и сюда-то и свернули выдры. Белохвостка сызмала знала здешние места. Она возвращалась в Приют Ясеней-Близнецов за мельницей, в котором была рождена.
Выдры доплыли до заброшенной кроличьей норы выше того места, куда достигал прилив. Нора обвалилась, и в ней хозяйничали мыши, поэтому выдры не остались в ней на день и продолжали свой путь. В миле от реки вода притока сделалась пресной и чистой. Еще одна миля, и они встретились с другим ручьем. Белохвостка двинулась по левому и вскоре достигла «горки», где играла в детстве с братьями много счастливых ночей подряд, взобралась наверх и очутилась в знакомой запруде, узкой, почти не видной за деревьями. Выдры миновали шесть сосен, зашли за поворот и увидели перед собой два ясеня, склонившихся над ручьем. Один был обвит плющом, другой порос мохом. Паводки вымыли землю из-под корней, и под обрывом берега образовалась темная пещера. Белохвостка забыла рев гончих, тявканье фокстерьеров и глухие удары железного лома над головой, спугнувшие пятерых выдрят в воду. Помнила она другое: ночную охоту на окуней за мостом в заводи Шести цапель, лягушек в болоте, форель и бычков в Данцевом ручье, угрей в мельничной запруде. К ним она и возвратилась.
…Оделись листьями бузина и жимолость, забелели среди дубов лепестки дикой вишни. Зеленый чистотел черпал с неба светлое золото солнца, переплавлял его в цветы. На дубах и ясенях почки еще не распустились, эти многовековые стойкие деревья не так легко меняют свое обличье, как всякая мелкая поросль.
В первый день марта зимородок Алцион промчался вверх по ручью и, ударив клювом в песчаный отвес берега, порхнул в сторону. Его подруга, летящая следом, выщипнула еще одну щепотку земли — так был сделан «порог». Птицы выдолбили норку длиной в человечью руку — туннель с круглой пещеркой на конце. Там среди рыбьих костей и хитиновых надкрылий водяных жуков вскоре появились семь белых, блестящих овальных яичек.
Вернулись к своим затопленным домикам в крутых песчаных откосах ласточки-береговушки. На третьей неделе марта черная ворона, безмятежно сидевшая в гнезде из веток наверху одной из шести сосен, что росли над заводью, уловила первые «тук-тук» в своих пяти яйцах, увидела кончик крошечного клювика, проклевывающего верхушку зеленой, в черных крапинах скорлупы. С вершины сосны полилась гортанная и нежная воронья песня. Белохвостка услышала ее в то время, как кормила детенышей в Приюте Ясеней-Близнецов. Каждую ночь Тарка приплывал сюда из заводи Шести цапель, чтобы повидать ее.
Мартовские ветры принесли с моря серые дожди, река вздулась, вобрав воды всех разлившихся ручьев и притоков. Лососи, истомленные нерестом, падали хвостом вперед через гребни плотин, по каскадам и лестницам рыбоходов; Тарка без труда ловил их в ямах под берегом и в водовертях. Вытащив на сушу, выдирал кусок вялого, безвкусного мяса и больше не трогал. Многие рыбы, добравшись живыми до устья, попадали в сети браконьеров возле рыбачьей деревни. Их оглушали и снова швыряли в море. Рыбаки ненавидели инспекторов рыбнадзора, которые следили, чтобы лосося не ловили в неположенное время, и тайком убивали рыбу. Они не верили, что лосось нерестится в пресной воде у верховьев рек, считали это сказкой, выдуманной, чтобы не дать им вылавливать рыбу круглый год.
Вот на дубах и ясенях лопнули почки, брызнули листки; канюки подправили старые гнезда и отложили в них яйца. Перестали жалобно кричать и хлопать крыльями молодые цапли-слетки, много дней учившиеся летать, и покинули свое гнездо на вершине дерева в лесу возле Полупенсового моста. Однажды под вечер в июньские сумерки Старый Ног и его подруга слетели в заводь у Железнодорожного моста, чтобы преподать своим четырем уже оперившимся птенцам первый урок рыбной ловли. Кроншнепы увидели темные ровные крылья, скользившие над топкими берегами, и подняли тревогу: они боялись острых клювов цапель. Каждый год отец и мать учили птенцов ловить рыбу в заводи, спокойной и неподвижной после того, как отступало море.
Шесть цапель стояли в ряд в восьмидесяти ярдах от моста на песчаной отмели в верхней части заводи. «Кэк! Кэк! Кэк! Кэк!» — нетерпеливо и восторженно вскрикивали молодые цапли. Стемнело; сумрак укутал широкую, пустынную реку, слабо мерцала вода — зеркало неба. Внизу, у круглых черных быков моста раздался всплеск. Старый Ног поднял голову, он ждал этого звука, возвещавшего, что окуни вышли на кормежку.

Старый Ног с семейством в заводи Шести цапель.
Плюх! Плёх! Плюх! Голодная рыба, одна за другой устремлялась наверх в погоне за рачками. Окуни постились весь день, с того самого часа, как поднялись с приливом к Полупенсовому мосту, и до того, как вернулись в заводь с отливом мимо удильщиков, сидящих на берегу. Обычно люди уходили домой ужинать прежде, чем наступало время ужина у рыбы. Вот тогда-то и появлялся мудрый рыболов Старый Ног со своим семейством; они стояли недвижно, дожидаясь, когда окуни заплывут на мелководье и, сверкая боками на крутых поворотах, начнут гоняться за мальками — плюх, плёх, плюх! Старый Ног втянул голову в плечи, внимательно глядел в воду и пощелкивал клювом. «Кэк! Кэк! Кэк!» — дружно кричали слетки, хлопая крыльями и спотыкаясь о свои длинные пальцы, так они торопились схватить серебристую рыбку.
«Гарк!» — сказал Старый Ног, проглотил окуня и оттолкнул четверку длинной шеей и клювом. «Гарк!» Молодые отошли подальше: отец еще никогда не говорил с ними так сурово. Один из них заметил мерцающий трепет — рыбу — и сделал шаг вперед; окунь увидел врага и ушел на глубину. «Гарк!» — резко крикнул Старый Ног, и птенцы застыли на месте.
Когда стемнело, в заводи послышалось чмоканье, словно кто-то втягивал ртом воду. Это кормились угри-самцы: тонкие, маленькие, цвета грязи, они встретят своих более крупных темно-синих самок только во время осенней миграции. Стремительно извиваясь, угри искали на мелководье рачков. Стоило одному из них мелькнуть возле клюва — «щелк!» — резкий удар, и угорь, сплетаясь узлом, взлетал в воздух и исчезал в горле цапли.
Железнодорожный мост длинным, низким пятном темнел на фоне чуть поблескивающих воды и неба. Плюх, плёх — шел по заводи окунь. Несколько рыб стояло у круглых железных быков, носом по течению, глядя вверх, не появится ли черной точкой рачок. Их прыжки эхом отдавались под фермами моста.
С тревожным криком пролетел в темноте напуганный чем-то песочник, который выискивал корм под илистыми откосами у пустынной Ланкарской губы. С галечного берега, где охотились цапли, ему ответил кроншнеп.
Чуть ниже моста в заводь впадал небольшой ручей; вода то намывала невысокие песчаные перекаты, то слизывала их с шорохом-бормотаньем. Плюханье, плеск — окунь кормился в водорослях на валунах за мостом. «Топ, топ, топ» — пять темных теней двигались по мягкому сырому песку у входа в губу. Топот затих, тени скользнули в заводь, еще невнятнее забормотал ручей. Белохвостка привела своих четырех детенышей из Приюта Ясеней-Близнецов.
Плесканье стало затухать — большинство окуней наелось до отвала. Но вот у груды камней мелькнуло что-то белое. Один окунь поднялся, чтобы схватить рачка огромным ртом. Плюханье. Мерцанье. Плеск. Пузыри. Темная тень вылезла из воды с окунем в пасти. За ней, «гирркая» на валуны, три тени поменьше. Белохвостка опять нырнула в заводь.
«Крарк! Кэк! Арк! Кэк! Кэк! Кэк! Кэк! Кэк! Кэк! Кэк! Гарк! Кэк!»
Задрав головы, не спуская глаз с реки, цапли беседовали между собой. Они увидели трех выдрят, которые дрались за рыбу на груде камней, и две головы в воде между первым и вторым быками моста. Таркволь, старший из детенышей, плыл за Белохвосткой, потому что любил охотиться самостоятельно, и только в заводи Шести цапель встречал незнакомую большую выдру, которая весело гонялась за ним вокруг устоев, но никогда не кусала. Таркволь — выдренок-самец с двумя белыми пальцами на одной из лап — был сильнее других выдрят и часто, не зная того, причинял им боль во время игр.
Окуни движениями хвоста и плавников удерживались возле опор моста и смотрели вперед и вверх в тусклую воду. С боков и позади их окружал мрак. Таркволь и Белохвостка обогнули бык с двух сторон, уйдя глубже, чем окуни, чьи узкие силуэты четко вырисовывались у них над головой. Один окунь увернулся от Белохвостки, но тут же был схвачен Таркволем. Выдренок съел рыбу на зыбуне правого берега, подальше от остальных выдрят. Острый кончик спинного плавника уколол ему пасть.
Выдры ловили угрей у отмелей на глазах у голодных цапель; те без умолку сердито кричали низкими, хриплыми голосами. Когда выдрята наелись, они стали возиться на песке, убегая все дальше и дальше, пока не очутились позади цапель на гряде гальки, где торчали полузасыпанные коряги. Кроншнепы — те, кто не нашел себе пары и не улетел на вересковые пустоши и болота, — вспархивали с «горок» и уносились вдаль, приливную полосу.
— Хью-и-ик!
Таркволь, игравший с дырявой тульей шляпы — рыбаки всегда держали наживку в старых парадных котелках, — услышал свист и кинулся обратно в заводь. «Крарк!» — вскричал Старый Ног и взлетел перед ним, бороздя пальцами воду. «Кэк! Кэк! Кэк! Кэкк!» — его подруга и молодые цапли взлетели следом. Старый Ног перемахнул через мост, но, услышав шум прилива, повернул и понесся вверх по речной долине. Остальные цапли — за ним. С пронзительным «гарк! гарк!» он бросился на них. Старый Ног был измучен: много недель подряд он, голодный, отрыгивал почти все, что ловил, в прожорливые глотки уже оперившихся птенцов и частенько — в прожорливую глотку подруги. «Крарк!» — на этот раз довольно. Старый Ног остался один.
Всю неделю выдры приходили ночью в заводь, пока отлив, который с каждым разом начинался все поздней и поздней, не перешел на день, и охота прекратилась. Однажды вечером, когда лишь верхушка Кумжевого камня у Протокового моста виднелась во вздувшейся после грозы реке, Тарка, Белохвостка и четверо выдрят поднялись вслед за косяком кумжи к мельничной запруде. Они пробыли там до восхода солнца и поймали несколько рыб в уже опавшей и снова чистой воде. Приют Ясеней-Близнецов остался далеко позади, поэтому днем выдры отдыхали в вымоине под дубом, куда можно было попасть через вход под водой. На следующую ночь выдры двинулись дальше, они ловили рыбу и пожирали ее на камнях и мелях, а затем ныряли за новой добычей.
Таркволь плыл рядом с Таркой; выдренок был ловкий и быстрый, как его родитель, и иногда выдергивал рыбу у него изо рта. Они кувыркались и шумно возились, хватая друг друга пастью за хвост и голову, словно намереваясь укусить. Их радостный свист раздавался далеко по реке; донесся он и до Старого Нога, когда тот плыл по небу в меркнувшем свете луны.
На следующую ночь луна поднялась еще бледнее, и на рассвете Белохвостка повела выдрят вниз по течению, Тарка отправился дальше один, но повернул обратно и позвал Белохвостку к Протоковому мосту поиграть вместе в последний раз.
— Хью-и-ик!
Они играли в старинную игру, известную всем здешним выдрам еще до прихода римлян. Они гонялись друг за другом вокруг волноломов среднего быка, пока звезды не затопило небесным приливом, надвигающимся с востока, пока на горизонте не потемнели деревья, не взмыли с песнями жаворонки.
— Хью-и-ик!
Таркволь вылез вслед за Таркой на берег, не слушая призывов матери, и побежал по выдриной тропе к следующей излучине. Поплыл за отцом вверх по реке и вновь срезал путь через пойму до поворота, но тут, напуганный дневным светом, возвратился к воде и спрятался под явором. А Тарка продолжал подниматься по реке еще несколько миль и наконец подплыл к убежищу в тенистой запруде, где играла, прыгала кумжа. Солнце выглянуло из-за холмов, месяц садился, как перо, уроненное летящей к дому совой. Журчала вода. Тарка спал, и ему снилось, что он приходит с Таркволем к неведомому ему морю, где вдоволь еды и никто не охотится на выдр…
18
В половине одиннадцатого утра у моста ниже Черной заводи остановился крытый автофургон. Из кабины водителя вышли трое мужчин; при звуке их шагов в кузове раздалось глухое рычанье. Услышав голоса гончих, затявкали два терьера — Кусай и Зуботычина, — натянув поводки, которые держала девушка в куртке и короткой синей саржевой юбке.
У обочины дороги уже выстроились шеренгой автомобили. Мужчины, женщины и дети, которые съехались на охотничий сбор, стояли возле своих машин или разговаривали у каменного парапета моста. Некоторые мужчины опирались на длинные ясеневые колы, смазанные льняным маслом и окованные железом; сверху вниз на них шли зарубки, отмечающие количество убитых ранее выдр; две зарубки наперекрест означали, что за один раз было две жертвы. У женщин колья были поменьше и потоньше, из побега ясеня или из бамбука. Были там палки из терна, тонкие ореховые трости, длинные, крепкие рябиновые шесты; у одного мальчика была слегка заостренная ручка от щетки. Он воткнул ее в крапиву, чтобы другие ребята не увидели нарезки на конце. Зарубок на ней не было.
Все люди повернулись к собачьему фургону. Старший егерь и выжлятник подняли заржавленные бортовые крюки на задке и опустили борт. Гончие кубарем посыпались на землю; они встряхивались, поскуливали, часто и громко дышали, вывалив языки, радуясь свободе после езды в жарком, тесном фургоне. На собак любовались, их гладили, похлопывали, называли по именам; они чесались, катались по земле, лизали друг другу шею, заглядывали людям в лицо. Молодые гончие, которые еще помнили те дни, когда они резвились на воле, разыскивали своих прежних друзей-людей, нюхали, тыкались носами в карманы, где лежали печенье, сандвичи и пирожки. Выжлятник сзывал их по именам и тихонько похлопывал арапником возле самых беспокойных. Тут были все: и Грач, и Звонарь, и Горлан, и Певчий, Росинка, Морячка, Кэролайн и Русалка, Браслет, который улегся и уснул, Повеса и Актер, кривой Болиголов и остальные ветераны: Дева, Ураган, Бедолага и Менестрель, с ввалившимися от старости глазами, Плевел и Зубан и устроившийся перед ними Весельчак. К ним прибавились две молодые гончие того же помета, сыновья Капкана и Росинки — Урван и Хват.
Капкан — черная голова в белых шрамах от давних драк — сидел в стороне, мрачный и отчужденный, не упуская из виду ловчего в желтом жилете. На правом ухе пса была метка от зубов выдры — ее оставила мать Тарки два года назад, когда Капкан сунулся в дупло упавшего дуба. Арапник выжлятника тщетно щелкал возле него; Капкан чуть шевельнул головой, оскалил зубы и зарычал, скосив глаза на нога псаря: старый выжлец ненавидел его.

Капкан.
На них смотрели люди. Выжлятник чувствовал, что попал в глупое положение и, резко прикрикнув на Капкана, вытянул его арапником. Рычание стало еще более угрожающим. Гончая рычала сквозь зубы, черные зрачки немигающих глаз уставились на врага. Увидев, что Хват направился к мосту, выжлятник с облегчением побежал вслед за ним. Капкан отвернулся, ни на кого не глядя.
Новые автомобили спускались с холма к мосту и останавливались у обочины. Каждую весну в течение недели, известной под названием Недели совместной охоты, в долину Двух Рек приезжали из соседнего графства члены охотничьего клуба со своими гончими, так что местная стая могла через день отдыхать. Съезжались сюда и охотники на выдр с разных рек Британии, текущих на юг, восток и запад. Их костюмы пестрели, как стрекозы над ручьем. Белые котелки, темно-синие куртки и гольфы и белые бриджи охотников из Черитона; белые шляпы, бриджи, гольфы и красные куртки охотников из Калмстока; голубые куртки с кремовыми воротниками, кремовые бриджи и голубые гольфы охотников из Суррея, Кента и Суссекса; охотники из Дартмура с головы до ног — от стеганых шапочек до башмаков — в темно-синем, только шарф на шее белый; охотники из Уэссекса — в зеленых «двурогих» шапочках, зеленых куртках, пунцовых галстуках, белых бриджах и зеленых гольфах. Самый нарядный костюм, по мнению двух оборванных мальчишек, был на толстом, похожем на моржа мужчине, который весело, хотя и грубовато, перешучивался с друзьями. Он сверкал и переливался на солнце багрянцем, лазурью и медью, этот охотничий костюм западных графств.
Вскоре после приезда фургона одиннадцать смычков гончих и два терьера, которые с такой силой рвались вперед, что чуть не душили сами себя ошейниками, валили позади старшего егеря через двор фермы к реке. Егерь окликал их по именам, гнусаво «ворковал»: «Ку-у-у-ор-орн-ер! У-уар! У-уар!». Гончие, помахивая правилами, счастливые, валили, не нарушая порядка, радуясь звукам, обещавшим им хороший гон — главную их работу и забаву, — если они не будут разбегаться и не станут обращать внимания на запах уток, кошек, отбросов, мышей и пирога с вареньем в руке фермерского малыша. Проходя через двор, собаки вели себя на редкость примерно; они любили егеря, который кормил их и вытаскивал из лап колючки и никогда не бил арапником, хотя изредка клал неприятное лекарство им на язык и до тех пор сжимал морды и поглаживал по горлу, пока они не проглатывали его. Собаки прекрасно понимали его «у-уар! у-уар!» и прочий собачий язык; под его «воркованье» даже Капкан забыл рыкнуть на Хвата, когда тот, отпрянув от котенка, толкнул его. Два самых сильных чувства, которые владели Капканом, помимо тех, что волновали его в псарне, были ненависть к выдрам и уважение к старшему егерю.

Охотничий сбор у лесопилки за Даркхэмской плотиной.
Собаки прыгнули в воду, пробежали по мелям к левому берегу и двинулись вверх по течению под раздающийся время от времени звук рожка. Капкан почти сразу взлаял и устремился вперед. За шесть часов до начала охоты здесь, на нагроможденных половодьем камнях, отдыхал Тарка.
Стая добралась до выемки на правом берегу между двумя кустами лещины, где Тарка вылез на сушу, чтобы пробежать к запруде по пойме — в этом месте русло реки изгибалось подковой. В траве еще держался запах выдры, и собаки пошли по чутью к лесу, который рос почти от самой воды. Ворона, что сидела на гребне плотины, поджидая, не покажется ли в тонком слое воды у ее ног рыбешка или жук, слышала, как собаки пошлепали вверх по мельничной протоке, и взлетела на верхушку дерева, чтобы следить за ними под прикрытием листвы. Рано утром ворона видела, как Тарка поднимался из протоки в Черную заводь. Тогда она громко закаркала, призывая своего дружка, чтобы вместе прогнать выдру. Сейчас она молчала. Собаки двинулись по запруде.
В двухстах с лишним ярдах выше плотины был брод, откуда летом вывозили в больших бочках гравий, нанесенный зимними разливами. Возле брода росло дерево, а под корнями дерева был выдриный приют. Капкан, Данник и Прыгун подплыли к дереву и принялись с визгом и плеском царапать и грызть корневища. Скоро вся стая пыталась прорваться внутрь. Собаки не слушались с первого раза ни голоса, ни рожка, ни арапника; чтобы их увести, приходилось звать каждую отдельно по имени, постегивая по спине.
— Отрыщь! Отрыщь! — прорычал один из почетных выжлятников Капкану и Даннику — те не желали уходить. С берега заглядывал вниз, скуля и подняв уши, маленький, дрожащий длинноносый терьер, с которого уже сняли ошейник. Вход в убежище был под водой, и Зуботычину снова взяли на поводок.
Почетный выжлятник — отставной военный — пошуровал между корнями колом и, не нащупав ничего, кроме земли, попробовал сунуть кол подальше. Вода потекла желтым гнойным потоком. Выжлятник трудился, пока не вспотел. Воткнул кол, сдвинул назад шляпу, вытер лоб сафьяновой перчаткой.
— Где же этот парень с ломом?
Вниз по реке, стоя поперек Черной заводи на расстоянии десяти-двадцати ярдов друг от друга, охотники пристально смотрели в испещренную солнцем воду. Высоко над ними с дороги, прорубленной в каменном укосе горы, слышались голоса ждущих в автомобилях людей.
По проселку спешил мужчина с железным ломом в руке. В земле над убежищем проделали дыру, и охотник из Черитона принялся бить по траве колом. Дыру еще расширили, лом походил взад-вперед и с силой опустился вниз.

Гончие у корней дерева, под которыми скрывается выдра; на заднем плане — выжлятник бранит собаку, погнавшую зайца.
Ловчий стоял, положив подбородок на сжимавшие кол руки. Внезапно он увидел в ярде от берега цепочку пузырьков; цепочка росла звено за звеном наискосок по реке. Сорвав белую шляпу, ловчий взмахнул ею в воздухе и закричал:
— Ату его!
Гончие скатились вниз и с ревом плюхнулись в воду, взбаламучивая лапами песок. По темным теням деревьев заструилась золотая пыль. Собаки плыли, не подавая голоса, стараясь опередить друг друга под атуканье людей впереди.
Цепочка тянулась от берега к берегу, каждый ее отрезок был ярдов по шестьдесят. Вот у гребня плотины возникла на миг коричневая голова и тут же скрылась, но ее заметили:
— Вот, вот, вот, вот! Ату его! Он ушел по протоке!
Темно-зеленые водоросли, стелясь по течению, бесшумно покачивались в тихоструйной воде. Протока была глубокая, с темно-коричневым дном. Ее выкопали когда-то, чтобы отвести воду к деревянным колесам двух мельниц у моста, в миле вниз по реке. Теперь колесо побольше заменили турбиной. На дне гнили листья. Протока была полна до краев. Тарка двигался сквозь темно-зеленые водоросли над темно-коричневым дном. Когда он выныривал, чтобы набрать воздуха, нос его казался сухим листком, поднятым течением и вновь ушедшим вглубь. Тарка подплыл под тяжелый дубовый щит-затвор, у которого собралась складками пена; затвор был поднят, чтобы пропустить воду. Мимо шмыгнула форель, Тарка поймал ее, неожиданно изогнувшись всем телом.
На протоку падали тени деревьев, нависал папоротник, протягивала ветви когтистая куманика. Русло шло в низине, параллельно реке. Оставив позади луга, посевы и начинающий краснеть щавель, протока прорезала камышовые крепи, терновник и кусты лещины, где паутина гнулась под тяжестью пчел, кузнечиков и мух. По берегам здесь могла бы пробраться только ласка. В зарослях розовели цветочки окопника, открывал свои бутоны шиповник.
Порой стриж, разрезая воздух черными остриями крыльев, втягивал на лету несколько глотков и стремительно летел дальше. Среди молодых побегов ясеня порхали пеночки-веснички, склевывали с листьев насекомых; пела свою двухтактную песенку пеночка-теньковка. Возле шиповника, ветви которого мерно ворошили воду, поднялась темная голова выдры; Тарка напряг слух и поплыл к берегу. Рев гончих звучал приглушенно, выделялся лишь голос Капкана.
Все еще держа в пасти форель, Тарка вылез из протоки и стал пробираться по мягкой сырой земле сквозь подлесок среди крапивы и болотнозонтичника. На него «тикали» зарянки, раскатывали трели крапивники. Колючки и семена пытались зацепиться за его шерсть, но не находили опоры. Слепни-кровососы пытались сесть ему на спину, но метелки ситника сметали их прочь. Тарка сделал петлю и, вернувшись в протоку, скользнул в воду выше того места, где были гончие. Он проплыл с четверть мили вверх по течению, отдохнул у корня ольхи, прислушался к реву стаи, бегущей по его следам на лугу. Огляделся в поисках камня, где можно было бы съесть рыбу, но, услышав голос Капкана, притаился.
Издалека, с лесистого холма за рекой донесся стук топоров по дубовому стволу, крики лесорубов, внезапный треск, свист ветвей и глухой удар, затем тишина и вновь мерное постукивание — со ствола срубали ветви. Скоро Тарка уже не замечал этих звуков: он ловил ухом звуки, доносившиеся с другой стороны. Не замечал он и жужжания мух, которые резвились под солнцем над протокой. Страха он не чувствовал, он весь ушел в слух.
«Чиф-чэф, чиф-чэф, чиф-чэф», — подала сигнал птичка в ясеневых ветвях. Раздались голоса людей, треск ткани, раздираемой колючками куманики, хруст зеленых полых стеблей борщевника и болиголова под тяжелыми башмаками. Появились головы и плечи на фоне неба. Тарка тронулся дальше.
Его запах снесло водой вниз, и гончие натекли на след. Тарка вылез на противоположный берег, на мягкую землю, усыпанную палым листом под искривленными дубами. Быстро взбежал вверх по склону и скрылся в лиственничных посадках, загораживающих небо. Частые шеренги тонких прямых стволов укрывал сумрак, словно была ночь летнего солнцестояния. Звук не проникал сюда, как и свет; под деревьями ничего не росло. Когда Тарка пробегал по ломким веткам, упавшим на землю, его увидела сова и мягко заухала, предупреждая подругу. И снова в посадках наступил покой. Тарка сидел под деревом в глубине Даркхэмского леса, прислушиваясь к отдаленным крикам, которые долетали сквозь шорох ветра в ветвях. Нос его щекотал крепкий запах хвои. Тарка выронил рыбу. Порой слышался жалобный вопль сойки, хлопанье голубиных крыльев, когда птицы устраивались на ветвях.
Минут двадцать Тарка дожидался под лиственницей, затем порсканье усилилось, заполнило узкие просветы между шеренгами деревьев. С сука, хлопая крыльями, сорвалась сова, и Тарка опять побежал вниз к протоке мимо гончих, которые были в девяти рядах деревьев от него. Когда он выскочил из насаждений, его глаза ослепило солнцем. Затем Тарка увидел перед собой множество мужчин и женщин.
— Ату его!
Тарка обогнул их и нырнул в протоку. Когда он поднимался по ней утром, она была полна до краев, по медленно скользившей воде стелились темно-зеленые водоросли; сейчас вода спала, блестела грязь береговых откосов, лишь тихо колыхались плети болотника. Промелькнула форель. Тарка поплыл против течения все убыстрявшегося потока, но вскоре ему пришлось бежать: вода достигала всего до середины спины, над болотником то и дело показывалась голова. Когда Тарка добрался до квадратного дубового щита, из-под того сочилась только тонкая струйка. Затвор был опущен на самое дно протоки, чтобы задержать воду в запруде.
— Ату его!
Тарка повернул обратно. Он успел достичь места, где ему покрыло спину, прежде чем встретил собак, потому что они шли по чутью и не видели, как он пробирался меж водорослей темно-коричневой тенью. Гончие миновали его, так как запах выдры все еще тек сверху.
Тарка подплыл к тому концу протоки, где стояли мельницы. На илистом дне темнели бурые пятна — островки недвижной жизни. Деревья не пропускали света. Здесь в протоку вливался ручеек; он прибежал из соседних лесов и дожидался в запруде, чтобы пройти к мельницам сквозь железную решетку. Тарка проплыл по трубе, через которую изливался ручей, но, увидев, что и в нем тоже мелко, возвратился и стал искать вдоль берега какой-нибудь лаз — нору или дренажную трубу. Солнечные стрелы пронзали листву деревьев, пестрили зайчиками воду. Перед решеткой лежала широкая тень от штабеля свеженапиленных дубовых досок. Вдруг под деревьями раздался пронзительный визг циркульной пилы, попавшей на сучок, и заглушил дрожащее громыханье жерновов, перемалывающих зерно. На воду, где в тени отдыхал Тарка, уцепившись лапой за ржавый гвоздь в стене, посыпались опилки.
Тарка ждал и слушал. Опилки пронесло мимо, втянуло между прутьями решетки. Визг пилы замолк. С дальнего конца протоки снова донесся заливистый рев собак. Над самой головой выдры кто-то крикнул: «Час дня». Послышались удаляющиеся шаги. Затвор закрыли, мельничное колесо крутилось все медленнее и наконец остановилось. Тарка услышал щебет ласточек, но прислушивался он к другому — не запоет ли рожок. Рев Капкана! По берегу раздались шаги, захрустела трава под башмаками. Голоса выжлятников, один хриплый и бранчливый, зазвучали ближе. За трубой задвигались головы и плечи. Когда первая из собак, громко взлаяв, появилась в запруде, Тарка нырнул и выскользнул через решетку там, где не хватало одного из прутьев; только выдра и могла здесь пролезть. Взобрался на затвор и прошел по мокрым и скользким деревянным ковшам до верха колеса, припал ко дну одного из них и стал следить за решеткой, вдоль которой плыли гончие. Капкан сунул голову туда, где был выломан прут. Морда прижалась к железу, дальше попасть он не мог. Капкан заревел в пустоту мельницы, где древнее колесо роняло капли рядом с современной водяной турбиной. Здесь было сумрачно, лишь в углу светился солнечный треугольник и свисали из щели в каменной кладке папоротники — кочедыжник, щитовник и страусник. В гнезде в корнях щитовника сидели пять молодых трясогузок — птенцы сжались в комок, напуганные гоном.
Капли, падающие с лопаток колеса, выдолбили в камне под ним чашу. Тарка сидел в верхнем ковше, его хвост свисал с обода. До него доносилось пронзительное тявканье терьеров, все еще не спущенных со сворки, шарканье ног по дороге, невнятные переговоры. Люди совали колья между дубовыми досками, шлепали по воде лапы собак, плавающих под деревянными балками. Тарка слышал их визг, чувствовал их дыханье. Через некоторое время звуки стихли, раздалось «чик-ик, чик-ик» трясогузок, дожидавшихся на крыше с полными клювами насекомых. Тарка вылизал себе лапы и устроился поудобнее в разбухшем ясеневом ковше. Иногда его глаза закрывались, но он не спал.
В два часа в темном помещении мельницы раздались голоса — вернулись с обеда рабочие. Подняли затвор. Вода наполнила первый ковш и перелилась через край. Колесо дрогнуло и тронулось с места. Вода наполняла ковш за ковшом, и колесо начало свою нелегкую работу. Тарку снесло вниз, в темноту и кинуло на камень. Он прополз под ковшами к тонкой струйке, которая уже начала течь в реку по нижней трубе. Солнце ослепило его. Впереди ярдах в десяти был мост.
Парапет ровной линией прочеркивал небо; нарушали ее лишь пестрое тельце трясогузки, верхушки трех папоротников, да голова и плечи седобородого старика в синей куртке, и темная пустая бутылка из-под пива.
— Ату его!
19
Тарка слился с рекой; он скользил меж зеленых от водорослей камней, не высовывая спины. Поднялся возле среднего устоя, нос которого скрывался нанесенными паводком прутьями. Под ними был испещренный солнечными просветами полумрак. Тарка притаился, прислушался.
Лапы его опирались на затонувшую ветку. Журчала вода, с протоки наплывали струи взбаламученного ила. Тарка лежал неподвижно, и форель вернулась на свои места у каменных волнорезов.
— Похаживай! Поглядывай! Тут был! Ох, добудь!
Илистая муть растеклась пятном по заводи ниже моста. Гончие заливались у вороха прутьев, «показывая» выдру. Их многоголосый рев заглушил в Таркиных ушах все остальные звуки. Он знал, что они не могут добраться до него, и оставался в своем убежище даже тогда, когда в кучу вонзили кол и тот задел его по боку. Затем над Таркой раздался скрип и треск — на прутья влез человек и стал прыгать по куче. Тарка опустился ко дну и поплыл вниз по реке. Крики от нижнего парапета, топот ног. По течению потянулась цепочка пузырей.
Тарка приблизился к левому берегу, ткнулся в него, перевел дыхание. В ту долю секунды, что голова его была наверху, он услыхал звук, так напугавший его в детстве, — казалось, будто по перекату ползет подкованная железом многоножка. Поперек реки стояла вереница вертикальных фигур — одна в шаге от другой — люди. Они били кольями по воде. Тарка нырнул и, хотя слышал шум, продолжал двигаться вниз, пока не увидел перед собой сверкающего пузырьками барьера. Повернул и направился обратно, изо всех сил работая тремя с половиной перепончатыми лапами.
Тарка снова притаился под ворохом прутьев у быка, несмотря на мучительный для его ушей рев гончих, но скрип и глухие удары над головой выгнали его на открытое место. Тарка проплыл под пролетом, забрал к нижнему волнорезу и вернулся под другим пролетом к затону, отделенному от стрежня грядой камней, которые натащило сюда перекрестной волной во время разлива. Над затоном рос ясень, но Тарка не нашел прибежища в его корнях. Он повернул прямо под ногами у гончих и поплыл вниз по реке.
— Ату его!
Тарка проскользнул среди неутомимых кольев заслона и пробежал по песку к спасительной воде, прежде чем собаки бросились следом. Тарка был молод, силен и быстр. Стая рассыпалась позади; одни гончие плыли, другие шлепали по мелководью, опускали морды, стараясь уловить запах выдры на промоинах и перекатах, подавали голос. На глубине собаки были не видны Тарке, пока не оказались почти над ним. Тарка упорно двигался вниз, подплывал к берегу только, чтобы вздохнуть, и тут же шел наискосок к другому. Один раз на ровном отрезке реки в милю длиной он поднялся у отмели чуть не под брюхом Капкана и сразу же нырнул снова.
У зарослей недотроги, подсохшие корни которой напоминали красные птичьи пальцы, Тарка вылез и побежал под деревьями. Он не пробежал и тридцати ярдов, как с хрустом ломая сочные стебли, за ним кинулись Данник и Капкан. Хотя ноги у выдры короткие — их трудно увидеть, когда она бежит, — Тарка двигался быстрее преследователей. Он оставил сушу неподалеку от небольшого моста, там, где торчали из земли черепки старых глиняных горшков.
Ниже мостика было нагромождение больших плоских камней — длинное и широкое, точно корпус парусного судна. Здесь росли ольха и ива, высокая трава скрывала сухие прутья и водоросли, застрявшие на нижних ветвях деревьев. С каждым половодьем островок становился больше. Не успели еще мокрые отпечатки Таркиных лап исчезнуть на голышах, как их перекрыли огромные лапы гончих.
— Пошел! Вот, вот, вот! Возьми! Возьми!
Тарка пытался сбить собак со следа, пройдя по накаленной солнцем гальке; когда он возвращался к воде, лапы его были совсем сухие. Он прошмыгнул среди сочных стеблей цикуты и высокой — в рост человека — таволги, кое-где под собственной тяжестью приникшей к земле, и поплыл дальше, вниз по течению. Над лесом с жалобным криком парил канюк, которого донимали грачи. Грачи отстали от него, чтобы посмотреть, что делают собаки, и бесшумно закружили над рекой. По воде скользили их тени, более заметные, чем выдра.
Вот Тарка миновал ручей, по которому он когда-то поднимался вместе с матерью к Белоглиняным карьерам, и оказался под железнодорожным мостом. Дальше русло сужалось, река спешила вперед меж высоких берегов. Посреди был островок, где росли вязы. Он делил поток на два рукава; правый рукав обезводел, порос ястребинкой, крестовником и зверобоем. Тарка подплыл к узкому концу островка и вскарабкался на откос. Здесь было прохладно и тенисто, от широких листьев и белых цветов дикого чеснока под деревьями тянул острый запашок. Тарка забился в заросли и припал к земле.
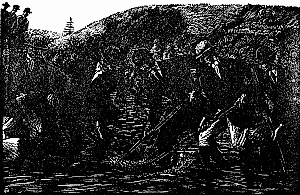
Выдра на заслоне (собака не гончая, а пастушья дворняжка).
Гончие промчались мимо. Он слышал их рев в узкой протоке за островком.
Капкан взобрался на берег, пробежал несколько ярдов по траве, вскинул голову, принюхался и повернул обратно. Тарка задержал дыхание. Остальные гончие взбегали вслед за Капканом, тоже принюхивались и тоже возвращались в воду. Тарка слушал, как они «работают» в корнях под обрывом, затем перебираются на другую сторону. До него доносился монотонный распев егеря и выжлятника, шум автомобилей, медленно двигающихся по ухабистому сухому руслу старого канала справа от реки, голоса мужчин и женщин, выходящих из автомобилей, и вскоре затем — скрип сапог по крутой каменистой тропе.
Тарка не пролежал в тени среди духовитого чеснока и пяти минут, как в верхней части Вязового островка раздался шум. Два терьера, Зуботычина и Кусай, с прерывистым хрипом вырывали цепочку, которую держал один из псарей. Вывалив длинные вялые языки, они тянули сюда, к Вязовому островку, две мили от мельницы по выжженной солнцем траве, пыльной проселочной дороге и горячим камням. Только что Кусай потерял от жары сознание. Окунувшись и полакав воды, собаки освежились и сейчас рвались из ошейников, врезавшихся им в глотки.
Тарка вскочил, когда они были в ярде от него. От неожиданности псарь выпустил поводок. Тарка бросился к реке; подбежав к отвесному берегу, увидел внизу, на гальке, людей. Подгоняемый криками псаря, кинулся по краю и почти достиг дальнего конца островка, когда Кусай цапнул его за плечо. Шипя и извиваясь, Тарка сражался с терьерами. Ляскали зубы. Тарка двигался плавно, но вертко; он хватал Кусая снова и снова, но тот не отпускал. Зуботычина попыталась укусить Тарку за шею, но выдра увернулась. Все трое с рычанием катались по земле, в ход шли когти и клыки; на мгновение клубок распадался, но тут же сплетался опять. Зверь и собаки рвали друг другу уши, выдирали клоками шерсть. Гончие услышали шум и с ревом помчались под береговым отвесом, стараясь найти путь наверх. Псарь пытался наступить ногой на конец цепочки, чтобы оттащить собак, — он знал, что в драке могут погибнуть все трое. Белые терьеры и коричневая выдра подкатились к обрыву и упали вниз.
Падение помогло Тарке стряхнуть с себя Кусая. Тарка пробежал между ног у Хвата и, хотя Русалка ущипнула его за бок, добрался до реки и ушел вглубь.
— Ату его! Ату его! Я-а-а-и! Возьми! Возьми! Возьми!
В пятидесяти ярдах ниже Вязового островка у берега стоял ловчий и всматривался в прозрачную и мелкую — дюймов шесть — воду. Проплыл мимо лист папоротника, сбитый лапами собак; он поворачивался из стороны в сторону, как мохнатая зеленая гусеница. Затем появился побег ясеня, зацепился за кол, на который опирался ловчий, листья вытянулись по течению; он приостановился на миг, дернулся, и вот уже его несло дальше. За ним проплыла сухая ветка, и муха, которая тщетно пыталась взлететь, и наконец — отрада для глаз — показалась выдра. Распластавшись над самым дном, чуть отталкиваясь лапами, плавно, как масляное пятно, она двигалась вниз по реке. «Двадцатифунтовый самец», — подумал ловчий, оставаясь на мелководье и прислушиваясь к сладчайшей для него музыке — реву гончих собак. За Роутернским мостом был заслон.
Мимо с плеском промчались гончие, идя по чутью. Мелькнула и сразу исчезла голова выдры. Тарка добрался до Роутернского моста. От долгих лет службы в трех каменных сводах появились трещины, постепенно заросшие папоротником, — зеленые морщины старости. У нижнего парапета росла лиственница. Здесь было глубже. Вот под мостом заискрился ломкий пунктир пузырьков. С парапета раздался крик: цепь пузырей, теперь крупнее, шла туда, где поперек реки стоял заслон из шести мужчин и двух женщин.
Тарка выставил голову и увидел людей. Оборотился назад, следя, как под пролетом моста возникают собаки. Затем нырнул и поплыл вверх, на глубину, но его вновь погнали на мелководье, и, изменив направление, он направился к заслону. По воде колотили кольями, заслон стоял стеной от одного берега до другого, однако Тарка не повернул. Когда он попытался проскочить между человеком в красном и человеком в синем, ему под брюхо сунули концы двух кольев, чтобы откинуть его обратно. Но Тарка соскользнул с отполированного речными камнями железа и прорвал заслон. Выжлятники бегали по берегу, подбадривая собак:
— Возьми его! Слушай Капкана! Давай! Давай! Давай!
В четверти мили от Роутернского моста река замедляет свой бег, входя в нижний виток S-образной излучины; русло постепенно становится глубже. В центре излучины путь перерезает плотина, сдерживающая воды длинной Оленьей запруды, за ней стоит Протоковый мост.
В начале запруды, там, где река сбавляет скорость, левый берег оплели обнажившиеся корни дубов, ясеней, лиственниц и вязов. Для преследуемых собаками и охотниками выдр это было одно из самых надежных убежищ, какие есть в долине Двух Рек. Только престарелый Арфист, которому перевалило за четырнадцать лет, знал все укромные места среди прибрежных деревьев; за свою долгую жизнь он натекал на след перед каждым из них, но лишь однажды «замял» поднятую здесь выдру. В мутной воде кишели пиявки.
Тарка достиг верхней части запруды. Плывя в тени, выдавая себя лишь пузырьками воздуха, он оказался у корней лиственницы, в которых спал два дня во время кочевий после гибели Серомордой. Подлез под наружные корни и только стал забираться повыше, на сухую закраину, как его лизнул в голову чей-то язык и чьи-то зубы, играя, ухватили за ухо. Задвигались два янтарно-желтых глаза. Он разбудил своего сына Таркволя.
Тарка повернулся несколько раз кругом, устраиваясь поудобнее, свернулся калачиком и закрыл глаза. Таркволь ткнулся мордочкой в спину отца, принюхался. Потянулся поближе, раздувая ноздри. Обнюхал Тарку с хвоста до шеи и замер. Запах был незнакомый, он нюхал осторожно, не прикасаясь носом к шерсти. Тарка глубоко втянул воздух и выпустил его длинным вздохом. Проглотил воду, оставшуюся во рту, умостился ухом на лапе и уснул, и снова проснулся.
Таркволь стоял, подняв шерсть на загорбке дыбом, вжавшись в корни, сам неподвижный, как корень. Земля колебалась.
— Возьми! Возьми, собаченьки! Не теряйте след! Вот, вот, вот, вот! Давай! Давай! Возьми!
Выдры услышали визг гончих, которые заглядывали за обрывистый берег, боясь упасть. Уставились на тусклый просвет между корнями. Раздались гулкие шаги — кто-то прошел над самой их головой. Вода поднялась, заплеснула в убежище — это столкнули вниз Капкана. Выдры увидели его морду у входа, услышали хриплое дыхание, затем басистый рев. Остальные гончие с визгом скатились в реку за ним следом.
— Давай! Давай! Добирай!
Тарка припал к выступу корня; он знал: куда бы он ни поплыл, Капкан поплывет вслед. Таркволь, виляя всем телом и вертя головой, побежал по корневищу, волоча хвост, чтобы незаметней нырнуть, но, напуганный белым пятном снаружи, повернул обратно. Белое пятно было отражением бриджей идущего вброд человека. Вблизи гулко прозвучал мужской голос. Затем в щель между двумя корнями просунули кол, задвигали в разные стороны, едва не задев Таркволя. Снова вытащили, и белое пятно исчезло. Раздалось поскуливание Кусая.
Руки протянули терьера к входу, направили внутрь; отверстие потемнело. При виде врага, запах которого оставался на шее Тарки, Таркволь зашипел. Кусай, скуля и тявкая, пытался добраться до выдр. Но задние лапы его соскользнули, и он упал. «Плюх, плюх, плюх» — топтался пес по воде, безуспешно пытаясь взобраться обратно.
В убежище снова стало темно — руки протянули и направили внутрь другого терьера. «Тяф! тяф! тяф!» Вскоре и Зуботычина шлепнулась вниз. Собак отозвали. Тарка расслабил тело, устроился поудобнее, но Таркволь все еще был настороже. Гончие и терьеры исчезли, однако голоса людей были слышны. Они звучали тихо и монотонно, и Тарка закрыл глаза. Таркволь припал к нему. Долгое время они лежали неподвижно. Затем голоса смолкли, послышались приближающиеся шаги, остановились над ними.
От тяжелых ударов на головы и спины выдр посыпалась земля. Старший егерь колотил по верху их приюта тяжелым ломом. Таркволь шипел от страха, метался взад-вперед. Тарка скользнул в воду, вылез, опять погрузился; на поверхности торчали только нос и усы. Стук все продолжался. И Тарка не вытерпел — он перевернулся и выплыл наружу, Таркволь за ним. Выдренок увидел светлые пузырьки — дыхание Тарки, — кинулся вверх по реке и оказался один.
Через некоторое время Таркволь поднялся у берега передохнуть и услышал рев гончих. Он снова нырнул и стремительно двинулся дальше. А когда опять поднялся, чтобы набрать воздуха, понял, что ужасные звери идут за ним. Выдренок повернул обратно, увидел собачьи головы в воде от одного берега до другого, напугался и, выбравшись на сушу, помчался по лугу быстрее, чем ему приходилось бегать за всю его жизнь. Позади раздавалось атуканье, слева слышался топот коров, пустившихся вскачь от собак. Таркволь очутился у сараев, где стояли сельскохозяйственные машины, пробежал по двору и через проем в изгороди попал в огород, где старик фермер обрывал верхушки с посаженных в ряд бобов, бормоча что-то себе под нос. Таркволь проскочил так близко от него, что из беззубого рта старика выпала короткая глиняная трубка. С минуту старик приговаривал что-то, стоя на припеке. Только он наклонился поднять трубку, как сквозь изгородь с шумом пронеслась большая черно-белая собака, топча морковь и засохший на солнце лук-шалот, за ней еще три гончих, затем еще две. Через минуту в огороде было полно собак.
— А, чтоб вам!
Гончие исчезли; фермер стоял, уставившись на погубленные бобы.
Таркволь обогнул дом и выбежал во двор, распугав кур и уток. Одна из наседок, хлопая крыльями, прыгнула ему на спину и принялась клевать. Тяжелый хвост выдренка взбивал позади пыль. Он стремглав влетел в свинарник, где лежала на боку свинья, а одиннадцать поросят-сосунков тянули ее за сосцы. При виде Таркволя поросята перестали сосать, все, как один, уставились на него, все, как один, заверещали и попрятались по углам. Свинья, слишком жирная, чтобы быстро подняться, пыталась укусить выдренка, когда тот, виляя всем телом, метался от одной стены к другой. Ужасный многоголосый рев звучал совсем рядом, а Таркволь все еще бегал по свинарнику в поисках лазейки. Свинья, не переставая хрюкать, встала, наконец, на ноги-обрубки и понесла свои колышащиеся телеса к дверям, разинув зловонную пасть, чтобы укусить только что вбежавшего Капкана. Визжа от ярости, хлопая щетинистыми грязными ушами, она выгнала выжлеца из свинарника, погналась за ним по двору и распугала всех остальных гончих. Таркволь выскочил за свиньей. Он успел выгадать какое-то время, прежде чем гончие снова натекли на след. Ярдов двести он пробежал по лугу, затем повернул, пролез сквозь живую изгородь из боярышника, взобрался на железнодорожную насыпь и двинулся вверх по холму. Он проделал около трех миль, укрываясь под деревьями и увешанным сухими стручками утесником. Иногда он жалобно пищал.
Собаки оставили людей далеко позади. Под конец вся стая, кроме отбившейся Бедолаги, пригнала выдренка обратно к железной дороге; он забрался в боярышник, сжался в комок. В кустах громким, скрипучим голосом «чекала» и трещала какая-то птица, с клювом, похожим на загнутый гвоздь. Это был сорокопут-жулан. Таркволь оказался возле его кладовой: на шипах боярышника были наколоты шмели, кузнечики и мыши-малютки. Мыши уже сдохли, но шмели все еще шевелились.
Таркволь выбежал из кустов за миг до того, как морда Данника ткнулась туда, где он только что прятался, но гончие перепрыгнули через низкую живую изгородь и догнали его — он не мог далеко уйти на коротких усталых ножках. Капкан схватил выдренка, встряхнул и подбросил в воздух. Таркволь тут же вскочил, ляская зубами и извиваясь, а собаки кусали его за бока и спину, дробили череп, ломали ребра, лапы и хвост. На ковре из золотистой кульбабы — этих маленьких подсолнечников наших лугов — собаки подкидывали Таркволя и снова роняли на землю, топтали, швыряли, грызли, рвали на части. Яростному рычанию терзающих жертву собак вторили пронзительные клики охотников, торжествующих победу. Таркволь сражался с с ними, пока ему не выбили глаза и не размозжили челюсть.

Гибель Таркволя.
20
Покинув убежище в корневищах лиственницы, Тарка повернул вниз, к железнодорожному мосту, который был в двадцати ярдах оттуда; линия, проходя по насыпи и трем мостам, перерезала S-образную излучину с юга на север. Тарка плыл в тени деревьев под левым берегом. У моста рощица кончалась, за ней шел луг. Тарка поднялся, чтобы набрать воздуха, услышал рев гончих и снова нырнул. Миновал косяк кумжи, который стремительно кинулся в сторону при виде выдры, и двинулся дальше намного быстрее, чем во время обычных кочевок. В шестидесяти ярдах от моста у корней упавшей ольхи вынырнул на поверхность. Огляделся, не увидел ни людей, ни гончих и понял, что собаки скололись со следа. Подумал об убежище под дубом за следующим железнодорожным мостом и продолжил свой путь вниз по реке.
Там, где за излучиной русло реки вновь шло по прямой, береговой склон порос дубами до самого верха. Тарка нырнул и направился наперерез течению к пристанищу, о котором вспомнил, когда покидал лиственницу. Вход был под водой, так что терьеры попасть туда не могли. Два года назад гончие застигли там спящего отца Тарки. Сделав рывок хвостом, Тарка вплыл было в темную пещеру, куда свет проникал лишь из небольшой дыры сверху, но, понюхав вонючую масляную пленку — только накануне сюда вылили парафин, — повернул обратно к запруде.
Опять пересек реку, больше минуты прислушивался, укрывшись среди дикого ириса. На реке было тихо, шумела лишь падающая вода. То и дело поднимаясь для вдоха, Тарка медленно двинулся вниз за железнодорожный мост, к плотине, которая перегораживала реку. По рыбоходу низвергался каскад, но на самом бетонном водосливе слой воды был не толще, чем раковина улитки. Внизу, у решетки, возле протоки бетон был совсем сухой. Тарка спустился по водосливу, лег навзничь у заводи, распластал усталое тело под солнцем на теплом бетоне.
Он лежал и грелся больше часа, наслаждаясь шумом воды, падающей по рыбоходу и скользящей по откосу плотины.
Над заводью, задевая воду крылом, летали ласточки, иногда в тени моста выпрыгивала кумжа. Не успевала рыба упасть обратно, как Тарка вскидывал голову, но с места не трогался. Сверкающие солнечные блики на мелководье слепили глаза и навевали сон. Вдруг Тарка насторожился — по левому берегу трусила гончая; вот она взобралась на верх водослива возле рыбохода, встряхнулась. Наполовину погрузившись в воду, Тарка застыл; гончая задрала морду, принюхалась. На мосту что-то шевельнулось — выдра и собака одновременно обернулись и увидели за перилами человека. Человек сперва заметил только собаку, идущую по гребню плотины, но, когда она пустилась бежать вниз по откосу, он обнаружил, что она преследует выдру. Человек этот пришел по рельсам посмотреть, нет ли здесь рыбы; это был браконьер по прозвищу «Шереспер», у которого не хватало фаланги пальца. Он не питал ни малейшей симпатии к выдрам и поспешил обратно, чтобы позвать охотников.
Тарка лениво уплывал от преследующей его Бедолаги. Остановился на миг под деревом, глядя, как его одинокий враг пробирается по отмели на глубину в поисках следа. Подпустил собаку на несколько футов, затем нырнул. Бедолага ни разу не заметила его, не видела она и цепочки пузырей. Она «работала» по чутью, следуя за запахом выдры, который тек сверху; когда запах становился совсем слабым, она трусила вдоль берега, пока не доходила до того места, где выдра поднималась набрать воздуха.
Тарка не испытывал ни страха перед гончей, пи злобы к ней. Он хотел только, чтобы его оставили в покое. Несколько раз проплыв под водой от уремы до поймы и не найдя убежища, где можно было бы залечь и проспать до темноты, Тарка вышел у протоптанной коровами выбоины и побежал через луг. С четверть часа он бежал по старой выдриной тропе, затем вновь нырнул в реку у дуба — третьего от Протокового моста.
Тарку пронесло под высоким, в подтеках птичьего помета, пролетом моста. Сова, сидящая на выступе под парапетом у куста шиповника, видела, как он двигался вниз по течению.
Над дикими розами гудели пчелы, набивали пыльцой и без того нагруженные «корзиночки» на ногах и улетали за мост. Оторвался лепесток, заскользил вниз; ласточка, разрезай крыльями воздух, играла с ним, подкидывала то одним крылом, то другим. Наконец он погрузился в воду и умчался вдаль, мимо выемки на берегу, где два года назад в дупле дуба родился Тарка.
А затем под мостом показалась Бедолага, за ней стая гончих и люди; сова, то паря, то ныряя, понеслась вниз по реке. Только она опустилась на дерево на островке Плакучей ивы, как раздался заливистый рев гончих, «выжавших» выдру из-под крутого берега.
Между Протоковым мостом и островком Плакучей ивы русло углублялось. Водная поверхность над Таркой отражала речное дно — темные камни, водоросли, затонувшие ветви, ноги и животы гончих. Но вот рябь разбила огромное зеркало на сверкающие осколки. Тарка плыл в этом подводном царстве, где далеко разносились все звуки: скрежет подбитых железом ботинок по гальке, постукивание кольев, шлепанье собачьих лап, даже легкие щелчки прыгающих по воде водомерок, пока не был вынужден набрать свежий воздух; он старался делать это под берегом, у желтых куртинок дикого ириса. Время от времени он вылезал на голыши и, прячась под нависающими корнями деревьев, искал в них убежища, но, напуганный приближением гончих, всякий раз снова погружался в реку, укрытый серебряной воздушной броней. Когда он плыл, из ноздрей его струились пузырьки, скатывались с головы и шеи и поднимались наверх цепочкой, за которой следило множество глаз.
Пытаясь уйти от погони, Тарка метался вверх-вниз по заводи, то по стрежню, то по сторонам, пересекал ее от края до края, менял глубину. Скользя под ногами собак, он видел их опрокинутые и разорванные зыбью отражения, видел искаженные дрожащие силуэты — фигуры мужчин и женщин, указывающих на него руками и кольями. Как бы Тарка ни работал своими тремя с половиной лапами, его преследовал рев гончих, которые шли по его следу-запаху, сохранявшемуся то в лопнувшем пузырьке воздуха, то в отпечатке на илистой промоине, то на прутике, то на листке. Один раз, когда Тарка был посредине реки, ему не хватило дыхания, и, не доплыв до куртинки дикого ириса, он пробкой выскочил в каком-нибудь ярде от Капкана. Тарка взглянул в зрачки своего давнего врага и снова нырнул. Он проплыл семьдесят ярдов за сорок секунд и залег в тростниковой крепи, где смог перевести дух и отдохнуть. Никто не видел выдры, но все видели тянущуюся за ней цепь пузырьков.
И снова — вверх по течению, мимо Кумжевого камня, под средним пролетом Протокового моста к мели, на которой от берега к берегу сплошной стеной стояли люди в белом, синем, зеленом, красном и сером.
— Ату его!
Тарка повернул и на миг раньше собак достиг спасительной воды.
— Пошел! Пошел! Вот, вот, вот! Возьми! Возьми!
Размахивая серой шляпой, егерь по пояс зашел в реку. Рядом плыл, нетерпеливо повизгивая и хватая пастью воду, Звонарь, косматый, коротконогий, черный с коричневыми подпалинами пес — помесь классной заячьей гончей и жесткошерстного выдрового выжлеца. Время от времени егерь подбадривал собак резким звуком рожка. Тарка повернул вниз, хотя наперерез реке, сразу за островком Плакучей ивы, протянулась еще одна расплывчатая пестрая лента. Он попытался прорваться через заслон, но за вспарывающими воду кольями был барьер тесно сомкнутых, одетых, в гольфы ног. Сова слетела с ивы; солнце резало ей глаза, досаждали мелкие птицы.

Старый егерь ставит на след стаю, состоящую из гончих, натасканных на лису и оленя, и нескольких жесткошерстных уэльских выдровых гончих.
Тарка опять повернул и поплыл вверх, опередив гончих. Несколько минут отдыхал под кустом боярышника. Там его нашел Капкан, и он снова направился к Протоковому мосту и залег на глубине, утомленный долгим гоном. На шестом часу охоты Тарка попытался прорвать верхний заслон, но его враги твердо стояли на камнях переката. Рев гончих гулко отдавался под пролетами моста. Ураган, старая ирландская оленегонная, чуть было не схватил Тарку, но его сточенные временем зубы не смогли удержать выдру.
Цепочка пузырьков сделалась короче. Тарка слишком устал, чтобы искать укромного места, и дышал на глазах у врагов. Стряхивая с правил полукружья капель, по заводи плавало пятнадцать гончих. Остальные шлепали по мелководью у берегов. Охотники предоставили им действовать самостоятельно.
На седьмом часу гона выдра исчезла. Река стихла. Те, кто пришел посмотреть гон, сели на траву. Егерь медленно побрел вверх по течению, нащупывая колом точку опоры и не спуская глаз с Капкана. В заслонах люди стояли теперь вольготней, хотя и были готовы, если понадобится, пустить колья в ход. Лишь дозорные внимательно глядели в воду. Было ясно, что зверь в любой момент может выйти наружу. Парень с кривым колом, лицо которого было забрызгано кровью выдры, уже открывал нож, готовясь сделать еще одну зарубку на древке поперек другой.
Больше часа солнечные плети струились по неподвижной воде. День угасал, и сова вернулась к мышиным тропам на затихшем лугу за мостом.
В одном из заливчиков заводи лежал обломанный ивовый сук, а рядом, держась хвостом за ветку, лежал Тарка. Он не шевелился. Только широкие дырочки ноздрей виднелись над водой. Люди ярд за ярдом обшаривали берега между двумя заслонами. Втыкали колья в ветви, корни, заросли дикого ириса. Егерь исколол железным острием Кумжевый камень и скалу позади него. Гончие, дрожа, вылезли на сушу и внимательно следили за Капканом, Данником и Менестрелем, которые «работали» по урезу воды. Щелчок арапника, резкий окрик — Руфус спугнул из куманики кролика и гнал его по лугу. Описав большой круг, пес вернулся к реке, не спуская глаз с выжлятника.
На девятом часу гона над ивовым сучком со свистом пронеслась пунцовая стрекоза. Ею залюбовалась сидящая у заливчика девушка. Ее отец, тощий и сутулый, как цапля, старик, отдыхал рядом. Девушка смотрела, как стрекоза опускается на что-то, похожее на кусок коры рядом с веткой, услышала чиханье и увидела усы выдры, чиркнувшие по воде. Обернувшись, она поняла, что никто, кроме нее, не заметил выдры. Девушка покраснела и прикрыла ресницами серые глаза. С раннего детства она бродила с отцом по рекам Девона в поисках цветов и птичьих гнезд, многие деревья и камни были для нее старыми друзьями, она всюду ощущала Духа Природы, ей было дорого все, что созерцали ее глаза.
Минуты две девушка сидела безмолвно, не отваживаясь взглянуть на реку. Стрекоза летала над заводью, хватала мух и раздирала их роговыми челюстями на куски. Отец девушки смотрел, как стрекоза опустилась на ветку, поднялась, описала круг и опять села, казалось, прямо на воду. Тарка снова чихнул, и стрекоза улетела. Удовлетворенное бурчанье старика, загорелая рука, взлетевшая в воздух вместе со шляпой, вдох — и…
— Ату его!
Тарка нырнул, когда собаки были уже близко, и цепочка пузырьков указала, куда он поплыл. Многие видели его темный гладкий силуэт, когда он шел по кромке травянистого островка у двенадцати деревьев. Гончие догнали его, и Тарка повернулся к ним мордой, присев на короткие крепкие задние лапы, прижав передние к круглой крепкой груди. Он прокусил Даннику нос, в одно мгновение отпрянул от него и, шипя, цапнул за брылы Капкана. Его узкая нижняя челюсть щелкала раз за разом, пока собаки не навалились на него всей стаей, скрыв от глаз.
Кусаясь и извиваясь всем телом под собачьими брюхами и между ног, Тарка проложил себе путь к воде, и, пока гончие все еще искали его на камнях, по заводи вновь потянулась цепочка пузырей.
— Пошел! Пошел! Вот! Вот! Вот! Вот!
Тарка плыл медленно, нырял ненадолго. У Кумжевого камня он остановился, поглядел вокруг. Люди были повсюду: на берегах, поперек реки, в реке. В его маленьких темных глазах ничего не отразилось. Он отвернулся от человечьих лиц, чтобы не пропустить собак. Тарка был спокоен, бесстрашен и изнурен. Когда гончие оказались почти рядом, он нырнул, показав на миг гладкую темную спину, и проскочил у них под животами. Увидел перед собой сомкнувшиеся с отражением ноги егеря, за ними — перевернутые плечи и голову, сплющенные и размытые водой. Тарка плавал взад-вперед по заводи все медленнее и медленнее.
К концу девятого часа гона на него навалилась огромная усталость, сильнее той, что он познал в жестокую морозную зиму, когда больше месяца питался одними морскими водорослями и моллюсками в эстуарии. Тарка поднимался от нижнего заслона, и с каждым ударом перепончатых лап вода, казалось, делалась плотнее. Он перестал бить лапами, и течение понесло его назад. Горлан чуть не схватил его за шею, но Тарка успел нырнуть. Снова всплыл на расстоянии двух кольев и, лежа, смотрел на приближающегося к нему егеря.
Минут десять он отдыхал между короткими — всего в несколько ярдов — нырками, затем, чуть было не попав в пасть Капкана, направился вниз по реке. Тарка еле двигался, им овладело предсмертное желание всех затравленных выдр, желание, которое овладевает ими, когда вода перестает быть защитой: вновь ступить на твердь земли, пройти прародительской тропой. Тарка наполовину вылез на берег, но, услышав топот многочисленных ног, повернул обратно и поплыл к нижнему заслону. Косой удар колом в заплесках воды пришелся ему по голове. Тарка дернулся вперед, но железное острие врезалось в плечо и пригвоздило к камням переката.
Гончие, подгоняемые взмахами шляп, звуками рожка и атуканьем выжлятника, были уже в пятнадцати ярдах. Зубы Тарки трижды щелкали на железе, вдавившемся ему в плечо, он из последних сил боролся с охотником, который, навалясь на него всей тяжестью, пытался удержать его колом. С другого бока опустился еще один кол. Деревянные клещи защемили Тарку, он извивался угрем, укусил кого-то за ногу. Последним отчаянным усилием вывернулся из-под перекрещенных кольев, прорвался сквозь заслон, и в этот миг на него обрушился Капкан и, схватив за хвост, потащил обратно. Под пронзительное атуканье мужчин и женщин собаки с громким ревом накинулись на Тарку. Ловчий посмотрел на часы — с того момента, как они обнаружили выдру в Черной заводи, прошло восемь часов сорок пять минут. И тут раздался визгливый вопль одного из почетных выжлятников:
— Яаа-аа-ии-юу! Возьми! Возьми! Яаа-ии-аа! — потому что Тарка ускользнул от терзавших его собак и погрузился в узкую полоску воды, спешащей к островку Плакучей ивы.
За островком река расширялась, плавный поток отражал небо. Тарка плыл медленно, из его многочисленных ран сочилась кровь. Иногда он загребал тремя лапами, иногда одной; вода перед ним почему-то становилась все темнее. Временами он переставал слышать рев собак. На десятом часу гона течение промчало его мимо берегов, облицованных камнем, чтобы защитить деревню от моря, и вынесло на глубину, где плавали ветки и пена. Гончих отозвали рожком. Начинался прилив, а соленая вода не держит запах.
Но только они собрались уйти, как вновь увидели Тарку. Увлекаемый приливом, он двигался вверх по реке, широко раскрыв пасть. Его прибило к берегу; он слабо дрыгнул ногами и перевернулся на спину.
— Ату его!
Капкан заметил маленькую коричневую голову и с торжествующим ревом прыгнул вниз. Он вонзил в голову зубы, подхватил выдру, взмахнул ею и, не выпуская из пасти, упал в воду. Люди увидели, как на размозженной голове раскрылись глаза, услышали визг «ик-янг!» — Тарка вцепился зубами в горло Капкана, и гончая вместе с выдрой погрузилась на дно. Поднялись черные дубовые листья, гниющие на илистом, никому не видимом ложе, закружились круговертью и снова осели. Текло время. Вода пошла на убыль. Люди ждали, не сводя взгляда с реки. Вот наконец на поверхности показалось тяжелое тело гончей, и пенные волны понесли его к морю.
Люди вытащили Капкана на берег и положили на траву, в горестном изумлении глядя на мертвого пса. И когда они стояли так, молча, из глубины реки поднялся пузырь и лопнул, затем всплыл и лопнул еще один, третий устремился вдаль вместе с волнами, и больше они не увидели ничего.
Здесь завершается повесть о выдре по имени Тарка, начатая Генри Уильямсоном в июне 1923 года и законченная в феврале 1927 года в деревне Хэм, графство Девоншир, и иллюстрированная С. Ф. Танниклифом в окрестностях рек То и Торридж в 1932 году.
Почти все иллюстрации были сделаны с натуры в тех местах, о которых идет речь в книге, несколько позже ее написания, и некоторые подробности, вроде фасона охотничьих шляп, могут поэтому отличаться от текста.
КАРТА