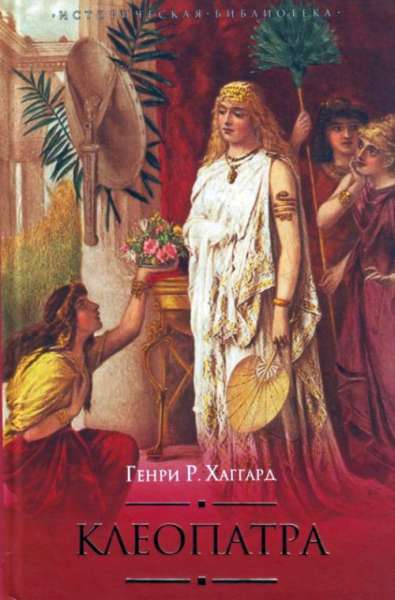
Генри Райдер Хаггард
Клеопатра
Повесть о крушении надежд
и мести потомка египетских
фараонов Гармахиса,
написанная его собственной рукой
Посвящение
Дорогая мама, я давно мечтал посвятить Вам какой-нибудь из моих романов и наконец остановил свой выбор на этом опусе в надежде, что, несмотря на все его несовершенства и самую суровую критику, которую он, возможно, вызовет у Вас и у всей публики, Вы его примете.
Желаю, чтобы мой роман «Клеопатра» доставил Вам хотя бы часть той радости, которую испытывал я, когда трудился над ним, и чтобы, читая его, Вы увидели конечно же неполную, но все же достоверную картину жизни таинственного Древнего Египта, чьей славной историей Вы так горячо интересуетесь.
Ваш любящий и преданный сын
Г. Райдер Хаггард
21 января 1889 г.
От автора
Многие историки, изучающие этот период античности, считают гибель Антония и Клеопатры одним из самых загадочных среди трагических эпизодов прошлого. Какие злые силы, чья тайная ненависть постоянно отравляли их благоденствие и ослепляли разум? Почему Клеопатра бежала во время битвы при мысе Акциум и почему Антоний кинулся за ней, бросив свой флот и войско, которое Октавиан разбил и уничтожил? Сколько вопросов, сколько загадок, — кто знает, быть может, в этом романе мне удалось хоть часть их разгадать.
Однако я прошу читатель не забывать, что повествование ведется не устами нашего с вами современника, а как бы от лица древнего египтянина, потомка фараонов, который пламенно любил свою отчизну и пережил крушение всех своих надежд; не простодушного невежды, который наивно обожествлял животных, но образованнейшего жреца, посвященного в сокровенные глубины тайных знаний, свято верившего, что боги Кемета воистину существуют, что человек может вступать с ними в общение, и что мы живем вечно, переходя в загробное царство, где нас осуждают за содеянное зло или оправдывают, если мы его не совершали; ученым, для которого туманная и порой примитивная символика, связанная с культом Осириса, была всего лишь пеленой, специально сотканной, чтобы скрыть тайны Священной Сущности. Мы не знаем, какую долю истины постигали в своих духовных исканиях жаждующие ее, — быть может, истина и вовсе не давалась им, но о стремящихся к ней, как стремился царевич Гармахис, рассказывается в истории всех крупных религий, и, как свидетельствуют священные тексты на стенах древних гробниц, дворцов и храмов, их было немало и среди тех, кто поклонялся египетским богам, в особенности Исиде.
Как ни досадно, но чтобы написать роман о той эпохе, пришлось хотя бы бегло набросать фон происходящих в нем событий, ибо лишь с его помощью оживет перед глазами читателя давно умершее прошлое, явится во всем блеске, прорвавшись сквозь мрак тысячелетий, и даст ему возможность прикоснуться к забытым тайнам. Тем же, кого не интересуют верования, символы и обряды религии Древнего Египта, этой праматери многих современных религий и европейской цивилизации, а увлекает лишь сюжет, я в должным пониманием рекомендую воспользоваться испытанным приемом — пропустить первую часть романа и начать сразу со второй.
Что касается смерти Клеопатры, мне кажется наиболее убедительной та версия, согласно которой она принимает яд. Плутарх пишет, что не сохранилось достоверных сведений о том, каким именно способом она лишила себя жизни, хотя молва приписывала ее смерть укусу гадюки. Но ведь она, насколько нам известно, покинула этот мир, доверившись искусству своего врача Олимпия, этой таинственнейшей личности, а чтобы врач избрал столь экзотическое и ненадежное средство для человека, который решил умереть, — нет, это более чем сомнительно.
Вероятно, следует упомянуть, что даже во времена царствования Птолемея Эпифана на египетский трон посягали потомки египетских фараонов, одного из которых звали Гармахис. Более того, у многих жрецов имелась книга пророчеств, где утверждалось, что после владычества греков бог Харсефи сотворит «царя, который придет и будет править». Поэтому вы, надеюсь, согласитесь, что описанная мною повесть о великом заговоре, участники которого хотели уничтожить династию Македонских Лагидов и посадить на трон Гармахиса, не так уж невероятна, хотя исторических подтверждений у нее нет. Зато есть все основания предполагать, что за долгие века, пока Египет угнетали чужеземные властители, его патриоты не раз составляли такие заговоры. Но история древнего мира рассказывает нам очень мало о борьбе и поражениях порабощенного народа.
Песнопения Исиды и песнь Клеопатры, которые вы встретите на страницах этого романа, автор записал прозой, а стихами переложил мистер Эндрю Ланг, он же перевел с греческого плач по умершим сирийца Мелеагра, который поет Хармиана.
Вступление
Недавно в одной из расщелин голого скалистого плато в Ливийской пустыне, за абидосским храмом, где, по преданию, похоронен бог Осирис, была обнаружена гробница, и среди прочей утвари в ней оказались свитки папируса, на которых изложены эти события. Гробница огромная, но больше ничего примечательного в ней нет, если не считать глубокой вертикальной шахты, которая ведет из вырубленной в толще скалы молельни для родственников и друзей усопших в погребальную камеру. Глубина этой шахты футов девяносто, не меньше. Внизу, в погребальной камере, было найдено всего три саркофага, хотя там могло бы поместиться еще несколько. Два из этих саркофагов, в которых, вероятно, покоились останки верховного жреца Аменемхета и его жены — отца и матери героя этого повествования, Гармахиса, — мародеры-арабы, нашедшие гробницу, взломали.
Они не только взломали саркофаги — варвары растерзали и сами мумии. Руки этих осквернителей праха разорвали на части земную оболочку божественного Амснемхета и той, чьими устами, как свидетельствуют надписи на стенах, вещала богиня Хатхор, — разобрали по костям скелеты, ища сокровища, быть может спрятанные в них, — и, кто знает, наверно, даже продали эти кости, по распространенному у них обычаю, за несколько пиастров какому-нибудь дикарю-туристу, который обязательно должен чем-нибудь поживиться, пусть даже ради этого совершится святотатство. Ведь в Египте несчастные живые находят себе пропитание, разоряя гробницы великих, живших прежде них.
Так случилось, что немного времени спустя в Абидос приплыл один из добрых друзей автора, врач по профессии, и встретил там арабов, ограбивших гробницу. Они открыли ему по секрету, где она находится, и рассказали, что один саркофаг так и стоит нераспечатанным. Судя по всему, в нем похоронен какой-то бедняк, объяснили они, вот они ни не стали вскрывать гроб, тем более что и времени было в обрез. Мой друг загорелся желанием осмотреть внутренние помещения усыпальницы, в которую еще не хлынули праздные бездельники туристы, он дал арабам денег, и они согласились провести его туда. Что было дальше, расскажет он сам, в своем письме ко мне, которое я привожу слово в слово:
«Ту ночь мы провели возле храма Сети и еще до рассвета тронулись в путь. Меня сопровождал косоглазый разбойник по имени Али — я прозвал его Али-Баба (это у него я купил перстень, который посылаю Вам) — и несколько его коллег-воров, — весьма избранное общество. Примерно через час после того, как поднялось солнце, мы достигли долины, где находится гробница. Это пустынное, заброшенное место, здесь целый день палит безжалостное солнце, раскаляя разбросанные по долине огромные рыжие скалы, так что до них невозможно дотронуться, а песок так просто обжигает ноги. Идти по такой жаре стало невозможно, поэтому мы сели на ослов и двинулись дальше верхом по пустыне, где единственным живым существом кроме нас был стервятник, парящий высоко в синеве.
Наконец мы приблизились к гигантскому утесу, стены которого тысячелетие за тысячелетием раскаляло солнце и шлифовал песок. Здесь Али остановился и объявил, что гробница находится под утесом. Мы спешились и, поручив ослов попечению паренька-феллаха, подошли к подножию утеса. У самого его основания чернела небольшая нора, в которую человек мог лишь с трудом протиснуться, да и то ползком. Оно и неудивительно — лаз прорыли шакалы, потому что не только вход в гробницу, но и значительная часть вырубленного в скале помещения были занесены песком, и этот-то шакалий лаз и помог арабам обнаружить усыпальницу. Али опустился на четвереньки и вполз в нору, я за ним и вскоре оказался в помещении, где после путешествия в удушающей жаре под слепящим солнцем было темно хоть глаз выколи и холодно. Мы зажгли свечи, и, дожидаясь, пока внутрь вползет все изысканное общество грабителей могил, я стал осматривать подземелье. Оно было просторное и напоминало зал, вырубленный внутри скалы, причем в дальнем его конце почти не было песка. На стенах — рисунки, изображающие культовые церемонии и явно относящиеся к временам Птолемеев, среди действующих лиц сразу привлекает к себе внимание величественный старец с длинной седой бородой, он сидит в резном кресле, сжимая в руке жезл[1]. Перед ним проходит процессия жрецов со священными предметами. В правом дальнем углу зала шахта, ведущая в погребальную камеру, — квадратный колодец, пробитый в черной базальтовой скале. Мы привезли с собой крепкое бревно и теперь положили его поперек устья колодца и привязали к нему веревку. После чего Али — он хоть и мошенник, но смелости ему не занимать, нужно отдать ему должное, — сунул в карман на груди несколько свечей, взялся за веревку и, упираясь босыми ногами в гладкую стенку колодца, стал с удивительной скоростью спускаться вниз. Несколько мгновений — и он канул в черноту, только веревка подрагивала, удостоверяя, что он благополучно движется. Наконец веревка перестала дергаться, и из глубины шахты до нас еле слышным всплеском долетел голос Али, возвестившего, что все в порядке, он спустился. Потом далеко внизу засветилась крошечная звездочка. Это он зажег свечу, и свет вспугнул сотни летучих мышей, они взметнулись вверх и нескончаемой стаей понеслись мимо нас, бесшумные, как духи. Веревку вытянули наверх, настал мой черед, но я не рискнул спускаться по ней на руках, я обвязал конец веревки вокруг пояса, и меня начали медленно погружать в священные глубины. Надо признаться, чувствовал я себя во время путешествия не слишком приятно, ибо жизнь моя была в буквальном смысле в руках грабителей, оставшихся наверху: одно их неверное движение — и от меня костей не соберешь. К тому же в лицо мне то и дело тыкались летучие мыши, вцеплялись в волосы, а я летучих мышей терпеть не могу. Я вздрагивал и дергался, но через несколько минут ноги мои все-таки коснулись пола, и я оказался в узком проходе рядом с героическим Али, мокрый от пота, сплошь облепленный летучими мышами, с ободранными коленками и руками. Потом к нам ловко, как матрос, спустился по веревке еще один из наших спутников; остальные, как мы условились, должны были ждать наверху.
Теперь можно было трогаться в путь. Али со свечой — конечно, у всех у нас были свечи — повел нас по длинному, высотой футов пять, проходу. Но вот проход расширился, и мы вступили в погребальную камеру — жара здесь была как в преисподней, нас обняла глухая, зловещая тишина, я в жизни ничего подобного не испытывал. Дышать было нечем. Камера представляет собой квадратную комнату, вырубленную в скале, без росписей, без рельефов, без единой статуи.
Я поднял свечу и стал рассматривать комнату. На полу валялись крышки гробов, взломанных арабами, и то, что осталось от двух растерзанных мумий. Рисунки на этих крышках саркофагов были удивительной красоты, мне это сразу бросилось в глаза, но я не знаю иероглифов и потому не смог прочесть надписей. Вокруг останков мужчины и женщины — я догадался, что это именно мужчина и женщина[2], — были разбросаны бусины и пропитанные благовонными маслами полосы полотняных пелен, в которые когда-то завернули мумии. Голова мужчины была оторвана от туловища. Я поднял ее и стал рассматривать. Лицо было тщательно выбрито — насколько я могу судить, его брили уже после смерти, — золотая маска изуродовала черты, плоть ссохлась, и все равно лицо поражало величественной красотой. Это было лицо старика с таким спокойным и торжественным выражением смерти, вселяющее такой благоговейный ужас, что мне стало не по себе, хотя, как Вы знаете, я давно привык к покойникам, и я поспешил положить голову на пол. С головы другой мумии бинты сорвали не полностью, но я не стал ее освобождать от обрывков, мне и без того было ясно, что когда-то это была статная красивая женщина.
— А вот третий мумия, — сказал Али, указывая на большой массивный саркофаг в углу, который, казалось, туда просто бросили, потому что он лежал на боку.
Я подошел к саркофагу и стал его рассматривать. Сделан он был добротно, но из простого кедра, и ни единой подписи на нем, ни одного изображения божества.
— Никогда такой не видал, — заметил Али. — Скорей, скорей хоронить. Нет мафиш[3], нет финиш[4]. Барасать сюда и оставлять на бок.
Я глядел на простой, без украшений саркофаг и чувствовал, как во мне разгорается неудержимый интерес. Меня так потряс вид поруганных останков, что я решил не трогать третий гроб, но сейчас желание узнать, что тут произошло, взяло верх, и мы принялись за дело.
Али прихватил с собой молоток и долото и, поставив саркофаг как положено, принялся вскрывать его с ловкостью опытного грабителя древних гробниц. Через несколько минут он обратил мое внимание на еще одну неожиданную особенность. Обычно в крышке саркофага делают четыре деревянных шипа, по два с каждой стороны: когда крышку опускают, они входят в специальные отверстия, высверленные в нижней части, и там их закрепляют намертво шпеньками из дерева твердых пород. Но у этого саркофага было восемь таких шипов. Видимо, кто-то решил, что этот саркофаг надо запереть особенно надежно.
Наконец мы с великим трудом сняли массивную крышку, толщиной не меньше трех дюймов, и увидели мумию, залитую чуть не до половины благовонными маслами, — довольно странная деталь.
Али уставился на мумию, выпучив глаза, да и неудивительно. Я тоже в жизни не видел ничего подобного. Обычно мумии покоятся на спине, прямые и вытянутые, точно деревянные скульптуры, а эта лежала на боку, и, несмотря на пелены, в которые она была завернута, ее колени были слегка согнуты. Но это еще не все: золотая маска, которую, по обычаю тех времен, положили на ее лицо, была сброшена и буквально придавлена традиционным головным убором.
Сам собой напрашивался неумолимый вывод: лежащая перед нами мумия отчаянно билась в саркофаге после того, как ее туда положили.
— Чуданой мумуия. Когда покойника хоронили, он был живой, — сказал Али.
— Что за чепуха! — возразил я. — Как это мумия может быть живой?
Мы извлекли тело из саркофага, чуть не задохнувшись от поднявшейся тысячелетней пыли, и увидели какой-то предмет, наполовину залитый благовониями, — нашу первую находку. Это оказался свиток папируса, небрежно свернутый и обмотанный полотняным бинтом, в какие была запеленута мумия, — судя по всему, свиток сунули в саркофаг в последнюю минуту пред тем, как закрыть его крышкой[5].
При виде папируса глаза Али алчно сверкнули, но я схватил его и положил в карман, потому что мы заранее договорили: все, что мы найдем в гробнице, принадлежит мне. Потом мы принялись распеленывать мумию. Бинты обматывали ее толстым слоем, — необычно широкие полосы прочного грубого полотна, кое-как сшитые одна с другой, иногда даже просто связанные узлом, и складывалось впечатление, что трудились над мумией в страшной спешке и с большим напряжением сил.
Над лицом выступал высокий бугор. Но вот мы освободили голову от бинтов и увидели второй свиток папируса. Я хотел взять его, но не тут-то было. Видимо, папирус приклеился к плотному, без единого шва савану, в который покойного сунули с головой, точно в мешок, и под ногами завязали, как крестьяне завязывают мешки. Саван этот, тоже густо пропитанный благовонными маслами, по сути и был мешок, только сотканный в виде платья. Я поднес свечу поближе к папирусу и понял, почему он не отстает от савана. Благовонные масла загустели и намертво схватили свиток.
Вынуть его из гроба было невозможно, пришлось оторвать наружные листы[6].
Наконец мне удалось извлечь свиток, и я положил его в карман, туда же, где был первый.
Мы молча продолжали нашу зловещую работу. С великой осторожностью разрезали саван-мешок, и нам открылась мумия лежащего в саркофаге мужчины. Между его коленями был зажат третий свиток исписанных листов папируса. Я схватил его и спрятал, потом осветил свечой мумию и стал внимательно рассматривать. Любой врач с одного взгляда определил бы, какой смертью умер этот человек.
Мумия не слишком ссохлась. Ее, без сомнения, не выдерживали положенные семьдесят дней в соляном растворе, и потому лицо изменилось не так сильно, как у других мумий, даже выражение сохранилось. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь одно: не приведи Бог еще когда-нибудь увидать ту муку, которая застыла в чертах покойного. Даже арабы в ужасе отшатнулись и забормотали молитвы.
И еще деталь: разреза на левой стороне живота, через который бальзамировщики вынимают внутренности, не было; лицо тонкое, породистое, вовсе не старое, хотя волосы седые; сложение могучее, плечи необычайно широкие, — видимо, человек этот обладал огромной физической силой. Но рассмотреть его как следует мне не удалось, потому что под действием воздуха ненабальзамированный труп, с которого сняли погребальные пелены, начал на глазах обращаться в прах, и через несколько минут от него остался лишь череп, похожие на паклю волосы да несколько самых крупных костей скелета. Я заметил, что на берцовой кости — не помню, правой или левой ноги — был перелом, очень неудачно вправленный. Эта нога была короче другой, наверное, на целый дюйм.
Больше ни на какие находки надеяться не приходилось, я немного успокоился и тут только почувствовал, что едва жив от усталости после пережитого волнения и вот-вот задохнусь в этой жаре от запаха рассыпавшейся в прах мумии и благовоний.
Мне трудно писать, корабль наш качает. Письмо это я, конечно, пошлю почтой, а сам поплыву морем, однако я надеюсь прибыть в Лондон не позже чем через десять дней после того, как Вы его получите. Когда мы встретимся, я расскажу Вам о восхитительных ощущениях, которые я испытал, поднимаясь из погребальной камеры по шахте, о том, как этот мошенник из мошенников Али-Баба и его доблестные помощники пытались отнять у меня свитки и как я их перехитрил.
Папирусы, конечно, мы отдадим расшифровать. Вряд ли в них содержится что-то интересное, наверняка очередной вариант «Книги мертвых», но чем черт не шутит. Как Вы догадываетесь, в Египте я не стал распространяться об этой моей небольшой экспедиции, дабы не привлекать к своей особе интереса сотрудников Булакского музея. До свидания, мафиш-финиш, — это любимое словечко моего доблестного Али-Бабы.»
В скором времени после того, как я получил это письмо, его автор сам прибыл в Лондон, и на следующий же день мы с ним нанесли визит нашему другу, известному египтологу, который хорошо знал и иероглифическое, и демотическое письмо. Можете себе представить, с каким волнением мы наблюдали, как он искусно увлажняет и развертывает листы папируса и потом вглядывается и загадочные письмена сквозь очки в золотой оправе.
— Хм, — наконец произнес он, — что это — пока не знаю, во всяком случае, не «Книга мертвых». Подождите, подождите! Кле… Клео… Клеопатра… Господа, господа, клянусь жизнью, здесь рассказывается о человеке, который жил во времена Клеопатры, той самой роковой вершительнице судеб, потому что рядом с ее именем я вижу имя Антония, вот оно! О, да тут работы на целые полгода, может быть, даже больше! — Эта заманчивая перспектива так вдохновила его, что он забыл обо всем на свете и, как мальчишка, принялся радостно скакать по комнате, то и дело пожимал нам руки и твердил: — Я расшифрую папирус, непременно расшифрую, буду трудиться день и ночь! И мы опубликуем повесть, и клянусь бессмертным Осирисом: все египтологи Европы умрут от зависти! Какая благословенная находка! Какой дивный подарок судьбы!
И так оно все и случилось, о вы, чьи глаза читают эти строки: наш друг расшифровал папирусы, перевод напечатали, и вот он лежит перед вами — неведомая страна, зовущая вас совершить по ней путешествие!
Гармахис обращается к вам из своей забытой всеми гробницы. Воздвигнутые временем стены рушатся, и перед вами возникают, сверкая яркими красками, картины жизни далекого прошлого в темной раме тысячелетий.
Он показывает вам два разных Египта, на которые еще в далекой древности взирали безмолвные пирамиды, — Египет, который покорился грекам и римлянам и позволил сесть на свой трон Птолемеям, и тот, другой Египет, который пережил свою славу, но свято продолжал хранить верность традициям седой древности и посвящать верховных жрецов в сокровенные тайны магических знаний, Египет, окутанный загадочными легендами и все еще помнящий свое былое величие.
Он рассказывает нам, каким жарким пламенем вспыхнула в этом Египте, прежде чем навсегда погаснуть, тлеющая под спудом любовь к стране Кемет и как отчаянно старая, освященная самим Временем, вера предков боролась против неотвратимо наступавших перемен, которые несла новая эпоха, накатившая на страну, точно воды разлившегося Нила, и погребла в своей пучине древних богов Египта.
Здесь, на этих страницах, вам поведают о всемогуществе Исиды — богини многих обличий, исполнительнице повелений Непостижимого. Пред вами явится и Клеопатра — эта «душа страсти и пламени», женщина, чья всепобеждающая красота созидала и рушила царства. Вы прочтете здесь, как дух Хармианы погиб от меча, который выковала ее жажда мести. Здесь обреченный смерти царевич Гармахис приветствует вас в последние мгновенья своей жизни и зовет проследовать за ним путем, который прошел он сам. В событиях его так рано оборвавшейся жизни, в его судьбе вы, может быть, увидите что-то общее со своей. Взывая к нам из глубины мрачного Аменти[7], где его душа по сей день искупает великие земные преступления, он убеждает нас, что постигшая его участь ожидает всякого, кто искренне пытался устоять, но пал и предал своих богов, свою честь и свою отчизну.
КНИГА ПЕРВАЯ
ИСКУС ГАРМАХИСА
Глава I, повествующая о рождении Гармахиса, о пророчестве Хатхор и об убийстве сына кормилицы, которого солдаты приняли за царевича
Клянусь Осирисом, который спит в своей священной могиле в Абидосе, все, о чем я здесь рассказываю, — святая правда.
Я, Гармахис, по праву рождения верховный жрец храма, который возвиг божественный Сети — фараон Египта, воссоединившийся после смерти с Осирисом и ставший правителем Аменти; я, Гармахис, потомок божественных фараонов, единственный законный владыка Двойной Короны и царь Верхнего и Нижнего Египта; я, Гармахис, изменник, растоптавший едва распустившийся цветок нашей надежды, безумец, отринувший величие и славу, забывший глас богини и с трепетом внимавший голосу земной женщины; я, Гармахис, преступник, павший на самое дно, перенесший столько страданий, что душа моя высохла, как колодец в пустыне, навлекший на себя величайший позор, предатель, которого предали, властитель, который отказался от могущества и тем самым навеки лишил могущества свою родину; я, Гармахис, узник, приговоренный к смерти, — я пишу эту повесть и клянусь тем, кто спит в своей священной могиле в Абидосе, что каждое слово этой повести — правда.
О мой Египет! О дорогая сердцу страна Кемет, чья черная земля так щедро питала своими плодами мою смертную оболочку, — я тебя предал! О Осирис! Исида! Гор! Вы, боги Египта, и вас всех я предал! О храмы, пилоны которых возносятся к небесам, хранители веры, которую я тоже предал! О царственная кровь древних фараонов, которая течет в этих иссохших жилах, — я оказался недостойным тебя! О непостижимая сущность пронизывающего мироздание блага! О судьба, поручившая мне решить, каким будет ход истории! Я призываю вас в извечные свидетели: вы подтвердите, что все, написанное мною, — правда.
Подняв взгляд от своего папируса, я вижу в окно зеленые поля, за ними Нил катит свои воды, красные, как кровь. Солнце ярко освещает далекие скалы Аравийской пустыни, заливает светом дома и улицы Абидоса. В его храмах, где меня предали проклятью, жрецы по-прежнему возносят моления, совершают жертвенные приношения, к гулким сводам каменных потолков летят голоса молящихся. Из моей одинокой камеры в башне, куда я заточен, я, чье имя стало олицетворением позора, смотрю на твои яркие флаги, о Абидос, — как весело они полощутся на пилонах у входа в храмовый двор, я слышу песнопения процессии, которая обходит одно святилище за другим.
Абидос, обреченный Абидос, мое сердце разрывается от любви к тебе и от горя! Ибо скоро, скоро твои молельни и часовни погребут пески пустыни. Твои боги будут преданы забвенью, о Абидос! Здесь воцарится иная вера, и все твои святыни будут поруганы, на стенах твоей крепости будут перекликаться центурионы. Я плачу, плачу кровавыми слезами: ведь это я совершил преступление, которое обрушит на тебя все эти беды, и мой позор во веки веков неискупим. Читайте же, что я совершил.
Я родился здесь, в Абидосе, — я, пишущий эти строки Гармахис. Отец мой, соединившийся ныне с Осирисом, был верховный жрец храма Сети. В тот самый день когда я родился, родилась и царица Египта Клеопатра. Детство я провел среди этих полей, смотрел, как трудятся на них простые люди — земледельцы, бродил, когда мне вздумается, по огромным дворам храма. Мать свою я не помню, она умерла, когда я еще был младенцем. Но наша старая служанка Атуа рассказывала мне, что, перед тем как умереь — а было это во времена правления царя Птолемея Авлета, и это прозвище означает «флейтист», — она взяла из шкатулки слоновой кости золотого урея, — символ власти египетских фараонов, и возложила его мне на лоб. И все, кто это видел, решили, что она впала в транс и повинуется воле богов и этот ее пророческий жест означает, что скоро наступит конец царствованию Македонских Лагидов и скипетр фараонов вернется к истинным, законным правителям Египта.
В это время домой вернулся мой отец, верховный жрец Аменемхет, чьим единственным ребенком я был, ибо ту, которая была его женой, чудовище Секхет, не знаю за какое злое деяние, долгие годы карало бесплодием, — так вот, когда пришел отец и увидел, что сделала умирающая, он воздел руки к небу и возблагодарил Непостижимого за то знамение, которое он ему явил. И пока он молился, богиня Хатхор[8] вдохнула силы в умирающую, так что та поднялась со своего ложа и трижды простерлась перед колыбелью, в которой я спал с золотым уреем на лбу, и стала вещать устами моей матери:
— Славься в веках, плод моего лона! Славься в веках, царственный младенец! Славься в веках, будущий фараон Египта! Хвала и слава тебе, бог, который освободит нашу страну от чужеземцев, слава тебе, божественное семя Нектанеба, потомок вечноживущей Исиды! Храни чистоту души, и ты будешь править Египтом, ты восстановишь истинную веру, и ничто тебя не сломит. Но если ты не выдержишь посланных тебе испытаний, то да падет на тебя проклятье всех богов Египта и всех твоих венценосных предков, кто правил страной со времен Гора и сейчас вкушает покой в Аменти, на полях Иалу. Да будет тогда жизнь твоя адом, а когда ты умрешь и предстанешь пред судом Осириса, пусть он и все сорок два судьи Аменти признают тебя виновным и Сет и Секхет терзают тебя до тех пор, пока ты не искупишь своего преступления и в храмах Египта вновь не воцарятся наши истинные боги, хотя их имена будут произносить наши далекие потомки; пока жезл власти не будет вырван из рук самозванцев и сломлен и все до единого угнетатели не будут изгнаны навек из нашей земли — пока кто-то другой не совершит этот великий подвиг, ибо ты в своей слабости оказался недостойным его.
Лишь только мать произнесла эти слова, пророческое вдохновение тотчас же оставило ее, и она рухнула мертвая на колыбель, в которой я спал. Я проснулся и заплакал.
Отец мой, верховный жрец Аменемхет, задрожал, объятый ужасом, — его потрясло прорицание Хатхор, которое она вложила в уста моей матери, к тому же в словах этих содержался призыв к преступлению против Птолемеев — к государственной измене. Ему ли было не знать, что если слух о происшедшем дойдет до Птолемеев, фараон тотчас же пошлет своих стражей убить ребенка, которому напророчили столь выдающуюся судьбу. И мой отец затворил двери и заставил всех, кто находился в комнате, поклясться священным символом своего сана, Божественной Триадой, и душой той, которая лежала бездыханная на каменных плитах пола, что никогда и никому они не расскажут о том, чему сейчас оказались свидетелями.
Среди присутствующих была кормилица моей матери, которая любила ее, как родную дочь, — старуха по имени Атуа, а женщины такой народ, что даже самая страшная клятва не удержит их язык за зубами — не знаю, может быть, раньше они были иначе устроены, может быть, в будущем смогут укротить свою болтливость. И вот недолгое время спустя, когда Атуа свыклась с мыслью, что мне уготован великий жребий, и страх ее отступил, она рассказала о пророчестве своей дочери, которая после смерти матери стала моей кормилицей. Они в это время шли вдвоем по дорожке в пустыне и несли обед мужу дочери, скульптору, который ваял статуи богов и богинь в скальных гробницах, — так вот, посвящая дочь в тайну, Атуа заклинала ее свято беречь и любить дитя, которому суждено стать фараоном и изгнать Птолемеев из Египта. Дочь Атуа, моя кормилица, была ошеломлена этой вестью; конечно же, она не смогла сохранить ее в тайне, она разбудила ночью мужа и шепотом ему все рассказала и этим обрекла на гибель и себя, и своего сына — моего молочного брата. Муж рассказал своему приятелю, а приятель был Птолемеев доносчик и сразу же сообщил обо всем фараону.
Фараон сильно встревожился, ибо хоть он и глумился, напившись, над египетскими богами и клялся, что единственный бог, перед которым он преклоняет колени, — это римский Сенат, но в глубине его души жил неодолимый страх перед собственным кощунством, мне рассказал об этом его врач. Оставаясь ночью один, он в отчаянии принимался вопить, взывая к великому Серапису, который на самом деле вовсе не истинный бог, а лжебог, к другим богам, терзаемый ужасом, что его убьют и его душе придется нескончаемо мучиться в загробном царстве. Но это еще не все: когда трон под ним начинал шататься, он посылал в храмы щедрые дары, советовался с оракулами, из которых особенно чтил оракула с острова Филе. Поэтому, когда до него дошел слух, что жене верховного жреца великого древнего храма в Абидосе открылось перед смертью будущее и богиня Хатхор предрекла ее устами, что сын ее станет фараоном, он смертельно перетрусил и призвал к себе самых доверенных лиц из своей охраны: его телохранители были греки и не боялись совершить святотатство, поэтому Авлет приказал им плыть в Абидос, отрубить сыну верховного жреца голову и привезти ему эту голову в корзине.
Однако Нил в это время года сильно мелеет, а у барки, в которой плыли солдаты, была слишком глубокая осадка, и так случилось, что она села на мель неподалеку от того места, где начинается дорога, ведущая через скалистое нагорье в Абидос, а тут еще разыгрался такой сильный северный ветер, что барка могла в любую минуту опрокинуться и утонуть. Солдаты фараона принялись звать крестьян, которые трудились на берегу, поднимая наверх воду, просили подъехать к ним на лодках и снять с барки, но крестьяне увидели, что это греки из Александрии, и пальцем не шевельнули, чтобы их спасти, — ведь египтяне ненавидят греков. Тогда солдаты стали кричать, что прибыли по приказу фараона, но крестьяне продолжали заниматься своим делом, спросили только, что это за приказ. Тогда приплывший с солдатами евнух, который от страха напился до полной потери разума, прокричал в ответ, что им приказано убить сына верховного жреца Аменемхета, которому напророчили, что он станет фараоном и изгонит из Египта греков. Крестьяне поняли, что медлить больше нельзя, и стали спускать лодки, хотя и не могли взять в толк, какое фараону дело до сына Аменемхета и почему он должен стать фараоном. Но один из них, тоже земледелец и к тому же смотритель каналов, был родственник моей матери и, когда она произносила перед смертью свои пророческие слова, находился рядом с ней, в ее покое, и потому сейчас он со всех ног бросился к нам, и не прошло и часу, как он вбежал в наш дом у северной стены великого храма, где я спал в отведенном мне покое в колыбели. Отец мой в это время был в священной области захоронений, которая находится по левую сторону от большой крепости, а фараоновы солдаты быстро приближались верхом на ослах. Наш родственник, задыхаясь, прохрипел старой Атуа, чей длинный язык навлек на нас такое несчастье, что вот-вот в дом ворвутся солдаты и убьют меня. Атуа и наш родственник в растерянности уставились друг на друга: что делать? Спрятать меня? Солдаты перевернуть все вверх дном и рано или поздно найдут. И тут наш родственник увидел в раскрытую дверь играющего во дворе ребенка.
— Женщина, спросил он, — чей это ребенок?
— Это мой внук, — ответила Атуа, — молочный брат царевича Гармахиса, сын моей дочери, которая обрушила на нас это горе.
— Женщина, — произнес он, — ты знаешь, что тебе велит твой долг, выполняй же его! — И указал ей на ребенка: — Я повелеваю тебе священным именем Осириса!
Атуа задрожала и едва не лишилась чувств — ведь мальчик был плоть от ее плоти, и все-таки она овладела собой, вышла во двор, взяла ребенка, вымыла его, облачила в шелковые одежды и положила в мою колыбель. А меня раздела, измазала всего в пыли, так что моя светлая кожа стала совсем темной, и посадила во дворе на землю, чему я несказанно обрадовался.
Родственник удалился в храм, и очень скоро к дому подъехали солдаты-греки и спросили старую Атуа, здесь ли живет верховный жрец Аменемхет. Она сказала, что да, здесь, пригласила их войти и подала им молока и меда утолить жажду.
Они все выпили, и тогда евнух, который тоже приехал с солдатами, спросил Атуа, кто там лежит в колыбели, не сын ли Аменемхета, и она ответила: «Да, это его сын», и принялась рассказывать солдатам, что мальчика ожидает великое будущее, ему предсказали, что он возвысится над всеми и будет править державой.
Но солдаты-греки захохотали, а один из них схватил младенца и отсек ему голову мечом, евнух же вытащил печать фараона, чьим именем было совершено злодейство, и показал ее старой Атуа, велев передать верховному жрецу, что без головы даже царю править державой затруднительно.
Солдаты вышли во двор, и тут один из них заметил меня и крикнул товарищам: «Эй, глядите-ка, у этого чумазого плебея куда более аристократический вид, чем у царевича Гармахиса», солдаты остановились, раздумывая, не прикончить ли заодно и меня, но им претило убивать детей, и они ушли, унося с собой голову моего молочного брата.
Немного погодя с базара вернулась мать убиенного младенца, и когда она и ее муж увидели его труп, они бросились на старую Атуа и хотели ее убить, а меня отдать солдатам фараона. Но тут появился мой отец, ему все рассказали, и он повелел схватить мою кормилицу и ее мужа и ночью тайно заточить в одну из темниц храма. Больше их никто никогда не видел.
Как я сейчас скорблю, что волею богов остался жив, а меч фараонова палача казнил ни в чем не повинное дитя.
Людям было сказано, что я — приемный сын верховного жреца Аменемхета, он усыновил меня после того, как фараон приказал умертвить его возлюбленного сына Гармахиса.
Глава II, повествующая о том, как Гармахис нарушил запрет отца, как он победил льва и как старая Атуа рассеяла подозрения фараонова соглядатая
После этого Птолемей по прозвищу Флейтист оставил нас в покое и больше не посылал в Абидос солдат искать ребенка, которому предсказано восшествие на царский престол: ведь принес же евнух голову моего молочного брата в его мраморный дворец в Александрии и открыл корзину, чтобы показать ее, когда фараон, упившись кипрским вином, играл на флейте в окружении своих танцовщиц.
Птолемей захотел рассмотреть голову получше и приказал евнуху поднять ее за волосы и поднести к нему. Фараон захохотал и ударил ее по щеке сандалией, а одной из девушек повелел увенчать новоявленного фараона цветами. Сам, же кривляясь, преклонил колено и стал глумиться над головой несчастного младенца. Но острая на язык девушка не могла вынести такого святотатства и сказала Птолемею — я обо всем этом узнал через много лет, — что он поступил правильно, преклонив колено, ибо это дитя — истинный фараон, величайший из всех царивших когда-либо фараонов, и имя его — Осирис, а трон его — в царстве мертвых, Аменти.
Услыхав эту отповедь, Птолемей Флейтист затрясся от страха, ибо совершил много зла и безумно страшился предстать пред судьями Аменти. Ответ девушки был, несомненно, дурным предзнаменованием, и он приказал казнить дерзкую — пусть отныне служит тому владыке, чье имя она только что произнесла. Прогнал всех остальных девиц и больше не играл, взял флейту в руки только утром, когда снова напился. Жители Александрии сочинили об этом эпизоде песню, ее и по сей день народ распевает на улицах.
Вот два первых куплета:
Птолемей Флейтист —
Знаменитый музыкант,
Мир не знал еще такого:
Флейту сделали ему
Чудища из царства смерти —
Над убитыми играть.
Сладкозвучна его флейта
Как ночных лягушек пенье,
В смрадных заводях Аменти
Жабы заждались его.
Из болот зловонных жижу
В кубки налили Флейтисту.
Летел год за годом, но я был еще слишком мал и не ведал, какие события потрясают Египет; не буду описывать их сейчас, ибо слишком краток срок, отпущенный мне судьбой, расскажу лишь о тех, в которых принимал участие я сам.
Итак, я рос, а мой отец и мои наставники открывали мне знания, в которые наш народ был посвящен с глубокой древности, и рассказывали о наших богах то, что доступно разумению ребенка. Я был высок и крепок и хорош собой, волосы черные, как у богини Нут, глаза голубые, как лотосы, а кожа белая, как алебастровые изваяния в святилищах. Я не опасаюсь, что меня укорят в тщеславии, ибо давно утратил то, что красило меня когда-то. А как я был силен! Никто из моих сверстников в Абидосе не мог победить меня в борьбе, никто так искусно не владел копьем и пращой. И я страстно мечтал убить на охоте льва, однако тот, кого я называл отцом, запретил мне и думать об охоте, ибо жизнь моя слишком драгоценна и рисковать ею так бездумно — непростительное преступление. Я почтительно склонился перед ним и попросил объяснить, что означают его слова, но старый жрец лишь нахмурился и ответствовал, что боги откроют мне их смысл, когда исполнятся сроки. Я не стал более настаивать и ушел, но в душе у меня кипел гнев, потому что один юноша в Абидосе убил со своими товарищами льва, который напал на стадо его отца, и вот этот юноша, завидуя моей красоте и силе, стал всем внушать, что я трус, хоть и скрываю это, потому что на охоте убиваю из пращи только шакалов и антилоп. А мне как раз исполнилось шестнадцать лет, и я считал себя взрослым — настоящим мужчиной.
И случиться же такому совпадению, что когда я в горькой обиде шел от верховного жреца, мне повстречался этот самый юноша, окликнул меня и стал с издевкой рассказывать, будто узнал от окрестных крестьян, что в тридцати стадиях от Абидоса, возле канала, который проходит мимо храма, живет в прибрежных зарослях огромный лев. И, продолжая насмехаться надо мной, предложил пойти с ним и помочь ему убить льва, но если мне милее общество старух, которые без конца завивают и расчесывают мне волосы, тогда, конечно, он справится со зверем и без меня. Я вскипел от оскорбления и чуть не бросился на него с кулаками, однако же сдержал себя и, забыв о запрете отца, ответил: что ж, я составлю ему компанию, если он решится пойти на льва один, и пусть он сам удостоверится, трус я или нет.
В одиночку у нас на львов не охотятся, это все знают, обычно собираются пять-шесть мужчин и насмешник сразу же отказался, так что настал мой черед издеваться над ним. Он не выдержал и побежал домой за луком и стрелами, захватил также острый нож. А я взял свое копье — тяжелое, с древком из тернового дерева и серебряной фигурной рукояткой, чтобы не выскальзывало из рук, и мы вдвоем направились к логову льва, шагали рядом и молчали. Когда мы наконец пришли к тому месту, о котором он говорил, солнце стояло уже довольно низко; нам не потребовалось долго искать следы льва, мы сразу же увидели их на берегу канала в глине, они вели в густые заросли тростника.
— Ну что, хвастун, — спросил я, — ты пойдешь по следу впереди или я? — И шагнул вперед, показывая, что хочу идти первым.
— Нет, нет, ты с ума сошел! — закричал он. — Зверь прыгнет на тебя и разорвет. Мы вот как сделаем. Я сейчас начну стрелять в заросли. Может, он спит, и стрелы разбудят его. — И он наугад послал в густой тростник стрелу.
Как это случилось — не знаю, но только стрела попала прямо в спящего льва, он желтой молнией сверкнул средь тростников и встал прямо перед нами — грива дыбом, глаза горят, в боку трепещет стрела. Лев издал такой яростный рык, что, казалось, земля содрогнулась.
— Стреляй! — крикнул я своему спутнику. — Скорей, он сейчас прыгнет!
Но мужество оставило задиру, у него даже челюсть отвисла от страха, пальцы разжались, и лук упал на землю; он с диким воплем кинулся наутек, оставив меня лицом к лицу со львом. Я стоял и ждал смерти, ибо хотя я окаменел от испуга, у меня и в мыслях не мелькнуло бежать, а лев вдруг припал к земле и гигантским прыжком перемахнул через меня, даже не задел, — и ведь хоть бы чуть-чуть взял в сторону! Едва коснувшись земли, он снова прыгнул — прыгнул прямо на спину хвастуну и с такой силой ударил его своей могучей лапой по голове, что снес полчерепа, только мозги брызнули. Задира упал на землю бездыханный, а лев замер над его телом и зарычал. Я обезумел от ужаса и, сам не понимая, что делаю, сжал копье и занес, чтобы метнуть. Пока я его заносил, лев взвился на задние лапы, так что его голова оказалась выше моей, и ринулся на меня. Все, сейчас он превратит меня в кровавое месиво, но я собрал все свои силы и вонзил расширяющийся стальной наконечник льву в горло, он отпрянул, ослепленный болью, и лапа лишь слегка задела меня, оставив неглубокий след когтей. Лев упал на спину, чуть не насквозь пронзенный моим тяжелым копьем, потом поднялся с воплем душераздирающей боли и высоко прыгнул в воздух — чуть не в два человеческих роста, колотя по копью передними лапами. Снова прыгнул и снова упал на спину — ужасное, непереносимое зрелище. Кровь хлестала из раны багровой струей, зверь с каждым мигом слабел, он уже не мог подняться, вопль перешел в мычанье, в жалобный стон… по телу прошла судорога — он умер. Теперь мне нечего было бояться, но я не мог шевельнуться от страха, меня начала бить дрожь — ведь я же был еще совсем зеленый юнец.
Я в оцепенении глядел на труп несчастного, который дразнил меня трусом, на мертвого льва, и не заметил, как ко мне подбежала какая-то женщина — это оказалась старая Атуа, которая когда-то отдала убийцам своего родного внука, чтобы спасти меня, хотя я до сих пор этого не знал. Она собирала на берегу лекарственные травы, ибо славилась искусством врачевания; о том, что здесь живет лев, она и слыхом не слыхала, ведь львы очень редко появляются там, где люди возделывают землю, они в основном обитают в пустыне и в Ливийских горах, и сейчас она издали увидела, как из зарослей выскочил лев и как какой-то мужчина его убил. Подбежав, она узнала меня и склонилась передо мной в почтительном поклоне, потом простерлась ниц, называла венценосным владыкой, который достоин самых высоких почестей, любимцем богов, избранником Божественной Триады, мало того — величайшим из фараонов, избавителем Египта!
Я решил, что от пережитого страха она повредилась в рассудке, и спросил, почему она ведет такие странные речи.
— Ну да, я убил льва, разве это такой великий подвиг? С чего ты меня так превозносишь? Мало ли охотников, на счету которых не один десяток львов? А божественный Аменхотеп, вступивший в сияние Осириса, в былые времена убил своей собственной рукой больше сотни. Об этом рассказывается на священном скарабее, который висит в покоях моего отца, как будто ты не знаешь. Да он и не единственный, кто так отличился. Чем же ты так восхищаешься, о неразумная женщина?
Все это я произнес в крайнем удивлении, потому что со свойственной молодости самонадеянностью счел свою победу над львом пустяком, не заслуживающим внимания. Но Атуа продолжала петь мне дифирамбы и восхвалять в столь пышных выражениях, что рука не поднимается запечатлеть их на папирусе.
— О царственный отрок, — восклицала она, — сбылось пророчество твоей матери! Поистине, устами ее вещала великая чарами Хатхор, о дитя, зачатое от бога! Я растолкую тебе это знамение, слушай же. Этот лев — Рим, он рычит на нас из Капитолия, а тот, кого лев убил — Птолемей, македонское семя, заполнившее землю царственного Нила, точно зловредные сорняки; и вот ты с помощью Македонских Лагидов сокрушишь льва — Рим. Македонский ублюдок накинется на римского льва, и лев его растерзает, а ты повергнешь в прах льва, и страна Кемет вновь будет свободна — слышишь, свободна! Храни же свои помыслы в чистоте, как повелели тебе боги, о наследник царского трона, надежда кеми! Бойся погубительницы-женщины, и все, что я сказала, исполнится. Кто я? Всего лишь жалкая, несчастная старуха, у которой душа иссохла от горя. Я совершила тяжкий грех, проболтавшись о том, что должно было остаться тайной, и за свое преступление заплатила страшной ценой — жизнью моего внука, плотью от моей плоти, кровью от крови моей, я отдала его собственными рукам палачам и никогда не роптала. Но крупица мудрости нашего народа еще жива во мне, и боги, для которых мы все равны, не отвращают свой лик от страдальцев, и потому мать всего сущего Исида говорила со мной, говорила вчера ночью, — это она повелела мне идти сюда собирать травы и растолковать тебе знамение, которое явила. Помни: пророчество сбудется, если только тебе удастся противостоять величайшему искушению, которое тебя ожидает. Подойди сюда, о государь! — И она подвела меня к берегу канала, где синяя глубокая вода, казалось, застыла, точно зеркало. — Вглядись в свое отражение. Разве это чело не создано для того, чтобы носить корону Верхнего и Нижнего Египта? Разве не сверкает в этих добрых глазах величие рожденных царствовать? Разве не создал творец всего сущего Птах этого благородного юношу, чтобы носить царский наряд и вызывать благоговение народа, который будет видеть в нем бога?
— Да постой, куда же ты! — вдруг закричала она пронзительно и хрипло, как старая карга. — Я сейчас… до чего же глупый мальчишка! Рана, нанесенная львом, страшна и опасна, как укус ядовитой змеи, ее нужно обработать, иначе она покроется гноем, у тебя начнется лихорадка, день и ночь будут мерещиться львы и змеи, змеи и львы. Уж я-то знаю, кому и знать, как не мне. Недаром же я безумная. Запомни: все в этом мире находится в равновесии — безумие наполовину состоит из мудрости, а мудрость из безумия. Ха-ха-ах-ха! Даже фараон не знает, где кончается мудрость и начинается безумие. Ну что стоишь и глазеешь на меня? Видел бы, какой у тебя дурацкий вид, — ни дать, ни взять кошка в жреческом одеянии, как говорят в Александрии. Сейчас я прибинтую к ранам травы, и через несколько дней они заживут, даже шрама не останется. Знаю, больно, но придется потерпеть. Клянусь тем, кто покоится на острове Филе и в Абидосе — или, как его раньше называли наши божественные властители, в Абаде, — а также во всех своих других священных могилах, — так вот, клянусь Осирисом, которого мы все увидим гораздо раньше, чем нам хотелось бы, кожа твоя будет нежной и гладкой, как лепестки цветов, которые мы кладем на алтарь Исиды в вечер новолуния, позволь мне только приложить к ранам эти растения.
— Разве я не права, добрые люди? — обратилась она к небольшой толпе, которая незаметно для меня собралась, пока она вела свои пророческие речи. — Я произносила над ним заклинания, чтобы усилить действие трав, ха-ах-ха-ха! Заклинания — великая сила. Если не верите, приходите ко мне все, чьи жены бесплодны; вы обскребаете одну за другой все колонны в храме Осириса, но мой заговор излечит их быстрее, обещаю. Они станут рожать каждый год, как зрелые пальмы. Но для каждого недуга потребен особый заговор, и для каждого человека тоже, и все их нужно знать, вот так-то. Ха-ах-ха-ха!
Что за чепуху она несет? Я провел рукой по лбу, не понимая, снится мне все это или происходит наяву. Потом посмотрел на собравшихся и увидел в толпе седого мужчину, — он так и впился взглядом в старую Атуа. Позже мне рассказали, что это Птолемеев осведомитель, тот самый, кто донес фараону о пророчестве моей матери и из-за кого солдаты фараона чуть не отсекли мне голову, когда я был младенцем, и после этого я понял, почему Атуа начала молоть такую несуразицу.
— Странные заговоры ты произносишь, старуха, — проговорил соглядатай. — Если я не ослышался, ты говорила о фараоне и о короне Верхнего и Нижнего Египта, о юноше, сотворенном Птахом, чтобы носить ее, так ведь?
— Конечно, ибо таковы слова заговора, дурья твоя башка! Есть ли у нас сейчас что-то более священное, чем жизнь божественного фараона Птолемея Флейтиста, — да продлят извечные боги его дни, — чья музыка чарует нашу счастливую страну? Есть ли для нас что-то более священное, чем корона Верхнего и Нижнего Египта, которую он носит, — он, столь же великий, как Александр Македонский? Кстати, ты у нас все знаешь: удалось ли вернуть его плащ, который Митридат Евпатор увез на остров Кос? Ведь последним, кто его надевал, был, кажется, Помпей, когда праздновал свою победу, — нет, вы только представьте себе: Помпей посмел обрядиться в одеяние великого Александра! Петух в павлиньих перьях беспородный пес рядом с царственным львом! Да, кстати, коль уж мы заговорили о львах, — взгляните на этого юношу: он убил копьем льва, убил сам, один, и вся ваша деревня должна радоваться, потому что лев был свирепый, вон какие у него клыки и когти; конечно, я темная, глупая старуха, но меня от одного их вида в дрожь бросает, — того и гляди, закричу. Ведь этого-то, другого юношу лев убил, лежит, бедняжка, и никогда не встанет. Он теперь Осирис[9], душа его отлетела, остался бездыханный труп, а всего несколько минут назад он говорил, смеялся, двигался. Надо скорей нести его к бальзамировщикам, а то на солнце он раздуется и живот лопнет, не надо будет и разрез делать. Родные не станут на него слишком тратиться. Заплатят за то, чтобы продержали семьдесят дней в соляном растворе, — и все, хватит с него. Ах-ха-ха-ах! Ну и разболталась я, а ведь скоро стемнеет. Берите этого бедняжку, да и льва тоже. А ты, внучок, не снимай повязку из трав, раны и не будут болеть. Хоть я и сумасшедшая, но мне открыто, то что неведомо другим, да, да, мой внук, поверь мне! Какое счастье, что его святейшество верховный жрец усыновил тебя, когда наш фараон — да прославит в веках его божественное имя Осирис — отнял жизнь у его родного сына; до чего же ты красив, до чего силен. Разве тот, настоящий Гармахис, смог бы убить льва, как убил ты? Никогда, клянусь извечными богами! Если у кого и есть отвага, так это у простолюдинов, да, да, я знаю, что говорю!
— Уж больно много ты знаешь, старуха, да и язык у тебя без костей, — проворчал доносчик; Атуа рассеяла все его подозрения. — Что ж, твоему внуку и вправду смелости не занимать. Берите покойного и несите в Абидос, а вы двое останьтесь, поможете мне снять со льва шкуру. Пришлем ее потом тебе, охотник, — продолжал он, обращаясь ко мне, — но не гордись — ты ее не заслужил: так на львов охотятся только глупцы, а глупцу не миновать того, что он заслужил, — гибели. Никогда не поднимай руку на сильного, пока не убедишься, что ты сильнее его.
Я повернулся и пошел домой, размышляя, что все это значит.
Глава III, повествующая о неудовольствии Аменемхета о молитве Гармахиса и о знамении, которое явили ему всемогущие боги
Сначала сок растений, которые старая Атуа приложила к моим ранам, жег их, будто огнем, но мало-помалу боль утихла. Это были поистине чудодейственные травы, потому что через два дня раны зажили, а очень скоро исчезли и следы от шрамов. Но сейчас меня не оставляла мысль, что я нарушил слово, данное верховному жрецу Аменемхету, которого я называл отцом. Я ведь еще не знал, что он и в самом деле мой отец, мне столько раз рассказывали, как его родного сына убили — я уже писал об этом здесь — и как он с благословения богов усыновил меня и с любовью воспитал, чтобы я, когда настанет срок, стал одним из жрецов храма. Я весь извелся от угрызений совести, и я боялся старого Аменемхета, — он был ужасен в гневе, а речь его, когда он отворял уста, была суровым, беспощадным гласом мудрости. И все равно я решился пойти к нему, признаться в своем проступке и принять кару, которой ему будет угодно меня подвергнуть. И вот, держа в руке окровавленное копье, с кровоточащими ранами на груди, я прошел по двору огромного храма к покоям, в которых жил верховный жрец. Это просторное помещение, уставленное величественными статуями богов, днем свет проникает сюда сквозь отверстие, сделанное в массивной каменной крыше, ночью его освещает висячий бронзовый светильник. Я бесшумно вошел в этот зал, ибо дверь была лишь притворена, и, откинув тяжелый занавес, замер, не смея шевельнуться. В висках гулко стучало.
Светильник уже горел, потому что наступила темнота, и в его свете я увидел старого жреца, который сидел в кресле из слоновой кости и эбенового дерева, а на мраморном столе перед ним лежали свитки с мистическими текстами «Книги мертвых». Но он их не читал, он спал, его длинная белая борода лежала на столешнице — казалось, он умер. Неяркий свет висячего светильника выхватывал из темноты его лицо, свиток папируса, золотой перстень на его руке с выгравированными символами Непостижимого, все остальное растворялось в сумраке. Свет падал на его бритую голову, на белое одеяние, кедровый посох — знак власти верховного жреца, на кресло из слоновой кости с ножками в виде лап льва. Какой могучий лоб у моего приемного отца, какие царственные черты, как темны глазницы глубоко посаженных глаз под белыми бровями. Я смотрел на него и вдруг почувствовал, что весь дрожу, ибо от него исходило сверхчеловеческое величие. Он так долго жил среди богов, столько времени провел в их обществе и так проникся их божественной мудростью, так глубоко постиг тайны, о существовании которых мы, простые смертные, лишь едва догадываемся, что уже сейчас, не перейдя черты, отделяющей эту жизнь от загробной, он почти возвысился до всеблагости Осириса, а у людей это вызывает великий страх.
Я стоял, не в силах отвести от него взгляда, а он вдруг открыл свои черные глаза, но на меня не посмотрел, даже головы в мою сторону не повернул, однако же увидел, что я здесь, и произнес:
— Почему ты ослушался меня, мой сын? — спросил он. — Как случилось, что ты пошел охотиться на льва? Ведь я запретил тебе.
— Как ты узнал, отец, что я охотился на льва? — в страхе прошептал я.
— Как я узнал? Ты что же, думаешь, все нужно видеть собственными глазами или слышать от других и нет иных путей познания? Эх, невежественное дитя! Разве не был мой дух с тобой, когда лев прыгнул на твоего спутника? Разве не молился я тем, кто защищает тебя, чтобы твое копье пронзило горло льва, когда ты поднял его и метнул? Так почему же все-таки, мой сын, ты нарушил мою волю?
— Этот хвастун дразнил меня, — ответил я, — вот я и решил доказать, что не трус.
— Да, мой Гармахис, знаю; и я прощаю тебя, потому что ты молод, а молодая кровь горяча. Но теперь выслушай меня, и пусть твое сердце впитает каждое мое слово, как жаждущий песок впитывает воды Сихора, когда на небосклоне загорается Сириус[10]. Так слушай же. Этот задира был послан тебе судьбой, как искус, дабы испытать силу твоего духа, и видишь — ты не выдержал испытания. И посему назначенный тебе срок отодвигается. Прояви ты сегодня твердость, которой от тебя ждали, и ты бы уже знал, какой путь тебе предначертан. Но ты оказался не готов, — стало быть, время твое еще не настало.
— Отец мой, я ничего не понимаю, — проговорил я.
— Ты помнишь, что говорила тебе Атуа на берегу канала?
Я повторил Аменемхету старухины слова.
— И ты поверил ей, мой сын Гармахис?
— Конечно, нет! — воскликнул я. — Как можно верить таким бредням? Она была просто не в себе. Ее все считают помешанной.
И тут он в первый раз посмотрел на меня, стоящего у занавеса в темноте.
— О нет! — вскричал он. — О нет, мой сын, ты ошибаешься. Она не сумасшедшая, и говорила с тобой у канала не она, говорил голос Той, которая никогда не лжет. Наша Атуа — правдиворечивая прорицательница. Узнай же, мой сын, для какой миссии избрали тебя боги Египта, и горе тебе, если ты по слабодушию не выполнишь их предначертания! Итак, внимай же мне: ты вовсе не дитя простолюдинов, которого я якобы усыновил и хочу сделать жрецом нашего храма, ты — мой родной сын, и жизнь твою спасла наша Атуа, та самая старуха, которую ты назвал безумной. Но это еще не все, Гармахис: мы с тобой последние потомки царской династии Египта, единственные законные наследники того самого фараона Нектанеба, которого персидский царь Ох изгнал из Египта. Но персы пришли и ушли, их место заняли македонцы, и вот уже почти триста лет эти узурпаторы Лагиды носят нашу корону, оскверняют нашу прекрасную страну Кемет, глумятся над нашими богами. Но слушай же, слушай дальше: две недели назад наш Птолемей Авлет, этот жалкий музыкантишка, прозванный Флейтистом, который хотел убить тебя, умер; а евнух Потин, тот самый, что приплыл когда-то сюда с палачами, чтобы они отсекли тебе голову, нарушил волю покойного царя и возвел на трон его сына, Птолемея Нового Диониса. Поэтому его сестра Клеопатра, прославившаяся необычайной красотой и необузданностью нрава, бежала в Сирию, где она, если я не ошибаюсь, надеется собрать войско и пойти войной на своего брата, потому что, согласно воле отца, они должны были стать соправителями. А тем временем, мой сын, на наш богатый, но неспособный защитить себя Египет зарится Рим, он словно коршун, который высмотрел на высоте добычу и выжидает, когда можно будет кинуться на жертву и вонзить в нее когти. И вот еще что ты должен помнить: египетский народ не желает больше терпеть иго чужеземцев, людям ненавистно воспоминание о персах, в их сердцах клокочет ярость, когда в Александрии на базарах их называют македонцами. Страна волнуется и бурлит, она уже не может жить под пятой греков и нависшей тенью Рима.
Разве Лагиды не превратили нас в рабов? Разве не убивают они наших детей, не отнимают в своей ненасытной алчности все, что вырастили на полях крестьяне? Разве не пришли в упадок наши храмы? Разве не надругались эти греческие святотатцы над нашими великими извечными богами, не извратили изначальную сущность истины, не отняли у Владыки Вечности его подлинное имя, не осквернили его, назвав Сераписом и нарушив связь с Непостижимым? Разве не взывает Египет о свободе? Неужели он будет взывать напрасно? О нет, мой сын, ибо у него есть избавитель, и этот избавитель — ты. Я уже стар, и потому передаю мое право на трон тебе. Твое имя уже произносят шепотом в святилищах по всей стране, жрецы и простой народ клянутся в верности нашими священными символами тому, кто будет им явлен. Но время еще не настало, ты пока недостаточно силен — такой жестокий ураган ломает хрупкие ростки. Не далее как сегодня тебе было послано испытание, и ты его не выдержал.
Тот, кто решил посвятить себя служению богам, Гармахис, должен восторжествовать над слабостями плоти. Его не должны задевать оскорбления, не должны привлекать никакие земные соблазны. Тебе уготован высокий жребий, но ты должен понять его смысл. Если же ты не поймешь, то не сможешь выполнить свое назначение, и тогда на тебя падет мое проклятье, проклятие нашего Египта, проклятие наших поверженных и оскверненных богов! Знай: в переплетении событий, из которых складывается история мира, бессмертные боги порой прибегают к помощи простых смертных, которые повинуются их воле, как меч повинуется искусной руке воина. Но позор мечу, если он сломается в разгар битвы, — его выбросят ржаветь, и он рассыплется в прах, или переплавят в огне, чтобы выковать новый. И потому ты должен очиститься сердцем, ты должен возвыситься и укрепиться духом, ибо ты избранник судьбы, Гармахис, и все радости простых смертных для тебя презренная суета. Твой путь — путь триумфатора, если ты победишь, путь славы, которая переживет века. Если же ты потерпишь поражение — горе, горе тебе!
Он умолк и склонил голову, потом снова заговорил:
— Обо всем этом ты в подробностях узнаешь позже. Сейчас же тебе предстоит многое постичь. Завтра я дам тебе письмо, и ты поплывешь по Нилу, мимо белостенного Мемфиса в Ана. Там, под сенью хранящих свои тайны пирамид, в храмах которых ты тоже по праву рождения должен стать верховным жрецом, ты проживешь несколько лет и глубже проникнешь в сокровищницу нашей древней мудрости. А я останусь здесь, ибо срок мой еще не исполнился, и с помощью богов буду плести паутину, в которую ты поймаешь гадючье отродье Лагидов и покончишь с ним.
Подойти ко мне, мой сын, подойди и поцелуй меня в лоб, ибо ты — моя надежда, надежда всего Египта. Будь тверд, и судьба вознесет тебя к орлиным высотам славы, где ты пребудешь вовек. Но если ты изменишь своему долгу, если обманешь наш порыв к свободе, то я отрекусь от тебя, страна Кемет предаст тебя проклятью, и твоя душа будет терпеть жесточайшие муки, пока в медленном течении времени зло снова не обратится в добро и Египет не станет наконец-то свободным.
Я приблизился к отцу, дрожа, и поцеловал его в лоб.
— О отец, пусть все кары богов обрушатся на меня, если я тебя предам! — воскликнул я.
— Нет, ты предашь не меня! — загремел его голос. — Ты предашь тех, чьи повеления я исполняю. А теперь ступай, мой сын; вникни в мои слова, пусть они достигнут сокровенных глубин твоего сердца; вбери в себя все, что тебе будет явлено, обогатись сокровищами мудрости, чтобы приготовиться к битве, которая тебе предстоит. Не страшись за себя — ты надежно огражден от всего внешнего зла; единственный враг, который может нанести тебе вред, это ты сам. Я все сказал, ступай.
И я ушел, переполненный волнением. Ночь, казалось, застыла в неподвижности, в дворах храма не было ни единого служителя, ни единого молящегося. Я быстро миновал их и оказался у подножия пилона, что возвышается возле наружного входа. Жаждая одиночества и словно бы стремясь приблизиться к небу, я стал подниматься по лестнице массивного пилона, двести ступеней — и вот я на площадке наверху. Положил руки на парапет и огляделся вокруг. В этот миг над Аравийскими горами показался красный край полной луны, ее лучи упали на башню, где я стоял, на стены храма, осветили каменные изваяния богов. Потом холодный свет стал заливать возделанные поля, где уже поспевала пшеница, небесный светильник Исиды поднимался из-за гор, медленно озаряя долину, по которой катит свои воды отец земли Кемет — Сихор.
Вот яркие лучи коснулись поцелуем легких волн, и те заулыбались в ответ, еще миг — и вся долина, река, храм, город, скалистое нагорье засияли в белом свете, ибо выплыла в небо великая матерь Исида и набросила на землю свой лучезарный покров. Картина была прекрасна, как волшебное видение, и бесконечно торжественна, точно я уже был в потустороннем царстве. Как горделиво возносились в ночь храмы Абидоса! Никогда еще они не казались мне столь величественными — эти бессмертные святыни, над которыми не властно само Время. И мне предстоит царствовать в этой залитой лунным светом стране, на меня возложен долг оберегать эти дорогие сердцу святыни, благоговейно чтить их богов; я избран сокрушить Птолемеев и освободить Египет от чужеземного ига! В моих жилах течет кровь великих фараонов, которые спят в своих гробницах в Долине Царей в Фивах, ожидая дня, когда их душа воссоединится с телом! Какая высокая судьба, не снится ли мне это? Меня захлестывала радость, я сложил перед собой руки и, стоя на верхней башне, стал с неведомым доселе пылом молиться многоименному и многоликому.
— О Амон, — взвывал я, — царь всех богов, владыка вечности, властитель истины, творец всего сущего, расточитель благ, судья над сильными и убогими, ты, кому поклоняются все боги и богини и весь сонм небесных сил, ты, сотворивший сам себя до сотворения времен, дабы пребыть во веки веков, — внемли мне![11] О Амон-Осирис, принесенный в жертву, дабы оправдать нас в царстве смерти и принять в свое сияние; всемудрый и всеблагой, повелитель ветров, времени и царства мертвых на западе, верховный правитель Аменти, — внемли мне! О Исида, великая праматерь-богиня, мать Гора, госпожа волхвований, небесная мать, сестра, супруга, внемли мне! Если я поистине избран вами, извечные боги, дабы исполнить вашу волю, явите мне знамение, и пусть оно свяжет мою жизнь с жизнью горней. Прострите ко мне руки, о премудрые, могущественные, позвольте мне увидеть ваши сияющие лики. Услышьте, о услышьте меня! — И я упал на колени и поднял глаза к небу.
И в этот миг луну скрыло облако, ночь сразу стала темной, все звуки смолкли, даже собаки далеко внизу, в городе, перестали лаять, мир окутала вязкая тишина, она все сгущалась, давя смертельной тяжестью. Душу мне наполнил священный ужас, я чувствовал, что волосы на голове шевелятся. Вдруг мощная башня словно бы дрогнула и закачалась у меня под ногами, в лицо ударил порыв ветра, и голос, исходящий, казалось, из глубин моего сердца, произнес:
— Ты просил явить тебе знамение, Гармахис? Не пугайся — вот оно.
Лишь только голос умолк, моей руки коснулась прохладная рука и вложила в нее какой-то предмет. Лунный лик выглянул из-за облака, ветер стих, башня перестала качаться, и ночь вновь засияла во всем своем великолепии.
Я посмотрел на то, что лежало в моей руке. Это был полураскрывшийся бутон священного цветка — лотоса, от него исходило кружащее голову благоухание.
Я в изумлении глядел на бутон, а он вдруг — о, чудо! — поднялся с моей ладони и растворился в воздухе.
Глава IV, повествующая о том, как Гармахис отправился в Ана и встретился со своим дядей, тамошним верховным жрецом Сепа; о его жизни в Ана и о том, что поведал ему Сепа
На рассвете меня разбудил один из жрецов храма и велел готовиться к путешествию, о котором вчера говорил отец, потому что как раз сегодня в Ана, который греки переименовали в Гелиополис, отплывает барка. Я поплыву на ней с жрецами мемфисского храма Птаха, которые привезли к нам, в Абидос, мумию одного из знатнейших горожан Гелиополиса и похоронили в усыпальнице, сооруженной неподалеку от могилы благодетельного Осириса.
Я стал готовиться и вечером, получив от отца письма и сердечно простившись с ним и со всеми жрецами и служителями нашего храма, кто был мне дорог, дошел до берега Сихора, спустился к пристани и сел на судно. Дул попутный южный ветер. Стоящий на носу кормчий с шестом в руках приказал морякам отвязать от деревянных тумб канаты, которые удерживали барку у причала, и тут я увидел старую Атуа, она, задыхаясь, бежала к барке со своей корзиной целебных трав, наконец доковыляла и, крикнув: «Прощай, сынок, да пребудет с тобою милость богов!» — кинула в меня сандалию — на счастье; я поймал ее и хранил потом долгие годы.
Барка отчалила. Нам предстояло шесть дней плыть по прекраснейшей в мире реке, останавливаясь на ночлег в каком-нибудь удобном месте. Но когда мы отдалились от пристани, когда из глаз скрылся пейзаж, который я видел каждый день с тех пор, как появился на свет, когда я оказался один среди совершенно незнакомых лиц, сердце мое сдавила такая тоска, что я готов был заплакать, и только стыд помог мне удержаться от слез. Не буду здесь описывать чудеса, которые довелось мне увидеть по пути, ведь это только я смотрел на них впервые, всем остальным они известны с тех времен, когда Египтом правили его истинные боги. Однако жрецы, с которыми я плыл, относились ко мне очень почтительно и подробно рассказывали обо всем, что нам встречалось.
На седьмой день утром мы приплыли в Мемфис — Город Белых Стен. Там я три дня отдыхал после путешествия, и жрецы красивейшего в мире храма, посвященного творцу всего сущего — Птаху, развлекали меня и показывали этот дивный, сказочно прекрасный город.
Верховный жрец и двое его приближенных тайно отвели меня в священное обиталище бога Аписа — быка, в обличье которого всемогущий Птах живет среди людей. Бык был черный, с белой квадратной звездочкой на лбу, на крупе белая отметина, формой напоминающая орла, во рту под языком выпуклость, очень похожая на скарабея, кисточка на конце хвоста черно-белая, между рогами пластинка из чистого золота. Я вступил в святилище и совершил обряд поклонения богу, а верховный жрец и его приближенные стояли в стороне и внимательно наблюдали. Когда я закончил ритуал и произнес слова, которые мне было велено произнести, бог опустился на колени и лег возле меня. Верховный жрец и двое его спутников, которые, как я потом узнал, были знатнейшие вельможи Верхнего Египта, приблизились ко мне и склонились в низком поклоне, ошеломленные знамением. Да, много, много удивительного видел я в Мемфисе, но, увы, мне не отпущено времени все это описать.
На четвертый день приехали несколько жрецов из Ана, чтобы отвести меня к моему дяде Сепа, который был верховным жрецом тамошнего храма. Я попрощался со всеми, кто был так добр ко мне в Мемфисе, мы переправились на другой берег, сели на ослов и двинулись в путь.
Сколько нам встретилось по дороге нищих селений, разоренных сборщиками налогов. Но видел я не только эти селения, передо мной впервые в жизни возникло это величайшее из чудес света — пирамиды, а перед пирамидами изображение Хор-эм-ахета, тот самый сфинкс, кого греки называют Гармахисом, храмы божественной праматери Исиды, расточительницы здравия и радости, Осириса, владыки праведности и царства мертвых на западе, божественного Менкаура, храмы, в которых я, Гармахис, согласно священному праву рождения, должен стать верховным жрецом. Я смотрел на пирамиды, и дух захватывало от их величия; как искусно были вырезаны рельефы на белом песчанике, как ослепительно сверкал красный сиенский гранит[12], посылая лучи солнца обратно в небо. В те времена я еще ничего не знал о сокровищах, которые скрыты в третьей по величине из этих пирамид — о, если бы мне никогда не знать этой страшной тайны!
День начал клониться к вечеру, и тут впереди показался Ана. После Мемфиса меня поразило, что город такой маленький. Он стоит на возвышении, в ожерелье озер, питаемых каналом. Дальше, за городом, — храм бога Ра посреди огромной площади, окруженной стенами.
У ворот мы спешились, и под сводами колоннады нас встретил мужчина невысокого роста, но благородной наружности, с бритой головой и темными глазами, которые мерцали, точно далекие звезды.
— Приветствую тебя! — воскликнул он голосом густым и зычным, который никак не вязался с его тщедушным обликом. — Приветствую тебя, о путник! Я — Сепа, отворяющий уста богов.
— А я — Гармахис, — ответил я, — сын Аменемхета, верховного жреца и правителя священного города Абидоса. Я привез тебе письма от отца, о Сепа.
— Входи, — промолвил он. — Входи же! — Его мерцающие глаза внимательно меня разглядывали. — Добро пожаловать, мой сын! — И он повел меня в один из покоев во внутреннем помещении храма, затворил дверь, пробежал глазами письма, которые я ему отдал, и вдруг бросился мне на шею и крепко обнял.
— Будь благословен, — воскликнул он, — будь благословен, сын моей сестры, надежда Кемета! Наконец-то боги услышали мои молитвы и даровали мне счастье узреть твое лицо. Теперь я передам тебе мудрость, которой из всех египтян владею, быть может, один лишь я. Мне дозволено посвящать в нее только избранных. Но тебе предназначена великая судьба, и твои уши услышат изреченное богами.
Он снова обнял меня, потом сказал, что сейчас мне нужно пойти совершить омовение и подкрепиться едой, а завтра утром мы продолжим беседу.
И мы ее не только продолжили, — мы подолгу беседовали чуть не каждый день все годы, пока я жил в Ана, так что пожелай я записать все сказанное дядей Сепа, во всем Египте не нашлось бы столько папируса. Я должен еще так много поведать вам, а времени у меня осталось так мало, поэтому я опущу события нескольких последующих лет.
Жизнь моя шла установленной чередой. Вставал я на рассвете, шел в храм на богослужение и потом весь день до вечера посвящал занятиям. Я изучил все религиозные ритуалы и постиг их смысл, узнал, как появились боги и богини, как возник потусторонний мир. Мне стали понятны тайны движения звезд, путь, который проходит среди них земля. Меня посвятили в древние знания, которые называются волхованиями, в науку толкования снов, я овладел искусством приближаться духом к Всемудрому. Мне объяснили язык священных символов, связь их внешних очертаний и сокровенной сути. Я познал извечные законы добра и зла, тайну, которую несет в себе человек. И еще я постиг тайны пирамид — о, если бы мне никогда их не знать! Я прочел летописи, в которых рассказывалось о делах и днях всех фараонов, начиная с первых царей, правящих после Гора; я овладел искусством врачевания, изучил все тонкости и хитрости дипломатии, историю стран мира, и в первую очередь Греции и Рима. Я достиг совершенства во владении греческим языком и латынью — когда я приехал в Ана, я уже немного знал их, — и все то время, что я там прожил, все долгие пять лет, и руки мои, и помыслы были чисты, ни люди, ни боги не могли бы обвинить меня в том, что я совершил что-то дурное или лелею в душе зло; я без устали трудился, чтобы вобрать в себя все эти знания и стать достойным судьбы, которую мне предначертали.
Два раза в год отец мой Аменемхет присылал мне письма, полные заботы и любви, и дважды в год я отвечал ему, неизменно спрашивая, не считает ли он, что настало время завершить мои труды? Но срок ученичества все длился, длился, и я начал тяготиться этой жизнью, меня охватывало нетерпение, ведь я уже был взрослый мужчина, и не просто по годам — я был ученый муж и, конечно, жаждал деятельности, которой должна быть наполнена жизнь мужчины. Я даже порой сомневался, что мне и вправду предсказано стать венценосцем, — не досужие ли это выдумки мечтателей, принимающих желаемое за действительность? Да, в моих жилах течет кровь фараонов, я это знал, ибо мой дядя Сепа, жрец храма, показал мне хранящуюся ото всех в тайне пластину из сиенского гранита, на которой мистическими символами были выгравированы все до единого имена царей в той последовательности, как они правили. Но что толку от того, что я — законный наследник царского престола, когда моя держава, мой Египет обращен в раба и, постыдно пресмыкается перед погрязшими в роскоши Македонскими Лагидами, пресмыкается так давно, что, может быть, ему уже не хватит сил стереть с лица угодливую улыбку, расправить плечи и, сбросив ненавистное иго, гордо посмотреть в глаза миру со счастливой улыбкой свободного человека?
Вспоминал я и о том, как молился на крыше пилона в Абидосском храме, как боги ответили на мой призыв, и снова меня охватывали сомнения — во сне то было или наяву?
Однажды вечером, устав от занятий, я пошел прогуляться в священную рощу, что находится среди садов храма, и там, погруженный в глубокую задумчивость, чуть не столкнулся со своим дядей Сепа, который тоже медленно шел и о чем-то размышлял.
— Это ты, Гармахис? — крикнул он своим зычным голосом. — Почему так печально твое лицо? Не смог решить задачу, которую я тебе задал?
— Нет, милый дядя, — отвечал я, — задачу я как раз решил, она оказалась совсем не трудной, но ты прав: я в самом деле опечален. Такая тяжесть на сердце, я истомился в этом уединении, мне кажется, меня вот-вот раздавит груз знаний, которые я постиг. Что пользы копить силы, если их нельзя применить?
— Как ты нетерпелив, Гармахис, — ответил он, — это все неразумие юности. Ты жаждешь изведать вкус битвы; тебе наскучило смотреть, как волны набегают на берег, — тебя манит броситься в кипящее бурное море и померяться силами с разъяренной стихией. Значит, ты хочешь покинуть нас, Гармахис? Все карнизы нашего храма залеплены ласточкиными гнездами, и когда птенцы выросли, они улетают, — так и ты, мой Гармахис. Что ж, пусть будет по-твоему: твое время настало, лети. Я научил тебя всему, что знаю сам, и, мне кажется, ученик превзошел учителя. — Он умолк и вытер свои черные блестящие глаза — так огорчила его предстоящая разлука.
— А куда же я направлюсь, о мой дядя? — радостно спросил я. — Вернусь в Абидос, где меня посвятят в таинства богов?
— Да, ты вернешься в Абидос, а из Абидоса поедешь в Алесандрию. В Александрии, о Гармахис, ты займешь трон твоих предков. Слушай же, как обстоят сейчас дела в стране.
Ты знаешь, конечно, что когда этот предатель, евнух Потин, нарушил волю покойного Авлета и сделал единоличным правителем Египта его сына Птолемея Диониса, его сестра, царица Клеопатра, бежала в Сирию. Ведомо тебе и то, что она вернулась, как и подобает царице, с огромным войском и заняла Пелузий, а как раз в это время могущественный Цезарь, великий из великих, избранник судьбы, плыл с небольшим флотом к нам, в Александрию, преследуя Помпея, которого разбил в кровавом сражении при Фарсале. Но когда Цезарь приплыл в Александрию, Помпей уже был мертв, его подло лишили жизни по приказу Птолемея Диониса военачальник Ахилл и командующий римскими легионами в Египте Луций Септимий; когда он прибыл, в Александрии страшно перепугались, хотели даже перебить его ликторов. Но Цезарь, как ты знаешь, захватил юного царя Птолемея Нового Диониса Двенадцатого и его сестру Арсиною и объявил, что распускает войска Клеопатры и войско Птолемея, которым командовал Ахилл, — они расположились друг против друга близ Пелузия и готовились к сражению. Но Ахилл презрел приказ Цезаря и двинулся на Александрию, осадил ее центральные кварталы с царским дворцом и гаванью — цитадель Бруцеум, и долгое время никто не знал, кто же будет править в Египте. Наконец Клеопатра решила, что надо действовать и придумала план — нужно признаться, весьма дерзкий. Оставив свои войска в Пелузии, она подплыла вечером в лодке к Александрии и вдвоем с сицилийцем Аполлодором сошла на берег. Аполлодор завернул ее в драгоценные сирийские ковры и велел отнести ковры в подарок Цезарю. Когда во дворце развернули рулон, внутри оказалась прекраснейшая в мире молодая женщина, к тому же на редкость умная и образованная. И эта юная красавица покорила великого Цезаря — даже горькая мудрость прожитых лет не смогла защитить его от ее чар, и это безумство едва не стоило ему жизни, едва не отняло славу, добытую в бесчисленных войнах.
— Глупец! — прервал я дядю Сепа. — Презренный глупец! Ты называешь его великим — да разве истинно великий человек поддастся уловкам коварной женщины? И это Цезарь, одно слово которого изменяло ход истории! Цезарь, который мановением руки посылал в бой сорок легионов и покорял народы и страны! Цезарь, с его холодным, ясным умом, с его проницательностью, этот прославленный герой попался в сети вероломной женщины! Нет, теперь я знаю: римлянин, которым ты так восхищаешься, был вылеплен из того же теста, что и все смертные, он был ничтожен и слаб!
Сепа внимательно поглядел на меня и покачал головой.
— Не суди так поспешно, Гармахис, умерь свою запальчивость и гордыню. Ведь ты же знаешь: все воинские доспехи скрепляются ремнями, и горе воину, если меч врага их рассечет. Запомни навсегда: нет силы более могущественной, чем женщина во всей ее слабости. Она — высшая повелительница. Она является нам в самых разных обличьях и не гнушается никакими хитростями, чтобы найти путь к нашему сердцу; она мгновенно проницает все и вся, но терпеливо ждет своего часа; она не отдается во власть страсти, как мужчина, но искусно управляет ею, как опытный наездник конем: если надо — натянет поводья, если можно — отпустит. Как для талантливого полководца нет неприступной крепости, так для нее нет сердца, которое бы она не заполонила. Ты молод, твоя кровь пылает огнем? Она будет неутомима в любви, ласки ее не иссякнут. Ты честолюбив? Она подстегнет твою жажду власти и укажет дорогу к вершинам славы. Ты устал, твои силы на исходе? Она даст тебе отдохновение. Ты споткнулся, упал? Она поднимет тебя и утешит, представив поражение блистательной победой. Да, Гармахис, все это подвластно женщине, ибо всегда и во всем Природа — ее верная союзница, а женщина, лаская, поддерживая и утешая тебя, часто лишь играет роль, преследуя свою собственную тайную цель, к которой ты не имеешь никакого отношения. Вот так-то, милый Гармахис: женщина правит миром. Ради нее ведутся войны; ради нее мужчина расточает свои силы, дабы одарить ее богатствами; ради нее он совершает подвиги и преступления, ради нее добивается славы и власти, а женщина рассеянно отворачивается и уходит к другому — ты ей больше не нужен. Она смотрит на тебя и улыбается, как Сфинкс, и ни один-единственный мужчина не разгадал загадку этой улыбки, не проник в тайну ее души. Напрасно ты смеешься над моими словами, Гармахис: поистине велик тот, кто способен противостоять чарам женщины, которая незаметно обволакивает нас и торжествует победу, когда мы и не подозреваем, что повержены.
Я расхохотался.
— Как вдохновенно ты произнес свою проповедь, мой несравненный дядя Сепа, — можно подумать, и тебя опалял огонь этих неодолимых искушений. Нет, за меня ты можешь быть спокоен, мне не страшны женщины со всем их коварством; они не влекут меня, я не желаю даже думать о них, и что бы ты ни говорил, я утверждаю: Цезарь был глупец. Я бы на его месте мгновенно укротил эту распутницу — приказал бы снова закатать ее в ковры и сбросил по дворцовой лестнице прямо в море.
— Молчи! Молю тебя, молчи! — закричал он. — Не искушай судьбу! Да отвратят от тебя боги беду, которую ты накликал на себя, и да сберегут твердость духа и неуязвимость, которыми ты похваляешься. Эх, дорогое мое дитя, ты еще совсем не знаешь жизни, — да, ты красив, как бог, кто сравнится с тобой в силе и ловкости, кто проник в такие глубины знаний, у кого такой дар красноречия, и все равно ты — всего лишь дитя. Мир, в который тебе предстоит вступить, отнюдь не святилище божественной Исиды. Но его можно изменить! Моли богов, чтобы твое ледяное сердце никогда не растаяло, и ты обретешь славу и счастье, а Египет — освобождение. А теперь позволь мне продолжить мой рассказ, — видишь, Гармахис, даже в столь важных поворотах истории решающую роль играет женщина. Брат Клеопатры, Птолемей Дионис, которого Цезарь освободил, предательски восстал против него. Но Цезарь с Митридатом разбили его войска, а сам Птолемей бежал. Он хотел переправиться на тот берег Нила, однако его собственные солдаты, бежавшие вместе с ним, стали цепляться за борта, пытались влезть в лодку и, конечно же, перевернули ее, и Птолемея постиг бесславный конец.
Когда война кончилась, Цезарь объявил младшего сына Птолемея Авлета, Нового Диониса Тринадцатого, соправителем Клеопатры и ее официальным мужем, хотя она только что родила ему сына, Цезариона, а сам отправился в Рим, увез с собой сестру Клеопатры, прекрасную царевну Арсиною, которая должна была идти в цепях за его колесницей во время триумфального шествия по улицам Рима. Но великий Цезарь умер. Он убивал — и его тоже убили, и, умирая, он проявил поистине царственное величие духа. Слушай же дальше. Наша царица, Клеопатра, если дошедшие до меня слухи не лгут, отравила своего брата и супруга, а маленького сына Цезариона посадила рядом с собой на трон, который удерживает с помощью римских легионов и, как говорят люди, Секста Помпея Младшего, занявшего в ее душе и постели место Цезаря. Но в стране кипит недовольство, зреет гнев против нее. По всем городам жители Кемета говорят об избавителе, который должен прийти. Этот избавитель ты, Гармахис. Грядет твой час. Скоро, скоро исполнятся сроки. Возвращайся в Абидос, постигни последние тайны, в которые посвятили нас боги, предстань перед теми, по чьему сигналу грянет гроза. И вот тогда действуй, Гармахис, — отомсти за наш Кемет, освободи страну от римлян и греков и займи принадлежащий тебе по закону трон твоих божественных предков, стань нашим фараоном. Вот для какой доли ты рожден, о царевич!
Глава V, повествующая о возвращении Гармахиса в Абидос; о церемонии Мистерий, посвященных смерти и воскресению Осириса; о призываниях Исиды и о напутствии Аменемхета
На следующий день я обнял моего доброго дядю Сепа и покинул Ана; меня сжигало нетерпение — скорее бы вернуться в Абидос. Не буду описывать свое путешествие, скажу только, что в положенный срок я без приключений вернулся туда, где не был пять лет и один месяц, вернулся не зеленым юнцом, каким его покинул, а зрелым мужем, который постиг науки, созданные людьми, и проник в тайны древней мудрости Египта, дарованной нам богами. Наконец-то я снова увидел родной край, увидел знакомые лица, хотя, увы, многих, кого я ожидал встретить, не было — их души отлетели в царство Осириса. Вокруг расстилались поля, среди которых прошло мое детство, мы приближались к храму, вот и его пилоны, из ворот уже вышли жрецы приветствовать меня, собралась целая толпа народу, впереди стояла старая Атуа, она почти не изменилась за долгие пять лет, прошедшие с того дня, когда она кинула мне вслед сандалию на счастье, только время провело своим резцом еще несколько морщин на ее лбу.
— Гармахис, мой дорогой Гармахис! — воскликнула она. — Наконец-то ты вернулся, наконец мы тебя дождались! До чего же ты красив, еще красивей, чем прежде! И какой сильный, мужественный! Какие могучие плечи, какое благородное лицо! И я когда-то нянчила тебя — как не гордиться старухе! Но ты что-то бледный, эти жрецы в Ана наверняка морили тебя голодом. Забудь их наставления: богам не угодны ходячие скелеты. Как говорят в Александрии: «На пустой желудок ни одна умная мысль в голову не придет». Ах, кукую радость подарили нам боги, какое счастье. Добро пожаловать в свой дом, добро пожаловать! — И, едва я слез с осла, бросилась меня обнимать.
Но я отстранил ее.
— Где отец? Где мой отец? — вскричал я. — Почему его нет здесь?
— Не тревожься о нем, любимый внучек, — отвечала она, — его святейшество здоров; он ожидает тебя в своих покоях. Идем же к нему. О, благословенный день! Ликуй, Абидос!
И я пошел, вернее, побежал к покоям, которые уже описывал, и за столом увидел моего отца Аменемхета, он сидел в той же позе, что и в вечер нашей последней встречи, но как же он постарел! Я приблизился к нему, опустился на колени и поцеловал его руку, а он благословил меня.
— Посмотри на меня, сын мой, — сказал он, — позволь моим старым глазам вглядеться в твое лицо и прочесть твои мысли.
Я поднял к нему голову, и он долго не отрывал от меня внимательного взгляда.
— Да, я проник в твою душу, — наконец произнес он, — твои помыслы чисты и твоя мудрость глубока; ты не обманул моих надежд. О, каким одиночеством были наполнены для меня эти годы, но я не напрасно посылал тебя в Ана. Расскажи же мне о своей тамошней жизни, твои письма были так скупы, а сердцу отца драгоценно все, что касается сына, тебе это пока неведомо.
И я начал свой рассказ; уже давно настала ночь, а мы все не могли наговориться. Перед тем как проститься, он мне сказал, что теперь я должен готовиться к посвящению в последние таинства, которые открываются лишь избранникам богов.
И целые три месяца я готовился к великому событию, как того требуют веками чтимые обычаи. Я не ел мяса. Все дни проводил в святилищах, постигая тайны Великого Жертвоприношения и скорбь Благословенной Матери. Во время ночных бдений я молился перед алтарями. Мой дух возносился к Богу, я чувствовал, что между мною и Непостижимым установилась связь, земля и все земные радости стали казаться пустой, ничтожной суетой. Я больше не жаждал славы среди людей, мое сердце парило высоко над этим желанием, точно раскинувший крылья орел, оно было глухо к воплям страждущих, а красота земли не наполняла его восторгом. Ибо надо мной простирался бездонный небесный свод, по которому начертанным им путем движутся извечные звезды, определяя судьбы людей, где на своих огненных тронах восседают великие божества, наблюдая, как по сферам мироздания катится колесница Провидения. О блаженные часы медитации! Может ли тот, кто хоть раз изведал счастье, которое вы дарите, желать возврата на землю, где мы пресмыкаемся во прахе? О низменная плоть, как властно ты влечешь нас в бездну! Почему мне не удалось избавиться от тебя тогда, чтобы моя освобожденная душа устремилась к Осирису!
Три месяца искуса даже не пролетели, а промчались; близился день, когда я воистину соединюсь с Матерью Всего Сущего. Как жаждал я увидеть твой светлый лик, о Исида, — трепетнее, чем Ночь ждет встречи с Рассветом, пламеннее чем влюбленный томится по своей прекрасной невесте. И даже сейчас, после того, как я тебя предал, когда ты недосягаемо далеко от меня, о божественная, душа моя рвется к тебе и я знаю, что ты по-прежнему… Но мне запрещено приподнимать завесу и рассказывать о том, что хранилось в тайне с сотворения мира, и потому позвольте мне продолжить мое повествование и с благоговением описать события того священного утра.
Семь дней продолжалось великое празднество, семь дней разыгрывались мистерии, посвященные тому, как олицетворение тьмы и зла Сет преследовал и наконец предательски умертвил Владыку Праведности Осириса, как Великая Матерь Исида оплакивала мужа, как ликовал мир, когда родился сын Осириса, божественный младенец Гор, который отомстил за отца и занял свое место среди сонма богов. Мистерии разыгрывались в строгом соответствии с древними канонами. По священному озеру плавали лодки, жрецы стегали себя плетьми перед святилищами, ночью по улицам носили изображения богов.
И вот на седьмой день, когда солнце опустилось к горизонту, в храмовом дворе снова собралась огромная процессия, и хор стал петь о горе Исиды и о том, как зло было отомщено. Потом мы молча вышли из ворот и двинулись по улицам города. Служители храма прокладывали нам путь в толпе; впереди шествовал мой отец Аменемхет в парадном одеянии верховного жреца и с посохом из кедрового дерева в руке. Шагах в десяти от него в полном одиночестве шагал я, облаченный в одежды из чистого льна, как подобает тому, кто готовится принять посвящение; далее следовали жрецы в белых балахонах, с флагами на шестах и священными символами. За главными жрецами выступали младшие жрецы, они несли священную барку, потом следовали певцы и плакальщицы, а дальше извивалась нескончаемая траурная процессия, все были в черном, потому что Осирис умер. Мы в молчании прошли по улицам города и вернулись к храму. Когда отец мой, верховный жрец Аменемхет, вступил в храмовый двор через главный вход между пилонами, мелодичный женский голос запел священное песнопение:
Горе, о, горе: умер Осирис!
Скорбите, люди, скорбите, великие боги!
Светоч творенья угас.
Солнце померкло,
Тьма пеленою окутала мир.
Рыдает Исида над телом любимого мужа.
Плачьте, о звезды, плачьте, светила,
Плачьте, дети Сихора, — ваш повелитель мертв!
Нежный голос поющей умолк, но огромная толпа подхватила скорбные слова погребального гимна:
Несем свою скорбь мы в залы великого храма,
Несем свою скорбь в семь его древних святилищ,
Пламенно молим светлого бога: «Воскресни!
Вернись к нам, Осирис, из мрачного царства Смерти!
Вернись, благодатный, даруй нам надежду и радость!»
Замерли печальные голоса хора, и снова вступила певица:
Плачут, скорбя вместе с нами, привратные башни,
Плачут священные рощи,
Плачут озера,
Плачет божественный храм,
Плачут семь его древних святилищ.
Плачут вечные стены,
Плачут, обнявши друг друга,
Изваянья небесных сестер — Исиды и Нефтиды.
И снова воззвал тысячеголосый хор:
Несем свою скорбь мы в залы великого храма,
Несем свою скорбь в семь его древних святилищ.
Пламенно молим светлого бога: «Воскресни!»
Вернись к нам, Осирис, из мрачного царства Смерти!»
Вернись, благодатный, даруй нам надежду и радость!
Опять звучит нежный, проникающий в самое сердце голос:
Супруг возлюбленный, мой повелитель,
Мрак и холод в царстве Аменти тебя окружают.
Твоя Исида зовет: приди, не будь так далек от меня!
Ты — сияние Ра.
Вырвись из тьмы,
Что стеною тебя оградила.
Я ищу тебя, я жажду увидеть тебя,
Сердце горит от разлуки.
Где только я ни искала тебя:
И на земле, и в тверди небесной,
В глубинах вод и на звездах.
Силы иссякли, а слезы мои никогда не иссякнут.
Я тоскую, супруг мой, воскресни из мертвых,
Вернись, наш Осирис, верни нам надежду и жизнь!
Несем свою скорбь мы в залы великого храма.
Несем свою скорбь в семь его древних святилищ
Пламенно молим светлого бога: «Воскресни!
Вернись к нам, Осирис, из мрачного царства Смерти!
Вернись, благодатный, даруй нам надежду и радость!»
В голосе поющей зазвенела радость:
Глядите — он оживает!
Он воскресает — о чудо!
Славен сын Нут, зачатый в божественном лоне!
У врат тебя ожидает Исида,
Ожидает возлюбленная твоя жена.
Богиня тебя обнимает,
Припадает к твоей груди,
Вдыхает в тебя свою жизнь.
О диво, великое диво —
Он дышит, он пробудился от сна!
Благословенны пальцы Исиды, несущие жизнь!
Осирис, всемудрый, всеславный, всезиждитель.
Снова ты с нами!
С неба слетает подобный пламени сын твой Гор
И гонит Сета-злодея к месту казни.
Мы склонились перед Божественным Владыкой, а голос поющей теперь ликовал, и на это ликование, казалось, отозвались даже могучие древние стены, а сердца внимающих ей стеснились неизъяснимым волнением. Но вот прекрасная мелодия отзвучала, и в огромный двор спустилась тишина. Мы двинулись дальше, и она запела Песнь Воскресшего Осириса, Песнь Надежды, Песнь Торжества:
Осирис, Исида, Гор,
Пребудьте славны вовек!
Осирис, Исида, Гор,
Пребудьте с нами вовек!
Да правит миром добро,
Да сияют правда и свет!
Мы падаем ниц перед вами —
Перед Великой Священной Триадой!
Этот храм — ваш божественный дом,
Здесь ваш трон, здесь мы молимся вам!
Юный Гор защитил нас от зла.
Радуйтесь, люди, радуйся, мир,
Всеблагие вовеки с нами!
И опять, когда замерли последние звуки, нас оглушил могучий хор:
Несем свою скорбь мы в залы великого храма,
Несем свою скорбь в семь его древних святилищ
Пламенно молим светлого бога: «Воскресни!
Вернись к нам, Осирис, из мрачного царства Смерти!
Вернись, благодатный, даруй нам надежду и радость!»
Вот хор умолк, и в тот миг, когда последний крошечный сегмент солнечного диска скрылся за горизонтом, верховный жрец взял в руки статую живого бога Осириса и поднял перед толпой, которая заполнила весь храмовый двор. С уст людей сорвался оглушительный крик самозабвенного восторга: «Осирис! Осирис! Ты воскресил нашу надежду!», все стали срывать с себя черные плащи, под которыми оказались праздничные белые одежды, потом вся многотысячная толпа склонилась перед богом, и празднества на этом кончились.
Но для меня самое главное только начиналось — нынешней ночью мне предстояло таинство посвящения. Покинув храмовый двор, я совершил омовение, облачился в одежды из тончайшего льна, вошел в одно из храмовых святилищ — но не в его святая святых — и возложил жертвенные приношения на алтарь. Потом воздел руки к небу и надолго погрузился в медитацию, пытаясь с помощью молитв возвыситься и укрепиться духом, дабы достойно выдержать тяжкое испытание.
Час медленно тек за часом в безмолвии храма, но наконец дверь отворилась, и в святилище вошел мой отец, верховный жрец Аменемхет, облаченный в белое, и с ним жрец Исиды. Ведь отец был женат и не имел права участвовать в таинствах Благотворящей Праматери.
Я поднялся с колен и смиренно встал перед ними.
— Готов ли ты? — вопросил жрец и поднял светильник, который принес, так что пламя озарило мое лицо. — Готов ли ты, о избранный, предстать пред ликом великой богини?
— Готов, — прошептал я.
— Обдумай все еще раз, — торжественно произнес он. — Это очень важное решение. Если ты так упорно стоишь на своем, ты должен знать, царевич Гармахис, что нынешней же ночью твоя душа покинет свою земную оболочку, и все то время, пока она будет пребывать в царстве духа, ты останешься лежать в храме трупом. И когда ты после смерти предстанешь перед судьями Аменти и они — да не допустит этого благостный Осирис — увидят в твоем сердце зло, горе тебе, Гармахис, ибо дыхание жизни никогда больше не вернется в твое тело, оно без следа исчезнет; что же случится с другими элементами твоего существа, я не имею права тебе открыть, хоть и знаю[13]. Поэтому загляни в себя еще раз и ответь мне: чисты ли твои помыслы и свободны ли от тени зла? Готов ли ты, чтобы тебя приблизила к себе Та, что вечно была, есть и будет, готов ли беспрекословно выполнять ее священную волю, выполнять все, что бы она ни приказала; готов ли по ее велению отринуть все мысли о земных женщинах, готов ли до конца дней служить Ей, умножая ее славу, пока Она не заберет тебя к себе, в царство вечной жизни!
— Готов, — ответил я. — Веди меня.
— Что ж, хорошо, — произнес жрец. — Прости, благородный Аменемхет, теперь мы пойдем с ним вдвоем.
— Прощай, мой сын, — сказал отец, — будь тверд, и ты восторжествуешь в лучезарном царстве духа, как восторжествуешь потом на земле. Тот, кто воистину хочет править миром, должен сначала вознестись над ним. Он должен почувствовать себя равным Великому Творцу, ибо только это ощущение позволит ему постигнуть божественные тайны. Но помни: боги очень ревниво относятся к смертным, которые посмели приблизиться к их избранному сонму миродержцев. Если эти смертные возвращаются к живым на землю, их судят по более суровым законам и налагают более жестокую кару, и если они совершат зло, то на века покроют себя черным позором, зато их добрые деяния воссияют в истории народов и стран как солнце. Итак, мой царственный Гармахис, укрепи свое сердце мужеством! И когда ты будешь лететь по просторам Ночи и потом вступишь в царство Всеблагих, помни: тот, кого щедро одарили, должен так же щедро одарять других. А теперь, если ты действительно решился, ступай туда, куда мне пока нельзя тебя сопровождать. Прощай же!
Его слова тяжким грузом придавили мое сердце, и удивительно ли, что я на миг заколебался! Но мне так страстно хотелось оказаться среди сонма небесных сил, и я знал, что моя душа и помыслы свободны от зла, я мечтал свершить лишь то, что справедливо. С каким трудом натягивал я тугую тетиву… нет, стрела должна вылететь!
— Идем! — воскликнул я. — Веди меня, о мудрый жрец! Я следую послушно за тобой.
И мы двинулись в путь.
Глава VI, повествующая о посвящении Гармахиса; о явленных ему видениях; о пребывании в городе, который находится в царстве мертвых; об откровениях Исиды — Вестницы Непостижимого
Безмолвно вступили мы в святилище Исиды. Зал был темен и пуст, дрожащий огонек светильника тускло освещал рельефы на стенах — бесчисленные изображения Небесной Матери Исиды, кормящей грудью младенца Гора. Жрец затворил двери и запер их.
— В последний раз вопрошаю тебя, — произнес он, — воистину ли ты готов, Гармахис?
— Воистину, — ответил я, — воистину готов.
Больше он ничего не сказал, он лишь воздел к небу руки в молитве, потом отвел меня в центр святилища и, быстро дунув на светильник, погасил пламя.
— Смотри же, о Гармахис! — воскликнул он, и голос его отозвался гулким эхом в мрачном зале.
Я стал всматриваться в темноту, но ничего не увидел. Однако из ниши высоко в стене, где, скрытый от взоров, находится священный символ богини, лицезреть который дозволено лишь избранным, послышались звуки, словно бы кто-то играл на систре[14]. Я слушал мелодичные переливы, пораженный благоговейным ужасом, и вдруг — о, чудо! — увидел самый символ, очертания которого как бы горели в плотной черноте. Он парил надо мной, и из него лился нежный перезвон. Потом символ повернулся, и я ясно увидел вырезанное на одной стороне пластины лицо Благотворящей Матери Исиды, которая воплощает вечное рождение жизни, а на другой стороне — лицо ее небесной сестры Нефтиды, которая олицетворяет возвращение всего рожденного в смерть.
Пластина медленно изгибалась и раскачивалась надо мной, как будто высоко в воздухе танцевало мистическое существо. Но вот огонь, очерчивающий контуры символа, погас, треньканье смолкло. И тут дальний конец зала ярко озарился, и в этом ослепительном свете передо мной стали одна за другой разворачиваться удивительные картины. Я увидел древний Нил, несущий свои воды через пустыни к морю. На его берегах не было людей, не было ни одного возделанного поля, не было храмов, воздвигнутых в честь богов. Только вольные птицы безмятежно плавали по зеркальной поверхности Сихора, да странные чудища плюхались с берегов в воду и неуклюже барахтались, поднимая тучи брызг. Над Ливийской пустыней величественно опускалось к горизонту солнце, окрашивая реку в кроваво-красный цвет; в безмолвное небо возносились горы; но ни в горах, ни в пустыне, ни на реке не чувствовалось присутствия человека. И тогда я понял, что вижу мир таким, каков он был до появления людей, и душу мне пронзило одиночество этого мира.
Видение исчезло, на его месте появилось другое. Снова я увидел берега Сихора, и на них стаи волосатых существ, больше похожие на обезьян, чем на людей: они дрались и убивали друг друга. Пылали подожженные тростниковые хижины, мародеры тащили из них пожитки своих врагов. Вольные птицы в испуге поднялись в воздух и улетели. Эти существа крали, зверствовали, грабили, истребляли друг друга, раскалывали детям головы каменным топором, так что разлетались мозги. И хотя жрец ничего не объяснял мне, я понял, что вижу человека таким, каким он был десятки тысяч лет назад, когда лишь появился на земле.
Вот возникла новая картина. Слова передо мной были берега Сихора, но теперь на них стояли города, прекрасные, как в сказке. Вокруг раскинулись бескрайние возделанные поля. В ворота городов свободно входили люди и так же свободно выходили. Не было ни стражей, ни солдат, ни оружия. Здесь царили мудрость, благоденствие, мир. И пока я с восхищением глядел на это чудо, послышалась музыка и из святилища вышел удивительной красоты мужчина в сияющих одеждах и, окруженный неизвестно откуда звучащей музыкой, двинулся на рыночную площадь, которая была расположена на самом берегу, и там сел на трон из слоновой кости лицом к воде; лишь только край солнца коснулся горизонта, он призвал огромную толпу к молитве. Все благоговейно склонились, и стройно понеслись слова молитвы, точно их произносил один человек. И я понял, что в этой картине мне явлены времена, когда на земле царили боги, а было это задолго до правления фараона Менеса.
Но вот картина стала меняться. Тот же самый прекрасный город, но люди уже другие — их лица искажены алчностью и злобой, сердца переполняет ненависть к добру и благочестию, их неудержимо влечет к себе порок. Настал вечер; прекрасный светозарный бог взошел на трон и призвал к молитве, но ни единый человек в толпе не склонился, никто не сотворил ее.
— Ты надоел нам! — закричали голоса в толпе. — Посадим на трон Зло! Убьем его! Убьем! Освободим томящееся в оковах Зло! Пусть оно правит нами! Да здравствует Зло!
Прекрасный бог встал и долго смотрел кротким взглядом на беснующуюся толпу.
— Вы сами не ведаете, чего пожелали, — наконец произнес он, — но пусть ваше желание исполнится, раз уж оно так сильно. Ибо даже если я умру, вы все равно после долгих мук снова найдете с моей помощью путь в Царство Добра!
И едва он произнес эти слова, как на него набросилось отвратительное чудовище и, изрыгая проклятья, убило бога и зверски растерзало, разорвало на части прекрасное светозарное тело, а потом под ликующие вопли толпы село на трон и стало править. Но с неба на радужных крыльях спустилась тень, лицо которой было скрыто покрывалом, и, рыдая, стала собирать растерзанные останки светозарного бога. Потом пала на них, но немного погодя подняла голову и воздела к небу руки, обливаясь слезами. Слезы ее лились и лились, и вдруг возле нее возник воин в полном боевом снаряжении, и лицо его было подобно лику всеиспепельяющего Ра в полдень. Божественный мститель с кличем устремился к чудовищу, которое заняло трон, они сплелись, пытаясь одолеть друг друга, и так, в вечном нерасторжимом объятии борьбы унеслись в небеса.
Быстрее замелькали картины. Я видел царей и народы, менялись их одежды, по-разному звучали языки, на которых они говорили. Сколько их было — не счесть, и каждый любил, ненавидел, боролся, страдал, умирал… Несколько счастливых лиц, несколько лиц, отмеченных печатью глубочайшей скорби, но и счастье, и скорбь встречались так редко, на всех остальных бесчисленных миллионах лиц застыла тупая покорность. Сменялись поколения, а высоко в небе Мститель по-прежнему сражался с Владыкой Зла, и победа склонялась то в сторону одного, то в сторону другого. Но ни один так и не одержал верх, и мне не дано узнать, чем кончится их битва.
Я понял, что видения, которые мне были явлены, рассказывают о великой борьбе сил Добра и Зла. Я понял, что человек был сотворен жестоким и порочным, но высшие силы исполнились к нему сострадания и снизошли на землю, желая сделать его добрым и счастливым, ибо доброта и есть счастье. Но человек не мог одолеть свою злобную натуру, и светлый дух Добра, которого мы называем Осирисом, хотя у него бесконечное множество имен, принес себя в жертву во имя искупления жестокости тех, кто отринул его. Потом от него и от Божественной Матери, животворящей всю природу, родился еще один бог, который охраняет нас на земле, как Осирис защищает нас в Аменти.
Вот она, разгадка таинства Осириса.
Эта истина вдруг открылась мне, когда я глядел на проплывающие передо мной видения. Суть посвященных Осирису мистерий обнажилась, точно мумия, с которой сорвали погребальные пелены, и мне стал внятен смысл нашей религии: ее основа — Искупительная Жертва.
Видения исчезли, и снова жрец, приведший меня сюда, спросил:
— Проник ли ты, о Гармахис, в значение того, что тебе было позволено увидеть!
— Проник, — ответил я. — Стало быть, обряд посвящения завершен?
— О нет, он только начался. Тебе предстоит долгий путь, и ты пойдешь по нему один. Сейчас я оставлю тебя и вернусь, когда встанет солнце. Но я еще раз хочу остеречь тебя: лишь немногие могут выдержать то, что тебе начертано увидеть, и остаться в живых. За всю мою жизнь только три смельчака отважились подвергнуться этому страшному испытанию, и пережил его лишь один, двое других лежали мертвые, когда я приходил за ними утром. Сам я не решился подняться по этой тропе. Такая высота не для меня.
— Ступай, — ответствовал я. — Душа моя жаждет знания. Ничто меня не остановит.
Он возложил мне руку на голову, благословил и пошел прочь. Я слышал, как он закрыл за собой дверь, как потом долго замирало эхо его неторопливых шагов.
И вот я почувствовал, что остался один, один в святилище, наполненном присутствием неземных существ. Все окутала тишина, глубокая и черная, как царящий в храме мрак. Тишина наползала, сгущалась, как то облако, что скрыло лик луны, когда я еще юношей молился ночью на площадке пилона. Вязкая, тягучая, она проникла в мое сердце и там закричала: ведь голос полного безмолвия страшнее леденящего кровь вопля. Я произнес какие-то слова, но эхо отлетело от стен — оглушенный, я чуть не упал. Нет, безмолвие было легче вынести, чем такое эхо. Что мне предстоит увидеть? Неужели я сейчас умру, умру в расцвете молодости и сил? Недаром и меня столько раз предупреждали, что испытание будет ужасным. Страх сковал меня, в сознании билась одна только мысль — бежать, бежать! Бежать… но куда? Двери храма заперты, я в ловушке. Я наедине с богами, наедине с небесными силами, которые я вызвал. Нет, нет, мое сердце чисто, в нем нет ни крупицы зла. Пусть я умру, но я выдержу, выдержу предстоящий мне ужас.
— Исида, Благостная Праматерь, Небесная Супруга, — начал я молиться, — снизойди ко мне, поддержи меня, вдохни в меня силы, побудь со мной.
И вдруг я почувствовал, что что-то произошло. Воздух вокруг меня с шумом всколыхнулся, словно рассекаемый взмахами орлиных крыльев, ожил. В меня впились горящие глаза, душа содрогалась от страшных шорохов. Тьму пронзили лучи света. Лучи мерцали и переливались, они наплывали друг на друга, сплетались в мистические знаки, смысла которых я не понимал. Лучи кружились и плясали все быстрее и быстрее, мистические знаки сближались, соединялись, наливались огнем, гасли, снова вспыхивали, и, наконец, все слилось в бешеном вихре, глаза уже не могли различить форм и оттенков. Я плыл по светозарному океану, волны взлетали, низвергались, меня то возносило ввысь, потом швыряло в бездну. Свет, сияющий беспредельный свет, и я в экстазе ликования парю в нем!
Но мало-помалу кипящие волны воздушного океана начали меркнуть. По поверхности побежали огромные тени, снизу поднималась чернота, тени и мрак слились, и только я горел огненной вспышкой, точно звезда на челе безбрежной ночи.
Где-то вдалеке раздались грозовые раскаты музыки. Они приближались, пронизывая мрак, и он сначала отзывался на них легким трепетом. Но музыка неотвратимо надвигалась, накатывала, как прибой, грозная, могучая, оглушающая, и вдруг хлынула, налетела на меня, словно обрушив плеск крыльев огромной стаи птиц, все ревело и дрожало вокруг меня, и душа готова была разорваться от ужаса и восторга. Но вот все проплыло мимо, раскаты слышались все тише и наконец замерли где-то в далеких пространствах. Еще несколько раз я окунался в стихию музыки, и всякий раз она была разной. То словно бы бряцали тысячи систр; то раздавался рев бесчисленных медных труб; то овевало пение нежных, неземных голосов; то мир медленно наливался громом мириадов барабанов. Но вот все звуки отзвучали; замерло эхо, и снова на меня навалилось и стало душить безмолвие. Я чувствовал, что силы мои слабеют, жизнь иссякает во мне. Приближалась смерть, и смерть эта была — Безмолвие. Она вошла в мое сердце и наполнила его цепенящим холодом, но мысль моя была еще жива, я все ясно осознавал. Я знал, что медленно приближаюсь к черте, отделяющей царство живых от царства мертвых. Медленно? Нет, меня стремительно несет к ней, и, о боги, как же мне страшно! Молиться, нужно молиться, но поздно, уже нет времени для молитвы. Миг отчаянной борьбы, потом в мое сознание влилось успокоение. Ужас исчез, сон, тяжкий, как каменная глыба, расплющил меня. Я умираю, мелькнуло в последнем проблеске сознания, вот она, смерть… и меня поглотило ничто.
Я умер!
Но что это? Жизнь возвращается ко мне, хотя между той, прежней жизнью и этой, новой — пропасть, она совсем другая. Я снова стою в темноте храма, но тьма больше не слепит меня. Она прозрачная, как свет дня, хотя и черная. Да, я стоял, я был жив, и все же это был не совсем я, это была моя душа, ибо рядом на полу лежала моя мертвая земная оболочка. Лежала тихо, недвижимо, и на лице, в которое я вглядывался, застыло страшное последнее спокойствие.
Не знаю, сколько я так стоял и в изумлении разглядывал сам себя, но вдруг и меня подхватили огненные крылья и понесли прочь, так быстро, что за нами не угнаться самой молнии. Я падал вниз в бездонные пространства пустых миров, где лишь переливались венцы созвездий. Мы пронзали бесконечность, и, казалось, полет наш будет длиться вечно, но вот он наконец замедлился, и я увидел, что парю в куполе мягкого тихого света, разлитого над храмами, дворцами и домами волшебной красоты, такие никогда не снились людям на земле даже в самых чудесных снах. Они были сотворены из пламени и мрака. Их шпили возносились головокружительно высоко, вокруг цвели пышные сады. Я парил в невесомости, а картина беспрерывно изменялась перед моими глазами: пламя обращалось в тьму, тьма вспыхивала пламенем. Сверкали и переливались, точно драгоценные камни, радуги, затмевая свет, который заливает Царство Мертвых. Я видел деревья, и шелест их листьев был отраден, как музыка; меня овевал ветерок, и его дуновение, казалось, приносит нежную песнь.
Ко мне устремились существа прекрасные, таинственные, с зыбкими, текучими очертаниями, и опустили меня вниз, и я словно бы встал на землю, только не на ту, прежнюю, а на какую-то другую.
— Кто явился к нам? — вопросил глас божества, приводящий в священный трепет.
— Гармахис, — отвечали существа с зыбкими, текучими очертаниями. — Тот самый Гармахис, которого вызвали с Земли, чтобы он взглянул в лицо Той, что вечно была, есть и будет. Явился сын Земли Гармахис!
— Откройте же ворота и распахните двери! — повелел глас божества. — А потом замкните ему уста немотой, дабы его голос не нарушил небесную гармонию; отнимите у него зрение, дабы он не увидел того, что не предназначено для очей смертных, и отведите туда, где пребывает Единый. Ступай, сын Земли; но, прежде чем идти, взгляни наверх, и ты поймешь, как далеко сейчас от тебя твоя Земля.
Я поднял голову. За ореолом немеркнущего света, который сиял над городом, простиралась черная ночь, и высоко в этом черном небе мигала маленькая звезда.
— Се мир, который ты оставил, — произнес глас, — взирай и трепещи.
Чьи-то руки коснулись моих уст, и их сковала немота, коснулись глаз — и я ослеп. Ворота отворились, двери распахнулись во всю ширь, и меня внесли в город, который находится в Царстве Мертвых. Мы двигались очень быстро, куда — не знаю, но скоро я почувствовал, что стою на ногах. И снова глас божества повелел:
— Снимите с его глаз черное покрывало, разомкните ему уста, и пусть к сыну Земли, Гармахису, вернуться зрение и слух и ясность мысли, пусть он благоговейно падет ниц в святилище Той, что вечно была, есть и будет.
К моим устам и векам снова прикоснулись, и я вновь обрел зрения и речь.
О, чудо! Я стоял в зале из чернейшего мрамора, таком высоком, что даже в розоватом свеете, что освещал его, мои глаза едва различали могучие своды потолка. Звучала тихая торжественная музыка, вдоль стен стояли длинные, вытянутые во всю их высоту, крылатые духи, сотканные из бушующего пламени, и пламя это так слепило глаза, что смотреть на них было невозможно. В центре зала был алтарь, маленький, квадратный, пустой, и я стоял перед ним. Снова раздался глас:
— О Ты, которая всегда была, есть и будешь; Ты, Многоименная, истинного имени которой назвать нельзя; Ты, Измерительница Времени, Посланница Богов, Охранительница миров и всех существ, что их населяют; Матерь вселенной, до которой было лишь Ничто; Ты, Творящая, но Несотворенная; Светозарная Жизнь, не заключенная в форму; Живая Форма, не облеченная в материю; Исполнительница Воли Непостижимого; Дитя порядка, рожденного из хаоса; Держащая в своих руках весы и меч Судьбы; Сосуд Жизни, через который протекает вся жизнь, дабы вновь в него вернуться; Ведущая Запись всему, что совершается в истории; Исполнительница предначертанного Провидением, ВНЕМЛИ МНЕ!
Египтянин Гармахис, вызванный твоею волей с Земли, ожидает перед твоим алтарем, глаза его обрели зрение, уши — слух, сердце открыто. Внемли мне и слети к нам! Явись, о Многоликая! Яви свое сияние! Дай нам услышать тебя! Пусть дух твой осенит нас. Услышь меня и предстань пред нами!
Призывания смолкли, настала тишина. Потом в тишине словно бы зарокотало море. Но вот рокот стих, и я, повинуясь неведомой мне силе, опустил руки, которыми закрывал лицо, и посмотрел вверх: над алтарем клубилось маленькое темное облачко, и из него то вдруг появлялся огненный змей, то исчезал внутри.
И тогда все божества и духи, облаченные в свет, пали на мраморный пол и стали громко молиться; но я не понимал ни единого слова из того, что они произносили. Темное облачко — о, чудо! — опустилось на алтарь, огненный змей потянулся ко мне, лизнул мой лоб своим раздвоенным язычком и скрылся. Из облачка послышался небесно нежный голос, тихий и царственный:
— Удалитесь, мои служители, оставьте меня с сыном Земли, которого я призвала к себе.
И точно стрелы, выпущенные из лука, облаченные в пламя духи и божества улетели прочь.
— Не бойся, о Гармахис, — произнес голос. — Я — Та, которую ты знаешь под именем Исиды, это имя мне дали египтяне; не пытайся узнать обо мне что-то еще — это тебе недоступно. Ибо я — все сущее. Жизнь — моя душа, Природа — облачение. Я — смех ребенка, я — любовь юной девушки, я — поцелуй матери. Я — дитя и служанка Непостижимого, который есть Бог, или Великий Закон Мироздания, или Судьба, хотя сама я и не Богиня, и не Судьба, и не Закон. Это мой голос ты слышишь, когда на земле дуют ветры и ревут океаны; когда ты глядишь на звездную твердь, ты видишь мой лик; когда весной все покрывается цветами, это я улыбаюсь, о Гармахис. Ибо я — сущность Природы, и все, что она созидает, есть я. Все живое одухотворено моим дыханием. Я рождаюсь и умираю, когда рождается и умирает луна; я поднимаюсь с волнами прилива и вместе с ними опадаю; я встаю на небе, когда встает солнце; я сверкаю в молнии и грохочу в раскатах грома. Я все великое и грозное, что царствует и повелевает, я все малое и смиренное, что прозябает в ничтожестве. Я в тебе, Гармахис, а ты — во мне. То, что вызвало из небытия тебя, вызвало и меня. И потому хоть велико мое могущество, а тебе подвластно так мало, — не бойся. Ибо нас связывает общая нить жизни — той жизни, что течет по этой нити через просторы вселенной к солнцам и звездам, к божествам и душам людей, объединяя всю природу в единое целое, вечно меняющееся и во веки веков неизменное.
Я склонил голову — говорить я не мог, меня сковывал страх.
— Ты верно служишь мне, о сын мой, — продолжал тихий нежный голос, — велико было твое желание встретиться со мною здесь, в Аменти, и ты проявил воистину великое мужество и выполнил его. Ибо освободиться от своей смертной оболочки раньше срока, назначенного тебе Судьбой, и воплотиться в ипостаси духа, хотя бы на единый час, — подвиг, на который способны лишь избранные. И я, о мой слуга и сын мой, я тоже страстно желала увидеть тебя здесь, в этом Царстве Мертвых. Ведь боги любят тех, кто любит их, но любовь богов глубже и сильнее, а я, исполняющая волю Того, кто так же далек от меня, как я — от тебя, простого смертного, я — повелительница всех богов. И потому, Гармахис, я повелела, чтоб ты предстал здесь предо мной; и потому я говорю с тобою, и хочу, чтоб ты открыл мне свою душу, как в ту ночь на башне храмовых ворот в Абидосе. Ведь я была тогда с тобой, Гармахис, как была в тот же самый миг в мириадах других миров. И это я вложила в твою ладонь цветок лотоса — знак, о котором ты молил. Ибо в твоих жилах течет царственная кровь моих детей, которые служили мне тысячелетие за тысячелетием. И если ты восторжествуешь над врагами, ты сядешь на древний трон царей, ты очистишь мои оскверненные храмы, и Египет будет поклоняться мне, как встарь, со всей беззаветностью веры. Но если ты потерпишь поражение, тогда вечноживущий дух, Исида, превратится для египтян всего лишь в воспоминание.
Голос умолк, и я, наконец-то собрав все свои силы, спросил:
— Скажи мне, о дарующая благодать, значит я обречен на поражение?
— Не спрашивай меня, — ответил голос, — не спрашивай о том, что мне не должно говорить тебе. Быть может, мне дано предугадать, что уготовано тебе; быть может, я не хочу предсказывать твою судьбу. Владыка Вечности взирает, как все в мире развивается своим чередом, — так разве станет он торопить цветок расцвести, когда семя растения едва успело лечь в лоно земли? Придет срок, и бутоны раскроются сами. Знай, Гармахис: не я творю будущее — его творишь ты, оно рождается Великим Законом Мироздания и волей Непостижимого. А ты — тебе дана свобода выбирать, и победишь ты или потерпишь поражение, зависит от того, насколько ты силен и чист сердцем. Вся тяжесть ляжет на тебя, Гармахис, — и бремя славы, и бремя позора. Что мне за дело до того, что будет? Ведь я лишь исполняю предначертанное. А теперь слушай меня, мой сын: я всегда буду охранять тебя, ибо, подарив кому-то свою любовь, я дарю ее навек и не отнимаю дара, хотя бы ты и совершил что-то дурное и тебе порой будет казаться, что ты утратил ее. Так помни же: коль победишь — тебя ждет великая награда; проиграешь — поистине страшная кара падет на тебя и там, на Земле, и здесь, в стране, которую вы называете Аменти. Но я хочу тебя утешить: муки и позор не будут длиться вечно. Как бы низко ни пал праведный, если в его сердце живет раскаяние, он может найти путь — путь тернистый, горький, — и снова подняться к прежним высотам. Да не допустят высшие силы, чтобы тебе пришлось искать этот путь, о Гармахис!
И вот что я еще тебе скажу, мой милый сын: ты так преданно любишь меня, и, пытаясь выбраться из лабиринта лжи на земле, в котором гибнет столько людей, ибо они принимают оболочку за дух, а алтарь за бога, ты нашел ниточку Многоликой Истины; и я тоже люблю тебя и надеюсь, что настанет день, когда ты благословленный Осирисом, вступишь в мое сияние и будешь служить мне; и потому, Гармахис, тебе будет дано услышать Слово, которым те, кто говорил со мной, могут вызвать меня из горнего мира и увидеть лик Исиды, даже взглянуть в глаза Вестнице Непостижимого — и это значит, что ты спасен от уничтожения в смерти.
Смотри же!
Неземной голос умолк; темное облачко над алтарем заклубилось, стало менять очертания, вот оно вытянулось, посветлело, засветилось, и передо мной возникла зыблящаяся фигура женщины в покрывале. Из ее сердца снова выполз золотой змей и живым венцом обвил туманное чело.
И тогда глас изрек Божественное Слово, и все покровы спали и растворились в воздухе, моим глазам предстало сияние такой непереносимой красоты, что даже вспоминая ее я едва не лишаюсь чувств. Но мне не позволено открывать людям то, что я видел. Да, много времени прошло с тех пор, однако и сейчас я не могу нарушить запрет, хоть мне и было велено поведать о событиях, которых я был участником и свидетелем, в надежде, что моя летопись, быть может, сохраниться для грядущих поколений. Итак, мне было явлено то, что невозможно и вообразить, ибо есть в мире высшая красота и высшее величие, которые недоступны человеческому воображению. Я их увидел и не выдержал этого зрелища, я пал ниц, чувствуя, что этот образ навеки врезался в мою память, зная, что Великое Слово будет нестихающим эхом вечно звучать в моей душе.
И когда я падал, мне показалось, что огромный зал словно бы раскололся и обломки свились огненными языками вокруг меня. Потом налетел могучий ураган, раздался космический гул, мелькнула мысль: это гул миров, несущихся в потоке Времени… и все исчезло, меня не стало.
Глава VII, повествующая о пробуждении Гармахиса, о его коронации венцом Верхнего и Нижнего Египта и о совершенных ему приношениях
Я проснулся и увидел, что лежу, простертый, на каменном полу святилища Исиды в Абидосском храме. Надо мной стоял старик-жрец, руководивший моим посвящением, в руке у него был светильник. Он нагнулся ко мне, внимательно вглядываясь в лицо.
— Уже день, Гармахис, — день твоего второго рождения, ты прошел таинство посвящения и родился заново! — произнес он наконец. — Благодарение богам! Встань, царственный Гармахис… нет, не рассказывай мне ничего о том, что с тобой происходило. Встань, возлюбленный сын Всеблагой Матери. Идем же, о проникший сквозь огонь и увидевший, что лежит за океаном тьмы, — идем, рожденный заново!
Я поднялся и, с трудом превозмогая слабость, ошеломленный, потрясенный, двинулся за ним из темноты святилища на яркий утренний свет. Я сразу же ушел в комнату, где жил, лег и заснул, и никакие видения не тревожили на этот раз мой сон. И ни единый человек не спросил меня потом, что же я видел в ту страшную ночь и как я разговаривал с богиней, — даже мой отец.
После всего того, о чем я рассказал, я попросил у жрецов позволения больше молиться Великой Матери Исиде и глубже изучить ритуалы таинств, к которым у меня уже был ключ. Более того, меня посвятили в тонкости и хитросплетения политики, ибо со всех концов Египта к нам в Абидос тайно приезжали встретиться со мной знатнейшие вельможи и сановники, и все рассказывали, как яростно народ ненавидит царицу Клеопатру и о событиях, которые происходят в стране. Срок приближался; прошло уже три месяца и десть дней с той ночи, когда мой дух покинул на недолгое время тело и, продолжая жить, перенесся в иные миры и предстал перед Исидой, после чего было решено возвести меня на трон с соблюдением всех предписанных и освященных веками обрядов, хотя и в величайшей тайне, и короновать венцом владыки Верхнего и Нижнего Египта. К торжественной церемонии в Абидос съехались знатнейшие и влиятельнейшие из граждан, жаждавших освобождения и возрождения Египта, — всего их оказалось тридцать семь человек: по одному из каждого нома и по одному от самого крупного города в номе. Кем только они ни переодевались для путешествия — кто жрецом, кто паломником, кто нищим. Приехал также мой дядя Сепа — он хоть и путешествовал под видом бродячего лекаря, но зычный голос выдавал его, как ни старался он его укротить. Я, например, еще издали узнал дядю, встретив на берегу канала, где я прогуливался, хотя уже наступили сумерки и лицо его было скрыто огромным капюшоном, который он, как и положено людям этой профессии, накинул себе на голову.
— Пусть поразят тебя все хвори и болячки, какие только есть на свете! — прогремел мощный голос, когда я, приветствуя дядю, назвал его по имени. — Неужто человек не может изменить свое обличье, неужто обман сразу же открывается? Знал бы ты, сколько я трудов положил, чтобы меня приняли за лекаря — и вот, пожалуйста: ты узнал меня даже в темноте!
И принялся повествовать все так же громогласно, что шел сюда пешком, дабы не попасться в лапы соглядатаев, которые так и шныряют по Нилу. Но обратно ему все равно придется плыть, со вздохом заключил он, или же переодеться кем-то другим, потому что едва люди увидят бродячего лекаря, сейчас же обращаются за помощью, а он в искусстве врачевания не сведущ и сильно опасается, что немало народу между Ана и Абидосом оказались жертвами его невежества[15]. Он оглушительно захохотал и обнял меня, забыв напрочь о своей роли. Не давалось ему лицедейство, слишком он был искренен и не мог пересилить себя, так что мне даже пришлось укорить его за неосторожность, иначе он так бы и вошел в Абидос, обняв меня за плечи.
Наконец съехались все, кого ждали.
Настала ночь торжественной церемонии. Ворота храма заперли. Внутри остались лишь тридцать семь знатнейших граждан Египта, мой отец — верховный жрец Аменемхет; старик жрец, который сопровождал меня в святилище Исиды; моя нянька, старая Атуа, которая, согласно древнему обычаю, должна была подготовить меня к обряду помазания; еще пять или шесть жрецов, поклявшихся священной клятвой хранить тайну. Все они собрались во втором зале великого храма; меня же, облаченного в белые одеяние, оставили одного в галерее, на стенах которой выбиты имена семидесяти шести фараонов Древнего Египта, царствовавших до божественного Сети. Я спокойно сидел в темноте, и вот ко мне вошел мой отец Аменемхет с зажженной лампадой, низко склонился передо мной, взял за руку и повел в огромный зал. Среди его величественных колонн горело несколько светильников, они тускло освещали скульптуры и рельефы на стенах и длинный рад людей — знатнейших вельмож, царевичей — потомков боковых ветвей царского рода, верховных жрецов, сидящих в резных креслах и молча ждущих моего появления. Прямо против этих тридцати семи, спинкой к семи святилищам, был установлен трон, его окружали жрецы с штандартами и священными символами. Лишь только я вступил в торжественный сумрак величественного зала, все вельможи встали и в полном молчании склонились предо мной; отец подвел меня к ступенькам трона и шепотом приказал встать перед ним.
Потом заговорил:
— О, вы, собравшиеся здесь по моему зову, вельможи, верховные жрецы, потомки древних царских родов страны Кемет, знатнейшие граждане Верхнего и Нижнего Египта, внемлите мне! Перед вами — царевич Гармахис, по праву крови и рождения наследник фараонов нашей многострадальной родины, я привел его сюда к вам в суровой простоте, повинуясь обстоятельствам. Он — жрец, посвященный в сокровенные глубины таинств божественной Исиды, распорядитель мистерий, по праву рождения верховный жрец всех храмов при пирамидах близ Мемфиса, искушенный в знании священных ритуалов, совершаемых в честь расточителя всех благ Осириса. Есть ли у кого-нибудь из вас, присутствующих здесь, сомнения, что он истинный потомок фараонов по прямой линии?
Отец умолк, и дядя Сепа, встав с кресла, ответствовал:
— Нет, у нас нет сомнений, Аменемхет: мы тщательно проследили всю линию его предков и установили, что в его жилах действительно течет кровь наших фараонов, он их законный наследник.
— Есть ли у кого-нибудь из вас, присутствующих здесь, сомнения, — продолжал мой отец, — что волею самих богов царевич Гармахис был перенесен в царство Осириса и предстал перед божественной Исидой, что он прошел искус и был посвящен в сан верховного жреца пирамид, что близ Мемфиса, и поминальных храмов при этих пирамидах?
Тут поднялся жрец, который был со мной в святилище Великой Матери всего сущего той ночью, и произнес:
— Нет, Аменемхет, у нас нет сомнений; я сам проводил его посвящение.
И снова мой отец заговорил:
— Есть ли среди вас, собравшихся здесь, кто-нибудь, кто может бросить обвинение царевичу Гармахису в неправедных деяниях или в нечистых помыслах, в коварстве или в лжи, и воспрепятствовать нам короновать его венцом владыки Верхнего и Нижнего Египта?
Поднялся старец из Мемфиса, в чьих жилах тоже текла кровь фараонов, и изрек:
— Мы знаем все о Гармахисе, в нем нет ни одного из этих пороков, о Аменемхет.
— Что ж, быть по сему, — ответил мой отец, — мы коронуем его, раз царевич Гармахис, потомок Нектанеба, воссиявшего в Осирисе, достоин царской короны. Пусть приблизится к нам Атуа и поведает всем о том, что изрекла над колыбелью царевича Гармахиса моя жена в час своей смерти, когда ее устами вещала богиня Хатхор.
Старая Атуа медленно выступила из тени колонн и с волнением пересказал все, что я уже описал.
— Вот, вы все слышали, — сказал мой отец, — верите ли вы, что устами женщины, которая была моей женой, прорицала богиня?
— Верим, о Аменемхет, — ответили собравшиеся.
Потом поднялся мой дядя Сепа и заговорил, обращаясь ко мне:
— Ты слышал все, о царственный Гармахис. Теперь ты знаешь, что мы собрались здесь, чтобы короновать тебя царем Верхнего и Нижнего Египта, ибо твой благородный отец Аменемхет отказался от своих прав на престол ради тебя. Увы, эта церемония совершится без пышности и великолепия, какие подобают столь великому событию, мы вынуждены провести ее в величайшей тайне, иначе всем нам придется заплатить за нее жизнью, но самое страшное — мы погубим дело, которое для нас дороже жизни, но все же, насколько это сейчас доступно, выполним все древние священные обряды. Узнай же, что мы задумали, и если, узнав, ты одобришь задуманное, тогда взойди на трон свой, о фараон, и принеси нам клятву! Сколько столетий жители Кемета стонут под пятой греческих завоевателей, сколько столетий содрогаются при виде копья римлян; сколько столетий наши древние боги страдают от кощунственного пренебрежения, сколько столетий мы влачим жалкое существование рабов. Но мы верим: час избавления близок, и именем многострадального Египта, именем его богов, которым ты, именно ты избран служить, мы все с мольбою взываем к тебе, о царевич: возьми меч и возглавь наших освободителей! Слушай же! Двадцать тысяч бесстрашных мужей, пламенно любящих Комет, принесли клятву верности нашему делу и ждут лишь твоего согласия; как только ты подашь сигнал, они поднимутся все, как один, и перебьют греков, а потом на их крови воздвигнут твой трон, и трон этот будет стоять на земле Кемет так же незыблемо, как наши извечные пирамиды, все легионы римлян не смогут поколебать его. А сигналом будет смерть этой наглой непотребной девки Клеопатры. Ты убьешь ее, Гармахис, выполняя приказ, который тебе будет передан, и ее кровью освятишь трон фараонов Египта.
О наша надежда, неужели ты скажешь нам нет? Неужели твою душу не переполняет святая любовь к отечеству? Неужели ты швырнешь оземь поднесенную к твоим устам чашу с вином свободы и предпочтешь умирать от жажды, как обреченный на муки раб? Да, риск огромен, быть может, наш дерзкий заговор не удастся, и тогда и ты, и все мы заплатим за свою дерзость жизнью. Но стоит ли о том жалеть, Гармахис? Разве жизнь так уж прекрасна? Разве лелеет она нас и оберегает от падений и ударов? Разве горе и беды не перевешивают тысячекратно крупицу радости, что иногда блеснет нам? Разве здесь, на земле, мы вдыхаем то благоухание, которое разлито в воздухе потустороннего мира, и разве так уж страшно вовсе перестать дышать? Что у нас есть здесь, кроме надежд и воспоминаний? Что мы здесь видим? Одни только тени. Так почему чистый сердцем должен страшиться перехода туда, где нас ждет успокоение, где воспоминания тонут в событиях, их породивших, а тени растворяются в свете, который их очертил? Знай же, Гармахис: истинно велик лишь тот муж, кто увенчал свою жизнь блеском славы, не меркнущей в веках. Да, смерть дарит букеты маков всем детям земли, но счастлив тот, кому судьба позволила сплести себе из этих маков венок героя. И нет для человека смерти более прекрасной, чем смерть борца, освободившего свою отчизну — пусть она теперь выпрямится, расправит плечи, вскинет голову, и, гордая, свободная, могучая, как прежде, швырнет в лицо тиранам порванные цепи: теперь уж никогда ни один поработитель не выжжет на ее челе клеймо раба.
Гармахис, Кемет призывает тебя. Откликнись на его зов, о избавитель! Кинься на врагов, как Гор на Сета, размечи их, освободи отечество и правь им — великий фараон на древнем троне…
— Довольно, довольно! — вскричал я, и голос мой потонул в шуме рукоплесканий, прокатившемся гулким эхом среди могучих стен и колонн. — Неужели меня нужно просить, заклинать? Да будь у меня сто жизней, разве не счел бы я высочайшим счастьем отдать их все за наш Египет?
— Достойный ответ! — произнес Сепа. — Теперь ты должен удалиться с этой женщиной, она омоет твои руки, дабы ты мог принять священные символы власти, и оботрет благовониями твой лоб, на который мы наденем венец фараона.
Я пошел со старой Атуа в один из храмовых покоев. Там, шепча молитвы, она взяла золотой кувшин и омыла мои руки чистейшей водой над золотой чашей, потом смочила кусок тончайшей ткани в благовонном масле и приложила к моему лбу.
— Ликуй, Египет! Ликуй, счастливейший царевич, ты будешь нашим властелином! — восторженно восклицала она. — О царственный красавец! Ты слишком царственен и слишком красив, тебе нельзя быть жрецом, все хорошенькие женщины это скажут; но, недаюсь, ради тебя смягчат суровые законы, предписывающие жрецам воздержание, иначе род фараонов заглохнет, а этого допустить нельзя. Какое счастье послали мне боги, ведь я вынянчила, вырастила тебя, я отдала ради твоего спасения жизнь собственного внука! О царственный, блистательный Гармахис, ты рожден для славы, для счастья, для любви!
— Перестань, Атуа, — с досадой прервал я ее, — не называй меня счастливейшим, ведь мое будущее тебе неведомо, и не сули мне любви, любовь неотделима от печали, знай: мне суждено иное, более высокое предназначение.
— Можешь говорить, что хочешь, но радостей любви тебе не миновать, да, да, поверь мне! И не отмахивайся от любви с таким высокомерием, ведь благодаря ей ты и появился на свет. Знаешь пословицу, которую любят повторять в Александрии? «Летит гусь — смеется над крокодилом, а опустился на воду и заснул — тут уж хохочет крокодил». Вот так-то. А женщины почище крокодилов будут. Крокодилам поклоняются в Атрибисе — его сейчас называют Крокодилополь, — но женщинам, мой мальчик, поклоняются во всем мире! Ой, я все болтаю и болтаю, а тебя ждут короновать на царство. Разве я тебе это не предсказывала? Ну вот, владыка Верхнего и Нижнего Египта, ты готов. Ступай же!
Я вышел из покоя, но глупые слова старухи засели в голове, и если говорить правду, не так уж она была глупа, хоть и болтлива — не остановишь.
Когда я вступил в зал, вельможи снова встали и склонились передо мной. Тотчас же ко мне приблизился отец, вложил мне в руки золотое изображение богини Истины Маат, золотые венцы бога Амона-Ра и его супруги Мут, символ божественного Хонса и торжественно вопросил:
— Клянешься ли ты величием животворящей Маат, могуществом Амона-Ра, Мут и Хонса?
— Клянусь, — ответил я.
— Клянешься ли священной землей Кемет, разливами Сихора, храмами наших богов и вечными пирамидами?
— Клянусь.
— Клянешься ли, помня о страшной судьбе, которая тебя ожидает, если ты не выполнишь свой долг, — клянешься ли править Египтом в согласии с его древними законами, клянешься ли чтить его истинных богов, быть справедливым со всеми и во всем, не угнетать свою страну и свой народ, не предавать, не вступать в сговор с римлянами и греками, клянешься ли низвергнуть всех чужеземных идолов и посвятить жизнь процветанию свободного Кемета?
— Клянусь.
— Хорошо. Теперь взойди на трон, и я в присутствии твоих подданных провозглашу тебя фараоном Египта.
Я опустился на трон, осененный распростертыми крыльями богини Маат, и поставил ноги на скамеечку в виде мраморного сфинкса. Аменемхет снова приблизился ко мне и надел на голову полосатый клафт, а поверх него пшент — двойную корону, накинул на плечи царское облачение и вложил в руки скипетр и плеть.
— Богоподобный Гармахис! — воскликнул он. — Этими эмблемами и символами я, верховный жрец абидосского храма Ра-Мен-Маат, венчаю тебя на царство. Отныне ты — фараон Верхнего и Нижнего Египта. Царствуй и процветай, о надежда Кемета!
— Царствуй и процветай, о фараон! — эхом отозвались вельможи, низко склоняясь передо мной.
Потом все они, сколько их было, стали один за другим приносить мне клятву верности. Когда прозвучала последняя клятва, отец взял меня за руку, и во главе торжественной процессии мы обошли все семь святилищ храма Ра-Мен-Маат, и в каждом я клал приношения на алтарь, кадил благовониями и служил литургию, как подобает жрецу. В своем парадном царском одеянии я совершил приношения в святилище Гора, в Святилище Исиды, Осириса, Амона-Ра, Хор-эм-ахета, Птаха, и наконец мы вступили в святилище, что расположено в покоях фараона.
Там все совершили приношение мне, своему божественному фараону, и ушли, оставив меня одного. Я был без сил от усталости — венчанный на царство владыка Египта.
(На этом первый, самый маленький свиток папируса кончается.)
КНИГА ВТОРАЯ
ПАДЕНИЕ ГАРМАХИСА
Глава I, повествующая о прощании Аменемхета с Гармахисом; о прибытии Гармахиса в Александрию; о предостережении Сепа; о процессии, в которой Клеопатра проехала по улицам города в одеждах Исиды, и о победе Гармахиса над знаменитым гладиатором
Итак, долгая пора искуса миновала, приспело время действовать. Я прошел все ступени посвящения, был коронован на царство, и хотя простой народ меня не знал, а для жителей Абидоса я был всего лишь жрец Исиды, тысячи египтян в сердце своем чтили меня как фараона. Да, время свершений приближалось, меня сжигало нетерпение. Скорее бы свергнуть чужеземную самозванку, освободить Египет, взойти на трон, который принадлежит мне по праву, скорее бы очистить от скверны храмы моих богов. Меня переполняла жажда борьбы, и я ни на минуту не сомневался в своем торжестве. Я смотрел на себя в зеркало и видел, что это чело — чело триумфатора. Будущее простиралось передо мной широкой дорогой славы, сверкающей, как Сихор на солнце. Я мысленно беседовал с моей божественной матерью Исидой; я подолгу сидел в моих покоях, я мысленно возводил новые грандиозные храмы; обдумывал великие законы, которые принесут моему народу благоденствие; и в ушах моих звучали восторженные клики благодарной толпы, приветствующей фараона-победителя, завоевавшего древний трон своей династии, мне было велено, пока мои черные, как вороново крыло, волосы, которые мне сбрили, вновь отрастут до нужной длины, а чтобы время не проходило впустую, совершенствовался во всех упражнениях, которые развивают у мужчины силу и ловкость, а также в искусстве владения разными видами оружия. Кроме того, я углублял свои познания древних тайн египетского волхвования — для какой цели, станет ясно позднее, — и старался постичь последние тонкости астрологии, хотя и без того был достаточно сведущ в этих науках.
Вот какой мы наметили план.
Мой дядя Сепа оставил на время храм в Ана, сославшись на нездоровье, и переехал в Александрию, где он купил дом, в надежде, как он объяснил всем, что ему поможет морской воздух, а чудеса знаменитого на весь мир Мусейона и блеск двора Клеопатры отвлекут от печальных мыслей. Туда-то я к нему и приеду, потому что в Александрии было самое сердце заговора. И когда наконец дядя Сепа прислал весть, что все готово к моему приезду, я быстро собрался и, прежде чем отправиться в путешествие, пошел к отцу принять его благословение. Он сидел в своих покоях за столом, в той же позе, что и в тот вечер, когда я убил льва и он укорял меня за легкомыслие, его длинная седая борода лежала на мраморной столешнице, в руках он держал свитки со священными текстами. Увидев меня, он встал, воскликнул: «Приветствую тебя, о фараон!» — и хотел опуститься на колени, но я удержал его за руку.
— Не подобает тебе, отец, преклонять передо мной колена, — сказал я.
— Нет, подобает, — возразил он, — я должен отдавать почести моему повелителю, но если ты не хочешь, я исполню твою волю. Итак, Гармахис, ты уезжаешь. Да пребудет с тобою мое благословение, сын мой. Пусть те, кому я служу, даруют моим старым глазам счастье увидеть тебя на троне. Я много трудов потратил, пытаясь прочесть грядущее, узнать, что тебя ждет, но вся моя мудрость не помогла мне проникнуть сквозь завесу тайны. Предначертания ускользают от меня, и порой я погружаюсь в отчаяние. Но ты должен знать, что на твоем пути тебя подстерегает опасность, и эта опасность — женщина. Мне это открылось давно, и потому ты был призван служить всеблагой владычице Исиде, которая отвращает помыслы своих жрецов от женщин до тех пор, пока ей не будет угодно снять запрет. Ах, сын мой, зачем ты так красив, так великолепно сложен и могуч, в Египте нет равных тебе, да, ты поистине царь, твоя сила и красота как раз и могут завлечь тебя в западню. Поэтому держись подальше от александрийских обольстительниц, — кто-то из них может вползти в твое сердце, как змея, и выведать твою тайну.
— Ты зря тревожишься, отец, — ответил я с досадой, — алые губки и томные взгляды меня не занимают, главное для меня — выполнить мой долг.
— Достойный ответ, — сказал он, — да будет так и впредь. А теперь прощай. Да сбудется мое желание и да увижу я тебя в нашу следующую встречу на троне, в тот радостный день, когда я, вместе со всеми жрецами Верхней Земли, приеду поклониться нашему законному фараону.
Я обнял его и пошел прочь. Увы, если бы я знал, какую встречу нам уготовала судьба!
И вот я снова плыву вниз по Нилу — путешественник с весьма скромными средствами. Любопытствующим попутчикам я объяснял, что я — приемный сын верховного жреца из Абидоса, готовился принять жреческий сан, но понял, что служение богам меня не привлекает, и вот решил попытать счастья в Александрии, — благо все, за исключением немногих посвященных, считали меня внуком старой Атуа.
Ветер дул попутный, и на десятый день вечером впереди показалась величественная Александрия — город тысячи огней. Над огнями возвышался беломраморный маяк Фароса, это величайшее чудо света, и на его верху сиял такой яркий свет, что казалось, это солнце заливает порт и указывает путь кормчим далеко в море. Наше судно осторожно причалило к берегу, ибо было темно, я сошел на набережную и остановился, пораженный зрелищем огромных зданий и оглушенный гомоном многоязыкой толпы. Казалось, здесь собрались представители всех народов мира и каждый громко говорит на своем языке. Так я стоял в полной растерянности, но тут ко мне подошел какой-то юноша, тронул за плечо и спросил, не из Абидоса ли я приплыл и не Гармахис ли мое имя. Я ответил — да, и тогда он, приблизив губы к моему уху, тихо прошептал тайный пароль, потом подозвал взмахом руки двух рабов и приказал им снести с барки на берег мои вещи. Они повиновались, пробившись сквозь толпу носильщиков, настойчиво предлагавших свои услуги. Я двинулся за юношей по набережной, сплошь застроенной винными лавками, и во всех было много мужчин самого разного обличья, они пили вино и смотрели на танцующих женщин — едва прикрытых чем-то прозрачным или вовсе раздетых.
Но вот набережная с освещенными лавками кончилась, мы повернули направо и пошли по широкой вымощенной гранитом улице, между большими каменными домами с крытой аркадой вдоль фасада — я таких никогда не видел. Свернув еще раз направо, мы оказались в более тихом квартале, где улицы были почти пустынны, лишь изредка встречались компании подгулявших бражников. Наконец мой провожатый остановился возле дома из белого камня. Мы вошли в ворота, пересекли дворик и вступили в освещенное светильником помещение. Навстречу мне бросился дядя Сепа, радуясь моему благополучному прибытию.
Когда я вымылся и поел, он рассказал мне, что дела пока идут хорошо и при дворе никто о заговоре не подозревает. Далее я узнал, что дядя был во дворце у Клеопатры, — царице сообщили, что в Александрии живет верховный жрец из Ана, и она тотчас же послала за ним и долго расспрашивала — вовсе не о наших замыслах, ей и в голову не приходило, что кто-то может покуситься на ее власть, просто до нее дошли слухи, будто в Великой пирамиде близ Ана спрятаны сокровища. Она ведь безмерно расточительна, ей вечно нужны деньги, деньги, деньги, и вот сейчас она задумала ограбить пирамиду. Но дядя Сепа посмеялся над ней, он сказал, что пирамида — место упокоения божественного Хуфу, что же касается ее тайн, то дяде Сепа ничего о них не известно. Услышав эти слова, Клеопатра разгневалась и поклялась своим троном, что прикажет разобрать пирамиду камень за камнем и найдет скрытые в ней сокровища. Он опять рассмеялся и ответил пословицей, которую часто повторяют жители Александрии: «Царь живет несколько десятков лет, а горы — вечно». Она улыбнулась, ибо ей понравилась его находчивость, и мирно с ним простилась. Потом дядя Сепа сказал, что утром я увижу эту самую Клеопатру. Ведь завтра — день ее рождения (кстати, и мой тоже), и она, облачившись в наряд богини Исиды, торжественно проследует от своего дворца на мысе Лохиас к Серапеуму, дабы принести в его святилище жертву лжебогу, которому посвящен храм. Посмотрим процессию, а потом будем искать способ, как мне проникнуть во дворец царицы и приблизиться к ней.
Я едва держался на ногах от усталости, и меня уложили спать, но непривычная обстановка, шум на улице, мысли о завтрашнем дне гнали сон. Лишь небо начало сереть, я оделся, поднялся по лестнице на крышу и стал ждать рассвета. Наконец из-за горизонта брызнули солнечные лучи и осветили беломраморное чудо — фаросский маяк, и в тот же самый миг огонь его померк и стал невидим, точно солнце его погасило. Потом свет подкрался к дворцам на мысе Лохиас, где почивала Клеопатра, и затопил их — они засверкали, точно драгоценности, украшающие темную, прохладную грудь моря. Дальше полился свет, нежно поцеловал купол мавзолея, где покоится великий Александр, озарил башни и крыши множества дворцов и храмов, хлынул в колоннады знаменитого Мусейона, который возвышался совсем недалеко от нашей улицы, окатил волной величественное здание святилища, где хранится вырезанное из слоновой кости изображение лжебога Сераписа, и наконец, словно истощив себя, уполз в огромный мрачный Некрополь. День разгорался, гоня последние тени ночи и заполняя все улицы, улочки и переулки Александрии — в этот утренний час она казалась алой, как царская мантия, да и раскинулась по-царски пышно и торжественно. С севера подул ветер, унес с моря туман, и я увидел голубую воду гавани и качающиеся на ней тысячи судов. Увидел гигантский мол Гептастадиум, лабиринт улиц, бесчисленное множество домов — роскошную, великолепную Александрию, эту царицу, как бы восседающую на троне среди своих владений — океана и озера Мариотис, — и грудь мне стеснил восторг. Этот город, вместе с другими городами и странами, принадлежит мне! Что ж, за него стоит бороться! Вдосталь налюбовавшись этим сказочным великолепием, я помолился благодетельной Исиде и сошел с крыши.
В комнате внизу был дядя Сепа. Я рассказал ему, что смотрел, как над Александрией поднималось солнце.
— Вот как! — бросил он и пристально поглядел на меня из-под своих косматых бровей. — Ну и что, понравилась тебе Александрия?
— Понравилась ли? Да я подумал, что здесь, в этом городе как раз и живут боги!
— Вот именно! — гневно воскликнул он. — Ты угадал — здесь живут боги, но это все боги зла! Говоришь, город! Нет, это вертеп, где все погрязли в распутстве, зловонная постыдная язва, рассадник ложной веры, рожденной извращением ума! О, как я жажду, чтобы от нее не осталось камня на камне, чтобы все ее богатства были погребены в пучине вод! Пусть чайки с криками носятся над тем проклятым местом, где она некогда стояла, пусть ветер, чистый, не отравленный тлетворным дыханием греков, свободно веет над ее руинами на всем пространстве между океаном и озером Мариотис! О царственный Гармахис, не допусти, чтоб роскошь и красота Александрии совращали твою душу, яд, который они источают, губит истинную веру, не дает древней религии расправить свои божественные крылья. Когда настанет срок и ты будешь править страной, разрушь этот проклятый город, Гармахис, и утверди свой трон там, где он стоял при твоих предках — среди белых стен Мемфиса. Запомни навсегда: Александрия — роскошные ворота, в которые входит погибель Египта. Пока они стоят, они открыты для всего мира — врывайся кто хочешь и грабь нашу страну, насаждай любую ложную веру, топчи египетских богов.
Что я мог ему ответить? Он был прав. И все же, и все же город казался мне дивно прекрасным! Мы позавтракали, и дядя сказал, что пора идти смотреть, как Клеопатра с торжественной процессией прошествует к храму Сераписа. Выход состоится еще не скоро, часов в десять, бездельники александрийцы так падки на зрелища, что если мы не поспешим, то нам нипочем не пробиться сквозь плотные толпы зевак, которые уже собираются на улицах по пути следования царицы. И мы отправились, чтобы занять места на деревянном помосте, который сколотили вдоль широченной улицы, прорезающей весь город до самых Канопских ворот. Дядя заранее позаботился купить для нас там места и заплатил за них недешево.
Народ уже запрудил улицы, и нам пришлось основательно поработать локтями, продираясь к деревянному помосту, защищенному полотняной крышей и задрапированному ярко-красными тканями. Мы уселись на скамью и стали ждать, разглядывая многотысячную роящуюся толпу, которая галдела, пела и громко разговаривала на разных языках. Прошло несколько часов. Наконец появились солдаты, одетые на манер римских легионеров в кольчугу, и стали расчищать путь. За ними выступили глашатаи, и, призвав народ к тишине (в ответ толпа лишь пуще зашумела, а те, кто пел, и вовсе оглушили нас), возвестили, что грядет царица Клеопатра. Потом по улице торжественным маршем прошла тысяча сицилийских стрелков, за ней тысяча фракийцев, тысяча македонцев, тысяча галлов, все в боевых доспехах, какие носят воины их стран, и соответственно вооружение. За ними выступали пятьсот всадников — те самые, которых называют неуязвимыми, потому что кольчугой сплошь покрыты не только люди, но и лошади. Неуязвимых сменили юноши и девушки в роскошных развевающихся одеждах, в золотых венцах — они изображали день, утро, вечер, ночь, землю и небо. Дальше следовало множество красавиц, они лили на землю благовония и усыпали ее пышно распустившимися цветами. Вдруг по толпе прокатился крик: «Клеопатра! Клеопатра!», у меня перехватило дыхание, и я устремился вперед, чтобы увидеть ту, которая посмела надеть на себя наряд Исиды.
Толпа заколыхалась, люди напирали друг на друга в густой плотной массе и совершенно загородили от меня улицу. Этого я уже не мог вынести, я перескочил через ограду помоста и пробился сквозь толпу в самый первый ряд — при моей силе и ловкости мне это ничего не стоило. И тут я увидел, что по улице бегут рабы-нубийцы в венках из плюща и увесистыми дубинками теснят народ ближе к домам. Один из них мне сразу бросился в глаза: гигант могучего сложения, нагло кичащийся своей силой, он без разбору наносил удары направо и налево, — истинный хам, которому вдруг дали власть. Рядом с мной стояла женщина с ребенком на руках, судя по внешности — египтянка, и нубиец, увидев, что она слаба и беззащитна, стукнул ее дубинкой по голове, и она молча рухнула на землю. Народ зароптал. А я — кровь так и вскипела во мне, гнев ослепил разум. В руке у меня был жезл из кипрского оливкового дерева, и когда черное чудовище захохотало над женщиной, которая корчилась на земле от боли, и над ее плачущим ребенком я размахнулся и обрушил жезл не его спину. Я вложил в удар всю свою ярость, и крепкое дерево сломалось, из раны на плече гиганта брызнула кровь, листья плюща сразу стали красными. Взревев от бешенства и боли — еще бы, ведь мучители не выносят мук, — он метнулся ко мне. Народ раздался, только женщина осталась лежать, и вокруг нас образовалось небольшое свободное пространство. Нубиец зверем кинулся на меня, но я вонзил ему кулак в переносицу — другого оружия у меня не было, — и он зашатался, точно жертвенный бык, которому жрец нанес первый удар топором. Толпа разразилась одобрительными криками, она ведь любит глазеть на драки, а нубиец был знаменитый гладиатор, он всегда всех побеждал. Негодяй собрал все свои силы и начал наступать, изрыгая проклятья и вертя над головой дубинку, потом изловчился и обрушил ее на меня с таким остервенением, что, не отскочи я в сторону с кошачьим проворством, он размозжил бы мне череп. Но вся сила удара пришлась по земле, дубинка разлетелась в щепы. Толпа разразилась криками, а великан снова ринулся на меня, он обезумел от жажды крови и ничего не соображал, ему надо было как можно скорее прикончить, убить, растерзать врага. Но я с воплем схватил его за горло — он был так могуч, настолько превосходил меня силой, что только так я мог попытаться его одолеть, — схватил и сжал мертвой хваткой. Он молотил меня своими огромными кулачищами, а я все упорнее стискивал и стискивал ему горло, вдавливая большие пальцы в кадык. Он кружил по площадке, потом упал на землю, надеясь хоть так оторвать меня от себя. Мы принялись кататься, но я не ослаблял хватки, и наконец он захрипел, задыхаясь, и потерял сознание. Он лежал внизу, подо мной, а я уперся коленом ему в грудь и готовился прикончить его, но дядя и еще несколько человек оторвали меня от нубийца и оттащили прочь.
И, конечно же, я не заметил, что к нам тем временем приблизилась колесница с царицей, впереди которой шагали слоны, а сзади вели львов, и что суматоха, вызванная дракой, вынудила процессию остановиться. Я поднял голову и, разгоряченный дракой, с трудом переводя дух, весь в крови, ибо кровь, которая лилась из носа и изо рта великана нубийца, запятнала мои белые одежды, в первый раз увидел живую Клеопатру. Колесница царицы была из чистого золота, ее влекли молочно-белые жеребцы. Возле Клеопатры в колеснице стояли две очень красивые девушки в греческих платьях, одна справа, другая слева, и овевали ее сверкающими опахалами. Ее голову венчал убор Исиды — золотые изогнутые рога и между ними крупный диск полной луны с троном Осириса, дважды обвитый уреем. Это сооружение держалось на золотой шапочке в виде сокола с крыльями синей эмали, глаза сокола были из драгоценных камней, а из-под шапочки лились ее черные длинные, до пят, волосы. На плечах вокруг стройной нежной шеи лежало широкое золотое ожерелье с изумрудами и кораллами. На запястьях и выше локтей — золотые браслеты, тоже с изумрудами и кораллами, в одной руке священный ключ жизни тау, выточенный из горного хрусталя, в другой — золотой царский жезл. Торс под обнаженной грудью обтянут сверкающей, как чешуя змеи, тканью, сплошь расшитой драгоценными камнями. Под этим сверкающим одеянием была сотканная из золотых нитей юбка с драпировкой из прозрачного вышитого шелка с острова Кос, она пышными складками падала к ее маленьким белым ножкам в сандалиях с застежками из огромных жемчужин.
Мне было довольно одного-единственного взгляда, чтобы все это разглядеть. Потом я посмотрел на ее лицо — лицо, которое пленило Цезаря, погубило Египет и в будущем должно было сделать Октавиана властелином мира — посмотрел и увидел безупречно прекрасную гречанку: округлый подбородок, пухлые изогнутые губы, точеные ноздри, тонкие, как раковина, совершенной формы уши; широкий низкий лоб, гладкий, как мрамор, темные кудрявые волосы, падающие тяжелыми волнами и блестящие на солнце; плавные дуги бровей, длинные загнутые ресницы. Она явилась мне в апофеозе своей царственной красоты и величия. Сияли ее изумительные глаза, лиловые, как кипрские фиалки, — глаза, в которых, казалось, спит ночь со всеми ее тайнами, непостижимыми, как пустыня, но и живые, как ночь, которая то темнее, то светлее, то вдруг озаряется вспышками света, рожденного в звездной пропасти неба. Да, я увидел это чудо, хотя и не умею описать его. И сразу же, тогда еще, я понял, что могущество чар этой женщины заключается не только в ее несравненной красоте. Покоряет то ликование, тот свет, которые переполняют ее необузданную, страстную душу и прорываются к нам сквозь телесную оболочку. Ибо эта женщина — порыв и пламя, подобной ей никогда в мире не было и не будет. Огонь ее пылкого сердца озарял ее, даже когда она погружалась в задумчивость. Но стоило ей стряхнуть печаль, и глаза ее вспыхивали, точно два солнца, голос журчал нежной вкрадчивой музыкой — есть ли на свете человек, способный рассказать, какой бывала Клеопатра в такие минуты? Ей было даровано непобедимое обаяние, которым так влечет нас женщина, ей был дарован глубочайший ум, за который мужчина так долго сражался с небом. И с этим обаянием, с этим умом уживалось зло, то поистине демоническое зло, которое не ведает страха и, глумясь над людскими законами, захватывает ради забавы империи и с улыбкой смотрит, как льются ей в угоду реки крови. И все это сплелось в ее душе, создав ту Клеопатру, покорить которую не может ни один мужчина, и ни один мужчина не может позабыть, если хоть раз ее увидел, величественную, как гроза, ослепительную, как молния, беспощадную, как чума, и все же с сердцем женщины. Все знают, что она совершила. Горе миру, когда на него еще раз падет такое же проклятье!
Клеопатра равнодушно повернула голову взглянуть, почему волнуется толпа, и на миг наши глаза встретились. Ее глаза были темные и как бы обращены в себя, словно она и видит, что происходит, но все это скользит мимо сознания. Потом глаза вдруг ожили, и даже цвет их изменился, как меняется цвет моря, когда налетит ветер. Сначала в них мелькнул гнев, потом рассеянный интерес; когда же она увидела распростертое на земле тело гиганта нубийца, которого я готовился убить, и узнала в нем того самого непобедимого гладиатора, в глазах появилось что-то весьма похожее на удивление. И, наконец, они смягчились, хотя выражение ее лица ничуть не изменилось. Но тому, кто хотел прочесть мысли Клеопатры, нужно было смотреть ей в глаза, потому что в лице было мало игры. Обернувшись, она что-то сказала своим телохранителям. Они выступили вперед и подвели меня к ней. Народ в мертвом молчании ждал, что вот сейчас меня казнят.
Я стоял перед ней, скрестив на груди руки. Да, я был ошеломлен ее ослепительной красотой, но в моем сердце кипела ненависть к ней, этой смертной женщине, посмевшей надеть на себя наряд Исиды, к этой самозванке, отнявшей у меня трон, к этой блуднице, расточающей богатства Египта на золотые колесницы и благовония. Она оглядела меня с ног до головы и спросила своим звучным грудным голосом на языке Кемета, которым она великолепно владела, единственная из всех Лагидов:
— Кто ты такой, египтянин, — а ты египтянин, я вижу, — кто ты такой, что осмелился избить моего раба, который расчищал мне путь по улицам моего города?
— Кто я? Меня зовут Гармахис, — смело ответил я. — Я астролог, приемный сын верховного жреца храма Сети и правителя Абидоса, приехал сюда в поисках судьбы. А раба твоего я избил, о царица, потому что он ударил дубинкой эту женщину, без всякой вины с ее стороны. Спроси народ, лгу я или говорю правду.
— Гармахис… — произнесла она задумчиво. — У тебя благородное имя и внешность и манеры аристократа.
Потом обратилась к стражу, который видел, что произошло, и велела ему все рассказать. Он не погрешил против правды, ибо почувствовал ко мне расположение, когда я одолел в драке нубийца. Выслушав стража, Клеопатра что-то сказала девушке с опахалом, которая стояла возле нее, — девушка была очень красивая, с роскошными кудрявыми волосами и темными застенчивыми глазами. Девушка прошептала какие-то слова в ответ. Тогда Клеопатра приказала подвести к себе раба; стражи подняли нубийца, к которому вернулось сознание, и подвели к ней вместе с женщиной, которую он сбил дубинкой на землю.
— Собака, трус! — бросила она все тем же звучным грудным голосом. — Ты кичишься своей силой и потому ударил слабую женщину, но этот юноша оказался сильнее, и ты сдался, презренный. Ну что ж, сейчас ты получишь хороший урок. Отныне если тебе вздумается ударить женщину, ты сможешь бить ее только левой рукой. Эй, стражи, отрубить этой черной твари правую руку.
Отдав этот приказ, она откинулась на сиденье своей колесницы, и ее глаза словно бы опять погрузились в сон. Гигант вопил и молил о пощаде, но стражи схватили его и отрубили мечом руку на полу нашей трибуны, а потом унесли прочь под его громкие стоны. Процессия двинулась дальше. Когда колесница миновала нас, красавица с опахалом обернулась, поймала мой взгляд и с улыбкой кивнула, словно чему-то радуясь, чем меня немало озадачила.
Народ вокруг тоже весело шумел, все поздравляли меня, шутили, что теперь меня пригласят во дворец и я стану придворным астрологом. Но мы с дядей при первой же возможности постарались ускользнуть и двинулись домой. Всю дорогу он возмущался моим безрассудством, но дома обнял меня и признался, как он счастлив и как гордится мной, что я так легко победил этого силача нубийца и не навлек на себя беды.
Глава II, повествующая о приходе Хармианы и о гневе Сепа
Вечером того же дня, когда мы ужинали, в дом постучали. Дверь открыли, и в комнату вошла женщина, с ног до головы закутанная в темное покрывало, даже лица ее не было видно.
Дядя встал, и женщина тотчас же произнесла пароль.
— Я все-таки пришла, отец мой, — заговорила она нежным, мелодичным голосом, — хотя, признаюсь, очень нелегко сбежать с празднества, когда во дворце такое торжество. Но я убедила царицу, что от жары и уличного шума у меня разболелась голова, и она позволила мне уйти.
— Что ж, хорошо, — ответил он. — Сбрось покрывало, здесь ты в безопасности.
С легким усталым вздохом она расстегнула застежку, выскользнула из покрывала, и я увидел ту очаровательную девушку, что стояла в колеснице возле Клеопатры и овевала ее опахалом. Да, она была удивительно хороша, а пеплум так изысканно обрисовывал ее хрупкое, стройное тело и юную маленькую грудь. Из-под золотого обруча падал каскад локонов, в которые свились ее буйные кудри, пряжки на сандалиях тоже были из золота. Ее щеки с ямочками алели, как раскрывшийся лотос, темные бархатные глаза были потуплены словно бы в смущении, но на губах порхала легкая улыбка, готовая ослепительно вспыхнуть.
Увидев ее наряд, дядя нахмурился.
— Почему ты пришла сюда в греческом платье, Хармиана? — сурово спросил он. — Разве одежда, которую носила твоя мать, недостаточно хороша для тебя? Забудь о женском кокетстве, не то сейчас время. Ты пришла сюда не покорять сердца мужчин, а выполнять повеления.
— Ах, отец мой, зачем ты гневаешься на меня, — вкрадчиво заворковала она, — разве ты не знаешь, что та, которой я служу, не позволяет носить при дворе нашу, египетскую одежду, мы должны одеваться модно. Если бы я ее надела, то вызвала бы подозрения, и к тому же я очень спешила, — говорила она, а сама то и дело тайком бросала на меня взгляды из-под длинных, мохнатых, скромно опущенных ресниц.
— Да, да, все так, — отрывисто проговорил он, впиваясь в ее лицо своим пронзительным взглядом, — конечно, Хармиана, ты права. Каждую минуту своей жизни ты должна помнить клятву, которую дала, и дело, которому себя посвятила. Я требую: забудь обо всем суетном, забудь о красоте, которой тебя прокляла судьба. Но никогда не забывай о мести, которая тебя постигнет, если ты хоть в самой малой малости предашь нас, — о мести людей и богов! Не забывай о той великой роли, которую ты рождена сыграть, — его могучий голос гремел в маленькой комнате, оглушая нас, потому что он все больше и больше распалялся в своем гневе, — не забывай, как важна цель, ради которой тебя научили всему, что ты знаешь, и поместили туда, где ты находишься, чтобы заслужить доверие распутницы, которой, как все считают, ты служишь. Не забывай ни на единый миг! Не допусти, чтоб роскошь царского двора соблазнила тебя, Хармиана, чтобы она замутила чистоту твоей души и увела от твоего предназначения. — Его глаза сверкали, маленький и тщедушный, он вдруг словно вырос, стал величественным, я даже почувствовал благоговейный трепет.
— Я признаюсь тебе, Хармиана, — продолжал он, подходя к девушке и грозно уставляя в нее перст, — я признаюсь, что порой сомневаюсь в тебе. Два дня назад мне приснился сон: ты стояла среди пустыни, воздев руки к небу, и смеялась, а с неба лился кровавый дождь; потом небо опустилось на страну Кемет и закрыло его, точно саван. Почему мне привиделся этот сон, дочь моя, и что он означает? Пока что ты не совершила ничего дурного, но берегись: если я что-то узнаю, я забуду, что ты моя племянница и что я люблю тебя — ты в тот же миг умрешь, и это пленительное лицо, это прекрасное тело, которыми ты так тщеславишься, расклюют стервятники, растерзают шакалы, а душу твою боги подвергнут самым страшным пыткам! Ты останешься лежать поверх земли непогребенной, и твоя осужденная загробными судьями душа никогда не воссоединится с телом, но будет вечно скитаться в Аменти! Запомни — вечно!
Он умолк, его неожиданно вспыхнувший гнев иссяк. Но эта вспышка яснее всех его слов и поступков доказала мне, какие глубокие страсти таятся в сердце этого казалось бы добродушного шутника, и с какой фанатичной одержимостью стремится он к своей цели. А девушка — она в ужасе отпрянула от него и, закрыв свое прелестное лицо руками, разрыдалась.
— Не говори так, отец мой, пощади меня! — молила она, задыхаясь от слез. — Чем я провинилась? Тебе снятся дурные сны, но разве это я посылаю их тебе? И я не прорицательница, я не умею их толковать. Я свято выполняю все твои повеления. Разве я хоть на миг забыла эту страшную клятву? — Она содрогнулась. — Разве не играю роль соглядатая при дворе и не сообщаю тебе обо всем до последней мелочи? Разве я не завоевала расположение царицы, которая любит меня как сестру и ни в чем не отказывает? Мало того, разве я не стала любимицей всех, кто ее окружает? Зачем же ты меня пугаешь и грозишь такими карами? — И она снова зарыдала еще более прекрасная в слезах, чем была с улыбкой.
— Ну довольно, довольно, — отрезал он, — я знаю, что я делаю, и не зря предупредил тебя. Впредь никогда не оскорбляй наших глаз зрелищем этого платья, пригодного лишь для развратницы. Думаешь, мы будем любоваться твоими точеными руками — мы, решившие вернуть себе Египет и посвятившие себя служению его истинным богам? Хармиана, перед тобой твой двоюродный брат и твой царь!
Она перестала плакать, вытерла глаза полой хитона, и я увидел, что от слез они стали еще нежнее.
— Мне кажется, о царственный Гармахис и мой любимый брат, — сказала она, склоняясь предо мной, — мне кажется, мы уже видели друг друга.
— Да, видели, сестра, — ответил я, заливаясь краской смущения, ибо никогда еще мне не доводилось беседовать с такой красивой девушкой, — ведь это ты была сегодня в колеснице Клеопатры, когда я дрался с нубийцем?
— Конечно, — подтвердила она, улыбнувшись, и глаза ее сверкнули, — это был великолепный поединок, только очень сильный и отважный борец мог победить этого черного негодяя. Я видела, как вы схватились, и, хотя еще не знала, кто ты, у меня сердце замерло от страха за человека столь мужественного. Но я сквиталась с ним за этот страх — ведь это по моему совету Клеопатра приказала стражам отрубить ему руку. Знай я, что это ты, ему бы отрубили голову. — Она бросила на меня быстрый взгляд и снова улыбнулась.
— Хватит болтать, — прервал ее дядя Сепа, — время дорого. Расскажи, Хармиана, все, что должна рассказать, и возвращайся во дворец.
Выражение ее лица тотчас же изменилось, она смиренно сложила руки перед собой и заговорила совсем другим тоном:
— Молю фараона выслушать свою служанку. Я — дочь твоего дяди, о фараон, покойного брата твоего отца, и потому в моих жилах тоже течет царская кровь. Я тоже чту древних богов Египта и ненавижу греков; видеть тебя на троне — моя заветная мечта, я лелею ее уже много лет. И ради того, чтобы она исполнилась, я Хармиана, забыв о своем высоком происхождении, поступила в услужение к Клеопатре, ибо нужно было выстроить ступеньку, на которую ты ступишь, когда придет твой час взойти на трон. И эта ступенька выстроена, о царь.
Выслушай же, мой царственный брат, что мы задумали. Ты должен стать вхожим во дворец, проникнуть во все тайны и хитросплетения интриг, которые плетутся там, и если будет нужно, подкупить евнухов и начальников стражи — некоторых я уже склонила на свою сторону. Когда наши люди будут готовы, ты убьешь Клеопатру и, воспользовавшись всеобщим смятением, побежишь к воротам, а я и те, кто будет мне помогать, прикроем тебя и задержим преследователей; ты откроешь ворота и впустишь наших людей, которые уже будут ждать, вы перебьете солдат, которые откажутся перейти на нашу сторону, и захватите Бруцеум. Самое большее через два дня эта ветреница Александрия будет в твоих руках. В то же самое время все, кто поклялся тебе в верности, поднимутся по всему Египту с оружием в руках против римлян, и через десять дней после смерти Клеопатры ты действительно станешь фараоном. Мы все обсудили до самых ничтожных мелочей, и, хотя твой дядя подозревает меня во всех мыслимых грехах, ты видишь сам, мой царственный брат, что я неплохо выучила свою роль, — не только выучила, но и сыграла.
— Да, сестра, вижу, — ответил я, дивясь, что столь юная девушка — ей было всего двадцать лет — замыслила столь дерзкий план, заговор составил не кто иной, как она. Но в те дни я плохо знал Хармиану. — Однако продолжай. Что надо сделать, чтобы я стал вхож во дворец Клеопатры?
— О брат, нет ничего проще. Слушай же. Клеопатра очень неравнодушна к мужской красоте, а ты — прости, что я это говорю, — очень хорош собой и сложен как бог. Она сегодня тебя заметила и дважды сетовала: как жаль, что не спросила этого астролога, где его найти, потому что астролог, который может убить нубийца-гладиатора голыми руками, конечно же, великий ученый и умеет расположить к себе звезды. Я сказала ей, что велю разыскать тебя. Запомни все, что я тебе скажу, мой царственный Гармахис. Днем Клеопатра почивает в своем внутреннем покое, который выходит в сад над гаванью. В полдень ты подойдешь к воротам дворца и потребуешь, чтобы тебе вызвали госпожу Хармиану, и я выйду к тебе. Клеопатре скажу, что тебя удалось найти, и устрою так, чтобы вы оказались одни, когда она пробудится, а дальше, Гармахис, ты будешь действовать сам. Она все пытается проникнуть в тайны мистических знаний, это ее любимая забава, и ночи напролет простаивает на крыше и наблюдает звезды, делая вид, будто умеет их читать. Совсем недавно она прогнала придворного врача, Диоскорида, потому что несчастный невежда осмелился заявить, что расположение звезд предрекает поражение Марку Антонию в битве с Кассием. Клеопатра тотчас же приказала военачальнику Аллиену послать еще несколько легионов в Сирию, где Антоний сражался с Кассием и, согласно предсказанию Диоскорида по звездам, должен был, увы, проиграть битву. Но все случилось наоборот: Антоний разбил сначала Кассия, потом Брута, а Диоскориду пришлось убраться из дворца, и теперь он, чтобы не умереть с голоду, читает в Мусейоне лекции о свойствах трав, что же касается звезд, он даже их названий слышать не может. Место придворного астролога свободно, его займешь ты, и мы начнем тайно действовать, защищенные сенью царского трона. Как червь разъедает спелый плод, вгрызаясь в его сердцевину, так ты подточишь трон гречанки, и когда он рухнет, орел, его сокрушивший, сбросит оболочку червя, в которой был вынужден скрываться, и гордо расправит свои царственные крылья над Египтом, а потом и над другими землями и странами.
Я как зачарованный смотрел на эту удивительную девушку, ибо она ошеломила меня — лицо ее сейчас было озарено светом, какого я никогда не видел в глазах женщин.
— Благодарение богам, — воскликнула дядя, который тоже внимательно вглядывался в нее, — благодарение богам, теперь я узнаю тебя, теперь ты прежняя Хармиана, которую я с такой любовью воспитывал, а не придворная шлюха, разодетая в дорогие шелка и умащенная благовониями. Да не поколеблется твоя вера, Хармиана, пусть в твоем сердце пылает всепобеждающая любовь к отечеству, и судьба вознаградит тебя. А теперь надень покрывало на это свое бесстыдное платье и ступай, уже поздно. Завтра в полдень Гармахис придет к воротам дворца, жди его. Прощай, Хармиана.
Хармиана склонила перед ним голову и завернулась в свою темную накидку. Потом взяла мою руку, коснулась ее губами и, не сказав ни слова, скользнула прочь.
— Странная женщина! — заметил дядя, когда она ушла. — Очень странная, никогда не знаешь, что она выкинет!
— Мне кажется, дядя, — сказал я, — мне кажется, ты был слишком суров с ней.
— Да, верно, суров, — вздохнул он, — но она это заслужила. Послушай, что я тебе скажу, Гармахис: не очень доверяй Хармиане. Уж слишком своевольный у нее нрав, меня страшит ее непостоянство. Она женщина, женщина до мозга костей, ее еще труднее обуздать, чем норовистую лошадь. Да, она умна и смела, она жаждет освободить наш Египет от иноземных тиранов, но я молю богов, чтобы ее преданность этому великому делу не пришла в противоречие с ее желаниями, ибо если она чего-то пожелала, больше для нее уже ничего не существует, она добьется своего любой ценой. Вот потому-то я и припугнул ее сейчас, пока она еще в моей власти: а вдруг она в один прекрасный день взбунтуется, я к этому готов. Пойми, эта девушка держит в своих руках жизнь стольких людей, и если она нам изменит, что тогда? Увы, как жалка наша участь, если мы вынуждены прибегать к услугам женщин! Но она нам помогла, другого пути не было. И все же, и все же меня гложут сомнения. Молю богов, чтобы наш замысел удался, но порой я боюсь мою племянницу Хармиану — слишком она красива, слишком молода, а кровь, что течет в ее жилах, слишком горяча.
Горе строителям, которые возводят здание на фундаменте женской преданности; женщина преданна, только пока любит, а разлюбила — и преданность обратилась в предательство. Мужчина не подведет, не предаст, а женщина — сама переменчивость, она словно море — сейчас оно спокойно и ласково, а к вечеру бушует шторм, волны взлетают к небу и низвергаются в бездну. Не очень-то доверяй Хармиане, Гармахис: она, как волны океана, может примчать твою барку в родную гавань и, как те же самые волны, может разбить ее и утопить тебя, а вместе с тобой последнюю надежду Египта!
Глава III, повествующая о том, как Гармахис пришел к царскому дворцу; как он заставил Павла войти в ворота; как увидел спящую Клеопатру и как показал ей свое искусство волхвования
На следующий день, готовясь выполнить задуманное Хармианой, я обрядился в длинный просторный балахон, какие носят колдуны и астрологи, надел на голову шапочку с вышитыми звездами, а за пояс заткнул табличку писца и свиток папируса, сплошь покрытый мистическими символами и письменами. В руке у меня был жезл эбенового дерева с наконечником из слоновой кости — обязательная принадлежность жреца и кудесника. Кстати, в искусстве волхвования я достиг большого мастерства, ибо хоть я его не практиковал, зато проник в сокровенные тайны древних знаний, когда жил в Ана. И вот, сгорая от стыда, потому что мне претит вульгарное лицедейство и я считаю профанацией дешевые трюки бродячих прорицателей, я отправился в сопровождении дяди Сепа к царскому дворцу на мысе Лохиас. Мы миновали центр города, Бруцеум, прошли аллеей сфинксов, и наконец впереди показалась высокая мраморная ограда и в ней бронзовые ворота, за которыми находилось помещение для стражей. Здесь дядя Сепа оставил меня, трепетно моля богов охранить меня и даровать успех. Но я смело приблизился к воротам, где путь мне тотчас преградили стражи-галлы и потребовали, чтобы я назвал свое имя, сказал, чем занимаюсь и к кому пришел. Я ответил, что зовут меня Гармахис, я астролог и у меня дело к госпоже Хармиане, приближенной царицы. Стражи после этих слов хотели пропустить меня, но их начальник римлянин по имени Павел, выступил вперед и объявил, что не бывать тому, я никогда не войду в ворота. Этот Павел был огромного роста и тучен, но с женским лицом, и руки у него тряслись от пьянства. Оказывается, он узнал меня.
— Нет, ты только погляди, — крикнул он на своем родном, латинском языке приятелю, который вышел с ним: — это тот самый парень, который чуть не задушил вчера нубийца-гладиатора; нубиец до сих пор воет у меня под окном — видишь ли, руку ему отрубили. Будь проклята эта черная собака! Я заключил на него пари. Он должен был сражаться с Каем, а теперь все, конец, никогда ему больше не выйти на арену, плакали мои денежки, и все из-за этого астролога. Что ты там такое сказал? Говоришь, у тебя дело к госпоже Хармиане? Ну уж нет, теперь я тебя точно не пущу. И не мечтай попасть во дворец. Да я без памяти влюблен в госпожу Хармиану, мы все в нее влюблены, хотя взаимностью, увы, она нас не дарит, лишь потешается. И ты решил, что мы допустим в наш круг такого соперника — астролога, да еще красавца, к тому же силача? Клянусь Вакхом, никогда! Ноги твоей не будет во дворце, а если у вас назначено свидание, пусть она сама идет к тебе.
— О благородный господин, — проговорил я почтительно, но с достоинством, — прошу тебя, пошли за госпожой Хармианой, ибо дело мое не терпит отлагательств.
— Всемогущие боги! — захохотал глупец. — Кто ты такой, что не желаешь ждать? Переодетый цезарь? Проваливай, да поскорей, не то придется кольнуть тебя копьем в задницу.
— Постой, — остановил его другой начальник стражи, — ведь он астролог, вот пусть и предскажет нам судьбу, пусть позабавит своими фокусами.
— Да, верно, — зашумели стражи, которых собралась уже целая толпа, — давайте поглядим, на что он способен. Если он маг, то войдет в ворота, и никакой Павел ему не помеха.
— Охотно выполню выше желание, благородные господа, — ответил я, ибо не видел другого способа проникнуть во дворец. — Ты мне позволишь, о молодой и благородный господин, — обратился я к приятелю Павла, — ты мне позволишь поглядеть в твои глаза? Быть может, я смогу прочесть, что в них написано.
— Что ж, гляди, — ответил юноша, — но я предпочел бы в роли прорицателя госпожу Хармиану. Клянусь, я бы ее переглядел.
Я взял его за руку и погрузил взгляд в его глаза.
— Я вижу поле битвы, — произнес я, — ночь, повсюду трупы, и среди них твой труп, в его горло впилась гиена. Мой благородный господин, не пройдет и года, как ты умрешь, заколотый мечами.
— Клянусь Вакхом, с таким пророком лучше не встречаться! — воскликнул юноша, побледнев до синевы, и тотчас же исчез. И, кстати сказать, очень скоро мое предсказание сбылось. Его послали сражаться на Кипр, и там он погиб на поле брани.
— Теперь твой черед, о доблестный начальник! — сказал я, обращаясь к Павлу. — Я покажу тебе, как можно войти в эти ворота без твоего позволения, мало того — ты тоже войдешь в них, но следом за мной. Соблаговоли устремить свой царственный взгляд на кончик этой палочки. — И я поднял свой жезл.
Он неохотно повиновался, уступив подзуживанию приятелей, и я заставил его смотреть на белый кончик жезла, пока глаза у него не сделались пустыми, как у совы при свете солнца. Тогда я резко опустил палочку и перехватил его взгляд, вонзил в него свои глаза и волю и, медленно поворачиваясь, повлек его за собой, причем надменное застывшее лицо римлянина приблизилось к моему чуть не вплотную. Я так же медленно стал пятиться и вошел в ворота, по-прежнему увлекая его за собой, а потом вдруг резко отстранил голову. Он грянулся оземь, полежал немного и стал подниматься, потирая лоб; вид у него был на редкость глупый.
— Ну что, доволен, благороднейший из стражников? — спросил я. — Ты видишь — мы вошли в ворота. Желают ли кто-нибудь еще из благородных господ, чтобы я показал им свое искусство?
— Нет, клянусь богом грома Таранисом и всеми богами Олимпа в придачу! — вскричал старый галл-центурион по имени Бренн. — Слушай, астролог, ты мне не нравишься. От человека, который провел за собой нашего Павла через эти ворота одной только силой взгляда, надо держаться подальше. Ведь этот Павел вечно всем перечит, упрям он, как осел, — и вот пожалуйста! Да его если что и способно убедить, так только чаша с вином и женщина, а ты вмиг его скрутил!
Он умолк, потому что на мраморной дорожке показалась Хармиана в сопровождении вооруженного раба. Она ступала неторопливо, словно прогуливалась, сложив руки за спиной и как бы устремив взгляд в себя. Но именно в такие минуты, когда Хармиана напускала на себя рассеянность, она замечала самую ничтожную мелочь. Она приблизилась, и все стражи и их начальники расступились перед ней с поклонами, ибо, как я узнал позже, эта девушка была самое близкое и доверенное лицо Клеопатры, и никто не обладал во дворце такой властью, как она.
— Что тут за шум, Бренн? — обратилась она к центуриону, делая вид, что не замечает меня. — Неужто ты забыл, что в этот час царица почивает, и если ее разбудят, то наказан будешь ты, и наказан сурово?
— Прости, о госпожа, — смиренно проговорил галл-центурион, — сейчас я тебе все объясню. К воротам подошел кудесник, — он ткнул пальцем в мою сторону, — на редкость наглый — прошу прощения, я хотел сказать, на редкость искусный в своем ремесле, ибо он только что, приблизив свои глаза к глазам достойного Павла, повлек его за собой, — заметь, именно Павла, а не кого-то другого, — и вошел с ним в ворота, хотя Павел поклялся, что умрет, а не пропустит в них кудесника. Но это еще не все, госпожа, ибо кудесник утверждает, что пришел к тебе по делу, а это меня чрезвычайно печалит и вызывает за тебя тревогу.
Хармиана повернула головку и небрежно глянула на меня.
— Ах да, я вспомнила, — равнодушно проговорила она, — ему в самом деле велено было прийти — может быть, он позабавит царицу своими фокусами; но если колдун лишь способен протащить за нос пьяницу, — тут она бросила презрительный взгляд на разинувшего от изумления рот Павла, — протащить за нос пьяницу через ворота, которые он должен охранять, и этим его искусство исчерпывается, ему у нас делать нечего. Впрочем, посмотрим. Следуй за мной, господин кудесник; а ты, Бренн утихомирь своих горлопанов, чтобы не смели шуметь. Тебе же высокородный Павел, советую как можно скорее протрезветь и накрепко усвоить: если кто-то подойдет к воротам и будет спрашивать меня, тотчас же проводить ко мне. — И, царственно кивнув головкой, повернулась и пошла обратно ко дворцу, я и вооруженный раб на почтительном расстоянии следовали за ней.
Мы шагали по мраморной дорожке, вьющейся по саду и украшенной с обеих сторон мраморными статуями богов и богинь, ибо Лагиды не постыдились осквернить царское жилище этими языческими идолами. Наконец мы подошли к великолепной галерее с желобчатыми колоннами — это уже была греческая архитектура, и в галерее оказалось еще несколько стражей, но все они почтительно расступились перед госпожой Хармианой. Миновав галерею, мы вступили в мраморный атриум, посреди которого тихо журчал фонтан, и из атрума через низкую дверь прошли в следующий покой, который именовался Алебастровым Залом и был сказочно прекрасен. Его потолок поддерживали легкие колонны черного мрамора, но все стены были из сияющего белого алебастра, а на них были изображены сцены из греческих мифов. В роскошной многоцветной мозаике на полу были выложены сцены, посвященные Психее и греческому богу любви; в зале стояли кресла из слоновой кости и золота. Хармиана велела вооруженному рабу остаться у входа в этот чертог, и мы вошли в него одни, ибо чертог был пуст, если не считать двух евнухов с обнаженными мечами, которые стояли у дальней стены перед опущенным занавесом.
— Я так скорблю, мой господин, — застенчиво и еле слышно прошептала Хармиана, — что тебе пришлось подвергнуться такому унижению у ворот; дело в том, что стражи простояли двойной срок, и я уже приказала начальнику дворцовой охраны сменить их. Эти римские центурионы ужасные наглецы, они как будто бы и служат нам, однако великолепно знают, что Египет — игрушка в их руках. Но это даже кстати, что у тебя произошло с ними столкновение, потому что эти невежды суеверны и теперь будут бояться тебя. Ты побудь пока здесь, а я пройду в опочивальню Клеопатры. Я недавно убаюкала ее песней, и если она уже проснулась, я введу тебя к ней, ибо она ожидает твоего прихода с нетерпением. — И, не сказав больше ни слова, Хармиана скользнула прочь.
Немного погодя она вернулась и прошептала:
— Хочешь увидеть самую прекрасную женщину в мире спящей? Тогда следуй за мной. Не бойся: если она проснется, она только обрадуется, потому что велела привести тебя к ней сразу же, как ты явишься, хотя бы она и спала. Вот, смотри, у меня ее печать.
Мы пересекли роскошный зал и подошли к евнухам, которые стояли возле занавеса с обнаженными мечами, и евнухи тотчас преградили мне путь. Но Хармиана нахмурилась и, вынув спрятанную на груди печать, показала им. Они прочли надпись на печати, склонились перед Хармианой, опустили мечи, раздвинули тяжелый, расшитый золотом занавес, и мы вошли в покой, где почивала Клеопатра. Невозможно вообразить, как он был прекрасен — мрамор разных цветов, золото, слоновая кость, драгоценные камни, цветы — все лучшее, что может сотворить истинное искусство, вся роскошь, о которой можно лишь мечтать. Здесь были картины, написанные так живо, что птицы непременно стали бы клевать созданные кистью художника плоды; здесь были статуи женщин, чья редкостная красота навеки запечатлелась в мраморе; здесь были драпировки, тонкие и мягкие, как шелк, но сотканные из золотых нитей; здесь были ложа и ковры, каких я никогда не видел. Воздух нежно благоухал, через открытые окна доносился далекий шум моря. В противоположном конце покоя, на ложе, покрытом переливающимся шелком и защищенном пологом из тончайшего виссона, спала Клеопатра. Клеопатра, прекраснейшая из женщин, на которых когда-либо доводилось смотреть глазам мужчин, прекрасная, как мечта, спала передо мной в волнах своих темных разметавшихся волос. Ее голова покоилась на белой точеной руке, другая рука свешивалась вниз. Пухлые губы полуоткрылись в легкой улыбке, между ними сверкали ровные и белые, точно из слоновой кости зубы; схваченное поясом из драгоценных камней одеяние, в котором она спала, было такого тонкого шелка с острова Кос, что сквозь него светилось белорозовое тело. Я стоял ошеломленный, и хотя помыслы мои были далеки от женщин, ее красота поразила меня, как удар, я на миг забыл обо всем, подчинившись ее могуществу, и сердце мне кольнула боль, что я должен убить столь пленительное создание.
Резко отвернувшись от Клеопатры, я увидел, что Хармиана впилась в меня своими зоркими глазами, впилась так, словно хотела проникнуть в сердце. Верно, на моем лице и вправду отразились мои мысли и она сумела их прочесть, потому что прошептала мне на ухо:
— Какая жалость, правда? Гармахис, ведь ты всего лишь мужчина; боюсь, тебе понадобится призвать на помощь все могущество твоих тайных знаний, чтобы они поддержали твое мужество и ты смог совершить задуманное!
Я нахмурился, но не успел ничего сказать в ответ, ибо она слегка коснулась моей руки и указала на царицу. С царицей что-то произошло: руки были стиснуты, разгоревшееся ото сна лицо омрачено страхом. Дыхание стеснилось, она выбросила перед собой руки, точно защищаясь от удара, потом с глухим стоном села и распахнула озера глаз. Они были темные-темные, как ночь; но вот свет проник в них, и они стали наливаться синевой — синевой предрассветного неба.
— Цезарион! — вскричала она. — Где мой сын, где Цезарион? Слава богам, это было всего лишь во сне! Мне снилось, что Юлий, давно погибший Юлий, пришел ко мне в окровавленной тоге, обнял своего сына и увел прочь. Потом мне стало сниться, что я умираю, умираю в крови и в муках, а кто-то, невидимый мне, смеется надо мной… О, боги, кто этот мужчина?
— Успокойся, моя царица, успокойся! — проговорила Хармиана. — Это всего лишь астролог Гармахис, ты сама приказала мне привести его к тебе в час твоего пробуждения.
— Ах, астролог, тот самый Гармахис, который победил гладиатора? Теперь я вспомнила. Я рада, что ты пришел. Скажи же мне, астролог, ты можешь ли увидеть в своем магическом зеркале разгадку моего сна? Какая странная вещь — сон, он опутывает наш разум паутиной тьмы и властно подчиняет его себе. Откуда приходят эти страшные видения, почему они поднимаются над горизонтом нашей души, точно луна, вдруг проступившая на полуденном небе? Какие силы вызывают эти образы из глубин нашей памяти, кто наделяет их столь несомненной жизнью, и неумолимо показывая нам их страданья, сталкивает настоящее с прошлым? Что же, стало быть, они — вестники? Стало быть, во время той неполной смерти, которую мы называем сном, они проникают в наше сознание и связывают порванные нити, когда-то соединявшие судьбы? То был сам Цезарь в моем сне, я уверена, но я не знаю, кто стоял рядом, скрытый плащом, и глухо произносил зловещие слова, которых я не помню. Разгадай мне эту загадку, египетский сфинкс[16], и я укажу тебе путь к счастью и богатству, каких тебе не дадут твои звезды. Ты принес мне знамение, растолкуй же его.
— Я вовремя пришел к тебе, о могущественейшая из цариц, — отвечал я, — знай: я проник в некоторые тайны сна, а сон, как ты правильно угадала, порой впускает в наши живые души тех, кто воссоединился с Осирисом, и они символическими действиями или словами доносят до нас эхо того, что звучит в Царстве Истины, где они обитают, а посвященные смертные умеют эти знаки разгадать. Да, сон — это лестница, по которой в дух избранных спускаются в самых разных обличьях вестники божеств-охранителей. И те, кто владеет ключом к тайне, видят в безумии наших снов ясный смысл и понимают их язык гораздо лучше, чем язык мудрости и событий нашей повседневной жизни, которая как раз и есть истинный сон. Тебе привиделся великий Цезарь в окровавленной тоге, он обнял царевича Цезариона и увел от тебя. Слушай же, что твой сон означает. Да, ты видела Цезаря, он явился к тебе из Аменти в своем собственном обличье, тут ошибиться невозможно. Когда он обнял своего сына Цезариона, он хотел показать, что одному лишь ему передал свое величие и свою любовь. Тебе приснилось, что Цезарь увел его от тебя, так вот, это значит, что он увел его из Египта в Рим, где его коронуют в Капитолии и он станет владыкой Римской империи. Что значит другой твой сон, я не могу разгадать. Его смысл скрыт от меня.
Вот как истолковал я ей ее видение, хотя сам прозревал в нем иной, зловещий смысл. Но царям не следует предсказывать дурное.
Тем временем Клеопатра поднялась и, откинув виссон, который защищал ее от комаров, села на край ложа; глаза внимательно изучали мое лицо, пальцы играли концами пояса из драгоценных камней.
— Поистине, ты мудрейший из прорицателей! — воскликнула она. — Ты читаешь в моем сердце и видишь благой знак в том, что на первый взгляд кажется дурным предзнаменованием.
— Ты права, о царица, — сказала Хармиана, которая стояла рядом, опустив глаза, и в нежных переливах ее голоса мне послышались недобрые нотки. — Да не оскорбят отныне дурные предзнаменования твой слух, пусть все зло оборачивается для тебя таким же благом.
Клеопатра сцепила пальцы за головой и, откинувшись назад, посмотрела на меня полузакрытыми глазами.
— Ну что ж, египтянин, покажи нам теперь свое искусство, — сказала она. — На улице еще жарко, а эти иудейские послы с их разговорами об Ироде и Иерусалиме мне до смерти наскучили, терпеть не могу Ирода, он очень скоро в этом убедится, а послы — нет, я их сегодня не приму, хоть я бы и не прочь поболтать на иудейском. Итак, что ты умеешь? Надеюсь, позабавишь нас какими-нибудь новыми фокусами? Клянусь Сераписом, если ты так же хорошо чародействуешь, как прорицаешь, я обещаю тебе место при дворе, хорошие деньги и подарки — если, конечно, твоя возвышенная душа не восстает в негодовании при мысли о подарках.
— Новых фокусов я не придумал, — ответил я, — но есть такие приемы волхвований, которые применяют очень редко и с большой осторожностью, и тебе, царица, они могут быть в новинку. Ты не боишься колдовства?
— Я ничего не боюсь; вызывай самые страшные силы. Поди ко мне, Хармиана, сядь рядом. Начинай. Нет, постой, а где другие девушки, где Ирада и Мерира? Они ведь тоже любят представления волшебников.
— Нет, не зови их, — остановил я ее, — когда много народу, чары плохо действуют. Итак, смотрите! — И, глядя на двух женщин, я бросил на пол мою палочку и стал шептать заклинание. Минуту палочка лежала неподвижно, потом начала медленно извиваться. Потом свернулась в кольцо, поднялась и начала раскачиваться. Вот на ее головке появились очки — она превратилась в змею, и змея поползла, грозно шипя.
— Ну удивил, нечего сказать! — презрительно вскричала Клеопатра. — И это-то ты называешь колдовством? Фокус стар как мир, любой уличный колдун умеет его делать. Я видела такое сотни раз.
— Не торопись, царица, — ответил я, — это всего лишь начало. — И тут же змею как бы разрезало на несколько частей, и каждая часть вытянулась в длинную змею. Эти змеи тоже разделились на множество маленьких, они росли и снова распадались, так что очень скоро под взглядами зачарованных женщин пол покоя словно бы залили играющие волны — это кишел толстый слой змей, они ползли друг по другу, шипели, свивались в кольца… Я сделал знак, и все устремились ко мне, стали медленно обвивать мне ноги, туловище, руки, и весь я покрылся многослойным панцирем змей, только лицо оставалось открытым.
— Это ужасно, ужасно! — закричала Хармиана и спрятала лицо в складках Клеопатриной юбки.
— Довольно, волшебник, довольно! — повелела Клеопатра. — Твое колдовство поразило нас.
Я взмахнул рукой, с которой свисали змеи, и все исчезло. У ног моих лежала черная палочка эбенового дерева с головкой из слоновой кости, и больше ничего не было.
Женщины взглянули друг на друга и ахнули от изумления. Но я поднял свою палочку и, сложив на груди руки, встал перед ними.
— Довольна ли царица моим убогим представлением? — смиренно спросил я.
— О да, египтянин, довольна! Такого искусства я никогда не видела. С сегодняшнего дня ты — мой придворный астроном, тебе даруется право бывать в покоях царицы. У тебя есть в запасе что-нибудь еще занимательное?
— Есть, царица. Прикажи слегка затенить покой, и я покажу тебе еще одно представление.
— Мне немного страшно, — сказала Клеопатра, — но все равно опусти занавеси, Хармиана, как просил Гармахис.
Занавеси опустились, в покое стало сумрачно, будто приближался вечер. Я шагнул вперед и встал рядом с Клеопатрой.
— Смотри туда! — властно приказал я, указывая палочкой на то место, где я стоял раньше. — Смотри туда, и ты увидишь то, что у тебя в мыслях.
В немом молчании обе женщины пристально, с испуганными лицами глядели в пустоту.
И под их взглядом на этом месте сгустилось облачко. Оно медленно вытянулось и стало обретать очертания, — то были очертания мужчины, довольно смутные в сумраке покоя, они то проступали четче, то как бы таяли.
Я возгласил:
— Тень, заклинаю тебя, воплотись!
И лишь только я воззвал, смутный силуэт вдруг превратился в человека, очень ясно видимого. Перед нами был державный Цезарь, на голову наброшена тога, туника вся в крови от бесчисленных ран. С минуту он постоял, потом я взмахнул рукой, и он исчез.
Я повернулся к сидящим на ложе женщинам и увидел, что прелестное лицо Клеопатры искажено ужасом. Губы серые, как пепел, широко открытые глаза застыли, и вся она дрожит.
— О, боги! — Голос ее прервался. — О, боги, кто ты? Кто ты, умеющий вызывать на землю мертвых?
— Я — астроном царицы, ее кудесник, ее слуга, — все, что она пожелает, — ответил я со смехом. — Стало быть, я показал именно то, что мысленно видела царица?
Она мне не ответила, но встала и вышла из покоя через другую дверь.
Потом с ложа поднялась и Хармиана и отняла от лица руки, ибо ее тоже обуял смертельный страх.
— Как ты это делаешь, мой царственный Гармахис? — спросила она. — Открой мне! Я скажу тебе правду: я боюсь тебя.
— Не бойся, — ответил я. — Может быть, ты видела лишь то, что было в моем воображении. В мире нет ничего, кроме теней. Откуда же тебе знать их природу? Откуда тебе знать, что истинно существует, а что нам только кажется? Но скажи лучше, как все прошло? И помни, Хармиана: эту игру мы должны довести до конца.
— Все получилось великолепно, — ответила она. — Завтра утром вся Александрия будет рассказывать, что произошло у ворот и здесь, при одном твоем имени людей станет бросать в дрожь. А теперь почтительно прошу тебя: следуй за мной.
Глава IV, повествующая о том, как Гармахис дивился повадкам Хармианы, и о том, как его провозгласили богом любви
Назавтра я получил письменное уведомление, что назначен астрологом и главным прорицателем царицы, с указанием суммы жалованья и перечнем привилегий, полагающихся мне в этой должности, а они были весьма значительны. Мне также были отведены во дворце комнаты, из которых я поднимался ночью на высокую башню обсерватории, наблюдал звезды и сообщал, что предвещает их расположение. Как раз в это время Клеопатру чрезвычайно волновали политические дела, и, не зная, чем кончится жестокая борьба между могущественными группировками в Риме, но желая примкнуть к сильнейшей, она постоянно советовалась со мной и спрашивала, что предвещают звезды. Я читал их ей, руководствуясь высшими интересами дела, которому себя посвятил. Римский триумвир Антоний воевал сейчас в Малой Азии и, по слухам, был страшно зол на Клеопатру, потому что она, как ему сообщили, будто бы выступает против триумвирата, и ее военачальник Серапион даже сражался на стороне Кассия. Клеопатра же пылко убеждала меня и всех прочих, что Серапион действовал вопреки ее воле. Но Хармиана мне открыла, что и здесь не обошлось без участия злосчастного Диоскорида, ибо Клеопатра, следуя его предсказанию, сама тайно послала Серапиона с войском на помощь Кассию, когда приказывала Аллиену направить легионы ему в поддержку. Но это не спасло Серапиона, ибо, желая доказать Антонию свою невиновность, Клеопатра велела схватить военачальника в святилище, где он укрылся, и казнить. Горе тем, кто выполняет желания тиранов, когда весы судьбы склоняются не в их сторону! Увы, Серапион поплатился за это жизнью.
Меж тем нашим планам сопутствовал успех, ибо Клеопатра и ее советники были совершенно поглощены событиями, происходящими за пределами Египта, и никому из них и в голову не приходило, что сам Египет может восстать. С каждым днем число наших сторонников увеличивалось во всех городах страны, даже в Александрии, которую Египет как бы даже не считает Египтом — настолько все здесь нам было чуждо и враждебно. Каждый день к нам примыкали все новые колеблющиеся и клялись служить нашему делу священной клятвой, которую нельзя нарушить, и мы чувствовала, что наши замыслы покоятся на прочном основании. Несколько раз в неделю я покидал дворец и шел к дяде Сепа обсуждать, как обстоят дела, встречался в его доме с сановниками и верховными жрецами, которые жаждали освобождения Кемета.
Я часто виделся с царицей Клеопатрой и каждый раз заново поражался глубине и широте ее редкого ума, — он был неисчерпаемо богат и сверкал, как золотая ткань, расшитая драгоценными камнями, озаряя своим переливчатым сиянием ее прекрасное лицо. Она немного боялась меня и потому желала заручиться моей дружбой, обсуждала со мной самые разные темы, вовсе не связанные с астрологией и прорицаниями. Много времени я проводил и в обществе госпожи Хармианы, — вернее, она почти всегда была возле меня и я даже не замечал, когда она исчезала и когда появлялась. Она подходила совсем близко своими легкими неслышными шагами, я оборачивался и вдруг видел, что она за моей спиной, стоит и смотрит на меня из-под длинных опущенных ресниц. Никакая услуга не затрудняла ее, она выполняла все мгновенно; и днем, и ночью она трудилась во имя нашей великой цели.
Но когда я благодарил ее за преданность и говорил, что скоро, совсем скоро настанет время, когда я смогу отблагодарить ее по-царски, она топала ножкой, надувала губки, как капризный ребенок, и возражала, что хоть я и великий ученый, но не знаю самых простых вещей: любовь не требует награды, она сама по себе счастье. Я же, глупец, вовсе не искушенный в любви, не знающий и не замечающий женщин, думал, что она говорит о любви к Кемету и считает счастьем служить делу его освобождения. Я выражал свое восхищение ее верностью отчизне, а она в гневе разражалась слезами и убегала, оставлял меня в величайшем недоумении. Ведь я не знал о ее страданиях. Не знал, что, сам того не желая, внушил этой девушке страстную любовь, и эта любовь измучила, истерзала ее сердце, что оно все время кровоточит, словно в него вонзили десятки стрел. Ничего-то, ничего-то я не знал, да и как мог я догадаться о ее любви, ведь для меня она была всего лишь помощницей в нашем общем священном деле. Меня не волновала ее красота, и даже когда она склонялась ко мне и ее дыхание касалось моих волос, я не чувствовал в ней женщину, я любовался ею, как мужчина любуется прекрасной статуей. Что мне радости земной любви, ведь я посвятил себя служению Исиде и делу освобождения Египта! Великие боги, подтвердите, что я не виновен в том, что со мной случилось и стало причиной моего несчастья и навлекло несчастье на наш Кемет!
Какая непостижимая вещь — любовь женщины, столь хрупкая, когда лишь зародилась, и столь грозная, когда развилась в полную силу! Ее начало напоминает ручеек, пробившийся из недр горы. А чем ручеек становится потом? Ручеек превращается в могучую реку, по которой плывут караваны богатых судов, которая животворит землю и дарит ей радость и счастье. Но вдруг эта река поднимается и смывает все, что было посеяно с такой надеждой, обращает в обломки построенное и рушит дворцы нашего счастья и храмы чистоты и веры. Ибо когда Непостижимый творил Мироздание, он вложил в его закон одной из составных частей семя женской любви, и на его непредсказуемом развитии зиждется равновесие миропорядка. Любовь возносит ничтожных на неизмеримые высоты власти, низвергает великих в прах. И пока существует это таинственнейшее создание природы — Женщина, Добро и Зло будут существовать неразделимо. Она стоит и, ослепленная любовью, плетет нить нашей судьбы, она льет сладкое вино в горькую чашу желчи, она отравляет здоровое дыхание жизни ядом своих желаний. Куда бы ты ни ускользнул, она будет всюду пред тобой. Ее слабость — твоя сила, ее могущество — твоя гибель. Ею ты рожден, ей обречен. Она твоя рабыня, и все же держит тебя в плену; ради нее ты забываешь о чести; стоит ей прикоснуться к запору, и он отомкнется, все преграды перед ней рушатся. Она безбрежна, как океан, она переменчива, как небо, ее имя — Непредугаданность. Мужчина, не пытайся бежать от Женщины и от ее любви, ибо, куда бы ты ни скрылся, она — твоя судьба, и все, что ты творишь, ты творишь для нее.
И так случилось, что я, Гармахис, чьи помыслы были всегда бесконечно далеки от женщин и от их любви, стал волею судьбы жертвой того, что в своем высокомерии презирал. Хармиана полюбила меня — почему ее выбор пал на меня, мне неведомо, но ее постигла любовь, и я расскажу, к чему эта ее любовь всех привела. Пока же я, ни о чем не догадываясь, видел в ней лишь сестру и, как мне казалось, шел рука об руку к нашей общей цели.
Время летело, и вот наконец мы все подготовили.
Завтра ночью будет нанесен удар, а нынче вечером во дворце устроили веселое празднество. Днем я встретился с дядей Сепа и с командующими пяти сотен воинов, которые ворвутся завтра в полночь во дворец после того, как я заколю царицу Клеопатру, и перебьют римских и галльских легионеров. Еще раньше я договорился с начальником стражи Павлом, который чуть не ползал передо мной на коленях после того, как я заставил его войти в ворота. Сначала припугнув его, потом обещав щедро вознаградить, я добился от него обещания отпереть по моему сигналу завтра ночью боковые ворота с восточной стороны дворца, ибо дежурить должен был именно он со своими стражами.
Итак, все было готово, еще несколько дней — и древо свободы, которое росло двадцать пять лет, наконец-то расцветет. Во всех городах Египта собрались вооруженные отряды, со стен не спускались дозорные, ожидая прибытия вестника, который сообщит, что Клеопатра убита и трон захватил наследник истинных древних фараонов Египта Гармахис.
Да, все приготовления завершились, власть сама просилась в руки, как спелый плод, который ждет, чтобы его сорвали. Я сидел на царском пиру, но сердце мое давила тяжесть, в мыслях витала темная тень недоброго предчувствия. Сидел я на почетном месте, рядом с сиятельной Клеопатрой, и, оглядывая рады гостей, сверкающих драгоценностями, увенчанных цветами, отмечал тех, кого я обрек на смерть. Передо мной возлежала Клеопатра в апофеозе своей красоты, от которой у гладящих на нее захватывало дух, как от шума вдруг налетевшего полуночного урагана или при виде разбушевавшегося моря. Я не сводил с нее глаз: вот она пригубила кубок с вином, погладила пальцами розу в своем венке, а сам в это время думал о кинжале, спрятанном у меня под складками одежды, который я поклялся вонзить в ее грудь. Я смотрел и смотрел на нее, разжигая в себе ненависть к ней, пытаясь наполнить душу торжеством от того, что она умрет, но не находил в себе ни ненависти, ни торжества. Здесь же, рядом с царицей, как всегда то и дело взглядывая на меня из-под своих длинных пушистых ресниц, возлежала прелестная госпожа Хармиана. Кто, любуясь ее детски ясным лицом, поверил, бы, что именно она устроила западню, в которую должна попасться столь любящая ее царица и там погибнуть жалкой смертью? Кому пришло бы в голову, что в этой девственной груди таится столь кровавый замысел? Я пристально смотрел на Хармиану и чувствовал, что мне противна сама мысль обагрить мой трон кровью и освободить страну от зла, творя зло. В эту минуту я даже пожалел, зачем я не простой безропотный крестьянин, который прилежно сеет пшеницу, когда наступает пора сева, а потом собирает урожай золотого зерна. Увы, семя, которое я был обречен посеять, было семя смерти, и сейчас мне предстоит пожинать кровавые плоды моих трудов.
— Что с тобой, Гармахис? Чем ты озабочен? — спросила Клеопатра, улыбаясь своей томной улыбкой. — Неужто золотой узор звезд непредсказуемо нарушился, о мой астроном? Или, может быть, ты обдумываешь какой-то новый замечательный фокус? В чем дело, почему ты не принимаешь участия в нашем веселье? А знаешь, если бы я не знала доподлинно, расспросив кого следует, что столь ничтожные и жалкие создания, каковыми являемся мы, бедные женщины, не смеют даже посягать на твое внимание, ибо ты не опустишься столь низко, я бы поклялась, Гармахис, что тебя поразила стрела Эрота!
— О нет, царица, Эрот мне не опасен, — ответил я. — Тот, кто наблюдает звезды, на замечает блеска женских глаз, гораздо менее ярких, и потому он счастлив!
Клеопатра склонилась ко мне и так долго смотрела в глаза странным пристальным взглядом, что сердце мое затрепетало, хоть я и призвал на помощь всю свою волю.
Не гордись, высокомерный египтянин, проговорила Клеопатра так тихо, что слова ее услышали только я и Хармиана, — не гордись, чародей, не то у меня вдруг появится искушение испробовать на тебе мои чары. Разве есть на свете женщина, которая бы вынесла такое презрение? Оно оскорбляет весь наш пол и противно самой природе. — И она откинулась на ложе и рассмеялась своим чудесным мелодичным смехом. Но я поднял глаза и увидел, что Хармиана закусила губу и гневно хмурится.
— Прости меня, царица Египта, — ответил я сухо, но со всей изысканностью, на которую был способен, — перед Царицей Ночи бледнеют даже звезды! — Я, конечно, говорил о символе Великой Праматери — луне, с кем Клеопатра осмеливалась соперничать, именуя себя сошедшей на землю Исидой.
— Находчивый ответ! — сказал она и захлопала своими точеными белыми ручками. — Да мой астроном, оказывается, остроумен и к тому же великолепно умеет льстить! Нет, он просто чудо, мы должны воздать ему хвалу, иначе боги разгневаются. Хармиана, сними с моей головы этот венок и возложи его на высокое чело нашего многомудрого Гармахиса. Желает он того или нет, мы коронуем его и жалуем ему титул «Бога любви».
Хармиана подняла венок из роз, который украшал голову Клеопатры, и, поднеся ко мне, с улыбкой возложила на мою, еще теплый и хранящий благоухание волос царицы, — впрочем, она его отнюдь не возложила, а нахлобучила, да так грубо, что оцарапала мне лоб шипами. Она была вне себя от ярости, хотя на губах ее сияла улыбка, и с этой улыбкой шепнула мне на ухо: «Это предвестие твоей судьбы, мой царственный Гармахис». Ибо хоть Хармиана была женщина до мозга костей, когда она сердилась или ревновала, то вела себя как ребенок.
Итак, нахлобучив на меня венок, она низко склонилась передо мной и нежнейшим голосом ехидно пропела по-гречески: «Да здравствует Гармахис, бог любви». Клеопатра засмеялась и провозгласила тост за «Бога любви», все гости подхватили шутку, сочтя ее на редкость удачной. Ведь в Александрии не выносят тех, кто ведет аскетическую жизнь и чурается женщин.
Я сидел с улыбкой на устах, но меня душила черная ярость. Эти вульгарные придворные и легкомысленные красотки Клеопатрина двора потешаются надо мной — истинным властелином Египта! Сама эта мысль была невыносима. Но особенно я ненавидел Хармиану, ибо она смеялась громче всех, а я тогда еще не знал, что смехом и язвительностью раненое сердце часто пытается скрыть от мира свою боль. Предвестием моей судьбы назвала она эту корону из роз, и, о боги, — она оказалась права. Ибо я променял двойную корону Верхнего и Нижнего Египта на венок, сплетенный из роз страсти, которая увяла, не достигнув полного расцвета, а парадный трон фараонов из слоновой кости — на ложе неверной женщины.
— Бог любви! Приветствуем бога любви, увенчанного розами! — кричали пирующие, со смехом поднимая кубки. Бог, увенчанный розами? Нет, я увенчан позором! И я, по праву крови законный фараон Египта, помазанный на царство, в этом благоухающем позорном венке, стал думать о тысячелетнем нерушимом храме Абидоса и о том, другом короновании, которое должно состояться послезавтра утром.
Все так же улыбаясь, я тоже поднял свой кубок вместе со всеми и ответил какой-то шуткой. Потом встал и, склонившись пред Клеопатрой, попросил у нее позволения покинуть пир.
— Восходит Венера, — сказал я, ибо они именуют Венерой планету, которая у нас носит имя Донау, когда восходит вечером, и имя Бону, когда является на утреннем небе. — И я, только что провозглашенный богом любви, должен приветствовать мою повелительницу. — Эти варвары считают Венеру богиней Любви.
И, провожаемый их смехом, я ушел к себе в обсерваторию, швырнул позорный венок из роз на мои астрономические приборы и стал ждать, делая вид, будто слежу за движением звезд. Обо многом я передумал, дожидаясь Хармианы, которая должна была принести окончательные списки тех, кого решено казнить, а также весть от дяди Сепа, ибо она виделась с ним после обеда.
Наконец дверь тихо отворилась, и проскользнула Хармиана, вся в драгоценностях и в белом платье, как была на пиру.
Глава V, повествующая о том, как Клеопатра пришла в обсерваторию к Гармахису; о том, как Гармахис бросил с башни шарф Хармианы; как рассказывал Клеопатре о звездах и как царица подарила дружбу своему слуге Гармахису
— Как ты долго, Хармиана, — сказал я. — Я уж заждался.
— Прости, о господин мой, но Клеопатра никак меня не отпускала. Она сегодня очень странно ведет себя. Не знаю, что это нам сулит. Ей приходят в голову самые неожиданные прихоти и фантазии, она как море летом, когда ветер беспрерывно меняется и оно то темнее от туч, то снова сияет. Не понимаю, что она задумала.
— Что нам за дело? Довольно о Клеопатре. Скажи мне лучше, видела ты дядю Сепа?
— Да, царственный Гармахис, видела.
— И принесла окончательные списки?
— Вот они. — И она извлекла папирусы из-под складок платья на груди. — Здесь имена тех, кто после смерти царицы должен быть немедленно казнен. Среди них старый галл Бренн. Жаль Бренна, мы с ним друзья; но он погибнет. Здесь много тех, кто обречен.
— Да, ты права, — ответил я, пробегая глазами папирус, — когда люди начинают думать о своих врагах, они вспоминают всех — всех до единого, а у нас врагов не перечесть. Но чему суждено случиться, то случится. Дай мне другие списки.
— Здесь имена тех, кого мы пощадили, ибо они заодно с нами или, во всяком случае, не против нас; а в этом перечислены города, которые восстанут, как только их достигнет весть, что Клеопатра умерла.
— Хорошо. А теперь… — я помолчал, — теперь обсудим, как должна погибнуть Клеопатра. Что ты решила? Она непременно должна умереть от моей руки?
— Да, мой господин, — ответил она, и снова я уловил в ее голосе язвительные нотки. — Я уверена, фараон будет счастлив, что избавил нашу страну от самозванки и распутницы на троне своей собственной рукой и одним ударом разбил цепи, в которых задыхался Египет.
— Не говори так, Хармиана, — ответил я, — ведь ты хорошо знаешь, как мне ненавистно убийство, я совершу его лишь под давлением суровой необходимости и выполняя клятвы, которые принес. Но разве нельзя ее отравить? Или подкупить кого-нибудь из евнухов, пусть он убьет ее? Мне отвратительна сама мысль об этом кровопролитии! Пусть Клеопатра совершила много страшных преступлений, но я безмерно удивляюсь, что ты без тени жалости готовишься предательски убить ту, которая так любит тебя!
— Что-то наш фараон уж слишком разжалобился, он, видно, позабыл, какое важное настал» время, забыл, что от этого удара кинжалом, который пресечет жизнь Клеопатры, зависит судьба страны и жизнь тысяч людей. Слушай меня, Гармахис: убить ее должен ты — ты и никто другой! Я бы сама вонзила кинжал, если бы у меня в руках была сила, но увы — они слишком хрупки. Отравить ее нельзя, ибо все, что она ест и пьет, тщательно проверяют и пробуют три доверенных человека, а они неподкупны. На евнухов, охраняющих ее, мы тоже не можем положиться. Правда, двое из них на нашей стороне, но третий свято верен Клеопатре. Придется его потом убить; да и стоит ли жалеть какого-то ничтожного евнуха, когда кровь сейчас польется рекой? Так что остаешься ты. Завтра вечером, за три часа до полуночи, ты пойдешь читать звезды, чтобы сделать последнее предсказание, касающееся военных действий. Потом ты спустишься, возьмешь печать царицы и, как мы договорились, вместе со мной пойдешь в ее покои. Знай: завтра на рассвете из Александрии отплывает судно, которое повезет планы действий легионам Клеопатры. Ты останешься наедине с Клеопатрой, ибо она желает, чтобы ни единая душа не знала, какой она отдаст приказ, и прочтешь ей звездный гороскоп. Когда она склонится над папирусом, ты вонзишь ей кинжал в спину и убьешь, — да не дрогнут твои рука и воля! Убив ее — поверь, это будет очень легко, — ты возьмешь печать и выйдешь к евнуху, ибо двоих других там не будет. Если он вдруг что-то заподозрит, — это, конечно, исключено, ведь он не смеет входить во внутренние покои царицы, а крики умирающей до него не долетят через столько комнат, — но в крайнем случае ты убьешь и его. В следующем зале я встречу тебя, и мы вместе пойдем к Павлу, а я уж позабочусь, чтобы он был трезв и не отступил от своего слова, — я знаю, как этого добиться. Он и его стражи отомкнут ворота, а ждущие поблизости Сепа и пятьсот лучших воинов ворвутся во дворец и зарубят спящих легионеров. Поверь, все это так легко и просто, поэтому успокойся и не позволяй недостойному страху вползти в свое сердце — ведь ты не женщина. Что значит для тебя удар кинжалом? Ровным счетом ничего. А от него зависит судьба Египта и всего мира.
— Тише! — прервал ее я. — Что это? Мне послышался какой-то шум.
Хармиана бросилась к двери и, глядя вниз, на длинную темную лестницу, стала прислушиваться. Через минуту она подбежала ко мне и, прижав палец к губам, торопливо зашептала:
— Это царица! Царица поднимается по лестнице одна. Я слышала, как она отпустила Ираду. Нельзя, чтобы она застала меня здесь в такой час, она удивится и может заподозрить неладное. Что ей здесь надо? Куда мне спрятаться?
Я оглядел комнату. В дальнем конце висел тяжелый занавес, который закрывал нишу в толще стены, где я хранил свои приборы и свитки папирусов.
— Скорее, туда, — указал я, и она скользнула за занавес и расправила складки, которые надежно скрыли ее. Я же спрятал на груди роковой список обреченных на смерть и склонился над своими мистическими таблицами. Через минуту я услышал шелест женского платья, в дверь тихо постучали.
— Кто бы ты ни был, войди, — сказал я.
Заслонка поднялась, через порог шагнула Клеопатра в парадном одеянии, с распущенными темными волосами до полу, со сверкающим на лбу священным золотым уреем — символом царской власти.
— Признаюсь тебе честно, Гармахис, — произнесла она, переведя дух и опускаясь на сиденье, — подняться к небу ох как нелегко. Я так устала, эта лестница просто бесконечная. Но я решила, мой астроном, посмотреть, как ты трудишься.
— Это слишком большая честь, о царица! — ответил я, низко склоняясь перед дней.
— В самом деле? Но на твоем лице нет радости, скорее недовольство. Ты слишком молод и красив, Гармахис, чтобы заниматься столь иссушающей душу наукой. Боги, что я вижу — мой венок из роз валяется среди твоих заржавленных приборов! Ах, Гармахис, сколько я знаю царей, которые хранили бы этот венок всю жизнь, дорожа им больше, чем самыми драгоценными диадемами! А ты швырнул его, точно пучок травы. Какой ты странный человек! Но погоди — что это? Клянусь Исидой, женский шарф! Изволь же объяснить мне, мой Гармахис, как он попал сюда? Значит, наши жалкие шарфы тоже входят в круг приборов, которые служат твоей возвышенной науке? Так, так, вот ты и выдал себя! Стало быть, ты меня все время обманывал?
— Нет, величайшая из цариц, тысячу раз нет! — пылко воскликнул я, понимая, что оброненный Хармианой шарф действительно мог вызвать такие подозрения. — Клянусь тебе, я вправду не знаю, как эта безвкусная мишурная вещица могла оказаться здесь. Может быть, ее случайно забыла одна из женщин, что приходят убирать комнату.
— Ах да, как же я сразу не догадалась, — холодно проговорила она, смеясь журчащим смехом. — Ну конечно, у рабынь, которые убирают комнаты, полно таких безделиц — из тончайшего шелка, которые стоят дважды столько золота, сколько они весят, да к тому же сплошь расшиты разноцветными нитками. Я бы и сама не постыдилась надеть такой шарф. Сказать правду, мне кажется, я его на ком-то видела. — И она набросила шелковую ткань себе на плечи и расправила концы своей белой рукой. — Но что я делаю? Не сомневаюсь, в твоих глазах, я совершила святотатство, накинув шарф твоей возлюбленной на свою безобразную грудь. Возьми его, Гармахис; возьми и спрячь на груди, возле самого сердца!
Я взял злосчастную тряпку и, шепча про себя проклятия, которые не осмеливаюсь написать, шагнул на открытую площадку, казалось, вознесенную в самое небо, с которой наблюдал звезды. Там, скомкав шарф, я бросил его вниз, и он полетел, подхваченный ветром.
Увидев это, прелестная царица снова засмеялась.
— Зачем? — воскликнула она. — Что сказала бы твоя дама сердца, если бы увидела, как ты столь непочтительно выбросил ее залог любви? Может быть Гармахис, такая же участь постигнет и мой венок? Смотри, розы увядают; на, брось. — И, наклонившись, она взяла венок и протянула мне.
Я был в таком бешенстве, что вдруг решил разозлить ее и послать венок вслед за шарфом, однако обуздал себя.
— Нет, — ответил я уже не так резко, — этот венок — дар царицы, его я сохраню. — Эту минуту я увидел, что занавес колыхнулся. Сколько раз я потом жалел, что произнес эти слова пустой любезности, оказавшиеся роковыми.
— Как мне благодарить бога любви за столь великую милость? — проговорила она, вперяя в меня странный взгляд. — Но довольно шуток, выйдем на эту площадку, я хочу, чтобы ты рассказал мне о своих непостижимых звездах. Я всегда любила звезды, они такие чистые, яркие, холодные, и так чужды им наши одержимость и суета. Меня с детства тянуло к ним, вот бы жить среди них, мечтала я, ночь убаюкивала бы меня на своей темной груди, я вечно бы глядела на ее лик с нежными мерцающими глазами и растворялась в просторах мироздания. А может быть, — кто знает, Гармахис? — может быть, звезды сотворены из той же материи, что и мы, и, связанные с нами невидимыми нитями Природы, и в самом деле влекут нас за собой, когда совершают предначертанный им путь? Помнишь греческий миф о человеке, который стал звездой? Может быть, это случилось на самом деле? Может быть, эти крошечные огоньки — души людей, только очистившиеся, наполненные светом и достигшие царства блаженного покоя, откуда они озаряют кипение мелких страстей на их матери-земле? Или это светильники, висящие в высоте небесного свода и ярко, благодарно вспыхивающие, когда к ним подносит свой извечно горящий огонь некое божество, которое простирает крылья и в мире наступает ночь? Поделись со мной своей мудростью, приоткрой свои тайны, мой слуга, ибо я очень невежественна. Но мой ум жаждет знаний, мне хочется наполнить себя ими, я думаю, что многое бы поняла, только мне нужен наставник.
Радуясь, что мы выбрались из трясины на твердую землю, и дивясь, что Клеопатре не чужды возвышенные мысли, я начал рассказывать и, увлекшись, поведал то, что было дозволено. Я объяснил ей, что небо — это жидкая субстанция, разлитая вокруг земли и покоящаяся на мягкой подушке воздуха, что за ним находится небесный океан — Нут и в нем, точно суда, плывут по своим светозарным орбитам планеты. О многом я ей поведал, и в том числе о том, как благодаря никогда не прекращающемуся движению светил планета Венера, которую мы называем Донау, когда она горит на небе как утренняя звезда, становится прекрасной и лучистой вечерней звездой Бону. Я стоял и говорил, глядя на звезды, а она сидела, обхватив руками колено, и не спускала глаз с моего лица.
— Как удивительно! — наконец прервала она меня. — Значит, Венеру можно видеть и на утреннем, и на вечернем небе. Что ж, так и должно быть: она везде и всюду, хотя больше всего любит ночь. Но ты не любишь, когда я называю при тебе звезды именами, которые им дали римляне. Что ж, будем говорить на древнем языке Кемета, я его знаю хорошо: заметь, я первая из всех Лагидов, кто его выучил. А теперь, — продолжала она на моем родном языке, но с легким акцентом, от которого ее речь звучала еще милее, — оставим звезды в покое, ведь они, в сущности, коварные создания и, может быть, именно сейчас, в эту минуту замышляют недоброе против тебя или против меня, а то и против нас обоих. Но мне очень нравится слушать, когда ты говоришь о них, потому что в это время с твоего лица слетает маска угрюмой задумчивости, оно становится таким живым и человечным. Гармахис, ты слишком молод, тебе не следует заниматься столь возвышенной наукой. Я думаю, что должна найти тебе более веселое занятие. Молодость так коротка; зачем же растрачивать ее в таких тяжких размышлениях? Пора размышлений придет, когда мы уже не сможет действовать. Скажи мне, Гармахис, сколько тебе лет?
— Мне двадцать шесть лет, о царица, — отвечал я, — я рожден в первом месяце сезона шему, летом, в третий день от начала месяца.
— Как, стало быть, мы с тобой родились не только в один и тот же год и месяц, но и в тот же самый день, — воскликнула она, — ибо мне тоже двадцать шесть лет и я тоже рождена в третий день первого месяца сезона шему. Ну что ж, мы имеем право сказать, что не посрамили тех, кто дал нам жизнь. Ибо если я — самая красивая женщина Египта, то ты, Гармахис, самый красивый и самый сильный из всех мужчин Кемета и к тому же самый образованный. Мы родились в один день — знаешь, по-моему, судьба недаром свела нас и мы должны быть вместе: я — царица, а ты, Гармахис, быть может, самая надежная опора моего трона, мы принесем друг другу счастье.
— А может быть, горе, — ответил я и отвернулся, потому что ее чарующие речи терзали мой слух, а лицо от них запылало, и я не хотел, чтобы она это видела.
— Нет, нет, не говори о горе. Сядь рядом со мной, Гармахис, давай поговорим не как царица и ее подданный, а как два друга. Ты рассердился на меня сегодня на пиру, когда я велела надеть на тебя этот венок, решил, что я издеваюсь, так ведь? Ах, Гармахис, то была всего лишь шутка. Как тяжело бремя монархов, как утомительны их обязанности! Если бы ты это знал, ты бы не вспыхнул гневом от того, что я попыталась развлечься безобидной шуткой. До чего же скучны эти царевичи и аристократы, эти чванливые надменные римляне! В глаза они клянутся мне в рабской преданности, а за спиной глумятся надо мной, говорят, что я пресмыкаюсь перед их триумвиратом, перед их империей, перед их республикой — колесо судьбы поворачивается, и те, кто крепче в него вцепился, возносятся наверх и обретают власть. Среди тех, кто меня окружает, нет ни одного настоящего мужчины, — глупцы, марионетки, трусы, ни единого мужественного человека я не встречала среди них после гибели Цезаря, которого весь мир не мог победить, а они предательски закололи кинжалами. Я не могут допустить, чтобы Египет попал к ним в руки, и потому вынуждена стравливать их друг с другом, может быть, хоть это нас спасет. И какова награда? Меня на всех перекрестках позорят, мои подданные ненавидят меня, я это знаю, знаю, — вот моя награда! И я уверена: хоть я и женщина, они давно убили бы меня, да только никак не удается!
Она умолкла и закрыла глаза рукой, — это она сделала очень кстати, потому что я похолодел от ее слов и отпрянул в сторону.
Люди осуждают меня, я знаю; называют блудницей, а я оступилась один-единственный раз в жизни, когда полюбила величайшего человека в мире, любовь к нему зажгла во мне непреодолимую страсть, но страсть эта была священна. Бесстыдные клеветники-александрийцы обвиняют меня в том, что я отравила моего брата, Птолемея, которого римский Сенат, вопреки всем человеческим законам, насильно навязал мне в мужья — мне, его сестре! Но все эти обвинения — ложь: Птолемей заболел лихорадкой и умер. Однако это еще не все, молва утверждает, будто я хочу убить мою сестру Арсиною, ту самую Арсиною, которая спит и видит во сне, как бы убить меня. Какая отвратительная клевета! Арсиноя знать меня не желает, а я, я — нежно ее люблю. Да, все осуждают меня, хотя ничего дурного я не совершила. Даже ты, Гармахис, меня осуждаешь. Но прежде чем судить, Гармахис, вспомни, какое зло — зависть! Это тяжкая болезнь, она разъедает душу, калечит ум, извращает зрение, и ты видишь в ясном, открытом лице Добра Преступление, а в чистых помыслах невинной девушки тебе мерещится Порок! Задумайся, Гармахис, как чувствует себя тот, кого судьба высоко вознесла над любопытной и бесчестной чернью, которая ненавидит тебя за твое богатство и за твой ум, скрежещет от ярости зубами и под прикрытием собственного ничтожества пронзает тебя стрелами лжи, ибо эти бескрылые твари не способны взлететь; они жаждут низвести все высокое и благородное до своего уровня, втоптать в грязь.
И потому не спеши осуждать облеченных властью, ибо за каждым их поступком следят миллионы враждебных глаз, каждое слово ловят миллионы настороженных ушей, их самую безобидную ошибку тут же разносит по всему свету молва, злорадно торжествуя и крича, что они совершили преступление. Не говори сразу: «Они правы; конечно, они правы», лучше спроси: «А правы ли они? Так ли все было на самом деле? По своей ли воле она так поступила?» Суди справедливо и милосердно, Гармахис, как судила бы я, окажись я на твоем месте. Помни, что царица не принадлежит себе. Она — игрушка и оружие в руках политических сил, которые творят историю и записывают ее события на железных скрижалях. О Гармахис, будь моим другом, другом и советником, которому я могла бы безраздельно доверять, ведь здесь, в этом кишащем людьми дворце, нет более одинокого существа, чем я. Но тебе я доверяю; в твоих спокойных глазах я вижу верность, и я добьюсь для тебя высокого положения. Ах, как мне невыносимо мое душевное одиночество, я должна найти человека, с которым могла бы говорить, не опасаясь предательства, откровенно делиться своими мыслями. У меня много несовершенств, я сама знаю, но я не вовсе недостойна твоей преданности, ибо среди плевел в моей душе есть и добрые зерна. Скажи, Гармахис, ты чувствуешь ко мне сострадание, потому что я так одинока? Ты поддержишь меня своей дружбой — женщину, у которой столько поклонников, придворных, слуг, рабов, что и не счесть, но нет ни единого друга? — И она приблизилась ко мне, слегка коснувшись плечом и гладя на меня своими дивными фиалковыми глазами.
Я был потрясен. Я вспомнил о том, что должно произойти завтра ночью, и меня пронзили боль и стыд. Это меня-то она выбрала своим другом! Меня, у которого на груди спрятан кинжал убийцы! Я опустил голову, и то ли стон, то ли рыдание вырвалось из моего истерзанного сердца.
Но Клеопатра, считая, что я просто растроган ее столь неожиданно свалившейся на меня милостью, нежно улыбнулась и сказала:
— Уже поздно; завтра ночью, когда ты принесешь мне предсказание, мы снова будем говорить, мой друг Гармахис, и ты дашь мне ответ. — Она протянула мне руку, и я ее поцеловал. Поцеловал, сам не понимая, что я делаю, а она в тот же миг исчезла.
Я же остался стоять, гладя ей вслед, точно завороженный.
Глава VI, повествующая о сцене ревности и о признании Хармианы; о том, как Гармахис рассмеялся в ответ; о подготовке к кровавому деянию и о вести, которую старая Атуа передала Гармахису
Я стоял, застыв, погруженный в свои мысли. Потом случайно мой взгляд упал на венок из роз, и я взял его в руки. Сколько я так стоял — не знаю, но когда я наконец поднял глаза, я увидел Хармиану, о которой совсем забыл. И хотя в тот миг мои помыслы были далеко от нее, я рассеянно отметил, что щеки ее горят словно бы от гнева и она нетерпеливо постукивает ножкой по полу.
— А, это ты, Хармиана, — сказал я. — что с тобой? Затекли ноги, потому что пришлось так долго стоять в нише? Почему не выбралась из нее незаметно и не убежала, когда мы с Клеопатрой вышли на площадку?
— Где мой шарф? — спросила она, впиваясь в меня гневным взглядом. — Я обронила здесь мой шелковый вышитый шарф.
— Как где твой шарф? Ты разве не видела? Клеопатра принялась меня поддразнивать, и я выбросил его с башни.
— Не сомневайся, видела, и видела все слишком хорошо. Мой шарф ты выбросил, а вот венок из роз — его ты выбросить не смог. Ведь это поистине «дар царицы», и потому царственный Гармахис, жрец Исиды, избранник богов, коронованный фараон, посвятивший себя возрождению и процветанию Египта, будет свято хранить его и любоваться им. Что такое в сравнении с венком мой шарф, — раз наша развратная царица посмеялась над тобой, его надо выкинуть!
— О чем ты? — спросил я, пораженный горечью, которая звучала в ее голосе. — Разгадай мне свои загадки.
— Ты не понимаешь, о чем я? — Она вскинула голову, и я увидел ее белую плавно выгнутую шею. — Да ни о чем, а если хочешь — о самом главном, понимай как знаешь. Неужто ты так простодушен, Гармахис, мой брат и господин мой? — продолжала она тихо и язвительно. — Тогда я объясню: тебе грозит великая опасность. Клеопатра опутала тебя своими роковыми сетями, и ты уже почти любишь ее, Гармахис, — любишь ту, которую должен убить завтра! Да, стой и смотри как зачарованный на венок, что ты держишь в руках, венок, который ты не смог выбросить вслед за моим шарфом, — еще бы, ведь он был на голове Клеопатры! С благоуханием роз смешался аромат ее волос — волос любовницы Цезаря и множества других мужчин! Скажи мне, мой Гармахис, далеко ли ты продвинулся со своими любезностями, когда был с нею на площадке? Ведь из той ниши, где я пряталась, мне было ничего не видно и не слышно. Прелестное место для влюбленных, правда? И время самое подходящее, согласись. Не сомневаюсь: сегодня над всеми звездами царит Венера.
Она проговорила все это спокойно, мягко и даже ласково, хоть речь ее была жестока, и в то же время так ядовито, что каждое слово жгло мне сердце, я вспыхнул от гнева и даже не мог дать ей сразу отповедь.
— Да, ты ничего не упустишь, — продолжала она жалить меня, видя мою растерянность, — сегодня целуешь уста, которые завтра от твоего кинжала смолкнут навеки! Все точно рассчитываешь и пользуешься удобным случаем — удивительно достойное и благородное поведение.
И тут я наконец обрел дар речи.
— Да как ты смеешь так клеветать на меня, ничтожная? — вскричал я. — Ты что, забыла, кто ты и кто я? Как ты посмела осыпать меня своими глупыми насмешками?
— Я помню, кем тебе надлежит быть, — тотчас же парировала она. — Кто ты сейчас, я не знаю. Это ведомо только тебе — тебе и Клеопатре.
— О чем ты говоришь? Разве я виноват, что царица…
— Царица? Вот как, у нашего фараона есть царица?
— Если Клеопатра пожелала прийти сюда ночью и поговорить со мной…
— О звездах, Гармахис, о звездах и о розах, больше ее ничего не интересует!
Что я ей на это ответил — не помню, ибо хоть я и был в смятении чувств, злой язык девушки и нежно-вкрадчивый голос привели меня в бешенство. Знаю только одно: я говорил с ней так сурово, что она испугалась, как испугалась в тот вечер, когда дядя Сепа поносил ее за греческое платье. И так же, как в тот вечер, залилась слезами, только сейчас она не плакала, а бурно рыдала.
Наконец я умолк, мне было стыдно, гнев не прошел, душу саднила обида. Ибо она хоть и рыдала, но время от времени отпускала шпильки — на редкость острые и ядовитые.
— Как можешь ты так со мной говорить! Это жестоко, это недостойно мужчины! Но я забыла: ведь ты же не мужчина, ты всего лишь жрец! Быть может, ты мужчина только с Клеопатрой!
— По какому праву ты оскорбляешь меня? Какой смысл скрывается в твоих словах?
— По какому праву? — спросила она, глядя на меня своими темными глазами, из которых по нежным щекам лились слезы, словно капли утренней росы из сердцевины лилии. — По какому праву? О, Гармахис, неужели ты совсем слеп? Неужели в самом деле не знаешь, по какому праву я так говорю с тобой? Что ж, тогда придется мне открыть тебе. В Александрии такое признание не считается преступлением. Так вот, это право — великое святое право женщины, право безграничной любви, которой я люблю тебя, Гармахис, и которой ты, судя по всему, совсем не замечаешь, — право моего счастья и моего позора. Ах, не гневайся на меня, Гармахис, не отворачивайся от меня, не считай легкомысленной женщиной, потому что с уст моих наконец-то сорвались слова признания, — я вовсе не легкомысленная. Я такова, какой ты пожелаешь меня сделать. Я — воск в руках скульптора, и что ты из него вылепишь, то и будет. В душе моей поднимается прибой добра и света, и если ты будешь моим кормчим, моим вожаком, он принесет меня в страну высоких духом и благородных, о которой я никогда и не мечтала. Но если я тебя потеряю, то потеряю узду, которая сдерживает все худшее во мне, и пусть тогда разобьется моя барка! Ты не знаешь меня, Гармахис, не подозреваешь, какие могучие силы противоборствуют в оболочке моего хрупкого тела! Для тебя я всего лишь заурядная женщина, хитрая, капризная, пустая. Поверь мне, это не так! Поделись со мной своими самыми возвышенными мыслями — и я их разделю, открой, какая неразгаданная тайна мучит твой ум, — я помогу тебе проникнуть в ее суть. Мы с тобой одной крови, и любовь сметет то малое, в чем мы разнимся, она поможет слиться нам в одно существо. У нас одна и та же цель, мы любим ту же землю, одной и той же клятвой поклялись. Прими меня в свое сердце, Гармахис, посади рядом с собой на трон Верхнего и Нижнего Египта, и клянусь — я вознесу тебя туда, куда не поднимался ни один из смертных. Но если ты отвергнешь меня, то горе тебе, ибо я низвергну тебя во прах! Итак, я открылась тебе, презрев наши обычаи, преступив свою девичью сдержанность и скромность, меня толкнула на этот дерзкий поступок прекрасная царица Клеопатра, это живое воплощение коварства, которая ради забавы решила покорить своими уловками глупого астронома Гармахиса. Теперь ответь мне ты, я жду. — Она сжала руки и, сделав один единственный шаг ко мне, впилась взглядом в мое лицо, бледная, как полотно, дрожащая.
Я словно онемел, ибо, вопреки всему, ее чарующий голос и ее страстная речь растрогали меня и взволновали, точно переворачивающая душу музыка. Если бы я любил эту женщину, меня, без Сомнения, зажгло бы ее пламя; но я не чувствовал к ней и тени любви, а вызвать страсть разумом не мог. И в голове у меня замелькали разные картины, почему-то вдруг стало смешно, как случается с человеком, у которого нервы напряжены до предела. Я мысленно увидел себя вечером на пиру, когда она нахлобучила мне на голову венок из роз. Потом вспомнился ее шарф, который я выбросил с платформы башни. Я представил Хармиану в нише, где она пряталась, наблюдая за уловками — как она их называла — Клеопатры, услышал ее жалящие речи. И наконец, я подумал: интересно, а что сказал бы дядя Сепа, если бы увидел и услышал ее сейчас, что он сказал бы о странном, запутанном положении, в котором я очутился, словно в ловушку попал? И я расхохотался — глупец, этим смехом я обрек себя на гибель!
Она еще больше побледнела, лицо стало серым, как у мертвой, и на нем появилось выражение, убившее мое дурацкое веселье.
— Так, стало быть, Гармахис, — проговорила она тихо, срывающимся голосом и глядя в пол, — мои слова всего лишь позабавили тебя?
— Нет, Хармиана, нет, — ответил я, — прости мне этот глупый смех. Ведь я смеялся от отчаяния: что я могу сказать тебе? Ты говорила так взволнованно и так возвышенно о том, что ты способна сделать, — мне ли рассказывать тебе о тебе самой?
Она вся сжалась, и я умолк.
— Продолжай, — прошептала она.
— Ты знаешь, и знаешь лучше многих, кто я и что я должен выполнить; ты также знаешь, что я посвящен Исиде и что божественный закон не позволяет мне даже думать о любви к тебе.
— Конечно, — прервала она меня все так же тихо и по-прежнему не отрывая глаз от пола, — конечно, я все знаю, и знаю также, что ты нарушил свои клятвы, — если не действием, то в душе, — они растаяли, как корона облаков в небе: Гармахис, ты любишь Клеопатру!
— Ложь! — вскричал я. — Распутница, ты хочешь соблазнить меня и вынудить предать мой долг, покрыть себе в глазах Египта несмываемым позором! Поддавшись страсти, честолюбию, а может быть, вдохновленная жаждой творить зло, ты не постыдилась преступить запреты, налагаемые девичьим целомудрием, и призналась мне в любви! Берегись, если ты зайдешь слишком далеко! Ты хотела, чтобы я тебе ответил? Что ж, я отвечу так же откровенно, как ты спросила. Хармиана, меня связывает с тобой только мой долг перед страной и принесенные мной клятвы — больше ничего! Сколько бы ты ни пыталась заворожить меня своими нежными взглядами, сердце мое не забьется быстрее. И я даже не питаю к тебе дружеских чувств, ибо отныне не доверяю тебе. Но предупреждаю тебя еще раз: берегись! Мне ты можешь вредить сколько тебе вздумается, но если ты посмеешь причинить хоть самое малое зло нашему святому делу, знай — ты умрешь! Я все сказал. Игра кончена.
Я был вне себе от гнева, и, слушая меня, она отступала, отступала все дальше и наконец прижалась к стене и закрыла лицо руками. Но вот я умолк, и ее руки упали, она взглянула на меня, но лицо у нее было неподвижное, как у статуи, только огромные глаза горели, точно два угля, окруженные фиолетовыми тенями.
— Да, игра кончена, — проговорила она тихо, — осталось лишь посыпать песком арену. — Это она вспомнила, что после гладиаторских боев пролитую кровь засыпают мелким песком. — Ну что ж, — продолжала она, — не стоит тебе тратить свой гнев на столь презренное создание. Я бросила кости и проиграла. Vae victis! О, vae victis![17] Дай мне свой кинжал, тот, что ты прячешь в складках одежды на груди, и я сейчас же, не медля ни минуты, избавлюсь от позора! Не даешь? Тогда хоть выслушай меня, о царственный Гармахис: забудь слова, что я произнесла, молю тебя, и никогда меня не бойся. Я так же верно, как и прежде, служу тебе и нашему общему делу. Прощай!
Она побрела прочь, цепляясь рукой за стену. А я, уйдя к себе в спальню, упал на ложе и застонал от муки. Увы, мы строим планы и медленно возводим дом нашей надежды, не зная, каких гостей приведет в этот дом Время. Кто, кто из нас способен предвидеть непредвиденное?
Наконец я заснул, и всю ночь мне снились дурные сны. Когда я пробудился, в окно уже лился свет дня, который увидит исполнение наших кровавых замыслов, в саду средь пальм радостно заливались птицы. Да, я проснулся, и в тот же миг меня пронзило предчувствие беды, ибо я вспомнил, что, прежде чем нынешний день канет в вечность, я должен буду обагрить руки в крови — в крови Клеопатры, которая верит мне и считает своим другом! Я должен ее ненавидеть, почему же у меня нет ненависти к ней? Когда-то я смотрел на этот акт мести и как на высокий подвиг и жаждал совершить его. А сейчас… сейчас… признаюсь честно: я с радостью бы отказался от своего царского происхождения, лишь бы меня избавили от этой тягостной обязанности. Но увы, я знал, что избавления мне нет. Я должен испить чашу до дна, иначе я навек покрою себя позором. Я чувствовал, что за мной наблюдают глаза Египта, глаза всех его богов. Я молился моей небесной матери Исиде, прося ниспослать мне сил, чтобы я мог совершить это деяние, молился с таким жаром, какой никогда не вкладывал в мои молитвы, но странно — она не отзывалась на мой призыв. Почему? Что произошло? Кто разорвал нить, связующую нас, как случилось, что в первый раз в жизни богиня не пожелала услышать своего любимого сына и верного слугу? Неужели я согрешил против нее в своем сердце? Что там такое болтала Хармиана — что я люблю Клеопатру? Неужели эта моя мука — любовь? Нет, тысячу раз нет! Это лишь естественный протест природы против предательства и кровопролития. Богиня просто решила испытать мои силы, или, может быть, она тоже отвращает свой благой животворящий лик от тех, кто замышляет убийство?
Я встал, содрогаясь от ужаса и отчаяния, и начал заниматься делами, но это был как бы не я. Я выучил наизусть все имена в роковых списках, повторил в уме последовательность действий, более того, я даже мысленно составил обращение фараона к его подданным, которым завтра я поражу весь мир.
— Граждане Александрии и жители страны Египет, — так начиналось это обращение, — волею богов Клеопатру из династии Македонских Лагидов постигла кара за ее преступления…
Я продолжал трудиться, но делал все как бы во сне, словно у меня не было ни воли, не желаний, а мною двигали какие-то неведомые мне силы. Время летело. В третьем часу пополудни я пришел, как было условлено, в дом к дяде Сепа — в тот самый дом, куда я впервые вступил три месяца назад, вечером, когда приплыл в Александрию. Там уже тайно собрались на совет вожди, которые должны возглавить восставших в Александрии; всего их было семь, когда я вошел и двери комнаты замкнули, они простерлись предо мною ниц, восклицая: «Желаем здравствовать, наш фараон!» Но я попросил их встать и сказал, что я пока не фараон, я тот самый птенец, который еще не вылупился из яйца.
— Верно, царевич, — засмеялся дядя, — но клюв птенца уже пробил скорлупу. Если ты сегодня ночью сумеешь нанести этот удар кинжалом, значит, не зря Египет высиживал птенца все эти долгие годы. Да и что может тебе помешать? Мы идем прямо к победе, никто нас не остановит!
— Все в воле богов, — ответствовал я.
— Нет, — возразил он, боги поручили этот подвиг воле смертного — твоей воле, Гармахис, а твоя воля непоколебима. Смотри, вот еще несколько списков. В нашу поддержку поклялись выступить тридцать одна тысяча вооруженных воинов, как только до них дойдет весть о смерти Клеопатры и о твоей коронации. Через пять дней все цитадели Египта будут в наших руках, и тогда чего нам бояться? Рим нам не страшен, ему бы разобраться в своих собственных делах; к тому же мы заключим союз с триумвиратом и, если нужно, откупимся от него. Денег в стране довольно, а если потребуется еще, ты знаешь, Гармахис, где их добыть, они хранятся в тайном месте на черный день для нужд Кемета, и римлянам они вовеки недоступны. Кто может причинить нам зло? Никто. Возможно, в этом ненадежном городе начнется борьба, возможно, существует еще один заговор, участники которого хотя привезти в Египет Арсиною и посадить на трон ее. Тогда с Александрией придется поступить жестоко и даже, если нужно, разрушить ее. Что до Арсинои, то завтра, после того, как станет известно, что царица умерла, мы изберем людей, которые тайно умертвят ее.
— Но остается мальчик, Цезарион, — заметил я. — Он — наследник Клеопатры, и римляне могут заявить, что Египет принадлежит им, раз им правит сын Цезаря. Тут кроется огромная опасность.
— Опасности нет никакой, — возразил дядя, — завтра Цезарион встретится в Аменти с теми, кто его родил на свет. Я уже об этом позаботился. Род Птолемеев должен быть выкорчеван, чтобы корни этого проклятого богами древа не дали больше ни одного ростка.
— А нельзя обойтись без убийств? — печально спросил я. — Мне тягостно думать об этих потоках крови. Я хорошо знаю мальчика: он унаследовал красоту и одухотворенность Клеопатры и Цезарев великий ум. Умертвить его было бы преступление.
— Что за малодушие, Гармахис? Я не узнаю тебя, — сурово сказал дядя. — Откуда эта жалость? Если мальчик и вправду таков, как ты его описываешь, тем больше оснований с ним покончить. Неужто ты хочешь оставить жизнь львенку, который вырастет в могучего льва и столкнет тебя с трона?
— Что ж, пусть будет так, — ответил я со вздохом. — по крайней мере, он избегнет многих страданий и вступит в Аменти, не совершив зла. Обсудим теперь последовательность действий.
Мы долго сидели и обсуждали, как и в каком случае лучше поступить, и наконец, проникшись важностью минуты и сознанием нашей высокой цели, я почувствовал, как сердце мое оживляется, хоть и не прежним воодушевлением. Но вот все было условлено и обговорено, мы предусмотрели все мелочи и исключили возможность неудачи; решили даже, что если непредвиденные обстоятельства помешают мне убить Клеопатру сегодня ночью, мы подождем до завтра и тогда уж начнем действовать, ибо смерть Клеопатры должна послужить сигналом к выступлению по всей стране. Закончив совет, мы снова встали и, возложив руки на священный символ, поклялись клятвой, которую мне не позволено здесь начертать. Дядя поцеловал меня, в его черных живых глазах сверкали слезы радости и надежды. Он благословил меня и сказал, что счел бы счастьем отдать свою жизнь — тысячу жизней, если бы они у него были, — только бы увидеть Египет свободным, как прежде, а меня, Гармахиса, потомка его древних фараонов, возвести на престол. Он истинно и бескорыстно любил нашу отчизну и отдавал все силы ее возрождению. Я тоже поцеловал его, и мы расстались. Никогда больше я не встретился с ним в этом мире, а в том, другом, он вкушает покой среди полей Иалу, покой, в котором будет отказано мне.
Я покинул его дом и, поскольку было еще рано, быстро зашагал по улицам огромного города, осматривая все ворота, за которыми должны были собраться наши воины. В конце концов я пришел в порт, на набережную, где я сошел с барки, когда приплыл в Александрию, и увидел в открытом море судно. На сердце у меня было так тяжело, что я не мог оторвать от него глаз и мечтал лишь об одном: оказаться бы мне сейчас на этой барке и пусть ее белые паруса унесут меня на край света, где я стану жить, никому не ведомый, а потом умру, и все меня забудут. Потом я увидел еще одно судно, которое приплыло сюда по Нилу, с него на набережную спускались путешественники. С минуту я стоял и праздно их разглядывал, мелькнула мысль, не из Абидоса ли эти люди, как вдруг возле меня раздался знакомый голос:
— Ах-ха-ха-ах! Ну и город, такой старухе, как я, здесь делать нечего. Да разве я найду в эдаком столпотворении друзей, к которым приехала? Это все равно что искать в свитке папируса тростник, из которого он сделан. А ты, мошенник проваливай! Не трогай мою корзину с целебными травами, не то, клянусь богами, я с их помощью нашлю на тебя злую хворь!
Я в изумлении оглянулся — передо мной лицом к лицу стояла моя няня, старая Атуа. Она тотчас же узнала меня, ибо вздрогнула, это не укрылось от моих глаз, однако же вокруг был народ, и она не показала удивления.
— Мой добрый господин, — опасливо проговорила она, обращая ко мне свое морщинистое лицо и сделав рукой условный тайный знак, — мой добрый господин, судя по платью, ты астроном, мне строго наказали держаться от астрономов как можно дальше, ибо все они лгуны и дешевые шарлатаны, поклоняются только своей собственной звезде; и потому я, как истинная женщина, поступаю наоборот и прошу тебя помочь мне. Я уверена: в этой Александрии, где все не так, как у людей, астрономы наверняка единственные, кому можно доверять, а все остальные — обманщики и воры. — И прошептала, потому что мы отошли от плотной толпы и никто нас теперь не слышал: — Мой царственный Гармахис, я привезла тебе весть от твоего отца Аменемхета.
— Здоров ли он? — спросил я.
— Да, он здоров, но ожидание великого события отнимает у него силы.
— А что за весть он послал мне с тобой?
— Сейчас услышишь. Он шлет тебе свою любовь и благословение и просит передать, что над тобой нависла грозная опасность, хотя какая именно — он не мог разгадать. Вот слова, которые он произнес: «Будь тверд, и ты восторжествуешь».
Я опустил голову, ибо от этих слов мое сердце опять похолодело и в страхе сжалось.
— Когда все должно произойти? — спросила она.
— Сегодня ночью. Куда ты направляешься?
— В дом благородного Сепа, жреца из Ана. Ты можешь проводить меня к нему?
— Нет, мне больше нельзя задерживаться; да и не — надо, чтобы нас видели вместе. Эй, поди сюда! — крикнул я носильщику, который болтался без дела, и, дав ему денег, велел отвести старуху к дому дяди Сепа.
— Прощай, — шепнул она, — прощай же до завтра. Будь тверд, и ты восторжествуешь.
Я побрел по запруженным людьми улицам, причем все расступались передо мной, ибо слава моя была велика.
Я шел, и мне слышалось, будто подошвы моих сандалий отбивают: «Будь тверд… Будь тверд… Будь тверд…», а потом стало казаться, что это сама земля предостерегает меня.
Глава VII, повествующая о загадочных речах Хармианы; о появлении Гармахиса в покоях Клеопатры и о его поражении
Наступил вечер, я сидел один в своей обсерватории и ждал Хармиану, которая, как уговорено, должна была прийти за мной и отвести в покои Клеопатры. Да, я сидел один, и передо мною лежал кинжал, который должен был пронизить сердце царицы. Лезвие было длинное и острое, а рукоятка в виде сфинкса, из чистого золота. Я сидел один и молил богов открыть мне будущее, но боги молчали. Наконец я поднял глаза и увидел, что возле меня стоит Хармиана — не та кокетливая и искрящаяся весельем, какой я ее всегда знал, но бледная, с пустым взглядом.
— Царственный Гармахис, — произнесла она, — Клеопатра призывает тебя к себе, она желает знать, что предвещают звезды.
Так вот он, час моей судьбы!
— Я иду, Хармиана, — ответил я. — Все ли подготовлено?
— Да, господин мой, все подготовлено: Павел выпил чуть не бочку вина и стоит у ворот, двое евнухов ушли, остался только один, легионеры спят, а Сепа и его отряд уже собрались в условленном месте, неподалеку от восточных ворот. Мы не упустили ни одну мелочь, и царица Клеопатра так же не подозревает об уготованной ей роковой участи, как не ждет смерти овечка, которая резво бежит на бойню.
— Что ж, хорошо, — проговорил я, — пойдем же. — И, встав, положил кинжал себе за пазуху. Потом взял кубок с вином, что стоял на столе, и осушил его до дна, ибо весь день я почти ничего не ел и не пил.
— Подожди, я хочу тебе сказать… — волнуясь, начала Хармиана. — У нас еще есть время. Вчера ночью… вчера ночью… — грудь ее судорожно вздымалась, — мне приснился сон, который неотступно преследует меня; и тебе тоже, мне кажется, снился сон. Все это было всего лишь сон, давай же его забудем, согласен, господин мой?
— Да, да, конечно, — ответил я, — не понимаю, зачем ты отвлекаешь меня такими пустяками в столь важный час.
— Прости, сама не знаю; но сегодня ночью, Гармахис, Судьба должна разрешиться великими событиями, и, корчась в родовых муках, она может раздавить меня… или тебя, Гармахис, а может быть, нас обоих. И если нам суждено погибнуть, я бы хотела услышать от тебя, пока еще жива, что то был всего лишь сон и ты его забыл…
— Да, все и вся в этом мире сон, — думая о своем, проговорил я, — и ты сон, и я, и наша земная твердь, и эта ночь невыразимого ужаса, и этот острый нож — разве все это нам не снится? И каким станет мир, когда мы проснемся?
— Ну вот, мой царственный Гармахис, теперь ты тоже проникся моим настроением. Как ты сказал, все в этой жизни сон; и он на наших глазах меняется. Видения, которые нам являются, удивительны, они не стоят на месте, но плывут, точно облака на закатном небе, то громоздятся горами, то тают; то темнеют, словно наливаясь свинцом, то горят в золотом сиянии. Поэтому до того, как мы проснемся завтра, скажи мне одно только слово. Тот сон, что привиделся нам прошлой ночью, в котором я, как мне вспоминается, словно бы опозорила себя, а ты — ты словно бы смеялся над моим позором, так вот — его лик запечатлелся в твоей памяти неизгладимо или, может быть, он вдруг способен измениться? Помни: как бы причудливы и фантастичны ни были наши сны, но после пробуждения их образы пребудут с нами, вечные и неизменные, как пирамиды. Они останутся в той недоступной переменам области прошлого, где все великое и малое — и даже наши сны, Гармахис, — застывает в своем собственном обличье, как бы обращаясь в камень, и из них воздвигается гробница Времени, которое бессмертно.
— Прости меня Хармиана, — ответил я, — мне больно, если я огорчу тебя, но то видение не изменилось. Вчера я был с тобою откровенен, и сейчас ничего иного сказать не могу. Я люблю тебя как сестру, как друга, но ты не можешь быть для меня ничем другим.
— Ну что ж, благодарю тебя. Забудем все, что было. Забудем о прошлых снах — пусть теперь снятся нам другие. — И она улыбнулась очень странной улыбкой, я никогда раньше не видел такой на ее лице: в ней было больше пророческой печали, чем на лбу страдальца, которого отметил своей печатью Рок.
Я был глуп и потому слеп, я был поглощен скорбью моего собственного сердца и потому не понял, что, улыбаясь этой улыбкой, египтянка Хармиана прощалась со счастьем, с юностью; надежда на любовь исчезла, Хармиана презрела священные узы долга. Этой улыбкой она предала себя Злу, отринула свою отчизну и богов, преступила священную клятву. Да, в тот самый миг улыбка этой девушки изменила ход истории. И если бы она не мелькнула на лице Хармианы, Октавиан не стал бы владыкой мира, а Египет вновь обрел бы свободу и возродился великим и могучим.
И все это решила женская улыбка!
— Почему ты так странно смотришь на меня, Хармиана? — спросил я.
— Случается, мы улыбаемся во сне, — ответила она. — А вот теперь действительно пора; следуй за мной. Исполнись решимости, и ты восторжествуешь, царственный Гармахис! — И, склонившись передо мной, он взяла мою руку и поцеловала. Потом, бросив на меня еще один непостижимый взгляд, стала спускаться вниз по лестнице и повела по пустым залам дворца.
В чертоге, потолок которого поддерживают колонны из черного мрамора и который называется Алебастровым Залом, мы остановились. Дальше начинались покои Клеопатры, те самые, в которых я впервые увидел ее спящей.
— Подожди меня здесь, — сказала Хармиана, — а я доложу Клеопатре, что ты явился. — И она скользнула прочь.
Долго я стоял, может быть, полчаса, считая удары своего сердца, я был словно во сне и все пытался собрать силы, чтобы совершить то, что мне предстояло.
Наконец появилась Хармиана, она ступала тяжело, голова была низко опущена.
— Клеопатра ожидает тебя, — сказала она, — входи, стражи нет.
— Где я тебя найду, когда все будет кончено? — хрипло спросил я ее.
— Ты найдешь меня здесь, а потом мы пойдем к Павлу. Исполнись решимости, и ты восторжествуешь. Прощай, Гармахис!
И я пошел к покоям Клеопатры, но возле занавеса вдруг обернулся и в этом пустом, освещенном светильником зале увидел странную картину. Далеко от меня, подле самого светильника, в бьющих прямо в нее лучах стояла Хармиана, откинув назад голову и заломив руки, и ее юное лицо было искажено мукой такой гибельной страсти, что описать ее я не могу. Ибо она была уверена, что я, ее любимый, самое дорогое, что у нее есть на свете, иду на смерть и она прощается со мной навек.
Но ничего этого я тогда не знал; и, еще раз болезненно и мимолетно удивившись, откинул занавес, переступил порог и оказался в покое Клеопатры. Там, в дальнем углу благоухающего покоя, на шелковом ложе возлежала в роскошном белом одеянии царица. В руке у нее было опахало из страусовых перьев с ручкой, усыпанной драгоценными камнями, и она томными движениями овевала себя; возле ложа стояла ее арфа слоновой кости и столик, а на столике блюдо с инжиром, два кубка и графин рубинового вина. Я медленно приближался сквозь мягкий приглушенный свет к ложу, на котором во всей своей слепящей красоте лежала Клеопатра, это чудо света. Да, поистине, никогда она не была столь прекрасна, как в ту роковую ночь. Среди шелковых, янтарного цвета подушек она казалась как бы звездой на золотом закатном небе. От ее волос и одежд исходило благоухание, голос звучал чарующей музыкой, в синих сумеречных глазах мерцали и вспыхивали огни, точно в недобрых опалах.
И эту женщину я должен сейчас убить!
Я медленно шел к ней, потом поклонился, но она меня не замечала. Она лежала среди шелков, и ее украшенное драгоценностями опахало осеняло ее, точно яркое крыло парящей птицы.
Наконец я остановился возле ложа, и она подняла на меня глаза, а страусовыми перьями прикрыла грудь, словно желая скрыть ее красоту.
— А, это ты, мой друг? Ты пришел, — пропела она. — Я рада тебе, мне было так одиноко. В каком печальном мире мы живем! Вокруг нас столько лиц, и как же мало тех, кого хочется видеть. Что ты стоишь, как изваяние, присядь. — И она указала своим опахалом на резное кресло у изножья своего ложа.
Я снова поклонился и сел в кресло.
— Я выполнил повеление царицы, — начал я, — и со всем тщанием и всем искусством, которое мне подвластно, прочел предначертание звезд; вот записи, что я составил после всех моих трудов. Если царица позволит, я растолкую ей звездный гороскоп. — И я поднялся, чтобы склониться над ней сзади и, когда она будет читать папирус, вонзить кинжал ей в спину.
— Не надо, Гармахис, — спокойно проговорила она, улыбаясь своей томительной, обвораживающей улыбкой. — Не вставай, дай мне только свои записи. Клянусь Сераписом, твое лицо слишком красиво, я хочу смотреть на него, не отрывая глаз!
Она разрушила наш замысел, и мне не оставалось ничего другого, как отдать ей папирус, и, отдавая, я подумал про себя, что вот сейчас она начнет смотреть его, а я неожиданно брошусь на нее и убью, вонзив кинжал в сердце. Она взяла папирус и при этом коснулась моей руки. Потом сделала вид, что читает предсказание, но сама и не взглянула в него, она из-под ресниц внимательно глядела на меня, я это видел.
— Почему ты прижимаешь руку к груди? — через минуту спросила она, ибо я действительно сжимал рукоять кинжала. — У тебя болит сердце?
— Да, о царица, — прошептал я, — оно вот-вот разорвется.
Она ничего не ответила, но снова притворилась, что читает предсказание, хотя сама не спускала с меня глаз.
Мысли мои лихорадочно метались. Как совершить это омерзительное преступление? Броситься на нее с кинжалом сейчас? Она увидит, начнет кричать, бороться. Нет, надо дождаться удобного случая.
— Так, стало быть, Гармахис, звезды нам благоприятствуют? — спросила она наконец, вероятно, просто по наитию.
— Да, моя царица.
— Великолепно. — И она бросила папирус на мраморный столик. — Значит, барки на рассвете отплывут. Победой это кончится или поражением, но мне смертельно надоело плести интриги.
— Это очень сложная схема, о царица, — возразил я, — мне хотелось объяснить тебе, какие знамения я положил в основу гороскопа.
— Нет, мой Гармахис, благодарю, не надо; мне недоели причуды звезд. Ты составил предсказание, мне и довольно; ты честный человек, и, стало быть, твое предсказание правдиво. Поэтому не объясняй мне ничего, давай лучше веселиться. Что мы будем делать? Могу сплясать тебе — никто не сравниться со мной в искусстве танца! Но нет, пожалуй, это недостойно царицы! Придумала: я буду петь! — Она села на ложе, спустила ноги, притянула к себе арфу и несколько раз пробежала по ее струнам пальцами, потом запела своим низким, бархатным голосом прекрасную песнь любви:
Благоуханна ночь, так тихо плещет море,
И музыкой сердца наши полны.
Баюкают нас волны,
Вздыхает ветер, целуя нежно кудри.
Ты глаз с меня не сводишь,
Ты шепчешь: «О прекрасная!»
И песнь любви, песнь счастья и восторга
Летит из сердца твоего:
«Сверкают звезды в вышине,
Дробится свет их в глубине,
Скользит ладья среди миров,
И кружатся светила,
Подвластны высшей воле.
Подвластно высшей воле,
Стремится твое сердце к моему.
Лишь время неподвижно.
Несет нас Жизнь
Меж берегами Смерти,
Куда — не ведаем,
А прошлое забыто.
Как высоко и недоступно небо,
Как холодны глубины океана.
Где память о любивших прежде нас?
Моя возлюбленная, поцелуй меня!
Как одинок наш, путь средь океана.
Хрупка наша ладья,
Под ней — бездонная пучина.
О, сколько в ней надежд погребено!
Оставь же весла,
Не борись с волнами,
Пусть нас несет теченье, куда хочет.
Моя возлюбленная, поцелуй меня!»
Меня зачаровала твоя песня.
Вот ты умолк, а сердце —
Сердце бьется в лад с твоим.
Прочь, страх, прочь, все сомненья,
Страсть, ты воспламенила мою душу!
Приди ко мне, я жажду поцелуев!
Любимый, о любимый, забудем все,
Есть только ночь, есть звездный свет и мы!
Замерли последние звуки ее выразительного голоса, заполнившего спальню, но в моем сердце они продолжали звучать. Среди певиц Абидоса я слышал более искусных, с более сильным голосом, но ни один не проникал так глубоко в душу, не завораживал такой нежностью и страстью. Чудо творил не один ее голос — меня словно переносил в сказку благоухающий покой, где было все, что чарует наши чувства; я не мог противостоять страсти и мудрости переложенных на музыку стихов, не мог противостоять всепобеждающему обаянию и грации царственнейшей из женщин, которая их пела. Ибо когда она пела, мне казалось, что мы плывем с ней вдвоем под пологом ночи по летнему морю в игольчатых отражениях звезд. И когда струны арфы смолкли, а она с последним призывом песни, трепещущим на ее устах, поднялась и, вдруг протянув ко мне руки, устремила в мои глаза взгляд своих изумительных глаз, меня повлекло к ней непреодолимой силой. Но я вовремя опомнился и остался в кресле.
— Так что же, Гармахис, ты даже не хочешь поблагодарить меня за мое безыскусное пение? — наконец спросила она.
— О царица, — еле слышно прошептал я, ибо голос не повиновался мне, — сыновьям смертных не должно слушать твои песни! Они привели меня в такое смятение, что я почувствовал страх.
— Ну что ты, Гармахис, уж тебе-то нечего опасаться, — проговорила она с журчащим смехом, — ведь я знаю, как далеки твои помыслы от красоты женщин и как чужды тебе слабости мужчин. С холодным железом можно спокойно забавляться, ему ничего не грозит.
Я подумал про себя, что самое холодное железо можно раскалить добела, если положить его в жаркий огонь, однако ничего не сказал и, хотя мои руки дрожали, снова сжал рукоятку смертоносного оружия; меня приводила в ужас моя нерешительность, нужно скорее, пока я окончательно не потерял рассудок, придумать, как же все-таки убить ее.
— Подойди ко мне, — с негой в голосе продолжала она. — Подойди, сядь рядом, и будем разговаривать; мне столько нужно тебе сказать. — И она подвинулась на своем шелковом ложе, освобождая для меня место.
Я подумал, что теперь мне будет гораздо легче нанести удар, поднялся с кресла и сел на ложе чуть поодаль от нее, а она откинула назад голову и поглядела на меня своими дремотно-томными очами.
Ну вот, сейчас я все свершу, ее обнаженная шея и грудь прямо передо мной, я снова поднял руку и хотел выхватить спрятанный под хитоном кинжал. Но она быстрее молнии поймала мою руку и нежно сжала своими белыми пальчиками.
— Какое у тебя странное лицо, Гармахис! — сказала она. — Тебе нехорошо?
— Да, ты права, мне кажется, я сейчас умру! — задыхаясь, прошептал я.
— Тогда откинься на подушки и отдохни, — ответила она, не выпуская моей руки, от чего я лишился последних сил. — Припадок скоро пройдет. Ты слишком долго трудился в своей обсерватории. Какой ласковый ночной ветерок веет в окно, принося с собой аромат лилий! Прислушайся к плеску волн, набегающих на скалы, они нам что-то шепчут, тихо-тихо, и все же заглушают журчание фонтана. Послушай пенье Филомелы; как искренне, с какой негой рассказывает она возлюбленному о своей любви! Поистине, волшебно хороша нынешняя ночь, наполненная дивной музыкой природы, хором тысяч голосов, в котором голоса дерев и птиц, седых волн океана и ветра сливаются в божественной гармонии. Знаешь, Гармахис, мне кажется, я разгадала одну из твоих тайн. В твоих жилах течет вовсе не кровь простолюдинов — ты тоже царского происхождения. Столь благородный росток могло дать лишь древо царей. Ты что, увидел священный листок на моей груди? Он выколот в честь величайшего из богов, Осириса, которого я чту так же, как и ты. Вот, смотри же!
— Пусти меня, — простонал я, порываясь встать, но силы меня оставили.
— Нет, подожди, неужели ты хочешь уйти? Побудь со мной еще, прошу тебя. Гармахис, неужели ты никогда не любил?
— Нет, о царица, никогда! Любовь не для меня, такое и представить невозможно. Пусти меня! Я больше не могу… Мне дурно…
— Чтобы мужчина никогда не любил — боги, это непостижимо! Никогда не слышал, как сердце женщины бьется в такт с твоим, никогда не видел, как глаза возлюбленной увлажняются слезами страсти, когда она шепчет слова признания, прижавшись к твоей груди! Ты никогда не любил! Никогда не тонул в пучине женской души, не чувствовал, что Природа может помочь нам преодолеть наше безбрежное одиночество, ибо, пойманные золотой сетью любви, два существа сливаются в неразделимое целое! Великие боги, да ты никогда не жил, Гармахис!
Шепча эти слова, она придвинулась ко мне, потом с глубоким страстным вздохом обняла одной рукой и, вперив в меня синие бездонные глаза, улыбнулась своей таинственной, томительной улыбкой, в которой, как в распускающемся цветке, была заключена вся красота мира. Ее царственная грудь прижималась к моей все крепче, все нежнее, от ее сладостного дыхания у меня кружилась голова, и вот ее губы прижались к моим.
О, горе мне! Этот поцелуй, более роковой и неодолимый, чем объятье Смерти, заставил меня позабыть Исиду — мою небесную надежду, клятвы, которые я приносил, мою честь, мою страну, друзей, весь мир, — я помнил лишь, что меня ласкает Клеопатра и называет своим возлюбленным и повелителем.
— А теперь выпей за меня, — шепнула она, — выпей кубок вина в знак того, что ты меня любишь.
Я поднял кубок с питьем и осушил до дна и лишь потом понял, что вино отравлено.
Я упал на ложе и, хоть был еще в сознании, не мог произнести ни слова, не мог даже шевельнуть рукой.
А Клеопатра склонилась ко мне и вынула кинжал из складок одежды на груди.
— Я выиграла! — крикнула она, откидывая назад свои длинные волосы. — Да, выиграла! А ставка в этой игре была — Египет, и, клянусь богами, игру стоило вести! Значит вот этим кинжалом, мой царственный соперник, ты собирался убить меня, а твои приверженцы до сих пор ждут, собравшись у ворот моего дворца? Ты еще не заснул? Скажи, а почему бы мне не вонзить этот кинжал в твое сердце?
Я слышал, что она говорит, и вялым, бессильным движением указал на свою грудь, ибо жаждал смерти. Она величественно выпрямилась, занесла руку, в ней сверкнул кинжал. Вот кинжал опустился, его кончик кольнул мне грудь.
— Нет! — снова воскликнула она. — Ты мне слишком нравишься. Жаль убивать такого красивого мужчину. Дарую тебе жизнь. Живи, потерявший престол фараон! Живи, бедный павший царевич, которого обвела вокруг пальца женщина! Живи, Гармахис, чтобы украсить мое торжество!
Больше я ничего не видел, хотя в ушах раздавалось пенье соловья, слышался ропот моря, победной музыкой лился смех Клеопатры. Сознание отлетало, я погружался в царство сна, но меня провожал ее хрипловатый смех — он прошел со мной через всю жизнь и теперь провожает в смерть.
Глава VIII, повествующая о пробуждении Гармахиса; о трупе у его ложа, о приходе Клеопатры и о словах утешения, которые она произнесла
Я снова проснулся и снова увидел, что я в своей комнате. Меня так и подбросило. Что же, стало быть, мне тоже приснился сон? Ну конечно же, конечно, мне все это приснилось! Не мог я, в самом деле, совершить предательство! Не мог навсегда потерять нашу единственную возможность! Не мог предать наше великое дело, не мог бросить на произвол судьбы храбрецов, во главе которых стоял мой дядя Сепа! Неужели они напрасно ждали у восточных ворот дворца? Неужели весь Египет до сих пор ждет — и ждет напрасно? Нет, все, что угодно, но это немыслимо! Мне просто приснился кошмар, если такой приснится еще раз, сердце у человека разорвется. Лучше умереть, чем увидеть подобный ужас, который наслали на меня силы зла. Да, да, конечно, все это лишь чудовищное видение, рожденное измученным воображением, однако где я? Где я сейчас? Я должен быть в Алебастровом Зале и ждать, когда ко мне выйдет Хармиана.
Но это не Алебастровый Зал, и, боги великие, что это за страшная груда лежит возле изножья ложа, на котором, я кажется, спал, — что-то зловеще напоминающее человека, завернутое в белую окровавленную ткань?
С пронзительным воплем я прыгнул на эту груду, как лев, и изо всех сил нанес по ней удар. Под его тяжестью груда перевернулась на бок. Обезумев от ужаса, я сорвал белую ткань: согнутый пополам, с коленями, подтянутыми к отвисшей челюсти, лежал голый труп мужчины, и труп этот был начальник стражи римлянин Павел. Он лежал передо мной, и в сердце у него был кинжал, — мой кинжал, с золотой рукояткой в виде сфинкса! — а лезвие прижимало к его могучей груди кусок папируса, на котором было что-то написано латинскими буквами. Я наклонился и прочел:
HARMACHIDI * SALVERS * EGO * SUM * QUEM
SUBDERE * MORAS * PAULUS * ROMANUS
DISCE * HINC * QUID * PRODERE * PROSIT.
«Приветствую тебя, Гармахис! Я был тот самый римлянин Павел, которого ты подкупил. Узнай, какая жалкая судьба ждет предателей!»
На меня нахлынула дурнота, я, шатаясь, стал пятиться от трупа, который был весь в пятнах запекшейся крови. Я пятился, шатаясь, пока не наткнулся на стенку, и замер возле нее, а за окном пели птицы, весело приветствуя день. Стало быть, это был не сон, и я погиб, погиб, погиб!
Я подумал о моем старом отце Аменемхете. Но тут же меня пронзил страх, что он умрет, когда узнает, что сын его покрыл себя позором и погубил его надежды. Подумал о преданном отчизне жреце, моем любимом дяде Сепа, который всю долгую нынешнюю ночь ждал сигнала, но так и не дождался! И сердце мое опять сжалось: что будет с ним и со всеми нашими сторонниками? Ведь я оказался не единственным предателем — меня тоже кто-то предал. Кто это был? Быть может, мертвый Павел. Однако, если предал Павел, он ничего не знал о заговорщиках, которые трудились со мною заодно! Но тайные списки были у меня на груди, в моей одежде… О Осирис, они исчезли! Всех, кто жаждал возрождения Египта, ждет судьба Павла. Эта мысль поразила меня, как удар. Я медленно сполз на пол, чувствуя, что теряю сознание.
Когда я очнулся, то по теням догадался, что уже полдень. Я кое-как поднялся; труп Павла лежал на том же месте, как бы неся свою зловещую вахту. Я в отчаянии бросился к двери. Она была заперта, снаружи раздавались тяжелые шаги стражей. Они спросили у кого-то пароль, потом я услышал, как стукнули о пол древки копий. Запоры отомкнули, дверь открылась, и в комнату вошла сияющая, в парадном царском одеянии, победительная Клеопатра. Вошла одна, и дверь за ней закрылась. Я стоял как громом пораженный, а она легким шагом приблизилась ко мне и встала рядом.
— Приветствую тебя, Гармахис, — проворковала она, улыбаясь. — Стало быть, мой вестник нашел тебя! — И она указала на труп Павла. — Фи, как он безобразен. Эй, стражи!
Дверь отворилась, два вооруженных галла переступили порог.
— Унесите эту разлагающуюся падаль и выбросите стервятникам, пусть его терзают. Погодите, выньте сначала кинжал из груди этого предателя. — Стражи склонились к трупу, с усилием вытащили из сердца Павла окровавленный кинжал и положили на стол. Потом взяли за плечи и за ноги и понесли прочь, я слышал их тяжелые шаги по лестнице.
— Кажется мне, Гармахис, ты попал в большую беду, — произнесла она, когда звуки шагов замерли. — Как неожиданно поворачивается колесо Судьбы! Если бы не этот предатель, — она кивнула в сторону двери, через которую пронесли труп Павла, — я представляла бы сейчас собой столь же отвратительное зрелище, как он, и кинжал, что лежит на столе, был бы обагрен моей кровью.
Стало быть, меня предал Павел.
— Да, — продолжала она, — и когда ты пришел ко мне вчера ночью, я знала, что ты пришел меня убить, когда ты раз за разом подносил руку к груди, я знала, что рука твоя сжимает рукоятку кинжала и что ты собираешь все свое мужество, чтобы совершить деяние, которому противится твоя душа. Странные то были, фантастические минуты, когда вся жизнь висит на волоске, ради таких минут только и стоит жить, и я неотступно думала, кто же из нас победит, ибо в этом поединке мы были равны и в силе и в вероломстве.
Да, Гармахис, твою дверь охраняют стражи, но я не хочу тебя обманывать. Не знай я, что связала тебя узами, более надежными, чем тюремные цепи, не знай я, что мне не угрожает от тебя никакое зло, ибо меня защищает твоя честь, которую не сокрушат копья всех моих легионов, ты давно был бы мертв, мой Гармахис. Смотри, вот твой кинжал, — она протянула его мне, — убей меня, если можешь. — И, встав передо мной, обнажила грудь и стала ждать; ее глаза были безмятежно устремлены на меня. — Ты не можешь убить меня, — вновь заговорила она, — ибо есть поступки, которых ни один мужчина — я говорю о настоящих мужчинах, таких, как ты, — не может совершить и после этого остаться жить; самый страшный из этих поступков, Гармахис, — убить женщину, которая тебя любит. Что ты делаешь, не смей! Отведи кинжал от своей груди, ибо если ты не смеешь убить меня, насколько более тяжкое преступление ты совершишь, лишив жизни себя, о жрец Исиды, преступивший клятвы! Тебе что, не терпится предстать пред разгневанным божеством в Аменти? Как ты думаешь, какими глазами посмотрит Небесная Мать на своего сына, который покрыл себя позором, нарушил самую свою святую клятву и вот теперь явился приветствовать ее с обагренными кровью руками? Где ты будешь искупать содеянное зло — если его тебе вообще позволят искупать!
Этого я уже не мог вынести, сердце переполнилось горечью. Увы, она была права: я не имел права умереть. Я совершил столько злодеяний, что не смел даже думать о смерти! Я бросился на ложе и заплакал слезами того отчаянья, когда у человека уже не осталось тени надежды.
Но Клеопатра подошла ко мне, присела рядом и, пытаясь утешить меня, нежно обняла.
— Не плачь, любимый, подними голову, — пел ее голос, — не все потеряно, и я вовсе не сержусь на тебя. Да, игра была не на жизнь, а на смерть, но я предупреждала тебя, что пущу в ход свои женские чары против твоего чародейства, и видишь — я победила. Но я ничего не скрою от тебя. И как женщина, и как царица я полна жалости к тебе, — не просто жалости, а сострадания; но это еще не все: мне больно видеть, как ты терзаешься. То, что ты стремился отвоевать трон, который захватили мои предки, и вернуть свободу своей древней стране Кемет, лишь справедливо и достойно восхищения. Я сама, как законная царица, поступила в свое время так же и не остановилась перед жестокостью, ибо принесла клятву. И потому все мое сочувствие отдано тебе, как я всегда отдаю его великим и отважным. Тебя ужасает глубина твоего падения, но это тоже вызывает уважение. И я как женщина — как любящая тебя женщина — разделяю твое горе. Но знай: не все потеряно. Твой план был неудачен, ибо мне хорошо известно, что Египет не может существовать сам по себе как независимая держава, пусть бы даже ты отнял у меня корону и стал править, а вам, без всякого сомнения, переворот должен был бы удаться, — так вот, Гармахис, нельзя сбрасывать со счетов Рим. И я хочу вселить в тебя надежду: меня принимают не за ту, что я есть на самом деле. Нет сердца в этой огромной стране, которое переполняла бы такая беззаветная любовь к древнему Кемету, как мое, — да, Гармахис, я люблю его даже больше, чем ты. Но до сих пор я была словно в оковах — войны, восстания, заговоры, зависть связывали меня по рукам и по ногам, я не могла служить моему народу, как мне того хотелось. Но теперь, Гармахис, ты научишь меня. Ты будешь не только моим возлюбленным, но и моим советником. Разве так просто покорить сердце Клеопатры — то самое сердце, которое ты, да будет тебе во веки веков стыдно, хотел пронзить сталью? Да, ты, именно ты поможешь мне найти путь к моему народу, мы будем править вместе, объединив в едином царстве древнюю и новую страну, новое и древнее мышление. Ты видишь, все складывается к лучшему — о таком нельзя было и мечтать: ты взойдешь на престол фараона, но тебя приведет к нему совсем не столь жестокий и кровавый путь.
Итак, мы сделаем все, Гармахис, чтобы замаскировать твое предательство. Твоя ли в том вина, что подлый римлянин донес о твоих намерениях? Что после того тебя опоили, выкрали тайные списки и без труда расшифровали? Разве тебя станут винить, что после неудачи великого заговора, когда его участники рассеялись по стране, ты, верный своему долгу, продолжал служить отчизне, пользуясь тем оружием, которое дала тебе Природа, и покорил сердце царицы Египта, надеясь с помощью ее преданной любви достичь своей цели и осенить своими мощными крылами родину Нила? Скажи, Гармахис, разве я плохо придумала?
Я поднял голову, чувствуя, как во мраке моего отчаяния блеснула слабая надежда, ибо когда мужчина тонет, он хватается за соломинку. И я в первый раз за все время заговорил:
— А те, кто был со мной… кто верил мне… что будет с ними?
— Ты спрашиваешь о своем отце Аменемхете, старом жреце из Абидоса; о дяде Сепа, этом пламенном патриоте, с такой заурядной внешностью, но с великим сердцем; ты спрашиваешь о…
Я думал, она скажет «о Хармиане», но нет, она не произнесла этого имени.
— …о многих, многих других, — да, я знаю всех!
— И что же ждет их?
— Выслушай меня, Гармахис, — ответила она, вставая и кладя мне руку на плечо. — Ради тебя я проявлю ко всем к ним великодушие. Я накажу лишь тех, кого нельзя не наказать. Клянусь моим троном и всеми богами Египта, я никогда не причиню ни малейшего зла твоему старому отцу, и если еще не поздно, я пощажу твоего дядю Сепа и всех, кто был с ним. Я не поступлю, как мой прапрадед Эпифан: когда египтяне восстали против него, он повелел привязать к своей колеснице Афиниса, Павзираса, Хезифуса и Иробастуса, как Ахилл когда-то привязал Гектора, — только те, в отличие от Гектора, были живые, заметь, — и прокатился с ними вокруг городских стен. Я пощажу всех, кроме иудеев, если они были среди вас, ибо ненавижу их.
— Иудеев среди нас нет, — ответил я.
— Тем лучше, ибо их бы я не пощадила. Неужто я в самом деле такая жестокая, как меня расписывают? В твоем списке, Гармахис, было много обреченных на смерть, а я лишила жизни одного-единственного негодяя римлянина, дважды предателя, ибо он предал и меня и тебя. Скажи, Гармахис, ты не раздавлен милостью, которую я к тебе проявила, ибо ты мне нравишься, а для женщины, поверь, это достаточно веская причина, чтобы помиловать преступника. Нет, клянусь Сераписом! — Она вдруг негромко рассмеялась. — Я передумала: пожалуй, я не дам тебе так много даром. Ты должен заплатить за мою милость, и заплатить дорогой ценой — ты поцелуешь меня, Гармахис.
— Нет, — ответил я, отворачиваясь от прекрасной искусительницы, — это действительно слишком дорогая цена. Я больше никогда не буду целовать тебя.
— Подумай, прежде чем отказываться. — Она сердито нахмурилась. — Подумай хорошенько и сделай выбор. Ведь я всего лишь женщина, Гармахис, и женщина, которая не привыкла слышать от мужчины «нет». Поступай как знаешь, но если ты мне откажешь, я отберу у тебя милость, которую решила подарить. И потому, мой целомудреннейший из жрецов, выбирай: либо ты принимаешь тяжкое бремя моей любви, либо в самом скором времени погибнут от руки палача и твой отец, и все те, кто входил в его заговор.
Я взглянул не нее и увидел, что она и в самом деле разгневана, ибо глаза ее сверкали, а грудь высоко вздымалась. Я вздохнул и поцеловал ее, и этот поцелуй замкнул цепь моего постыдного рабства. А она с торжествующей улыбкой Афродиты упорхнула, захватив с собой кинжал.
Я еще не знал, проникла ли Клеопатра в самое сердце нашего заговора; не знал, почему мне оставили жизнь, не знал, почему Клеопатра, эта женщина с сердцем тигрицы, проявила к нам милость. Да, я не знал, что она боялась убить меня, ибо заговор был слишком могуч, а двойная корона еле держалась на ее голове, и если бы разнеслась молва, что я убит, страну потряс бы бунт и вышиб из-под нее трон, хоть я его уже занять и не мог. Не знал, что лишь из страха и соображений политики проявила она подобие милости к тем, кого я выдал, и что коварный расчет, а не святая женская любовь — хотя, если говорить правду, я ей очень нравился, — побудил ее привязать меня к себе узами страсти. И все же я должен сказать слово в ее защиту: даже когда нависшая над ней туча растаяла в небе, она сохранила верность мне, и никто, кроме Павла и еще одного человека, не подвергся высшей мере наказания — смерти за участие в заговоре против Клеопатры, у которой хотели отнять корону и жизнь. Зато сколько мук эти люди перенесли!
Итак, она ушла, но ее прекрасный образ остался в моем сердце, хотя печаль и стыд гнали его. О, какие горькие часы ждали меня, ведь я не мог облегчить свое горе молитвой. Связь между мною и божественной Исидой оборвалась, богиня не отзывалась больше на призывы своего жреца. Да, горьки и черны были эти часы, но в этой тьме сияли звездные глаза Клеопатры и эхом отдавался ее голос, шепчущий слова любви. Чаша моего горя еще не переполнилась. В сердце тлела надежда, я убеждал себя, что не сумел достичь высокой цели, но выберусь из глубин пропасти, в которую упал, и найду иной, не столь тернистый путь к победе.
Так преступники обманывают себя, возлагая вину за содеянное зло на неотвратимую Судьбу, пытаясь убедить себя, что в своей порочности они могут сотворить добро, и убивают совесть, якобы подчиняясь велению необходимости. Но тщетно, тщетно все, ибо на пути порока их неизменно преследуют угрызения совести, а впереди ждет гибель, и горе тем, кто идет по этому пути! О, горе мне, преступнейшему из преступных!
Глава IX, повествующая о пребывании Гармахиса под стражей; о презрении, высказанном ему Хармианой; об освобождении Гармахиса и о прибытии Квинта Деллия
Целых одиннадцать дней прожил я в своей комнате пленником, никого не видя, кроме стражников возле моих дверей, рабов, которые молча приносили мне еду и питье, и Клеопатры, а Клеопатра почти все время была со мной. Она нескончаемо говорила мне о любви, но ни разу не обмолвилась и словом о том, что происходит в стране. Приходила она всегда разная — то весело смеялась и шутила, то делилась возвышенными мыслями, то была сама страсть, и больше для нее ничего не существовало, и в каждом настроении она была всякий раз по-новому пленительна. Она любила говорить о том, как я помогу ей вернуть величие Египту, как мы облегчим участь народа и заставим римского орла улететь восвояси. И хотя сначала я отвращал слух от ее речей, когда она начинала рисовать передо мной картины будущего, она медленно, подбираясь все ближе и ближе, опутала меня своей волшебной паутиной, из которой было не вырваться, и я стал думать точно так же, как она. Потом я приоткрыл ей свое сердце и рассказал немного о том, как я хотел возродить Египет. Она с восхищением слушала, вдумывалась в мои планы, говорила, что, по ее мнению, следует сделать, чтобы их выполнить, объясняла, каким путем она хочет вернуть Египту истинную веру и восстановить древние храмы — не только восстановить, но и построить новые, где будут поклоняться нашим богам. И она все глубже вползала в мое сердце, проникла во все его уголки и заполнила до краев, и поскольку все остальное у меня в жизни было отнято, я полюбил ее всей нерастраченной страстью моей больной души. У меня ничего не осталось, кроме любви Клеопатры, я жил ею, лелеял ее, как вдова лелеет свое единственное дитя. Вот как случилось, что виновница моего позора стала для меня источником жизни, дороже, чем зеница ока, чем весь мир, я любил ее неутолимо, с каждым часом все сильнее и сильнее, и наконец в этой любви потонуло прошлое, а настоящее стало казаться сном. Ибо она подчинила меня себе, украла мою честь, опозорила так, что вовек не отмыться, я, жалкое слепое ничтожество, падший глупец, целовал плеть, которой меня стегали, и полз за палачом на коленях, как раб.
Да и сейчас, в моих виденьях, которые слетаются, когда сон отпирает тайные запоры нашего сердца и выпускает в просторные чертоги мысли томящиеся в нем страхи, я, как и прежде, вижу эту царственную женщину, она летит ко мне, распахнув объятья, в глазах ее сияет свет любви, губы полуоткрыты, свернувшиеся в локоны волосы развеваются, а на лице небесная нежность и самозабвенная страсть, на какие была способна лишь она. Через столько лет мне снится, что она пришла ко мне, как приходила когда-то! Потом я просыпаюсь и думаю, что она — воплощение изощреннейшей лжи.
Такой однажды она пришла ко мне, когда я жил в своей комнате под стражей. Не пришла, а прибежала, объяснила она, удрала с какого-то важного совета, где обсуждались военные действия Антония в Сирии, и бросилась прямо ко мне, в парадном церемониальном одеянии, как была, со скипетром в руке и с золотым уреем, обвивающим лоб. Смеясь, она села рядом со мной на ложе; ей надоели послы, которым она давала аудиенцию в зале совета, и она объявила им, что вынуждена покинуть их, потому что получено срочное известие из Рима; собственная выдумка ее развеселила. Она вдруг поднялась, сняла диадему в виде урея и возложила на мой лоб, накинула мне на плечи свою мантию, вложила в руку жезл и склонилась предо мной. Потом снова рассмеялась, поцеловала меня в губы и сказала, что я поистине ее царь и повелитель. Но я вспомнил коронацию в Абидосском храме, вспомнил и ее венок из роз, запах которых до сих пор преследует меня, вскочил, побелев от ярости, сбросил с себя мишуру, в которую она меня обрядила, и сказал, что не позволю издеваться над собой, хоть я и ее пленник. Видно, выражение у меня было такое, что она испугалась и отпрянула от меня.
— Ну что ты, милый Гармахис, — прожурчала она, — не надо сердиться. Почему ты решил, что я над тобой издеваюсь? Почему думаешь, что тебе не стать фараоном перед богами и пред людьми?
— Как мне понять тебя? — спросил я. — Ты что же, хочешь сочетаться со мной браком и объявить об этом всему Египту? Разве есть сейчас для меня иной путь стать фараоном?
Она потупила глаза.
— Быть может, мой возлюбленный, я в самом деле хочу сочетаться с тобой браком, — ласково сказала она. — Послушай, здесь, в этой тюрьме, ты очень побледнел и почти ничего не ешь. Не спорь, я знаю от рабов. Я держала тебя здесь, под стражей, ради того, чтобы спасти твою жизнь, Гармахис, ибо ты мне очень дорог; ради того, чтобы спасти твою жизнь и твою честь, мы должны и дальше делать вид, что ты мой пленник. Иначе тебя все будут поносить и убьют — тайно подошлют убийц, и ты умрешь. Но я не могу больше видеть, как ты здесь чахнешь. И потому я завтра освобожу тебя и объявлю, что ты ни в чем не виноват, и ты снова появишься во дворце как мой астроном. Скажу, что ты не причастен к заговору, я в этом окончательно убедилась; к тому же твои предсказания сбылись все до единого — кстати, это истинно так, хотя я не вижу причин благодарить тебя, ибо понимаю, что ты составлял предсказания исходя из интересов вашего заговора. А теперь прощай, мне пора к этим чванливым тугодумам-послам; и молю тебя, Гармахис, не поддавайся этим неожиданным вспышкам ярости, ибо ведь тебе неведомо, чем завершится наша любовь.
И, слегка кивнув головкой, она ушла, заронив мне в душу мысль, что она хочет открыто сочетаться со мной браком. И скажу правду: я уверен, что в тот миг она искренне этого желала, ибо хоть и не любила меня всепоглощающей любовью, но пылко увлеклась мной и я еще ей не успел наскучить.
Утром Клеопатра не пришла, зато пришла Хармиана — та самая Хармиана, которой я не видел с роковой ночи моей гибели. Она вошла и встала передо мной, бледная, глаза опущены, и первые же ее слова ужалили меня, точно укус змеи.
— Прошу простить меня, — проговорила она елейным голоском, — прошу простить, что я посмела явиться к тебе вместо Клеопатры. Но тебе недолго ждать встречи со своим счастьем: скоро ты ее увидишь.
Я сжался от ее слов, да это и неудивительно, а она, почувствовав, что перевес на ее стороне, стала наступать.
— Я пришла, Гармахис, — увы, больше не царственный! — сказать тебе, что ты свободен! Свободен встретиться лицом к лицу со своим позором и увидеть его отражение в глазах всех, кто верил тебе, — он будет там, подобно теням в глубинах вод. Я пришла сказать тебе, что великий заговор, который готовился больше двадцати лет, погиб безвозвратно. Правда, никого из заговорщиков не убили, может быть, только дядю Сепа, потому что он исчез. Однако всех вождей схватили и заковали в кандалы или же подвергли изгнанию, дух наших людей сломлен, борцы рассеялись по всей стране. Гроза собиралась, но так и не успела грянуть — ветер унес тучи. Египет погиб, погиб навсегда, его последняя надежда разрушена. Никогда нашей стране не подняться с оружием в руках, теперь она во веки веков будет влачить ярмо рабства и подставлять спину плетям угнетателей!
Я громко застонал.
— Увы, меня предали! Нас предал Павел.
— Тебя предали? Нет, это ты сам оказался предателем! Почему ты не убил Клеопатру, когда остался с ней наедине? Отвечай, клятвопреступник!
— Она опоила меня, — проговорил я.
— Ах, Гармахис! — воскликнула безжалостная девушка. — Как низко ты пал и как непохож стал на того царевича, которого я когда-то знала: ты теперь не гнушаешься ложью! Да, тебя опоили — опоили любовным зельем! И ты продал Египет и всех, кто жаждал его возрождения, за поцелуй распутницы! Горе тебе и вечный позор! — Она уставила в меня перст и впилась в лицо глазами. — От тебя все отвернутся, все тебя отвергнут! Ничтожнейший из ничтожных! Презренный! Посмей это опровергнуть, если можешь! Да, прочь от меня! Ты знаешь, какой ты трус, и потому правильно делаешь, что отступаешь в угол! Ползай у Клеопатриных ног, целуй ее сандалии, пока она не втопчет тебя в грязь, где тебе и место. Но от людей честных держись подальше, как можно дальше!
Душа моя корчилась в муках от ее жалящего презрения и ненависти, но ответить ей мне было нечего.
— Как случилось, — наконец спросил я хрипло, — как случилось, что тебя, единственную из всех, не выдали и ты по-прежнему приближенная царицы и по-прежнему издеваешься надо мной, хотя еще совсем недавно клялась мне в любви? Ведь ты женщина, неужели нет в твоей душе жалости и понимания, что и мужчина может оступиться?
— Моего имени не было в списке, — отвечала она, потупляя глаза. — Дарю тебе счастливую возможность: предай заодно и меня, Гармахис! Да, твое падение причинило мне особенно острую боль именно потому, что я любила тебя когда-то, — неужели ты еще это помнишь? Позор того, кто был нам дорог, становится отчасти и нашим позором, он как бы навеки прилипает к нам, потому что мы так слепо любили это ничтожество всеми сокровенными глубинами нашего сердца. Стало быть, ты такой же глупец, как все? Стало быть, ты, еще разгоряченный объятиями царственной распутницы, обращаешься за утешением ко мне — не к кому-то другому, а именно ко мне?!
— Может быть, именно ты в своей злобе и ревности предала нас, это вовсе не так невероятно, — сказал я. — Хармиана, давно, еще в самом начале, дядя Сепа предупреждал меня: «Не доверяй Хармиане», и, сказать честно, теперь, когда я вспомнил его слова…
— Как это похоже на предателя! — прервала она меня, вспыхнув до корней волос. — Предатели считают, что все вокруг предатели, и всех подозревают! Нет, я тебя не предавала; тебя предал этот жалкий мошенник Павел, нервы у него не выдержали, и он за это поплатился. Я не желаю больше слушать такие оскорбления. Гармахис, — царственным тебя уже никто больше не назовет! — Гармахис, царица Египта Клеопатра повелела мне сказать тебе, что ты свободен и что она ожидает тебя в Алебастровом Зале.
И, метнув в меня быстрый взгляд из-под своих длинных ресниц, она поклонилась и исчезла.
И вот я снова вышел из своих комнат и пошел по дворцу, пошел кружным путем, ибо меня переполняли ужас и стыд и я со страхом глядел на людей, уверенный, что увижу на их лицах презрение к предателю, каким я оказался. Но никакого презрения на лицах не было, ибо все, кто знал о заговоре, бежали, Хармиана же ни словом не проговорилась, — без сомнения, желая спасти себя. К тому же Клеопатра убедила всех, что я к заговору не причастен. Но моя вина давила на меня непереносимой тяжестью, я похудел, осунулся, никто бы не нашел меня сейчас красивым. И хоть считалось, что я свободен, на самом деле за каждым моим шагом следили, я не имел права выйти за ворота дворца.
И вот настал день, когда к нам прибыл Квинт Деллий, этот продажный римский патриций, который всегда служил лишь восходящим звездам. Он привез Клеопатре послание от триумвира Марка Антония, который, не успев одержать победу в сражении при Филиппах, перебросил свои войска из Фракии в Азию и грабил там покоренных царей, чтобы расплатиться их золотом со своими алчными легионерами.
Я хорошо помню тот день. Клеопатра в своем парадном церемониальном наряде, окруженная советниками двора, среди которых был и я, сидела в большом зале для приемов на своем золотом троне. Вот она приказала ввести посланника триумвира Антония. Огромные двери распахнулись, и среди грома фанфар, приветствуемый стражами-галлами, вошел, в сопровождении свиты военачальников, римлянин в золотых сверкающих доспехах и алом шелковом плаще. Лицо у него было бритое, — ни бороды, ни усов, — красивое и переменчивое, но с жестким ртом и лживыми прозрачными глазами. И пока глашатаи объявляли его имя, титул и должности, которые он занимает, он, уставившись, глядел во все глаза на Клеопатру, которая спокойно сидела на своем троне, сияя лучезарной красотой, и было видно, что он потрясен. Наконец глашатаи смолкли, а он все продолжал стоять и даже не шевельнулся. Тогда Клеопатра обратилась к нему на латыни:
— Приветствую тебя, благородный Деллий, посол могущественного Антония, чья тень закрыла весь мир, словно это сам Марс явился перед нами, мелкими ничтожными владыками. Добро пожаловать в нашу бедную Александрию. Прошу тебя, открой нам цель твоего приезда.
Но хитрый Деллий по-прежнему молчал и все стоял как громом пораженный.
— Что с тобой, благородный Деллий, ты утратил дар речи? — спросила Клеопатра. — Или так долго скитался по просторам Азии, что позабыл родной язык? Какой язык ты еще помнишь? Назови его, и будем говорить на нем, ибо мы знаем все языки.
И тут он наконец заговорил звучным вкрадчивым голосом:
— Прости меня, прекраснейшая царица Египта, за то, что я онемел перед тобой, но столь великая красота, подобно смерти, замыкает уста смертных и отнимает разум. Глаза того, кто смотрит на слепящее полуденное солнце, не видят ничего вокруг; вот так и я, царица Египта, ошеломленный представшим столь внезапно предо мной прекрасным видением, потерял власть над своими мыслями, над своей волей и над своими чувствами.
— Должна отдать тебе должное, — проговорила Клеопатра, — я вижу, у вас в Киликии ты прошел неплохую школу лести.
— Кажется, в Александрии есть пословица: «Сколько ни кади лестью, до облака фимиам не долетит"[18]. Но доложу, зачем я прибыл. Вот, царица Египта, послание, с печатями и подписью Антония, где речь идет о государственных делах. Желаешь ли ты, чтобы я прочел его вслух, при всех?
— Сорви печати и прочти, — повелела она.
И он, отдав ей поклон, сорвал печати и стал читать:
— «От имени Triumviri Reipublicae Constituenae[19] триумвир Марк Антоний приветствует Клеопатру, милостью римского народа царицу Верхнего и Нижнего Египта. Нам стало известно, что ты, Клеопатра, нарушив свое обещание и преступив свой долг, послала своего слугу Аллиена с войсками и своего слугу Серапиона, правителя Кипра, тоже с войсками, дабы поддержать убийцу Кассия, который выступил против благороднейшего триумвирата. Известно нам и то, что ты сама готовишь огромный флот ему в поддержку. Мы требуем, чтобы ты без промедления отправилась в Киликию, дабы встретиться там с благородным Антонием и собственными устами дать ему ответ на все обвинения, которые выдвигают против тебя. Предупреждаем, что если ты не выполнишь наше повеление, пеняй на себя. Прощай».
Когда Клеопатра услышала эти наглые угрозы, глаза ее засверкали и руки сжали золотые львиные головы, на которых покоились.
— Сначала нам преподнесли сладчайшую лесть, — произнесла она, — а потом, боясь, что мы пресытимся сладким, напоили желчью. Слушай меня, Деллий: все обвинения, которые перечислены в этом послании, — вернее, в этой повестке в суд, — ложь от начала до конца, и мои советники могут это подтвердить. Но в наших действиях, касающихся войн и политики, мы не собираемся отдавать отчет тебе, и уж тем более сейчас. И мы не покинем нашего царства и не поплывем в далекую Киликию, мы не станем, подобно бесправному обвиняемому, оправдываться перед судом благородного Антония. Если Антоний желает побеседовать с нами и обсудить эти важные дела, что ж — море открыто, и ему будет оказан здесь царский прием. Пусть сам плывет сюда. Вот, Деллий, наш ответ тебе и триумвирату, от имени которого ты прибыл.
Но Деллий улыбнулся улыбкой царедворца, который не снисходит до гнева, и снова заговорил:
— Царица Египта, ты не знаешь благородного Антония. Он суров в посланиях, где выражает свои мысли так, будто в руках его не стило, а копье, обагренное кровью. Но, встретившись с ним лицом к лицу, ты убедишься, что этот величайший в мире полководец столь же любезен и уступчив, сколь и отважен. Послушайся моего совета, о царица! Езжай к нему. Не отсылай меня с таким обидным ответом, ибо если Антоний, следуя твоему приглашению, прибудет в Александрию, то горе Александрии, горе народу Египта и горе тебе, царица Египта! Он приплывет с войсками, приплывет сражаться с тобой, и тяжко придется тебе, посмевшей бросить вызов могущественному Риму. Молю тебя, выполни его повеление. Прибудь в Киликию, явись с дарами мира, а не с оружием в руках. Явись во всем блеске своей красоты, в роскошнейшем одеянии, и тебе не придется бояться благородного Антония. — Он умолк, многозначительно глядя на нее; а я сообразив, куда он клонит, почувствовал, как лицо мне заливает жаркая кровь негодования.
Клеопатра тоже поняла, ибо подперла рукой подбородок и задумалась, в глазах у нее собрались тучи. Она сидела так и молчала, а лукавый царедворец Деллий с любопытством наблюдал за ней. Хармиана, стоявшая с другими придворными дамами возле трона, тоже все поняла, ибо ее лицо озарилось, как озаряется летним вечером туча, когда на небе сверкнет яркая молния. Потом оно снова побледнело и поникло.
Наконец Клеопатра заговорила:
— Дело это очень непростое, и потому, благородный Деллий, нам нужно время, чтобы все обдумать и принять решение. Отдохни пока у нас, развлекайся, насколько это позволяют наши жалкие обстоятельства. Не позже чем через десять дней ты получишь от нас ответ.
Посол подумал немного, потом ответил с улыбкой:
— Благодарю тебя, царица. На десятый день, считая от нынешнего, я приду к тебе за ответом, а на одиннадцатый отплыву к моему повелителю Антонию.
Снова по знаку, поданному Клеопатрой, затрубили фанфары, и Деллий, поклонившись, удалился.
Глава X, повествующая о смятении Клеопатры; о ее клятве Гармахису; и о тайне сокровища, лежащего в сердце пирамиды, которую открыл Клеопатре Гармахис
В ту же саму ночь Клеопатра вызвала меня к себе в покои, где она жила. Я пришел и застал ее в чрезвычайном смятении; никогда прежде не видел я ее столь встревоженной. Она была одна и металась по мраморному покою, как львица в клетке, мысли теснились у нее в голове, точно облака над морем, и тенями мелькали в глубинах ее глаз.
— Ах, наконец-то ты пришел, Гармахис, — сказала она, с облегчением вздыхая и беря меня за руку. — Дай мне совет, ибо никогда еще я не нуждалась так в мудром совете. Что за жизнь даровали мне боги — бурную, как океан! С детства на мою долю не выпало ни одного безмятежного дня и, судя по всему, никогда не выпадет. Только что моя жизнь висела на волоске, я чудом ускользнула от твоего кинжала, Гармахис, и вот теперь новая беда, точно далеко за горизонтом собралась гроза, вдруг налетела и разразилась надо мной. Как тебе понравился этот щеголь с душой хищника? Вот бы кого поймать в ловушку! Как мягко говорит! Не говорит, а мурлычет, точно кошка, и каждую минуту готов вонзить в тебя когти. А что ты скажешь о послании? Неслыханная наглость! Знаю я этого Антония. Видела его, когда была еще совсем девочка, едва вступала в пору юности, но ум у меня уже тогда был острый, женский, я сразу поняла, что он за человек. Могуч, как Геркулес, но глуп, однако сквозь эту глупость вдруг прорывается ум гения. Сластолюбив; охотно идет за теми, кто потакает ему в его слабостях, но стоит возразить — и он твой смертельный враг. Верен в дружбе, если, впрочем, любит своих друзей; часто совершает поступки, которые противоречат его собственным интересам. Великодушен, смел, в трудных обстоятельствах стоек и вынослив, в благоденствии — любитель вина и раб женщин. Вот каков Антоний. Как вести себя с мужчиной, которого Судьба и Случай, вопреки его собственной воле и желанию, вознесли на гребень успеха? Настанет день, когда волна низвергнется, но пока он летит на ней и смеется над теми, кто тонет.
— Антоний всего лишь человек, — ответил я, — и человек, у которого много врагов; а человека, у которого много врагов, можно победить.
— Да, его можно победить, но он ведь не один, Гармахис, — с ним еще двое. Кассий отправился туда, где и надлежит быть глупцу, — казалось бы, Рим отсек голову гидре. И что же? Отсечь-то голову отсекли, а на тебя уже шипит другая. Ведь есть еще Лепид и Октавиан-младший, который спокойно, с улыбкой торжества посмотрит на холодный труп Лепида ли, Антония ли, Клеопатры. Если я не поплыву в Киликию, Антоний непременно войдет в союз с парфянами и, сочтя гнусные слухи, которые распускают обо мне, правдой, — кстати, все это, конечно, и в самом деле правда, — обрушит свои легионы на Египет. И что тогда?
— Что тогда? Прогнать его обратно в Рим.
— Ах, Гармахис, тебе легко так говорить, и, может быть, если бы я не выиграла ту игру, что мы вели с тобой двенадцать дней назад, и фараоном стал бы ты, ты с легкостью разбил бы Антония, ибо весь Египет сплотился, поддерживая твой трон. Но меня Египет не любит, им ненавистна царица, в чьих жилах течет греческая кровь; а я уже разрушила великий заговор твоих сторонников, в котором объединилась половина жителей Египта. Так разве эти люди поднимутся, чтоб поддержать меня? Будь Египет верен мне, я, конечно, могла бы выстоять против всех войск, которые приведет Рим; но Египет ненавидит меня и предпочтет покориться римлянам, как в свое время покорился грекам. И все же я могла бы его защитить, будь у меня золото: я наняла бы солдат и они за деньги стали бы сражаться за меня. Но денег нет; моя казна пуста, и хоть земля наша богата, мне нечем заплатить огромные долги. Эти войны разорили меня, мне негде взять ни единого таланта. Может быть, ты, Гармахис, по праву крови жрец пирамид, — она приблизилась ко мне и посмотрела в глаза, — может быть, ты, — если легенда, дошедшая до нас сквозь десятки поколений, не лжет, — может быть, ты откроешь мне, где взять золото, чтобы спасти страну от гибели, а твою возлюбленную от участи Антониевой рабыни? Скажи, эта легенда о сокровище — сказка или правда?
Я подумал немного, потом сказал:
— Предположим, эта легенда — правда, предположим, я покажу тебе сокровище, сокрытое великим фараоном седой древности, чтобы в черный час нашей истории спасти Кемет, но могу ли я быть уверен, что ты поистине употребишь его богатства для этой благой цели?
— Так, стало быть, сокровище есть? — живо спросила она. — О, не сердись на меня, Гармахис, ибо, признаюсь тебе честно, само слово «золото» в этот роковой час бедствия наполняет сердце такой же радостью, как вид ручья в пустыне.
— Я думаю, что такое сокровище существует, — ответил я, — хотя сам его никогда не видел. Но знаю, что оно по-прежнему лежит там, куда было положено, ибо на тех, кто прикоснется к нему нечистыми руками и ради выполнения своих корыстных замыслов, падет столь страшное проклятье, что ни один из фараонов, кому сокровище было показано, не осмелился его взять даже в годину великих бедствий страны.
— Ах, в былые времена все всего боялись, — возразила она, — или же не так велики были постигшие их бедствия. Стало быть, Гармахис, ты мне покажешь это сокровище?
— Может быть, и покажу, если оно действительно все еще там, куда было положено, но ты должна поклясться мне, что употребишь его только на то, чтобы защитить Египет от Антония и облегчить жизнь его народа.
— Клянусь! — с искренним пылом воскликнула она. — Клянусь всеми богами Кемета, что если ты покажешь мне это великое сокровище, я объявлю Антонию войну и отошлю Деллия обратно в Киликию с еще более оскорбительным посланием, чем Антоний прислал мне. Но это еще не все, я сделаю больше, Гармахис: в самом скором времени я сочетаюсь с тобой браком и объявлю об этом всему миру, и ты сам будешь выполнять свои замыслы и отгонишь от нашей страны римского орла.
Так она говорила, гладя на меня со всей правдивостью и искренностью, на какие способен человек. Я ей поверил и впервые после моего падения почувствовал, что счастлив, подумал, что не все потеряно для меня и что вместе с Клеопатрой, которую я любил до крайней степени безумия, я смогу еще вернуть себе уважение египтян и власть.
— Клянись же Клеопатра! — потребовал я.
— Клянусь, любимый! И этой печатью скрепляю мою клятву! — Она поцеловала меня в лоб. Я тоже поцеловал ее, и мы стали говорить о том, как будем жить, когда станем мужем и женой, и что надо сделать, чтобы одолеть Антония.
Вот как я еще раз поддался обольщению и был обманут, хотя я верю, что если бы не злобная ревность Хармианы, которая, как вы увидите дальше, постоянно толкала ее на все новые преступления, Клеопатра в самом деле сочеталась бы со мной браком и отгородилась бы от Рима. И в конечном итоге так было бы лучше и для нее, и для Египта.
Мы просидели чуть ли не до рассвета, и я приоткрыл перед ней завесу тайны, окутывающей сокровище — несметные богатства, которые лежат в толще пирамиды. Было решено, что завтра же мы отправимся в путь и, прибыв туда через два дня, ночью начнем их искать. Рано утром была тайно снаряжена барка, Клеопатра вошла в нее, скрыв лицо под покрывалом и выдавая себя за египтянку, которая совершает паломничество к храму Хор-эм-ахета. Я тоже плыл с ней, одетый паломником, и с нами десятеро ее самых верных слуг, переодетых гребцами. Но Хармианы с нами не было. От Канопа по Нилу нас провожал попутный ветер, и в первую же ночь, плывя при свете луны, мы достигли Саиса и там немного отдохнули. На рассвете наше судно снова отчалило, весь день мы двигались быстро и покрыли большое расстояние, так что часа через два после заката солнца впереди показались огни крепости, именуемой Вавилоном. Мы подошли к противоположному берегу и незаметно причалили среди высоких зарослей тростника.
Потом мы, соблюдая величайшую осторожность, двинулись пешком в сторону пирамид, до которых было около двух лиг. Шли я, Клеопатра и преданный евнух, остальных слуг мы оставили в барке. Мне удалось поймать для Клеопатры ослика, который пасся среди поля пшеницы. Я бросил ему на спину плащ, и она села, и я повел ослика известными мне тропами, а евнух следовал за нами пешком. Через час с небольшим мы миновали большую дамбу, и перед нами встали величественные пирамиды, возносящие сквозь лунный свет свои вершины к небу; мы в благоговейном трепете умолкли и дальше шли, не произнося ни слова, по населенному духами городу мертвых, вокруг нас поднимались торжественные гробницы, и наконец мы поднялись на каменистую площадку и стали подле пирамиды Хуфу — его великолепного трона.
— Я уверена, — прошептала Клеопатра, глядя вверх на сверкающую в лучах луны мраморную грань с миллионами мистических символов, вырезанных на ней, — я уверена, что в те времена Египтом правили не люди, а боги. Это место печально, как сама смерть, и так же величественно и отчуждено от нас. Мы в эту пирамиду должны войти?
— Нет, не в нее, — ответил я. — Идем дальше.
И я повел их средь бесчисленных древних усыпальниц, пока мы не дошли до пирамиды Хефрена Великого. Остановились в ее тени и стали глядеть на красную, пронзающую небо громаду.
— Это она? — снова прошептала она.
— Нет, не она, — ответил я. — Нужно идти дальше.
Опять мы шли мимо гробниц, им не было конца, но вот мы остановились под сенью Верхней пирамиды[20], и потрясенная Клеопатра не могла оторвать глаз от зеркальных поверхностей этой красавицы, которая тысячелетие за тысячелетием каждую ночь посылала обратно в небо лунный свет, покоясь на своем черном базальтовом основании. Поистине, из всех пирамид эта — самая прекрасная.
— Что ж, здесь? — спросила она.
— Да, здесь, — ответил я.
Мы прошли между храмом для культовых церемоний, посвященных его божественному величеству, Менкаура, воссиявшему в Осирисе, и основанием пирамиды и оказались у ее северной грани. Здесь в самой середине выбито имя фараона Менкаура, который построил эту пирамиду, дабы она стала его усыпальницей, и спрятал в ней сокровища, дабы они спасли Кемет, когда настанет черный день беды.
— Если сокровище все еще здесь — сказал я Клеопатре, — как оно было здесь во времена моего прапрапрадеда, так же как и я, верховного жреца пирамид, то оно покоится в самом сердце громады, перед которой ты стоишь, Клеопатра; и просто так его не возьмешь — потребуется великий труд, придется преодолевать огромные опасности, бороться с безумием. Готова ли ты войти в пирамиду, ибо ты сама должна в нее войти и сама принять решение?
— А ты не можешь, Гармахис, пойти туда с евнухом и принести сокровище? — спросила она, ибо мужество уже изменило ей.
— Нет, Клеопатра, — ответил я, — я не притронусь к сокровищу даже ради тебя и ради благоденствия Египта, ибо из всех преступлений это — самое кощунственное. Но вот что мне позволено. Я, по праву рождения посвященный в тайну сокровища, могу показать правящему владыке Кемета, если он того потребует, место, где лежит сокровище, и предостережение божественного Менкаура тем, кто хочет его взять. И если фараон, прочтя предостережение, решит, что положение Кемета поистине бедственно и катастрофа неотвратима, и потому не испугается проклятия богов и возьмет сокровище, — что ж, вина за совершенное святотатство падет на его голову. Три венценосца — так говорится в летописях, которые я читал, — осмелились войти в гробницу в великий час несчастья нашего Кемета. То были божественная царица Хатшепсут, это земное чудо, равное богам; ее божественный брат Тутмос Менхеперра и божественный Рамсес Ми-Амон. Но ни один из этих царственных владык не посмел прикоснуться к сокровищу, когда прочел предостережение: да, нужда в средствах была огромна, но не настолько, чтобы совершить это деяние. И, испугавшись, что проклятие падет на них, все трое с сожалением ушли.
Она задумалась, потом я понял, что отвага одолела ее страх.
— По крайней мере я увижу все собственными глазами, — сказала она.
— Быть по сему, — ответил я. И вот мы с евнухом, который сопровождал нас, стали собирать валуны и класть их друг на друга в ведомом мне месте у основания пирамиды, пока груда не поднялась выше человеческого роста; я взобрался на нее и стал искать известный одному мне выступ, маленький, как древесный листок. Долго мне пришлось его искать, ибо солнце и ветры, несущие песок пустыни, не пощадили даже базальт. Но наконец я все-таки его нашел и по-особому нажал на выступ изо всех своих сил. И вот камень, не страгиваемый с места тысячелетия, повернулся, и передо мной открылся небольшой ход, через который едва мог протиснуться человек. Едва лишь камень повернулся, из хода вырвалась огромная летучая мышь, белая, как бы седая от древности, и столь невиданных размеров, что я поразился, ибо никогда не встречал ничего подобного — она была, пожалуй, больше ястреба. Летучая мышь повисла, трепеща крылами, над Клеопатрой, потом стала медленно, кругами подниматься в небо и наконец растаяла в лунном сиянии.
С уст Клеопатры сорвался крик ужаса, а евнух, который глядел на летучую мышь, не отрывая глаз, от страха упал на землю — он был уверен, что это дух-охранитель пирамиды. Мне тоже сжал сердце страх, хоть я и ничего им не сказал. Прошло столько лет, но я и сейчас убежден, что нам явился дух воссиявшего в Осирисе Менкаура, который принял облик летучей мыши и вылетел из своего священного обиталища, дабы предостеречь нас.
Я подождал немного, чтобы проветрить коридор, в котором застоялся воздух. Достал тем временем светильники, зажег их и поставил все три у входа в коридор. Потом спустился с каменной груды вниз, отвел в сторону евнуха и заставил поклясться живым духом Того, кто спит в своей священной могиле в Абидосе, что он никогда не откроет никому то, чему станет свидетелем.
Он дал мне эту клятву, дрожа от головы до ног, ибо обезумел от страха. И он сдержал свою клятву.
Потом я протиснулся в отверстие, обвязал себя вокруг пояса веревкой, которую захватил с собой, и сделал знак Клеопатре, чтобы она поднималась ко мне. Она заткнула за пояс юбку своего платья и взобралась наверх, я втянул ее внутрь через отверстие, и наконец она оказалась возле меня в проходе, облицованном гранитными плитами. За ней вскарабкался евнух и тоже встал рядом с нами. Потом, сверившись с планом, который я принес с собой и который был составлен так, что только посвященные могли его прочесть, ибо был переснят с древнейших документов, дошедших до меня через сорок одно поколение моих предков, жрецов пирамиды божественного Менкаура и поминального храма этого великого фараона, воссоединившегося с Осирисом, я повел моих спутников по темному коридору в тысячелетнее безмолвие пирамиды. Дрожали неверные огоньки наших светильников, в их свете мы спустились по крутому ходу, задыхаясь от жары и духоты вязкого, застоявшегося воздуха. Но вот каменная кладка кончилась, мы оказались в галерее, выбитой в толще скалы. Сто локтей она круто шла вниз, потом спуск сделался более пологим, и вскоре мы оказались в камере с выкрашенными белой краской стенами и потолком, но до того низкой, что я, при моем высоком росте, не мог в ней выпрямиться; в длину камера была двадцать локтей, в ширину пятнадцать, и беленые ее стены сплошь покрывали рельефы. Здесь Клеопатра опустилась на пол и хотела немного отдохнуть, ибо была измучена жарой и безмерно боялась темноты.
— Встань! — приказал я. — Нельзя здесь долго оставаться, мы можем впасть в беспамятство.
И она поднялась и, взяв меня за руку, прошла вместе со мной через камеру, и мы оказались перед массивной гранитной дверью, которая спускалась с потолка, скользя по желобам. Я опять сверился с планом, нажал ногой на обозначенный там камень и стал ждать. Вдруг медленно и плавно, не знаю, с помощью каких сил, тяжелый гранит стал подниматься, открывая проход в толще скалы. Мы прошли в него и оказались перед второй гранитной дверью. И снова я нажал ногой означенный на плане камень, и эта дверь широко распахнулась перед нами как бы сама, и мы в нее вошли, но тут же увидели перед собою третью дверь, еще более массивную, чем те две, что уже пропустили нас. Следуя указаниям моего написанного тайными символами плана, я ударил по ней, где было обозначено, и дверь медленно, словно по волшебству, поползла вниз и наконец ее верхний край сровнялся с полом. Мы переступили через порог и снова оказались в коридоре, который плавно спускался вниз и через семьдесят локтей привел нас в большую камеру, сплошь облицованную черным мрамором, высотой более девяти локтей, шириной девять локтей и длиной тридцать. На мраморном полу стоял огромный гранитный саркофаг, и на его крышке были выбиты имя и титул жены фараона Менкаура. В этой камере воздух был свежий, хоть я не знаю, как он проникал туда.
— Сокровище здесь? — прошептала Клеопатра.
— Нет, — ответил я, — следуй за мной.
И я повел ее по ходу, в который мы проникли через отверстие в полу большой погребальной камеры. Отверстие закрывалось каменной дверью-пробкой, но сейчас дверь была откинута. Мы проползли по этой шахте, или, если хотите, коридору, пятьдесят локтей и наконец увидели колодец глубиной в семь локтей. Обвязав один конец веревки вокруг пояса, а другой прикрепив к кольцу, вделанному в скалу, я спустился со светильником в руке и оказался в месте последнего упокоения божественного Менкаура. Потом евнух поднял веревку, обвязал Клеопатру и спустил вниз, а я принял ее в свои объятья. Но евнуху я приказал ждать нашего возвращения наверху, у устья колодца, хоть он ужасно этого не хотел, ибо смертельно боялся остаться в одиночестве. Но ему не должно было сопровождать нас туда, куда мы шли.
Глава XI, повествующая о том, как выглядела погребальная камера божественного Менкаура; о том, что было написано на золотой пластине, лежащей на груди фараона; о том, как Клеопатра и Гармахис доставали сокровище; о духе, обитающем в погребальной камере; и о бегстве Гармахиса и Клеопатры из священной гробницы
Мы стояли в небольшой камере со сводчатым потолком, стены и пол были облицованы огромными плитами сиенского гранита. Перед нами, вытесанный из базальтовой глыбы в виде деревянного домика и покоящийся на спине сфинкса с головой литого золота, был саркофаг божественного Менкаура.
Мы замерли в благоговейном ужасе, на нас давила невыносимая тяжесть безмолвия, мрачная торжественность этой священной усыпальницы. Над нами неизмеримо высоко поднималась в небо могучая пирамида, ее овевал снаружи ласковый ночной воздух. А мы были внизу, под ее толщей, в недрах огромной скалы, ниже базальтового основания. Мы были наедине с мертвым, чей покой готовились нарушить, и ни один звук не доносился сюда из мира живых — хотя бы ветерок прошелестел, хоть бы что-то шевельнулось, напомнив о жизни и смягчив наше пронзительное одиночество. Я не мог оторвать глаз от саркофага; его тяжелая крышка была снята и стояла сбоку, вокруг толстым слоем лежала пыль тысячелетий.
— Смотри, — прошептал я, указывая на священные древние символы, которые кто-то начертал краской на стене и из которых складывалось послание.
— Прочти, Гармахис, — все так же шепотом попросила Клеопатра, — ведь я не понимаю эти письмена.
И я прочел:
«Я, Рамсес Ми-Амон посетил эту усыпальницу в день и в час великой беды, постигшей страну Кемет. Но хоть велика моя беда, а мое сердце отважно, я убоялся проклятия Менкаура. Подумай хорошо, о ты, кто придет после меня, и если душа твоя чиста, а нашему Кемету поистине грозит гибель, тогда возьми то, что я не посмел тронуть».
— Но где же сокровище? — прошептала Клеопатра. — Эта золотая голова сфинкса?
— Сокровище там, — промолвил я, указывая на саркофаг. — Подойди ближе и взгляни.
Она взяла меня за руку, и мы приблизились к саркофагу.
Крышка была снята, как я уже сказал, но внутри саркофага лежал покрытый цветной росписью гроб фараона. Мы поднялись на сфинкса, я сдул с гроба пыль и прочел то, что было написано на его крышке. Вот эти надписи:
«Фараон Менкаура, дитя неба».
«Фараон Менкаура, царственный сын Солнца».
«Фараон Менкаура, который лежал под сердцем богини Нут».
«Твоя небесная мать Нут осеняет тебя своим священным именем».
«Имя твоей небесной матери Нут — тайна неба».
«Нут, твоя небесная мать, причисляет тебя к сонму богов».
«Дыхание твоей небесной матери Нут испепеляет твоих врагов».
«О фараон Менкаура, жив ты вечно!»
— Но где же сокровище? — опять спросила Клеопатра. — Да, здесь покоится тело божественного Менкаура, но даже у фараонов тело из обыкновенной плоти, а не из золота; и если голова сфинкса золотая, то как нам ее снять?
Я ничего ей не ответил, но велел, все так же стоя на сфинксе, взяться за крышку гроба в головах фараона, а сам взялся за ее противоположный конец. Потом мы по моей команде потянули крышку вверх, она легко снялась, потому что была не прикреплена, и мы поставили ее на пол. В гробу лежала мумия фараона — в том виде, как ее положили три тысячи лет назад. Мумия была большая и убрана более чем скромно. На лице не было золотой маски, какой закрывают лица мумий сейчас, голова завернута в пожелтевшую от времени ткань и обмотана красными полотняными бинтами, под которые были засунуты стебли распустившихся лотосов. На груди тоже лежал венок из лотосов, и внутри него большая золотая пластина, сплошь покрытая священными письменами. Я взял в руки пластину и, поднеся к свету, стал читать:
«Я, Менкаура, воссоединившийся с Осирисом, бывший некогда фараоном страны Кемет, проживший отведенный мне срок жизни праведно и неизменно шедший по пути, который мне предначертал Непостижимый — начало и конец всего, — обращаюсь из своей гробницы к тем, кто после меня будет на краткий миг занимать мой трон. Слушайте же меня. Мне, Менкаура, воссоединившемуся с Осирисом, еще в дни моей жизни было явлено в пророческом сне, что настанет время, когда стране Кемет будет грозить иго чужеземцев и ее владыкам потребуются несметные богатства, дабы снарядить войска и прогнать дикарей. И вот что я в своей мудрости сделал.
Благоволящие ко мне боги в своей щедрости столь обильно одарили меня богатствами, что ни один фараон со времен Гора не мог бы соперничать со мной — у меня были тысячи коров и гусей, тысячи волов и овец, тысячи мер зерна, сотни мер золота и драгоценных камней; я берег свое богатство и в конце жизни обратил его в драгоценные камни — в изумруды, самые прекрасные и крупные в мире. И эти камни я завещаю взять, когда для Кемета настанет черный день. Но на земле всегда были и будут злодеи, которые, алкая наживы, могут похитить богатства, которые я завещал своей стране, и использовать их для собственных ничтожных целей; знай же, о ты, нерожденный, кто встанет надо мной, когда исполнятся сроки, и прочтет слова, что я повелел начертать на этой таблице: сокровище скрыто внутри моей мумии. И я предупреждаю тебя, о нерожденный, спящий до времени в утробе Нут! Если тебе богатства нужны действительно затем, чтобы спасти Кемет от врагов Кемета, без страха и без промедления вынь меня, Осириса, из гроба, сними пелены и достань из моей груди сокровище, и с тобою пребудет мое благословение и благоволение богов; прошу тебя лишь об одном: положи мои останки обратно в гроб. Но если нужда в средствах преходяща и не так уж велика или если в сердце твоем затаился коварный умысел, да падет на тебя проклятье Менкаура! Да падет проклятье на того, кто пригреет осквернившего прах! Да падет проклятье на того, кто вступит в сговор с предателем! Да падет проклятье на того, кто оскорбил великих богов! Всю жизнь тебя будут преследовать несчастья, ты умрешь кровавой смертью в муках, но муки твои будут длиться вечно, терзаньям твоим не будет конца! Ибо там, в Аменти, мы встретимся с тобой, злодей, лицом к лицу!
Для того, чтобы сохранить тайну сокровища, я, Менкаура, повелел построить на восточной стороне моего дома смерти поминальный храм. Тайну будут передавать друг другу верховные жрецы этого храма. И если один из верховных жрецов откроет эту тайну кому-то другому, кроме фараона или той, что носит корону фараона и правит Кеметом, сидя на его троне, да будет проклят и он. Так написал я, Менкаура, воссиявший в Осирисе. Но пройдет время, и ты, спящий ныне в лоне небесной Нут, встанешь передо мной и прочтешь мои слова. Так вот, подумай, молю тебя, подумай, прежде чем решиться. Ибо если тобою движет зло, на тебя падет проклятье Менкаура, от которого нет избавленья. Приветствую тебя, и прощай».
— Ты слышала все, о Клеопатра, — торжественно произнес я. — Теперь загляни в свое сердце; решай и ради собственной своей судьбы не ошибись.
Она в задумчивости опустила голову.
— Я не могу решиться, я боюсь, — наконец сказала она. — Уйдем отсюда.
— Уйдем, — сказал я с облегчением и нагнулся, чтобы поднять деревянную крышку гроба. Не скрою, мне тоже было страшно.
— Подожди минуту; что там написал на этой пластине божественный Менкаура? Кажется, он говорил про изумруды? А изумруды сейчас такая редкость, их очень трудно купить. Как я всю жизнь любила изумруды, и никогда мне не удавалось найти камень без изъянов.
— То, что ты любишь или не любишь, не имеет никакого значения, — возразил я. — Важно другое: действительно ли столь безнадежно положение Кемета и свободно ли твое сердце от тайного коварства, а это можешь знать только ты.
— Ах, Гармахис, и ты еще спрашиваешь! Можно ли представить себе время более черное? В казне нет золота, а разве можно без золота воевать с Римом? И не я ли тебе поклялась, что стану твоей супругой и объявлю войну Риму? Я повторяю сейчас свою клятву — здесь, в этой священной усыпальнице, положив руку на сердце мертвого фараона. Да, настал тот самый час, который привиделся божественному Менкаура в его вещем сне. Ты же понимаешь, что это так, иначе Хатшепсут, или Рамсес, или какой-нибудь другой фараон взяли бы из гроба изумруды. Но нет, они оставили их для нас, потому что тогда время еще не наступило. А теперь оно, я уверена, наступило, потому что, если я не возьму драгоценности, римляне, несомненно, захватят Египет, и уже не останется в нем фараонов, которым можно будет передавать тайну. Нет, прочь страх, за дело. Почему у тебя такое испуганное лицо? Тому, кто чист сердцем, нечего бояться, ты же сам это прочел Гармахис.
— Как пожелаешь, — снова сказал я, — решать тебе, но загляни еще раз в свое сердце, ибо, если ты ошибешься, на тебя падет проклятье, от которого нет избавления.
— Гармахис, ты бери фараона за плечи, а я возьму его за… О, как здесь страшно! — И она вдруг прильнула ко мне. — Мне показалось, там, в темноте, появилась тень! Она стала надвигаться на нас и потом неожиданно исчезла! Давай уйдем! Ты ничего не видел?
— Нет, Клеопатра, ничего; но, может быть, то был дух божественного Менкаура, ибо дух всегда витает возле тленной оболочки того, в ком жил когда-то. Ты права, уйдем отсюда; я рад, что ты так рассудила.
Она двинулась было к колодцу, но потом остановилась и сказала:
— Нет, никакой тени не было, мне просто померещилось, в столь ужасном месте измученное страхом воображение рождает поистине чудовищные видения. Знаешь, я должна взглянуть на эти изумруды, — пусть даже я умру, мне все равно! Не будем медлить, за дело! — И она нагнулась и собственными руками достала из саркофага один из четырех алебастровых сосудов, которые были запечатаны крышками с головами богово-хранителей и в которых хранились сердце и внутренности божественного Менкаура. Но ни в одном сосуде мы ничего не нашли, там лежало лишь то, чему полагалось лежать, — сердце и внутренности.
Потом мы вместе взобрались на сфинкса, с великим трудом извлекли из гроба мумию божественного фараона и положили ее на пол. Клеопатра взяла мой кинжал, разрезала им бинты, которые обвивали мумию поверх погребальных пелен, и цветы лотоса, чьи стебли заложила под них три тысячи лет назад чья-то любящая рука, упали в пыль. Потом мы долго искали конец пелены, но все-таки нашли — он был закреплен на спине мумии, возле шеи. Пришлось его обрезать, ибо он приклеился слишком прочно. И вот мы начали распеленывать священную мумию. Я сидел на каменном полу, прислонившись к саркофагу, мумия лежала у меня на коленях, и я поворачивал ее, а Клеопатра снимала пелены — жуткое, зловещее занятие. Вдруг что-то выпало из пелен — это оказался жезл фараона, золотой, с навершием из огромного ограненного изумруда.
Клеопатра схватила жезл и молча впилась в него взглядом. Потом положила в сторону, и мы вновь вернулись к этому святотатству. Она разворачивала пелены, и из-под них сыпались золотые украшения и предметы, которые по обычаю кладут с мертвым фараоном в гроб: браслеты, ожерелья, крошечные систры, топорик с инкрустированным топорищем, фигурка божественного Осириса, символ священного Кемета… Наконец все пелены были сняты, под ними оказался саван из грубого, затвердевшего от благовонных масел льна, — ведь в древности ремесла не были так развиты, как нынче, и искусство бальзамирования еще не достигло своих вершин. На льняном саване в овале было начертано «Менкаура, царственный сын Солнца». Мы никак не могли снять этот саван, он слишком плотно охватывал тело. И потому мы, чувствуя, что вот-вот потеряем сознание в этой жаре, задыхаясь от тысячелетней пыли и одуряющего запаха благовоний, дрожа от ужаса, ибо в священнейшем уединении древней усыпальницы совершалось кощунство, положили мумию на пол и разрезали последний покров кинжалом. Сначала мы освободили голову фараона, и нам открылось лицо, которое три тысячи лет не видели ничьи глаза. Это было благородное лицо, с дерзновенным лбом, который венчал символ царственной власти — золотой урей, а из-под диадемы падали длинные седые пряди прямых волос, пожелтевших от благовоний. Ни холодная печать смерти, ни медленное течение трех тысячелетий не властны были обезобразить эти ссохшиеся черты, лишить величия. Мы долго глядели на это лицо, не в силах оторвать глаз, но в конце концов, осмелев от страха, стали срывать саван. И перед нами обнажилось тело — негнущееся, желтое, невыразимо ужасное, с левой стороны разрез, через который бальзамировщики вынимали внутренности фараона, но зашит он был столь искусно, что мы с трудом нашли его след.
— Драгоценные камни там, внутри, — прошептал я, ибо мумия была очень тяжелая. — Что ж, если твое сердце не дрогнет, проделай вход в этот несчастный дом, слепленный из праха, который некогда был фараоном. — И я протянул ей кинжал — тот самый кинжал, что совсем недавно отнял жизнь у Павла.
— Поздно раздумывать, — сказала она, обращая ко мне свое бледное прелестное лицо и глядя в мои глаза своими синими огромными от ужаса очами. Взяла кинжал, стиснула зубы, и вот рука живой царицы вонзилась в мертвую плоть фараона, который жил три тысячи лет тому назад. И в этот миг из шахты, у устья которой мы наверху оставили евнуха, к нам прилетел стон! Мы вскочили на ноги, но стон не повторился, из шахты по-прежнему лился сверху свет.
— Почудилось, — сказал я. — Давай же завершим начатое.
И вот, безжалостно терзая одеревеневшую плоть, мы с огромным усилием проделали отверстие, и я все время слышал, как кончик кинжала задевает лежащие внутри камни.
Клеопатра запустила руку в мертвую грудь фараона и что-то вынула. Поднесла предмет к свету и ахнула, ибо, извлеченный из тьмы фараонова нутра, сверкнул и ожил великолепнейший изумруд, какой только доводилось видеть человеку. Он был безупречного темно-зеленого цвета, очень большой, без единого изъяна, в виде скарабея, и на нижней поверхности вырезан овал, а в овале — имя божественного Менкаура, сына Солнца.
Она раз за разом погружала в отверстие руку и раз за разом вынимала из благовонных масел, налитых в грудь фараона, огромные изумруды. Некоторые камни были выделаны, некоторые нет; но все были безупречного темно-зеленого цвета и без единого изъяна, им не было цены. А ее рука все опускалась в эту ужасную грудь, и наконец мы насчитали сто сорок восемь камней, равных которым не найти во всем мире. Когда рука в последний раз нырнула в поисках камней, то извлекла не изумруды, а две огромные жемчужины, каких еще никто и никогда не видел; жемчужины были завернуты в куски льняной ткани. О судьбе этих жемчужин я поведаю позже.
Итак, мы вынули сокровище, и вот оно сверкающей грудой возвышалось перед нами. Рядом с камнями лежали золотые символы царской власти, украшения, вокруг были разбросаны пропитанные благовонными маслами пелены, от приторного запаха которых кружилась голова, и тут же растерзанный труп седого фараона Менкаура, вечноживущего Осириса, который царит в Аменти.
Мы поднялись на ноги, и нас охватил неодолимый ужас — ведь кощунство уже совершилось, и азарт поисков больше не поддерживал наше мужество, — ужас столь великий, что нас сковала немота. Я сделал знак Клеопатре. Она схватила фараона за плечи, я за ноги, мы вдвоем подняли его, взобрались на сфинкса и положили в гроб, где он лежал три тысячи лет. Я бросил на мумию разрезанный саван и сорванные с нее погребальные пелены и закрыл гроб крышкой.
Мы стали собирать огромные изумруды и те украшения, которые можно было без труда унести, и я завязал их в мой плащ. То, что осталось, Клеопатра спрятала у себя на груди. С тяжелым грузом бесценных сокровищ мы в последний раз окинули взглядом торжественную усыпальницу, саркофаг, покоящийся на спине сфинкса, чье безмятежное золотое лицо мудро улыбалось своей загадочной улыбкой, как бы издеваясь над нами. Мы отвернулись от него и пошли туда, где в потолке было отверстие.
Под ним мы остановились. Я позвал евнуха, который оставался наверху, и мне послышалось, что кто-то негромко и зловеще рассмеялся в ответ. Это было так жутко, что я не осмелился крикнуть еще раз, но я знал, что медлить нельзя, Клеопатра вот-вот лишится чувств, и потому схватился за веревку и с легкостью поднялся наверх, в коридор. Светильник горел, но евнуха я не увидел. Решив, что он, без сомнения, отошел на несколько шагов, сел и заснул — увы, моя догадка оказалась верной, — я крикнул Клеопатре, чтобы она обвязала себя веревкой вокруг пояса, и с большим трудом вытянул ее наверх. Мы немного отдохнули и, держа светильники, пошли искать евнуха.
— Ему стало страшно, и он убежал, а светильник оставил, — сказала Клеопатра. — Великие боги! Кто это там?
Я стал всматриваться в темноту, выставив перед собой светильники, и от того зрелища, которое предстало предо мной, у меня и по сей день холодеет в жилах кровь. Лицом к нам, привалившись к скале и раскинув в стороны руки, сидел на полу евнух — но он был мертв! Глаза его были вытаращены, челюсть отвалилась, толстые щеки обвисли, жидкие волосы стояли дыбом, и на лице застыло выражение такого нездешнего ужаса, что, глядя на него, и сам ты мог сойти с ума. Но это еще не все! Вцепившись в его подбородок когтями, висела огромная седая летучая мышь, которая вылетела из пирамиды, когда я открыл ход, и исчезла потом в небе, но вернулась вместе с нами в самое сердце гробницы. Она висела на подбородке мертвого евнуха и медленно раскачивалась, и мы видели, как горят ее красные глаза.
Оцепенев от страха, стояли мы на подламывающихся ногах и глядели на эту омерзительную тварь, а она вдруг расправила свои гигантские крылья, разжала когти, выпустила подбородок евнуха и поплыла к нам. Вот она остановилась в воздухе прямо перед лицом Клеопатры, медленно взмахивая своими белыми крыльями. Потом пронзительно крикнула, точно разъяренная женщина, и полетела к входу в свою оскверненную гробницу, нырнула в колодец и исчезла в камере, где стоял ее саркофаг. Я обессиленно прислонился к стене. А Клеопатра сползла на пол и, стиснув голову локтями, стала отчаянно кричать, она кричала и не могла остановиться, крики метались по пустым коридорам, эхо нескончаемо их множило, многократно усиливало, и казалось, своды сейчас расколются от хриплого пронзительного вопля.
— Встань! — приказал я. — Встань, и бежим отсюда скорее, пока не вернулся дух, который преследует нас. Если ты сейчас поддашься малодушию и будешь медлить, ты погибнешь.
Она, шатаясь, поднялась на ноги — и, боги великие, никогда я не забуду выражение ее искаженного ужасом пепельного лица и горящих глаз. Поспешно схватив светильники, мы прошли мимо ужасного, словно явившегося в кошмарном сне трупа евнуха, причем я вел ее за руку. Вот мы добрались до большой погребальной камеры, где стоял саркофаг супруги фараона Менкаура, миновали ее, потом кинулись бежать по коридору. Что, если летучая мышь закрыла все три массивные двери? Но нет, они открыты, и мы молнией бросились в них; я остановился и запер только последнюю. Прикоснулся к камню в том месте, которое было обозначено на плане, и тяжелейшая дверь рухнула вниз, отрезав нас от мертвого евнуха и от чудовища, которое раскачивалось, вцепившись в его подбородок. Мы были в белой комнате с рельефами на стенах, осталось одолеть последний крутой подъем. О, как он оказался тяжек, этот подъем! Дважды Клеопатра оскальзывалась на гладких полированных камнях пола и падала. Когда она упала во второй раз — мы уже были на середине пути, — она уронила светильник, и не удержи я ее, сама бы скатилась бы вместе с ним вниз. Но ловя ее, я тоже выпустил из рук свой светильник, он понесся вниз, подскакивая, и мы остались в полной темноте. И может быть, над нами в этой тьме витало то чудовище из кошмара!
— Будь мужественна! — воскликнул я. — О любовь моя, будь мужественна! Да, подъем крут, но нам осталось уже немного; и хоть здесь темно, коридор прямой, никакие неожиданности нас здесь не подстерегают. Если тебе тяжело нести камни, брось их.
— Ну уж нет, никогда, — прошептала она, с трудом переводя дух. — Перенести такое и потом бросить изумруды? Да я скорее умру!
Вот когда мне открылось истинное величие души этой женщины: в полнейшей тьме, дрожа от пережитых ужасов и понимая, что наша жизнь висит на волоске, она прижалась ко мне и стала подниматься по головокружительно крутому коридору. Шаг, другой… мы двигались, держа друг друга за руку, я чувствовал, что сердце вот-вот разорвется в груди, но наконец милость или гнев богов привели нас туда, откуда мы увидели пробившийся сквозь узкий ход в пирамиде слабый свет луны. Еще несколько усилий — и мы у выхода, свежий ночной ветерок овевал нам лица, точно дуновение небес. Я протиснулся сквозь отверстие и, стоя на груде валунов, поднял и вытащил наружу Клеопатру. Она спустилась вниз, медленно сползла на землю и осталась лежать без движения.
Я дрожащими руками нажал на выступ в поворотном камне, он сдвинулся и встал на место, как будто никогда не открывал тайный вход в пирамиду. Я спрыгнул вниз, разбросал валуны, которые мы складывали с евнухом и поглядел на Клеопатру. Она лежала в глубоком обмороке, и хотя лицо ее было покрыто копотью и пылью, она была так бледна, что сначала я подумал: она умерла. Я приложил руку к ее сердцу и почувствовал, что оно бьется; я сам был так измучен, что бросился на песок рядом с ней: надо хоть немного отдохнуть и восстановить силы.
Глава XII, повествующая о возвращении Гармахиса; о его встрече с Хармианой и об ответе, который Клеопатра дала послу триумвира Антония Квинту Деллию
Наконец я сел и, положив голову царицы Египта себе на колени, стал приводить ее в чувства. Как пленительно хороша она была даже сейчас, измученная, обессиленная, в плаще длинных распустившихся волос! Как мучительно прекрасно было в бледном свете луны лицо этой женщины, память о красоте и преступлениях которой переживет незыблемую пирамиду, что высится над нами! Глубокий обморок стер с ее лица налет лжи и коварства, осталось лишь божественное очарование вечной женственности, смягченное тенями ночи, в высокой отрешенности похожего на смерть сна. Я не мог отвести от нее глаз, и сердце мое разрывалось от любви к ней; мне кажется, я любил ее еще сильнее оттого, что пал так низко и совершил ради нее столько несмываемых преступлений, оттого, что вместе с ней мы пережили такой ужас. Без сил, истерзанный страхом и сознанием вины, я тянулся к ней сердцем и жаждал, чтобы она дала мне отдохновение, ибо только она одна осталась у меня на свете. Она поклялась стать моей супругой, и с помощью сокровища, которое мы сейчас добыли, мы с ней вернем Египту прежнее могущество, победим его врагов, — еще можно все поправить. Ах, если бы я знал, когда и где мне еще раз доведется держать на коленях голову этой женщины, бледную, с печатью смерти на лице! Если бы я мог провидеть в тот миг грядущее!
Я стал растирать ее руки, потом склонился и поцеловал в губы, и от моего поцелуя она очнулась — очнулась и, сдавленно вскрикнув в страхе, задрожала всем своим хрупким телом и уставилась мне в лицо широко раскрытыми глазами.
— Ах, это ты, ты! Теперь я вспомнила — ты спас меня и вывел из гробницы, где живет это чудовище! — И она обхватила меня руками, привлекла к себе и поцеловала. — Пойдем, любовь моя! Скорее прочь отсюда! Я смертельно хочу пить и… боги, как же я устала! А эти изумруды впиваются мне в грудь. Никому еще богатства не доставались такими муками. Уйдем, уйдем, на нас падает тень этой ужасной пирамиды! Смотри, небо сереет, это рассвет уже раскинул свои крылья. Как прекрасен мир, какое счастье видеть наступающий день! В этом лабиринте, где царит вечная ночь, я думала, что никогда больше не увижу лик зари! Перед моими глазами неотступно стоит лицо моего мертвого раба, и на его подбородке качается это омерзительное чудовище. Подумай только, он будет сидеть там вечно, — вечно! — запертый вместе с чудовищем! Но пойдем. Где нам найти воды? За несколько глотков воды я отдала бы изумруд!
— Вокруг возделанных полей за храмом прорыт канал, он недалеко, — сказал я. — Если кто-то нас увидит, объясним, что мы паломники, заблудились здесь ночью среди гробниц. Поэтому как можно тщательней скрой лицо под покрывалом, Клеопатра, и сама закутайся поплотнее: никто не должен видеть эти камни.
Она закуталась, спрятала лицо, я поднял ее на руки и посадил на ослика, который был привязан неподалеку. Мы медленно двинулись по долине и наконец подошли к тому месту, где в образе царственного Сфинкса, увенчанная диадемой фараонов Египта, величественно возвышается над окрестными землями статуя бога Хор-эм-ахета[21] (греки называют его Гармахисом), глаза которого неизменно устремлены на восток. В этот миг первые лучи, посланные солнцем, пронзили рассветную дымку и упали на губы Хор-эм-ахета, выражающие небесный покой, — Заря поцеловала бога Рассвета, приветствуя его. Свет разгорался, залил сверкающие грани двадцати пирамид и, словно благословляя жизнь в смерти, хлынул в порталы десяти тысяч гробниц. Он затопил золотым потоком пески пустыни, сорвал с неба тяжелое покрывало ночи, устремился к зеленым полям, к роще пышных пальм. И вот из-за горизонта торжественно поднялся со своего ложа царственный Ра — настал день.
Мы прошли мимо храма из гранита и алебастра, который был построен в честь великого бога Хор-эм-ахета задолго до того, как на египетский трон сел фараон Хеопс, спустились по пологому склону и вышли к берегу канала. Там мы напились, и эта мутная вода показалась нам слаще самых изысканных вин Александрии. Мы также смыли с наших лиц и рук копоть и пыль гробницы, освежились, привели себя в порядок. Когда Клеопатра мыла шею, нагнувшись к воде, огромный изумруд выскользнул у нее из-за пазухи и упал в канал, и я с великим трудом отыскал его в тине. Потом я снова посадил Клеопатру на ослика, и мы медленно, ибо я едва держался на ногах от усталости, побрели к берегам Сихора, где стояло на якоре наше судно. И вот мы наконец приблизились к нему, встретив по пути всего несколько крестьян, которые шли трудиться на своих полях, я отпустил ослика в том самом месте, где вчера поймал, мы взошли на судно и увидели, что все наши гребцы спят. Мы разбудили их велели поднимать паруса, а про евнуха сказали, что он пока поживет здесь, — и это была истинная правда. Мы спрятали изумруды и все те золотые украшения и изделия, что нам удалось принести с собой, и вскорости барка отчалила.
Мы плыли в Александрию почти пять дней, ибо дул встречный ветер; и каким же счастьем были наполнены эти дни! Правда, сначала Клеопатра была молчалива и угнетена, ибо то, что она увидела и пережила в глубинах пирамиды, преследовало ее, не оставляя ни на миг. Но скоро ее царственный дух воспрянул и сбросил тяжесть, которая камнем давила ее, и она снова стала такой, как прежде, — то веселой, то поглощенной возвышенными мыслями, то страстной, то холодной, то неприступно величественной, то искренней и простой — переменчивой, как ветер, и, как небо, прекрасной, бездонной, непостижимой!
Ночь за ночью, летящие как бы вне времени и наполненные беспредельным счастьем, — это были последние часы счастья, которые подарила мне жизнь, — мы сидели с ней на палубе, держа друг друга за руку, и слушали, как плещут о борт нашего судна волны, смотрели, как убегает вдаль лунная дорожка, как мягко серебрится черная вода, пропуская в свои глубины лунные лучи. Мы бесконечно говорили о том, как любим друг друга, о том, что скоро станем мужем и женой, обсуждали, что сможем сделать для Египта. Я рассказывал ей о своих планах войны с Римом, которые у меня уже возникли, — ведь теперь у нас довольно средств, мы можем отстоять свою свободу; она их все одобряла и нежно говорила, что согласна со всем, что я задумал, ведь я так мудр. Четыре ночи миновали, как единый миг.
О, эти ночи на Ниле! Воспоминание о них терзает меня до сих пор. Во сне я снова и снова вижу, как дробится и пляшет на воде отражение луны, слышу голос Клеопатры, шепчущий слова любви, он сливается с шепотом волн. Канули в вечность те блаженные ночи, умерла луна, что озаряла их; волны, которые качали нас на своей груди, точно в колыбели, влились в соленое море и растворились в нем, и там, где мы целовали друг друга и сжимали в объятьях, когда-нибудь будут целоваться влюбленные, которые еще не родились на свет. Сколько счастья обещали эти ночи, но обещанию не суждено было сбыться, оно оказалось пустоцветом — цветок завял, упал на землю и засох, и вместо счастья меня постигло величайшее несчастье. Ибо все кончается тьмой и тленом, и тот, кто сеет глупость, пожинает скорбь. О, эти ночи на Ниле!
Но вот сон кончился — мы снова оказались за ненавистными стенами прекрасного дворца на мысе Лохиас.
— Куда это вы, Гармахис, ездили с Клеопатрой? — спросила меня Хармиана, встретившись со мной случайно в день возвращения. — Замыслил какое-то новое предательство? Или любовники просто уединились, чтобы им никто не докучал?
— Я ездил с Клеопатрой по тайным делам чрезвычайной государственной важности, — сухо ответил я.
— Ах, вот как! Любая тайна чревата злом, — не забудь, самые коварные птицы летают ночью. А ты, Гармахис, достаточно умен и понимаешь, что тебе нельзя открыто показываться в Египте.
От ее слов я вспыхнул гневом, ибо мне было непереносимо презрение этой хорошенькой девушки.
— Неужели твой язык должен язвить без передышки? — спросил я ее. — Так знай же: я был там, куда тебе не позволено и приблизиться; мы пытались добыть средства, которые помогут Египту удержаться в борьбе с Антонием и не стать его добычей.
— Вот оно что, — проговорила она, метнув в меня быстрый взгляд. — Глупец! Ты зря трудился, Египет все равно станет добычей Антония, сколько бы ты ни старался его спасти. Что ты сегодня значишь для Египта?
— Мои старания, быть может, действительно ничего не стоят; но когда против Антония выступит Клеопатра, он не сможет одолеть Египет.
— Сможет и обязательно одолеет его с помощью самой Клеопатры, — проговорила Хармиана и с горечью усмехнулась. — Когда царица торжественно проплывет со всей своей свитой по Кидну, потом за ней в Александрию, без всякого сомнения, увяжется этот солдафон Антоний — победитель и такой же, как ты, раб!
— Ложь! Ты лжешь! Клеопатра не поплывет в Тарс, и Антоний не явится в Александрию, а если явится, то только воевать.
— О, ты в этом так уверен? — И она негромко рассмеялась. — Ну что же, тешь себя такими надеждами, если тебе приятно. Через три дня ты будешь все знать. До чего же легко обвести тебя вокруг пальца, одно удовольствие смотреть! Прощай же! Иди мечтать о своей возлюбленной, ибо нет не свете ничего слаще любви.
И она исчезла, оставив меня в гневе и тревоге, которую посеяла в моем сердце.
Больше я Клеопатру в тот день не видел, но на следующий мы встретились. Она была в дурном расположении духа и не нашла для меня ласкового слова. Я завел речь о войсках, которые будут защищать Египет, но она отмахнулась от разговора.
— Зачем ты докучаешь мне? — сердито набросилась она на меня. — Разве не видишь, что я извелась от забот? Вот дам завтра Деллию ответ, и будем обсуждать дела, с которыми ты пришел.
— Хорошо, я подожду до завтра, до того, как ты дашь Деллию ответ, — сказал я. — А знаешь ли ты, что еще вчера Хармиана, которую все во дворце называют хранительницей тайн царицы, — так вот, Хармиана вчера поклялась, что ты скажешь Деллию: «Я хочу мира и поплыву к Антонию!»
— Хармиане неведомы мои замыслы, — отрезала Клеопатра и в сердцах топнула ножкой, — а если у нее такой длинный язык, она будет тотчас же изгнана из дворца, как того и заслуживает. Хотя, если говорить правду, — возразила она сама себе, — в этой головке больше ума, чем у всех моих тайных советников вместе взятых, к тому же никто не умеет так ловко этот ум применить. Ты знаешь, что я продала часть этих изумрудов богатым иудеям, которые живут в Александрии, и продала по очень дорогой цене — за каждый получила пять тысяч сестерций! Но я продала всего несколько, сказать правду, они пока больше просто не могли купить. Вот было зрелище, когда они увидели камни: от алчности и изумления глаза у них сделались огромные, как яблоки. А теперь, Гармахис, оставь меня, я очень утомлена. Никак не изгладится воспоминание о подобной кошмару ночи в пирамиде.
Я встал и поклонился, но медлил уходить.
— Прости меня Клеопатра, а как же наше бракосочетание?
— Наше бракосочетание? А разве мы не муж и жена?
— Да, но не перед миром и людьми. Ты обещала.
— Конечно, Гармахис, я обещала, и завтра, едва только я избавлюсь от этого наглеца Деллия, я выполню свое обещание и объявлю всему двору, что ты — повелитель Клеопатры. Непременно будь в зале. Ты доволен?
И она протянула мне руку для поцелуя, глядя на меня странным взглядом, как будто боролась с собой. Я ушел, но ночью попытался еще раз увидеть Клеопатру, однако это не удалось. «У царицы госпожа Хармиана», — твердили евнухи и никого не пропускали.
Утром двор собрался в большом тронном зале за час до полудня, я тоже пришел; сердце то бешено колотилось, то замирало — скорее бы дождаться, что ответит Клеопатра Деллию, и услышать, что я — соправитель царицы Египта. Двор был в полном составе, все поражали великолепием нарядов: советники, вельможи, военачальники, евнухи, придворные дамы — все были здесь, кроме Хармианы. Миновал час, но Клеопатра с Хармианой все не появлялись. Наконец через боковую дверь незаметно проскользнула Хармиана и встала среди придворных дам у трона. Она сразу же бросила взгляд на меня, и в ее глазах я увидел торжество, хотя не мог понять, по поводу чего она торжествует. Как мог я догадаться, что она уже погубила меня и обрекла на гибель Египет?
Раздались звуки фанфар, и в парадном церемониальном наряде, с золотым уреем на лбу и с огромным изумрудом в виде скарабея, который Клеопатра извлекла из нутра мертвого фараона, сияющим сейчас, как звезда, на ее груди, величественно вошла царица и двинулась к трону в сопровождении стражников-галлов в сверкающих доспехах. Ее прелестное лицо было сумрачно, дремотно-отрешенные глаза темны, и никто не мог прочесть, что в них таится, хотя все придворные так и встрепенулись в ожидании того, что произойдет. Она медленно опустилась на трон, точно каждое движение стоило ей великого труда, и обратилась к главному глашатаю по-гречески:
— Ожидает ли посланец благородного Антония?
Глашатай поклонился и ответил, что да, ожидает.
— Пусть войдет и выслушает наш ответ.
Двери распахнулись, и в сопровождении свиты военачальников в тронный зал своим мягким, кошачьим шагом вошел Деллий в золотых доспехах и пурпурном плаще и низко склонился перед престолом.
— Великая и прекраснейшая царица Египта, — вкрадчиво заговорил он, — тебе было угодно милостиво повелеть, чтобы я сегодня явился выслушать твой ответ на послание благородного триумвира Антония, к которому я завтра отплываю в Киликию, в Тарс, и вот я здесь. Молю простить дерзость моих речей, о царица, но выслушай меня: прежде чем с твоих прелестных уст сорвутся слова, которых не вернуть, подумай многажды. Объяви Антонию войну — и Антоний разобьет тебя. Но явись пред ним, сияя красотой, средь волн, пеннорожденная, подобная твоей матери — богине Афродите, и никакого поражения тебе не надо опасаться, он осыплет тебя всеми дарами, которые любы сердцу царицы и женщины, — ты получишь империю, роскошные дворцы, города, власть, славу и богатство, и никто не посмеет посягнуть на твою корону. Не забывай: Антоний держит все страны Востока в своей руке воина; его волею восходят на трон цари; вызвав его неудовольствие, они лишаются и трона, и жизни.
Он поклонился и, скрестив руки на груди, стал терпеливо ждать ответа.
Минуты шли, Клеопатра молчала, она сидела, точно сфинкс Хор-эм-ахет, безмолвная, непроницаемая, и глядела мимо стен огромного тронного зала ничего не видящими глазами.
Потом раздалась нежная музыка ее голоса — она заговорила; я с трепетом ждал, что вот сейчас Египет объявит войну Риму.
— Благородный Деллий, мы много размышляли o том, что содержится в послании, которое ты привез от великого Антония нам, отнюдь не блистающей мудростью царице Египта. Мы долго вдумывались в него, держали совет с оракулами богов, с мудрейшими из наших друзей, прислушивались к голосу нашего сердца, которое неусыпно печется о благе нашего народа, как птица о своих птенцах. Оскорбительны слова, что ты привез нам из-за моря; мне кажется, их было бы пристойнее послать какому-нибудь мелкому царьку крошечной зависимой страны, а вовсе не ее величеству царице славного Египта. И потому мы сосчитали, сколько легионов мы сможем снарядить, сколько трирем и галер поплывут по нашему приказу в море, сосчитали, сколько у нас денег, — и оказалось, что мы сможем купить все необходимое, дабы вести войну. И мы решили, что, хоть Антоний и силен, Египту его сила не страшна.
Она умолкла, по залу запорхали рукоплескания — все выражали восхищение ее гордой отповедью. Один лишь Деллий протянул вперед руки, как бы отталкивая ее слова. Но она заговорила снова!
— Благородный Деллий, нам хотелось бы завершить на этом свой ответ и, укрепившись в наших могучих каменных цитаделях и в цитаделях сердец наших воинов, перейти к действиям. Но мы этого не сделаем. Мы не совершали тех поступков, которые молва превратно донесла до слуха благородного Антония и в которых он столь грубо и оскорбительно обвинил нас; и потому мы не поплывем в Киликию оправдываться.
Снова вспыхнули рукоплескания, мое сердце бешено заколотилось от торжества; потом вновь наступила тишина, и Деллий спросил:
— Так, стало быть, царица Египта, я должен передать Антонию, что ты объявляешь ему войну?
— О нет, — ответила она, — мы объявляем мир. Слушай же: мы сказали, что не поплывем в Киликию оправдываться перед ним, и мы действительно не поплывем оправдываться. Однако, — тут она улыбнулась в первый раз за все время, — мы согласны плыть в Киликию, и плыть без промедления, дабы на берегах Кидна доказать наше царственное расположение и наше миролюбие.
Я услыхал ее слова и ушам своим не поверил. Не изменяет ли мне слух? Неужели Клеопатра так легко нарушает свои клятвы? Охваченный безумием, сам не понимая, что я делаю, я громко крикнул:
— О царица, вспомни!
Она повернулась ко мне с быстротой тигрицы, глаза вспыхнули, прелестная головка гневно вскинулась.
— Молчи, раб! — произнесла она. — Кто позволил тебе вмешиваться в нашу беседу? — Твое дело — звезды, война и мир — дело тех, кто правит миром.
Я сжался от стыда и тут увидел, как на лице Хармианы снова мелькнула улыбка торжества, потом на него набежала тень — быть может, ей было жаль меня в моем падении.
— Ты просто уничтожила этого наглого невежду, сказал Деллий, указывая на меня пальцем в сверкающих перстнях. — А теперь позволь мне, о царица Египта, поблагодарить тебя от всего сердца за твои великодушные слова и…
— Нам не нужна твоя благодарность, о благородный Деллий; и не пристало тебе корить нашего слугу, — прервала его Клеопатра, гневно хмурясь, — мы примем благодарность из уст одного лишь Антония. Возвращайся к своему повелителю и передай ему, что, как только он успеет подготовить все, чтобы оказать нам достойный прием, наши суда поплывут вслед за тобой. А теперь прощай! На борту твоего корабля тебя ожидает скромный знак нашей милости.
Деллий трижды поклонился и пошел к выходу, а все придворные встали, ожидая, что скажет царица. Я тоже ждал, надеясь, что, может быть, она все-таки выполнит клятву и назовет меня перед лицом всего Египта своим царственным супругом. Но она молчала. Все так же мрачно хмурясь, она встала и в сопровождении своих стражей прошествовала из тронного зала в Алебастровый. Тогда и придворные стали расходиться, и, проходя мимо меня, все до единого вельможи и советники презрительно кривились. Никто из них не знал моей тайны, никто не догадывался о нашей с Клеопатрой любви и о ее решении стать моей супругой, но все завидовали мне, ибо я был в милости у царицы, и теперь не просто радовались моему падению, но открыто ликовали. Однако что мне было до их радости их презрения, я стоял, окаменев от горя, и чувствовал, что надежда улетела и земля ускользает у меня из-под ног.
Глава XIII, повествующая об обвинениях, которые Гармахис бросил в лицо Клеопатре, о сражении Гармахиса с телохранителями Клеопатры; об ударе, который нанес ему Бренн, и о тайной исповеди Клеопатры
Наконец тронный зал опустел, я тоже хотел подняться к себе, но в эту минуту меня хлопнул по плечу один из евнухов и грубо приказал идти в покои царицы, ибо она желает меня видеть. Час назад этот негодяй пресмыкался бы передо мной во прахе, но он все слышал и сейчас — такова уж подлая натура рабов — готов был топтать меня ногами, как мир всегда топчет павших. Те, кто сорвался с вершины и упал, познают всю горечь позора. И потому горе великим, ибо их на каждом шагу подстерегает падение!
Я с такой яростью глянул на раба, что он отскочил от меня, точно трусливая собака; потом пошел к Алебастровому Залу, и стражи меня пропустили. В центре зала возле фонтана сидела Клеопатра, с ней были Хармиана, гречанки Ирада, Мерира и еще несколько ее придворных дам.
— Ступайте, — сказала она им, — я хочу говорить с моим астрологом.
И все они ушли, оставив нас вдвоем.
— Стой там, — произнесла она, впервые за все время подняв глаза. — Не подходи ко мне, Гармахис: я тебе не доверяю. Может быть, ты припас новый кинжал. По какому праву осмелился ты вмешаться в мою беседу с римлянином? Отвечай!
Кровь моя вскипела, в душе заклокотали горечь и гнев, точно волны во время бури.
— Нет, это ты ответь мне, Клеопатра! — властно потребовал я. — Где твоя торжественная клятва, которой ты поклялась, положив руку на мертвое сердце Менкаура, вечноживущего Осириса? Где твоя клятва, что ты объявишь войну этому римлянину Антонию? Где твоя клятва, что ты назовешь меня своим царственным супругом перед лицом всего Египта?! — Голос мой прервался, я умолк.
— О да, Гармахис, кому, как не тебе, напоминать о клятвах, ведь сам-то ты их никогда не нарушал! — язвительно проговорила она. — И все же, о ты, целомудреннейший из жрецов Исиды; вернейший в мире друг, который никогда не предавал своих друзей; честнейший, достойнейший, благороднейший муж, который никогда не отдавал свое право на трон, свою страну и ее свободу в обмен на мимолетную любовь женщины, — и все же, откуда ты знаешь, что моя клятва — пустой звук?
— Я не буду отвечать на твои упреки, Клеопатра, ответил я, изо всех сил сдерживаясь, — я все их заслужил, хоть и не из твоих уст мне их слышать. Я объясню тебе, откуда я все знаю. Ты собираешься плыть к Антонию; ты прибудешь в своем роскошнейшем одеянии, как советовал тебе этот лукавый римлянин, и станешь пировать с тем, чей труп ты должна бы выбросить стервятникам — пусть они пируют над ним. Может быть, ты даже намереваешься расточить сокровища, которые ты выкрала из мумии Менкаура, — сокровища, которые Египет хранил тысячелетия про черный день, — на буйные пиры, и этим увенчаешь бесславную гибель Египта. Знаю я потому, что ты — клятвопреступница и ловко обманула меня, а я-то, я-то полюбил тебя и свято тебе верил; знаю потому, что еще вчера ты клялась сочетаться со мной браком, а сегодня осыпаешь ядовитыми насмешками и оскорбила перед этим римлянином и перед всем двором!
— Я клялась сочетаться с тобой браком? Боги, что такое брак? Разве это истинный союз сердец, узы, прекрасные, точно летящая паутинка, и столь же невесомые, но соединяющие две души, когда они плывут по полному видений ночному океану страсти, и тающие в каплях утренней росы? Тебе не кажется, что брак скорее напоминает железную цепь, в которую насильно заковали на всю жизнь двоих, и когда тонет один, за ним на дно уходит и другой, точно приговоренный к жесточайшей смерти раб?[22] Брак! И чтобы я в него вступила! Чтобы я пожертвовала свободой, чтобы своей волей надела на себя ярмо тягчайшего рабства, которое влачат женщины, ибо себялюбивые мужчины, пользуясь тем, что они сильнее, заставляют нас делить с ними ставшее ненавистным ложе и выполнять обязанности, давно уже не освященные любовью! Какой же тогда смысл быть царицей, если я не могу избегнуть злой судьбы рожденных в низкой доле? Запомни, Гармахис: больше всего на свете женщина страшится двух зол — смерти и брака, причем смерть для нее даже милее, ибо она дарит нам покой, а брак, если он оказался несчастливым, заживо ввергает нас во все муки, которые нам уготовали чудовища Аменти. Нет, меня не может испачкать клевета черни, которая из зависти порочит те истинно чистые, возвышенные души, которые не выносят принуждения и никогда не станут насильно удерживать привязанность другого и потому, Гармахис, я могу любить, но в брак я не вступлю никогда!
— Но лишь вчера, Клеопатра, ты клялась, что назовешь меня своим супругом и посадишь рядом с собой на трон, что ты объявишь об этом всему Египту!
— Вчера, Гармахис, красная корона вокруг луны предвещала бурю, а нынче день так ясен! Но кто знает: завтра, быть может, налетит гроза, кто знает, может быть, я выбрала лучший и самый легкий путь спасти Египет от римлян. Кто знает, Гармахис, может быть, ты еще назовешь меня своей супругой.
Больше я не мог вынести ее лжи, ведь я видел, что она играет мной. И я выплеснул в лицо ей все, что терзало мне сердце.
— Клеопатра, ты поклялась защищать Египет — и готовишься предать его Риму! Ты поклялась использовать сокровища, тайну которых я тебе открыл, только во благо Египта, — и что же? Ты готовишься с их помощью ввергнуть Египет в бесславие и навеки заковать в кандалы! Ты поклялась сочетаться со мной браком, ведь я люблю тебя и пожертвовал тебе всем, — и что же? Ты глумишься надо мной и отвергаешь меня! И потому слушай меня — не меня, а грозных богов, которые вещают моими устами: проклятие Менкаура падет на тебя, ибо ты поистине ограбила его священный прах и надругалась над ним! А теперь отпусти меня, о воплощение порока в пленительнейшей оболочке, отпусти меня, царица лжи, которую я полюбил на свою погибель и которая навлекла на меня последнее проклятье судьбы! Позволь мне где-нибудь укрыться и никогда больше не видеть твоего лица!
Она в гневе поднялась, и гнев ее был ужасен.
— Отпустить тебя, чтобы ты на свободе стал замышлять зло против меня? Нет, Гармахис, я больше не позволю тебе плести заговоры и покушаться на мой трон! Я повелеваю, чтобы ты тоже сопровождал меня, когда я поплыву к Антонию в Киликию, и там, быть может, я отпущу тебя! — И не успел я произнести в ответ хоть слово, как она ударила в серебряный гонг, что висел возле нее.
Глубокий мелодичный звон еще не замер, а в зал уже входили в одну дверь Хармиана и придворные дамы Клеопатры, в другую — четыре телохранителя царицы, могучие воины в оперенных шлемах и с длинными белокурыми волосами.
— Взять этого изменника! — крикнула Клеопатра, указывая на меня. Начальник стражи — то был Бренн — вскинул руку в салюте и двинулся ко мне с обнаженным мечом.
Но в моем отчаянии я больше не дорожил жизнью — пусть они меня зарубят, я словно обезумел и, бросившись на Бренна, нанес ему такой тяжелый удар кулаком под подбородок, что великан упал навзничь, только латы загремели на мраморном полу. Едва лишь он упал, я выхватил у него меч и круглый щит и во всеоружии встретил следующего солдата, который с воплем кинулся на меня, подставил его удару щит и сам занес над ним свой меч. Я вложил в удар всю свою силу и вонзил меч в самое основание шеи, перерубив металл доспехов: колени телохранителя согнулись, он медленно упал мертвый. Третьего, когда настал его черед, я поймал на кончик моего меча прежде, чем он успел опустить свой, пронзил его сердце, и он мгновенно умер. Потом последний устремился ко мне с криком: «Таранис!», и я рванулся ему навстречу, ибо кровь моя воспламенилась. Женщины пронзительно кричали, только Клеопатра стояла и молча наблюдала неравный бой. Вот мы сошлись, и я всей своей яростью обрушился на него — да, то был поистине могучий удар, ибо меч рассек железный щит и сам сломался, теперь я был безоружен. С торжествующим криком телохранитель высоко занес свой меч и опустил на мою голову, но я успел подставить щит. Он снова опустил меч, и снова я отбил удар, но когда он замахнулся в третий раз, я понял, что бесконечно это продолжаться не может, и с криком ткнул мой щит ему в лицо. Скользнув по его щиту, мой щит ударил солдата в грудь, и от зашатался. Он не успел обрести равновесие, я обманул его бдительность и обхватил за пояс.
Наверно, целую минуту я и высоченный страж отчаянно боролись, но я был так силен в те дни, что наконец поднял его, как игрушку, и швырнул на мраморный пол, у него не осталось ни одной целой кости, и он навек умолк. Но я и сам не удержался на ногах и рухнул на него, и, когда я упал, начальник стражи Бренн, которого я еще раньше сбил кулаком наземь и который тем временем очнулся, подкрался ко мне сзади и, подняв меч одного из тех солдат, которых я убил, полоснул меня по голове и по плечам. Но я лежал на пату, и пока меч летел такое большое расстояние, удар потерял часть своей силы, к тому же мои густые волосы и вышитая шапочка смягчили его; и потому Бренн тяжело меня ранил, но не убил. Однако сражаться я больше не мог.
Трусливые евнухи, которые сбежались, заслышав звуки боя, и наблюдали за нами, сбившись в кучу, точно стадо баранов, сейчас увидели, что я лишился сил, бросились на меня и хотели заколоть ножами. Но Бренн, теперь, когда я был повержен, не стал меня добивать, он просто стоял надо мной и ждал. А евнухи, без всякого сомнения, растерзали бы меня, потому что Клеопатра глядела на всех нас точно во сне и никого не останавливала. Вот они уже откинули мне голову назад, вот уже острия их ножей у моего горла, но тут ко мне бросилась Хармиана, растолкала их, крича: «Собаки, трусы!», и закрыла меня своим телом, так что они не могли теперь меня убить. Тогда Бренн, бормоча ругательства, схватил одного евнуха, другого, третьего и всех их отшвырнул от меня.
— Даруй ему жизнь, царица! — обратился он к Клеопатре на своей варварской латыни. — Клянусь Юпитером, вот доблестный боец! Я сам свалился от его удара, как бык на бойне, а трое моих людей лежат мертвехоньки, и ведь он был без оружия и не ожидал нападения! Нет, на такого бойца нельзя держать зла! Прояви милость, царица, даруй ему жизнь и отдай его мне.
— Да, пощади его! Даруй ему жизнь! — воскликнула Хармиана, бледная, дрожа с головы до ног.
Клеопатра приблизилась к нам и поглядела на двух мертвых телохранителей и одного умирающего, которого я разбил о мраморный пол, поглядела на меня, своего любовника, которому она всего два дня назад давала клятвы верности, а сейчас я лежал в крови, и моя раненая голова покоилась на белом одеянии Хармианы.
Я встретился глазами с царицей.
— Мне не нужна жизнь! — с усилием прошептал я. — Vae victis!
Ее лицо залилось краской — надеюсь, это была краска стыда.
— Стало быть, Хармиана, ты в глубине души все-таки его любишь, — сказала она с легким смешком, — иначе не закрыла бы его своим хрупким телом и не защитила от ножей этих бесполых псов. — И она бросила презрительный взгляд на евнухов.
— Нет! — пылко воскликнула девушка. — Я не люблю его, но мне невыносимо видеть, когда такого отважного бойца предательски убивают трусы.
— О да, он храбр, — проговорила Клеопатра, — и доблестно сражался; я даже в Риме, во время гладиаторских боев, не видела такой отчаянной схватки! Что ж, я дарую ему жизнь, хоть это и слабость с моей стороны — женская слабость. Отнесите звездочета в его комнату и охраняйте там, пока он не поправится — или пока не умрет.
Голова у меня закружилась, волной накатили дурнота и слабость, я стал проваливаться в пустоту, в ничто…
Сны, сны, сны, нескончаемые и бесконечно меняющиеся, казалось, они год за годом носят меня по океану муки. И сквозь эти сны мелькает видение нежного женского лица с темными глазами, прикосновение белой руки так отрадно, оно утишает боль. Я так же вижу иногда царственный лик, он склоняется над моим качающимся на бурных волнах ложем, — от меня все время ускользает, чей этой лик, но его красота вливается в мою бешено пульсирующую кровь, я знаю — она часть меня… мелькают картины детства, я вижу башни храма в Абидосе, вижу седого Аменемхета, моего отца… и вечно, вечно я вижу или ощущаю величественный зал в Аменти, маленький алтарь и вокруг, у стен, божества, облаченные в пламя! Там я неотступно брожу, призываю мою небесную матерь Исиду, но вспомнить ее образ не могу; зову ее — и все напрасно! Не опускается облачко на алтарь, только время от времени глас божества грозно вещает: «Вычеркните имя сына Земли Гармахиса из живой книги Той, что вечно была, есть и будет! Он погиб! Он погиб! Он погиб!»
Но другой голос ему отвечает: «Нет, нет, подождите! Он искупит содеянное зло, не вычеркивайте имя сына Земли Гармахиса из живой книги Той, что вечно была, есть и будет! Страдания искупят преступление!»
Я очнулся и увидел, что лежу в своей комнате, в башне дворца. Я был так слаб, что едва мог поднять руку, и жизнь едва трепетала в моей груди, как трепещет умирающая птица. Я не мог повернуть голову, не мог пошевелиться, но в душе было ощущение покоя, словно бы какая-то черная беда миновала. Огонь светильника резал глаза, я закрыл их и, закрывая, услышал шелест женских одежд на лестнице, услышал быстрые легкие шаги, которые так хорошо знал. То были шаги Клеопатры!
Она вошла в комнату и стала медленно приближаться ко мне. Я чувствовал, как она подходит! Мое еле теплящееся сердце отвечало ударом на каждый ее шаг, из тьмы подобного смерти сна поднялась великая любовь к ней и вместе с любовью — ненависть, они схватились в поединке, терзая мою душу. Она склонилась надо мной, над моим лицом веяло ее ароматное дыхание, я даже слышал, как бьется ее сердце! Вот она нагнулась еще ниже, и ее губы нежно коснулись моего лба.
— Бедняжка, — тихо проговорила она. — Бедняжка, ты совсем ослаб, ты умираешь! Судьба жестоко обошлась с тобой. Ты был слишком хорош, и вот оказался добычей такой хищницы, как я, заложником в той политической игре, которую я веду. Ах, Гармахис, условия этой игры должен был бы диктовать ты! Эти заговорщики-жрецы сделали из тебя ученого, но не вооружили знаниями о человеке, не защитили от непобедимого напора законов Природы. И ты всем сердцем полюбил меня — ах, мне ли это не знать! Ты, столь мужественный, полюбил глаза, которые, точно огни разбойничьего судна, манили и манили твою барку, пока она не разбилась о скалы; ты с такой страстью целовал уста, так свято верил каждому слову, что с них слетало, а эти уста тебе лгали, даже назвали тебя рабом! Что ж, игра была на равных, ибо ты хотел убить меня; и все же мое сердце скорбит. Стало быть, ты умираешь? — Прощай, прощай же! Никогда больше мы не встретимся с тобою на земле, и, может быть, так даже лучше, ибо кто знает, как бы я поступила с тобой, если бы ты остался жив, а мимолетная нежность, что ты вызвал во мне, прошла. Да, ты умираешь, так говорят эти ученые длиннобородые глупцы, — они мне дорого заплатят, если позволят тебе умереть. И где мы встретимся потом, когда я в последний раз брошу в этой игре свой шарик? Там, в царстве Осириса, мы будем с тобою равны. Пройдет немного времени, и мы встретимся, — через несколько лет или дней, быть может, даже завтра; и не отвернешься ли ты от меня теперь, когда знаешь обо мне все? Нет, ты и там будешь любить меня так же сильно, как любил здесь! Ибо любовь, подобная твоей, бессмертна, ее не могут убить обиды. Любовь, которая наполняет благородное сердце, может убить только презрение, оно разъест ее, как кислота, и обнаружит истинную суть любимого существа во всей ее жалкой наготе. Ты должен по-прежнему боготворить меня, Гармахис, ибо при всех пороках у меня великая душа, и я не заслужила твоего презрения. О, если бы я могла любить тебя той же любовью, какой ты любишь меня! Я и почти любила, когда ты убивал моих телохранителей, — почти, но чего-то этой любви недоставало…
Какая неприступная твердыня — мое сердце, оно никому не сдается, даже когда я распахиваю ворота, ни один мужчина не может его покорить! О, как мне постыло мое одиночество, как чудесно было бы раствориться в близкой душе! На год, на месяц, хоть на час забыть и ни разу не вспомнить о политике, о людях, о роскоши моего дворца и быть всего лишь любящей женщиной! Прощай, Гармахис! Иди к великому Юлию, которого ты совсем недавно вызвал своим искусством из царства мертвых и явил передо мной, и передай ему приветствия от его царственной египтянки. Что делать, я обманула тебя, Гармахис, я обманывала и Цезаря, — быть может, Судьба еще при жизни рассчитается со мной и обманутой окажусь я. Прощай, Гармахис, прощай!
Она пошла к двери, и в это время я услышал шелест еще одного платья, свет упал на ножку другой женщины.
— А, это ты, Хармиана. Как ни выхаживаешь ты его, он умирает.
— Да, — ответил голос Хармианы, бесцветный от горя. — Да, о царица, так говорят врачи. Сорок часов он пролежал в таком глубоком забытьи, что временами это перышко почти не шевелилось возле его губ, и ухо мое не слышало, бьется ли его сердце, когда я прижимала голову к его груди. Вот уже десять нескончаемых дней я ухаживаю за ним, не спуская с него глаз ни днем, ни ночью, я ни на миг не заснула, и глаза мои режет, точно в них насыпали песок, мне кажется, я сейчас упаду от усталости. И вот награда за мои труды! Все погубил предательский удар этого негодяя Бренна — Гармахис умирает!
— Любовь не считает свои труды, Хармиана, и не взвешивает заботу на весах торговца. Она радостно отдает все, что у нее есть, отдает бесконечно, пока душа не опустошится, и ей все кажется, что она отдала мало. Твоему сердцу дороги эти бессонные ночи у ложа больного; твоим измученным глазам отрадно это печальное зрелище — геркулес сейчас беспомощен и нуждается в тебе, слабой женщине, как дитя в матери. Не отрекайся, Хармиана: ты любишь этого мужчину, не отвечающего на твою любовь, и теперь, когда он в твоей власти, когда в его душе воцарилась отрешенная от жизни тьма, ты изливаешь на него свою нежность и тешишь себя мечтами, что он поправится и вы еще будете счастливы.
— Я не люблю его, царица, и доказала это тебе! Как я могу любить человека, который хотел убить тебя — тебя, мою царицу, которая мне дороже сестры! Я ухаживаю за ним из жалости.
Клеопатра негромко рассмеялась.
— Жалость — та же любовь, Хармиана. Неисповедимы пути женской любви, а твоя любовь совершила нечто поистине непостижимое, мне это ведомо. Но чем сильней любовь, тем глубже пропасть, в которую она может пасть, чтобы потом опять вознестись в небеса и снова низвергнуться. Бедная Хармиана! Ты — игрушка своей собственной страсти: сейчас ты нежна, как небо на рассвете, но когда ревность терзает твое сердце, становишься жестокой, как море. Так уж мы, женщины, устроены. Скоро, скоро, когда твое горестное бдение кончится, тебе не останется ничего, кроме слез, раскаяния — и воспоминаний.
И она ушла.
Глава XIV, повествующая о нежной заботе Хармианы; о выздоровлении Гармахиса; об отплытии Клеопатры со свитой в Киликию и о словах Бренна, сказанных Гармахису
Клеопатра ушла, и я долго лежал молча, собираясь с силами, чтобы заговорить. Но вот ко мне приблизилась Хармиана, склонилась надо мной, и из ее темных глаз на мою щеку упала тяжелая слеза, как из грозовой тучи падает первая крупная капля дождя.
— Ты уходишь от меня, — прошептала она, — ты умираешь, а я не могу за тобой последовать! О Гармахис, с какою радостью я умерла бы, чтобы ты жил!
И тут я наконец открыл глаза и слабым, но ясным голосом произнес:
— Не надо так горевать, мой дорогой друг, я еще жив. И скажу тебе правду: мне кажется, что я как бы родился заново.
Она вскрикнула от радости, ее залитое слезами лицо засияло и сделалось несказанно прекрасным. Мне вспомнилось серое небо в тот печальный час, что отделяет ночь от утра, и первые лучи зари, окрашивающие его румянцем. Прелестное лицо девушки порозовело, потухшие глаза замерцали, точно звезды, сквозь слезы пробилась улыбка счастья, — так вдруг начинают серебриться легкие волны, когда море целуют лучи восходящей луны.
— Ты будешь жить! — воскликнула она и бросилась на колени перед моим ложем. — Ты жив, а я-то так боялась, что ты умрешь! Ты возвратился ко мне! Ах, что я болтаю! Какое глупое у нас, у женщин, сердце! Это все от долгих ночей у твоего ложа. Нет, нет, тебе нельзя говорить, Гармахис, ты должен сейчас спать, тебе нужен покой! Больше ни одного слова, я запрещаю! Где питье, которое оставил этот длиннобородый невежда? Нет, не надо никакого питья! Засни, Гармахис, засни! — Она присела на полу у моего ложа и опустила на мой лоб свою прохладную ладонь, шепча: — Спи, спи…
Когда я пробудился, она по-прежнему была рядом со мной, но в окно сочился рассвет. Она сидела, подогнув под себя колени, ее ладонь лежала на моем лбу, головка с рассыпавшимися локонами покоилась на вытянутой руке.
— Хармиана, — шепотом позвал я ее, — стало быть, я спал!
Она в тот же миг проснулась и с нежностью взглянула на меня.
— Да, Гармахис, ты спал.
— Сколько же я проспал?
— Девять часов.
— И все эти долгие девять часов ты провела здесь, возле меня?
— Да, но это пустяки, я ведь тоже спала — боялась разбудить тебя, если пошевелюсь.
— Иди к себе, отдохни, — попросил я. — Ты так измучилась со мной, мне стыдно. Тебе нужен отдых, Хармиана!
— Не беспокойся обо мне, — ответила она, — я велю сейчас рабыне быть неотлучно при тебе и разбудить меня, если тебе что-то понадобиться; я лягу спать здесь же, в соседней комнате. А ты отдыхай. — Она хотела подняться, но тело ее так затекло в неудобной позе, что она тут же упала на пол.
Не могу описать, каким горьким стыдом наполнилось мое сердце, когда я это увидел. Увы, я в моей великой слабости не мог поднять ее!
— Ничего, пустяки, — сказала она, — лежи и не шевелись, у меня просто нога подвернулась. Ой! — Она поднялась и снова упала. — До чего же я неловкая! Это я со сна. Ну вот, все прошло. Сейчас пришлю рабыню. — И она пошла из комнаты, пошатываясь, точно пьяная.
Я тут же снова заснул, ибо совсем обессилел. Проснулся уже в полдень и почувствовал неутолимый голод. Хармиана принесла мне еду.
Я тут же все съел.
— Стало быть, я не умер, — сказал я.
— Нет, — и она вскинула головку, — ты будешь жить. Сказать правду, зря, я расточала на тебя свою жалость.
— Твоя жалость спасла мне жизнь, — с горечью сказал я, ибо теперь все вспомнил.
— О нет, пустяки, — небрежно бросила она. — В конце концов, ведь ты — мой двоюродный брат, к тому же я люблю ухаживать за больными, это истинно женское занятие. Я точно так же стала бы выхаживать любого раба. А теперь, когда опасность миновала, я уйду.
— Лучше бы ты позволила мне умереть, Хармиана, — проговорил я после долгого молчания, — ибо в жизни меня теперь не ждет ничего, кроме нескончаемого позора… Скажи мне, когда Клеопатра собирается плыть в Киликию?
— Она отплывает через двадцать дней и готовится поразить Антония таким блеском и такой роскошью, каких Египет никогда еще не видел. Признаюсь честно: я не представляю, где она взяла средства для всего этого великолепия, разве что по всему Египту на полях крестьян пшеница дала зерна из чистого золота.
Но я-то знал, откуда взялись богатства, и ничего ей не ответил, только застонал от муки. Потом спросил:
— Ты тоже плывешь с ней, Хармиана?
— Конечно, как и весь двор. И ты… и ты тоже поплывешь.
— Я? А я-то ей зачем?
— Ты — раб Клеопатры и должен идти за ее колесницей в золоченых цепях; к тому же она боится оставить тебя здесь, в Кемете; но главное — она так пожелала, а ее желание — закон.
— Хармиана, а нельзя мне бежать?
— Бежать? Бедняга, да ты едва жив! Нет, о побеге и речи быть не может. Тебя и умирающего стерег целый отряд стражей. Но если бы ты даже убежал, где тебе спрятаться? Любой честный египтянин с презреньем плюнет тебе в лицо!
Я снова застонал про себя и почувствовал, как по моим щекам скатились слезы, вот до чего ослаб мой дух.
— Не плачь! — быстро заговорила она, отворачивая от меня свое лицо. — Ведь ты мужчина, ты должен с твердостью перенести это несчастье. Ты сам посеял семена — настало время жатвы; но после того, как урожай собран, разливается Нил, смывает высохшие корни и уносит их, а потом снова наступает сезон сева. Может быть, там, в Киликии, когда ты обретешь прежние силы, мы найдем для тебя способ бежать, — если, конечно, ты способен жить вдали от Клеопатры, не видя ее улыбки; и где-нибудь в далекой стране ты проведешь несколько лет, пока эти горестные события не забудутся. А теперь я выполнила свой долг, и потому прощай! Я буду навещать тебя и следить за тем, чтобы ты ни в чем не нуждался.
Она ушла, оставив меня на попечении врача и двух рабынь, которые со всем тщанием меня выхаживали; рана моя заживала, силы возвращались — сначала медленно, потом все быстрей и быстрей. Через четыре дня я встал на ноги, а еще через три уже мог по часу гулять в дворцовых садах; прошла еще неделя, и я начал читать и размышлять, хотя при дворе не появлялся. И вот однажды вечером пришла Хармиана и велела готовиться к путешествию, ибо через два дня суда царицы отплывают, их путь лежит вдоль берегов Сирии в пролив Исс и дальше в Киликию.
Я написал Клеопатре письмо, в котором со всей почтительностью просил позволить мне остаться дома, ссылаясь на то, что еще не оправился от болезни и вряд ли вынесу такое путешествие. Но мне передали на словах, что я должен сопровождать царицу.
И вот в назначенный день меня перенесли на носилках в лодку, и вместе с тем самым воином, который ранил меня, — начальником стражи Бренном, — и несколькими его солдатами (их нарочно послали охранять меня) мы подплыли к судну, которое стояло на якоре среди множества других кораблей, ибо Клеопатра снарядила огромный флот, как будто отправлялась воевать, и все суда были пышно убраны, но самой великолепной и дорогой была ее галера, построенная в виде дома из кедрового дерева и сплошь увешанная шелковыми занавесями и драпировками, такой роскошной мир еще никогда не видел. Но мне предстояло плыть не на этой галере, и потому я не видел ни Клеопатры, ни Хармианы, пока мы не сошли на берег у устья реки Кидн.
Вот отдана команда, и флот отплыл; ветер дул попутный, и к вечеру второго дня показалась Яффа. Ветер переменился на встречный, от Яффы мы поплыли вдоль берегов Сирии мимо Цезарии, Птолемаиды, Тира, Берита, мимо белых скал Ливана, увенчанных по гребню могучими кедрами, мимо Гераклеи и, пересекши залив Исс, приблизились к устью Кидна. И с каждым днем нашего путешествия крепкий морской ветер вливал в меня все больше сил, и я наконец почувствовал себя почти таким же легким и здоровым, каким был прежде, только на голове остался шрам от меча. Однажды ночью, когда мы уже подплывали к Кидну, мы сидели с Бренном вдвоем на палубе, и его взгляд упал на шрам от раны, нанесенной его мечом. Он разразился проклятьями, поминая всех своих языческих богов. — Если бы ты умер, — признался он, — я бы, наверное, никогда больше не мог глядеть людям в глаза. Какой предательский удар и как же мне стыдно, что это я его нанес. Эх! А ты-то, ты-то лежал на полу, лицом вниз! Знаешь, когда ты там умирал у себя в башне, я каждый день приходил справляться, как ты. Клянусь Таранисом, если бы ты умер, я бросил бы эту легкую жизнь в царицыном дворце и отправился к себе, на милый сердцу север.
— Напрасно ты коришь себя, Бренн, — ответил я; ты же выполнял свой долг.
— Долг-то долг, но не всякий долг честный человек станет выполнять, пусть даже ему приказывают все царицы Египта вместе взятые! Ты из меня всякое соображение вышиб, когда сбил наземь, иначе я бы не рубанул тебя мечом. А что случилось, Гармахис? У тебя беда, ты прогневил царицу? Почему тебя везут под стражей на эту увеселительную прогулку? Тебе известно, что нам приказано не спускать с тебя глаз, ибо если ты убежишь, мы заплатим за это жизнью?
— Да, друг, у меня великая беда, — ответил я, — но прошу тебя, не расспрашивай о ней.
— Ну что ж, ты молод, и клянусь, что в этой беде повинна женщина, и хоть я неотесан и не блещу умом, но, кажется мне, догадался, кто она. Слушай, Гармахис, что я тебе скажу. Мне надоело служить Клеопатре, надоела эта страна с ее жарой, с ее пустынями и с ее роскошью, она отнимает у человека все силы и выворачивает наизнанку карман; такая жизнь многим из нас опостылела. Давай похитим одну из этих неповоротливых посудин и уплывем на север, что ты скажешь? Я приведу тебя в прекрасный край, его не сравнить с Египтом — это страна озер и гор, страна бескрайних лесов, где растут благоухающие сосны; и там есть девушка тебе под стать — высокая и сильная, с большими голубыми глазами и длинными белокурыми волосами, когда она сожмет тебя в объятиях, у тебя хрустнут ребра; эта девушка — моя племянница. Пойдем со мной, согласен? Забудь прошлое, уедем на милый сердцу север, ты будешь мне за сына.
Я подумал немного, потом горестно покачал головой: мне страстно хотелось уйти с ним, и все же я знал, что судьба навек связала мою жизнь с Египтом и что мне не должно бежать от моей судьбы.
— Нет, Бренн, это невозможно, — отвечал я. — Чего бы я только не отдал, чтобы уйти с тобой, но я скован цепями Рока, которых мне не разорвать, мне суждено жить и умереть в Египте.
— Я не неволю тебя, Гармахис, — вздохнул старый солдат. — Но с какой бы радостью я выдал за тебя мою племянницу, принял бы в свою семью, любил, как сына… Но помни хотя бы, что, пока Бренн здесь, у тебя есть друг. И еще одно: опасайся своей прекрасной царицы, ибо, клянусь Таранисом, может настать час, когда она решит, что ты знаешь слишком много, и тогда… — Он провел рукой по своему горлу. — А сейчас покойной ночи. Выпьем кубок вина и спать, ибо завтра начнется это дурацкое представление, и тогда…
(Здесь довольно большой кусок второго папируса так сильно поврежден,
что расшифровать его оказалось невозможно.
Судя по всему, в нем описывается
путешествие Клеопатры вверх по Кидну к Тарсу.)
…И глазам тех (повествование продолжается), кто находит удовольствие в такого рода зрелищах, представилась поистине восхитительная картина. Борта нашей галеры были обшиты листами золота, паруса выкрашены финикийским пурпуром, серебряные весла погружались в воду, и ее журчанье было подобно музыке. В середине палубы, под навесом из ткани, расшитой золотом, возлежала Клеопатра в одеянии римской богини Венеры, — и, без сомнения, она затмила бы Венеру красотой! — в прозрачном хитоне из белейшего шелка, подхваченном под грудью золотым поясом с искусно вытисненными на нем любовными сценами. Вокруг нее резвились прелестные пухленькие мальчики лет четырех-пяти, вовсе без одежды, если не считать привязанных за плечами крылышек, лука и колчана со стрелами, они овевали ее опахалами из страусовых перьев. На палубах галеры стояли не грубые бородатые моряки, а красивейшие девушки в одеждах Граций и Нереид — то есть почти нагие, только в благоухающих волосах были цветы и украшения, — и с тихим пением, под аккомпанемент арф и удары по журчащей воде серебряных весел, тянули канаты, свитые из тонких, как паутина, шелковых нитей. Позади ложа стоял с обнаженным мечом Бренн, в великолепных латах и в золотом шлеме с крыльями; возле него толпа придворных в роскошных одеяниях, и среди них я — раб, и все знали, что я раб! На корме стояли курильницы, наполненные самым дорогим фимиамом, от них за нашим судном вился ароматный дым.
Словно в сказочном сне плыли мы, сопровождаемые множеством судов, к лесистым горам Тавра, у подножия которых находится город, именовавшийся в древности Таршишем. Мы приближались к нему, а на берегах волновались толпы, люди бежали впереди нас, крича: «Морские волны примчали Венеру! Венера приплыла в гости к Вакху!» Вот наконец и сам город, все его жители, кто только мог ходить и кого можно было принести, высыпали на пристань, толпа собралась многотысячная, да к тому же тут было чуть не все войско Антония, так что триумвир в конце концов остался на помосте один.
Явился льстивый Деллий, и, кланяясь чуть ли не до земли, передал приветствия Антония «богине красоты», и от его имени пригласил на пир, который его повелитель приготовили в честь гостьи. Но Клеопатра гордо отказалась: «Поистине, сегодня Антоний должен угождать нам, а не мы ему. Передай благородному Антонию, что мы сегодня вечером ждем его к нам на скромную трапезу — иначе нам придется ужинать в одиночестве».
Деллий ушел, чуть не распластавшись в поклоне; все уже было приготовлено для пира, и тут я в первый раз увидел Антония. Он приближался к нам в пурпурном плаще, высокий красивый мужчина в расцвете лет и сил, кудрявый, с яркими голубыми глазами и благородными точеными чертами, как на греческой камее. Могучего сложения, с царственной осанкой и открытым выражением лица, на котором отражались все его мысли, так что каждый мог их прочесть; и только рот выдавал слабость, которая как бы перечеркивала властную силу лба. Он шел со свитой военачальников и, подойдя к ложу Клеопатры, остановился пораженный и уставился на нее широко раскрытыми глазами. Она тоже не отрываясь смотрела на него; я видел, как порозовела ее кожа, и сердце мое пронзила острая боль ревности. От Хармианы, которая видела все из-под своих опущенных ресниц, не, укрылась и моя мука, — она улыбнулась. А Клеопатра молчала, она лишь протянула Антонию свою белую ручку для поцелуя; и он, не произнося ни слова, склонился к руке и поцеловал ее.
— Приветствую тебя, благородный Антоний! — проговорила она своим дивным мелодичным голосом. — Ты звал меня, и вот я приплыла.
— Да, приплыла Венера, — услышал я его глубокий звучный бас. — Я звал смертную женщину — и вот из пены волн поднялась богиня!
— А на суше ее встретил прекрасный бог, — смеясь, подхватила она игру. — Но довольно любезностей и лести, ибо на суше Венера проголодалась. Подай мне руку, благородный Антоний.
Затрубили фанфары, толпа, кланяясь, расступилась, и рука об руку с Антонием Клеопатра прошествовала в сопровождении своей свиты к пиршественному столу.
(Здесь в папирусе снова пропуск).
Глава XV, повествующая о пире Клеопатры; о том, как она растворила в кубке жемчужину и выпила; об угрозе Гармахиса и о любовной клятве Клеопатры
Вечером третьего дня в зале дома, который был отведен Клеопатре, снова был устроен пир, и своим великолепием этот пир затмил два предыдущих. Двенадцать лож, которые стояли вокруг стола, были украшены золотыми рельефами, а ложе Клеопатры и ложе Антония были целиком из золота и сверкали в узорах драгоценных камней. Посуда была тоже золотая с драгоценными камнями, стены зала увешаны пурпурными тканями, расшитыми золотом, пол, покрытый золотой сеткой, усыпан таким толстым слоем едва распустившихся роз, что нога тонула в них по щиколотку, и когда прислуживающие рабы ступали по ним, от пола поднимался одуряющий аромат. Мне опять было приказано стоять у ложа Клеопатры вместе с Хармианой, Ирадой и Мерирой и, как того требуют обязанности раба, объявлять каждый час пролетевшего времени. Выказать неповиновение я не мог, меня охватило бешенство, но я поклялся, что играю эту роль в последний раз, больше я себя такому позору не подвергну. Правда, я еще не верил Хармиане, которая убеждала меня, что Клеопатра вот-вот станет любовницей Антония, но это надругательство надо мной и эта изощренная пытка были невыносимы. Теперь Клеопатра больше не разговаривала со мной, только иногда бросала приказания, как царица приказывает рабу, и, мне кажется, ее жестокому сердцу доставляло удовольствие мучить меня.
И вот веселый пир в разгаре, гости смеются, поднимают кубки с вином, а я, фараон, коронованный владыка страны Кемет, стою среди евнухов и приближенных девушек у ложа царицы Египта. Глаза Антония не отрываются от лица Клеопатры, она тоже порой погружает в его глаза свой взгляд, и тогда беседа их замирает… Он рассказывает ей о войнах, о сражениях, в которых бился, отпускает соленые шуточки, не предназначенные для женских ушей. Но ее все это ничуть не смущает она, заразившись его настроением, рассказывает анекдоты более изысканные, но ничуть не менее бесстыдные.
Наконец роскошная трапеза закончилась, и Антоний оглядел окружающее его великолепие.
— Скажи мне, о прелестнейшая царица Египта, — спросил он, — что, пески в пустынях, среди которых течет Нил, все из чистого золота и потому ты можешь ночь за ночью устраивать пиры, швыряя за каждый баснословные суммы, на которые можно купить целое царство? Откуда эти несметные богатства?
Я мысленно увидел усыпальницу божественного Менкаура, священное сокровище которого она столь непристойно расточала, и поглядел на Клеопатру так, что она повернула ко мне голову и встретилась со мной глазами; прочтя мои мысли, она гневно нахмурилась.
— Ах, благородный Антоний, что тебя так поразило? У нас в Египте есть свои тайны, и мы умеем, когда нам надо, создавать богатства с помощью заклинаний. Как ты думаешь, какова цена золотых приборов, а также яств и вин, которыми я вас угощаю?
Он оглядел пиршественный стол и наугад предположил:
— Тысяча систерций?
— Увеличь цифру в два раза, благородный Антоний! Но все равно: я в знак дружбы дарю то, что ты видишь, тебе и твоим друзьям. А сейчас я удивлю тебя еще больше: я выпью в одном-единственном глотке десять тысяч систерций.
— Это немыслимо, прекрасная царица!
Она засмеялась и велела рабу принести в прозрачном стеклянном кубке немного уксуса. Уксус принесли и поставили перед ней, и она снова засмеялась, а Антоний, поднявшись со своего ложа, подошел к ней и встал рядом; все гости смолкли и устремили на нее глаза — что-то она задумала? А она — она вынула из уха одну из тех огромных жемчужин, которые извлекла из мертвой груди божественного фараона, когда в последний раз запускала туда руку, и, не успел никто догадаться о ее намерениях, как она опустила жемчужину в уксус. Наступило молчание, потрясенные гости, замерев, наблюдали, как несравненная жемчужина медленно растворяется в крепком уксусе. Вот от нее не осталось следа, и тогда Клеопатра подняла кубок, покрутила его, взбалтывая уксус, и выпила весь до последней капли.
— Еще уксусу, раб! — воскликнула она. — Моя трапеза не кончена! — И она вынула жемчужину из другого уха.
— Нет, клянусь Вакхом! Этого я не позволю! — вскричал Антоний и схватил ее за руки. — Того, что я видел, довольно.
И в эту минуту я, повинуясь неведомой мне силе, громко произнес:
— Еще один час твоей жизни пролетел, о царица, — еще на один час приблизилось свершение мести Менкаура!
По лицу Клеопатры разлилась пепельная бледность, она в бешенстве повернулась ко мне, все остальные в изумлении глядели на нас, не понимая, что означают мои слова.
— Как ты посмел пророчить мне несчастье, жалкий раб! — крикнула она. — Произнеси такое еще раз — и тебя накажут палками! Да, палками, клянусь тебе, Гармахис, — как злого колдуна, который накликает беду!
— Что хотел сказать этот астролог? — спросил Антоний. — А ну, отвечай, негодяй. И объясни все ясно, без утайки, ибо проклятьями не шутят.
— Я служу богам, благородный Антоний, и слова, которые я произношу, вкладывают в мои уста они, а смысла их я не могу прочесть, — смиренно ответил я.
— Ах, вот как, ты, стало быть, служишь богам, о многоцветный волшебник! — Это он так отозвался о моем роскошном одеянии. — А я служу богиням, они не так суровы. Но у нас с тобой много общего: я тоже произношу слова, повинуясь их воле, и тоже не понимаю, что они значат. — И он вопросительно посмотрел на Клеопатру.
— Оставь этого негодяя, — с досадой проговорила она. — Завтра мы от него избавимся. Ступай прочь, презренный.
Я поклонился и пошел из зала, и пока я шел, я слышал, как Антоний говорит:
— Что ж, может быть, он и негодяй — ведь все мужчины негодяи, — но мне твой астролог нравится: у него вид и манеры царя, к тому же он умен.
За дверью я остановился, не зная, что делать, в моем горе я растерялся. Но тут кто-то тронул меня за руку. Я подняла глаза — возле меня стояла Хармиана, она выскользнула из зала, воспользовавшись тем, что пирующие поднимаются из-за стола, и догнала меня.
В беде Хармиана всегда спасала меня.
— Идем со мной, — шепнула она, — тебе грозит опасность.
Я послушно пошел за ней. Что мне еще оставалось?
— Куда мы идем? — спросил я наконец.
— В мою комнату, — ответила она. — Не бойся; нам, придворным дамам Клеопатры, нечего терять: если нас кто-то увидит, то решит, что мы любовники и у нас свидание, и ничуть не удивится — такие уж у нас нравы.
Мы далеко обошли толпу и, никем не замеченные, оказались возле маленькой боковой двери, за которой начиналась лестница, и мы по ней поднялись. Наверху был коридор, мы двинулись по коридору и нашли с левой стороны дверь. Хармиана молча вошла в темную комнату, я за ней. Потом она заперла дверь на задвижку и, раздув тлеющий уголек, зажгла висячий светильник. Огонь разгорелся, и я стал осматривать комнату. Комната была небольшая, всего с одним окном, причем оно было тщательно занавешено. Стены выкрашены белой краской, убранство самое простое: несколько ларей для платьев; древнее кресло; что-то вроде туалетного столика, ибо на нем стояли флаконы с духами, лежали гребни и разные вещицы, которыми любят украшать себя женщины; белое ложе с накинутым на него вышитым покрывалом и с прозрачным пологом от комаров.
— Садись, Гармахис, — сказала Хармиана, указывая на кресло, а сама, откинув прозрачный полог, села напротив меня на ложе.
Мы оба молчали.
— Ты знаешь, что сказала Клеопатра, когда ты вышел из пиршественного зала? — наконец спросила она меня.
— Нет, откуда же мне знать?
— Она смотрела не отрываясь тебе в спину, и когда я подошла к ней оказать какую-то услугу, она тихо, чуть не про себя прошептала: «Клянусь Сераписом, я положу этому конец! Довольно я терпела его дерзость, завтра же его задушат!»
— Вот как, — отозвался я, — что ж, может быть; хотя после всего, что у нас с ней было, я не верю, чтобы она решилась подослать ко мне убийц.
— Да как же ты можешь не верить, глупый ты, упрямый человек? Разве ты забыл, как близок был ты к смерти в Алебастровом зале? Кто спас тебя от ножей этих подлых евнухов? Может быть, Клеопатра? Или мы с Бренном? Слушай же меня. Ты все отказываешься мне верить, потому что в твоей глупости тебе не понять, как это женщина, которая совсем недавно была твоей женой, сейчас вдруг предательски обрекает тебя на смерть. Нет, не возражай мне — я знаю все, и я тебе скажу: неизмерима глубина коварства Клеопатры, чернее самой черной тьмы зло ее сердца. Она бы не колеблясь убила тебя в Александрии, но она боялась, что весть о твоем убийстве разнесется по всему Кемету и ей несдобровать. Вот потому-то она и привезла тебя сюда, чтобы умертвить тайно. На что ты ей сейчас? Ты отдал ей всю свою любовь, она пресытилась твоей красотой и силой. Она украла у тебя трон, который принадлежит тебе по праву крови и рождения, и принудила тебя, царя, стоять среди придворных дам у ее пиршественного ложа; она украла у тебя великую тайну священного сокровища!
— Как, ты и это знаешь?
— Да, я знаю все; и сегодня ты видел, как царица Кемета, эта гречанка, эта чужеземка, узурпировавшая нашу корону, транжирит на бессмысленную роскошь святые богатства, которые хранились в сердце пирамиды три тысячелетия, чтобы спасти Кемет, когда настанет лихолетье! Ты видел, как она сдержала свою клятву вступить с тобой в освященный богами брак. Гармахис, наконец-то ты прозрел!
— Да, я прозрел, но ведь она клялась, что любит меня, а я, жалкий глупец, ей верил!
— Она клялась, что любит тебя! — проговорила Хармиана, вскидывая на меня свои темные глаза. — Сейчас я покажу тебе, как она тебя любит. Ты знаешь, что было раньше в этом доме? Школа жрецов, а жрецы, Гармахис, как тебе лучше других известно, знают много всяких хитростей. Раньше в этой небольшой комнате жил главный жрец, а в комнате, что рядом с нашей, собирались на молитву младшие жрецы. Все это мне рассказала старуха рабыня, которая убирает дом, и она же показала мне секреты, которые я сейчас тебе открою. Молчи, Гармахис, ни звука, и иди за мной!
Она задула светильник и в темноте, которую не мог разогнать свет ночи, пробивающийся сквозь занавешенное окно, взяла меня за руку и потянула в дальний угол. Здесь она нажала плечом на стену, и в ее толще открылась дверь. Мы вошли, она плотно закрыла эту дверь за нами. Мы оказались в каморке локтей пять в длину и локтя четыре в ширину, в нее неведомо откуда пробивался слабый свет и доносились чьи-то голоса. Отпустив мою руку, Хармиана на цыпочках подкралась к стене напротив и стала пристально в нее вглядываться, потом так же тихо подкралась ко мне и, прошептав «Тс-с!», повлекла за собой. И тут я увидел, что в стене множество смотровых глазков, которые с другой стороны скрыты в каменных рельефах. Я поглядел в тот глазок, что был передо мной, и вот что я увидел: локтях в шести подо мной был пол большой комнаты, освещенной светильниками, в которые были налиты благовония, и убранной с великой роскошью. Это была спальня Клеопатры, и примерно в десяти локтях от нас сидела на золоченом ложе сама Клеопатра и рядом с ней — Антоний.
— Скажи мне, — томно прошептала Клеопатра — каморка, в которой мы стояли, была так искусно устроена, что в ней было слышно каждое слово, произнесенное внизу, — скажи, благородный Антоний, тебе понравилось мое скромное празднество?
— Да, — ответил он своим звучным голосом воина, — да, царица, я сам устраивал пиры, немало пировал на празднествах, устроенных в мою честь, но ничего подобного я в жизни не видывал; и хоть язык мой груб и я не искушен в любезностях, которые так милы сердцу женщин, но я тебе скажу, что самым драгоценным украшением на этом роскошном празднестве была ты. Пурпурное вино бледнело рядом с румянцем твоих щек, когда ты подносила к устам кубок, твои волосы благоухали слаще, чем розы, и не было сапфира, который своим цветом и переменчивой игрой затмил бы красоту твоих синих, как море, глаз.
— Как, я слышу похвалу из уст Антония! Человек, который пишет суровые послания, точно команды отдает, вдруг говорит мне столь приятные слова! Да, такую похвалу надо высоко ценить!
— Ты устроила пир, поистине достойный царей, хотя мне очень жаль ту редкостную жемчужину; и потом, что значили слова этого твоего астролога, который объявлял время, он предрекал беду и поминал проклятье Менкаура?
На ее сияющее счастьем лицо набежала тень.
— Не знаю; он недавно подрался и был ранен в голову; по-моему, от этого удара он повредился рассудком.
— Он вовсе не показался мне безумным, у меня в ушах до сих пор звучит его голос, и я не могу отделаться от мысли, что это глас судьбы. И он с таким отчаянием глядел на тебя, царица, своими проницающими все тайные мысли глазами, словно он любит тебя и, борясь с любовью, ненавидит.
— Я же говорила тебе, благородный Антоний, он странный человек и к тому же ученый. Я временами сама чуть ли не боюсь его, ибо он весьма сведущ в древних магических знаниях Египта. Ты знаешь, что он царского происхождения, что в Египте был заговор и он должен был убить меня? Но я одержала над ним победу в этой игре и не стала его убивать, ибо у него есть ключ к тайнам, которые мне без него никак было не разгадать; он очень мудр, я так любила слушать его рассуждения о сокровенной сути явлений.
— Клянусь Вакхом, я начинаю ревновать тебя к этому колдуну! А что сейчас, царица?
— Сейчас? Я выжала из него все, что он знает, и больше у меня нет причин его бояться. Разве ты не видел, что я три ночи подряд заставляла его стоять, словно раба, среди моих рабов, и объявлять час летящего, пока мы пируем, времени? Ни один пленный царь, идущий в цепях за твоей колесницей, когда тебя торжественно встречал после победы Рим, не испытывал таких мук, как этот гордый египетский царевич, стоящий в своем бесславии у моего пиршественного ложа.
Тут Хармиана коснулась моей руки и сжала ее, как мне показалось, с состраданием.
— Довольно, больше он не будет тревожить нас своими предсказаньями беды, — медленно проговорила Клеопатра: — завтра он умрет — быстро, тайно, во сне, и никто никогда не узнает, что с ним произошло. Я это решила, благородный Антоний, и даже отдала распоряжения. Вот я сейчас говорю о нем, а в мое сердце вползает страх и свивается, точно холодная змея. Мне даже хочется приказать, чтобы с ним покончили сейчас, ибо, пока он жив, я не могу свободно дышать. — И она сделала движение, желая встать.
— Не надо, подожди до утра, — сказал он и поймал ее руку, — солдаты все перепились, причинят ему ненужные страдания. И потом, мне его жаль. Не люблю, когда людей убивают во сне.
— А вдруг утром сокол улетит, — сказала она задумчиво. — У этого Гармахиса острый слух, он может призвать к себе на помощь потусторонние силы. Быть может, он и сейчас слышит меня слухом своей души; признаюсь тебе: мне кажется, он рядом, здесь, я ощущаю его присутствие. Пожалуй, я открою тебе… но нет, забудем о нем! Благородный Антоний, будь сегодня моей служанкой и сними с меня эту золотую корону, она тяжелая, голова в ней устала. Осторожно, не оцарапай лоб, — вот так.
Он поднял с ее лба диадему в виде золотого урея, она встряхнула головой, и тяжелый узел волос распустился, темные волны хлынули вниз, закрыв ее, точно плащ.
— Возьми свою корону, царица Египта, — тихо произнес он, — возьми ее из моих рук; я не отниму ее у тебя — я надену ее так, что она будет еще крепче держаться на этой прелестной головке.
— Что означают твои слова, о мой властелин? — спросила она, улыбаясь и глядя в его глаза.
— Что они означают? Сейчас объясню. Ты приплыла сюда, повинуясь моему повелению, дабы оправдаться передо мной в своих действиях, касающихся политики. И знаешь, царица, окажись ты не такой, какова ты есть, не царствовать бы тебе больше в твоем Египте, ибо я уверен, что ты совершила все, в чем тебя обвиняют. Но когда я тебя встретил — и увидел, что никогда еще природа не одаривала женщину столь щедро, — я все тебе простил. Твоей красоте и очарованию я простил то, чего не простил бы добродетели, любви к отечеству, мудрой и благородной старости. Видишь, какая великая сила — ум и чары прелестной женщины, даже великие мира сего забывают перед ними свой долг и обманом вынуждают слепое Правосудие приподнять повязку, прежде чем оно занесет свой карающий меч. Возьми же свою корону, о царица! Теперь я буду заботиться, чтобы она не тяготила тебя, хоть она поистине тяжела.
— Слова, достойные царя, мой благороднейший Антоний, — ответила она, — великодушные и милосердные, такие только и может произносить великий покоритель мира! Но коль уж ты завел речь о моих былых проступках — если это и в самом деле были проступки, — могу ответить тебе только одно: в то время я не знала Антония. Ибо тот, кто знает Антония, не может злоумышлять против него. Разве хоть одна женщина способна поднять меч против мужчины, которому мы все должны, поклоняться как богу: к этому мужчине мы, увидев и узнав его, тянемся всем сердцем, как к солнцу тянутся цветы. Могу ли я сказать больше, не преступив запретов, налагаемых женской скромностью? Пожалуй, лишь одно: прошу тебя, надень на меня эту корону, великий Антоний, я приму ее как твой дар, и корона будет мне тем более драгоценна, что я получила ее из твоих рук, я клянусь: она будет отныне служить тебе. Я — твоя подданная, и моими устами вся древняя страна Египет, которой я правлю, клянется в верности триумвиру Антонию, который скоро станет римским императором Антонием и царственным владыкой Кемета!
Он возложил корону на ее голову и замер, любуясь ею, опьяненный жарким дыханием ее цветущей красоты, но вот он совсем потерял над собой власть, схватил ее за руки, привлек к себе и страстно поцеловал.
— Клеопатра, я люблю тебя… я люблю тебя, божество мое… никогда еще я никого так не любил… — пылко шептал он. Она с томной улыбкой откинулась назад в его объятьях, и от этого движения золотой венец, сплетенный из священных змей, упал с ее головы, ибо Антоний не надел его, а лишь возложил, и укатился в темноту, за пределы освещенного светильниками круга.
Сердце мое разрывалось от муки, но я сразу понял, что это очень дурное предзнаменование. Однако ни он, ни она ничего не заметили.
— Ты меня любишь? — лукаво пропела она. — А как ты мне докажешь свою любовь? Я думаю, ты любишь Фульвию, свою законную жену, ведь так, признайся?
— Нет, не люблю я Фульвию, я люблю тебя, одну тебя. Всю мою жизнь с ранней юности женщины были ко мне благосклонны, но ни одна из них не внушала мне такого непобедимого желания, как ты, о мое чудо света, единственная, несравненная! А ты, ты любишь меня, Клеопатра, ты будешь хранить мне верность — не за мое могущество и власть, не за то, что я дарю и отнимаю царства, не за то, что весь мир содрогается от железной поступи моих легионов, не за то, что моя счастливая звезда светит столь ярко, а просто потому, что я — Антоний, суровый воин, состарившийся в походах? За то, что я — гуляка, бражник, за мои слабости, за переменчивость, за то, что я никогда не предал друга, никогда не взял последнее у бедняка, не напал на врага из засады, застав его врасплох? Скажи, царица, ты будешь любить меня? О, если ты меня полюбишь, я не променяю это счастье на лавровый венок римского императора, провозглашенного в Капитолии властелином мира!
Он говорил, а она смотрела на него своими изумительными глазами, и в них сияли искренность, волнение и счастье, каких мне никогда не доводилось видеть на ее лице.
— Твои слова просты, — ответила она, — но доставляют мне большую радость — я радовалась бы, даже если бы ты лгал, ибо есть ли женщина, которая не жаждет видеть у своих ног властелина мира? Но ты не лжешь, Антоний, и что может быть прекрасней твоего признания? Какое счастье для моряка вернуться после долгих скитаний по бурному морю в тихую пристань! Какое счастье для жреца-аскета мечтать о блаженном покое среди полей Иалу, эта надежда озаряет его суровый путь жертвенного служения! Какое счастье смотреть, как просыпается розовоперстая заря и шлет улыбку заждавшейся ее земле! Но самое большое счастье — слышать твои слова любви, о мой Антоний. Слушая их, забываешь, что в жизни есть иные радости! Ведь ты не знаешь, — да и откуда тебе знать? — как пуста и безотрадна была моя жизнь, ибо только любовь исцеляет нас от одиночества, так уж мы, женщины, устроены. А я до этой дивной ночи никогда не любила — мне было неведомо, что такое любовь. Ах, обними меня, давай, давай дадим друг другу великую клятву любви и не нарушим ее до самой смерти. Так слушай же, Антоний! Отныне и навеки я принадлежу тебе, одному тебе, и эту верность я буду свято хранить, пока жива!
Хармиана взяла меня за руку и потянула прочь из каморки.
— Ну что, довольно тебе того, что ты видел? — спросила она, когда мы вернулись в ее комнату и она зажгла светильник.
— Да, — ответил я, — теперь-то я наконец прозрел.
Глава XVI, повествующая о плане побега, который замыслила Хармиана; о признании Хармианы и об ответе Гармахиса
Долго я сидел, опустив голову, душа была до краев наполнена стыдом и горечью.
Так вот, стало быть, чем все кончилось. Вот ради чего я нарушил свои священные обеты, вот ради чего открыл тайну пирамиды, вот ради чего пожертвовал своей короной, честью, быть может, надеждой на воссоединение с Осирисом! Был ли в ту ночь на свете человек, раздавленный таким же беспощадным, черным горем, как я? Нет, я уверен. Куда бежать? Что делать? Но даже буря, разрывавшая мне грудь, не могла заглушить отчаянный крик ревности. Ведь я любил эту женщину, я отдал ей все, а она сейчас, в эту минуту… О! Эта мысль была невыносима, и в пароксизме отчаяния я разразился слезами, они хлынули рекой, но такие слезы не приносят облегчения.
Хармиана подошла ко мне, и я увидел, что она тоже плачет.
— Не плачь, Гармахис! — сквозь рыдания проговорила она и опустилась возле меня на колени. — Я не могу видеть твоего горя. Ах, почему ты раньше был так слеп и глух? Ведь ты мог бы быть сейчас счастлив и могуч, никакие беды не коснулись бы тебя. Послушай меня, Гармахис! Ты помнишь, эта лживая тигрица сказала, что завтра тебя убьют?
— Пусть, я буду рад умереть, — прошептал я.
— Нет, радоваться тут нечему. Гармахис, не позволяй ей в последний раз восторжествовать над собой! Ты потерял все, кроме жизни, но пока ты жив, живет и надежда, а если жива надежда, ты можешь отомстить.
— А! — Я поднялся с кресла. — Как же я позабыл о мести? Да, ведь можно отомстить! Месть так сладка!
— Ты прав, Гармахис, месть сладка, и все же… это стрела, которая часто поражает того, кто ее выпустил. Я сама… мне это хорошо известно. — Она тяжело вздохнула. — Но довольно предаваться горю и разговорам. У нас впереди долгая цепь тяжелых лет, наполненных одним лишь горем, а разговоры — кто знает, придется ль их вести? Ты должен бежать, бежать как можно скорее пока не наступило утро. Вот что я придумала. Еще до рассвета в Александрию отплывает галера, которая вчера привезла оттуда фрукты и разные запасы, я знаю ее кормчего, а вот он тебя не знает. Я сейчас раздобуду тебе одежду сирийского купца, ты закутаешься в плащ и отнесешь кормчему галеры письмо, которое я тебе дам. Он отвезет тебя в Александрию, и для него ты будешь всего лишь купцом, плывущим по своим торговым делам. Сегодня ночью начальник стражи — Бренн, а Бренн и мой друг, и твой. Может быть, он о чем-то догадается, а может быть, и нет, во всяком случае, стражник без всяких подозрений пропустит сирийского купца. Что ты на это скажешь?
— Спасибо, Хармиана, я согласен, — с усилием проговорил я, — хоть мне и все равно.
— Тогда, Гармахис, отдохни пока здесь, а я займусь приготовлениями. И прошу тебя: не предавайся так беззаветно своему горю, есть люди, чье горе чернее твоего. — И она ушла, оставив меня один на один с моей мукой, которая терзала меня, как палач. И если бы не бешеная жажда мести, которая вдруг вспыхивала в моем агонизирующем сознании, точно молния над ночным морем, мне кажется, я в этот страшный час сошел бы с ума. Но вот послышались шаги Хармианы, она вошла, тяжело дыша, потому что принесла тяжелый мешок с одеждой.
— Все улажено, — сказала она, — вот твое платье, здесь есть и другое на смену, таблички для письма и все, что тебе необходимо. Я успела повидаться с Бренном и предупредила его, что за час до рассвета пройдет сирийский купец, пусть стражи его пропустят. Я думаю, он все понял, потому что, когда я пришла к нему, он притворился, будто спит, а потом стал зевать и заявил, что пусть хоть сто сирийских купцов идут, ему до них дела нет, лишь бы произнесли пароль — Антоний. Вот письмо к кормчему, ты без труда найдешь галеру, она стоит на набережной, по правую сторону, небольшая, черная, и главное — моряки не спят и готовятся к отплытию. Я сейчас выйду, а ты сними этот наряд слуги и облачись в то платье, которое я принесла.
Лишь только она закрыла дверь, я сорвал свое роскошное одеяние раба, плюнул на него и стал топтать ногами. Потом надел скромное платье купца, на ноги сандалии из грубой кожи, обвязал вощеные дощечки вокруг пояса и за пояс заткнул кинжал. Когда я был готов, вошла Хармиана и оглядела меня.
— Нет, ты все тот же царственный Гармахис, — сказала она, — сейчас попробуем тебя изменить.
Она взяла с туалетного столика ножницы, велела мне сесть и очень коротко остригла волосы. Потом искусно смешала краски, которыми женщины обводят и оттеняют глаза, и покрыла смесью мое лицо и руки, а также багровый шрам в волосах — ведь меч Бренна рассек мне голову до кости.
— Ну вот, теперь гораздо лучше, хоть ты и подурнел, Гармахис, — заметила она с горьким смешком, — пожалуй, даже я тебя бы не узнала. Подожди, еще не все. — И, подойдя к ларю, где лежала одежда, она достала из него тяжелый мешочек с золотом.
— Возьми, — сказала она, — тебе будут нужны деньги.
— Нет, Хармиана, я не могу взять у тебя золото.
— Не сомневайся, бери. Мне дал его Сепа для нужд нашего общего дела, и потому будет лишь справедливо, чтобы его истратил ты. К тому же, если мне понадобятся деньги, Антоний, без всякого сомнения, даст, сколько я скажу, ведь отныне он мой хозяин, а он мне многим обязан и хорошо это знает. Прошу тебя, не будем тратить время на пустые пререканья — ты все еще не стал купцом, Гармахис. — И она без лишних слов засунула золото в кожаную суму, которая висела у меня за плечами. Потом свернула запасную одежду и в своей женской заботливости положила вместе с нею в мешок алебастровую баночку с краской, чтобы я время от времени мазал ею лицо и руки; взяла роскошные вышитые одежды слуги, которые я в такой ярости сбросил, и спрятала их в той тайной каморке, куда меня водила. И вот все наконец готово.
— Ну что же, мне пора идти? — спросил я.
— Нет, придется немного подождать. Не торопись, Гармахис, тебе недолго осталось терпеть мое общество, скоро мы расстанемся — быть может, навсегда.
Я с досадой нахмурился — время ли сейчас язвить, неужто она не понимает?
— Прости мой злой язык, — сказала она, — но когда источник отравлен, вода в нем горькая. Сядь, Гармахис. Прежде чем ты уйдешь, я скажу тебе еще более горькие слова.
— Говори, — ответил я, — как бы горьки они ни были, сейчас меня ничто не тронет.
Она встала передо мной и скрестила на груди руки; лучи светильника ярко освещали ее прекрасное лицо. Я равнодушно подумал, что она смертельно бледна и что черные бархатные глаза обведены огромными темными кругами. Дважды она приоткрывала губы и дважды голос изменял ей. Наконец она хрипло прошептала:
— Я не могу отпустить тебя… не могу отпустить, не сказав всей правды. Гармахис, это я предала тебя!
Я вскочил на ноги, с уст сорвалось проклятье, но она схватила меня за руку.
— Ах, нет, сядь, — взмолилась она, — сядь и выслушай меня, и когда ты все узнаешь, сделай со мной все, что хочешь. Слушай же. Я люблю тебя с той злой для меня минуты, когда я увидела тебя в доме дяди Сепа, во второй раз в моей жизни, и ты даже не догадываешься, как сильна моя любовь. Удвой свою страсть к Клеопатре, потом утрой и учетвери, и ты получишь слабое представление о том, что испытывала все это время я. С каждым днем я любила тебя все более пламенно, все более неукротимо, в тебе одном сосредоточилась вся моя жизнь. Но ты был холоден — холоден не то слово: ты даже не видел, что я живая женщина, я для тебя была всего лишь средство, с помощью которого ты должен достичь цели — короны и трона. И тут я стала догадываться — задолго до того, как ты это понял сам, — что сердце твое устремилось к гибельным скалам, о которые сегодня разбилась твоя жизнь. И вот наступил вечер, тот страшный вечер, когда я, притаившись в твоей комнате за занавесом в нише, увидила как ты бросил с башни мой шарф и его унес ветер, а венок моей царственной соперницы сохранил и наговорил ей любезных слов. И тогда я, — о, знал бы ты всю меру моей муки! — я открыла тебе тайну, о которой ты и не догадывался, а ты, Гармахис, в ответ лишь посмеялся надо мной! О, какой позор и стыд, — ты в своей глупости смеялся надо мной! Я ушла, мое сердце грызла и терзала ярая ревность, какой не под силу вынести женщине, ибо я теперь уже уверилась, что ты любишь Клеопатру! Меня охватило безумие, я хотела в ту же ночь выдать тебя, но все же удержалась, я убеждала себя: нет, все еще можно поправить, завтра он смягчится. И вот настало завтра, все подготовлено, участники могущественного заговора ждут сигнала, чтобы ворваться во дворец и возвести тебя на трон. Я снова пришла к тебе — ты помнишь — и иносказательно завела речь о вчерашнем, но ты снова отмахнулся от меня, как от докуки, не стоящей даже минутного внимания. И, зная, что виной тому Клеопатра, которую ты, сам того не подозревая, любишь и должен сейчас убить, я обезумела, в меня словно вселился злой дух и подчинил меня себе, я уже не владела собой, сама не понимала, что я делаю. Ты с презреньем оттолкнул меня, и потому я пошла к Клеопатре и выдала тебя и всех, кто тебя поддерживал, предала наше священное дело и тем навлекла на себя вечный позор и скорбь! Я ей сказала, что нашла записку, которую ты уронил, и в ней прочитала о заговоре.
Я молчал, лишь тяжело перевел дух; она печально поглядела на меня и продолжала:
— Когда Клеопатра поняла, как могуществен и разветвлен по всей стране заговор и как глубоко уходят его корни, она очень испугалась и сначала хотела бежать в Саис или тайно пробраться на судно и плыть на Кипр, но я ее убедила, что ее поймают по дороге заговорщики. Тогда она решила, что тебя надо заколоть в ее покоях, и я оставила ее в этом намерении, ибо в ту минуту жаждала твоей смерти — да, Гармахис, я плакала бы потом всю жизнь на твоей могиле, но я обрекла тебя на смерть. Погоди, что я сейчас сказала? Ах да: месть, подобно стреле, может поразить того, кто ее выпустил. Так случилось со мной, ибо, когда я вышла от Клеопатры, она придумала более коварный план. Она сообразила, что убив тебя, вызовет лишь еще большую ярость восставших, и испугалась; но если она привяжет тебя к себе, вселит в народ сомнение, а потом объявит, что ты предал своих соратников, она подрубит корни заговора, и он зачахнет, как бы ни был могуч заговор, никогда нет уверенности, что он победит, и вот она сделала ставку на его поражение — нужно ли мне продолжать? Как она тебя победила — ты знаешь сам, Гармахис, и стрела мести, которую я выпустила, вонзилась в меня. Утром я узнала, что совершила преступление напрасно, что за мое предательство поплатился жизнью бедняга Павел; что я погубила дело, которому поклялась служить, и собственными руками отдала человека, которого люблю, в объятья этой распутницы.
Она низко опустила голову, но я по-прежнему молчал, и она снова заговорила:
— Я расскажу о всех моих преступлениях, Гармахис, и приму наказание, которое заслужила. Теперь ты знаешь, как все произошло. В сердце Клеопатры уже зародилась любовь к тебе, и она почти решила сделать тебя своим супругом и разделить с тобою трон. Ради этой зародившейся любви она и пощадила жизнь тех, кто, как ей стало известно, был замешан в заговоре, надеясь, что, если она сочетается с тобою браком, она с их помощью привлечет на свою сторону самых знатных и влиятельных египтян, которые ненавидят ее так же, как и всех Птолемеев. И тут она снова поймала тебя в ловушку, и ты в своей великой глупости открыл ей тайну древних сокровищ Египта, которые она сейчас бросает на ветер, желая вызвать восхищение сластолюбивого Антония; отдам ей справедливость: она в то время искренне хотела выполнить свою клятву и стать твоей супругой. Но в тот день, когда Деллий должен был прийти за ответом, она призвала меня к себе и, рассказав мне все, ибо ценит мой ум чрезвычайно высоко, спросила моего совета: объявить ли ей войну Антонию и разделить трон с тобой или выбросить из головы мысль о войне и о тебе и плыть к Антонию? И я — измерь всю тяжесть моего преступления — я, истерзанная ревностью, взбунтовалась при мысли, что она станет твоей женой, а ты — ее любящим супругом, и я буду свидетельницей вашего счастья; так вот, я ей сказала, что надо непременно плыть к Антонию, прекрасно зная — ибо у меня была беседа с Деллием, — что, если она поплывет в Тарс, влюбчивый Антоний упадет к ее ногам, как спелое яблоко, и так все и случилось. Только что я показала тебе последнюю сцену в поставленном мною представлении. Антоний влюбился в Клеопатру, Клеопатра влюбилась в Антония, а ты лишился всего, жизнь твоя висит на волоске, я тоже получила по заслугам: сегодня нет на свете женщины несчастнее меня. Когда я увидела сейчас, как разбилось твое сердце, вместе с твоим разбилось и мое, я почувствовала, что больше не могу нести бремя содеянного мной зла, что я должна покаяться в нем и принять наказание.
Мне больше нечего сказать, Гармахис; могу только поблагодарить тебя, что ты проявил милосердие и выслушал меня. Движимая великой любовью к тебе, я причинила тебе зло, за которое буду расплачиваться всю жизнь и всю нескончаемую вечность после смерти! Я погубила тебя, погубила Кемет, и себя я тоже погубила! И пусть я за это приму смерть! Убей меня, Гармахис, — какое счастье умереть от твоей руки, я поцелую несущий смерть клинок. Убей меня и иди, спасайся, ибо, если ты не убьешь меня, я сама избавлюсь от этой постылой жизни! — И она бросилась передо мной на колени и откинулась назад, чтобы мне было легче вонзить кинжал в ее прелестную грудь. И я в затмении ярости занес его над ней, ибо вдруг вспомнил, с каким презреньем эта женщина, навлекшая на меня бесславие, язвила и оскорбляла меня, когда я уже пал. Но трудно убить красивую женщину, а ведь Хармиана к тому же дважды спасла мне жизнь.
— О женщина! Бесстыдная женщина! — вырвалось у меня. — Встань, я не убью тебя. Мне ли судить тебя за твое преступление, ведь я сам повинен в таком зле, что нет на свете кары, достаточно суровой для меня.
— Убей меня, Гармахис! — простонала она. — Убей меня, или я сама себя убью! Бремя моей вины непомерно тяжело, мне его не вынести! Не будь так равнодушен и жесток! Прокляни меня и убей!
— Что ты мне недавно говорила, Хармиана, о севе и о жатве? Боги запрещают тебе убивать себя, и боги запрещают мне такому же преступнику, как ты, убить тебя, потому что на преступление меня толкнула ты. Ты посеяла семена зла, собирай же теперь кровавую жатву. Ничтожная женщина, чья беспощадная ревность навлекла такие беды на меня и на наш Египет, — живи! Живи и собирай всю жизнь горькие плоды зла! Пусть ночь за ночью тебя преследуют во сне видения разгневанных богов, чья месть ожидает и тебя, и меня в их мрачном Аменти! Пусть день за днем тебя терзают воспоминания о человеке, которого твоя свирепая любовь ввергла в позор и погубила, гляди же каждый день на Кемет, который стал добычей ненасытной Клеопатры и рабом этого сластолюбивого римлянина Антония.
— О Гармахис, не говори со мною так жестоко! Твои слова ранят больнее, чем твой кинжал, и эти раны смертельны, моя смерть будет медленной и нескончаемой агонией. Послушай, Гармахис! — Она вцепилась в мое платье руками. — Когда ты был недосягаемо высоко и в твоих руках была огромная власть, ты меня отверг. Не отвергай же меня сейчас, после того, как Клеопатра отринула тебя, когда ты беден, опозорен и бесприютен! Ведь я по-прежнему красива и вся моя жизнь — в тебе. Позволь же мне бежать с тобой и искупить свою вину беззаветной любовью, ибо я буду любить тебя до последнего дыхания. Может быть, я прошу слишком многого, тогда позволь мне быть твоей сестрой, твоей служанкой, твоей рабыней, позволь мне просто видеть твое лицо, делить твои тревоги, беды, прислуживать тебе. Молю тебя, Гармахис, возьми меня с собой, я вынесу все тяготы, ничто меня не испугает, и только смерть отторгнет меня от тебя. Я верю, что любовь, которая столкнула меня в бездну и заставила увлечь за собой и тебя, поможет мне подняться столь же высоко, сколь низко я пала, и ты — ты тоже вознесешься со мной!
— Ты искушаешь меня, толкая к новым преступлениям? Неужто, Хармиана, ты думаешь, что в той лачуге, где я буду скрываться от всего света, я смогу день за днем смотреть на твое красивое лицо и каждый раз, увидев эти губы, думать: это они меня предали? Нет, так легко искупление не дается! Я знаю, и знаю слишком хорошо: много тяжких и одиноких дней будет длиться твое покаяние. Быть может, час мести еще наступит, и ты — кто знает? — доживешь до него и поможешь мне отомстить. Ты должна остаться при дворе Клеопатры, и, пока ты будешь здесь, я, если останусь жив, найду способ посылать тебе время от времени весточку. Быть может, когда-нибудь мне снова понадобятся твои услуги. Так поклянись, что, если это случится, ты не предашь меня во второй раз.
— Клянусь, Гармахис, о клянусь! Если я хоть в самой малой малости обману твои надежды, да осудят меня боги на вечные терзания, о которых страшно и помыслить, — страшнее тех, что разрывают мою грудь сейчас; и я всю жизнь буду ждать вести от тебя.
— Довольно. Ты не посмеешь нарушить клятву, ибо дважды не предают. Я пойду своим путем, подчиняясь своей судьбе; у тебя судьба иная, ты будешь следовать ей. Быть может, нити наших судеб еще переплетутся в том узоре, который ткет жизнь. Хармиана, не любимая мною, подарившая мне свою любовь и, движимая этой своей страстной любовью, предавшая и погубившая меня, — прощай!
Ее безумный взгляд впился мне в лицо, она протянула ко мне руки, точно желая обнять, потом отчаяние сломило ее, она упала на пол.
Я взял мешок с вещами, посох и открыл дверь. Переступая порог, я бросил на нее последний взгляд. Она лежала, раскинув руки, бледнее своего белого одеяния, темные волосы рассыпались, прекрасный высокий лоб в пыли.
И я ушел, оставив ее на полу в беспамятстве. Увидел я ее лишь девять долгих лет спустя.
(На этом кончается второй, самый большой свиток папируса.)
КНИГА ТРЕТЬЯ
МЕСТЬ ГАРМАХИСА
Глава I, повествующая о том, как Гармахис бежал из Тарса; как его принесли в жертву морскому богу; как он жил на острове Кипр; как вернулся в Абидос и как умер его отец Аменемхет
Я благополучно спустился по лестнице и оказался во дворе огромного дома. До рассвета оставался еще час, вокруг никого не было. Угомонились пьяные, танцовщицы перестали плясать, в городе царила тишина. Я подошел к воротам, и меня окликнул начальник стражи, который стоял возле них, завернувшись в плащ из грубой ткани.
— Кто идет? — раздался голос Бренна.
— Сирийский купец, мой благородный господин, я привез из Александрии товары придворной даме царицы, эта дама оказала мне гостеприимство, и вот теперь я возвращаюсь на свое судно, — ответил я, изменив голос.
— Поздно же развлекаются со своими гостями придворные дамы царицы, — проворчал Бренн. — Ну да что там, сейчас все веселятся — праздник. Пароль знаешь, господин лавочник? Если не знаешь, придется возвращаться к своей милой и просить приюта у нее.
— Пароль — «Антоний», господин мой, и, должен сказать, удачнее слова не придумать. Много я путешествовал по разным странам, но никогда не видал такого красавца и такого великого полководца. А ведь мне где только не довелось побывать, мой благородный господин, и полководцев я встречал немало.
— Верно, пароль — «Антоний». Что ж, Антоний на свой лад неплохой полководец — когда не пьет и поблизости нет хорошенькой женщины. Я воевал с Антонием — и против него тоже воевал, так что знаю все его достоинства и слабости. Сейчас ему не до кого и не до чего, вот так-то, друг!
Беседуя со мной, страж вышагивал взад-вперед. Но сейчас он отступил вправо, пропуская меня.
— Прощай, Гармахис, иди, не медли! — быстро шепнул Бренн, шагнув ко мне. — Тебе надо спешить. Вспоминай иногда Бренна, который поставил на кон свою жизнь, чтобы спасти твою. Прощай, друг, жаль, что мы не уплыли с тобой на север. — И, отвернувшись, он запел себе под нос какую-то песню.
— Прощай, Бренн, мой верный благородный друг, — шепнул я ему и тут же исчез. Потом я много раз слышал рассказы о том, какую услугу оказал мне Бренн, когда утром начался шум и суета, ибо убийцы не могли меня найти, хотя искали повсюду. Так вот, Бренн поклялся, что через час после полуночи, когда он охранял ворота один, он увидел, как я появился на крыше, встал на парапет, раскинул плащ, который превратился в крылья, и медленно улетел на них в небо, а на него от изумления напал столбняк. Эта история обошла весь двор, и все ей поверили, ибо моя слава чародея была велика; всех охватило волнение, ибо люди не понимали, что предвещает это знамение. Сказка эта долетела до Египта и обелила меня в глазах тех, кого я предал, ибо самые невежественные среди них уверовали, что я действовал не по своей собственной воле, а повинуясь воле великих богов, которые забрали меня живым на небо. До сих пор народ наш говорит: «Египет станет свободным, когда к нам вернется Гармахис». Но увы — Гармахис не вернется! Одна лишь Клеопатра, хотя и сильно испугалась, выдумке Бренна не поверила и послала судно с вооруженными солдатами на поиски сирийского купца, однако солдаты не нашли его, о чем я поведаю ниже.
Когда я подошел к галере, о которой мне говорила Хармиана, она уже готовилась отплыть; я отдал письмо кормчему, он его внимательно прочел, с любопытством оглядел меня, однако ничего не сказал.
Я поднялся на борт, и мы быстро поплыли вниз по течению. Добрались до устья Кидна, и никто нас не остановил, хотя нам встретилось довольно много судов, и вот мы в открытом море, нас несет сильный попутный ветер, который во второй половине дня разыгрался в шторм. Моряки испугались, хотели повернуть обратно и плыть к устью Кидна, но в столь бурном море галера им не повиновалась. Шторм бушевал всю ночь, ветер сорвал мачту, могучие волны швыряли наше судно, точно щепку. Но я сидел, закутавшись в свой плащ, и ничего не замечал; в конце концов моряки, увидев, что я не чувствую никакого страха, стали кричать: «Он колдун! Он злой колдун!» — и хотели выбросить меня за борт, но кормчий воспротивился. К утру ветер начал утихать, но еще до полудня снова рассвирепел. В четвертом часу пополудни впереди показался остров Кипр, та его скалистая гряда Динарет, где есть гора Олимп, и нас понесло туда. Когда матросы увидели грозные скалы, о которые разбивались взбешенные волны, они снова испугались и стали вопить от ужаса. А я сидел все такой же безучастный, и они закричали, что я злой колдун, тут никаких сомнений быть не может, надо бросить меня в море, чтобы умилостивить морских богов. На этот раз капитан понял, что не сможет защитить меня, и не стал с ними спорить. И вот моряки подступили ко мне, а я лишь встал и с презрением проговорил: «Хотите бросить меня в море? Бросайте. Но если бросите, вас ждет гибель».
Мне и в самом деле было все равно. Я не хотел жить. Я жаждал смерти, хоть и боялся предстать перед моей небесной матерью Исидой. Но этот мучительный страх растворился в душевной опустошенности и в горечи сознания, что мне выпал столь тяжкий жребий; и когда эти разъяренные звери схватили меня, раскачали и швырнули в кипящие волны, я лишь начал молиться Исиде, готовясь предстать перед ней. Но судьбе было не угодно, чтобы я погиб: вынырнув на поверхность, я увидел неподалеку бревно, подплыл к нему и обхватил руками. В это время накатила огромная волна, подняла меня на бревне — а я, нужно сказать, еще в детстве научился плавать на Ниле и искусно управлялся с бревнами, — и пронесла мимо галеры, где с искаженными от злобы лицами сгрудились матросы — глядеть, как я буду тонуть. Когда же они увидели, что я лечу на гребне волны и проклинаю их, а лицо и руки у меня из темных стали белыми, ибо соленая вода смыла краску Хармианы, они завизжали от страха и повалились на палубу. Меня несло к прибрежным скалам, но тут еще одна огромная волна накрыла судно, перевернула вверх килем и утащила в пучину.
Галера утонула вместе со всеми матросами. Во время этого же шторма утонула и галера, которую Клеопатра послала на поиски сирийского купца. Следы мои затерялись, и царица, без сомнения, поверила, что я погиб.
А я плыл к берегу. Выл ветер, соленые волны больно секли лицо, над головой пронзительно кричали чайки, но в моем поединке с разбушевавшейся стихией я не сдавался. В душе не было и тени страха, ее наполнял ликующий восторг — когда в глаза заглянула смерть, я вдруг почувствовал, что просыпается любовь к жизни. И я стал бороться за свою жизнь: то делал могучие рывки вперед, то отдавался течению, то взлетал на гребне волн к нависшим над самым морем тучам, падал в бездонные провалы, и вот наконец совсем близко встала скалистая гряда, я видел, как пенные валы разбиваются о неколебимые утесы, я слышал сквозь свист и завывание ветра, как они с глухим гулом обрушиваются на берег, как стонут огромные камни, которые они тащат за собой в море. Могучая волна подбросила меня на самый верх, я был словно на троне в гриве ее пены, в пятидесяти локтях подо мной шипела бездна, на голову падало черное небо! Все, конец! Стихия вырвала из моих рук бревно, тяжелый мешочек с золотом и мокрая, облепившая тело одежда потянули меня вниз, и, как я ни сопротивлялся, я стал тонуть.
И вот я под водой, на миг сквозь ее толщу пробился зеленый свет, потом все залила тьма, и в этой тьме замелькали картины прошлого, одна за другой — вся моя долгая жизнь предстала предо мной. Потом я стал погружаться в сон, а в ушах звучала песнь соловья, слышался ласковый плеск летнего моря, раздавался мелодичный торжествующий смех Клеопатры… но все тише, тише, все дальше.
И снова ко мне вернулась жизнь и с нею ощущение непереносимой боли и мысль, что я смертельно болен. Я открыл глаза, увидел склонившиеся надо мной участливые лица и понял, что я в доме, в небольшой комнате.
— Как я здесь оказался? — спросил я слабым голосом.
— Мы думаем, странник, тебя принес к нам Посейдон, — ответил мужской голос на варварском греческом языке. — Ты лежал на берегу, точно мертвый дельфин, а мы нашли тебя и принесли в дом; сами мы рыбаки. И тут, у нас, ты лежишь уже давно, ибо твоя левая нога сломана — видно, волны уж очень сильно швырнули тебя на камни.
Я хотел пошевелить ногой, однако она мне не повиновалась. Да, кость действительно была сломана ниже колена.
— Кто ты и как твое имя? — спросил бородатый рыбак.
— Я — египетский путешественник, мой корабль утонул во время бури, а зовут меня Олимпий, — ответил я; мне вспомнилось, что моряки назвали гору, что возвышалась на острове, Олимпом, и я взял себе это первое попавшееся имя. С тех пор я так его и ношу.
Здесь, в семье этих простых рыбаков, я прожил почти полгода, платя за их заботы золотом, которые море выбросило на берег вместе со мной. Кости мои долго не срастались, а когда срослись, я стал калекой: я некогда такой красивый, сложенный как бог, высокий, теперь хромал, ибо сломанная нога стала короче здоровой. И даже оправившись от болезни, я продолжал жить в приютившей меня семье, трудился вместе с ними, ловил рыбу; я не знал, куда мне идти и что делать, и даже стал подумывать, что, пожалуй, останусь здесь навсегда, буду ловить рыбу, и так пройдет моя постылая жизнь. Рыбаки относились ко мне с большой добротой, хотя, как и все, с кем сталкивала меня судьба, боялись меня, считая, что я — колдун и что меня принесло к ним море. Мои несчастья наложили на мое лицо такую странную печать, что люди, глядя на него, пугались этой спокойной застывшей маски — кто знает, что за ней таится, думали все.
Так мирно тянулась моя жизнь на острове, но вот однажды ночью, когда я лежал, тщетно пытаясь заснуть, меня охватило неодолимое волнение, мне страстно захотелось еще раз увидеть Сихор. Ниспослали ли мне это желание боги, или оно родилось в моем собственном сердце, я не знаю. Но голос, который звал меня на родину, был так силен, что, не дождавшись рассвета, я встал со своей соломенной постели, надел одежду рыбака, которую носил, и покинул бедный дом, где жил, — мне не хотелось ничего объяснять этим добрым людям. Я только положил на чисто выскобленную деревянную столешницу несколько золотых монет, взял горсть муки и написал ею:
«Это дар египтянина Олимпия, который возвратился в море».
И я ушел от них и на третий день добрался до большого города Саламина, который также стоит на берегу моря. Здесь я поселился в рыбацком квартале и жил там, пока не узнал, что в Александрию отплывает судно, и тогда я нанялся на это судно моряком; кормчий, сам уроженец Пафа, охотно меня взял. Мы отплыли и при попутном ветре, который сопровождал нас, на пятый день прибыли в Александрию — в этот ненавистный мне город, и я увидел, как сверкают на солнце его золотые купола.
Здесь мне нельзя было оставаться, и я снова нанялся матросом на судно, кормчий которого за мои труды согласился довезти меня по Нилу до Абидоса. Из разговоров гребцов я узнал, что Клеопатра вернулась в Александрию и привезла с собой Антония, что оба они живут в большой роскоши в царском дворце на мысе Лохиас. Гребцы пели о них песню, работая веслами. Услышал я и о том, как галера, посланная на розыски вслед судну, на котором уплыл из Тарса сирийский купец, пошла со всей командой ко дну, а также сказку о царицыном астрономе Гармахисе, который улетел в небо с крыши дома в Тарсе, где жила царица. Моряки дивились на меня, потому что я трудился изо всех сил, но не пел вместе с ними непристойных песен о любовниках Клеопатры. Они тоже начали сторониться меня и с опаской перешептывались. Тогда я понял, что я поистине проклят и что между мною и всеми людьми лежит непреодолимая пропасть — такого, как я, нельзя любить.
На шестой день мы подплыли туда, где в нескольких часах пути находится Абидос, я сошел на берег — как мне кажется, к великой радости гребцов. Я шагал по дороге, вьющейся среди тучных полей, встречал людей, которых так хорошо знал с детства, и сердце разрывалось в моей груди. На мне была простая одежда моряка, я шел, припадая на левую ногу, и никто меня не узнавал. Когда солнце стало клониться к закату, я наконец приблизился к гигантским пилонам храмового двора; здесь я вошел в разрушенный дом напротив ворот и опустился на пол. Зачем я сюда вернулся, что мне делать, думал я. Точно заблудившийся бык, я все-таки нашел дорогу к дому, туда, где появился на свет, пришел в родные поля, но что меня здесь ждет? Если мой отец Аменемхет еще жив, он с презреньем отвернется от меня. Я не смел даже думать о встрече с ним. Сидел среди обвалившихся стропил и бессмысленно глядел на ворота — а вдруг из двора храма выйдет кто-то, кого я знаю? Но никто не вышел из ворот, и никто в них не входил, хотя они были распахнуты настежь; и тогда я увидел, что между каменными плитами, которыми вымощен двор, пробилась трава — такого еще никогда здесь не бывало. Что это означает? Неужели храм заброшен? Нет, немыслимо! Разве можно перестать служить вечным богам в этом святилище, где каждый день, тысячелетие за тысячелетием, совершались таинства и ритуальные церемонии в их славу? Так что же, значит, отец мой умер? Да, может быть. Но почему такая мертвая тишина? Где все жрецы, где люди, творящие молитву?
Больше я не мог выносить неизвестности, и, когда диск солнца налился красным, я крадучись, точно шакал, вошел в открытые ворота, миновал двор и вступил в первый огромный Зал Колонн и Статуй. Здесь я остановился и стал глядеть по сторонам — ни души в этом сумрачном святилище, ни звука, не доносится ниоткуда. Сердце мое бешено колотилось, я вошел во второй огромный зал — Зал Тридцати Шести Колонн, где некогда я был коронован венцом Верхнего и Нижнего Египта: и здесь тоже ни души, ни звука. Пугаясь шума собственных шагов, которые таким зловещим эхом отдавались в безмолвии покинутых святилищ, вошел я в галерею, где на стенах выбиты имена фараонов. Вот и покой моего отца. Дверной проем по-прежнему задернут тяжелым занавесом; что-то там, за ним, неужто тоже пустота? Я отвел занавес и неслышно скользнул внутрь. В своем резном кресле за столом сидел в жреческом одеянии мой отец Аменемхет, его длинная седая борода покоилась на мраморной столешнице. Он был так неподвижен, что в голове мелькнула мысль: он умер! Но вот он поднял голову, и я увидел, что глаза у него белые — он ослеп. Слепой, лицо прозрачное, как у покойника, истаявшее от старости и горя.
Я стоял как вкопанный и чувствовал, что его невидящие глаза изучают меня. Говорить я не мог — не смел; мне хотелось убежать и снова где-нибудь спрятаться.
Я уже повернулся и отвел было занавес, но тут услышал низкий голос отца, который произнес:
— Подойди ко мне, о ты, кто некогда был мне сыном и потом стал предателем. Подойди ко мне, Гармахис, надежда Кемета, обманувшая его. Ведь это я тебя призвал сюда из такой дали! И все это время я удерживал в своем теле жизнь, чтобы услышать, как ты крадешься по этим пустым святилищам, точно вор!
— Ах, отец! — изумленно прошептал я. — Ведь ты слеп, как же ты узнал меня?
— Как я тебя узнал? И это спрашиваешь ты, посвященный в тайны наших древних наук? Еще бы мне тебя не узнать, когда я сам призвал тебя к себе. Ах, Гармахис, лучше бы мне никогда тебя не знать! Лучше бы Непостижимый отнял у меня жизнь до того, как ты отозвался на мой зов и явился из лона богини Нут, чтобы стать моим проклятьем и позором и отнять последнюю надежду у Кемета!
— О, не говори так, отец! — простонал я. — Разве я и без того не раздавлен бременем, которое несу? Разве самого меня не предали и не отвергли, как прокаженного? Пощади меня, отец!
— Пощадить тебя? Тебя, который сам никого не пощадил? Разве ты пощадил благородного Сепа, который умер от пыток в руках палачей?
— Нет, нет, неправда, быть того не может! — воскликнул я.
— Увы, предатель, правда! Он умер в нечеловеческих муках и до последнего дыхания твердил, что ты, его убийца, ни в чем не повинен, что твоя честь осталась незапятнанной! Пощадить тебя, пожертвовавшего лучшими, храбрейшими, достойнейшими гражданами Кемета ради объятий блудницы! Как ты думаешь, Гармахис, надрываясь в подземельях рудников, в пустыне, этот цвет нашей несчастной страны пощадил бы тебя? Пощадить тебя, из-за которого этот великий священный храм Абидоса разграблен, земли его отняты, жрецы изгнаны, лишь я один, древний старик, оплакиваю здесь его гибель, — пощадить тебя, осыпавшего сокровищами Менкаура сувою любовницу, предавшего себя, свою Отчизну, свое высокое происхождение и своих богов! Нет, у меня нет жалости к тебе: я проклинаю тебя, плод моих чресел! Да будет жизнь твоя наполнена сознанием вечного несмываемого позора! Да будет смерть твоя нескончаемой агонией и да ввергнут тебя после нее великие боги в терзания преисподней! Где ты? Да, я ослеп от слез, когда узнал о преступлениях, которые ты совершил, хотя все близкие старались от меня их скрыть. Отступник, выродок, изменник, я хочу подойти к тебе и плюнуть тебе в лицо. — И он поднялся с кресла и медленно двинулся в мою сторону, рассекая воздух своим жезлом — живое олицетворение гнева. Он шел неверными шагами, вытянув вперед руки, — невыносимое зрелище, и вдруг жизнь в нем стала угасать, он вскрикнул и упал на пол, изо рта хлынула темная кровь. Я бросился к нему, поднял на руки, и он, слабея, прошептал:
— Он был мой сын, чудесный, ясноглазый мальчик, он был наша надежда, наша весна, а сейчас… сейчас… о, если бы он умер!
Он умолк, потом в горле у него заклокотало.
— Гармахис, — задыхаясь, прошептал он, — это ты?
— Да, отец, я.
— Гармахис, искупи свою вину! Слышишь — искупи! Ты еще можешь отомстить… можешь заслужить прощение… У меня есть золото, я его спрятал… Атуа… Атуа тебе покажет… о, какая боль! Прощай!
Он слабо затрепетал в моих руках и умер.
Так я и мой горячо любимый отец, царевич Аменемхет, встретились в этой жизни в последний раз и в последний раз расстались.
Глава II, повествующая об отчаянии Гармахиса; о страшном заклинании, которым он призвал Исиду; об обещании Исиды; о появлении Атуа и о ее словах, сказанных Гармахису
Я скорчился на полу, глядя на труп моего отца, который дождался меня и проклял, — меня, до скончания веков проклятого; в покой вползала и сгущалась вокруг нас темнота, и надконец мы с мертвым остались в черном беспросветном безмолвии. О, как страшны были эти часы безнадежного отчаяния! Воображение не может этого представить, слова бессильны описать. И снова я в неизмеримой глубине моего падения стал думать о смерти. За поясом у меня был нож, как легко пресечь им страдания и освободить мой дух. Освободить? Да, чтобы он свободно летел к великим богам принять их великую месть! Увы, увы, я не смел умереть. Уж лучше жизнь на земле со всеми моими горестями и скорбями, чем мгновенное погружение в невообразимые ужасы, которые уготованы в мрачном Аменти всем падшим.
Я катался по полу и плакал жгучими слезами о своей погибшей жизни, о прошлом, которого не изменить, — плакал, пока не иссякли слезы; но безмолвие не отзывалось на мое горе, не давало ответа, я слышал лишь эхо собственных рыданий. Ни проблеска надежды! В моей душе была тьма, более черная, чем темнота покоя: богов я предал, люди от меня отвернулись. Один на один с леденящим душу величием смерти, я почувствовал, что меня охватывает ужас. Скорее прочь отсюда! Я поднялся с пола. Но разве я найду дорогу в этой темноте? Я сразу же заблужусь в галереях, в залах среди колонн. И куда бежать, ведь мне негде приклонить голову. Я снова скорчился на полу, страх обручем сдавливал голову, на лбу выступил холодный пот, казалось, я сейчас умру. И тогда я, в моем смертном отчаянии, стал громко молиться Исиде, к которой уже много, много дней не смел обращаться.
— О Исида! Небесная мать! — взывал я. — Забудь на краткий миг о своем гневе и в своем неизреченном милосердии, о ты, которая сама есть милосердие, отвори сердце свое страданьям того, кто был твоим слугой и сыном, но совершил преступление, и ты отвратила от него лик своей любви! О ты, великая миродержица, живущая во всем и во все проницающая, разделяющая всякое горе, положи свое сострадание на чашу весов и уравновесь им зло, сотворенное мною! Увидь мою печаль, измерь ее; исчисли глубину моего раскаянья и силу скорби, что изливается потоком из моей души. О ты, державная, с кем мне было дано встретиться и узреть твой лик, я призываю тебя священным часом, когда ты явилась мне в Аменти; я призываю тебя великим тайным словом, что ты произнесла. Снизойди ко мне в своем милосердии и спаси меня; или же слети в гневе и положи конец мучениям, которые больше невозможно переносить.
И, поднявшись с колен, я воздел к небу руки и громко выкрикнул то страшное заклинание, произносить которое дозволено лишь в самый тяжкий час, иначе ты умрешь.
И тотчас же богиня отозвалась. В тиши покоя я услышал бряцанье систра, возвещавшего о появлении Исиды. Потом в дальнем углу слабо засветился как бы изогнутый золотой рог месяца и внутри рога — маленькое темное облачко, из которого то высовывал свою голову огненный змей, то прятался в облачке.
Ноги мои подогнулись, когда я увидел богиню, я упал перед нею ниц.
Из облачка послышался тихий нежный голос:
— Гармахис, который был моим слугой и моим сыном, я услышала твою молитву и заклинание, которое ты осмелился произнести, оно властно вызвать меня из горних миров, когда его изрекают уста того, с кем я беседовала. Но нас уже не связывают узы единой божественной любви, Гармахис, ибо ты своим деянием отверг меня. И потому теперь, после того, как я столь долго не отвечала тебе, я явилась перед тобой, Гармахис, в гневе и, быть может, даже с жаждой мести, ибо просто так Исида не покидает свою священную высокую обитель.
— Покарай меня, богиня! — воскликнул я. — Покарай и отдай тем, кто исполнит твою месть, ибо мне не под силу больше нести бремя моего горя!
— Что ж, если ты не можешь нести бремя своего наказания здесь, на земле, — ответил печальный голос, — как же ты понесешь неизмеримо более тяжелое бремя, которое возложат на тебя там, куда ты придешь, покрытый позором и не искупивший вину, — в мое мрачное царство Смерти, которая есть Жизнь в обличьи нескончаемых перемен? Нет, Гармахис, я не стану тебя карать, ибо не так уж велик мой гнев за то, что ты осмелился призвать меня страшным заклинанием: ведь я пришла к тебе. Слушай же меня, Гармахис: не я возвеличиваю и не я караю, я лишь исполнительница повелений Непостижимого, я лишь слежу, чтобы достойный был вознагражден, а недостойный понес кару; и если я дарую милосердие, я дарую его без слов похвалы, и поражаю я тоже без укора. И потому не буду утяжелять твое бремя гневной речью, хоть ты и виноват в том, что скоро, скоро госпожа волхвований, великая чарами богиня Исида станет для Египта лишь воспоминанием. Ты совершил зло, и тяжкое наказание ты за него понесешь, как я тебя и остерегала, — здесь, в этой земной жизни, и там, в моем царстве Аменти. Но я также говорила тебе, что есть путь к искуплению, и ты на него уже вступил, я это знаю, но по этому пути нужно идти, смирив гордыню, и есть горький хлеб раскаяния, пока не исполнятся сроки твоей судьбы.
— Так, стало быть, благая, нет для меня надежды?
— То, что свершилось, Гармахис, то свершилось, и ничего теперь не изменить. Никогда уже Кемет не будет свободным, храмы его разрушатся, их засыплют пески пустыни; иные народы будут завоевывать Кемет и править здесь; в тени его пирамид будут расцветать и умирать все новые и новые религии, ибо у каждого мира, у каждой эпохи, у каждого народа свои собственные боги. Вот дерево, что вырастет, Гармахис, из семени зла, которое посеял ты и те, кто искушал тебя!
— Увы! Я погиб! — воскликнул я.
— Да, ты погиб; но тебе будет дано утешение: ты погубишь ту, что погубила тебя, — так суждено во имя справедливости, которую творю я. Когда тебе будет явлено знамение, брось все, иди к Клеопатре и сверши месть, повинуясь моим повелениям, которые ты прочтешь в своем сердце. А теперь о тебе, Гармахис: ты отринул меня, и потому мы не встретимся с тобою, как тогда, в Аменти, пока в круговороте Времени с этой земли не исчезнет последний росток посеянного тобой зла! Но всю эту нескончаемую череду тысячелетий помни: любовь божественная вечна, она не умирает, хотя порою улетает в недосягаемые дали. Искупи свое преступление, мой сын, искупи зло, пока еще не поздно, чтобы в скрытом мглой конце Времен я снова могла принять тебя в свое сияние. И я, Гармахис, тебе обещаю: пусть даже ты никогда меня не будешь видеть, пусть имя, под которым ты меня знаешь, станет пустым звуком, неразгаданной тайной для тех, кто придет на землю после тебя, — и все же я, живущая вечно, я, наблюдавшая, как зарождаются, цветут и под испепеляющим дыханием Времени рушатся миры, чтобы возникнуть снова и пройти начертанный им путь, — я пребуду всегда с тобой. Где бы ты ни был, в каком бы облике ни возродился, — я буду охранять тебя! На самой далекой звезде, в глубочайших безднах Аменти — в жизни и в смерти, в снах, наяву, в воспоминаниях, в забвении всего и вся, в странствиях души в потусторонней жизни, во всех перевоплощениях твоего духа, — я неизменно буду с тобой, если ты искупишь содеянное зло и больше не забудешь меня; я буду ждать часа твоего очищения. Такова природа Божественной Любви, которая изливается на тех, кто причастился ее святости и связан с ней священными узами. Суди же сам, Гармахис: стоило ли отвергать нетленную любовь ради прихоти смертной женщины? И пока ты не исполнишь все, о чем я тебе говорила, не произноси больше Великого и Страшного Заклятья, я тебе запрещаю! А теперь, Гармахис, прощай до встречи в иной жизни!
Последний звук нежного голоса умолк, огненный змей спрятался в сердце облачка. Облачко выплыло из лунного серпа и растворилось в темноте. Месяц стал бледнеть и наконец погас. Богиня удалялась, снова донеслось тихое, наводящее ужас бряцанье систра, потом и оно смолкло.
Я закрыл лицо полой плаща, и хотя рядом со мной лежал холодный труп отца — отца, который умер, проклиная меня, я почувствовал, как в сердце возвращается надежда, я знал, что я не вовсе погиб и не отвергнут той, которую я предал и которую по-прежнему люблю. Усталость сломила меня, я сдался сну.
Когда я проснулся, сквозь отверстие в крыше пробивался серый свет зари. Зловеще глядели на меня со стен окутанные тенями скульптуры, зловеще было мертвое лицо седобородого старца — моего отца, воссиявшего в Осирисе. Я содрогнулся, вспомнив все, что произошло, потом мелькнула мысль — что же мне теперь делать, но отстраненно, словно я думал не о себе, а о ком-то другом. Я стал подниматься и тут услышал в галерее с именами фараонов на стенах чьи-то тихие шаркающие шаги.
— Ах-ха-ха-ах! — бормотал голос, который я сразу узнал, — это была старая Атуа. — Темно, будто я в жилище смерти! Великие служители богов, которые построили этот храм, не любили источник жизни — солнце, хоть и поклонялись ему. Где же занавес?
Наконец Атуа его подняла и вошла в покой отца с посохом в одной руке и с корзиной в другой. На ее лице стало еще больше морщин, в редких волосах почти не было темных прядей, но в остальном она почти не изменилась. Старуха остановилась у занавеса и стала вглядываться в сумрак покоя своими зоркими глазами, потому что заря еще не осветила комнату отца.
— Где же он? — спросила она. — Неужто ушел ночью бродить, слепой, — да не допустит этого Осирис, славится его имя вечно! Горе мне, горе! И почему я не зашла к нему вечером? Горе всем нам, великое горе! До чего же мы дожили: верховный жрец великого и священного храма, по праву рождения правитель Абидоса, остался в своей немощи один, и только ветхая старуха, которая сама стоит одной ногой в могиле, ухаживает за ним! О Гармахис, бедный мой, несчастный мальчик, это ты навлек на нас такое горе!.. Великие боги, что это? Неужто он спит на полу? Нет, нет… он умер? Царевич! Божественный отец! Аменемхет! Проснись, восстань! — И она заковыляла к трупу. — Что с тобой? Клянусь Осирисом, который спит в своей священной могиле в Абидосе, ты умер? Умер один, никого не было рядом с тобой поддержать в эту священную минуту, сказать слова утешения! Ты умер, умер, умер! — И ее горестный вопль полетел к потолку, отскакивая эхом от украшенных статуями стен.
Тише, перестань кричать! — сказал я, выходя из темноты на свет.
— Ай, кто ты такой?! — крикнула она и выронила из рук корзину. — Злодей, это ты убил нашего владыку праведности, единственного владыку праведности во всем Египте? Да падет на тебя извечное проклятье, ибо хотя боги отвернулись от нас в час горького испытания, но они не оставят преступления безнаказанным и тяжко покарают того, кто убил их помазанника!
— Посмотри на меня, Атуа, — сказал я.
— А разве я не смотрю? Смотрю и вижу злодея, бродягу, который совершил это великое зло! Гармахис оказался предателем и сгинул где-то в дальних странах, а ты убил его божественного отца Аменемхета, и вот теперь я осталась одна на всем белом свете, у меня нет никого, ни единой души. Я отдала убийцам моего родного внука, пожертвовала дочерью и зятем ради предателя Гармахиса! Ну что ж, убей и меня, злодей!
Я шагнул к ней, а она, решив, что я хочу ее зарезать, в ужасе закричала:
— Нет, нет, мой господин, пощади меня! Мне восемьдесят шесть лет, клянусь извечными богами, — когда начнется разлив Нила, мне исполнится восемьдесят шесть лет, и все же я не хочу умирать, хотя Осирис милостив к тем, кто верно служил им всю жизнь! Не подходи ко мне, не подходи… На помощь! Помогите!
— Замолчи, глупая! — приказал я. — Неужто ты меня не узнаешь?
— А почему же я должна тебя узнать? Разве мне знакомы все бродяги-моряки, которым Себек позволяет добывать средства на жизнь, грабя и убивая, пока они не попадут во власть Сета? А впрочем, погоди… как странно… лицо так изменилось… и этот шрам… и ты хромаешь… О, это ты, Гармахис! Это ты, любимый мой, родной мой мальчик! Ты вернулся, мои старые глаза тебя видят, до какого счастья я дожила! Я думала, ты умер! Позволь же мне обнять тебя! Ах, я забыла: Гармахис — предатель и убийца! Вот лежит передо мной божественный Аменемхет, принявший смерть от рук отступника Гармахиса! Ступай прочь! Я не желаю видеть предателей и отцеубийц! Ступай к своей распутнице! Ты не тот, кого я с такой любовью нянчила и растила!
— Успокойся, Атуа, молю тебя: успокойся! Я не убивал отца, — увы, он умер сам, умер в моих объятьях!
— Да, конечно: в твоих объятьях и проклиная тебя, я в том уверена, Гармахис! Ты принес смерть тому, кто дал тебе жизнь! Ах-ха! Долго я живу на свете, и много выпало на мою долю горя, но такого черного часа еще не было в моей жизни! Никогда я не любила глядеть на мумию, но лучше бы мне давно усохнуть и покоиться в гробу! Уходи, молю тебя, уйди с моих глаз!
— Добрая моя старая няня, не упрекай меня! Разве я и без того не довольно вынес бед?
— Ах, да, да, я и забыла! Так что за преступление ты совершил? Тебя сгубила женщина, как женщины всегда губили и будут губить мужчин до скончания века. Да еще какая это была женщина! Ах-ха! Я видела ее, такой красавицы еще на свете не было — злые боги нарочно сотворили ее людям на погибель! А ты совсем молоденький, да к тому же жрец, проведший всю жизнь в затворничестве, — от такого воспитания добра не жди, одна пагуба! Где тебе было устоять против нее? Конечно, ты сразу попался в ее сети, что тут удивительного. Подойди ко мне, Гармахис, я поцелую тебя! Разве женщина может осудить мужчину за то, что он потерял голову от любви? Такова уж наша природа, а Природа знает, что делает, иначе сотворила бы нас другими. С нами здесь случилась беда похуже, вот это уж беда так беда! Знаешь ли ты, что твоя царица-гречанка отобрала у храма земли и доходы, разогнала жрецов — всех, кроме нашего божественного Аменемхета, который теперь лежит здесь мертвый, его она пощадила неведомо почему; мало того: она запретила служить в этих стенах нашим великим богам. А теперь и Аменемхета не стало! Скончался наш Амснемхет! Что ж, он вступил в сияние Осириса, и ему там лучше, ибо жизнь его здесь, на земле, была невыносимым бременем. Слушай же, Гармахис, что я тебе скажу: он не оставил тебя нищим; как только заговор был обезглавлен, он собрал все свои богатства, а они немалые, и спрятал их, я покажу тебе тайник, — они по праву должны перейти к тебе, ведь ты его единственный сын.
— Атуа, не надо говорить мне о богатствах. Куда мне деться, где скрыть свой позор?
— Да, да, ты прав; здесь тебе нельзя оставаться, тебя могут найти, и если найдут, то ты умрешь страшной смертью — тебя удушат в просмоленном мешке. Не бойся, я тебя спрячу, а после погребальных церемоний и плача по божественному Аменемхету мы тайно уедем отсюда и будем жить вдали от людских глаз, пока эти несчастья не забудутся. Ах-ха! Печален мир, в котором мы живем, и бед в нем не счесть, как жуков в нильском иле. Идем же, Гармахис, идем!
Глава III, повествующая о жизни того, кто стал известен всем под именем ученого затворника Олимпия, в усыпальнице арфистов гробницы Рамсеса близ Тапе; о вести, что прислала ему Хармиана; советах, которые он давал Клеопатре; и о возвращении Олимпия в Александрию
И вот что произошло потом. Восемьдесят дней прятала меня старая Атуа, пока искуснейшие из бальзамировщиков готовили труп моего отца, царевича Аменемхета, к погребению. И когда наконец все предписанные законом обряды были соблюдены, я тайно выбрался из своего убежища и совершил приношения духу моего отца, возложил ему на грудь венок из лотосов и в великой скорби удалился. А назавтра я увидел с того места, где лежал, затаившись, как собрались жрецы храма Осириса и святилища Исиды, как медленно двинулась печальная процессия к священному озеру, неся расписанный цветными красками гроб отца, как опустили его в солнечную ладью с навесом. Жрецы совершили символический ритуал суда над мертвым и провозгласили отца справедливейшим и достойнейшим среди людей, потом понесли его в глубокую усыпальницу, вырубленную в скалах неподелку от могилы всеблагого Осириса, чтобы положить рядом с моей матерью, которая уже много лет покоилась там, — надеюсь, что и я, невзирая на все свершенное мной зло, скоро тоже упокоюсь рядом с ними. И когда отца похоронили и запечатали вход в глубокую гробницу, мы с Атуа извлекли из тайника сокровища отца, надежно их укрыли, я переоделся паломником и вместе со старой Атуа поплыл по Нилу в Тапе;[23] там, в этом огромном городе, мы поселились, и я стал искать место, куда мне будет безопасно удалиться и жить в уединении.
Такое место я наконец нашел. К северу от города возвышаются среди раскаленной солнцем пустыни бурые крутые скалы, и здесь, в этих безотрадных ущельях, мои предки — божественные фараоны — приказывали высекать себе в толще скал гробницы, большая часть которых и по сей день никем на обнаружена, так хитро маскировали вход в них. Но есть и такие, что были найдены, в них проникли окаянные персы и просто воры, которые искали спрятанные сокровища. И вот однажды ночью — ибо я не осмеливался покинуть свое убежище при свете дня, — когда небо над зубцами скал начало сереть, я вступил один в эту печальную долину смерти, подобной которой нет больше нигде на свете, и недолгое время спустя приблизился к входу в гробницу, спрятанному в складках скал, где, как я потом узнал, был похоронен божественный Рамсес, третий фараон, носящий это имя, давно вкушающий покой в царстве Осириса. В слабом свете зари, пробившемся сквозь ход, я увидел, что там, внутри, — просторное помещение и дальше много разных камер.
Поэтому на следующую ночь я вернулся со светильниками, и со мной пришла моя старая няня Атуа, которая преданно служила мне всю жизнь с младенчества, когда я, беспомощный и несмышленый, еще лежал в колыбели. Мы осмотрели величественную гробницу и наконец вошли в огромный зал, где стоит гранитный саркофаг с мумией божественного Рамсеса, который много веков почивает в нем; на стенах начертаны мистические знаки; змея, кусающая себя за хвост, — символ вечности; Ра, покоящийся на скарабее; Нут, рождающая Ра; иероглифы в виде безголовых человечков и много, много других тайных символов, которые я легко прочел, ибо принадлежу к числу посвященных. От длинной наклонной галереи отходит несколько камер с прекрасными настенными росписями. Под полом каждой камеры могила человека, о котором рассказывается в сценах росписей на стенах — знаменитого мастера в своем искусстве или ремесле, которым он славил со своими помощниками дом божественного Рамсеса. На стенах последней камеры, той, что по левую сторону галереи, если стоять лицом к залу, где саркофаг, росписи особенно хороши, они посвящены двум слепым арфистам, играющим на своих арфах перед богом Моу; а под плитами пола мирно спят эти самые арфисты, которым уже не держать в руках арфу на этой земле. И здесь, в этой печальной обители, где покоятся арфисты, я поселился в обществе мертвых и прожил восемь долгих лет, неся наказание за совершенные мною преступления и искупая свою вину. Но Атуа любила свет и потому выбрала себе камеру с изображениями барок, а эта камера первая по правую сторону галереи, если стоять лицом к усыпальнице с саркофагом Рамсеса.
Вот как проходила моя жизнь. Через день старая Атуа ходила в город и приносила воду и еду, необходимую для поддержания жизни, а также жир для светильников. На закате и на рассвете я выходил на час в ущелье и прогуливался по нему, чтобы сохранить здоровье и зрение, которого я мог лишиться в кромешной темноте гробницы. Ночью я поднимался на скалы и наблюдал звезды, все остальное время дня и ночи, когда я не спал, я проводил в молитвах и в размышлениях, и наконец груз вины, свинцовой глыбой давившей мое сердце, стал не так тяжек, я снова приблизился к богам, хотя мне не было дозволено обращаться к моей небесной матери Исиде. Я также обрел много знаний и мудрости, проникнув в тайны, которые начал постигать еще раньше. От воздержанной жизни, наполненной молитвами в печальном одиночестве, плоть моя как бы истаяла, но я научился заглядывать в самое сердце явлений и вещей глазами моего духа, и наконец меня осенило великое счастье Мудрости, живительное, точно роса.
Скоро по городу распространился слух, что в зловещей Долине Мертвых, уединившись во мраке гробницы, живет некий великий ученый по имени Олимпий, и ко мне стали приходить люди и приносить больных, чтобы я их исцелил. Я принялся изучать свойства трав и растений, в чем меня наставляла Атуа, и с помощью ее науки и заключений, которые я сделал сам в своих углубленных размышлениях, я достиг больших высот в искусстве врачевания, и многие больные излечивались. Шло время, слава обо мне достигла других городов Египта, люди, говорили, что я не только великий ученый, но и чародей, ибо беседую в своей гробнице с духами умерших. И я действительно с ними беседовал, но об этом мне не позволено рассказывать. И вот немного времени спустя Атуа перестала ходить в город за водой и пищей, все это приносили нам теперь люди, и даже гораздо больше, чем нам было нужно, ибо я не брал платы за лечение. Сначала, опасаясь, что кто-то узнает в отшельнике Олимпии пропавшего Гармахиса, я принимал посетителей лишь в темной камере гробницы. Но потом, когда я узнал, что молва разнесла по всему Египту весть о гибели Гармахиса, я стал выходить на свет и, сидя у входа в гробницу, оказывал помощь больным, а также составлял для знатных и богатых жителей гороскопы. Слава моя меж тем все росла, ко мне стали приезжать люди из Мемфиса и Александрии; от них я узнал, что Антоний оставил Клеопатру и, так как Фульвия умерла, женился на сестре цезаря Октавии. Много, много разных новостей узнавал я от посещавших меня людей.
Когда пошел второй год моего затворничества, я послал старую Атуа в Александрию под видом знахарки, торгующей целебными травами, велел ей разыскать Хармиану и, если она увидит, что Хармиана хранит верность своим клятвам, поведать ей о том, где я живу. И Атуа отправилась в Александрию, откуда приплыла через четыре с лишним месяца, привезя мне пожелания здравия и радости от Хармианы, а также ее дары. Атуа мне рассказала, как ей удалось добиться встречи с Хармианой и как она, беседуя с ней, упомянула мое имя и сказала, что я погиб, после чего Хармиана, не в силах сдержать своего горя, разразилась рыданиями. Тогда старуха, проникнув в ее помыслы и чувства, ибо была очень умна и обладала великими познаниями человеческой природы, открыла Хармиане, что Гармахис жив и посылает ей приветствие. Хармиана зарыдала еще громче — теперь уже от радости, бросилась обнимать старуху, осыпала дарами и просила передать мне, что верна своей клятве и ждет меня, чтобы свершить месть. Узнав в Александрии много такого, что другим было неведомо, Атуа вернулась в Тапе.
В том же году ко мне прибыли посланцы Клеопатры с запечатанным посланием и с богатыми дарами. Я развернул свиток и прочел:
«Клеопатра — Олимпию, ученому египтянину, живущему в Долине Мертвых близ Тапе.
Слава о твоей учености, о мудрый Олимпий, достигла наших ушей. Дай же нам совет, и если твой совет поможет нам исполнить наше желание, мы осыплем тебя почестями и богатствами, каких еще не удостаивался никто во всем Египте. Как нам вернуть любовь благородного Антония, которого околдовала злокозненная Октавия и так долго удерживает вдали от нас?»
Я понял, что Хармиана начала действовать и что это она рассказала Клеопатре о моей великой учености.
Всю ночь я размышлял, призвав на помощь мою мудрость, а утром написал ответ, который продиктовали мне великие боги, дабы погубить Клеопатру и Антония:
«Египтянин Олимпий — царице Клеопатре.
Отправляйся в Сирию с тем, кто будет послан, дабы доставить тебя туда; Антоний снова вернется в твои объятия и одарит тебя столь щедро, что ты и в самых дерзких мечтах такого не можешь представить».
Это письмо я отдал посланцам Клеопатры и велел им поделить между собой посланные мне Клеопатрой дары.
Они отбыли в великом изумлении.
Клеопатра же ухватилась за мой совет и, повинуясь порывам своей страсти, тотчас же отправилась в Сирию с Фонтейем Капито, и все случилось, как я ей предсказал. Она снова опутала Антония своими чарами, и он подарил ей большую часть Киликии, восточный берег Аравии, земли Иудеи, где добывался бальзам, Финикию, Сирию, богатый остров Кипр и библиотеку Пергама. Детей же, близнецов, которых Клеопатра после сына Птолемея родила Антонию, он кощунственно провозгласил «Владыками, детьми владык», и нарек мальчика Александром Гелиосом, что по-гречески означает солнце, а дочь — Клеопатрой Селеной, то есть крылатой луной.
Вот как развивались события дальше.
Вернувшись в Александрию, Клеопатра послала мне богатейшие дары, которых я не принял, и стала умолять меня, мудрейшего ученого Олимпия, переехать жить в ее дворец в Александрию, но время еще не наступило, и я отказался. Однако и она, и Антоний постоянно отправляли ко мне посланцев, спрашивая моего совета, и все мои советы приближали их гибель, все мои пророчества сбывались.
Один долгий год сменялся другим, еще более долгим, и вот я, отшельник Олимпий, живущий вдали от людей в гробнице, питающийся хлебом и водой, снова возвеличился в Кемете благодаря великой мудрости, которой осенили меня боги-мстители. Чем искренней я презирал потребности плоти, чем вдохновенней обращал свой взор к небу, тем большую глубину и власть обретала моя мудрость.
И вот прошло целых восемь лет. Началась и кончилась война с парфянами, по улицам Александрии провели во время триумфального шествия пленного царя Большой Армении Артавасда. Клеопатра побывала на Самосе и в Афинах; повинуясь ей, Антоний выгнал из своего дома в Риме благородную Октавию, точно опостылевшую наложницу. Он совершил столько противных здравому смыслу поступков, что добром это уже не могло кончиться. Да и удивительно ли: властелин мира потерял последние крохи великого дара богов — разума, он растворился в Клеопатре, как некогда растворялся в ней я. И кончилось все тем, что Октавиан, как и следовало ожидать, объявил ему войну.
Однажды днем я спал в камере слепых арфистов, в той самой гробнице фараона Рамсеса близ Тапе, где я по-прежнему жил, и мне во сне явился мой старый отец Аменемхет, он встал у моего ложа, опираясь на посох, и повелел:
— Смотри внимательно, мой сын.
Я стал всматриваться глазами моего духа и увидел море, скалистый берег и два флота, сражающиеся друг с другом. На судах одного флота развевались штандарты Октавиана, на судах другого — штандарты Клеопатры и Антония. Суда Антония и Клеопатры теснили флот цезаря, он отступал, и победа клонилась на сторону Антония.
Я еще пристальней вгляделся в открывшуюся моим глазам картину. На золотой палубе галеры сидела Клеопатра и в волнении наблюдала за ходом сражения. Я устремил к ней свой дух, и она услышала голос мертвого Гармахиса, который оглушил ее:
— Беги, Клеопатра, беги, иль ты погибнешь!
Она с безумным видом оглянулась и снова услышала, как мой дух кричит: «Беги!» Ее охватил необоримый страх. Она приказала морякам поднять паруса и дать сигнал всем своим кораблям плыть прочь. Моряки с изумлением, но без особой неохоты повиновались, и галера поспешно устремилась с поля боя.
Воздух задрожал от оглушительного крика, который сорвался с уст матросов Антония и Октавиана:
— Клеопатра бежит! Смотрите: Клеопатра бежит!
И я увидел, что флот Антония разбит, что море стало багровым от крови, и вышел из своего транса.
Миновало несколько дней, и снова мне во сне явился мой отец и так сказал:
— Восстань, мой сын! Час возмездия близок! Ты не напрасно трудился, молитвы твои услышаны. Боги пожелали, чтобы сердце Клеопатры сковал страх, когда она сидела на палубе своей галеры во время битвы при мысе Акциум, ей послышался твой голос, который кричал: «Беги иль ты погибнешь», и она бежала со всеми своими судами. Антоний потерпел жестокое поражение на море. Ступай к ней и выполни то, что повелят тебе боги.
Утром я проснулся, раздумывая над ночным видением, и двинулся к выходу из гробницы; там я увидел, что по ущелью ко мне приближаются посланцы Клеопатры и с ними стражник-римлянин.
— Зачем вы тревожите меня? — сурово спросил я.
— Мы принесли тебе послание от царицы и от великого Антония, — ответил главный из них, низко склоняясь передо мной, ибо я внушал всем людям до единого неодолимый страх. — Царица повелевает тебе явиться в Александрию. Много раз она обращалась к тебе с такой просьбой, но ты ей всегда отказывал; сейчас она приказывает тебе плыть в Александрию, и плыть не медля, ибо нуждается в твоем совете.
— А если я скажу «нет», то что ты сделаешь, солдат?
— Я подневольный человек, о мудрый и ученейший Олимпий: мне дан приказ доставить тебя силой.
Я громко рассмеялся.
— Ты говоришь — силой, глупец? Ко мне нельзя пытаться применить силу, иначе ты умрешь на месте. Знай, что я не только исцеляю, но и убиваю!
— Молю тебя, прости мою дерзость, — ответил он, сжавшись и побелев. — Я повторил лишь то, что мне было приказано.
— Да, да, я знаю. Не бойся, я поеду в Александрию.
И в тот же день я туда отправился вместе с моей старенькой Атуа. Исчез я так же тайно, как явился, и больше никогда уж не возвращался в гробницу божественного Рамсеса. Я взял с собою все богатства моего отца Аменемхета, ибо не желал, чтобы меня приняли в Александрии за нищего попрошайку, — пусть все видят, что я богат и знатен. По дороге я узнал, что во время сражения при Акциуме Антоний действительно бежал вслед за Клеопатрой, и понял: развязка приближается. Все это и многое другое я провидел во тьме фараоновой гробницы близ Тапе и силой своего духа воплотил.
И вот я наконец приплыл в Александрию и поселился в доме напротив дворцовых ворот, который велел снять и приготовить к моему прибытию.
И в первый же вечер, поздно, ко мне пришла Хармиана — Хармиана, которую я не видел девять долгих лет.
Глава IV, повествующая о встрече Хармианы с мудрым Олимпием; б их беседе; о встрече Олимпия с Клеопатрой; и о поручении, которое дала ему Клеопатра
Одетый в свое темное простое платье, сидел я в кое для приема гостей в доме, который был должным образом обставлен и убран. Я сидел в резном кресле с ножками в виде львиных лап и глядел на раскачивающиеся светильники, в которые было добавлено благовонное масло, на драпировочные ткани с вытканными сценами и рисунками, на драгоценные сирийские ковры, и среди всей этой роскоши вспоминал усыпальницу слепых арфистов близ Тапе, где прожил девять долгих лет во мраке и одиночестве, готовясь к этому часу. Возле двери на ковре свернулась калачиком моя старая Атуа. Волосы у нее побелели, как соль Мертвого моря, сморщенное лицо стало пергаментным, она была уже древняя старуха, и эта древняя старуха всю жизнь преданно заботилась обо мне, когда все остальные отринули меня, и в своей великой любви прощала мои великие преступления. Девять лет прошло! Девять нескончаемо долгих лет! Опять я, в предначертанном круге развития, явился, пройдя искус и затворничество, чтобы принести смерть Клеопатре; и в этот, второй раз игру выиграю я.
Но как изменились обстоятельства! Я уже не герой разыгрывающейся драмы, мне отведена более скромная роль: я лишь меч в руках правосудия; погибла надежда освободить Египет и возродить его великим и могучим. Обречен Кемет, обречен и я, Гармахис. В бурном натиске событий и лет погребен и предан забвению великий заговор, который созидался ради меня, даже память о нем подернулась пеплом. Над историей моего древнего народа скоро опустится черный полог ночи; сами его боги готовятся покинуть нас; я уже мысленно слышу торжествующий крик римского орла, летящего над дальними брегами Сихора.
Я все-таки заставил себя отстранить эти безотрадные мысли и попросил Атуа найти и принести мне зеркало, мне хотелось посмотреть, каким я стал.
И вот что я увидел в зеркале: бритая голова, худое бледное до желтизны лицо, которое никогда не улыбалось; огромные глаза, выцветшие от многолетнего созерцания темноты, пустые, точно провалы глазниц черепа; длинная борода с сильной проседью; тело, иссохшее от долгого поста, горя и молитвы; тонкие руки в переплетении голубых вен, дрожащие, точно лист на ветру; согбенные плечи; я даже стал ниже ростом. Да, время и печаль поистине оставили на мне свой след; я не мог поверить, что это тот самый царственный Гармахис, который в расцвете своих могучих сил, молодости и красоты впервые увидел женщину несказанной прелести и попал под обаяние ее чар, принесших мне гибель. И все же в моей душе горел прежний огонь; я изменился только внешне, ибо время и горе не властны над бессмертным духом человека. Сменяются времена года, может улететь Надежда, точно птица, Страсть разбивает крылья о железную клетку Судьбы; Мечты рассеиваются, точно сотканные из туманов дворцы при восходе солнца; Вера иссякает, точно бьющий из-под земли родник; Одиночество отрезает нас от людей, точно бескрайние пески пустыни; Старость подкрадывается к нам, как ночь, нависает над нашей покрытой позором седой согбенной головой — да, прикованные к колесу Судьбы, мы испытываем все превратности, которым подвергает нас жизнь: возносимся высоко на вершины, как цари; низвергаемся во прах, как рабы; то любим, то ненавидим, то утопаем в роскоши, то влачимся в жалкой нищете. И все равно во всех перипетиях нашей жизни мы остаемся неизменными, и в этом великое чудо нашей Сущности.
Я с горечью в сердце смотрел на себя в зеркало, и тут в дверь постучали.
— Отопри, Атуа! — сказал я.
Атуа поднялась с ковра и отворила дверь; в комнату вошла женщина в греческой одежде. Это была Хармиана, такая же красивая, как прежде, но с очень печальным нежным лицом, в ее опущенных глазах тлел огонь, готовый каждую минуту вспыхнуть.
Она пришла без сопровождающих ее слуг; Атуа молча указала ей на меня и удалилась.
— Старик, отведи меня к ученому Олимпию, — сказала Хармиана, обращаясь ко мне. — Меня прислала царица.
Я встал и, подняв голову, посмотрел на нее.
Глаза ее широко раскрылись, она негромко вскрикнула.
— Нет, нет, не может быть, — прошептала она, обводя взглядом комнату, — неужели ты… — Голос ее пресекся.
— …тот самый Гармахис, которого когда-то полюбило твое неразумное сердце, о Хармиана? Да, тот, кого ты видишь, прекраснейшая из женщин, и есть Гармахис. Но Гармахис, которого ты любила, умер; остался великий своей ученостью египтянин Олимпий, и он ждет, что ты ему скажешь.
— Молчи! — воскликнула она. — О прошлом скажу совсем немного, а потом… потом оставим его в покое. Плохо же ты, Гармахис, при всей своей учености и мудрости, знаешь, как велика преданность женского сердца, если поверил, что оно способно разлюбить, когда изменилась внешность любимого: даже самые страшные перемены, которым подвергает его смерть, бессильны убить любовь. Знай же, о ученый врач, что я принадлежу к тем женщинам, которые, полюбив однажды, любят до последнего дыхания, а если их любовь не встречает ответа, уносят свою девственность в могилу.
Она умолкла, и я лишь склонил перед ней голову, ибо ничего не мог сказать в ответ. Но хотя я молчал, хотя безумная страсть этой женщины погубила меня, признаюсь: я втайне был благодарен ей — ведь ее влюбленно домогались все до единого мужчины этого бесстыдного двора, а она столько нескончаемо долгих лет хранила верность изгою, который не любил ее, и когда этот жалкий, сломленный раб Судьбы вернулся в столь непривлекательном обличьи, он был все так же дорог ее сердцу. Найдется ли на свете мужчина, который не оценит этот редкий и прекрасный дар, единственное сокровище, которое не купишь и не продашь за золото — истинную любовь женщины?
— Я благодарна тебе за молчание, — проговорила Хармиана, — ибо не забыла жестоких слов, которые ты бросил мне в давно прошедшие дни там, в далеком Тарсе, израненное ими сердце до сих пор болит, оно не выдержит твоего презрения, отравленного одиночеством столь долгих лет. Не будем больше вспоминать былое. Вот, я вырываю из своей души эту губительную страсть, — она взглянула на меня и, прижав к груди руки, как бы оттолкнула что-то прочь от себя, — я вырываю ее, но забыть не смогу никогда! С прошлым покончено, Гармахис; моя любовь больше не будет тебя тревожить. Я счастлива, что моим глазам было дано еще раз увидеть тебя до того, как их смежит вечный сон. Ты помнишь, как я жаждала умереть от твоей столь любимой мною руки, но ты не захотел меня убить, ты обрек меня жить и собирать горькие плоды моего преступления, ты помнишь, как проклял меня и предсказал, что я никогда не избавлюсь от видений сотворенного мной зла и от воспоминаний о тебе, кого я погубила?
— Да, Хармиана, я все помню.
— Поверь, я выпила до дна чашу страданий. О, если бы ты мог заглянуть мне в душу и прочесть повесть о пытках, которым я подвергалась и которые переносила с улыбкой на устах, ты понял бы, что я искупила свою вину.
— И все же, Хармиана, молва твердит, что при дворе тебя никто не может затмить, ты самая могущественная среди царедворцев и пользуешься самой большой любовью. Не признавался ли сам Октавиан, что объявляет войну не Антонию и даже не его любовнице Клеопатре, а Хармиане и Ираде?
— Да, Гармахис, а ты хоть раз представил себе, что в это время испытываю я — я, поклявшаяся тебе страшной клятвой и вынужденная есть хлеб той, кого я так люто ненавижу, есть ее хлеб и служить ей, хотя она отняла у меня тебя и, играя на струнах моей ревности, вынудила меня изменить нашему святому делу, покрыть бесславием тебя и погубить нашу отчизну, наш Кемет! Разве богатства, драгоценности и лесть царевичей и вельмож способны принести счастье такой женщине, как я, — ах, я завидую нищей судомойке, ее доля и то легче, чем моя! Я всю ночь не осушаю глаз, а потом настает утро, и я поднимаюсь, убираю себя и с улыбкой иду выполнять повеления царицы и этого тупоголового Антония. Да ниспошлют мне великие боги счастье увидеть их обоих мертвыми — и ее, и его! Тогда я умру спокойно! Тяжка была твоя жизнь, Гармахис, но ты по крайней мере был свободен, а я — сколько раз завидовала я твоему ненарушаемому покою в этой мрачной гробнице!
— Я убедился, Хармиана, что ты верна своим обетам, и это меня радует, ибо час мести близок.
— Да, я верна своим обетам, более того: все эти годы я тайно трудилась для тебя — чтобы помочь тебе и наконец-то погубить Клеопатру и ее любовника римлянина. Я разжигала его страсть и ее ревность, я толкала ее на злодейства, а его на глупости, и обо всех их поступках по моему указанию доносили цезарю. Слушай же, как обстоят дела. Ты знаешь, чем кончилось сражение при Акциуме. Туда прибыла Клеопатра со всем своим флотом, хотя Антоний бурно возражал. Но я, повинуясь твоим наставлениям, стала со слезами умолять его, чтобы он позволил царице сопровождать его, ибо если он оставит ее, она умрет от горя; и он, этот ничтожный глупец, поверил мне. И вот она поплыла с ним и в самый разгар боя, неведомо по какой причине, хотя тебе, Гармахис, эта причина, быть может, и известна. Клеопатра приказала своим судам повернуть обратно и, покинув поле боя, поплыла к Пелопоннесу. И к чему это привело! Когда Антоний увидел, что она бежит, он в своем безумии бросил свои суда и кинулся за ней, так что его флот был разбит и потоплен, а его огромное войско в Греции, состоящее из двадцати легионов и двенадцати тысяч конницы, осталось без полководца. Никто бы не поверил, что Антоний, этот любимец богов, падет так низко. Войско сколько-то времени ждало, но сегодня вечером военачальник Канидий прибыл с вестью, что легионам надоело неведение, в котором они пребывали, они решили, что Антоний их бросил, и все огромное войско перешло на сторону цезаря.
— А где же Антоний?
— Он построил себе жилище на островке в Большой Бухте и назвал его Тимониум, ибо, подобно Тимону, скорбит о людской неблагодарности, считая, что все его предали. Там он скрывается в великом смятении духа, и туда к нему ты должен отправиться на рассвете, так желает царица, — ты излечишь его от его помрачения и вернешь в ее объятия, ибо он не желает видеть ее и еще не знает всей меры постигших его бед. Но сначала я должна отвести тебя к Клеопатре, которая желает получить от тебя совет, и как можно скорее.
— Ну что ж! — Я встал. — Веди меня.
Мы вошли в дворцовые ворота, вот и Алебастровый Зал, я снова стою перед дверью в покои Клеопатры, и снова Хармиана оставляет меня одного и проскальзывает за занавес сообщить Клеопатре, что я здесь.
Через минуту она вернулась и сделала мне знак рукой.
— Укрепи свое сердце, — шепнула она, — и не выдай себя, ведь глаза у Клеопатры очень острые. Входи же!
— О нет, не настолько остры ее глаза, чтобы прозреть в ученом Олимпии юного Гармахиса! Ты и сама бы не узнала меня, Хармиана, не пожелай я того, — ответил я.
И после этих слов вступил в покой, который так хорошо помнил, и снова услышал журчанье фонтана, песнь соловья, ласковый плеск летнего моря. Я двинулся вперед неверным шагом, низко склонив голову, и вот наконец приблизился к ложу Клеопатры — к тому самому золотому ложу, на котором она сидела в ту ночь, когда я пал ее жертвой. Я собрался с духом и посмотрел на нее. Передо мной была Клеопатра, ослепительная как и прежде, но до чего же изменилась она с той ночи, когда я видел ее в последний раз в Тарсе, в объятиях Антония! Красота ее была по-прежнему подобна драгоценному наряду, глаза такие же синие и бездонные, как море, лицо пленительно в своем совершенстве и высшей гармонии черт. И все же это была другая женщина. Время, которое не властно было отнять у нее дарованные богами чары, наложило на ее лицо печать безмерной усталости и скорби. Страсть, переполнявшая ее необузданное сердце, оставила свои следы на лбу, глаза мерцали, точно две печальные звезды.
Я низко поклонился этой царственнейшей женщине, которая когда-то была моей любовницей и погубила меня, а сейчас даже не узнала.
Она усталым взглядом поглядела на меня и неспешно заговорила своим низким голосом, который я так хорошо помнил:
— Итак, ты наконец пришел ко мне, врач. Как звать тебя? Олимпий? Это имя вселяет надежду, ибо теперь, когда египетские боги нас покинули, нам очень нужна помощь богов Олимпа. Да, ты, без сомнения, ученый, ибо ученость редко сочетается с красотой. Странно, ты мне кого-то напоминаешь, но вот кого — не могу вспомнить. Скажи, Олимпий, мы встречались раньше?
— Нет, царица, никогда до этого часа мои глаза не созерцали тебя в телесной оболочке, — ответил я, изменив голос. — Я прибыл сюда, оставив свою затворническую жизнь, дабы исполнить твои повеления и излечить тебя от болезней.
— Странно! Даже голос… никак не всплывет в памяти. В телесной оболочке, ты сказал? Так, может быть, я видела тебя во сне?
— О да, царица: мы встречались с тобою в снах.
— Ты странный человек, и речи твои странны, но люди утверждают, что ты — великий ученый, и я в это верю, ибо помню, как ты повелел мне ехать к моему возлюбленному властелину Антонию в Сирию и как твое прорицание исполнилось. Ты чрезвычайно искусен в составлении гороскопов и в предсказаниях по звездам, в чем наши александрийские невежды полные профаны. Однажды мне встретился столь же ученый астролог, некий Гармахис, — она вздохнула, — но он давно умер, — как жаль, что я тоже не умерла! — и я порой о нем скорблю.
Она умолкла, я опустил голову на грудь и тоже не произносил ни слова.
— Олимпий, растолкуй мне, что со мной случилось. Во время этого ужасного сражения при Акциуме, в самый разгар боя, когда победа уже начала улыбаться нам, мое сердце сжал невыносимый страх, глаза застлала темнота, и в ушах раздался голос Гармахиса, — того самого Гармахиса, который давно умер. «Беги! — кричал Гармахис. — Беги иль ты погибнешь!» И я бежала. Но мой страх передался Антонию, он бросился следом за мной, и мы проиграли сражение. Скажи мне, кто из богов сотворил это зло?
— Нет, царица, боги тут не при чем, — ответил я, — разве ты прогневила богов Египта? Разве ограбила храмы, где им поклоняются? Разве презрела свой долг перед Египтом? А раз ты не повинна в этих преступлениях, за что же египетским богам наказывать тебя? Не надо страшится, то был всего лишь плод воображения, ибо твоей нежной душе невыносимо зрелище кровавой бойни, невыносимо было слышать крики умирающих; что же до благородного Антония, то он всегда устремляется за тобой, куда бы ты ни последовала.
Когда я начал говорить, Клеопатра побледнела и задрожала, она не спускала с меня глаз, пытаясь понять, что означают мои слова. Я успокаивал ее, но сам-то знал, что она бежала, повинуясь воле богов, избравших меня своим мстителем.
— Ученый Олимпий, мой повелитель Антоний болен и вне себя от горя, — сказала она, не отвечая на мое объяснение. — Точно жалкий беглый раб, прячется он в этой башне на острове среди моря и никого к себе не допускает, даже меня, перенесшую из-за него столько мук. И вот что я желаю, чтобы ты исполнил. Завтра, как только начнет светать, ты и моя придворная дама Хармиана сядете в лодку, подплывете к острову и попросите стражей впустить вас в башню, объявив, что привезли вести от военачальников Антония. Он прикажет отворить вам дверь, и тогда ты, Хармиана, должна будешь сообщить ему горестные вести, что привез Канидий, ибо самого Канидия я не решаюсь к нему послать. И когда взрыв горя утихнет, прошу тебя, Олимпий, исцели его измученное тело своими знаменитыми снадобьями, а душу — словами утешения и привези его ко мне, ведь все еще можно исправить. Если тебе это удастся, я дарую тебе столько богатств, что и не счесть, ведь я еще царица и могу щедро оплатить услуги тех, кто выполняет мою волю.
— Не тревожься, о царица, — ответил я, — я выполню все, что ты желаешь, и не возьму награды, ибо пришел, чтобы служить тебе до самого конца.
Я отдал ей поклон и вышел, а дома попросил Атуа приготовить нужное мне снадобье.
Глава V, повествующая о том, как Антоний был привезен из Тимониума к Клеопатре; о пире Клеопатры; и о том, какой смертью умер управитель Клеопатры Евдосий
Еще не рассвело, а Харамиана уже опять пришла ко мне, и мы с ней спустились к тайной дворцовой пристани. Там мы сели в лодку и поплыли к скалистому острову, на котором возвышается Тимониум — небольшая круглая башня с куполом, хорошо укрепленная. Мы высадились на острове, подошли к двери башни и постучали, но никто не отозвался, и мы постучали еще раз, после чего в двери открылось забранное решеткой оконце, в него выглянул старый евнух и грубо спросил, что нам здесь надо.
— Нам нужен благородный Антоний, — ответила Хармиана.
— А вы ему не нужны, ибо мой хозяин, благородный Антоний, не желает видеть никого — ни мужчин, ни женщин.
— Но нас он допустит к себе, мы привезли ему важный новости. Ступай к своему хозяину и доложи, что здесь госпожа Хармиана с вестями от его военачальников.
Евнух ушел, но скоро вернулся.
— Мой господин Антоний желает знать, дурные это вести или добрые, ибо с дурными он вас к себе не пустит, слишком их много было за последние дни, с него довольно.
— Одним словом не скажешь — наши вести и добрые, и дурные. Отопри дверь, раб, я сама буду говорить с твоим хозяином! — И Хармиана просунула через прутья решетки тяжелый кошелек с золотом.
— Что же с вами делать, — проворчал он, беря кошелек, — времена сейчас тяжелые, а грядут и того тяжелее; чем кормиться шакалу, когда льва убьют? Добрые вести или дурные — мне все равно, лишь бы вам удалось выманить благородного Антония из этой обители стенаний. Ну вот, я отпер дверь, ступайте по этому коридору в столовую.
Мы вошли и оказались в узком коридоре, евнух принялся возиться с запорами и задвижками, а мы двинулись вперед и наконец оказались перед занавесом. Подняли его и вступили в сводчатое помещение, тускло освещенное через оконца в потолке. В дальнем углу этой пустой комнаты лежали друг на друге несколько ковров, и на этом ложе сидел, скорчившись, мужчина, лицо его было скрыто складками тоги.
— Благороднейший Антоний, — произнесла Хармиана, приближаясь к нему, — открой свое лицо и выслушай меня, ибо я принесла тебе вести.
Он поднял голову. Его лицо было искажено страданьем; поседевшие взлохмаченные волосы падали на глаза, из которых глядела пустота, подбородок оброс седой колючей щетиной. Одежда мятая, грязная, вид жалкий, точно у нищего возле храмовых ворот. Вот до чего довела любовь Клеопатры блистательного, прославленного Антония, которому некогда принадлежала половина мира!
— Зачем ты тревожишь меня? — спросил он. — Я хочу умереть здесь в одиночестве. Кто этот человек, пришедший посмотреть на сломленного опозоренного Антония?
— Благородный Антоний, это Олимпий, знаменитый врач, великий прорицатель судеб, о котором ты много слышал и которого Клеопатра, неустанно пекущаяся о твоем благе, хоть ты и безразличен к ее скорби, прислала, чтобы он помог тебе.
— И что же, этот твой врач может исцелить горе, постигшее меня? Его снадобья вернут мне мои галеры, честь, спокойствие души? Прочь с моих глаз, я не желаю видеть никаких врачей! Что ты за вести привезла мне? Ну же, скорее! Может быть. Канидий разбил цезаря? Скажи, что это так, и я подарю тебе царство, клянусь! А если к тому же погиб Октавиан, ты получишь двадцать тысяч систерций в придачу. Говори же… нет, молчи! За всю мою жизнь я ничего так не боялся, как слова, которое ты сейчас произнесешь. Что, колесо Фортуны повернулось и Канидий победил? Ведь верно? Ну, не томи же меня, это нестерпимо!
— О благородный Антоний, — начала она, — обрати свое сердце в сталь, дабы выслушать вести, которые я привезла! Канидий в Александрии. Он прибыл издалека и не медлил в пути, и вот что сообщил нам. Семь долгих дней дожидались легионы, когда прибудет к ним Антоний и, как в былые времена, поведет в победоносный бой, и никто из твоих солдат даже слушать не хотел посланников цезаря, которые сманивали их на свою сторону. Но Антония все не было. И тогда поползли слухи, что Антоний бежал на Тенар, следуя за Клеопатрой. Первого, кто принес в лагерь это известие, легионеры, пылая негодованием, избили до смерти. Но слух упорно распространялся, и скоро твои люди перестали сомневаться, что тот несчастный говорил правду; и тогда, Антоний, центурионы и легаты стали один за другим переходить на сторону цезаря, а вместе с военачальниками и их солдаты. Но это еще не все: твои союзники — царь Мавритании Бокх, правитель Киликии Таркондимот, царь Коммагены Митридат, правитель Фракии Адалл, правитель Пафлагонии Филадельф, правитель Каппадокии Архелай, иудейский царь Ирод, правитель Галатии Аминт, правитель Понта Полемон и правитель Аравии Мальх — все до единого бежали либо приказали своим военачальникам вернуться с войсками домой, и уже сейчас их послы пытаются снискать расположение сурового цезаря.
— Ну что, ворона в павлиньих перьях, ты кончила каркать или твой зловещий голос будет еще долго меня терзать? — спросил раздавленный вестями Антоний и отнял от посеревшего лица дрожащие руки. — Ну продолжай же, скажи, что прекраснейшая в мире женщина, царица Египта, умерла; что Октавиан высадился у Канопских ворот; что мертвый Цицерон и с ним все духи Аида кричат о гибели Антония! Да, собери все беды, что могут поразить великих, которым некогда принадлежал мир, и обрушь их на седую голову того, кого ты, в своей лицемерной учтивости, по-прежнему изволишь именовать «благородным Антонием!»
— Я все сказала, о господин мой, больше ничего не будет.
— Да, ты права, не будет ничего! Это конец, конец всему, осталось сделать лишь последнее движение! — И он, схватив с ложа свой меч, хотел вонзить его себе в сердце, но я быстрее молнии метнулся к нему и перехватил руку. В мои расчеты не входило, чтобы он скончался сейчас, ибо умри он, Клеопатра тотчас же заключила бы мир с цезарем, а цезарь хотел не столько покорить Египет, сколько убить Антония.
— Антоний, ты обезумел, неужто ты стал трусом? — вскричала Хармиана. — Ты хочешь бежать от своих бед в смерть и возложить все бремя горестей на плечи любящей тебя женщины — пусть она одна несет за все расплату?
— А почему нет, Хармиана, почему бы нет? Ей не придется долго быть одной. Цезарь разделит ее одиночество. Октавиан хоть и суров, но любит красивых женщин, а Клеопатра все еще прекрасна. Ну что ж, Олимпий, ты удержал мою руку и не позволил умереть, дай же мне в своей великой мудрости совет. Значит, ты считаешь, что я, триумвир, дважды занимавший пост консула, бывший властелин всех царств Востока, должен сдаться цезарю и идти пленником во время его триумфального шествия по улицам Рима, того самого Рима, который столько раз восторженно рукоплескал мне, триумфатору?
— Нет, мой благородный повелитель, — ответил я. — Если ты сдашься, ты обречен. Вчера всю ночь я наблюдал звезды, пытаясь прочесть твою судьбу, и вот что я увидел: когда твоя звезда приблизилась к звезде цезаря, свет ее начал бледнеть и наконец совсем померк, но лишь только она вышла из области сияния цезаревой, она стала разгораться все ярче, все лучистей и вскоре сравнялась с ней по величине. Поверь, не все потеряно, и пока сохраняется хоть крошечная часть, можно вернуть целое. Можно собрать войска и удержать Египет. Цезарь пока бездействует; его войска не приближаются к воротам Александрии, и, может быть, с ним удастся договориться. Лихорадка твоих мыслей передалась твоему телу; ты болен и не способен сейчас судить здраво. Вот, смотри, я привез снадобье, которые тебя излечит, ведь я весьма сведущ в искусстве врачевания. — И я протянул ему фиал.
— Ты сказал — снадобье?! — закричал он. — Это не снадобье, а яд, а сам ты — убийца, тебя подослала коварная Клеопатра, она хочет избавиться от меня, ведь я ей теперь не нужен. Голова Антония в обмен на мир с Октавианом — она пошлет ее цезарю, она, из-за которой я потерял все! Давай твое снадобье. Пусть это эликсир смерти, — клянусь Вакхом, я выпью его до последней капли!
— Нет, благородный Антоний, это не яд, а я не убийца. Я сам выпью глоток, если желаешь, смотри. — И я пригубил снадобье, которое обладает способностью вливать силы в кровь людей.
— Давай же, врач. Тем, кто дошел до последней черты отчаяния, не страшно ничего. Пью!.. Боги, что это? Ты дал мне чудодейственный напиток! Все мои беды рассеялись, словно налетел южный ветер и унес грозовые тучи; сердце ожило, точно пустыня весной, в нем расцвела надежда! Я — прежний Антоний, я снова вижу, как сверкают на солнце копья моих легионов, я слышу подобный грому рев — это войска, мои войска приветствуют Антония, своего любимого полководца, который едет в сверкающих доспехах вдоль нескончаемых шеренг! Нет, нет, не все потеряно! Судьба переменится! Я еще увижу, как с сурового лба цезаря — того самого цезаря, который никогда не ошибается, разве что ему выгодно совершить ошибку, — будет сорван лавровый венок победителя и как этот лоб навеки увенчается позором!
— Ты прав! — вскричала Хармиана. — Конечно, судьба переменится, но ты должен вести себя как подобает мужчине! О господин мой, вернись со мною во дворец, вернись в объятья любящей тебя Клеопатры! По всем ночам она лежит без сна на своем золотом ложе, и темнота покоя, рыдая, зовет вместе с ней: «Антоний!», а Антоний отгородился от мира своим горем, забыл и свой долг, и свою любовь!
— Я еду, еду! Как мог я усомниться в ней? Позор мне! Раб, принесли воды и пурпурное одеянье — в таком виде я не могу предстать пред Клеопатрой. Сейчас я вымоюсь, переоденусь — и к ней, к ней!
Вот так мы убедили Антония вернуться к Клеопатре, чтобы вернее погубить обоих.
Все трое прошли мы через Алебастровый Зал в покои Клеопатры, где она лежала на золотом ложе в облаке своих волос и нескончаемо лила слезы.
— Моя египтянка! — воскликнул он. — Я у твоих ног, взгляни!
Она соскочила с ложа.
— Неужели это ты, любимый мой? — залепетала она. — Ну вот, опять все хорошо. Иди ко мне, забудь свои тревоги в моих объятьях, обрати мое горе в радость. О мой Антоний, пока мы любим друг друга, нет никого на свете счастливее нас!
И она упала ему на грудь и страстно поцеловала.
В тот же день ко мне пришла Хармиана и попросила приготовить сильный смертельный ад. Я сначала отказался, испугавшись, что Клеопатра хочет отравить им Антония, а время для этого еще не наступило. Но Хармиана объяснила, что мои опасения напрасны, и рассказала, для какой цели этот ад предназначен. Поэтому я призвал Атуа, столь сведущую в свойствах трав и растений, и несколько часов мы с ней трудились, готовя смертоносное зелье. Когда оно было готово, снова пришла Хармиана с венком из только что срезанных роз и попросила меня погрузить венок в зелье.
Я сделал, как она велела.
В тот вечер на пиру, который устроила Клеопатра, я сидел возле Антония, а Антоний сидел рядом с ней, и на голове его был отравленный венок. Пир был роскошный, вино лилось рекой, и наконец Антоний и царица развеселились. Она рассказывала ему о том, какой план она придумала: ее галеры сейчас стягиваются в Героополитанский залив по каналу, который прорыт от Бубастиса, что на Пелузийском рукаве Нила. Она решила, что если цезарь не пойдет на уступки, они с Антонием, забрав все ее сокровища, спустятся в Аравийский залив, где у цезаря нет флота, и найдут убежище в Индии, куда враги не смогут за ними последовать. Но этот ее замысел не осуществился, потому что арабы из Петры сожгли галеры, получив известие о планах Клеопатры от живущих в Александрии иудеев, которые ненавидели Клеопатру, а Клеопатра ненавидела их. Это я сообщил иудеям о том, что она задумала.
И вот сейчас, во время пира, посвятив Антония в своих намерения, царица попросила его выпить с ней за успех, но сначала пусть он опустит в свою чашу розовый венок, чтобы вино стало еще слаще. Антоний снял венок и опустил в чашу, она подняла свою. Он тоже поднял, но вдруг она схватила его за руку, вскрикнула: «Подожди!», и он в удивлении замер.
Нужно сказать, что среди слуг Клеопатры был управитель, которого звали Евдосий; и этот Евдосий, убедившись, что счастье изменило Клеопатре, задумал в ту самую ночь перебежать к цезарю, как уже переметнулись многие и поважнее его, причем заранее украл все, что можно было украсть во дворце из дорогих вещей, и припрятал, чтобы захватить с собой. Но Клеопатра прознала о замысле Евдосия и решила достойно наказать изменника.
— Евдосий, — позвала она его, ибо управитель стоял неподалеку, — подойди к нам, наш верный слуга! Взгляни на этого человека, благороднейший Антоний: он остался нам верен невзирая на все превратности нашей судьбы, всегда поддерживал нас. И потому он будет награжден согласно его заслугам и преданности из твоих собственных рук. Дай ему эту золотую чашу с вином, пусть он выпьет за наш успех, а чашу примет как, наш дар.
Все еще ничего не понимая, Антоний протянул управителю чашу, и тот, дрожа всем телом, ибо совесть его была нечиста и он испугался, взял ее. Но пить не стал.
— Пей! Пей же, раб! — вскричала Клеопатра, приподнимаясь со своего ложа и впиваясь в его побледневшее лицо зловещим взглядом. — Клянусь Сераписом, если ты посмеешь пренебречь вниманием своего господина Антония, я прикажу высечь тебя и превратить в кусок кровавого мяса, а потом вылью на твои раны это вино вместо целебной примочки, — это так же верно, как то, что я победительницей войду в Капитолий в Риме! Ага, ты все-таки выпил! О, что с тобою, преданный Евдосий? Тебе дурно? Наверно, это вино похоже на ту воду иудеев, что убивает предателей и придает силы честным. Эй, кто-нибудь, обыщите его комнату: мне кажется, он замыслил недоброе!
Управитель стоял, стиснув голову руками. Вот по телу его пробежала судорога, он страшно закричал и упал наземь. Потом поднялся, раздирая руками грудь, точно хотел вырвать свое сердце. Лицо исказилось невыразимой мукой, его покрыла мертвенная бледность, на губах закипела пена, и он, шатаясь, двинулся туда, где возлежала Клеопатра и глядела на него, спокойно, зловеще улыбалась.
— Ну что, изменник? Ты выпил свою чашу, — произнесла она. — теперь поведай нам, сладка ли смерть?
— Подлая распутница! — прохрипел умирающий. — Ты отравила меня! Так умри ж и ты! — И он с пронзительным воплем кинулся на нее. Но она разгадала его намерение и с быстротой и легкостью тигрицы метнулась в сторону, он лишь вцепился в ее царскую мантию, пристегнутую огромным изумрудом, и сорвал. Евдосий рухнул на пол и стал кататься, ее пурпурная мантия обернулась вокруг него, но вот он наконец затих и умер, на лице застыла страшная гримаса боли, широко открытые глаза остекленели.
— Раб умер в великолепных мучениях, — с презрительным смешком проговорила Клеопатра, — да еще меня хотел с собой увлечь. Смотрите, он сам надел на себя саван — мою мантию. Унесите его прочь и похороните в этой пелене.
— Клеопатра, что все это значит? — спросил Антоний, когда стражи уносили труп. — Он выпил вино из моей чаши. Как понять твою жестокую шутку?
— У меня была двойная цель, мой благородный Антоний. Нынешней ночью этот негодяй хотел бежать к Октавиану и унести с собой наши ценности. Что ж, я одолжила ему крылья, ибо если живым приходится идти, то мертвые летят. Но это еще не все: ты опасался, мой повелитель, что я отравлю тебя, не спорь, я это знаю. Теперь ты видишь, Антоний, как легко мне было бы убить тебя, если бы я захотела. Этот венок из роз, который ты опустил в чашу с вином, был покрыт сильнейшим ядом. И пожелай я твоей гибели, разве остановила бы я твою руку? О Антоний, молю тебя: верь мне всегда! Для меня один-единственный волосок с твоей любимой головы дороже моей жизни. Ну вот, вернулись слуги. Говорите, что вы нашли?
— Великая царица Египта, осмотрев комнату Евдосия, мы обнаружили, что он приготовился бежать и что в его вещах много разных ценностей.
— Слышали? — спросила она, зловеще улыбаясь. — Теперь вы знаете, мои верные слуги, что предавать Клеопатру безнаказанно никому не удается. Пусть судьба этого римлянина послужит вам уроком.
В пиршенственном зале воцарилась мертвая тишина, Антоний тоже сидел и молчал.
Глава VI, повествующая о беседах ученого Олимпия с жрецами и правителями в Мемфисе; о том, как Клеопатра отравила своих слуг; как Антоний говорил со своими легатами и центурионами и о том, как великая богиня Исида навек покинула страну Кемет
Я должен спешить, у меня осталось совсем мало времени, я не успею рассказать все, о чем хотел поведать в этой повести, лишь коротко опишу главное. Мне уже объявили, что дни мои сочтены и скоро, скоро я предстану перед великим судом. Итак, после того, как мы выманили Антония из Тимониума, наступило тягостное затишье, подобное тому, которое сметают налетающие из пустыни ветры. Антоний и Клеопатра продолжали тратить безумные деньги на роскошь, каждый вечер устраивали во дворце великолепные пиры. Они отправили своих послов к цезарю, но цезарь послов не принял; и когда надежда на заключение мира исчезла, они стали готовить защиту Александрии. Строили суда, вербовали солдат, собрали огромное войско, готовое дать отпор цезарю.
А я с помощью Хармианы начал последние приготовления, чтобы свершилась месть, взлелеянная ненавистью. Я проник во все хитросплетения дворцовых тайн, и все советы, которые я давал, несли лишь зло. Я убеждал Клеопатру, что нужно развлекать Антония и не позволять ему задумываться над постигшими их бедами, и потому она послушно топила его силы и энергию в изнеживающей роскоши и в вине. Я давал ему мои снадобья — снадобья, которые опьяняли его мечтами о счастье и о власти, но погружали в еще более глубокое отчаяние, когда после пробуждения наступало похмелье. Скоро он уже не мог спать без моих лекарств, а я всегда был подле него и настолько подчинил его ослабшую волю своей, что он уже был не способен что-то предпринять без моего одобрения. Клеопатра тоже стала очень суеверна и постоянно обращалась ко мне за помощью; я составлял ей прорицания, вернее, лжепророчества. Но это еще не все, я плел свою паутину везде, где только мог. Меня высоко почитали в Египте, ибо во время моего долгого отшельничества близ Тапе слава моя распространилась по всей стране. И потому ко мне приходили многие именитые люди, желая исцелиться от какого-нибудь недуга или же зная, как взыскан я милостями Антония и царицы, ибо в те смутные тревожные дни все пытались выведать, что можно, как обстоят дела в стране. Со всеми с ними я говорил уклончиво, незаметно вселяя недоверие к царице, многих вовсе отвратил от нее, но никто не мог бы уличить меня в злонамеренных речах и в подстрекательстве к измене. Клеопатра послала меня в Мемфис, чтобы я встретился там с верховными жрецами и с правителями и поручил им набрать в Верхнем Египте людей для пополнения войск, которые будут защищать Александрию. И я поехал туда и начал говорить перед верховными жрецами таким глубоким и тонким иносказанием, что они узнали во мне одного из посвященных в сокровенные таинства древних знаний. Но никто из них не мог понять, почему я, ученый врач Олимпий, вдруг оказался посвященным. Они стали окольными путями выведывать, как такое могло произойти, и тогда я сделал священный жест, который известен лишь членам братства и просил их не допытываться у меня, кто я такой, но выполнять мои повеления и не оказывать помощи Клеопатре. Нужно заручиться поддержкой цезаря, ибо только его благоволение может спасти наши храмы, иначе служение богам Кемета навсегда заглохнет. И вот после знамения, которое жрецы получили от божественного Аписа, они обещали мне на словах заверить Клеопатру, что окажут ей всяческую помощь, но в тайне от нее отправят посланцев к цезарю.
Вот почему Египет не встал на защиту столь ненавистной ему царицы-гречанки. Из Мемфиса я вернулся в Александрию и, успокоив Клеопатру, сообщением, что Верхний Египет обещал ей поддержку, продолжал свои тайные козни. Жителей Александрии было очень легко в них вовлечь, недаром же народ наш сложил пословицу: «Ослу бы надо избавиться от хозяина, а он лишь хочет сбросить свою ношу». Да, слишком жестоко их угнетала Клеопатра, и потому они ждали римлян, как избавителей.
А время между тем летело, и с каждым днем у Клеопатры оставалось все меньше и меньше друзей, ибо в беде наши друзья улетают, как ласточки перед сезоном дождей. Но Клеопатра хранила верность Антонию, которого по-прежнему любила, хотя как мне стало известно, цезарь через своего вольноотпущенника Тирея обещал ей, что оставит ей и ее детям прежние владения, если она убьет Антония или выдаст его живым. Но против этого бунтовало ее женское сердце, — ибо сердца она еще не лишилась, — к тому же мы с Хармианой всячески поддерживали этот бунт, нам во что бы то ни стало нужно было удержать его при ней, ведь если Антоний бежит или его убьют, Клеопатра еще может пережить надвигающуюся бурю и остаться царицей Египта. И душа моя скорбела, ибо хоть Антоний сейчас и растерялся, в нем еще оставалось довольно мужества, он был истинно великий человек; к тому же в его судьбе, как в зеркале, я видел отражение собственной гибели. Разве не роднило нас с ним общее несчастье? Разве не та же самая женщина украла у нас царство, друзей, честь? Но в политических делах нет места жалости, она не должна совлечь меня с пути мести, по которому меня направили высшие силы. Цезарь приближался; Пелузий пал; еще немного — и наступит развязка. Весть о падении Пелузия принесла царице и Антонию Хармиана, когда они почивали в самое знойное время дня в покое, где был фонтан; я пришел туда вместе с ней.
— Проснись! — закричала Хармиана. — Проснитесь, не время спать! Селевк сдал цезарю Пелузий, цезарь со своими войсками идет на Александрию!
С уст Антония сорвалось проклятье, он вскочил с ложа и стиснул рукой плечо Клеопатры.
— Ты предала меня, клянусь богами! Теперь расплачивайся за свою измену! — Он выхватил из ножен меч и занес над ней.
— Антоний, опусти свой меч! — взмолилась она. — зачем ты меня винишь в измене, я ничего не знала! — Она бросилась ему на грудь и, рыдая, крепко обняла. — О повелитель мой, поверь, я ничего не знала! Возьми жену Селевка и его маленьких детей, которых я держу под стражей, и отомсти. Антоний, мой Антоний, как можешь ты сомневаться во мне?
Антоний швырнул меч на мраморный пол, упал на ложе, уткнулся лицом в подушки и от безысходности застонал.
Зато Хармиана улыбнулась, ибо никто иной, как она тайно посоветовала Селевку, с которым была в доброй дружбе, сдаться без боя, заверив, что Александрия сопротивляться не будет. В ту же ночь Клеопатра собрала весь свой огромный запас жемчуга и те изумруды, что остались от сокровища Менкаура, все золото, эбеновое дерево, слоновую кость, корицу — несметные, бесценные богатства — и приказала перенести все в гранитный мавзолей, который, по египетскому обычаю, построила для себя на холме возле храма богини Исиды. Все эти сокровища она сложила на снопы льна, которые в случае надобности подожжет — пусть все погибнет в пламени, лишь бы не досталось алчному Октавиану. И стала после этого ночевать в гробнице без Антония, одна, но день проводила с ним во дворце.
Недолгое время спустя, когда цезарь со всем своим могучим войском уже переправился через Канопский рукав Нила и подступал к Александрии, Клеопатра приказала мне явиться во дворец, и я пришел к ней. Она была в Алебастровом Зале, одетая в свой парадный церемониальный наряд, ее глаза горели, точно у безумной, с ней были Ирада и Хармиана, а также ее телохранители; на мраморном полу валялось несколько трупов, один из мужчин был еще жив.
— Приветствую тебя, Олимпий! — воскликнула она. — Вот зрелище, которое должно наполнить сердце врача радостью, — одни умерли, другие умирают!
— Что ты делаешь, царица? — в испуге спросил я.
— Ты спрашиваешь, что я делаю? Творю правосудие над этими изменниками и преступниками, а заодно, Олимпий, знакомлюсь с повадками Смерти. Я приказала дать этим рабам шесть разных ядов, а потом внимательно наблюдала, как они действуют. Вот этот — она указала на нубийца, — потерял рассудок, начал тосковать о своих родных пустынях и о матери. Дурачок, ему представилось, что он опять ребенок, он звал мать и умолял ее прижать его к своей груди и защитить от тьмы, которая к нему подкрадывается. Грек кричал и кричал, пока не умер. А вот этот трус лил слезы, молил сжалиться над ним, спасти от смерти. Египтянин — видишь, он еще жив и стонет, — выпил яд первым, причем мне клялись, что это самый сильный яд, и представляешь — презренный так пламенно любит жизнь, что никак не может с ней расстаться! Смотри, он все пытается извергнуть из себя яд; я дала рабу второй кубок, а ему все мало. Сколько же надо, чтобы его убить, — бочку? Глупец, глупец, неужто ты не знаешь, что только в смерти мы обретаем покой? Перестань цепляться за жизнь, тебя ждет отдохновение. — И едва она произнесла эти слова, несчастный пронзительно вскрикнул и испустил дух.
— Ну вот, наконец-то фарс кончился! — воскликнула она. — Я втолкнула этих рабов в царство радости через разные ворота. Убрать! — И она хлопнула в ладоши. Но когда слуги унесли трупы, она приблизилась ко мне и вот что сказала: — Олимпий, ты предсказываешь нам счастливый исход, но я-то знаю: конец наш близок. Цезарь победит, я и мой повелитель Антоний обречены. Драма земной жизни сыграна, и я должна покинуть сцену как подобает царице. Мне надо подготовиться, и потому я испытывала сейчас действие этих ядов — ведь скоро мне самой придется пережить все те страдания, которым я сегодня подвергла злосчастных слуг. Эти зелья мне не подходят: одни причиняют слишком мучительную боль, отторгая душу от тела, другие убивают невыносимо медленно. Но ты искусен в приготовлении смертельных ядов. Составь же мне такой, чтобы погасил мою жизнь мгновенно и без боли.
В мое опустошенное горем сердце хлынуло торжество: теперь я знал, что эта обреченная женщина погибнет от моей руки и что моей рукой свершится правосудие богов.
— Повеление, достойное царицы, о Клеопатра! — ответил я. — Смерть исцелит твои недуги, а я сделаю тебе вино, ты его выпьешь, и Смерть тотчас же примет тебя в объятья, точно любящая мать, и уплывет с тобою в море сна, от которого ты никогда уже на этой земле не пробудишься. О царица, не страшись Смерти: Смерть сулит надежду, и я уверен, что ты предстанешь пред грозным судом богов безгрешной и с чистым сердцем.
Она содрогнулась.
— А если сердце не вполне чисто, скажи мне, о таинственный Олимпий, что ждет меня тогда? Но нет, я не боюсь богов! Ведь если карающие боги — мужчины, я сумею их победить. Я была царица в жизни, останусь ей вовек и после смерти.
В тот миг у дворцовых ворот раздался громкий шум, послышались радостные клики.
— Что там такое? — спросила она, быстро вставая с ложа.
— Победа! Победа! — ширился крик. — Антоний победил!
Она как птица полетела навстречу ему, длинные волосы подхватил ветер. Я устремился за ней, но так быстро бежать не мог, я миновал тронный зал, дворцовый двор, вон наконец ворота. В них как раз въезжал Антоний с ликующей улыбкой, в сверкающих римских доспехах. Увидев Клеопатру, он спрыгнул с коня и, как был, в полном боевом снаряжении, прижал ее к груди.
— Рассказывай скорее! — воскликнула она. — Ты разбил цезаря?
— Нет, не совсем, моя египтянка, но мы отогнали его конницу к самому лагерю, а это добрый знак, теперь уж мы не отступим — недаром я люблю пословицу: «Славное начало — славный конец». Но это еще не все, я вызвал цезаря на поединок, и если он со мною встретится лицом к лицу с оружием в руках, то мир увидит, кто сильнее — Антоний или Октавиан.
Его слова потонули в ликующих криках, но в это время мы услышали: «Посланец цезаря!»
Гонец вошел, и низко поклонившись, протянул Антонию письмо, снова отдал поклон и удалился. Клеопатра выхватила письмо из рук Антония, сорвала шелковый шнурок и вслух прочла:
— «Цезарь — Антонию.
Приветствую тебя. Вот мой ответ на твой вызов: неужели Антоний не мог придумать более достойной смерти, чем от меча цезаря? Прощай!»
Больше не раздалось ни одного радостного возгласа.
Настал вечер, Антоний пировал с друзьями, которые сегодня так искренне скорбели о его поражениях, а завтра им предстояло его предать. Незадолго до полуночи он вышел к собравшимся перед дворцом военачальникам легионов, конницы и флота, среди которых был и я.
Они окружили его, а он снял шлем и, озаренный светом луны, торжественно заговорил:
— Друзья, соратники, хранящие мне верность, к вам обращаюсь я! Я столько раз вас приводил к победе, а завтра вы, может быть, бесславно ляжете навеки в немую землю. Вот что мы решили: довольно нам плыть по течению войны, мы ринемся навстречу волнам и вырвем из рук врага венец победителя, а если судьба того не пожелает, пойдем на дно. Если вы не оставите меня, не предадите свою честь, у вас есть еще надежда занять места по правую руку от меня в римском Капитолии, и все будут с завистью взирать на вас. Но если вы сейчас измените мне и Антоний проиграет — проиграете вместе с ним и вы. Да, много крови прольется в завтрашнем сраженье, но мы столько раз одерживали верх и над более грозным противником, мы разметали войско за войском, точно пески пустыни, ни один враг не мог противостоять натиску наших победоносных легионов, и солнце еще не успевало сесть, а мы уже делили отнятые у царей богатства. Чего же нам бояться теперь? Да, наши союзники бежали, но ведь наша армия не слабее цезаревой! И если мы будем биться столь же доблестно, клянусь вам моим словом императора: завтра вечером я украшу Канопские ворота головами Октавиана и его военачальников!
Да, да, ликуйте! Как я люблю эти воинственные клики, они словно вырываются из сердец, объединенных преданностью Антонию, разве их сравнишь со звуками фанфар, которым все равно, в чью славу трубить — Антония ли, Цезаря. Но довольно, друзья, сейчас поговорим тихо, как над могилой дорогого нам усопшего. Слушайте же: если Фортуна все-таки отвернется от меня, если солдат Антоний не сможет одолеть напавших на него и умрет смертью солдата, оставив вас скорбеть о том, кто был всегда вашим другом, я, по суровому обычаю воинов, сейчас объявлю вам мою волю и завещаю выполнить ее. Вы знаете, где спрятаны мои сокровища. Возьмите их, любимые друзья, и честно разделите между собой на память об Антонии. Потом идите к Цезарю и так ему скажите: «Мертвый Антоний приветствует живого цезаря и во имя прежней дружбы и в память о тех боях, когда вы с ним сражались рядом, за одно и то же дело, просит проявить великодушие к тем, кто остался ему верен до конца, и не отнимать его даров».
Я не могу сдержать слез, но вам не подобает плакать. Перестаньте, ведь это слабость, ведь вы мужчины! Мы все умрем, и смерть была бы счастьем, если бы не обнажала наше беспощадное одиночество. Прошу вас, позаботьтесь о моих детях, если я погибну, — ведь может так случиться, что они останутся совсем беспомощны. Все, солдаты, довольно! Завтра на рассвете мы бросим все наши силы на цезаря на суше и на море. Поклянитесь, что будете верны мне до последнего!
— Клянемся! — воскликнули они. — Клянемся, благороднейший Антоний!
— Благодарю! Моя звезда еще снова засияет; завтра она поднимется высоко в небе и, быть может, затмит звезду цезаря. Итак, до утра, прощайте!
Он повернулся и хотел уйти. Но потрясенные военачальники брали его за руку и целовали, многие плакали, как дети; Антоний тоже не мог совладать со своим горьким волнением, я видел при свете луны, как по его лицу с резкими складками текут слезы и падают на могучую грудь.
В сердце у меня зашевелилась тревога. Я хорошо знал, что если эти люди сохранят преданность Антонию, беда вполне может миновать Клеопатру; и хоть я не питал к Антонию зла, но он был обречен, он должен погибнуть и увлечь за собой женщину, которая, подобно ядовитому растению, обвилась вокруг этого гиганта и выпила всю его силу, задушила в своих объятиях.
И потому, когда Антоний ушел, я остался, лишь отступил в тень и принялся внимательно изучать лица его военачальников.
— Итак, все решено! — произнес командующий флотом. — Мы все до одного клянемся стоять за благородного Антония до конца, как бы ни повернулась Судьба!
— Клянемся! И выполним нашу клятву! — подхватили остальные.
— Да, выполните свою клятву! — сказал я, не выходя из тени. — Стойте за благородного Антония до конца, и всех вас постигнет смерть!
Они кинулись ко мне и в ярости схватили.
— Кто он такой? — вскричал один из них.
— Презренный пес Олимпий! — отвечал другой. — Олимпий, злой волшебник!
— Предатель! — раздался возглас. — Убьем его, пусть сгинут его злые чары! — И тот, кто это крикнул, выхватил свой меч.
— Да, убей его! Он должен исцелять благородного Антония от недугов, а сам хочет предать его!
— Остановитесь! — приказал я властно и торжественно. — Не в вашей власти убить того, кто служит богам. Я не предатель. Я сам останусь здесь, в Александрии, но вам я говорю: бегите, переходите на сторону цезаря! Я служу Антонию и царице — служу им со всей верностью и преданностью; но еще более преданно я служу великим богам; и то, что они мне открыли, благородные господа, ведомо лишь мне. Но я вас посвящу в божественное откровение: Антоний погибнет, погибнет Клеопатра, победа суждена цезарю. И потому, благородные воины, я говорю вам, ибо высоко чту вас и преисполнен жалости к вашим женам, над которыми нависла печальная участь вдов, и к вашим детям, которые будут проданы в рабство, если останутся сиротами, — я говорю вам: если вы решили хранить верность Антонию и умереть — умрите; но если вам дорога жизнь — идите к цезарю! Так определили боги, я лишь передал вам предначертанное ими.
— Боги! Что нам твои боги? — в ярости закричали они. — Перережьте предателю горло, довольно нам его зловещих предсказаний!
— Пусть явит нам знамение своих богов, иначе ему смерть: я не верю этому колдуну!
— Отойдите прочь, глупцы! — потребовал я. — Освободите мои руки и прочь, подальше от меня, я покажу вам священное знамение. — И такое было у меня в тот миг лицо, что они испугались, выпустили меня и отступили на несколько шагов. А я — я воздел к небу руки и, сосредоточив все силы свой души в едином порыве, устремил их в просторы вселенной, и вот мой дух встретился там с духом священной матери Исиды. Но я не произнес Великое Заклинание, ибо мне это было запрещено. И державная владычица миров и тайн ответила на мой призыв: леденящее кровь безмолвие возвестило, что она летит к земле. Это страшное безмолвие вязко сгущалось, даже собаки перестали лаять, а люди в городе замерли, охваченные ужасом. Но вот где-то вдали послышалось тихое бряцание систр. Сначала оно лишь призрачно овеяло нас, но, приближаясь, стало набирать силу, мощь, вот самый воздух задрожал от грозных, неведомых земле звуков. Я ничего не говорил, лишь указал рукой не небо. Там, в вышине, парило окутанное покрывалом божество, оно медленно плыло к нам в нарастающем громе систр, вот тень его упала на нас… Божество приблизилось, проплыло мимо и стало удаляться в сторону цезарева лагеря, музыка замерла вдали, вызвавший благоговейный ужас образ растаял в ночном небе.
— Это Вакх! — воскликнул кто-то из военачальников. — Вакх покинул Антония, Антоний обречен!
У всех вырвался вопль ужаса.
Но я-то знал, что это был не римский лжебог Вакх, а наша божественная покровительница Исида, она сейчас покинула Кемет и, миновав бездну, разделявшую миры, устремилась в просторы вселенной, где будет жить, забытая людьми. Да, Исиде продолжают еще поклоняться в Египте, она по-прежнему здесь, на земле, как и во всех других мирах, но наши призывания к ней безответны. Я закрыл лицо руками и стал молиться, а когда опустил руки и посмотрел вокруг, увидел, что военачальники Антония ушли и я один.
Глава VII, повествующая о том, как войско и флот Антония сдались цезарю у Канопских ворот; о том, как благородный Антоний умер и как Гармахис приготовил смертельный яд
На рассвете Антоний приказал своему огромному флоту двинуться против флота цезаря, а своей многочисленной коннице устремиться на цезареву конницу. Выстроенные в три линии суда поплыли навстречу судам цезаря, которые уже готовились принять бой. Но когда два флота сблизились, галеры Антония подняли весла в знак приветствия, присоединились к галерам цезаря, и оба флота уплыли вместе прочь. В это время из-за Ипподрома показалась голова конницы Антония, мчавшейся на конницу цезаря, но, встретившись с ней, воины Антония опустили мечи и перешли в стан цезаря — и они тоже покинули Антония. Антоний обезумел от ярости, на него было страшно смотреть. Он закричал своим легионам, чтобы они не смели отступать и ждали боя; и легионы остались на месте. Однако вскоре один из легатов — тот самый, который вчера вечером хотел убить меня, — попытался незаметно ускользнуть; но Антоний схватил его, швырнул на землю и, соскочив с коня, выхватил из ножен меч и хотел убить. Он высоко занес меч, а легат закрыл лицо руками, ожидая смерти. Но вдруг Антоний опустил свой меч и приказал легату встать.
— Иди! — сказал он. — Иди к цезарю и благоденствуй! Я любил тебя когда-то. Почему же из всех бесчисленных предателей я должен убить одного тебя?
Легат поднялся и горестно посмотрел на Антония. Его жег стыд, он с громким криком сорвал с себя панцирь, вонзил в грудь меч и упал мертвый. Антоний стоял и глядел на него, но так и не произнес ни слова. А колонны цезаря тем временем подступали все ближе, и едва они взметнули копья, как легионы Антония бросились бежать. Солдаты цезаря остановились, провожая их издевательским хохотом; они не устремились им вдогонку, никто из воинов Антония не был убит.
— Беги, мой повелитель, беги! — вскричал приближенный Антония Эрос, который один из всего войска остался вместе со мной подле него. — Беги, иначе тебя схватят и поведут пленником к цезарю!
У Антония вырвался тяжкий стон, он повернул коня и поскакал к городу. Я за ним, и когда мы въезжали в Канопские ворота, где собралась огромная толпа любопытных, Антоний сказал мне:
— Теперь оставь меня, Олимпий; езжай к царице и скажи: «Антоний приветствует Клеопатру, предавшую его! Желает здравствовать и радоваться и прощается навек!»
Я двинулся к мавзолею, Антоний же во весь опор помчался во дворец. У мавзолея я спешился и постучал в дверь, в окно выглянула Хармиана.
— Впусти меня! — крикнул я, и она отперла засовы.
— Какие новости, Гармахис? — шепотом спросила она.
— Хармиана, конец близок, — ответил я. — Антоний бежал.
— Слава богам! Я истомилась от ожидания.
Клеопатра сидела на своем золотом ложе.
— Скорее, говори! — приказала она.
— Антоний бежал, его войска бежали, цезарь подходит к Александрии. Великий Антоний приветствует Клеопатру и прощается с ней. Желает здравствовать и радоваться Клеопатре, предавшей его, и прощается навек.
— Ложь! — крикнула она. — Я не предавала его! Олимпий, скачи к Антонию и передай ему: «Клеопатра, которая никогда не предавала Антония, приветствует его и прощается навек. Клеопатра умерла».
И я поехал исполнять ее повеление, ибо все шло как я задумал. Антония я нашел в Алебастровом Зале, он метался по нему, как тигр в клетке, вскидывал руки к небу; с ним был один лишь Эрос, ибо все остальные слуги покинули этого гибнущего властелина.
— Мой благородный повелитель Антоний, — проговорил я, — царица Египта прощается с тобой. Она рассталась с жизнью по своей воле.
— Умерла? Царица умерла? — прошептал он. — Моей египтянки больше нет? И это прекраснейшее в мире лицо и тело станут добычей червей? О, она была истинная женщина и царица! Мое сердце разрывается от любви к ней. Неужто в ней больше силы духа, чем во мне, чья слава некогда гремела по всему свету; неужто я так низко пал, что женщина в своем царственном величии первой ушла туда, куда я страшусь за ней последовать? Эрос, ты с детства предан мне, ты помнишь, как я нашел тебя в пустыне, где ты умирал от голода, как я возвысил тебя, даровал богатства? Теперь спаси меня ты. Возьми свой меч и пресеки страдания Антония.
— Нет, повелитель, не могу! — воскликнул грек. — Разве у меня поднимется рука убить богоподобного Антония?
— Ни слова, Эрос, в этот страшный час я вверяю мою судьбу тебе. Повинуйся или уйди прочь, я останусь один. Предатель, я не желаю больше тебя видеть!
Тогда Эрос выхватил свой меч, а Антоний упал перед ним на колени и, сорвав панцирь, поднял глаза к небу. Но Эрос крикнул: «Нет, не могу!», вонзил меч в собственное сердце и рухнул на пол мертвый.
Антоний медленно встал на ноги, не отрывая от него глаз.
— О Эрос, как благородно ты поступил, — тихо произнес он. — Какое величие души, какой урок ты преподал мне! — Он опустился на колени и поцеловал умершего.
Потом вскочил, вырвал меч из сердца Эроса, вонзил себе в живот и со стоном повалился на ложе.
— О Олимпий, — воскликнул он, — мне больно, невыносимо больно! Положи конец этой муке, Олимпий!
Но я не мог его убить, меня переполняла жалость.
И потому я осторожно извлек из него меч, остановил льющуюся кровь, прогнал любопытных, которые сгрудились у входа в зал смотреть, как будет умирать Антоний, и велел им бежать в мой дом возле дворцовых ворот и привести Атуа. Атуа тотчас же явилась со своими травами и снадобьями, возвращающими жизнь. Я дал их Антонию и послал Атуа к Клеопатре, пусть поспешит на своих старых ногах к ней в мавзолей и расскажет об Антонии.
Атуа пошла и спустя недолгое время вернулась и сказала нам, что царица еще жива и просит принести к ней Антония, он должен умереть в ее объятиях. Вместе с Атуа пришел и Диомед. Когда Антоний услышал весть, что принесла Атуа, силы вернулись к нему — так страстно он хотел еще раз увидеть Клеопатру. И вот я кликнул рабов — они выглядывали из-за занавеса и из-за колонн, уж очень им хотелось посмотреть, как умирает этот великий человек, — и мы бережно понесли Антония к мавзолею.
Но Клеопатра боялась измены и больше не позволяла отпирать дверь; она спустила из окна веревку, и мы обвязали Антония под мышками. Рыдающая горькими слезами Клеопатра, Хармиана и гречанка Ирада изо всех сил стали тянуть веревку вверх, а мы поддерживали умирающего Антония снизу, и вот он наконец поднялся в воздух, из зияющей раны капала кровь, он хрипло стонал. Дважды он чуть не сорвался на землю. Но Клеопатра удержала его, ибо любовь и отчаяние удесятерили ее силы, вот он наконец возле окна, вот она втаскивает его внутрь; все, кто смотрел на это душераздирающее зрелище, давились слезами и били себя в грудь — все, кроме Хармианы и меня.
Когда Антоний был уже внутри, Хармиана снова спустила веревку и стала держать, а я поднялся по ней и втянул ее за собой. Антоний лежал на золотом ложе Клеопатры, а она, вся в слезах, с обнаженной грудью, с разметавшимися в диком беспорядке волосами, стояла возле него на коленях и страстно целовала, отрываясь на миг, чтобы вытереть текущую из раны кровь своим одеянием или волосами. Мне стыдно, и все же я признаюсь: когда я стоял и глядел на нее, во мне проснулась прежняя любовь к ней, мое сердце чуть не разорвалось от ревности, ибо я был властен убить и его, и ее, но не в моей власти было убить их любовь.
— О мой Антоний! Мой возлюбленный, мой муж, мой бог! — задыхаясь от рыданий, шептала она. — Как ты жесток, ты не пожалел меня и решил умереть один, оставить меня в моем позоре! Но я тотчас же последую за тобой в могилу. Очнись, Антоний мой, очнись!
Он приподнял голову и попросил вина, в которое я подмешивал снадобье, утишающее боль, а он страдал невыносимо. Он выпил кубок и попросил Клеопатру лечь рядом с ним на ложе и обнять его; и она легла и обняла его. Теперь Антоний снова почувствовал себя мужчиной, он забыл свое бесславие и свою боль и принялся наставлять ее, что она должна делать, чтобы спасти себя, но она не стала его слушать.
— У нас так мало времени, — прервала она его, — давай же будем говорить о нашей великой любви, которая длилась так долго и будет длиться бесконечно за чертой Смерти. Ты помнишь ночь, когда ты в первый раз обнял меня и сказал, что любишь? О, ночь невыразимого счастья! Если Судьба подарила человеку такую ночь, значит, он не зря прожил жизнь, пусть даже конец этой жизни так горек!
— Да, моя египтянка, мне ли забыть эту ночь, она всегда со мной, хотя с той ночи Фортуна отвернулась от меня — я утонул в моей бездонной любви к тебе, прекраснейшая. О, я все помню! — шептал он. — Помню, как ты в своей безумной прихоти выпила жемчужину и как потом твой звездочет провозгласил: «Час наступает — час, когда на тебя падет проклятье Менкаура». Все эти годы его слова преследуют меня, даже сейчас, в эти последние мгновенья, они звучат в моих ушах.
— Любимый мой, он давно умер, — прошептала она.
— Если он умер, значит, он рядом со мной. Что означали его слова?
— Этот презренный негодяй умер, зачем его вспоминать? О, милый, поцелуй меня, твое лицо бледнеет. Конец близок.
Он поцеловал ее в губы долгим поцелуем, и до самого последнего мгновения они то целовались, то лепетали друг другу на ухо слова любви, точно влюбленные новобрачные. Мое сердце терзала ревность, но я завороженно глядел на них, исполненный неведомым волнением.
Но вот я увидел, что на его лицо легла печать Смерти. Голова откинулась на ложе.
— Прощай, моя египтянка, прощай! Я умираю…
Клеопатра приподнялась на руках, безумным взглядом впилась в его серое, как пепел, лицо, дико вскрикнула и упала без чувств.
Но Антоний был еще жив, хотя говорить уже не мог. Я приблизился к нему и, опустившись на колени, взял вино со снадобьем и поднял, как бы желая дать ему глоток. И в этот миг я прошептал ему на ухо:
— Антоний, прежде чем полюбить тебя, Клеопатра была моей любовницей. Я — тот Гармахис, тот астролог, что стоял за твоим ложем в Тарсе. И это я погубил тебя. Умри, Антоний, на тебя пало проклятье Менкаура!
Он поднял голову и в ужасе уставился мне в лицо. Он не мог вымолвить ни слова, с уст срывались лишь невнятные звуки, он протянул ко мне дрожащий перст. Потом протяжно застонал, и дух покинул его тело.
Так я отомстил римлянину Антонию, который был когда-то властелином мира.
Мы привели Клеопатру в чувство, ибо ее время умирать еще не пришло. Получив согласие цезаря, мы с Атуа поручили Антония заботам самых искусных бальзамировщиков, чтобы похоронить его по обычаям Египта, накрыли лицо золотой маской, которая в точности повторяла черты Антония. Я написал на груди мумии поверх пелен его имя и титулы, на внутренней крышке гроба его имя и имя его отца и нарисовал на ней богиню Нут, распростершую над мертвым свои охранительные крылья.
Клеопатра повелела с великой пышностью отнести гроб в заранее приготовленную усыпальницу и опустить в алебастровый саркофаг. Саркофаг этот был необычно больших размеров, его вытесали для двух гробов, ибо Клеопатра решила упокоиться рядом с Антонием.
И вот как развивались события дальше. Прошло немного времени, и я узнал о намерениях цезаря, мне сообщил о них один из приближенных Октавиана, римский патриций Корнелий Долабелла, который пленился красотой женщины, покоряющей сердца всех, кто хоть раз взглянул на нее, и пожалел Клеопатру в ее несчастьях. Он попросил меня предупредить ее — мне, как ее врачу, было позволено выходить из мавзолея, где она жила, и возвращаться к ней, — что через три дня ее отправят в Рим вместе с оставшимися в живых детьми, ибо Цезариона Октавиан уже убил, и все они пройдут в цепях по улицам Рима, который будет приветствовать триумфатора-цезаря. Я сразу же пошел к Клеопатре и увидел, что она, как и всегда теперь, сидит оцепенело в кресле, и на коленях у нее то платье, которым она вытирала кровь Антония. Она целыми днями глядела на эти пятна крови.
— Смотри, Олимпий, как они выцвели, — сказала она, поднимая ко мне скорбное лицо и указывая на бурые разводы, — а он ведь только что умер! Даже благодарность живет дольше. Какие новости ты мне принес? Дурные, судя по выражению твоих больших темных глаз — они всегда тревожат меня каким-то смутным воспоминанием, но это воспоминание вечно ускользает.
— Да, новости дурные, о царица, — ответил я. — Мне сообщил их Долабелла, а Долабелла узнал от секретаря цезаря. На третий день, считая от нынешнего, цезарь отправляет тебя, царевичей Птолемея и Александра, а также царевну Клеопатру в Рим, чтобы на вас глазела римская чернь, когда Октавиан под ее приветственные клики торжественно проследует к Капитолию, где ты клялась воздвигнуть свой трон.
— Нет, никогда! — вскричала она, вскакивая с кресла. — Никогда я не пойду в цепях за колесницей цезаря-триумфатора! Что же мне делать? Хармиана, помоги, скажи, есть ли спасение?
И Хармиана встала перед Клеопатрой, глядя на нее сквозь длинные опущенные ресницы.
— Есть, о царица: ты можешь умереть, — тихо произнесла она.
— Ах да, конечно, как же я забыла, ведь можно умереть! Олимпий, ты приготовил яд?
— Нет, но если царица пожелает, завтра утром он будет к твоим услугам — яд, действующий столь быстро и надежно, что выпивших его даже боги не смогут пробудить от сна.
— Ну что ж, готовь его, владыка Смерти.
Я поклонился Клеопатре и покинул мавзолей; и всю ту ночь мы с Атуа трудились, готовя смертоносный яд. И вот он наконец готов, и Атуа наливает его в хрустальный фиал и подносит к огню светильника: жидкость прозрачна, как чистейшая вода.
— Ах-ха! Питье, поистине достойное царицы! — пропела она своим пронзительным хриплым голосом. — Когда Клеопатра поднесет эту прозрачную воду, над которой я столько колдовала, к своим алым губам и выпьет пятьдесят капель, твоя месть свершится, о мой Гармахис! Ах, если бы я могла быть там, с тобой, и видеть, как погубившая тебя погибнет! Ах-ха! Какое сладостное зрелище!
— Месть — это стрела, которая часто поражает того, кто ее выпустил, — ответил я, вспомнив слова произнесенные Хармианой.
Глава VIII, повествующая о последнем ужине Клеопатры; о том, как Хармиана пела ей прощальную песнь; как Клеопатра выпила смертельный яд; как Гармахис открыл ей свое имя; как вызвал перед нею духов из царства Осириса и о том, как Клеопатра умерла
Утром Клеопатра, получив согласие Октавиана, отправилась в усыпальницу Антония и долго плакала, сетуя, что боги Египта оставили ее. Поцеловала гроб, осыпала его цветами лотоса и, вернувшись, погрузилась в бассейн, после чего ее умастили благовониями, облекли в роскошнейший из ее нарядов, и вместе с Ирадой, Хармианой и со мной она села ужинать. Во время ужина она вдруг загорелась безудержным весельем — так порою ярко вспыхивает закатное небо; она опять смеялась, блистательно шутила, как в былые времена, рассказывала о пирах, которые устраивали они с Антонием. Никогда не была она столь прекрасной, как в тот последний роковой вечер перед свершением моей мести. И так случилось, что, вспоминая о пирах, она заговорила о том пире в Тарсе, когда растворила и выпила жемчужину.
— Как странно, — сказала она, — как странно, что в последние минуты перед смертью из всех пиров Антоний вспомнил именно этот и повторил слова Гармахиса. Ты помнишь, Хармиана, того египтянина?
— О да, царица, я его помню, — помедлив, ответила Хармиана.
— А кто был этот Гармахис? — спросил я, ибо мне хотелось знать, хранит ли ее сердце печаль обо мне.
— Я расскажу тебе. Странная тогда случилась история, но теперь, когда все счеты с жизнью кончены, ее можно рассказать, ничего не страшась. Этот Гармахис был потомок древних фараонов Египта по прямой линии, его тайно короновали на царство в Абидосе и послали сюда, в Александрию, возглавить могучий заговор, который составили египтяне, желая свергнуть нас, царственных Лагидов. Он приехал, проник во дворец и занял должность моего астролога, ибо обладал великими познаниями в древнем искусстве магии — как и ты, Олимпий, — и к тому же был удивительно красив. Он должен был убить меня и стать фараоном. Да, это был могущественный враг, ибо его поддерживал почти весь Египет, а у меня сторонников было мало. Но в ту самую ночь, когда ему надлежало осуществить свой замысел, за несколько минут до его прихода ко мне явилась Хармиана и рассказала о заговоре, тайна которого открылась ей случайно. Я ничего тебе не говорила, Хармиана, но очень скоро усомнилась, что ты и в самом деле узнала о заговоре случайно: клянусь богами, я уверена: ты любила Гармахиса и предала его из мести, потому что он тебя отверг, и по той же причине потом не захотела стать женой и матерью, а это противно природе женщины. Признайся, Хармиана, я угадала? Сейчас, когда в глаза нам глядит Смерть, можно признаваться во всем без боязни.
Хармиана задрожала.
— Да, это правда, о царица; я тоже принадлежала к заговорщикам, и когда Гармахис отверг мою любовь, я предала его; из-за моей великой любви к нему я осталась на всю жизнь одна. — Она взглянула на меня, встретилась со мною взглядом и смиренно опустила ресницы.
— Ага, я не ошиблась. Кто поймет сердце женщины? Не думаю, однако, что твой Гармахис был благодарен тебе за твою любовь. А ты, что скажешь ты, Олимпий? Ах, Хармиана, Хармиана, значит, и ты оказалась предательницей. Поистине, монархов на каждом шагу подстерегает измена. Но я прощаю тебя, ибо с тех пор ты служила мне верно и преданно.
Но мы отвлеклись от Гармахиса. Убить его я не посмела — боялась, что огромная армия его сторонников в ярости поднимется против меня и сбросит с трона. Но события приняли неожиданный оборот. Нужно сказать, что, хотя Гармахис готовился меня убить, он, сам того не понимая, полюбил меня, а я довольно скоро об этом догадалась. Конечно, я с самого начала постаралась завоевать его, ведь он был так хорош собой и образован; а если Клеопатра захотела, чтобы ее полюбили, ни одно мужское сердце не могло перед ней устоять. И потому когда он пришел ко мне с кинжалом в складках своего одеяния, чтобы убить, я пустила в ход все свои чары обольщения, желая отнять у него волю, и кто усомнится, что в этом поединке женщина победила мужчину? О, забыть ли мне взгляд, каким глядел на меня этот поверженный царевич, этот нарушивший священные обеты жрец, этот утративший свою законную корону фараон, когда я дала ему маковый отвар и он беспомощно проваливался в сон, который навеки отнимал у него честь и славу! Однако я увлеклась Гармахисом, хотя любовью это чувство не назовешь, но потом он мне наскучил — уж очень он был учен и мрачен, больная совесть и вина мешали ему предаваться веселью. А он — он любил меня, поистине забыв обо всем на свете, тянулся ко мне, как пьяница к вину, которое его губит. В надежде, что я стану его супругой, он открыл мне тайну сокровища, спрятанного в пирамиде Менкаура, ибо в то время мне были необходимы средства, и мы вместе с ним спустились в ужасную гробницу и извлекли сокровище из груди мертвого фараона. Смотрите, вот этот изумруд тоже лежал там! — И она указала на огромного скарабея, которого извлекла из груди божественного Менкаура. — И вот я, испугавшись тех страшных слов, которые были начертаны в усыпальнице, и чудовища, которое мы видели в гробнице, — ах, почему это омерзительное воспоминание явилось мне сейчас? — а также из политических соображений, ибо мне хотелось завоевать любовь Египта, решила стать супругой Гармахиса и объявить всему миру, что он — истинный законный потомок фараонов и коронованный на царство фараон, а потом с его помощью защищать Египет от Рима. Ведь как раз в то время Деллий привез мне от Антония послание, в котором триумвир требовал, чтобы я явилась к нему на суд, и после долгих размышлений решила объявить Антонию войну. Но как раз когда служанки убирали меня для выхода в тронный зал, где я должна была дать ответ Деллию, явилась Хармиана, и я ей все рассказала, ибо хотела знать, что она думает о моем решении. Ты и представить себе не можешь, Олимпий, какая великая сила — ревность: с помощью этого крошечного клина можно расщепить могучее древо империи, этот тайный молот выковывает судьбы монархов! Как, мужчина, которого Хармиана любит, станет моим мужем?! Станет мужем женщины, которую он сам так самозабвенно любит? Этого Хармиана допустить не могла, попробуй опровергнуть мои слова, Хармиана, тебе это не удастся, ибо теперь я знаю все! И потому она принялась убеждать меня тончайшими, изощреннейшими доводами, что брак с Гармахисом был бы величайшей ошибкой и что мне следует плыть к Антонию, и сейчас, когда жить мне осталось какой-нибудь час, я признаюсь тебе, Хармиана: я бесконечно благодарна тебе за твой совет. Я и сама сомневалась, а ее слова окончательно склонили чашу весов в пользу Антония — я поплыла к нему. И чем все кончилось, что породила злая ревность красавицы Хармианы и страсть мужчины, который был послушен мне, как струны арфы пальцам музыканта? Октавиан захватил Александрию; Антоний потерял свои владения, свою былую славу и умер; и я сегодня ночью тоже умру! Ах, Хармиана, Хармиана, за многое тебе придется держать ответ — ведь ты изменила ход истории. И все-таки даже сейчас, в эти последние минуты, я повторю: какое счастье, что все случилось так, а не иначе!
Она умолкла и закрыла глаза рукой; я поднял взгляд и увидел, что по щеке Хармианы медленно катится огромная слеза.
— А что ж Гармахис? — спросил я. — Где он сейчас, моя царица?
— Где он сейчас? Увы, в Аменти — наверно, искупает свою вину перед Исидой. В Тарсе я увидела Антония и полюбила его, и с этого мгновения мне стал ненавистен египтянин, я даже видеть его не могла без отвращения и поклялась убить — это лучший способ избавиться от опостылевшего любовника. А он, воспламененный ревностью, предрек мне гибель во время пира, когда я выпила жемчужину; и тогда я решила подослать к нему убийц в ту же ночь, но опоздала — он успел бежать.
— Куда же он бежал?
— Того не знаю. Бренн — он был начальником дворцовой стражи и всего год назад уехал к своим соплеменникам на север — так вот, Бренн клялся, что собственными глазами видел, как Гармахис улетел в небо; но я не верю Бренну: мне кажется, он питал к Гармахису дружбу. Гармахис бежал, его судно потерпело крушение неподалеку от Кипра, и он утонул. Быть может, Хармиана расскажет, как ему удалось бежать?
— Я ничего не знаю, о царица; знаю только одно: Гармахис погиб.
— К счастью для всех, Хармиана, ибо он нес людям зло — да, он был моим возлюбленным, и все же я рада его гибели. Он помог мне в тяжкие времена, но я не любила его истинной любовью и боялась, я даже сейчас его боюсь; мне кажется, во время битвы при Акциуме я сквозь шум и крики услышала его голос, он приказал мне бежать. Возблагодарим же богов, что он погиб, как ты уверяешь, Хармиана, и пусть он во веки не воскреснет.
Но после этих слов я сосредоточил свою волю и, применив приемы искусства, которым я владею, окутал тенью моего духа дух Клеопатры, так что она почувствовала рядом с собой присутствие Гармахиса.
— О, боги, что это? — воскликнула она. — Клянусь Сераписом! Мне страшно, страшно! Клянусь Сераписом, Гармахис здесь, я это чувствую, хотя уж десять лет, как он умер! Воспоминания о нем нахлынули на меня, точно волны, вот-вот затянут в водоворот! О, в такой миг это просто святотатство!
— Не бойся, о царица, — сказал я, — ибо если он умер, его дух разлит повсюду, и в этот миг — миг твоей смерти, Гармахис может приблизиться к тебе, чтобы приветствовать твой дух, когда он отлетит от тела.
— Не говори так, Олимпий! Я не желаю больше видеть Гармахиса; слишком велика моя вина перед ним, в ином мире нам, быть может, легче будет встретиться. Ну вот, ужас отступает! Я просто поддалась малодушию. Что ж, история этого злосчастного глупца помогла нам скоротать самый страшный час нашей жизни — час, который обрывает Смерть. Спой мне, Хармиана, голос твой нежен, он вольет покой в мою душу и усыпит ее. Странно, этот выплывший из прошлого Гармахис почему-то меня растревожил. Ты столько лет услаждала мой слух своими чудесными песнями. Теперь спой последнюю.
— В столь горький час петь нелегко, о царица! — сказала Хармиана, но все-таки подошла к арфе и запела. Она выбрала плач по возлюбленной сладкогласного сирийца Мелеагра и пела его тихо, проникающим в самое сердце голосом:
Моя возлюбленная умерла, —
Лейтесь, слезы, лейтесь.
Владычица души и сердца умерла, —
Лейтесь, слезы, лейтесь.
О слезы, выжгите глаза мне, —
Лейтесь, слезы, лейтесь.
Проникните сквозь мрак к любимой, —
Лейтесь, слезы, лейтесь.
Навеки я в плену страданья без исхода, —
Лейтесь, слезы, лейтесь.
Остались только память и печаль мне, —
Лейтесь, слезы, лейтесь.
Цветами осыпаю я твою могилу, —
Лейтесь, слезы, лейтесь.
Не видишь ты цветов благоуханных, нежных, —
Лейтесь слезы, лейтесь.
Не слышишь горьких песен, что пою я, —
Лейтесь, слезы, лейтесь.
Земля, баюкай мой цветок в своих объятьях, —
Лейтесь, слезы, лейтесь.
Лелей нежнейшую из роз — любимую мою, —
Лейтесь, слезы, лейтесь.
Последние звуки нежной, печальной музыки замерли, Ирада плакала, даже в грозовых глазах Клеопатры сверкали слезы: один я не плакал — мои слезы давно иссякли.
— Печальна твоя песня, Хармиана, — произнесла царица. — И ты права: в столь горький час петь нелегко, но ты спела не песню, а плач. Когда я буду лежать мертвая, Хармиана, спой его надо мною еще раз. А сейчас простимся с музыкой, не будем заставлять Смерть ждать. Олимпий, возьми этот пергамент и напиши то, что я сейчас продиктую.
Я взял кусок пергамента и тростниковое перо и написал по-латыни:
«Клеопатра — Октавиану.
Приветствую тебя. Наступил час, когда мы наконец почувствовали, что больше не в силах выносить постигшие нас несчастья, душе пора расстаться с бренной оболочкой и улететь туда, где нет памяти о прошлом. Цезарь, ты победил: возьми добычу, которая принадлежит тебе по праву. Но Клеопатра не пойдет за твоей колесницей в том триумфальном шествии, к которому сейчас готовится Рим. Когда все погибло, мы сами должны идти навстречу гибели. И потому в пустыне одинокого отчаяния мужественные обретают решимость. Клеопатра не уступит Антонию в своем величии духа, и ее смерть не умалит ее славы. Рабы согласны жить и в унижении, но цари гордо входят через ворота унижения в Царство Смерти. Об одном лишь просит цезаря царица Египта: пусть он позволит положить ее в саркофаг рядом с Антонием. Прощай!»
Я запечатал послание, Клеопатра приказала мне отдать его кому-нибудь из стражи, чтобы он отнес цезарю и вернулся. Я вышел из мавзолея, кликнул солдата, который только что сменился, дал ему денег и велел доставить письмо цезарю. Потом вошел в мавзолей — три женщины молча стояли в комнате. Клеопатра приникла к плечу Ирады, Хармиана смотрела на них.
— Если ты в самом деле решила расстаться с жизнью, о царица, то не медли, — сказал я, — ибо скоро здесь будут люди цезаря, он их пришлет, едва получит твое письмо. — И я поставил на стол фиал с сильнейшим ядом, прозрачным, как ключевая вода.
Она взяла фиал в руки и стала рассматривать.
— Как странно, стало быть, это моя смерть, — сказала Клеопатра, — а с виду никогда не заподозришь.
— Это не только твоя смерть, царица. Здесь хватит яда, чтобы убить еще десятерых. Довольно нескольких капель.
— Я боюсь… — Ее голос прервался. — Кто поручится, что он убьет мгновенно? Столько людей умирало на моих глазах от яда, и почти все мучились. А некоторые… о, даже вспомнить страшно!
— Не бойся, — проговорил я, — я мастер в своем искусстве. Впрочем, если страх твой так велик, вылей яд и живи. Быть может, в Риме тебя еще ожидает счастье: ты пойдешь за колесницей триумфатора-цезаря по римским улицам, и смех римлянок, глядящих на тебя с презрением, заглушит звон твоих золотых цепей.
— Нет, нет, Олимпий, смерть, только смерть. О, если бы кто-нибудь указал мне путь!
Ирада высвободила руку и шагнула ко мне.
— Налей мне своего яду, врач, — сказала она. — Я пойду первой и встречу там мою царицу.
— Да, вот истинная верность, — сказал я, — но ты сама выбрала свою судьбу! — И налил немного жидкости из фиала в маленький золотой кубок.
Ирада подняла его, низко поклонилась Клеопатре, подошла к ней и поцеловала в лоб, потом поцеловала Хармиану. Молиться она не стала, ибо была гречанка, и, не медля ни мгновенья, выпила яд, подняла руку ко лбу, тотчас же упала и умерла.
— Ты видишь, — сказал я, прервав долгое молчание, — теперь ты видишь, как быстро он действует.
— Вижу, Олимпий; ты истинно велик в своем искусстве. Теперь мой черед утолить жажду; налей мне кубок, Ирада уже ждет меня у ворот царства Осириса, и ей там одиноко!
Я снова налил яду, но на сей раз, ополаскивая кубок, оставил там немного воды, ибо перед смертью Клеопатра должна была узнать меня.
И царственная Клеопатра, взяв кубок в руки, подняла к небу свои прекрасные глаза и стала говорить:
— О боги Египта, вы покинули меня, и потому я не стану вам молиться, ведь ваши уши глухи к моим стенаниям, а глаза не видят моих слез! Я взываю к тому единственному другу, которого боги, отворачиваясь от обездоленных, нам оставляют. Спеши ко мне, о Смерть, ты, осеняющая своими сумеречными крыльями весь мир, и выслушай меня! Я жду тебя, владыка всех владык, уравнивающая в своем царстве баловней судьбы и несчастнейших рабов, своей десницей пресекающая трепет нашей жизни на этой горестной земле. Укрой меня там, где не дуют ветры и где остановились воды, где не бывает войн и куда не придут легионы цезаря! Отнеси меня в иные миры и коронуй на царство в Стране Покоя! Ты моя державная владычица, о Смерть, поцелуй меня! Моя душа сейчас рождается заново, видишь: она стоит у черты Времени! Все, прощай, Жизнь! Здравствуй, Вечный Сон! Здравствуй, мой Антоний!
И, взглянув еще раз на небо, она выпила яд и бросила кубок на пол.
И вот тут наконец настал миг, которого я столько лет дожидался — миг моей мести, мести поруганных богов Египта, мести Менкаура, проклятие которого обрушилось на совершившую кощунство.
— Что это? — вскричала Клеопатра. — Я вся похолодела, но я жива! Ты обманул меня, мой мрачный врач, ты меня предал!
— Терпенье, Клеопатра! Ты скоро умрешь и изведаешь всю ярость богов! На тебя пало проклятье Менкаура! Месть свершилась! Вглядись в меня, о женщина! Вглядись в это погасшее лицо, вглядись в эти иссохшие руки, вглядись в это живое воплощение скорби! Смотри внимательно! Ну что, узнала?
Она не могла оторвать от меня расширенных в смертельном ужасе глаз.
— О, боги! — закричала она, выбрасывая перед собой руки. — Да, наконец-то я тебя узнала! Ты — Гармахис, тот самый Гармахис, ты пришел ко мне из царства мертвых!
— Да, я Гармахис, и я пришел к тебе из царства мертвых, чтобы увлечь тебя туда на вечные терзания! Так знай же, Клеопатра: это я погубил тебя, как ты много лет назад погубила меня! Долго я трудился, скрытый тьмою, разгневанные боги помогали мне, и вот теперь я признаюсь тебе — я тайная причина всех твоих несчастий. Это я наполнил твое сердце страхом во время битвы при Акциуме; это я лишил тебя поддержки египтян; это я отнял все силы у Антония; я показал знамение твоим военачальникам, и потому они перешли на сторону Октавиана! И от моей руки ты сейчас умираешь, ибо великие боги избрали меня своим мстителем! Гибель за гибель, измена за измену, смерть за смерть! Подойди ко мне, Хармиана, заговорщица, предавшая меня, но искупившая потом свою вину, подойди ко мне и раздели мое торжество: мы будем вместе смотреть, как умирает эта презренная распутница.
Услышав мои слова, Клеопатра опустилась на золотое ложе и прошептала:
— И ты, Хармиана!
Она умолкла, но потом ее царственный дух вознесся в недосягаемые, ослепительные высоты.
Она с трудом поднялась с ложа и, протянув ко мне руки, прокляла меня.
— О, если бы судьба мне даровала один только час жизни! — воскликнула она. — Единственный короткий час! Ты умер бы в таких мучениях, какие не приснятся в самом страшном сне, — и ты, и эта лживая потаскуха, предавшая и тебя, и меня! И ты любил меня, ты! А, вот она, твоя казнь! Смотри, коварный, лицемерный, плетущий заговоры жрец! — Она разорвала на груди свое роскошное одеяние. — Смотри, на этой прекрасной груди много ночей покоилась твоя голова, ты засыпал в объятиях этих рук. Забудь меня, если сможешь! Не сможешь, я вижу это в твоих глазах! Все мои муки ничто в сравнении с той пыткой, которая терзает твою мрачную душу, ты вечно будешь жаждать, и никогда тебе не утолить твоей жажды! Гармахис, жалкий раб, как мелко твое торжество по сравнению с моим: я, побежденная, победила тебя! Прими мое презрение, ничтожный! Я, умирая, обрекаю тебя на пытки твоей неиссякаемой любви ко мне! О Антоний, я иду к тебе, мой Антоний, я спешу в твои объятья! Мы скоро встретимся и, осененные нашей божественной любовью, вместе поплывем по бескрайним просторам вселенной — уста к устам, глаза в глаза, и с каждым глотком напиток страсти будет казаться нам все слаще! А если я не найду тебя там, в потустороннем царстве, то я уйду в поля маков и среди них засну. Ночь станет нежно баюкать меня на груди, а мне в моих грезах будет казаться, что я лежу у тебя на груди, мой Антоний! Я умираю… приди, мой Антоний, даруй мне покой!
О, я полыхал гневом, но гнев не выдержал ее презрения, слова царицы, точно стрелы, вонзились мне в сердце. Увы, случилось то, что и предсказывала Хармиана: моя месть поразила меня самого — никогда еще я не любил Клеопатру так мучительно, как сейчас. Мою душу терзала ревность, и я поклялся, что так просто она не умрет.
— Ты жаждешь покоя? — воскликнул я. — Да разве ты заслужила покой? О, боги священной триады, молю вас, услышьте меня! Осирис, распахни врата преисподней и выпусти тех, к кому я взываю! Явись, Птолемей, отравленный своей сестрой Клеопатрой; явись, Арсиноя, убитая в святилище своей сестрой Клеопатрой; явись, божественный Менкаура, чье тело Клеопатра растерзала, презрев из алчности угрозу мести и проклятье богов; явитесь все до одного, кто умер от руки жестокой Клеопатры! Покиньте колыбель Нут и встаньте перед той, что умертвила вас! Духи, взываю к вам именем мистического единства и всего сущего великим знаком жизни — явитесь!
Я произнес заклинание; Хармиана в ужасе вцепилась в мое платье, умирающая Клеопатра медленно раскачивалась, опираясь руками о край ложа, и глядела перед собой ничего не видящими глазами.
И вот боги ответили на мой призыв. С шумом распахнулись створки окна, и в комнату влетела та огромная седая летучая мышь, которая висела, вцепившись в подбородок евнуха, когда мы с Клеопатрой были в сердце пирамиды фараона Менкаура. Она трижды облетела комнату, повисла, трепеща крылами, над трупом Ирады, потом устремилась туда, где стояла умирающая Клеопатра. Седое чудовище село ей на грудь, вцепилось в изумруд, который столько тысячелетий покоился в мумии божественного фараона Менкаура, трижды пронзительно крикнуло, трижды взмахнуло огромными костлявыми крылами и исчезло, как будто его и не было.
И вдруг мы увидели, что комнату заполнили тени умерших. Вот красавица Арсиноя, зарезанная ножом подосланного убийцы. Юноша Птолемей с искаженным мукой лицом, умирающий от яда. Божественный Менкаура с золотым уреем на лбу; скорбный Сепа, весь истерзанный крючьями палачей; отравленные рабы, бесчисленное множество ее жертв, страшных, призрачных; они набились в небольшую комнату и молча стояли, вперив остекленевшие глаза в ту, что отняла у них жизнь!
— Смотри же, Клеопатра! — приказал я. — Вот какой покой тебя ожидает! Взгляни и умри!
— Да! — подхватила Хармиана. — Взгляни же и умри, о ты, укравшая у меня достоинство, а у Египта — его царя!
Клеопатра подняла глаза, увидела ужасные тени — быть может, ее покидающий тело дух услышал слова, которых я не мог уловить. На ее лице застыл невыразимый ужас, огромные глаза словно выцвели, Клеопатра пронзительно закричала, упала и умерла: сопровождаемая своей зловещей свитой, она полетела туда, где ее уже ждали.
Так я, Гармахис, совершил месть, которую столь долго лелеяла моя душа, восстановил справедливость, как повелели мне боги, но сердце мое было пусто, в нем не мелькнуло ни блестки радости. Пусть самое дорогое для нас существо несет нам гибель, ибо Любовь более жестока, чем Смерть, и мы, когда приходит час, отплачиваем за наши муки той же монетой, — мы все равно не можем перестать любить, мы с тоской протягиваем руки к тому, что было предметом наших страстных желаний, и кровь нашего сердца льется на алтарь развенчанного божества.
Ибо Любовь — веяние Мирового Духа, она не знает Смерти.
Глава IX, повествующая о прощании Хармианы с Гармахисом; о смерти Хармианы; о смерти старой Атуа; о возвращении Гармахиса в Абидос; о его признании в Зале Тридцати Шести Колонн и о приговоре, который вынесли Гармахису верховные жрецы
Хармиана выпустила мою руку, которую все это время судорожно сжимала.
— Как страшна оказалась твоя месть, о сумрачный Гармахис, — хрипло прошептала она. — О Клеопатра, Клеопатра, ты совершила много преступлений, но ты была поистине великая царица!.. А теперь помоги мне, царевич: положим эту бренную оболочку на ложе и уберем по-царски, пусть эта последняя царица Египта своим безмолвием скажет посланцам цезаря все, что может сказать царица.
Я ничего ей не ответил, на сердце была каменная тяжесть, и теперь, когда все свершилось, я чувствовал, что у меня нет сил. Но мы вместе с Хармианой подняли мертвую Клеопатру и положили на золотое ложе. Хармиана надела на ее матовый, как слоновая кость, лоб венец в виде золотого урея, расчесала волосы цвета безлунной и беззвездной ночи, в которых не было ни единой серебряной пряди, закрыла навсегда глаза, в которых еще совсем недавно синело и бушевало переменчивое море. Она сложила похолодевшие руки на груди, в которой оттрепетала страсть, выпрямила согнувшиеся в коленях ноги, расправила складки роскошного вышитого платья, поставила в головах цветы. Сейчас, в холодном величии смерти, Клеопатра была еще прекраснее, чем в лучезарном сиянии полноты жизни и счастья.
Мы отошли и посмотрели на нее, на мертвую Ираду у ее ног.
— Все, конец, — проговорила Хармиана, — мы отомстили, Гармахис, и что теперь? Пойдем за ней? — Она кивнула в сторону фиала, стоявшего на столе.
— Нет, Хармиана. Я умру, но умру куда более мучительной смертью. Мой срок земного искупления еще не кончился, а сам я не могу его прервать.
— Ты лучше знаешь, как тебе поступить, Гармахис. А я — я сейчас уйду из этой жизни, и крылья смерти унесут меня легко и быстро. Я свою игру сыграла. И тоже искупила свою вину. О, какая горькая мне выпала судьба — я принесла несчастье всем, кого любила, и вот теперь я умираю, и ни одна душа не вспомнит обо мне с любовью! Я искупила свою вину перед тобой, Гармахис; я искупила вину перед разгневанными богами; теперь мне надо заслужить прощенье Клеопатры там, в аду, где она сейчас и куда я последую за ней. Гармахис, ведь она меня любила; и теперь, когда ее нет, я поняла, что после тебя я любила ее больше всех на свете. И потому я наполню сейчас кубок, из которого она пила с Ирадой! — Хармиана взяла фиал и недрогнувшей рукой вылила в кубок остатки яда.
— Подумай, Хармиана, — сказал я, — ведь ты еще так молода, перед тобою вся жизнь; ты спрячешь эти горестные воспоминания глубоко в сердце и будешь жить много, много лет.
— Да, я могла бы, но не хочу. Жить, терзаемая памятью о сотворенном зле, носить в душе незаживающую рану скорби, которая будет год за годом кровоточить бессонными ночами, жить, умирая от стыда, жить под невыносимым бременем любви, которую я не в силах вырвать из сердца, жить одиноко, точно искалеченное бурей дерево на краю пустыни, которое скрипит от ветра и ждет, когда в него ударит молния, а молния все медлит, — нет, Гармахис, такая жизнь не для меня! Моя душа давно умерла, я лишь продолжала существовать, чтобы служить тебе; теперь я тебе больше не нужна и потому умру. Прощай, прощай навек! Никогда больше я не увижу твоего лица. Тебя не будет там, куда я ухожу. Ведь ты не любишь меня, ты по-прежнему любишь эту царственную женщину, которую ты загнал до смерти, как гончая. Но ее ты никогда не завоюешь, как мне никогда не завоевать тебя, — как беспощадно распорядилась нами Судьба! Послушай, Гармахис, пока я еще не умерла и не превратилась для тебя в постыдное воспоминанье, я хочу молить тебя о милости. Скажи мне, что ты простил меня, насколько это в твоей власти — прощать, и в знак прощения поцелуй меня, не как влюбленный, о нет, просто поцелуй в лоб, и тогда я отойду с миром.
Она подошла ко мне и протянула руки, губы ее дрожали от сдерживаемых слез, глаза не отрывались от моего лица.
— Хармиана, в нашей воле выбрать путь добра или зла, — ответил я, — но я уверен, что нашими судьбами управляет иная, высшая Судьба, она, точно ураган, принесшийся неведомо откуда, вдруг подхватывает наши утлые ладьи, и, как бы мы ни боролись с ветром, разбивает их и топит. Я прощаю тебя, Хармиана, как, надеюсь, когда-нибудь боги простят меня, и этим поцелуем, первым и последним, скрепляю мир между тобой и мной. — И я коснулся губами ее лба.
Она молчала, только стояла неподвижно, и долго, печально смотрела на меня. Потом подняла кубок.
— Царственный Гармахис, этот яд я пью за твое здоровье. Мне надо было выпить его раньше, до того, как я увидела тебя! Прощай же, фараон! Когда минуют сроки искупления, ты будешь править высшими мирами, куда мне нет пути, и скипетр в твоих руках будет скипетром божества, царский жезл, которого я тебя лишила, — пустая игрушка рядом с ним. Прощай, навек прощай!
Она выпила яд, бросила кубок и осталась стоять, глядя широко открытыми глазами в пустоту, словно искала в ней Смерть. И Смерть пришла, египтянка Хармиана упала ничком на пол, бездыханная. А я остался один средь мертвых. Потом я тихо приблизился к ложу Клеопатры, сел рядом с ней — никто ведь нас теперь не видел, — и положил ее голову к себе на колени, как много лет назад под сенью извечной пирамиды, в ту ночь, когда мы совершили святотатство. Я поцеловал ее ледяной лоб и покинул дом Смерти — отмщенный, но раздавленный отчаяньем.
— Эй, врач, — окликнул меня начальник стражи, когда я выходил из ворот, — что происходит в мавзолее? Я слышал крики, не умер ли там кто-нибудь?
— Там ничего не происходит, все уже произошло, — ответил я ему и ушел прочь. Скоро в темноте я услышал голоса и быстрые шаги людей цезаря.
Я побежал домой и у ворот увидел Атуа, она ждала меня. Атуа тотчас же увлекла меня в дальнюю комнату в заперла засовы.
— Ну что, все кончено? — спросила она, вглядываясь в меня при свете светильника, лучи которого падали на ее иссохшее лицо и белые, как соль, волосы. — Глупая, зачем мне спрашивать — я и так знаю, что кончено.
— Да, Атуа, все кончено, мы не напрасно трудились. Все умерли: Клеопатра, Ирада, Хармиана, один лишь я остался жить.
Старуха выпрямила свои согбенные плечи и воскликнула:
— Ну вот, теперь позволь и мне отойти с миром, ибо исполнились мои желания: твои враги и враги Кемета мертвы. Ах-ха! Не зря я жила на этом свете больше срока, отпущенного людям! Я выполнила назначенное мне богами: долго я собирала росу Смерти, и вот твои враги ее наконец выпили! Упала корона с этого надменного лба! Повержена в прах та, что столько лет бесславила Кемет! Ах, почему я не видела, как умирает эта распутница!
— Довольно, Атуа, довольно! Мертвые принадлежат царству мертвых. Осирис тотчас призывает их к себе, и вечное молчание смыкает их уста. Не надо оскорблять великих после того, как они пали. Давай лучше поспешим, нам надо плыть в Абидос, ведь еще не все завершено.
— Плыви, Гармахис, плыви, мой внук, я уже не буду сопровождать тебя. Я не могла позволить моей жизни оборваться лишь потому, что жаждала покарать твоих врагов. Теперь я развяжу узел, который держит мою жизнь, и отпущу мой дух на свободу. Прощай, царевич, паломница закончила свой путь. Гармахис, мое дитя, я любила тебя всю жизнь, с колыбели, люблю с такой же нежностью и сейчас, но больше в этом мире я не смогу делить с тобой твои невзгоды — иссякли мои силы. Прими мой дух, Осирис! — Ее дрожащие колени подогнулись, она медленно опустилась на пол.
Я подбежал к ней, поднял на руки, стал вглядываться в ее лицо. Она была мертва, я остался один на этом свете, без единого друга, который поддержал бы меня.
Я вышел из дому и пошел по улицам, никто меня не остановил, ибо весь город был в смятении, добрался до гавани, где меня ждало заранее приготовленное судно, и покинул Александрию. На восьмой день я высадился на берег и зашагал пешком мимо возделанных полей туда, где должна была решиться моя судьба — к священным храмам Абидоса. Я знал, что здесь, в святилище божественного Сети, возобновилось служение богам, это Хармиана убедила Клеопатру смягчиться и отменить запрет, а также вернуть храму земли, которые когда-то отняла, хотя с его богатствами Клеопатра не пожелала расстаться. Храм подвергся очищению, и вот сейчас, во время мистерий, посвященных Осирису и Исиде, здесь собрались верховные жрецы всех древних храмов Египта, чтобы отпраздновать возвращение богов в их священный дом.
Я вошел в город. Был седьмой день празднеств в честь Осириса и Исиды. По улицам, которые я так хорошо помнил, вилась нескончаемая процессия. Я влился в нее, и когда мы прошли сквозь храмовые ворота между могучими пилонами и вступили в не подвластные разрушительной силе Времени залы, я вместе со всеми запел торжественные слова призывания. Как хорошо я их знал!
Несем свою скорбь мы в залы великого храма,
Несем свою скорбь в семь его древних святилищ.
Пламенно молим светлого бога: «Воскресни!
Вернись к нам, Осирис, из мрачного царства Смерти!
Вернись, благодатный, даруй нам надежду и радость!»
И вот священное песнопение смолкло, и, как прежде, едва лишь божественный Ра скрылся за горизонтом, верховный жрец взял статую воскресшего Осириса и поднял высоко перед толпой.
С радостными возгласами: «Осирис! Наша надежда, Осирис!» — люди сбросили с себя черные балахоны, под которыми оказались белые одежды, и все, как один, склонились перед великим богом.
Потом все разошлись по домам, где их ждал праздничный ужин; один лишь я остался во дворе храма.
Немного погодя ко мне подошел один из младших жрецов и спросил, какое дело привело меня сюда. Я объявил ему, что прибыл из Александрии и хочу предстать перед Советом верховных жрецов, ибо мне ведомо, что великие жрецы собрались сейчас и обсуждают события, которые произошли в Александрии.
Жрец ушел, а верховные жрецы, услышав, откуда я приплыл, велели ему тотчас же привести меня к ним, во второй Зал Колонн и Статуй, и жрец меня повел. Уже стемнело, между огромными колоннами горели светильники, как в ту ночь, когда меня короновали фараоном Верхнего и Нижнего Египта. Как и тогда, в резных креслах, поставленных длинным рядом, сидели духовные владыки и беседовали. Все было как прежде, те же бесстрастные лики богов и царей взирали с не подвластных Времени стен своими пустыми глазами. Но это еще не все! Среди собравшихся на совет было пятеро сановников из верхушки великого заговора, они присутствовали на моей коронации, и только им одним удалось избегнуть расправы Клеопатры и разящей косы Времени.
Я встал на то же место, где стоял, когда на меня возлагали корону, и с горечью в сердце, которую невозможно описать, приготовился к тому, что презрение этих достойнейших граждан Египта сейчас испепелит меня.
— Да это же врач Олимпий, — сказал кто-то из верховных жрецов. — Тот самый, что долго жил отшельником в гробнице фараона близ Тапе, а потом стал приближенным Клеопатры. Скажи, врач, это правда, что царица умерла, что она совершила самоубийство?
— Да, великие духовные наставники, я тот самый врач, кого называют Олимпием, это правда; правда и то, что Клеопатра умерла, но она не совершала самоубийства — ее убил я.
— Ты?! Как это возможно? Но все равно: мы истинно ликуем, что этой отвратительной блудницы больше нет.
— Выслушайте меня, о великие духовные наставники, я все вам расскажу, для того я и явился к вам сюда. Быть может, кто-то из вас сидел здесь, в этом зале одиннадцать лет назад, на тайной коронации некоего Гармахиса, который был провозглашен фараоном Кемета? Мне кажется, я вижу несколько знакомых лиц.
— Да, верно! — раздались возгласы. — Но как, Олимпий, может быть тебе такое ведомо?
— Вас всего пять, — продолжал я, не отвечая на их вопрос, — а было тридцать семь знатнейших и достойнейших. Иные умерли, как умер Аменемхет; иных казнили, как казнили Сепа; иные, может быть, и по сей день надрываются в шахтах, как последние рабы; иные бежали в чужие края, опасаясь мести.
— Все так, — сказали они, — увы, все это так. Подлый изменник Гармахис предал наш заговор и все позабыл ради этой распутной Клеопатры!
— Да, это правда, — сказал я и поднял голову. — Гармахис предал заговор и все забыл ради Клеопатры. Достойнейшие из достойных, этот Гармахис — я.
Ошеломленные жрецы и сановники воззрились на меня. Кто-то вскочил с кресла, начал взволнованно говорить, другие молчали.
— Да, я тот самый Гармахис! Тот самый изменник, трижды клятвопреступник, предавший моих богов, мою отчизну, мои священные обеты! И я пришел сюда сказать все это вам. Я учинил божественное правосудие над той, что погубила меня и отдала Египет Риму. Много лет я упорно трудился и терпеливо ждал, и вот теперь, когда моя мудрость и вдохновение разгневанных богов помогли мне совершить возмездие, я принес на ваш суд мои преступления и мой позор, я готов принять кару, которая должна постигнуть предателя!
— Ты знаешь ли, какая казнь ждет нарушившего священную клятву, ту клятву, которую не должно нарушать? — зловеще спросил меня тот из жрецов, который первым узнал во мне Олимпия.
— Да, знаю, — ответил я, — я жажду этой казни.
— О ты, который был Гармахисом, рассказывай же нам, как все произошло.
И я спокойно, ясно поведал им о своих злодеяниях, не утаив ни одного. И с каждым моим словом их лица все мрачнели, я понял, что милости ко мне у них не будет; да я ее и не просил, а если б попросил, они бы вознегодовали.
И вот я наконец закончил свой рассказ; жрецы велели мне удалиться и стали решать мою судьбу. Потом снова призвали к себе, и самый старший среди них, всеми почитаемый девяностолетний верховный жрец храма божественной Хатшепсут из Тапе, торжественно возгласил:
— Гармахис, мы обсудили все, что ты нам сейчас рассказал. Ты совершил три самых тяжких преступления, какие только может совершить на этом свете человек. Ты вверг в несчастья наш Кемет, порабощенный ныне Римом. Ты нанес жестокое оскорбление небесной матери Исиде. Ты нарушил священную клятву. Тебе известно, что для всех этих преступлений есть лишь одна кара, и мы приговариваем тебя к ней. Да, ты лишил жизни распутницу, которая соблазнила тебя на путь бесчестия; ты назвал себя самым гнусным злодеем, который когда-либо стоял средь этих стен, но все это не смягчило наш приговор. О ты, нарушивший священные обеты жрец, продавший свою отчизну египтянин, лишившийся своей законной диадемы фараон, и на тебя падет проклятие Менкаура! Здесь, где мы венчали твою главу Двойной Короной, мы приговариваем тебя к казни! Иди в темницу и жди, когда падет меч Судьбы! Сиди там и вспоминай, какое тебе было уготовано величие, и сравнивай утраченный блеск с бесславным концом, который тебя постиг! Быть может, боги, которым по твоей вине скоро перестанут поклоняться в этих святынях, проявят к тебе милосердие — от нас его не жди! Уведите его!
Меня схватили и повели прочь. Я шел, опустив голову, не поднимая взгляда, и все же чувствовал, как жгут меня их горящие гневом глаза.
Такого мучительного позора я за всю свою жизнь не переживал.
Глава X, повествующая о последних днях потомка египетских фараонов Гармахиса
Меня отвели в тюремную камеру, что находится высоко в привратной башне храма, и здесь я дожидаюсь часа моей казни. Мне неведомо, когда опустится меч Судьбы. Течет неделя за неделей, месяц сменяется месяцем, а Судьба все медлит. Но я каждую минуту чувствую, что меч занесен над моей головой. Он упадет, я знаю, не знаю лишь — когда. Быть может, я проснусь в глухой час ночи и услышу шаги крадущихся ко мне убийц. Быть может, убийцы уже близко, рядом. Меня повлекут в тайную гробницу! Потом настанет непереносимый ужас! Меня положат в безымянный гроб! И наконец все кончится! О, скорее! Смерть, я жду тебя, спеши!
Я кончил свою повесть и ничего в ней не утаил — ни преступлений, которые я совершил, ни мести, которой покарал виновников. Теперь все поглотила тьма, все обратится в прах, я готовлюсь к тем мукам, что предстоят мне в иных мирах. Я ухожу из этого мира, но ухожу с надеждой: увы, я больше не вижу великую Исиду, она не отзывается на мои молитвы, но я знаю, что она со мной, она никогда меня не оставит, мы с нею встретимся, я снова увижу ее лик. И тогда наконец, в тот далекий день, мне будет даровано прощение; тогда с меня спадет тяжесть содеянного мною зла и чистота души вернется, озарит меня и принесет божественный покой.
О дорогая сердцу страна Кемет, сколь ясно я провижу твое будущее! Я вижу, как чужеземцы, народ за народом, утверждают на берегах священного Сихора свои знамена, как надевают на твою шею ярмо. Я вижу, как на твоей земле одна вера сменяется другой, третьей, десятой… как твой народ зовут молиться иным богам. Я вижу, как твои храмы — твои великие святыни — обращаются в руины, и те, кому когда-то еще только предстоит родиться, дивятся их несравненной красоте, проникают в священные гробницы и подвергают поруганию останки твоих великих фараонов. Я слышу, как профаны глумятся над божественными таинствами твоих знаний, как твоя древняя мудрость развевается по ветру, точно пески пустыни. Я вижу, как римский орел ломает крылья и разбивается о камни, хотя с его клюва еще каплет кровь его жертв; я вижу, как пляшут отблески костров на копьях варваров, которые придут на смену римским легионам… И вот наконец ты снова обретешь величие, о мой Кемет, ты снова обретешь свободу, к тебе вернутся твои боги, — да, твои истинные боги, хотя у них будет иной облик, иные имена, но все же это будут боги, которые хранили тебя в древности!
За Абидосом садится солнце. Закатные лучи Ра зажгли огнем крыши храмов, облили красным сиянием зеленые поля пшеницы, окрасили в пурпурный цвет воды бескрайнего животворящего Сихора. Вот так же в детстве я наблюдал закат, вот так же последний луч Ра с прощальной лаской касался хмурого чела пилона, и та же тень ложилась на гробницы. Ничто не изменилось! Изменился лишь я, один только я, я стал совсем другим — и все-таки я прежний!
О Клеопатра! Клеопатра, погубившая меня! Если бы я мог вырвать твой образ из моего сердца! Среди всех моих несчастий ты — самое горькое: я никогда не разлюблю тебя. Я обречен вечно лелеять этот укус змеи в моем сердце. В моих ушах будет вечно звучать твой тихий торжествующий смех… журчанье струй фонтана… песнь соло…
(На этом записи в третьем свитке обрываются. Есть основания
предположить, что к пишущему в это мгновенье пришли палачи,
чтобы вести его на казнь.)