
Грегори Бейтсон, Мэри Кэтерин Бейтсон
Ангелы страшатся
Без таких людей, как Л. Бейтсон и Б. Касарьян, мы не стали бы такими, какими являемся. Им и посвящена эта книга.
I. ВВЕДЕНИЕ (МКБ и ГБ)
1. Определение контекста (МКБ)
В 1978 г. мой отец Грегори Бейтсон завершил работу над книгой «Разум и природа: необходимое единство» (Mind and Nature: A Necessary Unity. Dutton, 1979). Зная, что смерть его от рака неизбежна, отец вызвал меня из Тегерана в Калифорнию, чтобы мы могли поработать над этой книгой вместе. Рак дал Грегори временную передышку, и он сразу же начал работу над новой книгой, которую хотел озаглавить так: «Куда страшатся ступить ангелы». Но в разговорах он частенько называл ее просто «Ангелы страшатся». В июне 1980 г. здоровье отца опять ухудшилось, и я выехала в Эзален, где он тогда жил. Там-то он и предложил мне совместную работу над новой книгой, то есть соавторство. Отец умер 4 июля. Нашу совместную работу мы так и не успели начать. После его смерти я отложила рукопись, так как была занята выполнением других обязательств, в том числе работой над книгой «Глазами дочери» (With a Daughter Eye. Morrow, 1984). И только сейчас я наконец села за разрозненную и неполную рукопись, оставленную Грегори, чтобы осуществить намеченные им планы нашего сотрудничества.
Окунувшись в работу с головой, я искусственно ее не форсировала, стараясь с уважением и пониманием отнестись к предупреждению Грегори, скрытому им в заголовке книги: не бросаться, очертя голову, в неизведанное, подобно глупцу. Первая книга Грегори «Разум и природа», рассчитанная на читателя-неспециалиста, является в некотором роде синтезом всей его последующей работы. Следующая книга отца – «Шаги к постижению экологии разума» (Steps to an Ecology of Mind. Chandler, 1972 & Ballantine, 1975) свела воедино все его лучшие статьи и научные доклады, которые он когда-либо писал для различных аудиторий специалистов и которые были в свое время опубликованы в самых разных изданиях. Со временем Грегори полностью осознал необходимость их сведения воедино. К тому же появление «Шагов» продемонстрировало наличие аудитории, страстно желающей отнестись к произведениям Грегори как к способу мышления, независимо от исторически меняющихся условий, в которых он впервые был сформулирован. Все это подтолкнуло отца к обобщению своих воззрений и к новой попытке их изложения для читателей.
Книга «Куда страшатся ступить ангелы» должна была выглядеть по-другому. Постепенно отец пришел к пониманию того, что единство природы, существование которого он отстаивал в «Разуме и природе», может быть осознано только благодаря метафорам, знакомым нам из религии. Он понял, что приблизился к такой степени интеграции опыта, которую назвал священной (sacred). К этому вопросу Грегори подходил с большим трепетом, частично из-за того, что увидел в религии возможность для манипуляций, обскурантизма и разделения. Само употребление слова «религия» способно породить рефлексивное, неправильное понимание. Название книги поэтому выражает, наряду со многим другим, колебания и чувства Грегори, возникающие при затрагивании новых вопросов, которые, хотя и исходят из его предыдущих работ и базируются на них, но тем не менее требуют совершенно другой мудрости, другого мужества. Я, в свою очередь, испытываю то же чувство трепета. Эта работа является завещанием, но таким, которое ставит задачу. Не только передо мной, но и перед всеми теми, кто готов вступить в единоборство с подобного рода вопросами.
При подготовке этой книги мне пришлось учесть большое количество традиций, связанных с тем, как надо обращаться с рукописью, оставленной незавершенной к моменту смерти. Самой очевидной и, с точки зрения ученого, подходящей альтернативой было бы тщательно и скрупулезно подойти к тому, чтобы наши голоса были четко различимы. Чтобы в каждом случае редакторской правки была бы сноска или скобки, а в каждом случае, когда, по моему мнению, необходимо внести изменение, но приходится воздерживаться, ставить помету яс. Но так как желанием Грегори было наше совместное завершение рукописи, я не стала следовать проторенным маршрутом незаинтересованного, стороннего редактора и по мере необходимости вносила в разделы небольшие исправления и изменения. Оригинал, вне сомнения, будет сохранен, так что, если эта работа заслужит внимания, кто-нибудь в один прекрасный день сможет написать научное исследование о разнице между рукописью и печатным текстом, который включает наш общий труд. Я ограничу мою скрупулезность лишь сохранением источников. После некоторого колебания я решила не давать в виде приложения материалы, взятые из других работ Грегори, которые он мыслил для возможного использования в этой книге. Кое-что я опустила, и, думаю, что это совпало бы с желаниями самого Грегори. Материалы, частично дублировавшие его предыдущие публикации, нередко сохранялись благодаря их вкладу в развитие доказательства.
С другой стороны, я не была готова просто включить в текст мои дополнения и замечания, казавшиеся мне существенными, таким образом, чтобы читатель мог приписать их авторство Грегори. Это стало бы возвратом к роли переписчика – роли, в которой я выступала при создании «Разума и природы», внеся свой безымянный вклад в его работу, как это делали жены и дочери на протяжении столетий. Создание же этой книги само по себе стало проблемой экологии и эпистемологии, так как знания Грегори были оформлены совершенно особым образом.
Мне казалось важным при включении существенных дополнений сделать так, чтобы было ясно: эти дополнения, правильные или неверные, – мои. Я остановилась на следующем способе: оформить их как разделы, выделенные квадратными скобками или в виде того, что Грегори называл металогами. В течение примерно сорока лет Грегори использовал форму диалога отца с дочерью, вкладывая в уста воображаемой дочери извечный вопрос: «Почему, папа…?» с тем, чтобы иметь возможность выразить свое собственное суждение. Около двадцати лет мы действительно работали совместно – иногда за печатными текстами, иногда это были диалоги в рамках конференций, а иногда добивались ясности, сидя за массивным дубовым столом в доме Бейтсонов. Вымышленная личность, созданная Грегори и вначале включавшая только фрагментарные элементы наших взаимоотношений, становилась старше и одновременно превращалась в более реальное лицо: «дочь» все больше становилась похожей на меня, я же моделировала свои отношения с Грегори, исходя из характера этого персонажа.
Процесс этот был постепенным. Частью дилеммы, с которой я столкнулась при решении вопроса о материалах, оставленных Грегори, было то, что он никогда четко не определял свои действия по отношению ко мне. Он приписывал персонажу по имени Дочь слова, которые иногда были реальными, иногда воображаемыми, иногда вполне вероятными, а иногда – совершенно несообразуемыми с тем, что я могла бы сказать. И вот сейчас, когда мне пришлось иметь дело с оставленной отцом неоконченной рукописью, я использовала накопленный опыт нашей с ним совместной работы и мое понимание затрагиваемых вопросов. Реплики «Отца» в этих металогах отражают сказанное Грегори в других контекстах. Металоги, употребленные в этой книге мною, такие же реальные и настолько же вымышленные, как и те, которые были составлены самим Грегори. Но в отличие от металогов отца мои не предназначались для самостоятельного существования. Тем не менее представляется важным отметить, что отношение отец-дочь продолжает оставаться довольно точным средством постановки и обсуждения затрагиваемых вопросов, так как действует в качестве напоминания о том, что разговор всегда идет между интеллектом и чувством, связан с общением внутри и между системами. Более того, в металогах содержатся вопросы и ответы, которые я могла бы составить сама, если бы мы работали над рукописью вместе, а также такие вопросы и ответы, которые, по моему разумению, мог бы составить сам Грегори. Я также позволила себе несколько отойти от моей детской роли в металогах и заговорить собственным голосом. Каждый раздел книги имеет пометку «ГБ» (Грегори Бейтсон) или «МКБ» (Мэри Кэтерин Бейтсон), но это разграничение очень приблизительно, и понимать их следует как «в основном ГБ» или «в основном МКБ».
Сверху стопки материалов, приготовленных Грегори для этой книги, лежал проект «Введения», один из его многих планируемых вариантов, который начинался следующим рассказом:
«В Англии моего детства каждый железнодорожный состав, прибывший на станцию после длительного пути, проверялся человек с молотком. У молотка была очень маленькая головка и очень длинная ручка, больше похожая на барабанную палочку. Он и на самом деле был предназначен для, того чтобы воспроизводить особую музыку. Человек с молотком шел вдоль всего состава, ударяя по каждой буксе. Проверка производилась с целью обнаружения трещин, в случае чего букса издала бы диссонирующий звук. Можно сказать, что проверке подвергалась целостность. Подобным же образом я старался „простучать“ каждое предложение в книге на предмет обнаружения нарушения целостности. Чаще бывало легче услышать диссонирующий звук ложного сопротивления, чем сказать, какой гармонии я добивался.»
Как бы я хотела, чтобы во «Введении» Грегори говорил о том, что сделал на самом деле, а не о том, к чему стремился. Отец работал в те неопределенные промежутки времени, когда приступы болезни сменялись временным облегчением. Он жил в Эзалене, в окружении хороших, близких друзей, но испытывал недостаток в интеллектуальном сотрудничестве. Несмотря на то, что «антикультура» в 80-х годах утратила свой былой блеск, время от времени встречающиеся на нее ссылки Грегори заостряют ее разительный контраст, как бы подчеркивая ощущаемую отцом отчужденность от интересов меняющихся обитателей Эзалена. Грегори всегда было трудно найти нужные слова для вербального оформления идеи, но его образ жизни в последний период – без постоянного источника дохода, без надежных «тылов» – требовал от него продолжать повторение и перестановку в разных сочетаниях элементов его «мыслительной продукции». Можно сказать, что он пел, чтобы заработать на ужин. Все это также означало, что Грегори, всегда умеренно относившийся к чтению, теперь еще больше, чем прежде, был отрезан от текущей научной работы. Он сочетал исключительную оригинальность с набором инструментария и информации, полученных двадцать лет назад. В результате его поиски истины «заставляют» читателей заниматься собственным творческим синтезированием, сочетая присущую Грегори способность проникать в сущность с современными инструментарием и информацией, открытиями в науке о познании, в молекулярной биологии и теории систем, которые все же находятся в зависимости от того интеллектуального вульгаризма, об опасности которого он предупреждал.
Не существует способа, благодаря которому я могла бы превратить эту рукопись в то, о чем мечтал Грегори, и где-то я сомневаюсь, насколько это удалось бы самому Грегори или нам с ним вместе. Творение Грегори к моменту его кончины было в аморфном состоянии, замыслы не завершены. Но хотя высказанные им идеи еще не достигли полного расцвета, в них уже был скрыт огромный внутренний потенциал для дальнейшей разработки. Богатейшее наследство заключено также в вопросах, поставленных Грегори, и в способе их формулирования.
Осенью, после завершения работы над «Разумом и природой», Грегори, живя в Эзалене, написал несколько стихотворений в манере белого стиха. Одно из них, как мне кажется, передает чувства, которые он попытался выразить в только что завершенной им работе. А возможно, в стихотворении проявились стремления Грегори в отношении работы задуманной.
Рукопись
Здесь сказано все ясно,
Читать меж строк напрасно.
Не напрягайте зрение,
Ведь нужен мне порядок —
Не более, не менее.
Не мир, каков он есть,
Не мир, каким бы должен стать,
А только точность —
Остов правды.
Я не злоупотребляю чувствами,
Не играю скрытым смыслом,
Не вызываю призрака
Давно забытых верований.
Все это я оставляю проповеднику,
Гипнотизеру, терапевту и миссионеру.
Они придут после меня
И, использовав то малое, что я сказал,
Расставят сети для тех,
Кому не нужен
одинокий
остов
Правды.
Так как рукопись Грегори все-таки не соответствовала этому стремлению, я не могла прочитать ее так, как это рекомендовано стихотворением. Мне не представилось возможности избежать чтения между строк – на самом деле это оказалось единственным способом,, благодаря которому я смогла продолжить работу. Очень часто также, работая в контексте метадиалога, я намеренно допускала вызывание духов и прибегала к чувствам, то есть действовала в соответствии с языком самого Грегори. В его честолюбивые замыслы входило достижение педантичности, но зачастую он полагался на менее жесткие формы общения.
Важность стихотворения заключается не только в том, что оно говорит о методе и стиле, но и в том, что в нем предлагается контекст для толкования. В своем стихотворении Грегори выразил подлинную тревогу и раздражение. Большое количество людей, признающих, что у Грегори было критическое отношение к определенным течениям материализма, хотели, чтобы Грегори выступил в качестве представителя противоположного направления. Направления, защищающего понятия, исключенные атомистическим материализмом: Бог, духи, привидения, «призраки давно забытых верований». Грегори всегда оказывался в затруднительном положении, когда, с одной стороны, обращаясь к своим коллегам, упрекал их в отсутствии интереса к действительно важным вещам из-за методологических и эпистемологических посылок, присущих западной науке на протяжении веков, и когда, с другой стороны, ставил в вину своим самым верным последователям то, что они говорят чепуху, когда те обсуждали «действительно важные вещи», на рассмотрении которых он сам настаивал.
По мнению Грегори, ни одна из этих групп не могла рассуждать здраво, так – как ничего разумного по данному поводу и сказать-то было нельзя, исходя из картезианского разделения между разумом и материей, ставшего привычным для западной мысли. Снова и снова возвращается он к своему отрицанию этого дуализма: разум без материи не может существовать; материя без разума существовать может, но является недосягаемой. Трансцендентальное божество – невозможно. Грегори хотел продолжить разговор с обеими сторонами о нашем эндемическом дуализме, хотел действительно побудить их к принятию монизма – унифицированного взгляда на мир, который позволил бы применить научную точность и систематический подход к понятиям, зачастую исключаемым учеными.
Как утверждал Грегори в своем стихотворении, он рассматривал свое мышление в качестве остова. И в этом уже заключалось двойное притязание. С одной стороны, это притязание на формализм и строгость, с другой – на затрагивание основ. Однако он хотел выделить не идею сухого костяка, а функционирующий каркас жизни, который в широком смысле слова включает всю живую планету на протяжении всей ее эволюции.
В попытке переосмыслить эти вопросы Грегори подошел к стратегии редефиниции таких слов, как «любовь», «мудрость», «разум», «священное» при помощи концептуального инструментария кибернетики. Следует учесть, что эти слова обозначают вещи, важные для нематериалистов и, по мнению ученых, труднодоступные для изучения. В произведениях Грегори технические термины соседствуют со словами бытовой лексики, часто приобретающими непривычное значение.
Естественно, это вызвало критику. Критиковали те, кто был наиболее привязан к ортодоксальной бессмысленности этих терминов, утверждавших их недоступность в научном общении. Критиковали и те, кто был связан с другими формами религиозной и философской ортодоксальности, утверждая, что термины эти обладают хорошими, прочными значениями, ни понять, ни уважать которые Грегори не смог. И наконец, существовала критика, утверждавшая, что идеосинкратическое использование термина или придание ему идиосинкратического определения является формой риторической бесчестности – тем, в чем обвиняла Шалтая-Болтая Алиса.
На самом деле Грегори намеревался произвести со словами типа «разум», «любовь» то, что физики сделали со словами «сила», «энергия», «масса», хотя даже само противопоставление жесткого определения неясному общепринятому употреблению может стать постоянным источником проблем. Это, скорее, трюк педагога, рассчитывающего, что получивший редефиницию термин будет более легким для запоминания и обоснования, будет подходить как к простому общению, так и к специальным вопросам. Но самым важным для Грегори было оформить свое понимание таких слов, как «разум», со всей четкостью, чтобы оно могло сосуществовать с математической педантичностью.
Центральной темой «Разума и природы» выступает эволюция как умственный процесс. Это краткое изложение утверждения о том, что эволюция системна и что процесс эволюции имеет те же основные характерные особенности, что и другие системные процессы, включая мышление. Совокупность этих черт позволила Грегори дать собственное определение слов «умственный» (mental) и «разум» (mind) – слов, фактически ставших табу в научном общении. Далее он выделил то, что его более всего интересовало в мышлении и эволюции: по многим важным аспектам, в том числе и по «объединяющему образцу», они аналогичны, так что выделение их сходства приведет к новому глубокому проникновению в суть каждого, особенно в то, как каждое из них предусматривает цель или предвидение. Выбор такого слова, как «разум», сделан намеренно, чтобы напомнить читателю о круге вопросов, вызываемых подобными словами в прошлом и предполагающими, что они относятся к сфере чувств.
Таким же образом Грегори нашел свое место в разговорах о Боге: где-то между находящими это слово неупотребимым и теми, кто использует его слишком часто, чтобы защищать позиции, которые Грегори считал несостоятельными. Играя, он предложил новое имя для божества, однако с полной серьезностью искал понимания родственного, но более общего термина «священное», осторожно передвигаясь по священной почве, «куда страшатся ступить ангелы». Опираясь на наше знание биологического мира (знание, которое Грегори называл «экологией», одновременно учитывая значительный пересмотр в употреблении этого термина на основе применения кибернетики современными биологами-профессионалами), а также на то, что мы в состоянии понять о «познании» (Грегори называл это «эпистемологией» – опять-таки на основе кибернетики), он пытался разъяснить, что можно понимать под «священным». Может ли концепция священного относиться к вещам, внутренне присущим описанию, и, таким образом, быть признана как часть «необходимости»? А если можно достичь полной ясности, позволит ли это осуществить новое проникновение в суть вещей? Кажется возможным, что способ познания, приписывающий определенную священность организации биологического мира, может быть в каком-то значительном смысле более точным и соответствующим принятию решений.
Грегори был совершенно уверен в том, что вопросы, обсуждавшиеся в «Разуме и природе», различные способы рассмотрения биологического мира и мышления были необходимыми предпосылками вызова, брошенного настоящей книгой, хотя они здесь в полной мере и не оговариваются. В этом произведении он подошел к ряду вопросов, внутренне присущих его работам в течение долгого периода времени: не только к проблеме «священного», но также «эстетического» и «сознания». Это было созвездием вопросов, к которым, по мнению Грегори, следовало обратиться для того, чтобы выйти на теорию деятельности в мире живого – к кибернетической этике. Считая, что работа близка к завершению, Грегори писал: «Было необходимым изучать последствия и выражать словами природу их музыки». Это все еще остается необходимым, и достичь его можно попытаться, так как все внутренне присущее ждет, чтобы его раскрыли, подобно теореме, спрятанной меж аксиом. Между строк? Вероятно. У Грегори не было времени убедиться в завершенности словесного оформления.
2. Определение задачи (ГБ)
Написание этой книги вылилось в последовательное, шаг за шагом осуществляемое исследование предмета обсуждения, общие очертания и размеры которого проявлялись постепенно – по мере возникновения связей и исключения разногласий.
Легче сказать о том, чего нет в этой книге, чем определить гармонию, к которой я стремился. Она не о психологии, или экономике, или социологии, хотя и они могут появляться для контрастного сопоставления в большем разделе знаний. Она и не об экологии или антропологии. Есть более широкий предмет под названием эпистемология, превосходящий все другие предметы. И мне кажется, что проникновение в порядок, высший, чем тот, который заключается в любой из этих дисциплин, пришло тогда, когда я соприкоснулся с фактом антропологического и экологического порядка.
В результате книга представляет собой сравнительное исследование вопросов, возникающих на основе антропологии и частной эпистемологии. Как антропологи мы изучаем этику каждого народа, переходя далее к изучению сравнительной этики. Мы стараемся увидеть и рассмотреть данную частную этику каждого племени на фоне нашего знания этики в других системах. Таким же образом возможно и даже начинает входить в моду исследование эпистемологии каждого народа, структур познаний и путей исчислений. Становится естественным, отталкиваясь от такого исследования, переходить к сравнению эпистемологии, подразумеваемой в одной культурной системе, с эпистемологией в других системах.
Но что же нам открывается, когда мы ставим рядом сравнительную этику и сравнительную эпистемологию? А если обе к тому же еще сочетаются с экономикой? И все это, вместе взятое, сравнивается с морфогенезом и сравнительной анатомией? Такое сравнение неизбежно вернет исследователя к простейшим деталям происходящего. Он должен определяться в отношении общих минимумов частичного совпадения этих И областей исследования. Эти минимумы не являются частью какой-либо из данных областей, они даже совершенно не входят в бихевиористскую науку. Они являются частями, если хотите, необходимости. Некоторые из них, по определению Святого Августина, именуются Вечными Истинами, другие же, вероятно, совпадают с тем, что Юнг называл прототипами. Эти основы, которые должны составлять фундамент нашего мышления, и являются предметом обсуждения следующего раздела.
Конечно, антропологу и эпистемологу, психологу и исследователям в областях истории и экономики – каждому в своей области знаний – придется иметь дело с каждой из этих Вечных Истин. Но истины не являются предметом обсуждения какой-либо отдельной отрасли знания. Напротив, в действительности они скрываются, и их избегают путем концентрации внимания на проблемах, своейственных данной отдельной отрасли знания.
Многие до меня, осознавая существование этих высших уровней порядка, организации и смысла, включая самого Святого Августина, пытались поделиться своими открытиями с потомками. Существует значительное количество литературы, составленной в виде завещания потомкам. В частности каждая из великих религий внесла свою долю в этом плане в виде текстов, ведущих к пояснению этих вопросов, а иногда – к их еще большему затуманиванию.
Кроме того, многие вклады в прошлом были сделаны в уникальном историческом контексте, а сегодня увлеченность интеллектуалов вопросами количественных измерений, искусственными экспериментами, дуализмом Декарта делают такие вопросы еще более труднодоступными, чем они были ранее. Наука, и вполне справедливо, нетерпимо относится к запутанным дефинициям, но, пытаясь избежать этой опасности, она мешает обсуждению вопросов первостепенной важности.
К сожалению, остается правдой, что тупость и бестолковость помогли человеческой расе найти Бога. Сегодня в любой службе христианского, буддийского или индуистского учений вы можете услышать такие вещи, от которых у незагипнотизированного и не отравленного наркотиком человека дыбом встанут волосы. Нет сомнения, что обсуждение высших порядков на членораздельном языке, особенно у тех, кто не привык к точности выражений, вызывает определенные трудности, так что их можно простить, если они находят прибежище в клише «тот, кто говорит, не знает; тот, кто знает, не говорит». Если бы это клише было справедливым, из него следовало бы, что вся богатейшая и зачастую прекрасная мистическая литература индуизма, буддизма, таоизма и христианства должна была бы быть написана людьми, не знавшими, о чем писали.
Как бы то ни было, я претендую не на оригинальность, а только на определенную своевременность. Нельзя назвать неверным шагом желание внести сейчас свой вклад в эту литературу. Я претендую не на уникальность, а на членство в том меньшинстве, которое верит, что в пользу необходимости священного имеются сильные и ясные аргументы и что эти аргументы берут свое начало в эпистемологии, основывающейся на передовой науке и на очевидном. Я считаю, что эти аргументы важны сегодня, в период широко распространенного скептицизма, что по своей важности их можно приравнять к свидетельству тех, чья религиозная вера основана на внутреннем свете и «космическом» опыте. И на самом деле, непоколебимая вера Эйнштейна или Уайтхеда стоит тысячи лицемерных заявлений с кафедр проповедников.
В средние века для теологов было характерно добиваться жесткости и точности, которые сегодня характеризуют науку. «Summa Teologica» святого Фомы Аквинского была эквивалентом XIII века сегодняшних учебников по кибернетике. Святой Фома разделял все вещи на четыре класса:
(а) те, которые просто существуют – как, например, камни;
(б) те, которые существуют и живут – как, например, растения;
(в) те, которые существуют, живут и передвигаются – как, например, животные;
(г) те, которые существуют, живут, передвигаются и мыслят – как, например, люди.
Он не знал кибернетики и в отличие от Святого Августина не был математиком. Но мы сразу же распознаем попытку создания классификации объективно существующих реальностей, основанной на количестве логических типов, представленных в своих самокорректирующихся рекурсивных замкнутых системах адаптации.
Определение Смертного Греха, данное святым Фомой, отмечено такой же скрытой умудренностью. Грех признается «смертным», если его совершение способствует совершению этого же греха другими. (Не могу не отметить, что в соответствии с данным определением участие в гонке вооружений находится среди смертных грехов.) На деле таинственные «конечные цели» Аристотеля в интерпретации святого Фомы полностью соответствуют тому, что в современной кибернетике получило название «позитивной обратной связи».
Похоже на то, что более поздняя теология во многих вопросах показала меньшую изощренность, чем в XIII веке. Все склоняется к тому, что мысль Декарта (1596-1650), особенно дуализм мысли и материи, соgito, и картезианские координаты были высшей точкой долгого упадка. Вера греков в конечные цели была грубой и примитивной, но она, казалось, оставляла открытой дверь для монистического взгляда на мир – то, что было позднее закрыто и окончательно похоронено дуалистическим разделением мысли и материи, [что поставило многие важные и таинственные явления вне материальной сферы, которую наука могла бы исследовать, отделив мысль от тела, а Бога от процесса творения и убрав все это вместе из поля деятельности научной мысли][1].
Для меня картезианский дуализм был непреодолимым барьером. Читателя может развлечь то, как я пришел к определенному виду монизма – убеждению, что разум и природа образуют неизбежное единство, в котором не существует разума отдельно от тела и нет Бога отдельно от его творения. И как, исходя из этого, я научился смотреть на мир, когда я начинал работать. Правила тогда были совершенно ясными: в научном толковании не должны использоваться ни разум, ни божество и не должно быть ссылки на конечные цели. Все причинные связи должны меняться с течением времени, причем нет никакого влияния будущего на прошлое или настоящее.
Очень простым и жестким убеждением был стандарт для биологии, господствовавший на биологической сцене в течение ста пятидесяти лет. Эта частная отрасль материализма стала фанатичной после публикации «Свидетельств христианства» Уильяма Пейли (в 1794 г., за пятнадцать лет до появления «Философии зоологии» Ламарка и за шестьдесят пять – до появления книги «О происхождении видов»). Упоминание «разума», «телеологии» или «наследования приобретенных черт» было ересью в биологических кругах в течение первых сорока лет текущего столетия. И я рад, что хорошо усвоил этот урок. Настолько хорошо, что даже написал книгу по антропологии[2] в рамках ортодоксальной антителеологии, но, конечно, жесткое ограничение посылок в результате показало их неадекватность. Было ясно, что, исходя из этих посылок, культура не смогла бы достичь стабильности, а пошла бы по пути нарастающих изменений к собственному уничтожению. Это нарастание я назвал схизмогенезом (schismogenesis) и показал различие между двумя формами, которое оно могло принять. Но в 1936 г. я не мог увидеть действительной причины, по которой культура смогла так долго прожить[или как она могла включить самокорректирующие механизмы, предсказывающие опасность]. Как и ранние марксисты, я считал, что нарастание изменений всегда приводит к кульминационному пункту и разрушению статус-кво.
Я уже был подготовлен к кибернетике, когда данная эпистемология была предложена Норбертом Винером, Уорреном Маккулохом и другими на знаменитых конференциях Мелей. Так как я уже обладал идеей позитивной обратной связи (которую я назвал схизмогенезом), идеи самонастройки и негативной обратной связи немедленно встали на свое место.
В дополнение к этому я отправился на конференцию по кибернетике с другим понятием, которое я разработал во время второй мировой войны и которое, как оказалось, удовлетворяло главной мысли в структуре кибернетики. Это было признание того, что я назвал дейтеро-обучением (deutero-learning), или обучением учебе[3].
Я пришел к пониманию того, что «обучение учебе» и «обучение обращению с адаптирующим действием в заданных условиях», а также «характерное изменение на основе опыта» – все это является тремя синонимами одного явления, которое я обозначил как дейтеро-обучение. Это было первым наложением бихевиористского явления на схему, тесно связанную с иерархией логических типов Бертрана Рассела[4], и, как и идея схизмогенеза, легко приспосабливалось к идеям кибернетики 1940-х годов.["Принципы" Рассела и Уайтхеда предоставляли системный способ обращения с логическими иерархиями, такими, как отношение между предметом, классом предметов, к которому он принадлежит, и классом классов. Применение этих идей к поведению закладывало основы для размышления о том, как в ходе учебы опыт обобщается в класс контекстов, и о том, как некоторые сообщения изменяют значение других, причисляя последние к особому, тому или другому классу.]
Значение данной формализации стало более очевидным в 1960-х годах после ознакомления с книгой Карла Юнга «Семь проповедей для мертвецов», экземпляр которой мне передала терапевт Юнга Джейн Уилрайт[5]. В то время я писал черновик того, что должно было стать моей лекцией на мемориале Коржибского[6], и начал размышлять на тему отношений между «картой» и «территорией». Книга Юнга настаивала на различии между Плеромой (Pleroma) – чисто физической сферой, управляемой только силами и импульсами, и Креатурой (Creatura) – сферой, управляемой отличиями и различиями. Стало со всей очевидностью ясно, что эти два вида понятий-концепций связаны и сочетаются друг с другом и что не может быть карт в Плероме, а только в Креатуре. То, что переходит с территории на карту есть сведения о различии, и в этот момент я понял, что сведения о различии есть синоним информации.
Когда это понимание разницы было совмещено с четким пониманием, что Креатура представляет собой кольцевые цепи причинно-следственных связей, подобных описанным в кибернетике, и то, что она состоит из различных уровней логической типизации, тогда у меня возник ряд идей, позволивших мне системно подойти к мыслительному процессу как к контрастирующему с простыми физическими или механическими последовательностями, не прибегая к помощи терминов двух различных «субстанций». Моя книга «Разум и природа: необходимое единство» объединила эти идеи с признанием сходства мыслительного процесса и биологической эволюции в терминах Креатуры.
Загадки, встававшие перед биологией вплоть до эпохи кибернетики, потеряли свою таинственность, хотя многое еще оставалось сделать. Теперь у нас было понимание общей природы информации, цели, стохастического процесса, мышления и эволюции, так что на этом уровне разработка деталей частных случаев становилась делом техники.
На место старых загадок встали новые. Эта книга является попыткой охарактеризовать и выделить некоторые из них[в частности, исследовать, каким образом возникает новое понятие священного в недуалистическом взгляде на мир]. В ее цели входит предоставление возможности читателю начать знакомство с новыми загадками, сделать их более понятными и, возможно, разработать некоторые дефиниции для новых проблем. Дальше этого я идти не собираюсь. Миру потребовалось 2500 лет, чтобы решить задачи, предложенные Аристотелем и сформулированные Декартом. Решить новые проблемы отнюдь не легче, чем старые.
Название этой книги намеренно содержит Предупреждение. Кажется, что каждый новый шаг вперед в Науке предлагает и инструментарий, который вроде бы отвечает запросам и инженеров, и представителей прикладной науки. И обычно эти люди хватаются за него без тени Лущения. Их благие намерения (правда, слегка Вспахивающие нетерпением и жадностью) обычно приносят .столько же вреда, сколько и пользы, в лучшем случае делая более заметным следующий слой проблем, которые необходимо понять, прежде чем мы удостоверимся, что прикладники не нанесут непоправимого ущерба. За каждым шагом вперед в науке всегда стоит маточная порода (matrix, mother lode), состоящая из неизвестных, из которых были получены новые частичные ответы. Но голодный, перенаселенный, большой, честолюбивый и полный конкуренции мир не хочет ждать, пока мы узнаем больше, а стремится туда, куда страшатся ступить ангелы.
У меня вызывают слабую симпатию такие доводы, относящиеся к «потребностям» мира. Я отмечаю, что те, кто им способствуют, обычно хорошо оплачиваются. Я не верю заявлениям ученых-прикладников, что то, чем они занимаются, полезно и необходимо. Я подозреваю, что их нетерпеливый энтузиазм, стремление действовать – не просто показатель нетерпения и не честолюбие пирата. Мне кажется, что здесь глубоко скрывается страх перед эпистемологией.
II. МИР МЫСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (ГБ)
Прежде чем мы пойдем дальше, я хотел бы остановиться на контрасте между Креатурой и Плеромой, сделанном Карлом Густавом Юнгом. Это даст нам еще одну отправную точку для эпистемологии, такую, которая окажется лучшим первым шагом, чем разделение разума и материи, приписываемое Рене Декарту. Вместо старого картезианского дуализма, который говорил о разуме и материи как различных субстанциях, я хочу говорить о природе мыслительного процесса, то есть о мышлении в самом широком смысле этого слова, а также о соотношении между мышлением и материальным миром.
Я собираюсь включить в категорию мыслительного процесса (mental process) ряд явлений, которые многие люди не считают процессами мышления. Например, я включу процессы, которыми вы и я постигаем нашу анатомию – приказы, фальстарты, самокоррекцию, повиновение обстоятельствам и т.д., то есть такие процессы, благодаря которым мы достигаем дифференциации и развития зародыша. «Эмбриология» для меня – это мыслительный процесс. Также я включу более загадочные процессы, благодаря которым происходит так, что формальные связи нашей анатомии можно признать у человекообразной обезьяны, лошади и кита – то, что зоологи называют гомологией, то есть в термин «мыслительный процесс» я наряду с эмбриологией включу и эволюцию.
Наряду с этими двумя большими разделами – биологической эволюцией и эмбриологией – я включаю все менее крупные области управления информацией и приказами, которые происходят внутри организмов и между организмами и что в целом мы называем жизнью.
На самом деле там, где информация – или сравнение – является существенным для нашего объяснения, там я вижу мыслительный процесс. Информацию можно определить как разницу, производящую разницу. Сенсорный конечный орган – это сравнивающее устройство, реагирующее на разницу. Конечно, этот орган материален, но мы .воспользуемся термином и свойством реагирования на разницу, чтобы показать его «мыслительное» функционирование. Подобным же образом чернила на странице материальны, но они не являются моей мыслью. Даже на самом примитивном уровне чернила не являются сигналом. Разницей между бумагой и чернилами является сигнал.
Справедливо, конечно, что наши объяснения, наши учебники, касающиеся неживой материи, полны информации. Но вся эта информация наша, она является частью наших жизненных процессов. Мир неживой материи, Плерома, описанный в законах физики и химии, сам не содержит описания. Камень не реагирует на информацию и не использует приказы, информацию, методику проб и ошибок в своей внутренней организации. Для того, чтобы отреагировать поведенчески, камню пришлось бы использовать внутреннюю энергию, как это делают организмы. Тогда он перестанет быть камнем. На камень воздействуют «силы» и «импульсы», но не различия.
Я могу описать камень, но он сам описать что-либо не может. Я могу использовать камень как сигнал – возможно, как веху. Но это не веха.
Я могу дать камню имя, могу отличить его от других камней. Но это не его имя, и он различать не может.
Он не использует и не содержит информацию. Что происходит с камнем и что он делает, когда никого нет рядом, – не является частью мыслительного процесса любого живого существа. Для этого он должен каким-то образом вырабатывать и принимать информацию.
Вам следует понять, что в то время, как Плерома не обладает ни мыслью, ни информацией, она все-таки содержит (и является маточной породой) инерцию, причину и следствие, и т.д., которые являются (за отсутствием лучшего термина) имманентными для Плеромы. Хотя их можно перевести (опять-таки за отсутствием лучшего слова) на язык Креатуры (где только и может существовать язык), материальный мир остается тем не менее недоступным, кантовской «вещью в себе», к которой вы не можете приблизиться. Все, что мы говорим о Плероме, – это из области догадок и предположений, а такие мистики, как Уильям Блейк, например, откровенно отрицают ее существование.
Обобщая сказанное: мы будем пользоваться термином Юнга «Плерома» в качестве названия неживого мира, описанного физиками, который сам по себе не содержит отличительных признаков, не проводит разграничении, хотя мы должны, конечно, делать различия, когда мы его описываем.
Напротив, мы будем пользоваться термином «Креатура» для мира объяснений, в котором сами подлежащие объяснению явления управляются внутри себя и определяются различием, отличительными признаками и информацией.
[Хотя в данной дихотомии между Креатурой и Плеромой существует очевидный дуализм, следует четко уяснить, что эти два понятия никоим образом не разделимы и нераздельны, кроме уровней описания. С одной стороны. Креатура существует внутри и через Плерому; использование термина Креатура утверждает наличие определенных организационных и коммуникативных характерных черт, которые сами материальными не являются. С другой стороны, знание Плеромы существует только в Креатуре. Мы нуждаемся в обеих, только существующих вместе, и никогда по отдельности. Законы физики и химии ни в коем случае нельзя считать неприменимыми для Креатуры, но для объяснения их недостаточно. Таким образом, Креатура и Плерома не являются, подобно «разуму» и «материи» Декарта, раздельными субстанциями, так как мыслительные процессы требуют для своего воплощения материального окружения – такого, где Плерома характеризуется организацией, позволяющей ей подвергаться воздействию как информации, так и физических явлений.
[От понятия мыслительного процесса мы можем перейти к вопросу о том, что такое, собственно, разум. И если это полезное понятие, можно ли образовать от него множественное число и говорить о «разумах», которые могли бы участвовать в мыслительных взаимосвязях?
Характеристика понятия «разум» была одним из основных пунктов в книге «Разум и природа», где для определения «разумов» была дана целая серия критериев. Определение жестко связывает понятие разума с распределением материальных явлений:
1. Разум – это совокупность взаимодействующих частей или компонентов.
2. Взаимосвязь между частями разума вызывается различием.
3. Мыслительный процесс требует дополнительной энергии.
4. Мыслительный процесс требует кольцевой (или более сложной) цепочки определения.
5. В мыслительном процессе влияние различий следует рассматривать как трансформы (закодированные варианты) событий, им предшествующих.
6. Описание и классификация данных процессов трансформации раскрывают иерархию логических типов, имманентных (внутренне присущих) явлению.
[Если вы рассмотрите эти критерии, вы убедитесь в том, что они подходят к большому количеству сложных объективно существующих реальностей, о которых мы привыкли говорить и которые привыкли научно обсуждать, – таких, как животные, люди, то есть все живые организмы. Они также" подходят к частям организмов, имеющих определенную степень самостоятельности в своем саморегулировании и функционировании: клетки и органы. Затем вы можете отметить, что не существует требований относительно четких границ: (кожа, мембрана и т.д.) и что это определение включает только некоторые характерные черты того, что мы называем жизнью. В результате это применимо к более широкому диапазону сложных явлений, называемых «системами», включая системы, состоящие из множества организмов или системы, в которых некоторые части – живое, а некоторые – нет, или даже системы, в которых нет живых частей. Здесь описано то, что может получать информацию и благодаря саморегулированию и самокоррекции в результате кольцевых цепочек причинно-следственных связей подтверждать справедливость отдельных предположений о себе. Рассматриваемый разум, вероятнее всего, является компонентом подсистемы в более крупном и более сложном разуме так же, как отдельная клетка может быть компонентом организма или человек может быть компонентом общества. Мир мыслительного процесса открывается в самоорганизующийся мир китайских ящиков, в котором информация рождает очередную информацию.
[Эта книга прежде всего интересуется определенными характерными чертами пограничья между Плеромой и Креатурой, а также пограничными участками между различными видами мыслительных подсистем, включая отношения между людьми и между человеческими сообществами и экосистемами. Мы особенно заинтересованы тем, как наше понимание таких смежных участков лежит в основе эпистемологии и религии, имея в виду, что это идентично для всех человеческих целей и между эпистемологией и онтологией нет четкого разграничения.]
Когда мы делаем первый шаг по различению между "Креатурой и Плеромой, мы являемся основателями науки эпистемологии, правил мышления. И наша Эпистемология является настоящей в той степени, в которой правила Плеромы могут быть соответствующим образом переведены на наше мышление, и в той степени, в которой наше понимание Креатуры – всей эмбриологии, биологической эволюции, экологии, мышления, любви и ненависти, а также человеческой организации, то есть всего того, что требует совершенно другого описания, чем то, которое мы используем при подходе к неживому материальному миру, – может быть выведено из этого первого шага в Эпистемологии.
Я считаю, что первые эпистемологические шаги Декарта – отделение «разума» от «материи» – создали плохие предпосылки, возможно, даже смертельного характера, для эпистемологии, и я считаю, что утверждение Юнга о связи между Плеромой и Креатурой – намного более правильный шаг. Эпистемология Юнга начинается со сравнения различий, а не с материи.
Поэтому я определяю Эпистемологию как науку, изучающую процесс познания – взаимосвязь возможности реагировать на различия, с одной стороны, с материальным миром, в котором эти различия зарождаются, с другой. Таким образом, нас интересует пограничная область между Плеромой и Креатурой.
Есть и более общепринятое определение эпистемологии, которое просто говорит, что Эпистемология есть философское изучение того, как возможно осуществление процесса познания. Я предпочитаю свое определение – как осуществляется процесс познания, так как оно включает Креатуру в рамки большего, предположительно безжизненного царства Плеромы и потому, что мое определение четко говорит об эпистемологии как изучении явления на стыке и как разделе природоведения.
Позвольте мне начать это исследование упоминанием об основной характерной черте стыка между Плеромой и Креатурой, которое, возможно, поможет определить направление моей мысли. Я имею в виду то, что стык между Плеромой и Креатурой является примером контраста, противопоставления между «картой» и «территорией». И это, я у полагаю, является первым и основным примером. Это то противопоставление, к которому Альфред Коржитски давным-давно привлек внимание, и оно остается основным для всех правильных эпистемологии и основным для Эпистемологии.
Каждый человеческий индивидуум, каждый организм имеет свои персональные привычки по созданию знаний, и каждая культурная, религиозная или научная система способствует созданию таких эпистемологических привычек. Это индивидуальные или локальные системы обозначены здесь строчной буквой "э". Уоррен Маккулох обычно говорил, что человек, претендующий на обладание непосредственным знанием, то есть без эпистемологии, обладал плохим знанием.
Дойти до сравнения между многообразными системами и, возможно, оценить, какую цену приходится платить запутанным системам за свои ошибки, входит в задачу антропологов. Большая часть локальных эпистемологии – персональных и культурных – постоянно ошибается, увы, путая карту с территорией и полагая, что правила выполнения карт внутренне присущи природе того, что изображено на картах.
Все нижеследующие правила мышления и коммуникации применимы к свойствам карт, то есть к мыслительному процессу, так как в Плероме нет ни карт, ни названий, ни классов, ни членов классов.
Карта – это не территория.
Имя – зто не поименованная вещь. Имя имени не есть имя. (Вы помните Белого Рыцаря и Алису? Алиса уже устала слушать песни и, когда ей предложили еще одну, спросила, как она называется. "Заглавие песни называется «Пуговки для сюртуков», – отвечает Белый Рыцарь. – «Вы хотите сказать, песня так называется?» – спросила Алиса. – «Нет, ты не понимаешь, отвечает Белый Рыцарь. – Это не песня так называется, это заглавие так называется»[7].
Член класса не есть класс (даже когда в классе только один член).
Класс не является своим членом.
В некоторых классах нет членов. (Если, например, я говорю: «Я никогда не читаю написанное мелким шрифтом», не существует класса событий, состоящих из моего чтения того, что написано мелким шрифтом.)
В Креатуре все выражено через имена карты и названия отношений – но все же имя имени не есть имя, а название отношения не есть отношение, даже когда отношение между А и В такого рода, которое мы обозначаем, говоря что А есть название В.
Эти рамки вечны. Они обязательно справедливы, и признание их дает. что-то напоминающее свободу – или скажем, что они являются необходимым условием мастерства. Интересно сравнить их с другими компонентами эпистемологии, такими, как Вечные Истины Святого Августина или прототипы Юнга, и увидеть, где они находятся по отношению к упомянутому ранее стиху.
Мы знаем, что Святой Августин был не только теологом, но также и математиком. Он жил в Северной Африке и был, вероятно, больше семитом, чем индоевропейцем, что означает, что он чувствовал себя совершенно свободно в обращении с алгебраической мыслью. Именно арабы ввели понятие «любой» в математику, тем самым создав алгебру, для обозначения которой мы до сих пор используем арабское слово.
Это истины, скорее всего, являлись простыми предположениями, и здесь я цитирую Уоррена Маккулоха, которому я стольким обязан: "Вслушайтесь в громовые раскаты голоса этого святого, жившего в VI веке нашей эры: «7 и 3 есть 10; 7 и 3 всегда равнялись 10; 7 и 3 никогда и ни при каких условиях не были чем-то, кроме 10; 7 и 3 всегда будут равны 10. Я говорю, что эти нерушимые истины арифметики являются общими для всех, кто рассуждает».
[Вечные Истины Святого Августина изложены в грубой форме, но, мне кажется, что святой согласился бы с более современным вариантом, таким, например, что уравнение
х+y=z
решаемо, причем имеет только одно решение для всех значений х и у, при условии, что мы оговорили шаги и приемы, которыми должны пользоваться. Если «количественные показатели» соответствующим образом определены и таким же образом определено «сложение», тогда х+у=z решается, причем единственным решением, а z будет принадлежать той же субстанции, что и х с у. Но, о Боже, какое же расстояние разделяет прямое, прямолинейное утверждение «7+3=10» и наше осторожное обобщение, ограниченное дефинициями и условиями! Мы в каком-то смысле перетянули всю арифметику через линию, которая должна была отделять Креатуру от Плеромы. Иначе говоря, это утверждение потеряло аромат обнаженной истины у и вместо этого стало артефактом (остатками материальной культуры древнего человека) человеческой мысли, мысли отдельных людей в определенное время и в определенном месте.
Тогда не являются ли Вечные Истины Святого Августина только побочным продуктом частных идей или обычаев, лелеемых в различные времена разными культурными человеческими системами?
Я являюсь антропологом по профессии и образованию, и идеи культурного релятивизма являются частью антропологической ортодоксальности… но как далеко может зайти культурный релятивизм? Что может представитель этого течения сказать о Вечных Истинах? Разве арифметика не имеет корней в неизменной твердой скале Плеромы? И как мы можем обсуждать этот вопрос?
Существует ли такой объект исследований, как Эпистемология с заглавным "Э"? Или все рассматриваемое является делом локальных эпистемологий, любая из которых является такой же правильной как и все остальные остальные?
Все вопросы возникают при исследовании стыка между Плеромой и Креатурой, и становится ясным, что арифметика находится очень близко от этой линии.
Но не отбрасывайте такие вопросы, как «абстрактные» или «интеллектуальные» и, следовательно, бессмысленные. Потому что эти абстрактные вопросы приведут нас к вопросам чисто человеческим. Какой вопрос мы задаем, когда говорим:
«Что такое ересь?» или «Что такое таинство?». Все это глубоко человеческие вопросы – вопросы жизни и смерти, здравого смысла и безумия, и ответы (если таковые имеются) скрыты в парадоксах, порождаемых стыком между Креатурой и Плеромой, стыком, которым гностики, Юнг и я заменили бы картезианское разделение разума и материи.
Возможно ли, чтобы Эпистемология была неверна? Неверна в самом зародыше мышления? Христиане, мусульмане, марксисты (и многие биологи) говорят «да» – они называют такого рода ошибки «ересью» и приравнивают их к духовной смерти. Другие религии – индуизм, буддизм, более открыто плюралистические религии – в принципе не занимаются этой проблемой, как будто ее не существует. Возможность ошибки. Эпистемология не включается в их эпистемологию. Сегодня в Америке практически считается ересью полагать, что истоки мышления имеют какое-либо значение. Если религии озабочены Эпистемологией, как мы можем понять тот факт, что в некоторых из них имеется понятие ереси, а в других – нет?
Я считаю, что корни этого вопроса уходят к самой изощренной религии, которую когда-либо знал мир – к религии пифагорейцев. Подобно Святому Августину, они знали, что Истина имеет некоторые из своих корней в науке о числах. История эта запутанная, неясная, возможно потому, что нам трудно смотреть на мир глазами пифагорейцев, но вырисовывается следующая картина: египетская математика была чистой арифметикой и всегда конкретной, никогда не совершая скачок от «7+3=10» к «х+у=z». В их математике не было дедуктивных рассуждений и доказательств в нашем понимании этого термина. У греков существовали доказательства уже с V века до нашей эры, но простая дедукция – это игрушка до обнаружения доказательства невозможности путем deductio ad absurdo (доведения до абсурда). У пифагорейцев была целая цепочка теорем (которые сегодня не преподаются в школах) о соотношениях между четными и нечетными числами. Пиком этого исследования было доказательство, что равнобедренный прямоугольный треугольник – не решаем, что не может быть или четным, или нечетным числом и поэтому не может быть числом или выражен отношением между двумя числами.
Это открытие было для пифагорейцев ударом в лоб, оно стало главной тайной (но почему тайной?), секретным догматом их веры. Их религия была основана на разрывности серии музыкальных гармоник – демонстрация того, что прерывность была на самом деле реальной и твердо основывалась на жесткой дедукции.
И вдруг они встали перед доказательством невозможности. Дедукция сказала «нет».
С тех пор, как я прочитал этот рассказ, «вера» превратилась в необходимость, и не только «вера», но и «знание», и «видение» того, что противоречия среди высших обобщений должны всегда приводить к умственному хаосу. С этого времени идея «ереси», понимание того, что ошибка в Эпистемологии может стать смертельной, были неизбежными.
Весь этот пот, все слезы и даже кровь – все это должно было пролиться на совершенно абстрактные предположения, чья Правда, казалось, находилась в определенном смысле вне человеческого разума.
Как я понимаю, предположения, в которых были заинтересованы Августин и Пифагор и которые Августин называл Вечными Истинами, скрыты в определенном смысле слова в Плероме и только ждали, чтобы какой-либо ученый дал им название. Если, например, человек пересыпает чечевицу или песок из одного ящика в другой, он не следит за количеством отдельных зернышек или песчинок, но все же в массе количество чечевицы или песка остается верным – или останется верным, если бы кто-то залез туда и произвел подсчеты (возможно, дух епископа Беркли захотел бы проделать это для нас, чтобы хотя бы убедиться, что правда остается той же даже без нашего присутствия), что 7+3=10.
В этом смысле масса закономерностей, безымянных, ждущих чтобы на них обратили внимание. Но различия, которые можно бы применить в анализе, не были проведены: отсутствовали организмы, для которых падающее дерево производило значимый звук!
Я хочу, чтобы стал понятен контраст между закономерностями Плеромы и закономерностями, существующими внутри разумных и организованных систем, – необходимые ограничения и схемы мыслительного процесса, такие, как кодирование.
Знаменитый двойной вопрос Маккулоха: «Каким должно быть число, чтобы человек мог знать его, и каким должен быть человек, чтобы он мог знать число?» принимает совершенно другую окраску, представляет новые трудности, когда вместо совершенно безличного понятия «число» мы подставляем какой-то прототип. Прототипы Юнга выходят за чисто локальные пределы, но полностью принадлежат царству Креатуры.
Что такое «отец», каким он должен быть, чтобы мужчина, женщина, ребенок могли узнать его, и какими должны быть мужчина, женщина, ребенок, чтобы они могли познать отца? Разрешите предложить вам пример:
Отче наш, иже еси на небеси, Да святится имя Твое.
Эпистемологии, скрытой в этом тексте, хватит, чтобы занять нас на долгое время.
Сами слова освящены (От Матфея, 6:9) Евангелием, в соответствии с которым Иисус рекомендовал своим ученикам повторять эту молитву бесчисленное количество раз. В каждой христианской церемонии эти слова странным образом оказываются скалой, на которой стоит вся структура, – эти слова являются привычной темой, к которой постоянно возвращается ритуал, не как к логической посылке, а скорее, как музыкальное произведение возвращается к основной фразе или теме, вокруг которой оно построено.
В то время, как якобы плероматические истины Августина и Пифагора имеют корни в логике или математике, мы сейчас встречаемся с чем-то совершенно другим.
«Отче наш…»
Это язык метафоры, причем очень странный язык. Для начала нам нужны контрастирующие знания, чтобы показать, что мы находимся в области эпистемологии с маленькой буквой "э". (Если вы будете искать абсолютную Эпистемологию среди метафор, вам следует искать ее значительно выше…)
У балийцев, когда шаман входит в состояние экстаза, он разговаривает голосом бога, используя соответствующие местоимения. А когда этот голос обращается к обычным простым смертным (взрослым), он называет их «Папа» или «Мама». Все это происходит потому, что на острове Бали рассматривают отношения между богами и людьми, как между детьми и родителями, и в этой системе взаимоотношений боги являются детьми, а люди – родителями.
Балийцы не ожидают, что их боги будут за что-либо ответственными. Они не чувствуют себя обманутыми, когда боги начинают капризничать. Наоборот, они получают удовольствие, когда боги, воплощенные в шаманов, начинают проявлять свои капризы. Как это непохоже на нашего дорогого Иова!
Данная частная метафора насчет отцовства бога никоим образом не является вечной или всеобщей. Другими словами, «логика» метафоры очень отличается от логики истин Пифагора и Августина. Совершенно отличается, как вы понимаете, но «ложной» не является.[Может получиться и так, что в то время, как частные метафоры являются локальными, процесс метафоризации имеет более широкое значение – может на самом деле быть основной характеристикой Креатуры.]
Теперь позвольте мне выделить контраст между истинами метафор и истинами, в поисках которых математики прибегают к несколько необычному фокусу. Давайте переведем метафору в форму силлогизма: классическая логика приводит несколько разновидностей силлогизма, наиболее известным из которых является следующий:
Люди умирают;
Сократ – человек;
Сократ – умрет[8].
Основная структура этого маленького монстра – его скелет – построена на классификации. Сказуемое («умрет») придано Сократу для отождествления его в качестве члена класса, чьи члены разделяют это сказуемое.
Силлогизмы метафоры совершенно различны и могут иметь такой вид:
Трава умирает;
Люди умирают;
Люди – это трава.
[Мы можем условно назвать этот силлогизм – «силлогизмом в траве»]. Я сознаю, что преподаватели классической логики резко возражают против такого рода аргументации, и, конечно, такое педантичное осуждение оправдано, если ими осуждается путаница разных типов силлогизмов. Но попытки опровергнуть все подобные «силлогизмы в траве» были бы глупыми, так как они являются тем самым веществом, из которого и делается естественная история. Когда мы ищем закономерности в биологическом мире, мы встречаем их постоянно.
Фон Домарус давным-давно указал на то, что шизофреники обычно общаются и действуют в духе силлогизмов в траве[9]. И я считаю, что он также неодобрительно относился к такому способу организации знания и жизни. Если я правильно помню, он не замечает, что поэзия, живопись, мечты, юмор и религия имеют общее с шизофренией предпочтение силлогизмов в траве.
Но вне зависимости от того, любите вы или нет поэзию, мечты и психозы, остается справедливым обобщение, что биологические данные имеют смысл – объединяются – благодаря силлогизмам в траве. Все поведение животных, вся биологическая эволюция – все эти огромные области связаны внутри себя силлогизмами в траве, нравится это логикам или нет.
Все это очень просто – для того, чтобы получить силлогизмы первого образца, у нас должны быть идентифицированные классы, чтобы подлежащие и сказуемые можно было различить. Но, кроме языка, нет поименованных классов и отношений системы «подлежащее – сказуемое». Поэтому силлогизмы в траве должны быть преобладающим способом коммуникативной взаимосвязи идеи во всех довербальных областях.
Я думаю, что первым человеком, отметившим это, был Гёте, который заметил, что если вы рассмотрите капусту и дуб, два довольно различных вида организмов, но тем не менее цветущих растений, вы обнаружите, что способ высказывания мысли об их объединении отличается от принятого обычно у людей. Видите ли, мы говорим так, как будто Креатура плероматична: мы говорим о предметах (листьях, стеблях) и стараемся определить, что есть что. Гёте же обнаружил, что «лист» определяется как нечто, растущее на стебле и имеющее почку, из этой почки опять выходит стебель. Правильными единицами описания будут являться не лист и стебель, а отношения между ними. Эти соответствия позволяют вам взглянуть на другое цветущее растение – на картофель и обнаружить, что та часть, которую вы едите, соответствует стеблю.
Таким же образом большинству из нас говорят в школе, что существительное – это имя человека, вещи, места, но следовало бы говорить нам, что существительное может выступать в различных видах связи с другими частями предложения, с тем чтобы вся грамматика определялась как отношение, система отношений, а не в терминах предметов. Эта деятельность по наименованию, в которой, вероятно, не участвуют другие организмы, является своего рода плероматизацией живого мира. Кроме того, отметьте, что грамматические связи имеют довербальный вид. «Корабль натолкнулся на риф» и «Я отшлепал мою дочь» связаны грамматической аналогией.
Я отправился в Брукфилдский зоопарк в Чикаго, чтобы посмотреть на выводок волчат. Десять из них спали весь день, а одиннадцатый постоянно находился в движении, что-то вынюхивая. Волки, возвращаясь домой после охоты, отрыгивают пищу, чтобы поделиться со щенками, которые в охоте не участвовали. Щенки могут подать сигнал взрослым волкам, чтобы те отрыгнули пищу. Но в конце концов взрослые волки отучают малышей от такой пищи, нажимая своими челюстями на загривки волчат и прижимая их к земле. У домашних собак самки отучают молодняк от молока таким же образом. В Чикаго мне рассказали, как в предшествующем году один из молодых волков оседлал самку. Вперед бросился вожак, но вместо нанесения увечья все, что произошло, свелось к тому, что вожак прижал голову нарушителя спокойствия к земле один раз, второй, третий, четвертый, а затем отошел в сторону. Коммуникативный сигнал молодому волку о его поведении основывался на силлогизме в траве. Но давайте вернемся к нашей молитве:
Отче наш, иже еси на небеси, Да святится имя Твое.
Конечно, мое утверждение, что вся довербальная и невербальная коммуникация зависит от метафоры и/или силлогизма в траве, не означает, что вся вербальная коммуникативная связь является – или должна являться – логической или неметафизической. Метафоры проходят прямо сквозь Креатуру, пронизывают ее, поэтому, естественно, вся вербальная коммуникация обязательно включает метафору. А метафора, одетая в слова, добавляет со своей стороны те характерные черты, которых можно достичь при помощи слов: возможность простого отрицания (на довербальном уровне нет слова «нет»), возможность классификации, дифференциации в системе «подлежащее-сказуемое» и т.д.
И, наконец, существует возможность при помощи слов перепрыгнуть от форм метафоры и поэзии к сравнению. При добавлении «как будто» способ коммуникативной связи превращается в прозу, и тогда следует четко подчиняться всем ограничениям силлогизмов, которые предпочитают логики. Наша молитва тогда превращается в следующее:
Если бы было так, чтобы ты был как бы жив, тогда стало бы возможным общаться с тобой при помощи слов. Поэтому, хотя ты, конечно, и не мой родственник, так как ты только как будто существуешь, так сказать, в другой плоскости (на небесах), и т.д….
Как вы знаете из человеческой этнографии, творчество человеческого разума способно на такую крайность, и, что самое удивительное, эта крайность может создать религию – например, среди бихевиористов. Используя модную метафору, правое полушарие может аплодировать осторожной, в виде прозы логике левого.
Сам акт перевода – из метафоры в сравнение, из поэзии в прозу – может стать сакраментальным, священная метафора для частного случая религиозной позиции. Войска Кромвеля могли носиться по всей Англии, разбивая и отбивая носы, головы и даже половые члены у статуй в церквах в состоянии религиозного рвения, одновременно подчеркивая полное непонимание всей метафорической их священности.
Я обычно говорил, причем неоднократно, что протестантское толкование слов: «Это мое тело – это моя кровь» используется вместо чего-то вроде: «Это олицетворяет мое тело – это олицетворяет мою кровь». Такое толкование изгнало из церкви ту часть разума, которая является ответственной за метафору, поэзию и религию – часть разума, наиболее принадлежащую церкви, – но удержать ее вне пределов церкви нельзя. Нет сомнений, что войска Кромвеля творили свою собственную (ужасную) поэзию своими актами вандализма, в которых они на самом деле сокрушали метафорические половые органы, как будто они были подлинными в понятии левого полушария.
Какая путаница! Но тем не менее мы не можем просто отказаться от метафоры и силлогизма в траве, так как силлогизм первого рассматриваемого нами образца мало пригодится нам в биологическом мире до изобретения языка и отделения подлежащих от сказуемых. Другими словами, все выглядит так, как будто и 100 тысяч, и миллион лет тому назад в мире не было силлогизмов типа первого образца, а только второго, и тем не менее у организмов все было в порядке. Они пытались так организовать себя в своей эмбриологии, чтобы иметь два глаза, каждый со своей стороны носа. Они пытались так организовать себя в своей эволюции, чтобы у человека и лошади были общие сказуемые, – то, что зоологи сегодня называют гомологией. Становится очевидным что метафора – это не просто красивая поэзия, не хорошая или плохая логика, а на самом деле логика, на которой строится весь биологический мир, главная характерная черта и связующее звено этого мира мыслительного процесса, который я попытался очертить для вас.
III. МЕТАЛОГ:
ПОЧЕМУ ТЫ РАССКАЗЫВАЕШЬ ИСТОРИИ? (МКБ)
Дочь: Папа, почему ты так много о себе говоришь?
Отец: Ты имеешь в виду, когда мы разговариваем? Не уверен, что я много говорю о себе. Конечно, есть много такого, что никогда не всплывает наружу.
Дочь: Да, это так. Но ты рассказываешь все время одни и те же истории. Например, ты представил свою эпистемологию в введении, рассказав, как ты к ней пришел, а сейчас ты рассказываешь об экскурсии в Чикагский зоопарк. А я слышала сотни раз, как ты ходил в зоопарк Сан-Франциско и любовался играющими выдрами. Но ты никогда не рассказывал о том, чем ты играл в детстве. Был ли у тебя щенок в детстве? Как его звали?
Отец: Тпру, Кэп. Этот вопрос останется без ответа. Но ты совершенно права относительно того, что, даже когда я рассказываю истории из моего опыта, я говорю не о себе самом. Эти истории о чем-то другом. Рассказ о выдрах – это рассказ о понятии, что для того, чтобы два организма могли играть, они должны быть способны послать сигнал – «это игра». А это ведет к пониманию, что этот вид сигнала, метакоммуникация, или сигнал о сигнале, будет частью их коммуникативной связи постоянно.
Дочь: Ну да, но мы тоже два организма. И у нас та же проблема, о которой ты всегда говоришь, то есть о выяснении, чем же мы занимаемся: играем, исследуем или еще что-нибудь. О чем это должно мне говорить, то, что ты не рассказываешь о нас с тобой в то время, когда я была маленькой? А ты все хочешь говорить о выдрах. В зоопарке.
Отец: Но, Кэп, я вовсе не хочу говорить о выдрах. Я даже об игре не хочу говорить. Я хочу говорить о разговоре про игру.
Дочь: Разговор о разговоре о разговоре. Чудесно. Итак, все превратилось в пример с логическими типами. Рассказ о выдрах – это рассказ о метасигналах, а рассказы о том, как ты рос в позитивистской семье, – про учебу, так как в мыслях об учебе и о том, как учиться учиться, ты начал понимать важность логических типов. Сигналы о сигналах, учение об учении. Я должна сказать, что хотя логисты претендуют на обладание новыми и лучшими моделями логических типов, именно ты максимально с большей пользой их используешь, чего не делает почти никто другой.
Но, папа, я не думаю, чтобы ты мог говорить о говорении, о говорении без разговора, и я имею в виду разговор о чем-то конкретном, осязаемом и реальном. Если ты рассказываешь об игре, в которой я не участвую, означает ли это, что мы не играем?
Отец: Возможно, мы играем, но мы, кажется, запутались. Тебе следует отличать логические типы в словах нашего разговора от общей структуры коммуникации, где словесный разговор – это только часть. Но в одном ты можешь быть совершенно уверена: это в том, что разговор не касается ничего «осязаемого и реального». Он может быть только об идеях. Никаких поросят, выдр или щенков. Только идеи поросят и щенков.
Дочь: Видишь ли, однажды вечером я проводила семинар в Линдисфарне (Колорадо), и Уэндел Берри спорил и утверждал, что вполне возможно непосредственное познание мира. В комнату влетела летучая мышь и в панике заметалась, представляя кантовскую вещь в себе. Я поймала ее чьей-то широкополой ковбойской шляпой и выпустила наружу. Уэндел сказал:
«Смотрите, эта летучая мышь действительно была здесь, часть реального мира». А я ответила: «Да, но, видишь ли, идея этой летучей мыши все еще здесь, она мечется, представляя различные эпистемологии и спор между Уэнделом и мною».
Отец: Да, хотя нельзя сбрасывать со счетов и то, что Уэндел – поэт. Но правда и то, что так как мы все млекопитающие, в какие бы словесные игры мы ни играли, мы ведем речь о связи. Профессор Х встает у доски и читает своим студентам лекцию о высшей математике, постоянно повторяя: «преобладание, преобладание, преобладание». А профессор У, говоря о том же материале, постоянно повторяет слово «зависимость».
Дочь: Как та кошка, о которой ты все время говоришь. Она вместо «молоко, молоко» говорит «зависимость, зависимость».
Отец: Но что более интересно – это то, что кто-то вроде Конрада Лоренца может говорить о коммуникации связей между гусями и сам превращается в гуся у доски – и это более полный доклад о гусях, чем тот, который мы слышали о выдрах…
Дочь: И он говорит с аудиторией о доминировании в то же самое время. Человек говорит о гусе, о связи, о связи между людьми… С ума сойти! И все в аудитории притворяются, что ничего не происходит.
Отец: Ну, другие этологи очень пренебрежительно относятся к Лоренцу. Вроде как к обманщику.
Дочь: А что они понимают под обманом?
Отец: М-м-м, ну это неправильное смещение логических типов. Но я бы сказал, что в подражании гусю Лоренц проявляет умение поставить себя на место другого. Я ведь встречаюсь с той же проблемой: люди называют меня обманщиком, когда я использую логику метафоры при разговоре о биологическом мире. Но мне это кажется единственным разумным способом при разговоре о биологическом мире, так как это способ, которым организуется Креатура.
Дочь: Да уж… Умение поставить себя на место другого, Метафора. Они кажутся мне похожими. Мне кажется, что называть это обманом – все равно, что участвовать в беге наперегонки с помехами вроде одной руки, привязанной за спиной, или просто бежать в мешках.
Отец: Согласен.
Дочь: Но, папа, давай вернемся к теме разговора. Я все-таки хочу знать, почему ты всегда рассказываешь о себе. А большинство рассказов обо мне, в металогах и т.д., неправда, они просто выдуманы.
Отец: Неужели что-то должно в действительности произойти, чтобы быть правдой? Нет, ~я не так выразился. Для того, чтобы сообщить правду о связи, об отношении, или для того, чтобы пояснить мысль. Большинство подлинно значительных историй не про дела, действительно произошедшие, – они справедливы в настоящем, а не в прошлом. Миф о Кевембуанге, убившем крокодила, который по поверьям…
Дочь: Слушай, давай не будем этого касаться. Я хочу знать следующее: почему ты рассказываешь так много историй, и в основном о себе?
Отец: Ну, что ж, могу сказать, что только несколько рассказов в этой книге обо мне. Что же касается причины, почему я рассказываю так много историй, насчет этого есть анекдот. Жил-был человек, и был у человека компьютер. Человек спросил у компьютера:
«Рассчитываешь ли ты, что когда-нибудь будешь мыслить, как человек?» После пощелкиваний и потрескиваний из компьютера вышел листочек, на котором было написано: «Это напоминает мне случай…».
Дочь: Итак, люди мыслят рассказами. Но, может быть, ты плутуешь со словом «рассказ»? Сначала компьютер использует фразу, которой обычно «вступают» в рассказ, и анекдот – это тоже вид рассказа, и кроме того, ты сказал, что миф о Кевембуанге не о прошлом, а о чем-то другом. Итак, что такое рассказ на самом деле? Есть ли другие виды рассказов? А как насчет деревьев? Они тоже мыслят рассказами? Или они их рассказывают?
Отец: Ну, конечно. Слушай, передай мне, пожалуйста, вон ту раковину. Да здесь же целый набор разных, причем чудесных рассказов!
Дочь: Вот почему ты ее положил на каминную полку?
Отец: То, что ты видишь, есть продукт миллионов ступенек, никто не знает точного количества последовательных изменений в поколениях генотипа, ДНК и все такое. Вот тебе и один рассказ, так как раковина должна иметь такую форму, которая может эволюционировать на протяжении этого миллиона ступенек. И раковина сделана, как ты и я, из повторов частей и повторов повторов частей. Если ты взглянешь на человеческий позвоночник – очень, кстати, красивая вещь, – ни один позвонок не является совершенной копией другого, а каждый является видоизменением предыдущего. Эта раковина с правым завитком – и завиток тоже очень красив. Эта форма может расти и развиваться в одном направлении, не изменяя основных пропорций. Итак, раковина обладает рассказом о своем росте внутри геометрической формы и, кроме того, рассказом о своей эволюции.
Дочь: Я знаю: я однажды взглянула кошке в глаза и увидела там завитки. Поэтому я поняла, что завитки происходят от чего-то живого. И это рассказ о нашем разговоре, который все-таки превратился в металог.
Отец: И затем, смотри, несмотря на то, что у раковины есть выступы, не дающие ей кататься по дну океана, она стерта и отполирована – но это уже другая история.
Дочь: Ты упомянул и позвоночник, так что истории человеческой эволюции также присутствуют в разговоре. Но даже когда ты не упоминаешь человеческое тело, есть общие образцы, которые становятся основой для узнавания. Вот что я имела в виду, когда много лет назад сказала, что каждый человек является своей главной метафорой. Мне нравится раковина, потому что она похожа на меня, но и потому, что она от меня отличается.
Отец: Вот поэтому я и рассказываю истории, и иногда Грегори – персонаж этих рассказов, иногда – нет. Очень часто рассказ об улитке или о дереве – это рассказ обо мне или о тебе. Но самый большой фокус получается, когда эти рассказы стоят рядом.
Дочь: Параллельные притчи?
Отец: Затем есть класс рассказов, которые мы называем моделями (models), они довольно схематичны и, подобно притчам, исходящим от учителей или религий, существуют для облегчения мыслительного процесса относительно других вещей.
Дочь: Ну, а перед тем, как ты перейдешь к моделям, я хочу отметить, что рассказы об улитках и о деревьях – это также рассказы о тебе и обо мне. И я всегда прислушиваюсь к тем рассказам, которые ты не рассказываешь, и делаю все возможное, чтобы читать между строк. А сейчас ты можешь рассказать мне о моделях или даже о Кевембуанге, если хочешь. В этом нет ничего страшного – я уже слышала их раньше.
IV. МОДЕЛЬ (ГБ)
Я предложил вниманию читателей различие между Креатурой и Плеромой, а сейчас настала необходимость начать разъяснение связи между этим различием и такими понятиями, как «форма», «структура», «истина» и, с другой стороны, такими понятиями, как «событие» или «процесс».
Я предложил в «Разуме и природе», чтобы мы смотрели на происходящее в биосфере – мире мыслительного процесса – как на взаимодействие между этими двумя: структурой (structure), или формой (form), с одной стороны, и процессом (process), или потоком (flux), с другой, или, скорее, как на взаимосвязь между элементами жизни, к которым относятся эти два понятия.
Уильям Блейк в «Свадьбе рая и ада» говорит; «Разум есть граница или внешняя окружность энергии», и в этом определении мы можем заменить его «разум» нашей «структурой», а его «энергию» нашим «процессом», то есть потоком событий, сдерживаемым в определенных границах.
Блейк был современником Томаса Янга (1773-1829), который ввел понятие «энергия» в физику в качестве технического термина: «произведение (его 1/2) массы или веса тела на квадрат числа, выражающего его скорость». Но Блейк, вероятно, не знал ничего об этом определении. Для него энергия была больше страстью или духовной силой. К языковой иронии судьбы можно отнести тот факт, что старое использование и более строгое физическое определение слились вместе в таком бессмысленном понятии, как «психологическая энергия», так что физическая энергия превратилась сейчас в прокрустову модель для живости, возбуждения, мотива и чувства. Фрейд зашел даже настолько далеко, что принял сохранение энергии в качестве метафоры, объясняющей определенные аспекты человеческой энергии, и размышлял об этих вещах в грубых количественных терминах, представляя себе какой-то бюджет психологической энергии.
Модель взаимодействия между структурой и процессом лежит в основе многих аргументов данной книги, поэтому необходимо понять связь между этими понятиями и проблемами познания или описания.
Модель имеет несколько применений: во-первых, она дает нам язык, достаточно схематичный и точный, так что связи внутри моделируемого объекта можно сравнить со связями внутри модели. В западных языках, к примеру, мы начинаем с называния частей, а затем связи между этими частями выступают в роли сказуемых, приданных обычно к одной части, а не к двум или более частям, между которыми существует связь. Требуется точный и четкий разговор о связях, и модель зачастую облегчает нам это. Вот в этом и заключается первая цель модели.
Вторая цель модели появляется тогда, когда мы имеем словарь связей, так как именно тогда модель будет генерировать, порождать вопросы. Тогда можно взглянуть на моделируемый объект, имея в виду эти специфические вопросы, и, может быть, найти на них ответы.
Наконец, модель становится инструментом для сравнительного изучения различных областей явления.
Теперь, чтобы разъяснить некоторые значения этой модели-структуры, я приведу пример специфической экологической ниши, используя эти понятия. Затем я займусь исследованием формальных сходств и различий между примером и различными уровнями познания, социальными процессами формирования характера и т.д.
Я выбрал данный пример, так как он и связи, в нем содержащиеся, знакомы большинству читателей, хотя, немногие смогли бы нарисовать чертеж системы отопления своего дома. Не считая профессионалов, мы мало знаем о количественных аспектах изоляции, тепла от печей, термостатических выключателей и т.п. Но мы знаем, что в таких системах закольцованы цепи причинно-следственных связей. Итак, вы поняли, что в качестве примера я выбрал схематическое жилище, в котором есть человек со своей историей, печь с термостатом и окружающая среда, в которую система нерегулярно отдает тепло. То есть это, вероятно, простейший пример для иллюстрации совместного функционирования структуры и процесса в саморегулирующейся системе. Дом с термостатическим управлением особенно интересен, так как включает цифровую систему «пуск-стоп» для контроля постоянно изменяющегося количества под названием температура.
Начнем тогда со знакомого предмета на стене гостиной. Этот предмет не что иное, как циферблат термостата. Благодаря циферблату обитатель жилища обладает большей степенью контроля за своей нишей, чем птица над гнездом или долгоносик над укромным теплым местечком под корой дерева, где он устраивает себе жилище.
Этот прибор на стене представляет собой маленький ящичек с обычным термометром снаружи, который виден обитателю дома и который сообщает последнему о температуре в непосредственной близости от циферблата. Термометр не влияет на отопительную систему, разве что через обитателя, в том случае, когда последний на него посмотрит.
Тот же маленький ящичек содержит еще один термометр, обычно невидимый. Этот термометр представляет язычок из двух металлических пластин, наложенных друг на друга. Пластины выполнены из разных металлов с разными тепловыми характеристиками, так что при нагревании один металл расширяется больше, чем другой. В результате при нагревании это устройство из пластин изгибается. Степень изгиба соответствует уровню температуры в данный момент. Во время изгиба и разгиба эти пластины взаимодействуют также с электровыключателем, который запускает печь при понижении температуры и выключает ее при повышении температуры.
Это устройство из двух металлов не измеряет температуру по отношению, скажем, к шкале Фаренгейта, как мы обычно думаем о термометре. А измеряет он температуру по отношению к верхнему и нижнему порогам чувствительности, определенным хозяином дома, который, поворачивая маленькую ручку, может «установить» термостат. При повороте ручки он передвигает вторую половину электрического контакта или ближе, или дальше от конца металлического языка, так что для включения выключателя потребуется большее или меньшее изменение температуры. Поворачивая ручку, хозяин тем самым изменяет рамки, в которых может варьироваться температура до включения или выключения печи, повышая или понижая оба порога.
К ручке обычно подсоединен указатель в системе Фаренгейта или Цельсия, показывающий среднюю температуру, вокруг которой и должен колебаться термостат. Эта информация приводит к заблуждению, то есть она предполагает, что термостатом управляет средняя температура. Термостат же ничего не ведает об этой средней температуре и управляется порогами максимума и минимума. Мы можем даже сказать, что температура дома не управляется, когда она находится в диапазоне между порогами. Другими словами, система соответствует тому, что инженеры называют «нацеленной на ошибку», хотя указатель, подсоединенный к упомянутой ручке, казалось бы, намекает, что система «нацелена на достижение задачи». Эта маленькая эпистемо-логическая ложь, эта фальсификация того, как, откуда мы знаем, что думаем, что знаем, характерна для культуры, в которой мы живем.
Этот маленький ящичек в гостиной интересен тем, что находится на стыке (месте встречи) между миром хозяина дома и миром машин. Обычный термометр и стрелка на установочной ручке предоставляют информацию, обращенную к хозяину дома. Оставшаяся часть системы, со своим собственным чувствительным органом и каналами связи, обращена к внутренним частям системы отопления.
Сейчас мы уже в состоянии поразмыслить об экологии и эпистемологии данной системы, что также послужит нам примером того, что вообще понимается под «системой». Представьте, что хозяин уехал, оставив механическую систему без присмотра. Настройка прибора не может измениться сама по себе, и температура будет колебаться в заданных пределах, между двумя точками, то есть в пределах «свободы». Настройка устанавливает, «утверждает» эти фиксированные точки, и данное «утверждение» я буду называть структурой.
Между этими пределами имеется промежуток, не описанный в «структуре» системы. Промежуток этот неизбежен и необходим. Его можно уменьшить, увеличив разрешающую способность термометра и приблизив друг к другу верхний и нижний пределы. Но в результате все равно промежуток остается. Мы оказываемся в точке, где прерывное функционирование цифрового механизма типа «пуск-стоп» встречается с аналогичной количественной, постоянно изменяющейся характеристикой того, что следует описать или проконтролировать. В этом месте описание будет иметь промежуток, а наш язык и указатели на наших машинах будут тщательно скрывать наличие этого промежутка. Мы не говорим, что значение переменной, которую мы хотим ограничить, находится «между 5 и б». Мы говорим:
«показатель равен 5, 5 ± 0, 5». Но мир процесса (потока) не 'знает средней точки.
Конечно, это не означает, что мы должны исключить использование аналогичных устройств и измерений, так как все попытки насыпать соль на хвост Природе всегда будут страдать неточностью. Подобным же образом мы не должны отказываться от счетных цифровых устройств. Кратил, ученик Гераклита, (в Греции, примерно за 500 лет до н.э.) попытался сделать это, когда его учитель Гераклит сказал: «Все течет» и «В одну и ту же реку нельзя ступить дважды». Кратил, возможно, с целью иронии, отказался от использования языка и прибег к помощи жестов. У глупца никогда не было учеников, так как он не мог объяснить на пальцах, потому он захотел свести все человеческое общение к уровню общения собак и кошек. Если бы он мог говорить обо всем этом, он мог бы открыть теорию логических типов за 2500 лет до Рассела и Уайтхеда.
В отсутствие хозяина дома то, что в доме происходит, может быть изображено так, как показано на рис. 1а и 16.
Во время отсутствия хозяина имеется только один компонент того, что я называю структурой – циферблат термостата. Он не может изменить свою настройку, поэтому все правила и обстоятельства такого изменения несущественны.
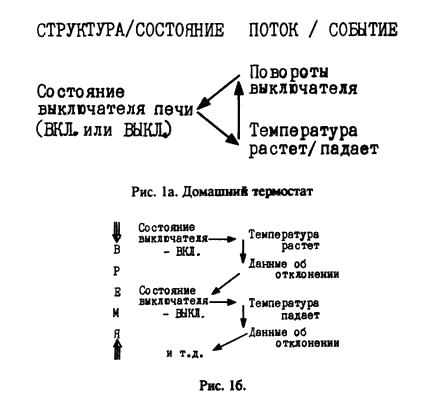
А теперь представим, что хозяин возвращается. Температура дома неблагоприятно воздействует на его кожу, но он констатирует: «А, ладно, термостат это уладит». Через час или два он говорит: «Дома все еще слишком холодно». И тогда он подходит и меняет настройку.
Диаграмму следует сейчас расширить включением в систему еще одного похожего треугольника. Хозяин получил информацию от образчика работы первого треугольника, и эта информация коснулась какого-то порогового уровня в нем. Первый треугольник сейчас функционирует как компонент второго, так что совокупность событий в подсистеме, указанная внизу на рисунке прерывистой линией, определяет событие в большей системе. Сейчас мы можем представить объединенную систему следующим образом:

[Отношение между этими двумя диаграммами иллюстрирует несколько интересующих нас вещей. Мы наблюдаем иерархически организованную, самокорректирующуюся систему, в которой коррекция происходит двумя способами: в одном случае регулировка выключателя печи, в другом – перенастройка циферблата. Сама отопительная система получает информацию через свой чувствительный орган в форме разницы – разницы между фактической температурой и заданным порогом – и соответственно реагирует, но переноса от одного случая самокоррекции к другому не происходит. Однако в системе, включающей хозяина дома, хозяин меняет настройку не из-за конкретного отклонения, а потому, что видит в течение определенного промежутка времени, что диапазон колебаний не соответствует его комфорту, и он меняет диапазон. Включение и выключение термостата не имеет постоянного эффекта, но система меняется при настройке. Она может быть подвергнута дополнительным изменениям на все более высоком уровне, если хозяин изменит свои привычки в отношении настройки.]
Соотношение между этими двумя диаграммами напоминает соотношение между двумя методами достижения точности в действии приспособления, которое Хорст Миттельштедт разделил и описал как «калибровку» (calibraion) и «обратную связь» (feedback). Эти термины тесно связаны с терминами «структура» и «процесс» в том смысле, в котором я их употребляю, но Миттельштедт употребляет свои термины раздельно, не предполагая, что явление должно всегда существовать в сочетании. В моей терминологии структура не может существовать отдельно, так как всегда должна существовать маточная порода, которой данная структура внутренне присуща так же, как и поток событий, процесс, направляемый структурой. Однако, так как термины Миттельштедта можно использовать раздельно, его идеи в данном отношении проще и представляют удобный следующий шаг в формализации, что нам и требуется. Миттельштедт использовал пример с двумя методами стрельбы. Если человек стреляет из винтовки, он, используя прицел, исправляет ошибку до тех пор, пока не получит удовлетворения, и только после этого спускает курок. Это и есть метод обратной связи. Его основная характеристика – использование коррекции ошибок в каждом отдельном акте выстрела.

Если, с другой стороны, охотник использует дробовик для стрельбы по летящей птице, у него не будет времени несколько раз корректировать прицел. Ему придется положиться на «калибровку» своих глаз, мускулов и мозга. При виде поднимающейся в воздух птицы он должен воспринять всю совокупность информации, на основе которой его мозг и мускулы произведут расчеты, управляя подъемом дробовика до уровня, где он будет целиться на опережение движущейся птицы. При достижении этого положения он выстрелит. Во всем этом едином действии существует минимум коррекции ошибок. Тем не менее спортсмен постарается приобрести практику. Он может тратить часы, стреляя по тарелкам, постепенно набирая мастерство, так как он использует предыдущие результаты для внесения изменений в настройку и координацию рук, глаз и мозга. Основной характерной чертой метода калибровки является остутствие коррекции ошибок во время самого акта и использование большого количества актов для достижения лучшей настройки или калибровки внутренних механизмов реагирования.
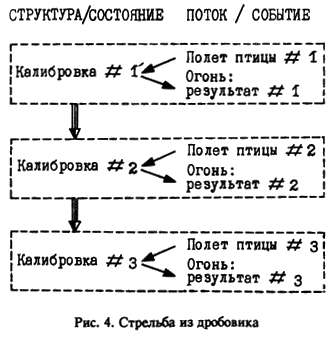
Информация, используемая человеком с винтовкой, принадлежит логическому типу, отличному от того, который был использован человеком с дробовиком. Первый использует информацию о конкретной ошибке в уникальном событии, последний должен извлечь урок из практики. Класс представляет более высокий логический тип, чем его члены.
Читатель сразу же отметит, что этот контраст может иметь важное значение для формирования характера и воспитания. Учение дзэн, например, использует опыт, накопленный длительной практикой, (и зачастую нарушает коррекцию ошибок, пока не будет достигнуто более широкое – или глубокое – изменение в калибровке. На самом деле, связь между понятиями Миттельштедта и понятиями, использованными в этой книге, становится ясной при рассмотрении их в терминах различных типов познания. Система отопления дома направляет события и реагирует на различия, но сама не изменяется – пример нулевого познания. Подобным же образом идеализированный стрелок на диаграмме (в отличие от стрелка в жизни) всегда начинает всю процедуру заново.]
Другим примером, использованным Миттельштедтом, было поведение богомола, который ловит пролетающих мух очень быстрым резким движением. Миттельштедт заинтересовался точностью этого движения и тем, как ему можно научиться, но выяснил, что его животные не способны использовать опыт для коррекции калибровки, которая была, скорее всего, задана генетикой – «жестко запрограммирована».[Но когда хозяин находится дома, его система может. быть изменена в результате опыта последовательных циклов. Подобно этому и калибровка охотника с дробовиком изменяется серией последовательных опытов. Охотник учится на практике.]
Что происходит, когда учитель музыки ругает ученика за «недостаточность практики»? Вопрос несколько осложнен, и только сейчас, когда я пишу эти строчки, я начинаю понимать процесс, доставивший мне в детстве столько мучений. (Воспитатели знают, что когда мы говорим о человеке «непослушный», мы зачастую имеем в виду, что он или она использует или пытается использовать самокоррекцию в индивидуальном акте, когда успех зависит от калибровки, приобретенной длительной практикой. Вы не можете научиться стрелять из дробовика, обращаясь с ним, как с винтовкой.) Во время игры я очень старался играть правильно. Другими словами, я пытался использовать коррекцию ошибок в разовом акте исполнения каждой ноты. Результат был далек от музыки.
Контраст между использованием винтовки и дробовика возникает из того факта, что стрелок из винтовки может откорректировать прицел в середине незавершенного действия. Он корректирует несовершенную ошибку. Человек с дробовиком судит о качестве стрельбы после завершения действия. В момент стрельбы охотник с дробовиком обладает меньшей гибкостью, чем охотник с винтовкой, так как полагается на сформированные привычки. Птица падает или улетает, а охотник добавляет еще один дополнительный продукт опыта в банк памяти, от которого зависит калибровка.
[Оба ряда диаграмм, две отопительные системы дома и по различным способам стрельбы, демонстрируют различия в логических типах. В обоих случаях, где мы поднимаемся на второй логический уровень (рис. 2 и 4), происходящее событие является не только изменением, применимым к частному случаю (как в рис. 1 и 3), но долговременным изменением в системе, которое повлияет на будущие события, то есть изменением в структуре.] Именно на такие изменения мы ссылаемся, употребляя термин «обучение», но для создания логически последовательной теории я включаю в эту рубрику все события, в которых организм или система получают информацию, и вот почему нам нужен термин «нулевое познание», или нулевое обучение. На самом деле, стрелок из винтовки в отличие от богомола обучается, практикуясь. Но этого не видно из «чистого случая», показанного на диаграмме. В то же самое время я включаю в этот термин все, от простейших случаев – до получения сложной информации, которая может определить характер, религию, компетентность или эпистемологию. Я также включаю внутреннее обучение, то есть изменения в процессах обучения, вызванные изменениями при взаимодействии различных частей мозга. Следующим шагом после такого всеобъемлющего определения будет разработка определенной классификации обучения и ее объяснение, то есть то, что я называю теорией обучения.[Разработка такой теории включает группирование явлений, часто отличающихся друг от друга, таких, как адаптация, пагубные привычки, формирование привычек, а затем определение различных видов обучения терминами логических типов. Выше уровня нулевого обучения обучение состоит из изменений системных характеристик в результате опыта. В организмах такое изменение обычно происходит в поиске постоянства цели, – цели, заранее определенной.]
Определение обучения поднимает вопросы, относящиеся к случаям «обучения» или «гистерезиса», которые можно встретить среди чисто физических явлений. Одним из наиболее известных среди них является случай с фигурами Хладни. Тонкая металлическая пластинка с опорой в одной точке посыпается мелким порошком, а затем по ней ударяют палочкой (по краю); возникающая в результате удара вибрация будет неравномерно распределяться по пластине, так что порошок покинет места с наибольшей амплитудой и соберется на участках, где амплитуда будет наименьшей. Возникающие рисунки получили свое название по имени итальянского физика Хладни, изучавшего их в XIX веке. Такая пластинка может дать множество подобных рисунков в зависимости от места удара. Некоторые из них получить легче, некоторые – труднее, и говорят, что пластинка «запоминает» рисунок, произведенный вчера, и с большей легкостью воспроизводит его сегодня.
Так же, конечно, и хозяин ценного инструмента Страдивариуса не разрешит новичку играть на нем из боязни, что новичок произведет такие страшные звуки, которые инструмент может повторить в концертном зале.
Вопрос гистерезиса узоров резонанса представил большой интерес в свете последних предположений Карла Прибрама о том, что память образуется чем-то подобным голограммам в мозгу. «Мозговая голограмма» является, если я правильно понимаю, сложным четырехмерным узором резонанса в трехмерной нервной системе. Легким выходом из затруднения было бы предложение о том, что явления не следует классифицировать как «обучение» или что они не включают ! получение «информации». Но я придерживаюсь такого мнения, что мозг действительно зависит от приобретенного узора резонанса, и мы не можем просто отмахнуться от такого приобретения как от «лжеобучения». Нам следует скорее подготовиться к изменению нашего определения «обучения» или «информации», чтобы приспособиться к этим явлениям.[Явления, которые мы описываем, всегда должны обладать таким аспектом, который можно описать физически, и нам может понадобиться взглянуть на физические изменения, входящие в обучение внутри организмов, так же, как и на неограниченное обучение или обучение системами, содержащими сложные сочетания органических и неорганических компонентов – подобно владельцу дома с его системой отопления.]
Прежде чем закончить рассмотрение ряда примеров, затронутых в этой главе, следует рассмотреть другое сходство между диаграммами, а это уже случай с триадами. Исследование «обучения» в психологических лабораториях часто также формируется вокруг триады событий, называемых «стимул, реакция, подкрепление», что позволяет одному компоненту толковать связь, отношение между двумя другими. В данном контексте было бы только естественным задать вопрос о том, связана ли эта триада с показанными на диаграммах треугольниками. И кроме того, спросить, являются ли в некотором смысле «реальными» триада экспериментов по обучению и треугольники в нарисованных мною диаграммах или они просто артефакты лаборатории или даже паранойи теоретика. Встречаются ли такие триады во всех примерах обучения, узнаваема ли такая триада в случае с фигурами Хладни, в голограммах и т.д.?
Образец триады, включенный в обучение, прочно держится благодаря природе «подкрепления». Это название любого сигнала, определяющего ценность («хороший» или «плохой», «правильный» или «неверный», «успех» или «неудача», «удовольствие» или «боль») системы связей между любыми двумя или более компонентами в последовательном ряду взаимодействий. Подкрепляется не «кусочек» поведения, подкрепление является толкованием связи между двумя или более событиями в последовательности. Некоторые люди приписывают своему миру посылку, что «правильный» и «неправильный» являются определениями предметов, а не связей между ними. Эти люди готовы определить «подкрепление» в терминах, отличающихся от приведенных выше. Кодексы законов поступают так в уверенности, что легче определить действия, чем связи между ними. Я считаю такие «срезы» пути неверными и/или опасными.
Теперь позвольте разделить две категории обучения, в каждую из которых входит много членов, но каждая при этом обладает таким свойством, что разница между ними является разницей логических типов, то есть то, что изучается в одной категории, содержится в обучении более высокой категории. Рассмотрим для примера отношения крысы с экспериментатором: крыса учится получать пищу путем нажатия на клавишу, когда она слышит определенный звук. Или возьмем ребенка, которого взрослый учит играть на фортепьяно. В каждом из этих примеров существует два вида обучения. Есть определенный урок, который надо выучить: для крысы – «нажми на клавишу и получишь пищу» и для ребенка – «нажми на эти клавиши в соответствующем порядке и получишь поощрение».
И в каждом есть обучение высшего логического типа. Для крысы: «В мире очень много таких ситуаций, в которых мое правильное действие принесет пищу» или более обобщенно: «В мире очень много ситуаций для целенаправленного действия». Для ребенка последовательность более сложная. Да, ощущения крысы подходят и для ребенка: «Существуют такие ситуации, при манипуляции которыми я могу получить поощрение». Но, кроме того, имеется и очень интересный вопрос связи между отдельным действием, ведущим к успеху или неудаче вовне, и отдельным действием, которое поддается коррекции своими силами. Следует ли мне откорректировать то, как я играю каждую ноту? Или мне следует откорректировать какую-то переменную в последовательности нот?
При обсуждении контраста между стрельбой из винтовки и стрельбой из дробовика было ясно, что оружие различалось по степени возможности, предоставляемой для самокоррекции.
Винтовка позволяет стрелку увидеть свою ошибку при прицеливании во время одного акта. Дробовик же позволяет обучаемому судить о результате только после выстрела, но для того, чтобы научиться, ему необходимо практиковаться.
Но это также вопрос обучения – или мог бы стать таковым. В детстве, в возрасте от девяти до восемнадцать лет, я провел ужасные часы, стараясь научиться играть на скрипке, и, что касается музыки, я научился совершенно не тому, что нужно. Постоянно стараясь исправить отдельную ноту, я не смог научиться, узнать то, что музыка находится в другом, большем ряду последовательностей.
Я пишу сейчас эти строки, находясь в лесах Британской Колумбии, а мой маленький магнитофон играет «Вариации» Баха. Точность воспроизведения далека от совершенства, а клавесин звучит еще мягче, чем обычно. Но меня занимает композиция. Она начинается с утверждения, которое Бах назвал «ария». Затем идут отдельные вариации, всего их тридцать, пока, наконец, последовательность не возвращается к повторению исходной арии. Написал ли Бах эти тридцать вариаций и затем расставил их по порядку? Или каждая вариация каким-то образом определяет последующую?
Как бы там ни было, эта дилемма – рассматривать ли обучение как изменение в калибровке или как проблему самокоррекции от одного момента к другому, – кажется, присуща всем видам искусства. Входит ли в основные достоинства искусства представление данной проблемы? Заставить исполнителя и слушателя, живописца и зрителя и т.д. сдаться перед необходимостью, отмечающей границу между осознанной самокоррекцией и непроизвольным подчинением внутренней калибровке?[Также возможно, что подобное смещение логических типов напомнит нам некоторые виды опыта, который мы называем «религиозным».] Когда я учился играть на скрипке, для меня эти вопросы представляли область запретного – место, куда я боялся ступить. Существуют ли тогда такие места, которые населены ангелами, но куда боятся ступить глупцы?
V. НИ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ, НИ МЕХАНИЧЕСКОЕ (ГБ)
Прежде чем предпринять попытку понять, что же все-таки такое – обладание чем-то священным, следует, по крайней мере, обозначить некоторые барьеры. Каждый участник в такой дискуссии должен четко оговорить свою позицию по большому количеству тем, относящихся к основным посылкам данной цивилизации, а также к религии и священному.
[Кажется, что центром эпистемологической запутанности, в которой мы все сегодня живем, является начало нового решения проблемы «тело-разум». Первый шаг к решению содержится в обсуждении различий, проведенных Юнгом между Плеромой и Креатурой, а именно, что разум является организационной характеристикой, а не отдельной «субстанцией». Материальные предметы, входящие в отопительную систему жилища – включая и хозяина дома – распределены таким образом, чтобы оказать поддержку определенным мыслительным процессам, таким, как реагирование на разность в температуре и самокоррекция. Такой способ видения, по которому мы рассматриваем умственное в качестве организационного, доступного для исследования, но не сводим его к материальному, предусматривает развитие монистического и унифицированного видения мира. Одной из ключевых идей, развитых на конференции по теме "Сознательная цель и человеческая адаптация[10]" около пятнадцати лет назад, было то, что каждая религия и многие другие системы мышления могут рассматриваться как предлагающие решение, полное или частичное, проблемы «тело-разум».] Из нескольких способов мышления о системе «тело-разум» большинство являются, по моему мнению, неприемлемыми решениями данной проблемы, они-то и составляют основу для возникновения целого ряда предрассудков, которые можно разделить на два класса.
Есть такие формы предрассудков, которые помешают объяснение жизни и опыта вне пределов тела. Какой-то отдельный сверхъестественный орган – разум или дух – должен вроде бы влиять и частично управлять телом и его действиями. В этих системах верований остается неясным, как разум или дух, будучи нематериальными, могут влиять на материю в целом. Говорят о «власти разума над материей», но эта связь может произойти только, если разум получит материальные характеристики или материя получит мыслительные свойства типа «послушания». В любом случае предрассудок ничего не объясняет. Разница между разумом и материей сведена к нулю.
Есть и другие предрассудки, полностью отрицающие разум. Как утверждают механицисты, нет ничего такого, что нельзя было бы объяснить линейными последовательностями причины и следствия. Нет ни информации, ни юмора, ни логических типов, ни абстракций, ни красоты, ни уродства, ни печали, ни радости. И так далее. Этот предрассудок состоит в том, что человек является машиной. Даже безвредные лекарства, прописываемые для успокоения, не подействуют на такое создание.
Но жизнь машины, даже самого хитроумного компьютера, трудна для понимания – и поэтому наши материалисты всегда находятся в поисках выхода. Им нужны чудеса, а мое определение таких воображаемых явлений простое: чудеса – суть мечтания, посредством которых материалисты пытаются сбежать от своего материализма.
Эти два вида предрассудков, эти соперничающие эпистемологии, сверхъестественная и механическая, подпитывают друг друга. В наше время посылка о внешнем разуме ведет к шарлатанству, содействуя, в свою очередь, обращению к материализму, который затем становится невыносимо узким. Мы говорим себе, что выбираем свою философию по научным и логическим критериям, но на самом деле наше предпочтение определяется необходимостью смены одного неудобного состояния на другое.
Проблема, однако, не является полностью симметричной.
Я решил жить в Эзалене с его астрологическими поисками истины, травяными лекарствами, диетой, йогой и т.д. Мои друзья любят меня, я люблю их, и я все больше и больше прихожу к выводу, что не могу жить где-либо еще. Меня приводят в ужас мои коллеги по науке, и, хотя я не верю практически ни во что, что составляет основу антикультуры, мне представляется очень удобным жить с этим неверием – больше, чем с антигуманным ужасом, который вызывают во мне западные привычки и их образ жизни. Они пользуются слишком большим успехом, а их верования слишком бессердечны.
Верования антикультуры могут называться суевериями и отнесены к иррациональным, но причина этого вполне состоятельна. Она была направлена на защиту человека от постепенного исчезновения как вида. Старые верования прекратили служить источником объяснения или уверенности. Честность правительственных лидеров, руководителей в областях промышленности и образования, живущих старыми верованиями, перестала внушать доверие.
Это смутно ощущаемое исчезновение вида является основным в эпистемологическом кошмаре XX века. Следовало бы найти более стабильную теоретическую позицию. Она нужна нам для ограничения крайностей как со стороны материалистов, так и тех, кто ввязался во флирт со сверхъестественным. И, кроме того, нам нужна пересмотренная философия или эпистемология для уменьшения нетерпимости, разделяющей эти два лагеря. «Чума на оба ваших дома!» – восклицает, умирая, Меркуцио.
Я утверждаю, что сегодня мы знаем достаточно, чтобы ожидать, что эта улучшенная позиция будет унитарной и что концептуальное разделение между «разумом» и «материей» будет рассматриваться как побочный продукт недостаточного холизма («философия целостности»). Когда мы слишком пристально смотрим на часть, мы теряем возможность увидеть необходимые черты целого, и тогда у нас возникает соблазн приписать явление, возникающее благодаря целостности, какому-то сверхъестественному явлению.
Люди, слишком часто читающие мои труды, черпают в них поддержку для мыслей о сверхъестественном, которые были у них, конечно, и до того. Я никогда сознательно не оказывал такой поддержки, а это ложное впечатление оказывается барьером между ими и мной. Я не знаю, что делать, кроме того, что еще раз разъяснить мои идеи в отношении сверхъестественного, с одной стороны, и механического, с другой. Ну что ж, я презираю и испытываю страх перед обеими крайностями, считаю их эпистемологически наивными и неверными, а также политически опасными. Они также опасны для того, что мы называем умственным здоровьем.
Мои друзья подталкивают меня к тому, чтобы я выслушал еще больше рассказов о сверхъестественном, подверг себя различным «опытам» и встретился с большим количеством людей, практикующих невероятное. Они называют меня ограниченным в этой области. Так оно и есть. В конце концов, я по профессии и врожденной склонности – скептик, даже в отношении данных, получаемых от органов чувств. Я действительно верю, что есть какая-то связь между моим «опытом» и тем, что происходит «там», и эта связь воздействует на мои органы чувств. Но эту связь я рассматриваю как очень таинственную и требующую большого количества исследований. Как и другие люди, я обычно испытываю многое из того, что не происходит вовне, «там». Когда я присматриваюсь к тому, что, как я считаю, является деревом, я получаю образ чего-то зеленого. Но этот образ не находится «там». Поверить в это – будет опять-таки видом предрассудков, суеверия, так как образ – это мое творчество, оформленное и окрашенное многими обстоятельствами, включая и заранее составленное мнение.
Что касается сверхъестественного, я считаю, что данные во многих случаях отличаются от того, как они поданы, и не поддерживают, не говоря уже о доказательстве, того, на что они нацелены. Я также считаю, что в эти утверждения настолько трудно поверить, что требуется очень сильное доказательство.
Беда в том, что вера в чудо всегда оставляет верующего открытым для любой веры. Воспринимая и принимая два противоречащих вида объяснений, он жертвует всеми критериями невероятного. Если какое-то предположение одновременно правильно и неверно, тогда все предположения должны быть одновременно правильными и неверными. Все вопросы веры или сомнения теряют тогда смысл. В этом контексте концепция ереси приобретает свое значение. Однако, если ересь определить как внутренне противоречивое мнение о какой-то главной посылке жизни и религии, тогда вера в сверхъестественное будет, в конце концов, «ересью».
Пример, возможно, внесет большую ясность. Недавно я присутствовал на сеансе, где профессиональный медиум нарисовал около двадцати картин за два часа. Эти картины он подписал именами различных покойных знаменитых художников – Пикассо, Моне, Тулуз-Лотрек, Матисс, Рембрандт и т.д. И, в самом деле, каждая картина была выдержана в стиле художника, чье имя было на ней «подписано». Медиум утверждал, что дух покойного художника управлял им во время написания картин и что без такого воздействия он бы и не знал, как подступиться к холсту.
Несколько дней спустя маленькая девочка лет четырех испортила одну из этих картин, на которой стояла «подпись» Моне. Члены общины были в шоке. Но я предположил, что такая последовательность событий доказывала реальность приведений. Очевидно, Моне, находясь где-то в краю мертвых, узнал об этом чудовищном перевоплощении и, разъяренный, вернулся на землю, воплотился в маленькую девочку и направил ее руку, чтобы она испортила картину. Я указал, что штрихи, сделанные девочкой на картине, и есть подлинный Моне и принесут на аукционе несколько тысяч долларов. Или всю картину можно назвать подлинным Моне? Любая гипотеза по правдоподобию (или неправдоподобию) равна другой. Введение сверхъестественного в схему объяснения разрушает всю веру и все неверие, оставляя только состояние ума, которое мы определяем, покрутив пальцем у виска. Но это состояние некоторые находят приятным.
Большое количество разнообразных предрассудков о сверхъестественном зависит от довольно небольшого числа неверных представлений. Так, я считаю, что получение информации организмами или машинами всегда происходит материальным путем и через вполне определенные органы.
Это исключает такие варианты экстрасенсорного восприятия, как телепатию, восприятие на расстоянии, второе зрение и т.д. Это также исключает предрассудок, называемый «наследование приобретенных черт». Но" конечно, не исключается возможность у людей, животных или машин иметь такие органы чувств, о которых мы просто еще не знаем. Однако при обсуждении с друзьями проблемы сверхъестественного я вижу, что любое простое объяснение того, в чем они убеждены, их не устраивает.
Другие виды предрассудков построены на противоречиях, подобных понятию коммуникации без каналов связи, таким, как вера в вещи или людей без материального облика, но тем не менее взаимодействующих с материальным миром. Так, есть люди, описывающие «опыт вне тела», когда нематериальное что-то (что-то, что не является чем-то) оставляет тело в буквальном смысле, чтобы получить ощущение и опыт во время такого путешествия (хотя и не имеет при этом органов чувств), и возвращается назад в тело, снабжая хозяина тела информацией о путешествии. Я рассматриваю все такие рассказы как галлюцинации или чистой воды вымысел. Подобным же образом вера в антропоморфные сверхъестественные существа утверждает существование и способность влиять на события лиц, не имеющих ни местоположения, ни материального существования. Итак, я не верю ни в духов, ни в богов, ни в дьяволов, фей, гномов, нимф, духов леса, привидения, домовых или в Деда Мороза. (Но вера в то, что Деда Мороза нет, возможно, является началом религии.)
Некоторые понятия в области сверхъестественного, казалось бы, базируются на материалистической науке, но на самом деле это не так: у них нет тех качеств и свойств, относящихся к материальному миру. Из всех примеров с физическими величинами, наделенными мыслительной магией, «энергия» – самое вредное. Это когда-то четко определенное понятие из количественной физики с действительными размерами превратилось в беседах и мышлении моих друзей-антиматериалистов в пояснительный принцип.
Мою позицию и причину, по которой так много людей предпочитают мыслить по-другому, можно объяснить исследованием отношений между религией и волшебством. Я считаю, что все заклинания, заговоры, медитации, магические формулы, чары и т.д. действительно срабатывают – но действуя при этом на медиума (как и «психическая энергия»). А на любых других людей это не действует.
Но, когда человек (посторонний) хотя бы частично знает о происходящем и о направленности происходящего на себя, я уверен, что все эти магические процедуры могут быть очень эффективными: они могут убить или вылечить, принести вред или пользу.
Я не верю, что подобные магические процедуры имеют соответствующий эффект на неодушевленные предметы.
В общем, волшебные процедуры имеют кажущееся формальное сходство и с наукой, и с религией. Волшебство может быть выродившейся формой («прикладной») любой из этих двух. Присмотритесь к таким ритуалам, как танец дождя, или к тотемным ритуалам, относящимся к связям человека с животными. В этих видах ритуалов человек вызывает духов, или подражает, или стремится управлять погодой или экологией диких животных. Но я считаю, что это чисто религиозные церемонии на примитивной стадии. Это ритуальные утверждения единства, включающие всех участников в единое целое с метеорологическим циклом или с экологией тотемных животных. Это – религия. Но путь, ведущий от религии к волшебству, всегда таит в себе соблазн. От утверждения единства с туманно виднеющимся целым шаман обращается к более привлекательной позиции. Он рассматривает свой ритуал как часть целенаправленного волшебства, вызывающего дождь, или увеличивающего плодородие тотемного животного, или достигающего какой-либо другой цели. Критерий, отличающий волшебство от религии, и есть цель, зачастую направленная вовне.
Цель, направленная вовнутрь, желание изменить себя – это совершенно другое дело, но есть и промежуточные случаи. Если охотник исполняет ритуальную имитацию животного, чтобы заставить последнее попасться в сети, это, конечно, волшебство, но если целью имитации животного является улучшение своего умения поставить себя на место другого и улучшение понимания животного, его действия могут быть отнесены к религиозным. Мой взгляд на волшебство противоположен ортодоксальному направлению в антропологии, сохраняющемуся со дней сэра Джеймса Фрэзера. Вера в то, что религия есть эволюционное развитие волшебства, – ортодоксальна. Волшебство рассматривается как более примитивное явление. Я же, напротив, рассматриваю волшебство как продукт упадка религии; религия в целом, по моему мнению, это более раннее явление. Я не симпатизирую этому ухудшению, будь это в общественной жизни или воспитании и обучении детей.
Сегодня становится модным собирать повествования о предыдущих воплощениях, о путешествиях в какую-то землю мертвых, о существовании в подобном месте и т.д. Конечно, остается справедливым, что многое последствия моих действий останутся и после «моей» смерти. Мои книги будут продолжать читать, но не в это верят мои друзья. Как я вижу эту проблему, после смерти организация живого существа сводится к очень простым формам.
Другая форма предрассудков, разъясняемая астрологией и теорией синхронности Юнга, основывается на факте, что человеческое мнение очень сильно настроено против вероятности совпадений. Людей обычно удивляют случайности и совпадения, которые невероятными назвать нельзя. Некоторые совпадения отвечают сокровенным желаниям тех, кто хочет найти в них основу для сверхъестественного.
Если происходящее совпадает с нашими желаниями, нашими страхами – тогда мы уверены, что это не простое совпадение. Или «удача» была на нашей стороне, или нет. Или, возможно, наши опасения послужили причиной происшедшего. Люди с трудом проводят различие между изменениями в себе и изменениями в окружающем мире.
Интересно, что один предрассудок может вести к другому. К примеру, Артур Кестлер, начавший с марксизма, отверг эту метафизическую веру и перешел к вере в теорию синхронности. Спуск в ад легок. Затем Кестлер перешел к утверждению наследуемости приобретенных признаков. Верить в это – означает верить в передачу информации без рецептора.
Интересно отметить, что вера в различные предрассудки быстро переходит в желание прибегнуть к трюкам для укрепления этой веры.[И на самом деле, этнография шаманизма полна примеров, в которых шаман, искренне веря в свою волшебную силу, все-таки полагается на ловкость рук, чтобы помочь сверхъестественному.]
Отказ от традиционных способов мышления и управления очень отличается от критики антикультуры. Я могу составить список того, с чем я не согласен в антикультуре. Но мои возражения против традиционной системы выглядят по-другому: я не могу составить список того, с чем я не согласен, так как мои возражения направлены против способа, которым такие разумные компоненты культуры, как деньги, математика, эксперименты, связаны вместе.
Я считаю, что более значительными, чем все виды предрассудков, связанных со сверхъестественным, являются два основных верования, тесно друг с другом связанные, причем оба они являются не только устаревшими, но и опасными. Интересно, что их разделяют как современные специалисты в области сверхъестественного, так и механицисты. Суеверия и предрассудки, модные теперь даже среди бихевиористов и физиков, возникают из сочетания этих двух вер. Странно, что оба верования связаны с гигантом философской мысли – Рене Декартом.
Первым верованием является идея, лежащая в основе большого диапазона современных предрассудков, а именно, что в нашем мире существуют два различных пояснительных принципа: «разум» и «материя». Как и всегда происходит в случае с дихотомией, этот знаменитый картезианский дуализм породил целую серию, не менее чудовищную, чем сам:
разум/тело, интеллект/аффект, желание/соблазн и т.д. В XVII веке трудно было придумать какое-либо не сверхъестественное объяснение мыслительных процессов и в то же время было уже очевидно, что физическое объяснение астрономии должно было пользоваться огромным успехом. И поэтому было совершенно естественным уступить дорогу вечной как мир вере в сверхъестественное, чтобы избавиться от проблемы «разума».
Завершив это, учение могло продолжать свои «объективные» исследования, не обращая внимания или совершенно отрицая тот факт, что наши органы чувств, весь наш набор подходов к изучению «материи» очень далеки от «объективности».
Другой вклад Декарта, также носящий его имя, преподаваемый каждому ребенку, – это так называемые картезианские координаты, представляющие две или более взаимодействующие переменные или путь переменной во времени. Вся аналитическая геометрия возникла из этой идеи.
Я не хочу заниматься придирками, но убежден, что совершенно не случайно один и тот же человек, который изобрел координаты, одно из самых материалистических научных творений, также отдал дань дуалистическому предрассудку утверждением раскола между разумом и материей.
Обе идеи тесно связаны. И отношение между ними особенно ясно видно, когда мы думаем о дуализме разум/материя как об изобретении для удаления одной половины от другой, которую объяснить намного легче. Будучи отделенными, мыслительные явления можно было игнорировать. В результате та половина, которая осталась, могла быть объяснена исключительно материалистически, другая же полностью отнесена к области сверхъестественного. Рваные края остались у обеих частей, и материалистическая наука скрыла эту рану, разработав собственную сеть предрассудков. Материалистическим суеверием является вера (не всегда излагаемая) в то, что количество (чисто материальное понятие) может определить форму. С другой стороны, противники материализма возводят в принцип власть разума над материей. Оба утверждения являются чушью. Первое из них является основной посылкой современной экономики и, следовательно, одним из факторов, определяющих международный хаос и экологические бедствия.
С другой стороны, популярное клише «власть разума над материей» содержит три связанных понятия: «власть», «разум» и «материя». Первое из этих понятий взято из мира инженеров и физиков. Оно принадлежит к тому же миру, что и понятия энергии и материи. Поэтому вполне логично будет говорить, скажем, о власти магнита над куском железа. Все три – магнит, железо и власть – принадлежат одному уровню общения. Все три могут встретиться в одном и том же утверждении. Но разум со времен раздела мира Декартом на две части не принадлежит этой сфере. Поэтому, чтобы придать физическую власть разуму, мы должны дать ему материалистическое существование. И, наоборот, мы могли бы придать свойства разума материи и говорить о «подчинении материи разуму». Так или иначе, но эти два понятия надо заставить встретиться в одном концептуальном мире. Фраза «власть разума над материей» не служит мостиком между разумом и материей. Она только взывает к чуду, чтобы свести их вместе. И, конечно, как только мы допустим основное противоречие в систему объяснений, все становится возможным. Если х одновременно равен и не равен у, тогда все х одновременно равны и не равны всем у и друг другу. И все критерии невероятного утеряны.
В любом случае сочетание двух идей, возникших у Декарта, превратилось в выдвижение на первый план количества в научном объяснении, которое отвлекало мысль людей от проблем контраста, формы и способа происходящего, а также целого, отличного от своих частей. Мир картезианских координат основывается на постоянно изменяющихся количественных характеристиках, и в то время, как такие концепции занимают свое место в описании мыслительного процесса, упор на количественные характеристики отвлекает человеческую мысль от понимание, что контраст, соотношение и форма являются основой мыслительной деятельности. Пифагор и Платон знали, что схема действия является основой для разума и способности формировать идеи. Но эта мудрость была утеряна в тумане якобы не подлежащей описанию тайны под названием «разум». Этого хватило, чтобы положить конец систематическому исследованию. К середине XIX века любая* ссылка на разум в биологических кругах рассматривалась как обскурантизм или ересь. Именно последователи учения Ламарка (Батлер и сам Ламарк) пронесли традицию объяснения через разум сквозь весь период количественного материализма. Я не принимаю их основного тезиса о наследственности, но им следует отдать должное за то, что они сохраняли и поддерживали важную философскую традицию.
Уже к XIX веку философы в области биологии (так же, как и инженеры, и торговцы) ушли с головой в глупость количественной науки. Затем в 1859 году, с публикацией работы Дарвина «О происхождении видов», они получили теорию биологической эволюции, которая точно соответствовала философии индустриальной революции. Она заняла место поверх картезианского разделения между разумом и материей, хорошо вписываясь в светскую философию мышления, развивавшуюся со времен Реформации. Исследования умственных процессов были тогда напрочь искажены в биологических кругах, на них было наложено табу.
Кроме координат и дуализма «разум/материя» Декарт получил еще большую известность, благодаря своему знаменитому высказыванию: «Мыслю, следовательно, существую». Мы можем сегодня только гадать, приведет ли дихотомия между разумом и материей к атрофии мышления о мысли.
Я рассматриваю традиционные взгляды на разум, материю, мышление, материализм, естественное и сверхъестественное как полностью неприемлемые. Я отвергаю современный материализм с такой же силой убеждения, как и кокетство со сверхъестественным. Однако дилемма между материализмом и сверхъестественным становится менее убедительной, как только вы поймете, что ни одна из этих двух моделей не является эпистемологически действительной.
Прежде, чем вы перепрыгните со сковородки материализма в огонь сверхъестественного, неплохо было бы рассмотреть «вещество», из которого изготовлена «материальная наука». Это вещество, конечно, не материально, и нет особых причин называть его сверхъестественным. За отсутствием более подходящего термина разрешите мне называть его «умственным».
Позвольте мне заявить категорически (а что такое категория?), что не существует такой вещи, как, например, хлор. Хлор – это название класса, но не существует такой вещи, как класс. Конечно, в определенном смысле справедливо, что, соединяя хлор с натрием, мы получим определенную реакцию, и в результате образуется обычная соль. Но мы не рассматриваем справедливость утверждения. Мы касаемся вопроса, является ли утверждение химией – является ли утверждение материальным. Существуют ли в природе такие вещи, как классы! Я говорю – нет, пока мы не соприкоснемся с миром живых существ. Но в лице живых существ в Креатуре Юнга и гностиков действительно есть классы. Поскольку живые существа включают в себя коммуникативную связь, поскольку они являются «организованными», они должны содержать что-то в виде сигнала, то есть события, путешествующие от одного живого объекта к другому или внутри живого объекта. А в мире коммуникативной связи обязательно должны быть категории, классы и другие подобные устройства. Но эти устройства не соответствуют физическим причинам, которыми материалисты объясняют события. В добиологической Вселенной нет ни сигналов, ни классов.
Материализм – это набор описательных предложений, относящихся ко всему миру, в котором нет описательных предложений. Его словарь и синтаксис, его эпистемология подходят только для описания такого мира. Мы не можем даже использовать его язык для списания нашей деятельности в описании.
Следует задать вопрос, что же тоща такое «описательное предложение»? Чтобы ответить на него, было бы резонным вернуться в научную лабораторию и посмотреть на то, что делает ученый с целью разработки описательных предложений. Его деятельность не слишком сложна: он разрабатывает или покупает инструмент, который и будет стыком между разумом и предположительно материальным миром. Этот инструмент является аналогом органа чувств, его продолжением. Поэтому мы можем ожидать, что природа мыслительного процесса, природа восприятия будет заложена в используемом инструменте. Так происходит и с микроскопом. Менее очевидно это в случае с весами. Если мы спросим ученого, он ответит нам, что весы – это устройство для измерения веса. Но здесь, я полагаю, и кроется его первая ошибка. Обыкновенные весы с опорной призмой посередине коромысла и чашками на каждом конце – это не устройство для определения веса. Это устройство для сравнения весов – а это совершенно другое дело. Весы с коромыслом станут устройством для измерения веса только тогда, когда один из сравниваемых предметов имеет уже известный (или определенный) вес. Другими словами, не весы, а дополнение к весам позволяет ученому говорить об измерении веса.
Когда ученый делает такое дополнение, он очень далеко уходит от природы весов. Он изменяет основную эпистемологию своего инструмента. Весы сами по себе не являются устройством для измерения веса, это устройство для сравнения сил, приложенных весом через систему рычагов. Коромысло – это рычаг, и если грузы в чашках равны, то становится возможным утверждать, что между грузами в чашках нет разницы. Более точным переводом того, что говорят весы, будет: «Отношение между грузами в чашках есть единица». Я хочу сказать, что весы – это, в основном, устройство для измерения отношений, что только вторичной их задачей является определение разницы, а это очень различные понятия. Вся наша эпистемология приобретет другую форму, если мы будем искать разницу в весовых отношениях.
На языке прикладной математики разность между двумя грузами измеряется в весовых категориях (унциях или граммах). Это ближе к материализму, чем отношение между двумя грузами, измеряющееся без применения весовых категорий.
В этом смысле обычные химические весы в лаборатории, функционирующие между человеком и неизвестным количеством «материала», содержат внутри себя парадокс границы между умственным и физическим. С одной стороны, это орган чувств, реагирующий на нематериальные понятия отношения и контраста, с другой стороны, они используются ученым, чтобы тот мог понять что-то, близкое материальному, а именно: количество с реальными размерами. В итоге весы относятся к правде так, как ученый относится к истине психологического процесса. Это устройство для создания науки, игнорирующей подлинную природу органов чувств любого организма, включая и ученого.
Одной из целей этой книги является разрушение наиболее смехотворных и опасных заблуждений в эпистемологии, которые сегодня часто встречаются. Я считаю, что когда мы расчистим площадку от чуши, мы сможем взглянуть на многое, сегодня такое же неясное и запутанное, как «разум», и поэтому остающееся за пределами науки.
Серьезному рассмотрению в этом случае сможет быть подвергнута и эстетика. Прекрасное и уродливое, буквальное и метафорическое, разумное и безумное, юмористическое и серьезное… все это (и даже любовь и ненависть) является предметами, которые сегодня наука избегает. Но через несколько лет, когда разрыв между проблемами разума и проблемами материи прекратит быть главным определителем того, о чем невозможно думать, они станут доступными для формального осмысления. В настоящее время большинство этих вещей просто недоступны, и ученые, вполне понятно, отступают перед ними даже в антропологии и психиатрии. Мои коллеги и я все еще не можем подступиться к таким деликатным вопросам. Мы перегружены такими заблуждениями, о которых я уже упомянул, и, подобно ангелам, боимся ступить в такие области, но такое положение сохраняться вечно не будет.
По мере написания этой книги я ощущаю себя между Сциллой традиционного материализма с его количественным мышлением, прикладной наукой и «управляемыми» экспериментами, с одной стороны, и Харибдой романтического супернатурализма, с другой.
В мою задачу входит исследование того, существует ли подходящее разумное место для религии где-то между этими двумя кошмарами глупости. Возможно ли найти в знании и искусстве основу для поддержки утверждения священного, если для религии перестанут быть необходимы тупость и лицемерие?
Предложит ли такая религия новый вид единства? И сможет ли она породить новую и столь необходимую смиренность?
VI. МЕТАЛОГ: ЗАЧЕМ НУЖНЫ БЕЗВРЕДНЫЕ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ УСПОКОЕНИЯ БОЛЬНОГО? (МКБ)
Дочь: Почему вдруг успокаивающее? Почему, когда ты жалуешься на механистические взгляды человеческих существ, ты говоришь об успокаивающем, чтобы подчеркнуть их несовершенство? Успокаивающее – это только симуляция лекарства (не так ли?), которое ты даешь пациентам, и, возможно, их можно будет тем самым обмануть, чтобы они почувствовали себя лучше? Это только показывает, насколько доверчивы люди.
Отец: Никоим образом. Эффективность успокаивающих является доказательством того, что человеческая жизнь, лечение и страдание принадлежат к миру мыслительного процесса. Где различия – идея, информация, даже их отсутствие – могут выступать в качестве причин.
Недавно у меня была возможность поговорить с группой врачей, собранных губернатором. Во время беседы я изложил им новую версию загадки из псалма: «Кто такой человек, чтобы знать болезнь и лечить ее?» и далее: «Что такое болезнь, чтобы человек мог узнать ее и вылечить?»
Видишь ли, физиологическая медицина похожа на бихевиористскую психологию и эволюцию по Дарвину. Все эти ребята обучались исключению разума в качестве объясняющего принципа, а профессиональное обучение склоняет врачей к материализму. В результате они не считают нужным говорить пациенту, что предписывают ему сахарную пилюлю. Только материальные причины являются «реальными».
Но глупые пациенты действительно верят в свой разум, и поэтому в 30 процентах случаев успокаивающее действует. Доктор же считает успокаивающее ложью. Поэтому не говорите пациентам, что это – успокаивающее средство, потому что, если вы это сделаете, их разум подскажет, что успокаивающее не подействует, и т.д.
Но самое интересное то, что самые известные методики исцеления, разработанные в последнее время вне рамок традиционной медицины, побуждают пациента изобретать свое собственное индивидуальное успокаивающее. Это успокаивающее не может быть в этом случае ложью!
Дочь: Давай рассмотрим это с другой стороны. Есть ли что-либо, что делают врачи, что не является успокаивающим?
Отец: Ну, видишь ли, во время моей последней встречи с традиционной медициной я лишился одного ребра – фактически двух, так как первое они у меня отняли несколько лет назад, – тебе следовало бы увидеть удивление моего хирурга, когда я сказал ему, что у меня уже нет одного ребра. Врачи действительно режут и дают химические вещества, имеющие предсказуемые или частично предсказуемые материальные последствия. Но остается проблемой, как эти цепочки причин и следствий вписываются и взаимодействуют с намного более сложными цепочками Креатуры.
Я пришел к выводу, что единственным способом придать смысл моей госпитализации было рассматривать ее как одно огромное успокаивающее средство. Хирурги определили у меня неоперабельный рак, но это только часть истории, так как, хотя «ничего нельзя было сделать», все же произошло многое, и восемнадцать месяцев спустя я был здоров. Боюсь, что я был очень заметным пациентом – не совсем обычным. Я разработал удовлетворительную диету: очень хороший портвейн и стилтонский сыр, яйца всмятку и авокадо, фрукты – я помню чудесные манго. И все это дополнялось обычным больничным меню. Когда ты безнадежен, никто не ограничивает питания.
И кроме того, я был занят проведением неофициальных семинаров в постели для медицинского персонала. По каким темам – я уже не помню, что-то вроде компота о жизни и смерти, антропологии и кибернетике и т.д.
Я пользовался успехом. Но было и другое: я начал ходить во сне, чего никогда раньше не делал. Но через четыре дня после операции в два часа ночи я встал с постели и пошел, весь в трубках… нет, это не рекомендовалось.
Дочь: Я помню – все были очень расстроены.
Отец: Это позволило мне наладить контакт с Клео – очень крупной черной медсестрой, дежурившей по ночам. Я помню ее полный сочувствия юмор. А потом была еще девушка из Австрии, принятая в филиппинскую психологическую школу хирургии. Она обнюхивала меня, похлопывала, выслушивала и однажды сказала: «Ну, Грегори, у тебя с грудной клеткой все в порядке». На что я ответил: «Но только три дня назад они копались во мне с ножами и видели рак». «Знаю, – ответила она. – Но они видели умирающий рак. Они просто опоздали.» И улыбнулась.
Итак, Кэп, была ли эта улыбка частью моего лечения?
Дочь: Хорошо, но если улыбка могла быть частью твоего лечения, то слух о неоперабельном раке мог тебя убить.
Отец: Да, хотя мог иметь и противоположный эффект. Одной из проблем, касающихся людей, является то, что если мы рассматриваем мужчин и женщин как бревна, они и будут напоминать нам эти бревна. Если мы думаем о них как о негодяях, они и будут приближаться к этому образу – даже президенты не смогут этого избежать. Если мы думаем о них как о художниках… и т.д.
Дочь: Думать о них как о художниках… Я хочу попробовать.
Отец: Только осторожно. Привычки мышления становятся, как говорится, «жестко запрограммированными».
Дочь: И тогда что?
Отец: Тогда переделать уже сделанное будет очень нелегко и займет много времени. Если мы научим людей быть мерзавцами, мы не сможем сразу же устанавливать систему, подходящую для святых, так как мерзавцы воспользуются изменениями.
Дочь: Верно. Как получилось со мной, когда я пыталась честно вести себя с профессорами колледжа, когда некоторые из них уже испытали вкус нечестности.
Отец: Во всех человеческих делах бывает пробел, задержка, запаздывание. И наши ошибки дольше исправлять, чем совершать.
Дочь: И все это ты сказал врачам. Как они, должно быть, полюбили тебя за это!
Отец: Видишь ли, сегодня большинство представителей подобных групп действительно учатся, в том числе учатся видеть человека в кибернетических терминах: как саморегулирующуюся систему, реагирующую на различия и т.д. Но все же тень сомнения у меня остается: в конце концов, они принадлежат САНГЕ.
Дочь: А это что такое?
Отец: Санга – так буддисты называют духовенство. Любая информация претерпевает изменения, когда включается в истеблишмент.
Дочь: Я знаю. Ты предпочел бы, чтобы они приняли участие в развитии и разработке новых религиозных взглядов по мере изменения их воззрений на отношения в системе «тело-разум» – но тебе становится неприятно, когда ты видишь, как эти взгляды становятся частью системы.
Отец: Мы не должны забывать об изменчивости привязанности. Привязанности к изменяющимся убеждениям.
Дочь: А постарайся найти способ сочетания постоянства с плюрализмом – по крайней мере, мне кажется, что именно плюрализм ты имел ввиду, когда говорил о верах в Эзалене, с большинством из которых ты не согласен. Но они спасают вид от исчезновения. Кроме того, тебе следует более осторожно излагать свои взгляды на ересь, если ты не хочешь, чтобы тебя неправильно поняли, так как люди могут вспомнить об инквизиции.
Отец: Вопросы постоянства и последовательности заключаются в том, насколько вещи вписываются друг в друга, а не в смысле их одинаковости. Наши воззрения на лекарство и пациента должны совпасть с собственным опытом пациента. Определенная степень постоянства и последовательности необходима для интеграции, но единообразие – это одна из таких вещей, которые на определенном уровне становятся ядовитыми.
Дочь: И, все-таки, папа, должно быть, очень трудно найти выход из многочисленных глупостей.
Отец: Да, конечно. Но игра стоит свеч.
VII. ПУСТЬ ЛЕВАЯ РУКА ТВОЯ НЕ ЗНАЕТ… (ГБ)
Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая[От Матфея, 6:3].
В процессах, называемых нами восприятием, познанием, действием, следует соблюдать определенный декорум, когда же эти туманные правила не соблюдаются, правильность наших мыслительных процессов находится под угрозой. Прежде всего эти правила касаются сохранения линий раздела священного от мирского, эстетического от возбуждающего низменные страсти, преднамеренного от бессознательного, мышления от чувства.
Я не знаю, поддержит ли абстрактная философия необходимость этих линий раздела, но уверен в том, что такое деление является обычным для человеческих эпистемологий и что оно является компонентом естественной истории человеческих знаний и действий. Подобные линии можно с уверенностью найти во всех человеческих культурах, хотя, конечно, каждая культура обладает своими уникальными способами решения возникающих в результате парадоксов. Я ввожу факт такого разделения как свидетельство того, что область Эпистемологий – умственного объяснения – является упорядоченной, реальной и должна быть исследована.
В настоящей главе я проиллюстрирую с помощью ряда рассказов, что случается, когда эти линии нарушаются или перед ними встает такая угроза.
В 1960 году я выступал в качестве подопытной морской свинки для психолога Джо Адамса, изучавшего психоделические явления. Он дал мне 100 граммов ЛСД, и, когда наркотик начал действовать, я, в свою очередь, начал рассказывать ему, чего я добивался от этого опыта – что я хотел глубокого проникновения в суть эстетической организации поведения. Джо сказал: «Погоди! Погоди, пока я запущу свой магнитофон». Когда он, наконец, включил его, он попросил меня повторить сказанное.
Любой, имевший опыт употребления ЛСД, знает, что при этом поток идей таков, что «повторить» что-либо просто невозможно. Я сделал все, что от меня зависело, но неуклюжесть Джо ввела в наши отношения элемент борьбы, противостояния. Довольно интересно, что при этом роли наши поменялись, так что позднее он стал ругать меня за то, что я слишком много думал вместо того, чтобы давать спонтанные ответы. В ответ на это я защищал интеллектуальную позицию.
В какой-то момент он сказал: «Грегори, ты слишком много думаешь».
«Думать – это моя работа», – ответил я. Чуть позже он вышел и принес из сада бутон розы. Прекрасный и свежий. Он дал его мне, говоря при этом: «Хватит думать. Посмотри лучше на это».
Я взял бутон и посмотрел на него. Бутон был сложен и прекрасен. Поэтому, уравнивая процесс эволюции с процессом мышления, я сказал: «Вот, Джо, подумай, сколько же мысли вошло в этот бутон!»
Очевидно, здесь есть проблема: не просто избежать мысли и использования интеллекта, так как он иногда вреден для спонтанности чувства, но выяснить, какие же виды мысли вредны для спонтанности и какие виды мысли являются тем самым веществом, из которого и получается спонтанность.
Позднее, во время той же самой встречи с использованием ЛСД, я заметил: «Все это хорошо, но очень уж банально». Джо спросил: «Что ты имеешь в виду?»
Я наблюдал бесчисленные формы и цвета, сталкивающиеся друг с другом, разрушающиеся и преобразующиеся, и я сказал: «Да, это банально. Это похоже на узоры, образующиеся при битье стекол. Я вижу только трещины на плоскости, но не саму суть, не сам материал. Просперо был не прав, когда сказал: „Мы – это такой материал, из которого получаются мечты“. Ему следовало сказать так: „Мечты – это кусочки материала, из которого мы сделаны“. А что это за материал, Джо, это уже совершенно другой вопрос».
Даже хотя мы можем обсуждать идеи, которые мы «имеем», и то, что мы воспринимаем благодаря органам чувств, даже при всем этом – главный вопрос, вопрос о природе оболочки, в которой содержится весь этот опыт, является совершенно другим и более глубоким вопросом, который касается дел, являющихся частью религии.
Эти рассказы вызывают два вида вопросов: какова природа сплошной массы, или маточной породы, из которой или в которой производятся идеи? И какие виды идей ведут к замешательству в функционировании этой маточной породы, приводящему к расстройству творческой способности?
В 1974 году я был приглашен по телефону чиновниками из канцелярии губернатора Брауна произнести речь на званом завтраке.
Я несколько колебался и указывал на то, что я в сущности всего-навсего некрещеный антрополог. Действительно ли это то, что нужно для завтрака с молитвой у губернатора? Да, именно этого он и хотел. Итак, я согласился произнести речь.
Речь должна была состояться в январе. У меня было полно времени – почти пять месяцев. Но очень скоро я получил толстый конверт из канцелярии судьи Макбрайда, главного федерального судьи Сакраменто. Он должен был быть церемониймейстером на этом завтраке и был очень озабочен. Он писал, что это очень торжественная религиозная традиция, и указывал на то, что мне следовало с уважением отнестись к традициям, он даже прислал мне в помощь образцы речей, которые были произнесены другими людьми на подобных завтраках.
Поэтому я написал мою речь. Судья проинструктировал меня о лимите времени – 18, 5 минут, вот я и написал речь – то, что я делал крайне редко, – и отослал экземпляр, чтобы несколько его успокоить.
Вот, что я написал и позднее зачитал перед собравшимися:
Я – антрополог. И задача антрополога приводит его в разные, иногда странные и чужие места, то есть в места, чужие для него, но не для тех, кто чувствует свою к ним принадлежность. И вот я здесь, на завтраке у губернатора – месте для меня несколько чужом, но для многих из вас родном и где вы чувствуете себя естественно. Я нахожусь здесь, чтобы связать это чужое место с другими чужими местами в мире, где люди собираются, возможно, с целью молитвы, возможно, – празднования, а возможно, просто с целью подтвердить, что в мире есть что-то большее, чем деньги, и карманные ножи, и автомобили.
Одной из вещей, которые дети усваивают о молитве, является то, что люди не молятся о карманных ножах. Некоторые усваивают это, некоторые – нет.
Если мы собираемся говорить о таких вещах, как молитва и религия, нам нужен будет пример, образец, о котором можно говорить. Трудность заключается в том, что слова «религия, молитва» и им подобные употребляются в разном смысле, в разное время, в разных частях мира. И я попрошу вас хотя бы на время произнесения этой речи о согласии; вы поймете, о чем я говорю, на следующем примере.
Известный антрополог Сол Такс работал с группой американских индейцев близ Айова-сити около двадцати лет тому назад. Его пригласили на национальный съезд американской церкви коренных американцев, который должен был состояться вблизи Айова-сити. У этой церкви священным символом является психоделический нераспустившийся бутон кактуса, который помогает определить религиозное состояние. Эта церковь подвергалась нападкам за использование того, что могло быть названо наркотиком, и Солу Таксу показалось, что он поможет этим людям, если сделает фильм о съезде и его очень впечатляющих ритуалах. Такой фильм мог бы послужить свидетельством, что это богослужение является религиозным и, следовательно, имеет право на свободу, которой по конституции обладает религия в этой стране. Он срочно отправился в Чикаго, достал машину с киноустановкой, техникой, запас пленки и кинокамеры. Он велел своим людям ждать его в Айова-сити, пока он не закончит переговоры с индейцами о получении от них разрешения на съемку. В дискуссии, прошедшей между индейцами и Солом, ему постепенно стало ясно, что они не могли представить себя перед камерой во время очень личного дела, каковым является молитва. По мере того, как один за другим индейцы высказывали свои за и против, напряжение нарастало. Обсуждался вопрос: можно ли осквернить один ритуал, чтобы спасти церковь, и никто не пытался избежать этого вопроса. Ни один человек не оспаривал факта, что церковь находится в серьезной опасности… Казалось, они приняли дилемму как таковую, как будто исполняли роли из греческой трагедии. Сол Такс, сидя вместе с президентом церкви перед собравшимися, слушал выступавших, совершенно ими очарованный. И постепенно к нему приходило понимание того факта, что свою целостность они ставили выше самого существования. Хотя в комнате собрались самые политически развитые члены церкви, они не могли пожертвовать долгожданной священной ночью молитвы. Когда все высказались, встал президент и сказал, что у него нет возражений против съемки фильма, но сам он просит освободить его от участия в них. Конечно, это положило конец любой возможности съемок, смысл собрания был ясен.
Любопытным парадоксом в этом рассказе является то, что подлинно религиозная сущность священного символа была доказана отказом руководителей пойти на прагматический компромисс узаконивания своей церкви путем, чуждым для истинно верующих.
Этот пример, тем не менее, не дает определения слову «религия». Он только указывает на преграду, необходимую для сохранения религии от такого изменения, которое превратило бы ее в мирскую, светскую, а впоследствии и в развлечение.
Итак, вот что я сказал собравшимся политикам и чиновникам за молитвенным завтраком. А в заключение я сказал, что был бы намного более счастлив в отношении мира, в котором живу, в отношении того, как цивилизация собирается относиться к этому миру (учитывая и эксплуатацию, и загрязнение окружающей среды), если бы был действительно уверен, что мои руководители обладали тем, что буддисты называют озарением, приходящим на основе исполненного опыта, в том числе и знания естественной истории.
В положенное время мы встретились за завтраком в огромном выставочном зале – 1300 человек за сотнями маленьких столиков, на которых были фрукты и сыр. Я помню, что было много комментариев по поводу этой скромной, но здоровой трапезы. Было много представителей прессы – около двадцати человек с фотоаппаратами и несколько с кинокамерами, причем один нес камеру и осветительные приборы, а другой шел за ним, неся 30-40 фунтов батарей.
Когда мы все выбрали столики, судья Макбрайд поднялся на возвышение, чтобы нас приветствовать. Он указал, что это религиозное, священное, а не мирское мероприятие, и поэтому фотографирования участников не будет. Лица представителей прессы потускнели, и батареи показались очень тяжелыми. Поэтому, чтобы их утешить, Макбрайд дополнил: «Конечно, я не буду возражать, если будут проведены съемки хора Суфи!»
Позднее они пели не хуже ангелов. Я с семьей и хор прибыли предыдущим вечером, и Браун повел нас на обед в китайский ресторан. Кто-то за обедом упомянул купол храма, и кто-то из участников хора поинтересовался звучанием пения под ним. Поэтому в одиннадцать часов вечера мы отправились в храм, который Браун отпер своим ключом. Хор собрался под куполом и запел. Это были прекрасные звуки: песнопения были и суфийскими, и грегорианскими, а некоторые даже светскими времен Елизаветы.
Но рассказ о Соле Таксе и индейцах в Айове был слишком тяжел, и направить его на Макбрайда было с моей стороны недопустимо.
Я использовал тот же рассказ в 1969 г. в первый день конференции в Вартенштейне, в Австрии. Я был председателем и собрал около двадцати мыслителей, биологов и антропологов, а также представителей других дисциплин, чтобы попытаться обсудить эстетический детерминизм в поведении людей и животных, тот же общий вопрос, который заставил меня испытать действие ЛСД: играют ли эстетические факторы роль в изменении того, чем занимаются животные и люди в своих взаимоотношениях? Это была хорошая группа, но при открытии конференции я рассказал им историю ос Солом Таксом, чтобы установить норматив целостности и единства.
По этому рассказу индейцы считают глупостью отказ от целостности, чтобы спасти религию, чьей единственной целостностью является культивирование целостности. Индейцы отказались спасать свою религию на этих условиях.
Мои ученые запаниковали. Они начали думать, что индейцы были, вероятно, безрассудными или фанатичными. Возможно, «святее папы». И т.д. Они взяли на вооружение общепринятый взгляд на вещи. Итак, я потерпел поражение в то утро, и затем в течение восьми дней мы старались вернуться к целостности группы. Но в этом не преуспели.
Существует довольно известный рассказ о человеке, вошедшем в автобус с большой клеткой в руках, накрытой коричневой бумагой. Он был абсолютно пьян, всем мешал, настаивал на том, чтобы клетка стояла рядом с ним на сиденье. Его спросили: «Что в клетке?». Он ответил: «Мангуста». Его спросили, зачем ему мангуста, и он ответил, что пьяному человеку всегда нужна мангуста против змей во время белой горячки. Ему заметили на это: «Но ведь змеи-то ненастоящие!». И он торжествующим шепотом ответил: «Да, но, видите ли, мангуста тоже ненастоящая».
Является ли это примером для всех религий и для психотерапии? Или все это чушь? И что мы имеем в виду, когда говорим: «Деда Мороза не бывает»?
Если все это чушь, тогда разумный человек просто отправится домой и забудет об этом. Он сможет провести вечер, занявшись починкой сантехники дома или заполняя декларацию о доходах. Но таких разумных людей всегда не хватало, чтобы очистить цивилизацию, убрав из нее весь мифологический «мусор». В каждой мировой культуре есть свои мифические фигуры, и она заставляет детей смотреть на них и убеждаться, что они не обладают той же реальностью, что горшки, сковородки или даже люди.
В каждой находящейся на ранней стадии развития культуре каждый новообращенный должен сначала испытать загадку фигур в масках, а затем сам надеть такую маску и танцевать в ней.
А что касается Хлеба и Вина? Причащающийся ест и пьет их – и вряд ли возможна более наглядная демонстрация того, что Хлеб на самом деле хлеб, а Вино – вино, И все же…
Однажды я старался помочь человеку, страдавшему одновременно и алкоголизмом, и психозом. Он происходил из религиозной семьи христиан-фундаменталистов. В этой семье не допускалось упоминание Санта Клауса, так как считалось, что, поверив, а затем разочаровавшись в этой вере, дети могут стать атеистами. Из «Санта Клауса нет» они могут перейти к отрицанию Иеговы.
Относительно настоящей дискуссии разрешите мне предположить, что слова «Иеговы нет» могут означать: «Нет исходного материала разума, нет сплошной массы, нет структуры в веществе, из которого мы сделаны».
Подобные вопросы ставятся в следующем рассказе – рассказе, известном каждому жителю острова Бали. Почему Аджи Дарма, старый народный герой, утеряет знание языка животных, если он кому-либо расскажет, что понимает этот язык?
Рассказ очень сложен. Каждый фрагмент его сочетается с другими, выходя на обсуждение поднимаемых мною вопросов. Вот этот рассказ.
Аджи Дарма (буквально «Отец Терпеливый» или «Отец, Долго Страдающий») однажды гулял по лесу и там увидел двух совокупляющихся змей. Змея мужского пола была обыкновенной гадюкой, а змея женского – королевской коброй, то есть они нарушали кастовые правила. Поэтому Аджи Дарма побил их палкой. Змеи уползли в кусты. Кобра отправилась прямо к своему отцу, королю всех кобр, и сказала ему: «Этот старик очень плохой. Он пытался изнасиловать меня в лесу».
Король змей сказал: «Неужели?» и послал за Аджи Дармой. Когда старик предстал перед ним, король обратился к нему: «Что же случилось в лесу?», и Аджи рассказал все.
Король сказал: «Да, так я и думал. Ты правильно сделал, что побил их, и за это будешь награжден. С этого времени ты будешь понимать язык всех животных. Но при одном условии: если ты когда-либо кому-либо расскажешь, что ты понимаешь язык животных, ты потеряешь этот дар».
Итак, Аджи отправился домой, и той же ночью, в постели, лежа рядом с женой, он услышал, о чем говорили ящерицы гекконы на соломенной крыше. Гекконы повторяли «Хе-хе», сопровождая эти слова звуками, похожими на подхихикивание людей, когда те рассказывают грязные истории. И на самом деле гекконы делились друг с другом грязными историями, а Аджи Дарма благодаря своему новому знанию мог их слышать и понимать. И он тоже засмеялся.
Жена спросила:
– Аджи, над чем ты смеешься?
– О, … ну … ни над чем, дорогая.
– Но ты смеялся. Ты смеялся над чем-то!
– Нет, дорогая, я просто задумался, но это не так важно.
– Аджи, ты смеялся надо мной. Ты больше меня не любишь.
Но Аджи так и не рассказал ей, над чем смеялся, потому что он не хотел утерять бесценный дар.
Его жена волновалась и переживала все больше и больше, заболела и умерла.
Тогда старик почувствовал свою вину и начал терзаться угрызениями совести. Он ведь убил свою жену, так как проявил свой эгоизм. Он, видите ли, не хотел терять способность понимать язык животных!
Поэтому он решил организовать обряд самосожжения по индийскому образцу, но только наоборот. В традиционном обряде вдова бросается в костер, на котором сжигается тело ее мужа. Он же сам прыгнет в костер, где будут сжигать тело его жены.
Итак, был сложен и украшен большой погребальный костер. По обычаю он был весь в цветах и цветных листьях. Рядом с ним Дарма попросил людей построить возвышение с лестницей, чтобы с этого возвышения можно было бы прыгнуть в огонь.
Перед кремацией он забрался на возвышение, чтобы проверить, все ли в порядке и удобно ли будет прыгать в костер. Когда он там находился, он увидел внизу, в траве, козла и беременную козу. Они вели беседу. Коза попросила: «Козлик, достань мне вот тех листочков Они такие красивые! Я хочу их съесть».
На что козел ответил: «Бе-е-е».
Козочка продолжала уговаривать: «Ну, козлик, ну, пожалуйста! Ты меня совсем не любишь. Если бы ты любил меня, ты бы достал эти листочки. Ты меня совсем-совсем не любишь».
На что козел ответил: «Бе-е-е».
Дарма слушал-слушал, и вдруг в голову к нему пришла мысль. Он сказал себе: «Вот! Вот как я должен был ей ответить!», и он два-три раза потренировался в произнесении этого звука: «Бе-е-е». Затем он отправился домой и с тех пор жил счастливо.
Я выстроил серию из отрывков информации-намеков на то, каким является мир – и все эти отрывки в качестве общего звена содержат понятие об отказе от коммуникативной связи при определенных обстоятельствах. Так, Аджи Дарма не должен никому говорить о том, что понимает язык животных. Индейцы в Айове не должны фотографироваться. Камера не должна быть направлена на их ритуальные действия, чтобы они могли увидеть себя и чтобы мир узнал об этих таинствах. Я был раздражен, когда Джо прервал мое психоделическое путешествие из-за ненастроенного магнитофона, и еще больше раздражен его просьбой повторить сказанное мной ранее и т.д.
Я не могу даже точно сказать, сколько примеров этого же явления – избегания коммуникации – содержится в моих рассказах. В конце концов, Аджи должен не только скрывать то, что он понимает язык животных, но и факт наличия вообще тайны, и это ему сделать не удалось.
Мы все больше и больше находим в различных частях мира и различных эпохах религиозной мысли упоминание о том, что открытия, изобретения, знание как таковое – являются опасными. Со многими примерами мы знакомы:
Прометей был прикован к скале за то, что хотел внести огонь в очаги людей; Адам был наказан за то, что съел запретный плод с дерева познания и т.д. В греческой мифологии очень часто подчеркивается опасность знания: виновного разрывают на части. Особенно это относится к знаниям, затрагивающим вопросы противоположного пола, что всегда заканчивается фатально. В качестве примеров можно привести Актеона, случайно подглядевшего процедуру купания Артемиды и разорванного ее собаками; Орфея, разорванного на части нимфами после возвращения из ада, куда он отправился за Эвридикой. Он обернулся на обратном пути, чтобы посмотреть на нее, и потерял ее навсегда. Есть также и Пентей, которого Вакх побудил подглядывать за вакханками в пьесе Эврипида. Бог переодел царя Пентея женщиной, и тот забрался на дерево, чтобы посмотреть на женское празднество. Они обнаружили его, вырвали с корнем дерево и разорвали Пентея на части. Мать его находилась среди тех женщин, и в финальной сцене пьесы она возвращается с гор, неся голову сына. При этом она кричит об убитом «льве». Ее отец проводит акт психотерапии: «За кого ты вышла замуж?» Она отвечает. «Какой сын родился?» Опять отвечает. Наконец отец указывает на голову Пентея: «Кто это?», и тогда царица внезапно узнает голову сына.
Мифическим наказанием за половые извращения, состоящие в стремлении к созерцанию эротических сцен, является смерть путем разрыва на части.
Смеясь, мы говорим детям: «Любопытной Варваре нос оторвали», но для греков смеха в этом не было.
Я считаю, что это очень важный и значительный вопрос и что отказ от коммуникативной связи необходим, если мы хотим сохранить и поддержать «святое» или «священное». Коммуникация нежелательна не из-за страха, а потому, что она определенным образом изменяет суть идеи, ее природу.
Есть, конечно, монашеские ордена, чьи члены находятся под запретом употребления словесной коммуникации. (Но почему особенно словесной?) Есть так называемые ордена молчальников. Но, если мы захотим узнать точный контекст отказа от коммуникации, являющейся признаком священного, мы вразумительного ответа не получим. Не получим еще и потому, что они избегают пользоваться речью.
Ну, а сейчас, давайте просто скажем, что есть много вопросов и обстоятельств, в которых сознание нежелательно, а молчание – золото, так что таинственность служит указателем на наше приближение к местам священным. Имея достаточно примеров невысказанного, мы могли бы подойти к определению «священного». Несколько позднее было бы возможным противопоставить представленным здесь рассказам примеры необходимого отказа от коммуникации из области биологии, что формально сравнимо.
Что же считается священным у мужчин и женщин? Существуют ли такие процессы в работе всех живых систем, которые, если информация о них достигает других частей системы, парализуются или нарушаются? Что означает «чтить как святыню»? И почему это важно?
VIII. МЕТАЛОГ: СЕКРЕТЫ (МКБ)
Дочь: Как же все это трудно будет подготовить к печати!
Отец: Ну, тогда оставь это в покое. Не могу понять, почему ты этим занимаешься, когда улучшить ты не в состоянии.
Дочь: Да, ты так думаешь? Вот что меня беспокоит. Ты вставил в главу огромный кусок о молитвенном завтраке у губернатора, многое в нем – это рассказ внутри рассказа внутри рассказа. Например, ГБ (в 1980) о ГБ (в 1974) о Соле Таксе (в 1956) об индейцах (в более раннее время) о пристойности фильма об их ритуале. А разве сам ритуал не повествует о чем-то еще? Это [[]] или даже [[]][(]]). Более того, могу тебе сказать, что редактор у Макмиллана хочет, чтобы я все это привела в порядок, убрала промежуточные стадии, изложила в косвенной речи и т.д. Отец: Гмм, я мог бы и сам этим заняться.
Дочь: Ну, наверное, ты не сделал это по причине лени. Но я все-таки думаю, что есть более весомые причины, по которым ты этого не сделал.
Отец: Ну-ну?
Дочь: Кто-то когда-то сказал мне, что рассказ-вставки – это обычный гипнотический способ. Например, если нам говорят, что Шахразада рассказывала сказки, нам хочется верить, что она, по крайней мере, существовала в действительности.
Отец: Вот и я существую в действительности. Или существовал, что бы это ни значило.
Дочь: Да, но если рассказ – это повествование об умении тонко различать виды человеческого общения, тогда ты сам виноват. Бедный судья! Намеренно или нет, но ты втянул его в это дело с фотографированием. А сам ты ни на йоту не веришь, что фотографирование за молитвенным завтраком у губернатора было бы святотатством.
Отец: Мы настолько утеряли способность распознавать священное, что уже не в состоянии совершить святотатство.
Дочь: Итак, то, что ты сделал, напоминает мне то, чем занимается современная терапия, заставляя пациента переопределить контекст. Ну, ладно. Я хотела бы перейти вот к чему: меня всегда беспокоило то, что многие люди ходят в церковь или храм, говорят там одно, а, вернувшись домой, на протяжении остальных дней недели лгут, мошенничают и т.д. Мне кажется, что религия ни на что не годится, если только она не проникает повсюду.
Отец: В то время, как смещение контекста между воскресеньем и остальными днями недели было бы важным.
Дочь: Да, и все же я думаю, что ты вставил этот рассказ только по причине лени. И мне совсем не кажется, что рассказ об Аджи Дарме вклеивается в эту главу. Тебе просто нравится его рассказывать.
Отец: А, может быть, ты думаешь, что в рассказе есть антиженская направленность?
Дочь: Конечно. Но я на это не в обиде. Взгляни на Аджу: он понимает язык животных, а заканчивает тем, что считает, что жене, не понимающей этого языка, нужно отвечать блеянием. И, знаешь, после этого даже хорошо, что она умерла… Я уверена в твоей правоте, когда ты говоришь, что тема важности хранения тайн пронизывает мифологию всех кульур, но это уж очень странный пример.
Отец: Дело в том, что это рассказ о необходимости ограничения или управления знанием или коммуникацией между видами и родами – основными прерывностями естественной истории. Ты помнишь из греческой мифологии, как Тирес разделил двух совокуплявшихся змей, за что в награду получил знание о противоположном поле, в то время как Аджи получил доступ к знаниям о противоположном виде. Тирес потерял свою способность, когда привел Геру в ярость, сказав ей, что женщины получают в постели больше удовольствия, чем мужчины. Вопрос знания о противоположном поле таков, что мы к нему еще вернемся. И кроме того, есть интересные стороны, связанные с ответственностью.
Дочь: Есть еще что-то, что меня здесь волнует. Это вопрос секретности. Чего доброго, в следующий раз мы услышим, что ты составляешь пресс-релизы для Пентагона.
Отец: Ладно-ладно, чего ты расстраиваешься? Что еще за пресс-релизы?
Дочь: Потому что я отношусь к секретности так же, как ты относишься к связям с общественностью. Секретность – все в больших и больших размерах – это то, что нужно Пентагону.
Отец: Слушай, может быть, ты прекратишь вносить политику в эту беседу? Ты выражаешь стандартную либеральную политическую позицию, а "я совершенно не уверен в том, что мир становится лучше, если все известно, стало достоянием общественности и лишено покровов тайны.
Дочь: Хорошо, но все-таки задержимся на минутку на вопросах политики. Секретность – это инструмент власти и контроля. Меня всегда ужасало то, как мои ученые коллеги стараются ввести под контроль поток информации, утверждая, что это входит в их сферу ответственности, что это защита прав, собственности и личной неприкосновенности других и т.д. Но на деле использовали информацию в своих интересах. Почему не начать работать для открытой системы? И почему не внести искренность в отношения между людьми?
Отец: Открытость – это такая вещь, с которой можно переборщить. Помнишь, что в биологии все становится ядовитым сверх оптимальной точки?
Дочь: Да, но… Ну, ладно, мы ведь не затрагиваем вопрос количества. Мне нужны информационные перегрузки – конечно, такая перегрузка несет с собой и токсичность. И если все будут знать одно и то же, это приведет к ядовитости однообразия. А что касается твоих элитных тенденций, я не верю, что ты хочешь заблокировать поток информации такими способами, которые будут содействовать шантажу и махинациям. Слушай, почему бы для начала не сформулировать седьмой критерий для мыслительных систем? Я включила список твоих шести критериев во вторую главу для тех читателей, кто не знаком с книгой «Разум и природа». А сейчас я говорю, что эти шесть критериев являются основой для седьмого:
7. В мыслительном процессе информация должна неравномерно распределяться между взаимодействующими частями. Мне кажется, что это годится для всех видов рассуждений, будь они банальны или сверхинтересны. Самым простым случаем будет такой, где информация равномерно распределяется по системе, но и это потребует времени для получения и расшифровки.
Отец: Гмм… Ни один уважающий себя организм не станет, да и не сможет, распределять информацию равномерно.
Дочь: Правильно, но подумай о комитете, составленном из практически одинаковых членов. Или еще интереснее – представить эмбрион с одной и той же ДНК в каждой клетке, способной развиваться только при изменении информации, имеющейся в разных клетках. А что если движение информации даст нам способ описать время?
Отец: Вот я и дал тебе возможность уговорить меня включить логическую иерархию в качестве критерия, но, может быть, так, что оба пункта 6 и 7 просто" вытекают из других.
Дочь: Ладно, давай посмотрим, до чего мы дошли. Если что-либо типа секретности – неравномерное распределение информации внутри данной системы – есть необходимая характеристика мыслительных систем, тогда мы не ошибемся, придав ей значимость. Тебя не будет тянуть придать ей статус героя, а меня – придать ей статус негодяя. По сути, я могу сделать еще один шаг в этом направлении. Что, если определенные виды секретности служат указателями «священного», потому что «священное» – это способ управиться с определенными эпистемологическими проблемами, и возможно, просто необходимыми?
Отец: А может быть, священные секреты предназначены для того, чтобы быть раскрытыми?
Дочь: Да, конечно. Новообращенный получает удары хлыстом от танцоров в масках, затем маски снимаются, и он видит, что перед ним не боги, и тоща новообращенный сам надевает маску – и вся эта цепочка и делает возможным примириться с определенными фактами жизни. Секретность – это только часть… но одновременно это один из способов раскрыть тайну.
Отец: Я вспоминаю, как Толли представлял совпадение идей в Вартенштайне. Ты помнишь, что совпадение идей давало возможность перекинуть интеллектуальный мостик между понятиями информации и причинно-следственной связи, так как одним из способов связать два события было знание[11].
Дочь: И в систему нельзя вклинить Бога, так как всезнание разрушает подвижность. Тебе нужно другое слово, возможно, незнание или тайна, лучше всего такое слово, которое осветит тот факт, что нехватка самосознания находится в центре отказа от коммуникации.
Отец: Секретность – это то общее, что я нашел у многих рассказов.
Дочь: Индукция!
Отец: Тихо-тихо! Вполне разумно постараться определить, что общего есть у нескольких различных случаев – а затем и поискать другие, разделяющие тот же общий фактор. Но не очень правильно овеществлять ту общую черту, которую ты обнаружила в своих данных. Совершенно верно, когда ты говоришь, что как опиум, так и барбитураты являются причиной сна у людей, – но, сказав это, ты с большим основанием припишешь это воздействие «принципу снотворного», чем ты это сделала бы на основании только одного случая.
Дочь: Факт незнания как фактор единства и гибкости в системах… Когда это становится важным, чтобы системы поддерживали внутренние границы посредством глубокого рефлексивного невежества?
Отец: Я говорю о «священном», связанном со знанием в целом, но другая сторона медали может представлять некоторое снижение знаний. Следующим шагом будет поиск аналогичных видов отказа от коммуникативной связи, которые не являются артефактами человеческих культурных систем.
Дочь: Папа, но есть еще что-то в рассказе об Аджи Дарме. Ведь вопрос «Ты меня любишь?» не срабатывает, не так ли? Так же, как и инструкции Джо Адамса о спонтанных ответах или фотографирование молитвы и т.д. Они ведь изменяют контекст взаимодействия.
Отец: Нет. Нет, Кэп, задавать такие вопросы не следует.
IX. ЗАЩИТА ВЕРЫ (ГБ)
Вторая группа примеров отказа от коммуникативной связи или незнания приводит нас несколько ближе к чисто биологическому. Эти примеры очень отличаются от данных мною ранее, но я считаю, что они сравнимы.
Кажется общепринятой истиной, что тело, приспосабливающееся к стрессам и превратностям опыта, не находится в коммуникативной связи с ДНК, носителем генетических инструкций для следующего поколения. Никакая информация о приспосабливаемости тела не будет зарегистрирована в ДНК, чтобы сказаться затем на потомках. То есть не произойдет наследования приобретенных характеристик.
Подобным же образом, очевидно, необходимо, чтобы у нас не было знаний о процессах, в ходе которых формируются образы при ощущении и восприятии.
Можно ли сравнить друг с другом эти два очень разных запрета на передачу информации? А можно ли их сравнить с видами необходимого отказа от коммуникации, обсужденными в предыдущей главе? Я считаю, что если бы коммуникация проходила через так называемый барьер Вейсмана, разрушился бы весь процесс эволюции. Таким же образом, если бы мы знали процессы, посредством которых мы формируем мысленные образы, мы бы не могли более доверять им в качестве основы для действия. Говорят, что сороконожка умела неплохо ходить, пока не нашелся любопытный, желавший выяснить, какой ножкой она делает первый шаг.
В главе VII я показал наличие сигналов в человеческих отношениях (описание, информация, посылки, запреты, предложения), которых не стоило бы передавать определенным частям определенных систем. Но я указал на это слишком в общем виде. Я не дал ни определения функциональны!" характеристикам таких сигналов, ни рассказал об условиях, при которых эти сигналы становятся патогенными; я не исследовал также применение данного понятия к другим видам систем, таких, как организмы и популяции.
Если мы думаем об информации как о путешествии по цепочкам причинно-следственных связей, возможно ли тоща описать каким-то формальным способом, как любой данный сигнал располагается в цепочке, и отсюда определить, какие (пусть даже самые «правильные») сигналы не должны – ради блага всей системы – располагаться там-то и там-то?
Я сконцентрирую внимание на случаях, в которых патогенный процесс не вызван локальным воздействием только лишь сигнала, а является результатом отношения между сигналом и системой в целом. Таким образом, я исключаю как банальные случаи, в которых несчастье или патология, вызванные успешной коммуникацией, происходят только в части системы. Часто А не скажет В о том, что может повредить А или В. Мы запрещаем свои чувства и чувства друг друга. Иногда наши действия при этом оправданы. Есть, конечно, люди, которые считают своим долгом передать информацию, причиняющую боль, и иногда такие люди правы. Я не собираюсь здесь выносить свое суждение по этим вопросам, отмечу только, что эти люди образуют подвид, который спешит зайти туда, куда страшатся ступить ангелы. Меня интересуют только формальные характеристики последовательностей, в которых ущерб системе (А плюс В) наносится в результате сигнала и/или его передачи.
Этот вопрос порождает массу сложных соображений. Сначала идет путаница связей между первоначальным состоянием, новой информацией и результатом внутри (В) части системы, получающей новую информацию. Но эта путаница только начало. Затем идут сложности отношений между получателем (приемником информации – В) и передатчиком (А). Например, могут задать вопрос о личных связях, каким был контекст, каким – переданный сигнал и что мы дополнительно узнали об отношениях между этими людьми из сигнала и его передачи? Если мы будем пренебрегать относительно простыми проблемами такта и защиты гордости каждого отдельного человека, перед нами все равно останутся проблемы целостности связи.
Сказать, что сознание может сделать невозможной нужную последовательность событий, – это только вызвать знакомый опыт – общепринятый заменитель объяснения в науках о поведении. Таким образом можно установить достоверность, но остается тайна.
Путь к объяснению лежит через силлогизм, малая посылка которого является лишь вероятной, к изложению самого явления и далее – к тавтологии. Где-то я говорил, что индивидуальный разум и филогенетическая эволюция – это обычно случаи, подходящие под похожие тавтологические правила. Если вы хотите объяснить психологическое явление, взгляните на биологическую эволюцию, а если вы хотите объяснить какое-то явление в эволюции, постарайтесь найти формальные психологические аналогии, а затем обратите внимание на свой опыт: что означает «иметь разум».
Поэтому я буду анализировать ошибку в гипотезе Ламарка и сравнивать ее с проблемой Старого Моряка (в стихотворении известного английского поэта С.Т.Колриджа рассказывается о Старом Моряке. Находясь в плавании, с палубы корабля он любуется причудливыми очертаниями водяных змей, их богатым убранством, прихотливыми движениями. И только когда он от всего сердца по наущению святого благословил их, тогда с его плеча упал в море Альбатрос. Читателю предлагается догадаться о символике этого стихотворения). Можно ли сказать, что «унаследование приобретенных характеристик» вызовет в биологической эволюции такое же замешательство, которое можно сравнить с замешательством, сопровождавшим освобождение Старого " Моряка от вины, которое заставило его отправиться в южные моря на поиски морских змей?
В настоящий момент меня интересуют только формальные возражения против гипотезы Ламарка. Вне сомнения, правильным будет то, что (А) нет экспериментального подтверждения такого унаследования и (В) нельзя представить себе какую-либо связь, при которой информация об унаследованной характеристике (скажем, укрепление бицепсов благодаря тренировкам) могла бы быть передана в яйца или сперматозоиды индивидуального организма. Но эти очень важные соображения не относятся к проблеме Старого Моряка и его самосознанию. В этом отношении не существует аналогии между Старым Моряком и гипотетическим организмом Ламарка. Имеется много подтверждений для утверждения о том, что сознательная цель может нарушить, исказить спонтанность и, к сожалению, многие пути внутренней коммуникативной связи, по которым могли бы приходить сигналы и запреты. Поэтому я спрашиваю, на что была бы похожа биология в целом, если бы унаследование приобретенных характеристик стало всеобщим? Каким было бы воздействие такого "гипотетического процесса на биологическую эволюцию?
Дарвина привело к ошибке Ламарка время. Он считал, что возраст земли недостаточен, чтобы хватило времени для эволюционного процесса, и, чтобы придать ускорение своей модели эволюции, он ввел в нее гипотезу Ламарка. Казалось недостаточным полагаться только на случайное генетическое изменение, а наследственность Ламарка давала возможность срезать угол, получить ускорение путем введения в систему цели. И заметьте, наша гипотетическая процедура извлечения вины Старого Моряка также была введением цели в систему. Следовало ли Старому Моряку отправиться в путешествие без цели или он должен был целенаправленно искать морских змей, чтобы благословить их и тем самым избавиться от вины? Цель сохраняет время. Зная, что он ищет, он не тратил бы времени на путешествие в северных морях.
Что же тогда такое кратчайший путь, путь напрямик или, как мы раньше говорили, срезка угла? Что плохого, неверного в предлагаемых кратчайших путях в эволюции и освобождении от чувства вины?
В подавляющем большинстве случаев – вероятно, во всех случаях, где кратчайший путь приводит к неприятностям, – в основе всего лежит ошибка в логических типах. Где-то в последовательности действий и идей мы надеемся найти класс, отождествляемый с одним из своих членов; уникальность, трактуемая как общность, или общность, трактуемая как уникальность. Является законным (и обычным) думать о процессе или изменении как об упорядоченном классе состояний, но было бы ошибкой принимать любое из этих состояний за класс, членом которого оно является. В соответствии с гипотезой Ламарка отдельный родительский организм должен передать своему потомку через знаковую систему генетики определенные соматические характеристики, приобретенные в ответ на стресс окружающей среды. Гипотеза утверждает, что «приобретенная характеристика наследуется», и на этом ставится точка, как будто в этих словах заключен смысл.
Для индивидуумов характерно изменение в определенных условиях окружающей среды. Но эта характеристика не передается: наследуется не потенциал к изменениям, а состояние, полученное в результате изменений, – характеристика, не являющаяся внутренне присущей для родителя. В соответствии с гипотезой, потомок должен отличаться от родителя в том, что у него проявится якобы унаследованная характеристика, даже если окружающие условия этого не требуют.
Но утверждать, что сотворенная человеком гипотеза о наследовании приобретенных характеристик является с точки зрения семантики чушью, – это не одно и то же, что утверждать, что если бы гипотеза была верна, весь процесс эволюции был бы сорван. Главное то, что индивидуум перенесет на потомка такую тугоподвижность, которой не страдал родитель. Именно потеря гибкости стала бы смертельной для всего процесса.
Итак, если бы была формальная аналогия между ламарковой «наследственностью» и сознательной целью, могущей помешать избавлению Старого Моряка от вины, нам следовало бы в последнем случае поискать ошибку в классификации, которая помешала осуществлению желаемого изменения, – ошибку, в которой процесс рассматривается как состояние. Именно сознательное овеществление своей вины в Альбатросе делает невозможным Старому Моряку избавиться от своей вины. Вина – это не вещь. И если Моряк должен решить свой вопрос – он не должен знать, что он это делает.[Сознание обязательно ограничено.] Это, вероятно, лучше всего доказывается примером из серии экспериментов по восприятию, предложенных офтальмологом Адельбергом Эймсом-младшим, увы, покойным. Он показал, что в акте видения мы полагаемся на целую серию допущений, которые нельзя проверить или выразить словами, – в качестве примера он приводит такие абстрактные правила, как параллакс и перспектива. Используя их, мы создаем мысленный образ.
Эпистемологически неверно говорить, что «вы видите меня». Нет, вы видите мои образ, составленный в ходе процессов, которые вы осознаете.
Было бы глупостью говорить о том, что «вы» создаете эти образы. У вас практически нет контроля над этим процессом.
Итак, мы все принимаем участие – мои мыслительные процессы делают это для меня – в создании этого прекрасного лоскутного одеяла. Когда я иду по лесу, передо мной пятна зеленого и коричневого, черного и белого. Но я не могу исследовать этот творческий процесс при помощи интроспекции. Я знаю, в каком направлении смотрят мои глаза, и осознаю продукт ощущений, но я ничего не знаю о срединном звене процесса, благодаря которому формируются образы.
Это срединное звено управляется допущениями. Адельберг Эймс открыл метод исследования этих допущений, и отчет о его экспериментах позволяет прийти к признанию важности этих допущений, о существовании которых мы, как правило, не знаем.
Если я еду в поезде, то во время движения поезда мне кажется, что коровы, которых я вижу из окна, остаются позади, в то время как более отдаленные горы движутся вместе со мной. На основе этой разницы создается образ, в котором горы изображены дальше от меня, чем коровы. Базовая посылка состоит в том, что то, что остается позади, ближе ко мне, чем то, что якобы движется вместе со мной или что остается позади, двигаясь медленнее.
Один из экспериментов Эймса демонстрирует, что механизмы бессознательного процесса у каждого нормального человека полагаются на математические закономерности такого параллакса.
Пачка сигарет «Лаки страйк» помещена посреди узкого стола. На дальнем конце стола, примерно в 5 футах от человека, находится коробок спичек. Эти объекты приподняты над столом при помощи спиц длиной примерно 6 дюймов. Экспериментатор велит испытуемому отметить размер и положение этих предметов сверху, а затем велит ему наклониться, чтобы смотреть на них через круглое отверстие в планке, стоящей на краю стола со стороны испытуемого. Последний обладает в этом случае монокулярным зрением, но тем не менее оба предмета кажутся ему находящимися на своих местах и имеющими знакомые размеры.
Затем Эймс просит испытуемого наклонить планку в сторону, продолжая смотреть через отверстие. Сразу же изменяется образ. Пачка сигарет кажется расположенной на дальнем конце стола, причем выглядит она увеличенной в два раза. Она выглядит как макет пачки в какой-то витрине. Коробок спичек кажется приблизившимся и находится теперь на том месте, где раньше были сигареты, но теперь его размеры составляют половину от прежних и он выглядит как предмет из кукольного домика.
Иллюзия достигается с помощью рычагов под столом. Когда испытуемый наклоняет планку, предметы также передвигаются.
Другими словами, ваш механизм восприятия управляется системой допущений, которую я называю вашей эпистемологией – цельной философией, находящейся глубоко у вас в мозгу, но вне вашего сознания.
Конечно, вам не обязательно двигать головой каждый раз, как только вы захотите узнать глубину. Для этой цели вы можете полагаться на другие имеющиеся у вас допущения. Во-первых, контраст между тем, что вы видите одним, глазом, и тем, что вы видите другим, можно сравнить с контрастом, получаемым при движении головы. После этого вы можете свериться с целой серией допущений, отличных от параллакса: * если кажется, что вещи накладывают друг на друга, тот предмет, который частично закрыт, находится дальше предмета, его закрывающего; если похожие предметы кажутся разных размеров, тот, который кажется больше, – ближе и т.д.
[Эксперименты Эймса можно использовать для демонстрации двух важных понятий: первое, что образы не находятся «вовне», и второе – мы не осознаем, что происходит в нашем мозгу. Мы думаем, что видим. Но на самом деле мы создаем образы, причем бессознательно. Как же тогда понять знаменитый вывод Декарта: «Мыслю, следовательно, существую»?
Что означает это «мыслю»? Что вообще значит мыслить? Что означает «быть», «существовать»? Означает ли это «я думаю, что я думаю, и поэтому я думаю, что я существую, что я есть»? Могу ли я знать, что я мыслю? И полагаемся ли мы, приходя к такому выводу, на допущения, которых мы не сознаем?
Существует расхождение логического типа между «мыслить» и «существовать». Декарт пытается перепрыгнуть из сковородки мышления, идей, образов, мнений, аргументов в огонь существования и действия. Но этот прыжок сам не обозначен. Между двумя такими контрастирующими понятиями не может быть «следовательно», не может быть самоочевидной связи в виде звена перехода.
Параллельно этому высказыванию существует еще одно эпистемологическое обобщение: «Я вижу, следовательно, это существует». Видение есть вера. Можно и перефразировать это высказывание: «Ощущаю, следовательно, существует». Две половинки декартовского «мыслю» относятся к одному субъекту, первому лицу единственного числа, но в «ощущаю…» уже два субъекта: "Я" и «это». Эти два субъекта разделены обстоятельствами представлений. «Это», которое я ощущаю, двусмысленно: мой ли это образ? Или это какой-то объект вне меня – «вещь в себе», о которой я составляю образ? Или, возможно, «этого» вообще нет?
Уоррен Маккулох уже давно указал на то. что каждый сигнал одновременно и команда, и сообщение. В простейшем случае последовательности трех нейронов А, В и С выстрел В – это сообщение о том, что «А только что выстрелил», и команда: «С должен быстро выстрелить». С одной стороны, нервный импульс относится к прошлому, с другой – определяет будущее. На сообщение В никогда нельзя полностью полагаться, так как выстрел А никак не может быть единственной возможной причиной более позднего выстрела В: нейроны иногда срабатывают «спонтанно». В принципе ни одну причинно-следственную связь нельзя читать в обратной последовательности. Таким же образом С может не подчиниться приказу В.
В этом процессе имеются пропуски, которые приводят к нестабильности срабатывания нейронов. Таких пропусков много по пути к предложениям типа «Мыслю…», которые, на первый взгляд, являются само собой разумеющимися. В Совокупности предложений, называемых «верами» или религиозными верованиями, не предложения утверждают несочиненную и очевидную истину, а связи между ними. Мы не имеем права сомневаться в этих связующих звеньях, и на самом деле сомнение исключается логической или лжелогической природой этих звеньев. Нас защищает от сомнений незнание о существовании этих пропусков.
Но прыжок, о котором мы говорили ранее, присутствует всегда. Если я посмотрю при помощи моих материальных глаз и увижу образ восходящего солнца, предложения «Я смотрю» и «Я вижу» будут иметь обоснованность, отличную от обоснованности любого вывода о мире вне меня. «Я вижу встающее солнце» – это предложение, в котором, по утверждению Декарта, нельзя сомневаться, но экстраполирование на внешний мир – «Есть солнце» – должно быть подкреплено верой. Другой проблемой является ретроспективность всех таких образов. Утверждение образа в качестве описания внешнего мира всегда в прошедшем времени. Наши чувства в лучшем случае могут нам поведать о том, что было, что произошло некоторое время назад. На самом деле мы читаем причинно-следственную последовательность справа налево. Но эта ненадежная информация доставляется приемнику в самой убедительной форме образа. Итак, защите подлежит вера – вера в наш мыслительный процесс!
Обычно считают, что вера необходима религии, что сверхъестественные аспекты мифологии не должны • подвергаться сомнению, – и поэтому пробел между наблюдателем и сверхъестественным закрывается верой. Но когда мы признаем пробел между «мыслю» и «существую» и похожий пробел между «ощущаю» и «существует», «вера» приобретает совершенно другое значение. Такие пробелы являются необходимостью нашего существования, и они покрываются «верой». Тогда то, что обычно называется «религией» (система ритуалов, мифология и мистификация), начинает проявляться как кокон, защищающий очень интимное и крайне необходимое – веру.
Каким-то чудесным и таинственным путем, каким-то чудом нервной системы мы формируем образы того, что видим. Формирование таких образов и есть то, что мы называем видением. Но основывать мнение на образе есть акт веры. Вера бессознательна. Вы не можете сомневаться в обоснованности образов, когда их сопровождает дополнительная порция информации, которая говорит, что материал для данного образа собран органом чувств.
Как же мы счастливы, насколько добр к нам Господь, что мы не можем представить процессы создания наших образов! Эти чудесные мыслительные процессы просто недоступны для нас.
Когда у вас головокружение и пол, кажется, надвигается на вас, вы только благодаря натренированности действуете, исходя из «знания» о том, что пол остается неподвижным, как и следует. Эта вера, сопровождаемая волей, посредством которой мы преодолеваем чувство головокружения, всегда поддерживается сознательным скептицизмом в отношении визуально-кинестетического представления. Мы можем сказать себе: «Я знаю, что все это раскачивание пола и стен является вводящим в заблуждение продуктом моих процессов формирования образов». Но даже и в этом случае не существует сознания процессов, при которых создаются движущиеся образы, – только осознание того, что они на самом деле являются артефактами.
Наша неосознанность указанных процессов является первой линией обороны против утери веры. Немного веры в восприятие жизненно необходимо, а превращая полученную информацию в образы, мы убеждаем себя в обоснованности нашей веры. Увидеть – значит поверить.
То, о чем мы говорим, становится еще более таинственным, когда мы задаем формально аналогичные вопросы о больших системах, таких, как группы организмов, семьи, племена, общности, то есть таких группах организмов, которые имеют общность того, что антропологи называют «культурой». Одним из значений этого слова является локальная эпистемология, совокупность допущений, лежащих в основе всей коммуникации и взаимодействия между людьми даже в диадах, то есть группах с двумя членами.
[Именно в этом месте обсуждение восприятия связывается с обсуждением наследственности, так как в каждом случае тот факт, что многие предположения невозможно проверить или изменить, приводит к определенному консерватизму. Поэтому нам кажется полезным подвергнуть исследованиям консерватизм всех подобных систем предположений, а также механизмы, благодаря которым эти системы сохраняют стабильность.]
Молодые горячие люди могут выражать нетерпение по отношению к такому консерватизму, а психиатры – рассматривать его как патологическую ригидность. Но в настоящий момент меня интересует понимание процессов и их необходимости.
Из всех консервативных структур взаимодействия, несомненно, самым основным – самым древним и сложным – является секс.
Мы очень легко забываем, что основной функцией сексуального компонента в воспроизводстве (буквально – производстве подобных) является поддержка и сохранение похожести среди членов вида. И здесь похожесть является необходимым условием жизнеспособности коммуникации и взаимодействия. Механизм и его цель становятся идентичными: если гаметы недостаточно подобны, и зигота, образованная их встречей, не может выжить. На клеточном уровне каждый живой организм является воплощением биологических предположений.
В момент оплодотворения (слияния гамет) каждая гамета становится образцом для другой. Проверяется хромосомное строение каждой и одновременно похожесть всей клеточной структуры.
Сэмюэл Батлер однажды сказал, что «курица является способом яйца произвести другое яйцо». Мы можем упростить * это высказывание: курица – это доказательство замечательного качества яйца, и момент слияния двух гамет – это первое доказательство их взаимного совершенства.
Исходя из этих простейших обобщений, становится возможным следовать в нескольких направлениях, которые здесь можно только наметить. Истинно то, что отношения между предположениями (в широком смысле этого слова) никогда не являются двоичными. Нам приходится рассматривать более сложные явления. Это не вопрос простого двоичного сравнения, как можно было бы предположить из моей ссылки на половое слияние. Мы можем начать с рассмотрения пары гаметных характеристик, встречающихся в процессе оплодотворения. Но всегда каждая из них должна \ существовать в контексте многих характеристик, и сравнение/ не будет простым тестом на сходство по типу «да-нет», а сложным комплексом связанных друг с другом, но не полностью сходных цепочек предложений, сплетающихся в сеть приказов для роста организма. Возможны и небольшие вариации.
Сложность возрастает при переходе от двоичных к другим отношениям между компонентами предположений. (Мы могли бы вместо предположений использовать синоним и говорить о «предконцепциях» в буквальном, дозиготном смысле!)
Вторым путем увеличения сложности, по которому нас зовет идти бесконечно сложная системная биосфера, – это факт иерархической организации (пример – семья). Там мы встречаемся с недвоичной системой связанных предположений и добавляем к ней недвоичную систему лиц, для которых семья является механизмом передачи культуры. При рассмотрении человеческих существ мы имеем дело не просто с генетикой, а с другим порядком изменений – фактами учения и обучения. (Не забывайте, что в системе, которую мы называем «передачей культуры», родители учатся у детей и изменяются вместе с ними!)
Мы должны следить за тем, чтобы сохранить в наших теориях по крайней мере биологическую природу мира (кибернетическую, иерархическую, холистическую, нелинейную, системную – назовите, как хотите) и наших отношений к нему.
X. МЕТАЛОГ: К ЧЕМУ ТЫ ПОДБИРАЕШЬСЯ? (МКБ)
Дочь: Неужели ты подбираешься к сознанию?
Отец: Думаю, что да. Люди постоянно просят меня обсудить этот вопрос, а я обычно подозрительно к этому отношусь. В конце концов, пока мы не поймем, как движется информация внутри систем, мы не сможем многого добиться в особом случае, представленном сознанием.
Дочь: Вот это и есть сознание? Особый случаи передачи информации внутри человека?
Отец: Конечно, но это определение явно недостаточно. Существует также сдвиг в логических типах, так как сознание означает, что ты знаешь, что ты знаешь. Вот почему вопрос так сложен.
Дочь: Но, посмотри – здесь же еще одно сходство с теорией Ламарка. Генетическая информация характеризует весь организм, периодически возникая в каждой клетке. Изменения, вызванные окружающей средой, должны быть локальными, хотя могут быть и широко распространенными. Сдвиг в логических типах затемняется фактом последующих поколений, но «природа» принадлежит более высокому логическому типу, чем «воспитание», не так ли? И, конечно, более консервативна.
Отец: Гмм… С этим, возможно, связан вопрос о том, что польза полового воспроизводства превышает ее минусы. Вид избавляется от большого количества эффективных генетических сочетаний и приспособлений, производя перегруппировку генетического материала.
Дочь: Ты встречаешься с кем-либо и думаешь, вот это да! Это продукт идеального сочетания генетики и окружающей среды, нам следует сохранить этот экземпляр. Меня поражает, что как пологое воспроизводство, так и смерть являются очень ясными и простыми изобретениями. Миф, в котором говорится, что смерть берет свое начало от/того момента, когда мы вкусим плоды с дерева познания, правдив по отношению к процессу обучения и сохранения информации. И обычная вульгаризация этого мифа о том, что приход смерти имеет отношение к сексуальности, также вписывается в общую картину.
Отец: Не к сексуальности, а к самосознанию. Вспомни:
после того, как они съели яблоко, Адам и Ева осознали свою наготу.
Дочь: Если бы срабатывала ламарковская наследственность, не получили ли бы мы очень быстро различные виды, индивидуальные организмы, слишком различные для скрещивания?
Отец: Ты права. Когда между родителями слишком большое различие, тоща или погибает эмбрион, или их потомок сам потомства произвести не может. В любом случае мы наблюдаем эффект консерватизма.
Дочь: А улитки, отец? Помнишь, ты мне рассказывал об улитках на Гавайях?
Отец: Ну, это другое дело. Но и сюда подходит. Как ты знаешь, каждый завиток – или правый, или левый, и улитки с правым завитком не могут спариваться с улитками с левым завитком. Но бывает, что у некоторых улиток происходит изменение направления спирали. Это бывает редко, но в этих случаях потомок с измененным направлением завитка может найти себе такую же пару и дать потомство. Но все это ведет к тому, что в результате селекции новое потомство с измененным направлением завитков не может спаривать со своими дальними родственниками.
Дочь: Папа, ты как-то говори. что выводишь сознание из своего анализа сходства между учением и эволюцией. Может быть, это поможет мне увидеть связь между эпистемологическим материалом и кибернетическими диаграммам с одной стороны, и мифами о наших поступках в м с другой.
Отец: О наших поступках в мире… Ну, что ж, я остаюсь скептиком в отношении знания и действия по сходным причинам. Существует двойной набор иллюзий – зеркальные разы. Ясно, что, как ты знаешь, мы не видим внешние объекты и людей: мы «видим» их образы. Это мы составляем образы. Мы очевидно, но также должно быть истинным, что мы не обладаем непосредственным знанием о наших собственных поступках (действиях).
Мы знаем (частично), что мы намеревались делать.
Мы ощущаем (частично) то, что мы сейчас делаем, – мы слышим образы наших голосов, мы видим или ощущаем образ движений наших членов. Мы не знаем, как мы передвигаем наши руки и ноги.
Дочь: Итак, является ли это вои и той же ошибкой, когда мы думаем, что можем решиться на какое-то действие, и когда мы думаем, что что-то действительно видим?
Отец: Я считаю, что по аналогии с экспериментами Эймса, говорящими нам о том, что мы в действительности видим не внешние объекты, а только их образы, было бы возможным разрабатывать эксперименты, показывающие отсутствие непосредственных знаний о наших действиях.
Дочь: Думаю, что мне бы это не очень понравилось. Но каким был бы этот эксперимент?
Отец: Ну, давай поразмыслим. Если мы будем следовать логике модели экспериментов по ощущению глубины, мы должны будем разработать эксперименты по изучению отдельных черт, которые восприятие придает опыту чьего-либо действия.
Дочь: Звучит хорошо.
Отец: Например, мы могли бы взять что-либо целое, или начало действия и его конец, или такие измерения, как продолжительность или сила. Мы могли бы составить список и затем выяснить, что более всего доступно для эксперимента. Давай прикинем: уравновешенность, необратимость, точность, сознание, рациональность…
Дочь: Ты знаешь, некоторые из них подводят нас непосредственно к вопросам эстетики.
Отец: Послушай, Кэп. Для начала мне хотелось бы задать вопрос, как происходит, что об этом еще труднее размышлять, чем о проблемах, поднятых в экспериментах Эймса? Хотим ли мы быть ответственными за нашу деятельность (даже при условии, что мы признаем «свободу воли» чушью)?
Что означает придать нашим действиям характеристику, которую мы называем «свободой воли»? И в чем тогда контраст между «добровольными» действиями, осуществляемыми при помощи поперечнополосатых мышц, и «вынужденными» действиями, осуществляемыми посредством гладких мышц и автономной нервной системы?
Или эти вопросы – глупость, или они открывают перед нами невообразимое поле деятельности…
Дочь: Отец, не спеши. Ты уже начинаешь ораторствовать.
Отец: Видишь ли, доктрина «свобода воли» по отношению к действию – это то же, что понятие «непосредственного видения» – к восприятию. Но непосредственное видение превращает восприятие в пассивное чувство. «Свобода воли» придает действию активность.
Дочь: Я знаю, что ты также работал над определением в терминах системной модели, которые мы использовали, модели связи между структурой и состоянием изменения.
Например, я нашла диаграмму в копии письма, отправленного тобой Джону Тодду. Там все так запутано…
Отец: Чепуха. Там все должно быть ясно.
Дочь: Ладно, как бы то ни было, я хотела бы заняться понятием о применении идей из «Защиты веры» к модели в главе IV.
Отец: Хорошо. Для этого, собственно, модель и предназначена – ты видишь определенные формальные возможности и проверяешь, могут ли они растолковать что-либо, происходящее в мире.
Дочь: Давай тогда этим и займемся. Мне хотелось бы найти возможное толкование стрелкам в твоих диаграммах, если их повернуть. Мне кажется, что зигзаг понять легче по сравнению с рис. 16, так как зигзаг включает время. Стрелка, идущая вниз от структуры к потоку, где генотип задает параметры фенотип, помнишь? Л если мы изменим направление, тогда, как ты утверждаешь, это будет наследственностью по Ламарку – и губительно. Тогда ты, казалось, предполагал, что стрелка, благодаря которой события изменяют настройку (), прочитанная наоборот (), может соответствовать сознанию?
Отец: Ну, это было предварительной гипотезой. Над этим еще надо поработать. Другой возможностью определения сознания был бы способ объединения подсистем в единое целое.
Дочь: Наследственность по Ламарку имеет смысл и смертельной в популяциях не является – на более высоком уровне, а сознание, по определению, и есть явление следующего, более высокого уровня. Очевидно, если ты попытаешься смоделировать явление более высокого логического типа на слишком низком уровне, ты получишь что-то вроде патологии. Считаешь ли ты сознание смертельным?
Отец: Гмм… Эмпирически оно вроде и идет к этому. Человеческое сознание, соединенное с целью, может7 оказаться похожим на хвост фазана, то есть на доведенную до крайности отдельную черту, которая загоняет вид в эволюционный тупик. Это происходило и раньше. Пугает возможность того, что присутствие подобных нам существ в системе может в конце концов стать смертельным для системы в целом.
Дочь: Если мы предположим, что сознание имеет отношение к связи между подсистемами, тогда секретность или неосознанность будут означать, что система будет одновременно и знать, и не знать. Будет знание, приемлемое на одном уровне и вредное – на другом. Вопреки всему, что ты говоришь о Старом Моряке, люди постоянно отправляются на поиск психологического или духовного опыта, одновременно зная и не зная, чего они ищут.
Далее, время от времени на протяжении многих лет ты предполагал, что религия – или что-то вроде религии – может быть необходимым механизмом контроля в данной культуре – единственный способ, благодаря которому она удерживает равновесие с экосистемой.
Отец: Верно.
Дочь: А может быть, религия дает перспективу, чтобы создать контекст.
Отец: Существует целый ряд сложных отношений между временем, целью и сознанием. Об этом говорят и Т.С. Элиот, и Скрютейн.
Дочь: Скрютейн?
Отец: Да – главный дьявол в произведении Льюиса «Письма Скрютейна». Этот дьявол пишет племяннику о том, как совратить человека. Совет таков: пусть он всегда думает о прошлом и будущем. Никогда не позволяй ему жить в настоящем. Прошлое и будущее находятся во времени. Настоящее не имеет временных рамок, оно вечно.
Дочь: Не имеет временных рамок?
Отец: Без цели и без желания. Где-то за последнюю сотню лет в языке народа Бали появились два слова, обозначающие время и цель.
Дочь: А было у них выражение для «вневременного настоящего»?
Отец: Думаю, что нет. Им не нужно было это выражение, пока не появились эти два слова. Но погоди! Здесь нужно провести различие. Есть два вида «времени».
Дочь: Ты говоришь так, как будто время находится в кавычках.
Отец: Неужели? Ну, так оно и есть. Я имею в виду две идеи, которыми обладают люди, и обе называются «время». Если быть более точным, они называются синхронным и диахронным временем. Или мне следовало бы сказать о двух видах изменений?
Дочь: Что, каждое событие – это изменение?
Отец: Конечно. Если из яйца что-то вылупилось – это изменение. Но если я говорю о жизни птицы как вида, вылупливание из яйца – это только синхронное изменение. Это не изменение в жизни вида. Это только часть идущего общего процесса жизни.
Дочь: А диахронное?
Отец: Это тогда, когда событие рассматривается в качестве чужеродного к «общему процессу». Если кто-то рассеивает ДДТ в лесах и птицы гибнут, поев червей, наевшихся ДДТ, это диахронично с точки зрения наблюдателя за жизнью птиц, который концентрирует внимание на повторяющихся процессах жизни, скажем, дроздов.
Дочь: А может событие – изменение – из синхронного стать диахронным?
Отец: Нет, конечно, нет. Изменение – это что-то, вынутое из большого потока событий и ставшее предметом разговора или объяснения.
Дочь: А могу я рассматривать одно колебание часового маятника как или синхронное, или диахронное? Могу я рассматривать уничтожение планктона как или синхронное, или диахронное?
Отец: Да, но тебе придется напрячь воображение. Обычно мы говорим: «Часы тикают», и это тиканье является частью процесса существования часов. Чтобы рассматривать колебание маятника как диахронное, тебе придется сузить видение, чтобы сосредоточиться на чем-то меньшем, чем одно колебание. Чтобы увидеть гибель планктона как синхронное, тебе придется, вероятно, рассматривать всю Галактику…
Дочь: А не является ли синхронное время просто другим наименованием Вечного Настоящего?
Отец: Думаю, что – да. Это похоже на сжигание чапарели – густой заросли кустарников на склонах холмов в Калифорнии. Кинозвезды, живущие на склонах холмов, видят этот процесс в качестве необратимого события, которое может нарушить их образ жизни. А для индейцев, которые там жили, это процесс естественный.
Дочь: Хорошо быть ни с чем не связанным и видеть все происходящее в большем, синхронном оформлении?
Отец: Что касается меня, я бы стал следить за чапарелью и предоставил бы возможность Галактике следить самой за собой.
Но это двусмысленно. Видение себя частью системы, которая включает и меня, и чапарель, приводит к появлению причины для моих действий – сохранить цикл жизни (меня и чапарели), активно принимая участие в ее выжигании. Я считаю, что оформленное таким образом синхронное действие является таоистским, то есть пассивным. В Вечном Настоящем нет диахронного действия. Но если мы решим сохранить человеческий вид перед лицом угрозы со стороны Галактики или решим подготовиться к библейскому апокалипсису, вот это уже ' будет диахронным.
Дочь: Ты имеешь в виду, что нет смысла поднимать шум, если только угрожающее изменение не является диахронным. А смерть диахронна?
Отец: В широком смысле – нет. Но есть тенденция рассматривать ее как таковую.
Дочь: Ты знаешь, папа, придется думать о себе вне Вечного Настоящего прежде, чем начать что-то по поводу чего-то. Вот когда мы начинаем спорить. Как будто тебе необходимо иметь две точки зрения: изнутри и снаружи, обе одновременно.
Папа, я помню, ты часто говорил о тотемизме как о необходимой системе идей у австралийских аборигенов или о мессе как о необходимом ритуале средневековой Европы… Если месса помогает мне сохранять разум, ее стоит защищать, а лишиться ее было бы совершенно диахронно.
Отец: Видишь ли, месса может воплощать какую-то сложную истину, к которой у тебя нет возможности подойти другим путем. И она может это выполнять, даже выступая на низком логическом уровне, лишь бы ее предложения не создавали значительных противоречий.
Дочь: Или противоречий можно избежать, если различные виды предложений держать раздельно? Является ли это частью дифференцированного распределения информации? Или ты имеешь в виду, что я не смогу даже сформулировать эти важнейшие истины?
Отец: Это будет совсем другим видом знания, построенном на очень абстрактном уровне. И, увы, разрушение тотемизма или секуляризация мессы также воздействуют на людей на очень серьезном уровне. Они могут сделать вывод, что «ничто не является священным», «ничто нельзя рассматривать как часть большого целого» и т.д. Весь диапазон потенциальных возможностей, которые сопровождают способности человека к познанию, имеет и теневую сторону – человек без сознания не имеет возможности стать шизофреником.
XI. ПОСЛАНИЯ ПРИРОДЫ И ВОСПИТАНИЯ (ГБ)
Меня постоянно удивляет та легкость, с которой ученые утверждают, что данную характерную черту организма можно объяснить, исходя из окружающей среды или генотипа. Давайте попытаемся объяснить то, что я считаю отношением, связью между этими двумя объяснительными системами. Именно в отношениях между этими двумя системами и происходит путаница, заставляющая меня колебаться, какой из них приписать данную характерную черту.
При описании организма рассмотрим любой компонент, подверженный изменению под воздействием окружающей среды, например, цвет кожи. У людей, не являющихся альбиносами, цвет кожи подвержен потемнению, или загару, при воздействии на кожу солнечных лучей. Представьте теперь, что мы ведем речь о конкретном человеке. Чему приписать коричневый оттенок его кожи? Определяется он генетически или фенотипически?
Ответ, конечно, будет включать и генотип, и фенотип. Некоторые люди рождаются с более смуглой кожей, чем другие, а все люди, насколько я знаю (за исключением альбиносов), могут стать более коричневыми под воздействием солнечных лучей. Поэтому мы можем сказать, что генотип срабатывает двумя способами: в определении начальной точки загара и в определении способности к загару. С другой стороны, окружающая среда включена в развитие способности к загару – придание фенотипического цвета данного индивидуума.
Следующий вопрос: существует ли наряду с загаром под воздействием солнечных лучей еще и увеличение способности загореть на солнце. Могли ли бы мы путем чередования процессов загорания и «отбеливания» индивидуума увеличить его «умение» становиться коричневым под воздействием солнца? Если это так, то и генотип, и фенотип оказываются включенными в следующий уровень абстракции, где генотип обеспечит индивидуума не только способностью загорать, но и способностью научиться загорать, а среда соответственно закрепит эту способность.
Но тогда опять возникает вопрос, сознательно ли генотип представляет способность научиться изменять способность загорать. Это представляется маловероятным, но вопрос этот следует задать: когда мы имеем дело с объектом, подверженным обучению, влиянию, это влияние определяется генотипом.
И наконец, если мы хотим задать вопрос о загаре или любом другом явлении изменения окружающей среды или обучения, этот вопрос будет касаться логического типа спецификации, определенной генотипом. Определяет ли он цвет кожи? Определяет ли он способность изменять цвет кожи? Определяет ли он способность изменять способность изменять цвет кожи? И т.д. Ибо на каждое описательное предложение о фенотипе имеется объяснительный фон, который на последовательных уровнях логических типов всегда сведется к генотипу. Конкретная среда, конечно, всегда существенна для объяснения.
Очень интересен вопрос о сахаре в крови. Фактическая концентрация сахара в крови изменяется ежеминутно в зависимости от приема углеводов, действия печени, физической нагрузки, временного промежутка между приемами пищи и т.д. Но существуют пределы. Есть верхний и нижний пороги, и организм должен удерживать уровень содержания сахара в крови между этими границами. В противном случае – болезнь и/или смерть. Но эти границы изменяются под воздействием окружающей среды, например, при хроническом голодании, тренировках и акклиматизации. И, наконец, абстрактный компонент – то, что содержание сахара в крови имеет верхний предел, изменяемый опытом, – следует отнести к области генетики.
Говорят, что в 1920 годах, когда на Германию были наложены ограничения Версальским договором, по которому она имела право содержать армию в 10 тысяч человек, лица, желавшие быть зачисленными в эту армию, подвергались серьезным испытаниям. Они должны были быть сливками молодого поколения не только с физической стороны, но и с точки зрения физиологии и готовности посвятить свою жизнь армии. У каждого добровольца в начале испытаний брался анализ крови. Затем его просили прыгнуть через небольшой барьерчик в кабинете, затем перепрыгнуть обратно. И он продолжал прыгать до изнеможения. Когда он решал, что больше прыгать не в состоянии, снова брали кровь на анализ. В армию принимались те, кто лучше всех могли сократить содержание сахара в крови, преодолевая изнеможение решимостью. Нет сомнений в том, что свойство «способности уменьшить содержание сахара в крови» подвержено количественному изменению в результате тренировки или практики, но также, вне сомнений, некоторые личности (вероятно, по генетическим причинам) смогут быстрее всех реагировать на такую тренировку.
Очень не просто определить свойство, обусловленное генотипом. Давайте рассмотрим несколько случаев на довольно примитивном уровне. В американском Музее естественной истории был экспонат, в цель которого входил показ кривой случайного разброса переменной. Эта кривая в форме колокола была сделана из ведра моллюсков, собранных без всякой системы на берегу Лонг-Айленда. Моллюски, о которых мы ведем разговор, имели разное количество складок, идущих от вершины створок к краям, располагаясь радиально. Количество складок изменялось, если я правильно помню, от девяти-десяти до двадцати. Кривая была изготовлена путем установки одной раковины на другую – одну вертикальную колонну составляли раковины с девятью складками, а рядом с ней колонна из раковин с десятью складками, – затем на стене за ними на высоте различных кучек была изображена кривая. Оказалось, что в средней части одна колонна была выше другой. И кривая не вполне точно соответствовала кривой Гаусса. Она была асимметричной. Причем так, что приближение к норме было с того конца, где было меньше складок.
Я смотрел на эту кривую и думал: почему она асимметрична? И мне показалось, что причина в неверном выборе координат. Возможно, на рост моллюсков воздействовало не количество складок, а плотность их расположения. То есть, с точки зрения растущего моллюска, больше разницы существует (лучше сказать, может существовать) между обладанием девятью и десятью складками, чем между обладанием восемнадцатью и девятнадцатью складками. Сколько места остается еще для складок? Какой угол занимает каждая складка? Отсюда следовало, что кривую, возможно, нужно было наносить, исходя не из количества складок, а величины, обратной этому количеству, или, иначе говоря, из среднего угла между складками. В этом случае становилось ясно, что кривая, выведенная из количества складок, была бы нормой в отличие от кривой, выведенной, исходя из углов между складками.
Размышления об этом очень простом примере показывают, что я имею в виду, говоря о логическом типе генотипного сигнала. Возможно ли, что в случае с моллюсками генотипный сигнал содержит прямую ссылку на количество складок? Или более вероятно то, что сигнал не содержит существительного такого рода? Возможно, и нет «слова» для обозначения угла, так что весь сигнал будет осуществлен как название операции каким-то сочетанием складок и углов. В этом случае оценка по углам (то есть по отношению между складками) будет более подходящим способом описания организма, чем указание на количество складок.
Мы, в конце концов, можем посмотреть на моллюск в целом и сосчитать складки, но в процессе роста сигнал ДНК должен читаться на локальном уровне. Ссылка на количество в этом случае неприменима, зато значение приобретает ссылка на соотношение между локальным участком ткани и соседними областями.
Сутью вопроса является то, что если нас интересуют среда и генотипный детерминизм, то самым большим нашим желанием будет, чтобы описание отдельного фенотипа проходило на языке, соответствующем генотипным сигналам и воздействиям среды, создавшим этот фенотип.
Если мы посмотрим, скажем, на краба, мы отметим, что у него две клешни и восемь отростков на тораксе, то есть две клешни и четыре пары ног. Но решить, какое из этих выражений мы будем употреблять, – вопрос далеко не тривиальный. Нет сомнений, что существуют и другие способы для передачи сути вопроса, но я хочу подчеркнуть, что один из этих способов может быть лучше других в применении к фенотипу синтаксиса описания, которое отразило бы сигналы от генотипа, определившего данный фенотип. Отметьте к тому же, что описание фенотипа, наилучшим образом отражающее приказы генотипа, обязательно выведет на передний план любые компоненты фенотипа, определенные воздействием среды. Будут, таким образом, вычленены два вида детерминизма, и их взаимоотношения будут ясно указаны в финальном совершенном описании.
Но отметьте также, что понятие количества, представленное в нашем описании моллюсков, является совершенно другим понятием, отличным от количества, представленного количеством отростков на тораксе краба. В одном случае (с моллюсками) количество, будет казаться отражающим именно количественную характеристику (в смысле «больше-меньше»). С другой стороны, отростки у краба строго ограничены и являются не количеством, а структурой. А разница между количеством и структурой очень велика как во всем биологическом мире, так и во всем поведении организмов в биологическом мире. То есть мы рассматриваем ее с точки зрения анатомии и с точки зрения поведения. (Полагаю, что теоретические подходы к анатомии, физиологии и поведению являются единой системой подходов.)
В отношениях между генетикой и морфогенезом мы сталкиваемся снова и снова с проблемами, которые по сути являются двойными. Этот двойственный характер почти каждой проблемы в коммуникации подытожен Уорреном Маккулохом в названии знаменитой работы «Каким должно быть число, чтобы человек узнал его, и каким должен быть человек, чтобы узнать число?»[12] В нашем случае эти проблемы получают следующее звучание: «Каким должен быть сигнал ДНК, чтобы эмбрион мог получить его, и каким должен быть эмбрион чтобы получить сигнал ДНК?» Вопрос еще больше заостряется, когда мы рассматриваем симметрию, метамеризм (сегментацию) и сложные органы.
Выше я указывал, что мы можем употреблять выражен" типа: «У краба 10 отростков» или «5 пар отростков на тораксе».
Но это не пойдет. Представьте, что конкретный маленький участок развивающегося эмбриона должен получить или принять какой-то инструктаж в отношении этих членов. Вариант, оговаривающий "5" или «10», не годится для данного участка. Как может этот участок, этот сгусток клеток, знать о количестве, воплощенном в большей совокупности тканей, развивающих эти органы? Ограниченный участок одной клетки нуждается в информации не только о том, что должно быть 5 отростков, но и о том, что уже имеется где-то 4, или 3, или 2, или столько, сколько положено в связи с ситуацией на данный момент. Положение остается неясным, даже когда мы заменяем "5" или «10» на «структура из 5» или еще что-либо подходящее.
Данной группе растущих клеток или единой клетке нужны как информация об общей структуре, так и информация, каким должен стать данный участок.
Соотношение между структурой и количеством становится особенно важным, когда мы рассматриваем отношения между влиянием окружающей среды и генотипными детерминантами. Еще одним способом рассмотрения различия между этими двумя видами объяснения является то, что генотипное объяснение обычно привлекает цифры и структуры, в то время как влияние окружающей среды с наибольшей вероятностью принимает формы количества и т.д. Мы можем, таким образом, рассматривать сому (развивающееся тело) индивидуума как арену, где количество встречается со структурой. И именно потому, что детерменизм окружающей среды имеет тенденцию к количественному выражению, в то время как детерменизм генотипа стремится к выражению структурному, люди – ученые – проявляют очевидное пристрастие и готовы легкомысленно гадать о том, какое объяснение в каком случае будет применяться. Некоторые предпочитают количественное объяснение, другие – структурное.
Эти оба взгляда, оба состояния ума, которые различаются настолько, что их можно считать различными эпистемологиями, воплощены и в политические доктрины. Так, марксистская диалектика сосредоточила свое внимание на отношении между количеством и качеством, или, как бы я сказал, между количеством и структурой. Ортодоксальное понятие состоит в том, насколько я понимаю, что все важнейшие социальные изменения возникают или предопределяются количественными «напряжениями» или «давлениями». Эти количества, как предполагается, накапливаются до точки взрыва, где происходит разрыв постепенного движения в социальной эволюции, что приводит к новому состоянию. Суть в том, что определяет этот разрыв именно количество, и, как следствие, предполагается, что всегда и обязательно будут присутствовать необходимые ингредиенты на тот момент, когда количество станет достаточно напряженным.
Модель этого явления из физики – это цепь, которая всегда в результате под давлением или напряжением разрывается в месте своего самого слабого звена. В случае равной крепости звеньев цепь может превысить обычную точку и время разрыва, но в конце концов обязательно найдется самое слабое звено, и оно-то и станет местом разрыва. Другая модель – это кристаллизация медленно охлаждающейся жидкости. Процесс кристаллизации всегда начинается с какой-то определенной точки и, начавшись, идет до полного завершения. Очень чистые вещества в очень гладких и ровных емкостях могут быть и переохлаждены на несколько градусов, но в результате все равно произойдет изменение. В случае же переохлаждения изменение пройдет еще быстрее.
Другим примером отношения между количественными и качественными изменениями является отношение между транспортными пробками на дорогах и количеством автомобилей, от которых эти пробки зависят. Количество автомобилей в данном регионе медленно растет на протяжении нескольких лет, но скорость, с которой они движутся, остается постоянной, пока не будет достигнут определенный порог количества автомобилей. Кривая количества автомобилей растет медленно, кривая же времени – наоборот. Кривая времени, проведенного каждым автомобилем на каждой миле дороги, проходит вдоль горизонтальной постоянной до определенной точки. Затем, совершенно внезапно, когда количество автомобилей переходит упомянутый порог, на дорогах возникают пробки, и кривая, изображающая время на милю дороги, резко взлетает вверх.
Мы можем сказать, что увеличение количества автомобилей было положительным до определенного момента, но за пределами этой точки количество автомобилей в этом регионе приобрело негативный характер.
Диалектический взгляд на историю предполагает, что в данный исторический момент, скажем, в середине XIX века, социальная дифференциация и гнет были таковы, что для отражения данной социальной системы должна была возникнуть теория эволюции указанного рода. Для марксистов несущественно, насколько я понимаю, кто разработал эту теорию – Дарвин, Уоллес или Ченберс, или кто-либо другой из полудюжины ведущих биологов, бывших в то время на грани издания эволюционной теории общего вида. Марксисты считают, что как только созреет необходимость, человек всегда найдется. Всегда будет кто-то, кто определит точку кристаллизации для нового состояния. И на самом деле теория эволюции и ее история вроде бы подтверждают это. В 1850-х годах было несколько человек, готовых создать теорию эволюции, и эта теория был более или менее неизбежной, плюс-минус десять лет от фактической даты публикации «О происхождении видов». Было также политически неизбежным, что эволюционная теория Ламарка исчезнет в это время со сцены и что кибернетическая философия эволюции, хотя и предложится Уоллесом, не станет главной темой.
Для марксистов суть дела состоит в том, что количество определяет происходящее и что структура будет рождена в качестве ответной реакции на количественное изменение.
Мой собственный взгляд на этот вопрос почти противоположен. Я считаю, что количество никогда, ни при каких обстоятельствах не может объяснить структуру, потому что информационное содержание количества, как таковое, равно нулю.
Мне всегда казалось совершенно ясным, что вульгарное применение «энергии» как средства объяснения ложно именно потому, что количество не определяет структуру. Я считаю, что количество нагрузки, приложенной к цепи, не разорвет ее, если не обнаружит, самого слабого звена, то есть структура внутренне присуща цепи еще до приложения силы и, как говорят фотографы, «проявляется» при напряжении.
Таким образом, я являюсь по темпераменту и интеллекту одним из тех, кто предпочитает объяснение, исходя из структуры, а не количества.
Недавно, однако, я увидел, как эти два вида объяснений можно состыковать. В течение долгого времени я испытывал неловкость при определении смысла понятия «вопрос», оттого что думал: возможно ли вопросу воплотиться в долингвистическом биологическом мире.
Пусть не вызывает сомнений, что я не имею в виду вопрос, который воспринимающий организм может задать окружающей среде. Мы могли бы сказать, что крыса, исследующая ящик в котором она находится, также задает нечто вроде вопроса об опасности или безопасности ящика. Но сейчас не это нас интересует.
Нет, я сейчас задаюсь вопросом, может ли на каком-то более глубинном уровне быть что-то подобное вопросу, выраженному языком приказов и т.д., которые лежат в основе генетики, морфогенеза, адаптации и т.п. Что будет означать слово «вопрос» на этом биологическом уровне?
Парадигма, которую я имею в виду, и должна представлять то, что я понимаю под «вопросом» на морфогенетическом уровне, являться последовательностью событий, которые следуют за оплодотворением яйца позвоночного, что мы рассмотрим на примере яиц лягушки. Неоплодотворенное яйцо лягушки, как известно, является радиально симметричной системой, в которой два полюса (верхний, или «животный», и нижний, или «растительный») различаются в том, что в животном полюсе больше протоплазмы и он является областью ядра, а в растительном полюсе больше желтка. Но яйцо кажется совершенно одинаковым по экватору. Не существует выделения плоскости, которая в будущем станет местом двусторонней симметрии головастика. Эта плоскость определяется вхождением сперматозоида, обычно несколько ниже экватора, так что линия, проходящая через точку входа и соединяющая два полюса, определяет будущую среднебрюшную линию двусторонней симметрии. Среда, таким образом, дает ответ на вопрос «где?», который кажется внутренне присущим окружению неоплодотворенного яйца.
Другими словами, яйцо не содержит необходимой информации, эта информация также не входит в ДНК сперматозоида. В случае с яйцом лягушки сперматозоид даже не нужен. Эффект может быть достигнут, если мы уколем яйцо волосом от щетки из верблюжьего волоса. Такое неоплодотворенное яйцо превратится со временем во взрослую лягушку, хотя и имеющую половину количества хромосом.
Именно об этом я и думал, когда рассматривал природу вопроса. Мне казалось, что мы можем рассматривать состояние яйца непосредственно перед оплодотворением как состояние вопроса, состояние готовности к получению определенного количества информации – информации, которая предоставляется при вхождении сперматозоида.
Соединяя эту модель с тем, что я говорил количестве и качестве в марксистской диалектике, и соотнес" все это со сражениями, которые велись над проблемой детерминизма среды против генетического детерменизма, и а сражениями вокруг теории Ламарка (также имевшими политические аспекты), мне показалось, что, вероятно, вопрос имеет количественный, а ответ – качественный характер. Мне казалось, что состояние яйца в момент оплодотворения, вероятно, можно было бы описать в терминах количества «напряжения», которое в определенном смысле снимается цифровым (знаковым) или качественным ответ" предоставляемым сперматозоидом. Вопрос «где?» есть распределенное количество. Ответ «там» есть точный цифровой ответ.
Если вернуться к цепи и к самому слабому звену, мне кажется, что в цепи и в случае с яйцом лягушки конкретный цифровой ответ дается наугад.
Давайте вернемся к проблеме описания организма и того, что произойдет с частями этого описания по мере того, как существо претерпевает процессы роста, влияние окружающей среды или эволюцию. Мы можем следовать за Ашби в рассмотрении описания организма как списка переменных, насчитывающего до нескольких миллионов предложений. Каждое из этих предложений, или значений, имеет ту особенность, что при превышении определенного уровня они становятся летальными. Другими словами, в задачу организма входит поддерживание каждой переменной внутри определенных границ – верхней и нижней. Организм может это сделать благодаря гомеостатическим контурам. Переменные, список которых у нас имеется, очень плотно и сложно взаимосвязаны в контурах, имеющих гомеостатические или метагомеостатические характеристики. В таких системах присутствуют два типа патологии, или, если можно так выразиться, путей к катастрофе. Во-первых, любое монотонное изменение – то есть любое непрерывное увеличение или уменьшение значения любой переменной – должно неизбежно вести к разрушению системы или такому глубокому нарушению («радикальному» нарушению), что практически невозможно будет говорить о той же самой системе. Это и есть один путь к катастрофе, смерти или радикальному изменению.
С другой стороны, так же гибельно жестко устанавливать значение любой переменной, так как установка значения любой переменной в конце концов нарушит гомеостатические процессы. Если данная переменная обычно изменяется легко и быстро, фиксация ее приведет к созданию помех для переменных, являющихся основой всего организма. Акробат, например, не может поддерживать равновесие на высоко расположенной проволоке, если шест, с которым он работает, будет жестко фиксирован по отношению к его телу.
Таким образом, мы приходим к выводу, что качественное изменение любой переменной будет оказывать прерывный эффект на гомеостатическую структуру. Сказанное ранее о количестве и качестве становится альтернативной версией того, что сказал Ашби при описании системы как серии гомеостатических контуров.
Ашби, правда, прибавил еще одну грань, указывая на то, что предотвратить изменение в поверхностных переменных – все равно, что способствовать изменениям в более глубоких. (Этот процесс используется в стратегии «забастовок послушания», когда протестующие рабочие достигают замедления работы, просто придерживаясь установленных правил.)
Дело значительно усложняется, когда мы ведем разговор не об эволюции с изменениями, происходящими раз и навсегда, а об эмбриологии. В процессе развития происходит много кризисов, имеющих форму, определенную Ашби. Возможно, простого увеличения в размере хватит для нарушения целой серии гомеостаз. Эмбриологии тогда придется иметь встроенные ступенчатые функции из-за этого любопытного соотношения между количеством и структурой. Более того, эмбрион не может надеяться на случай, чтобы узнать, где находятся те места в системе, которые 6удут нарушены в результате какого-либо длительного изменения. В эволюции случаю можно доверять при определений таких мест, но в эмбриологии такие места должны быть надежно определены сигналом ДНК или чем-то другим внутри издано защищенного эмбриона. Как краб автоматически ломает собственные ноги, как ящерица – свой хвост, так и здесь должно быть место, определенное для нарушения в кие эмбриологического процесса и дающее основание )ля определения нового состояния.
Весь вопрос становится еще более сложным, когда мы начинаем думать о реакции, переданной центральной нервной системой. Нейрон, в конце концов, есть не что иное, как аналог яйца лягушки. Нейрон – это компонент ткани организма, который создает определенное состояние готовности – количество «напряжения», готовое прийти в действие благодаря какому-то внешнему событию или канн-то внешним условиям, которые могут превратиться в событие. Состояние напряжения – это вопрос в том же смысле, что и напряжение яйца лягушки до появления сперматозоида. Нейрон должен снова и снова повторять свой цикл и является по сути частью организма, способной это проделать. Нейрон создает состояние, приводится в действие, а затем сила создает состояние. Это общая черта как нейронов, так и мускульных тканей. От этого зависит вся организация данного существа.
До сих пор я концентрировал внимание на прерывности в отношениях между вводом информации и реагированием и сделал предположение о закономерностях, на которых основываются эмпирические факты порога и прерывности. Гомеостатический контроль, какими бы количественным" и «аналогичными» характеристиками он ни обладал, всегда зависит от порогов, кроме того, всегда существует прерывность между количественным контролем и нарушением последней в том случае, когда количественные показатели становятся чересчур большими.
Разрешите мне теперь указать еще на одну закономерность, а именно: там, где нет прерывности или ее не видно из-за статистической реакции с помощью малых частиц (например, скопления нейронов), действуют закономерности, подобные описанным в законах Вебера-Фехнера. Если на других планетах существуют настолько сложные кибернетические системы, что их можно было бы назвать «организмами», такие системы подпали бы под зависимость Вебера-Фехнера в тех случаях, когда связь на стыке является переменной с обеих сторон.
Что же утверждается в законах Вебера-Фехнера?
1. В тех случаях, когда для сравнения двух значений одного и того же количества (вес, яркость) используется орган чувств, мы встретимся с порогом ощутимой разницы, ниже которого орган чувств не сможет сравнить эти величины. Порог разницы представляет отношение, которое является постоянным для большого диапазона значений. Например, если подопытный может отличить 30 граммов от 40 граммов (отношение 3:4), то, значит, он сможет провести различие между 3 и 4 фунтами.
2. Можно и иначе выразить мысль о связи между вводом информации и восприятием, а именно: количество интенсивности восприятия изменяется как логарифм интенсивности вводимой информации.
Эта зависимость характеризует стыки между средой и нервной системой. Особенно точно это видно в случае с сетчаткой, как показал Зелиг Гехт.
Интересно, что та же связь, которая характеризует афферентные, или приходящие, импульсы обнаружена Норбертом Винером на стыке между центростремительным нервом и мышцей: изометрическое напряжение мышцы пропорционально логарифму частоты нервных импульсов в нерве, обслуживающем данную мышцу.
Насколько я знаю, пока не существует количественных характеристик связи между реакцией отдельной клетки и интенсивностью гормональных или других химических сигналов, воздействующих на нее. Мы не знаем, действует ли гормональная коммуникация по законам Вебера-Фехнера.
Что же касается необходимости зависимости Вебера-Фехнера в биологической коммуникативной связи, можно представить следующие соображения.
1. Вся цифровая информация нацелена на разницу. В зависимости «карта-территория» (в широком смысле) то, что попадает с территории на карту и есть всегда, и обязательно, является информацией о разнице. Если территория однородна, на карте не будет пометок. Краткое определение:
информация – это различие, проводящее различие на расстоянии.
2. Понятие «различие» дважды включается в процесс восприятия: во-первых, должно быть различие, внутренне присущее данной территории, и, во-вторых, это различие должно быть превращено в событие внутри системы восприятия – то есть различие должно перешагнуть порог, должно отличаться от порогового значения.
3. Органы чувств действуют вроде фильтров для защиты организма от токсичности окружающей среды. Они должны впускать «информацию» и не допускать избыточного воздействия. Это достигается путем изменения реагирования организма в соответствии с интенсивностью вводимой информации. Логарифмическая шкала содействует следующему: эффект вводимой информации растет не в соответствии с ее величиной, а в соответствии с логарифмом их величины. Разница между 100 и 1000 единиц вводимой информации будет равняться разнице между 1 и 10 единицами.
4. Информация, в которой нуждается организм, соответствует логарифмической шкале. Организм обладает очень высокой чувствительностью к крайне малым воздействиям и в то же время не нуждается в такой точности для оценки целого. Проблема состоит в том, чтобы услышать мышь в траве и лай собаки на расстоянии в милю и одновременно не оглохнуть от звука собственного голоса.
5. Кажется, что во всем восприятии (не только в биологическом) и во всей системе измерений существует что-то вроде закономерности Вебера-Фехнера. Даже в искусственных приспособлениях их арифметическая чувствительность падает с увеличением измеряемой переменной. Лабораторные весы точны только при определении веса сравнительно малых величин, а погрешность обычно рассчитывается как процент, то есть отношение.
6. Кажется, что стык между нервом и средой характеризуется большой разницей в логических типах между находящимся на одной стороне стыка и на другой. Что является количественной характеристикой со стороны вводимой информации, становится количественной и прерывной со стороны восприятия. Нейроны подчиняются правилу «все или ничего», и для того, чтобы заставить их сообщать о постоянных количественных изменениях, необходимо использовать статистику – или статистику системы нейронов, или частоту реакции отдельного нейрона.
Все вышеизложенные соображения, взятые вместе, ставят разум в особое отношение к телу. Мои руки и ноги подчиняются одной системе законов в терминах чисто физических характеристик – веса, длины, температуры и т.д. Но в основном благодаря трансформациям количества в соответствии с зависимостью Вебера-Фехнера мои руки и ноги подчиняются совершенно другим законам в своих управляемых движениях в рамках коммуникативных систем, которые я называю «разум». Здесь мы встречаемся со стыком между Креатурой и Плеромой.
Фехнер был замечательным человеком, опередившим свое время, по меньшей мере, на сто лет. Казалось, он еще тогда осознавал, что проблему «разум-тело» нельзя решить, отрицая реальность разума.
Фехнер утверждал логарифмическую зависимость между сигналами, передаваемыми по коммуникативной системе тела, и материальными количественными величинами, характеризующими воздействие внешнего мира.
Хотя Фехнер и сделал первые шаги, многое еще предстоит. Нашей задачей на следующие двадцать лет является построение Эпистемологии, а также объединение областей генетики, морфогенеза и познания. Эти три предмета уже сейчас отчетливо представляются одной областью, в которой понятия более абстрактной естественной истории, или Эпистемологии, будут выступать в качестве пояснений. Эпистемология станет как тавтологией, так и естественной историей. Отношения между количеством и качеством, необходимость самокоррекции и гомеостаза и т. д. – все является детерминантой и компонентов взаимодействуя клетки и среды ее обитания. Но, увы, эпистемологии различных человеческих общностей, особенно на современном Западе, управляющие взаимосвязью при помощи среды? Те могут нам представить то, что нам для этого нужно.
XII. МЕТАЛОГ: ПАГУБНЫЕ ПРИВЫЧКИ (МКБ И ГБ)
Отец: А куда ты собираешься поместить тему пагубных привычек?
Дочь: А я не уверена, что эта тема сюда вписывается.
Отец: Это интересная проблема, Кэп, о которой мы почти ничего не знаем – формально почти ничего. Это одна из крупных проблем, на базе которых происходит подъем и упадок цивилизаций. Я обсуждал ее с учеными в Эзалене.
Дочь: Ты разрабатывал тему алкоголизма, а также рассматривал гонку вооружений как пагубную привычку. С чего ты начинал при обсуждении?
Отец: Так как пагубные привычки – это системное явление, его можно моделировать. Я рассказал им старую историю о Норберте Винере и сумасшедшей машине. В Пало Альто мы дошли до степени понимания того, что шизофрения имеет что-то общее с метафорой. И Винер сказал мне: предположим, что я инженер и хочу, чтобы вы, как мой заказчик, определили характеристики, которые я должен буду заложить в машину, чтобы машина была сумасшедшей.
Дочь: Трудно.
Отец: Но полезно, так как заставляет вас прийти к решению, действительно ли вы что-то подразумеваете под словом шизофрения или это просто красивый культурный миф, нужный, чтобы упрятать приносящих беспокойство людей в психбольницу. Мы думали-думали и, наконец, определили воображаемую, реагирующую на голос машину, похожую на телефонный коммутатор: вы говорите машине, чтобы она соединила вас с номером 348, в ходе разговора с 348 абонентом вы просите его прислать в Детройт Ф.О.Б. 247 свиней. Машина сразу же разъединяет вас с первым абонентом и соединяет с абонентом 247. То есть она фальсифицирует использование числа – логический тип числа. И если она будет так поступать не со 100-процентной регулярностью, а время от времени, тоща я и назову ее сумасшедшей машиной.
Дочь: А как ты перешел к объяснению этиологии шизофрении?
Отец: Несколько позднее я отправил Винеру письмо и в нем начал исследовать вопрос: если бы у вас была машина, способная к обучению, как бы вы приступили к этому процессу? Вы бы стали наказывать ее время от времени в тех случаях, когда она оказывалась права в отнесении чисел к тому или иному логическому типу. Это поставило бы ее в очень неудобное положение, при котором здравый смысл подсказал бы ей, что нужно поступать непредсказуемо неправильно.
Дочь: Ты всегда несколько сомневаешься, когда сравниваешь людей с машинами… Если ты хочешь воспользоваться примером с машиной, поддающейся пагубным привычкам, ты должен будешь перевести очень многое, в том числе страх, одиночество, неуверенность… Тебе нужна будет проблема, выглядящая решением, но на самом деле еще более увеличивающая в нем потребность.
Отец: Конечно, это большая ошибка применять обезболивающее, чтобы притупить боль при хроническом заболевании.
Дочь: Это касается многих вещей, о которых ты говорил, затрагивая проблему аморальности паллиативов, наподобие отправки пищевых продуктов в Африку, не решая проблем роста народонаселения и ухудшения среды.
Отец: А помнишь шутку Сэмюэла Батлера о том, что если бы головная боль предшествовала радостям опьянения вместо того, чтобы за ними следовать, тогда алкоголизм был бы добродетелью…
Дочь: Ты считаешь, что здесь и находится связь, на которую ты намекал в заглавии книги? Конечно, есть люди, для которых религия является паллиативом, а – многие новые религии – это просто средство; опьянения. Ты помнишь, как несколько лет назад я писала доклад о том, как религию можно превратить в развлечение, и о том, как людей в нашем обществе приучают к скуке? Мы рассматриваем ритуал как очень скучную вещь, если он только не облачен в новое и красивое музыкальное оформление и красивые одежды…
Отец: Коллингвуд говорит о разнице между искусством и развлечением: о том, что подлинное искусство делаете вас богаче в конце концов, но требует определенной дисциплины вначале, чтобы войти в его мир; в то время как развлечение не требует дисциплины, чтобы получать от него удовольствие, вначале и оставляет вас полумертвым в конце. Обучение постепенно стало совращать детей подсахариванием пилюли вначале, развлекая их.
Дочь: На днях ты сказал, что путь напрямик является ошибкой в определении логических типов. Может ли паллиатив быть путем напрямик? Может быть, есть связь между обратной связью, не негативная обратная связь заменяется позитивной обратной связью, что приводит к росту пагубных привычек.
Отец: Кэп, ты знаешь историю с эндорфином? Сейчас известно, что при боли мозг сам выделяет вещество называемое эндорфином. Это химики так назвали вещество, которое о своем названии и не знает. Это вещество по своему воздействию похоже на морфий (по болеутолению). Поэтому у вас есть альтернативам или пользоваться своим собственным болеутоляющим, или использовать искусственное болеутоляющее. Если вы используете искусственное болеутоляющее, тогда вы уменьшаете производство своего собственного. В общем, происходит что-то похожее на сцены из Фауста: вы получаете возможность при помощи волшебства управлять своей жизнью, а за это закончите жизнь там, где пылает огонь. Управление прямым путем всегда приводит вас к беде – вы пойманы!
Дочь: Признание того, что вы пойманы, несколько критически настраивает нас по отношению к избавлению от пагубных привычек.
Отец: Ну что ж, у нас в Калифорнийском университете есть один-два преподавателя, которые чувствуют себя пойманными гонкой вооружений. Но этого мало, чтобы от нее избавиться. Другое дело, что выходом могло бы стать полное падение – то, что американцы называют «опуститься на дно», – то есть вам надо однажды утром проснуться в сточной канаве или потерять работу. И если этой данной беды оказывается недостаточно, тогда повышается ее уровень. Но бороться с пагубными привычками не полезно, так как при этом увеличивается различие между разумом и телом, и они вступают в конфронтацию. Я считаю это страшной ловушкой.
Дочь: А разве не надо верить в бога, чтобы быть членом ААА (Ассоциации анонимных алкоголиков)?
Отец: Первыми двумя шагами являются: признание того, что вы алкоголик и жизнь была невыносимой, а также признание наличия во Вселенной принципа, вероятно – Бога, который сильнее вас. Существует уравнение между алкоголем и Богом, которые оба сильнее вас. Бог отождествляется с вашим подсознательным, поэтому он становится имманентным Богом, а не Богом, сидящим на вершине горы или в облаках, так что вы могли бы погрозить ему кулаком. Билл У., основавший ААА, был очень умным человеком.
Дочь: Существует очень известная молитва, не так ли? С просьбой «дать ясность ума, чтобы принять то, что изменить не в силах, дать храбрость и мужество, чтобы изменить то, что можно, и дать мудрость, чтобы понять разницу».
Отец: Ту же самую картину вы можете наблюдать у Персиваля, психбольного. На первой стадии своего заболевания его голоса ставят его в безвыходное положение: «Мне причиняли страдания приказы, которые, как мне казалось, исходили от Святого Духа, и когда я говорил голосом своим, а не данным Духом, меня наказывали». На следующей стадии голоса меняют тональность: «В следующий раз духи начали петь мне следующее: ты попадешь в и психбольницу, если сделаешь то, третье, десятое... Если сделаешь так, будешь Сэмюэлом Гоббсом, если нет – будешь Германом Гербертом» (одно из вымышленных им имен для одного из надзирателей). Итак, ты видишь, что его голоса становятся терапевтами.
Рядом с этим мы можем поставить высказывание Оппи – Роберта Оппенгеймера – о том, что мире идет по направлению к аду на высокой скорости, см положительным ускорением и, возможно, с положительной скоростью изменения ускорения и, возможно, не дойдет до пункта назначения «только при условии, что мы и русские не захотим это допустить». Сейчас все шаги, которые мы предпринимаем для обеспечения безопасности, ускоряют наше приближение к аду.
Дочь: Это напоминает мне историю о дельфине, о котором ты писал на Гавайях. Тренер ждал чего-то нового в поведении дельфина и, как только это новое появлялось, усиливал, подкреплял его свистком, или кормежкой рыбой, или еще как-нибудь. Это означало, что то, что было правильным в ходе предыдущего занятия и вознаграждалось, теперь становилось неверным и более не вознаграждалось, так как более на было «новым». И поэтому после – какого количества дюжины уроков? – дельфин очень возбудился в своем бассейне и выдал целую серию новых трюков которых никто никогда прежде не видел у дельфинов. То есть дельфин понял.
Отец: Это должно было быть очень болезненно для дельфина. Очень интересно, что когда мы повторяли последовательность событий в качестве эксперимента, мы никак не могли заставить тренера подчиняться правилам. Тренер постоянно бросала дополнительную рыбку дельфину, так как в противном случае, говорила она, «потеряет» дельфина. Ну и вот, если врач хочет заставить пациента выйти на новый уровень проникновения в суть вещей, возможно возникновение необходимости бросить ему несколько незаработанных рыбок, чтобы смягчить боль. Но отметьте, что боль эта – общего вида, которую Сэмюэл Батлер назвал добродетелью, боль – которая предшествует решению проблемы. И вот именно это и происходит, если вам удается успешно отлучить наркомана от употребления наркотиков. Вы уже приспособились к наркотику, а теперь нарушение адаптации второго уровня будет болезненным.
Дочь: Папа, я никак не могу понять, когда ты говоришь о шизофрении, а когда о пагубных привычках. Настолько ли они похожи друг на друга или это просто привычка?
Отец: Ну, как тебе сказать? Общее у них то, что в обоих случаях есть потребность войти за пределы разговора о том, что как будто что-то существует внутри каждого индивидуума – или шизофрения, или приверженность к пагубным привычкам. Сходство проистекает из того факта, что умственные характеристики относительны – скажем, между двумя лицами или между человеком и средой. У вас должны быть А и В. А может быть человеком, и В может быть человеком. Или А может быть печенью, а В – толстой кишкой. Чтобы получить адаптацию в толстой кишке, необходимо изменить печень. Но каждый раз, как только вы изменяете печень, вы снова выводите толстую кишку из нормального состояния. Итак, на первом уровне познания вы учитесь правильно поступать в конкретном контексте, но затем вам будет нужно познание на следующем уровне, чтобы разобраться с фактом изменяющегося контекста, который вы создаете собственной реакцией.
Дочь: Может ли рост стать пагубной привычкой? Он ведь создает проблемы.
Отец: Да, конечно, рост всегда ставит проблему, как можно вырасти, не изменяя пропорций. Пальма, например, не имеет слоя камбия вокруг ствола и не имеет возможности откладывать дополнительные слои древесины, то есть становиться толще по мере роста. Пальма просто растет вверх и в конце концов падает. Постоянные изменения на первом уровне фатальны. Поэтому исходит ли боль роста из необходимости изменений второго уровня? И не является ли приверженность пагубным привычкам каким-то образом противоположностью роста?
Дочь: Итак, у нас теперь есть приверженность пагубным, привычкам, шизофрения, рост и адаптация… Я думаю, что наш разговор становится неуправляемым.
Отец: А еще хотят добавить «присоединение». На фоне быстрого технологического изменения цивилизация отношения между этими словами начинают напоминать пинцет, постоянно пытающийся нас схватить. Калифорнийский университет связан с двумя очень, крупными лабораториями, занимающимися исследованиями в области атомного оружия, Ливерлюр и Лос Аламос, где занято около 13 тысяч человек. Это очень органичное присоединение, а не паразит, при избавлении от которого чувствуешь облегчение. Это член симбиоза, чьи ткани срослись с нашими. И если мы захотели избавиться, то…
Дочь: Меня всегда удивляло то, что люди думают, что можно просто уничтожить атомное оружие или заморозить гонку вооружений.
Отец: Преподаватели, о которых я говорил, вместе с членами Совета даже не желают на фоне исследования, стоящего 700 миллионов долларов, собрать 2-3 миллиона, которые потребовались бы для разрушения формальных черт «приверженности к пагубным привычкам – адаптации присоединения», так как это относится ко всему народу и затрагивает его интересы.
Дочь: Ладно, не ворчи. У нас есть гипотетический инженер, который готов создать для нас машину, а мы еще не выработали спецификации.
Отец: Хорошо. Итак, что мы имеем? Познание должно происходить на двух уровнях и включать две соединенные части. И есть еще проблема. Если вы описываете организм, вам потребуется большое количество описательных утверждений – сколько у него глаз, где они находятся по отношению к носу и рту, какова температура тела и количество сахара в крови. Причем эти описательные предложения не существуют раздельно. Они взаимосвязаны в различные петли. Если вы измените какую-либо из них более определенного уровня, организм будет привязан за ногу, фигурально выражаясь. Сначала он получит стресс, а затем, если вы зайдете слишком далеко, – смерть. Нация, народ в этом отношении ничем не отличаются от приведенного в качестве примера организма.
Дочь: А как насчет любителя выпить? Он сюда вписывается?
Отец: Конечно. Он придерживается мнения, что жизнь зависит от определенного вида изменений – не от наличия определенного количества алкоголя в крови, а от тенденции к его повышению. Есть любители выпить, очень умело поддерживающие положительный рост алкоголя в крови. Но, видите ли, в этих системах взаимосвязанных переменных вы не можете взять одну переменную и постоянно ее изменять в одном направлении. Что-то нарушится, и алкоголик в четыре часа утра очутится в сточной канаве. А теперь следующее: нации становятся приверженными к постоянно растущему ВНП, что является такой же проблемой, что и в случае с пальмой. Еще раз повторяю: нельзя взять из взаимосвязанной системы одну переменную и постоянно ее изменять в одном направлении.
Дочь: Циклы бума и банкротства. Войны. Суровые решения. А между ними мы пытаемся поступать все более и более осторожно, не изменяя основного нарушения системы.
Папа, а вот та рыба, которую тренер давала дельфину, хотя тот ее и не заработал, только чтобы поддержать зависимость. Ведь очень легко образовать дурную привычку.
Отец: Ну вот, мы вернулись к вопросу об опьянении без, предварительной головной боли.
Дочь: Какое же огромное для меня удовольствие узнавать что-то новое, писать или даже спорить с тобой… Потому что разговор также является причиной головной боли.
Отец: Конечно. В искусстве в отличие от развлечения, усилие предшествует награде. Очень важно, находясь в угнетенном состоянии, не дать поймать себя мысли о том, что снимет такое состояние развлечение. Да, конечно, но только на какой-то очень короткий период.
Дочь: Я бы очень хотела, чтобы ты поменьше разбрасывался идеями, а больше говорил бы о концепции приверженности дурным привычкам, которая могла бы объяснить наносимый ущерб, как наносится вред людям.
Отец: Ладно. Вот почему мы должны говорить на языке машин. Чтобы мы могли вести речь о формальных вопросах без излишнего морализования или впадения в сентиментальность. В любом случае смещение внимания от отдельной личности к процессу взаимодействия отодвигает нас от вопросов оценки. Вместо «хорошо» или «плохо» мы можем использовать термины «обратимый» и «необратимый», «самоограничивающий» и «самоувеличивающийся». Нам следует мыслить в терминах двух частей системы с определенным стыком между ними.
Дочь: Алкоголик и дьявольские напитки?
Отец: Вроде того, так как зачастую одна из частей – предмет. Планета Плутон может быть неживым предметом, если рассматривать ее как отдельное целое. Но если существует взаимодействие между Плутоном и «мной», законным будет проверить характеристики большего целого, частями которого являются Плутон в "Я". Большее целое будет живым, так как его компонент, "Я", есть живое существо, так же как и целое" которое называется "Я" имеет неживые компоненты (зубы, сыворотка крови). И если потеря части системы (В) уменьшит или разрушит жизнь другой (А), мы можем сказать, что А имеет пагубную привычку к В.
Дочь. На помощь! Я больше не могу! У тебя выходит, что я проявляю пагубную привычку к кислороду.
Отец: Правильно!
Дочь: Но, послушай. Следует все-таки различать три уровня. Уровень первый будет системная зависимость и будет включать мое отношение с воздухом, протеином, силой притяжения, отношения рыбы с водой и т.д. Все те вещи, без которых я не могу существовать. Это и есть единица выживания, не так ли? Это напоминает нам, что следует думать о взаимозависимых частях как о части целого, не просто о печени и толстой кишке, а об организме и среде.
Затем второй уровень включает процесс приобретения такой зависимости, что предполагает системное изменение, особенно при его необратимости или обратимости, связанный с определенными затратами. Вот где наша модель должна соответствовать модели таких вещей, как познание, адаптация, акклиматизация и т.д. В этот момент у тебя могут появиться истинные решения. Это все равно, что постоянно принимать одну и ту же дозу лекарства при высоком кровяном давлении – конечно, ты при этом зависим: лекарство стало частью системы, которая – есть ты, твое выживание. Затем идет уровень третий. Это то, что ты получаешь вместе с наркотиками, алкоголем, гонкой вооружений или ростом ВНП, то есть там, где есть устойчивый рост, нарастание. У меня стабильная зависимость от теплосистемы в моем доме. Но когда я начинаю перестраивать, переналаживать ее зимой, доводя до отметки 70 в феврале, – вот это и будет тот случай, для которого следует зарезервировать термин «склонность к привычкам»…
Отец: Поскольку ты используешь термины таким способом, что концентрируешь внимание на системе: ты, твой термостат, горючее – т.е. все, что стало частью твоей жизни. А мы обычно под термином «склонность к привычкам» подразумеваем не просто нарастающий процесс, а такой процесс, в котором становление подобных привычек считается носящим адаптирующий или терапевтический характер, но на самом деле не удовлетворяющий наши потребности. Я бы очень хотел иметь склонность к договору о разоружении, но ребята из военно-промышленного комплекса имеют чувство не просто сильное, но намного сильнее – сильнее, чем вчера, и сильнее, чем русские. Гонка вооружений делает нас уязвимыми и имеет тенденцию к эскалации.
Дочь: Не просто ведь договор об ограничении вооружений? А договор, ведущий к разоружению, в котором ! каждый шаг создает потребность в следующем.. Представь себе мир, в котором политический процесс стал проявлять такую склонность к разоружению, что после уничтожения всего настоящего оружия у нас появился бы карнавальный ритуал, чтобы вернуть хорошие чувства!
Отец: Изменение знака.
Дочь: Папа, прежде чем мы двинемся дальше, я хотела бы прокатать одну идею. Мне кажется, что мой первый уровень подходит к твоему нулевому познанию и сочетается с диаграммами теплосистемы или стрельбой из ружья в главе IV. У меня есть потребность в питьевой воде, и когда моя жажда перейдет через определенный порог, она включает кнопку, которая заставляет меня подняться от машинки и выпить глоток воды. Система работает по тому же самому гомеостатическому циклу. Что касается приверженности привычкам, смысл ее в том, что она перенастраивает систему, изменяет структуру, так что в следующий раз мне понадобится большее количество. Похоже ли это на калибровку?
Отец: Вместо удовлетворения потребности ты ее создаешь.
Дочь: Слушай, папа, это ведь соответствует тому, что ты говорил о гибельности эволюционной теории Ламарка, не так ли?
Отец: Теперь твоя очередь думать. Как я уже сказал, вряд ли можно найти более важный вопрос.
XIII. НЕЛЬЗЯ СМЕЯТЬСЯ НАД БОГАМИ (ГБ)
То, что было сказано до сих пор, можно считать аргументом или свидетельством в пользу реальности крупных мыслительных систем, систем экологического диапазона и крупнее, внутри которых ум отдельного человека является подсистемой. Эти крупные мыслительные системы характеризуются, кроме всего прочего, ограничениями на передачу информации между своими частями. И на самом деле, мы можем исходить из обстоятельства, что какая-то информация не должна достичь определенных участков в крупных, организованных системах, чтобы утвердить истинную суть этих систем – чтобы утвердить существование того целого, чья целостность будет находиться под угрозой из-за несоответствующей коммуникации. Употребляя слово «истинный» в данном контексте, я имею в виду, что для объяснения неизбежно мыслить в терминах организаций этого размера, придавая этим системам характеристики мыслительного процесса (по определению критериев, перечисленных в главе II).
Но одно дело говорить о том, что это неизбежно, и совсем другое говорить о том, каким же умом должна быть такая огромная организация. Какие характеристики могут проявить такие умы? Может быть, это то, что люди называют богами?
Великие теистические религии в мире приписывают многие виды ума высшим богам, но почти без исключения все основные характерные черты получены на основе человеческих моделей. Боги изображаются любящими, мстительными, капризными, страдающими, терпеливыми, нетерпеливыми, хитрыми, неподкупными, любящими подношения, старыми, мужского пола, женского пола. сексуальными, бесполыми и т.д.
Каких основных черт ума можно ждать в любой мыслительной системе или уме, основные посылки которых должны совпадать с тем, что мы якобы знаем о кибернетике и теории систем. Исходя из этих посылок, мы, конечно, не можем прийти к простому материализму. Но к какой религии мы придем – не ясно. Будет ли эта огромная организованная система обладать свободой воли? Способен ли этот Бог на юмор? Обман? Ошибку? Умственную патологию? Может ли такой Бог воспринимать красоту? Какие события, обстоятельства могут воздействовать на его органы чувств? Есть ли органы чувств в такой системе? А пороговые ограничения? А внимание? Может ли такой Бог потерпеть неудачу?
Великие исторические религии мира или отвечали на эти вопросы, не задумываясь ни на минуту о том, что на эти вопросы можно дать и не один ответ, или они скрывали суть вопроса за массой догм. Задать такие вопросы – значит действительно сделать попытку поколебать веру, так что сами вопросы могут определить ту область, куда будут страшатся ступить ангелы.
Две вещи, тем не менее, очевидны относительно любой религии, которая может исходить из кибернетики и теории систем, экологии и естественной истории. Первое – это то, что при задавании вопросов не будет границ нашему высокомерию. И второе – всегда будет проявление покорности при восприятии ответов. Здесь мы окажемся в условиях резкого контраста с большинством мировых религий. Они проявят малую покорность в поддержке ответов, но большой страх перед содержанием вопросов.
Если мы можем показать, что признание определенного единства в общей структуре есть повторяющаяся характерная черта, тогда возможно, что некоторые из самых диспаратных (несоизмеримых) эпистемологий, рожденных человеческой культурой, могли бы дать нам путеводную нить относительно того, куда идти дальше.
1. Трагедия.
Кажется, что драматурги в Древней Греции и, возможно, их аудитории и философы, процветавшие в этой культуре, считали, что поступок, совершенный в одном поколении, может создать контекст или запустить процесс, который определит личную историю на долгое время.
Рассмотрим историю дома Атрея в мире и драме. Убийство Хризиппа его сводным братом Атреем кладет начало последовательности, в которой жену Атрея совращает его брат Тиест, а в возникшей борьбе между братьями Атрей убивает и готовит в виде блюда сына своего брата. Затем это блюдо подается на обед отцу убитого.. Эти события ведут в следующем поколении к принесению в жертву Ифигении ее отцом, Агамемноном, другим сыном Тиеста, и так далее, вплоть до убийства Агамемнона его женой Клитемнестрой и ее любовником Эгистом, братом Агамемнона и сыном Тиеста.
В следующем поколении Орест и Электра, сын и дочь Агамемнона, мстят за смерть своего отца убийством Клитемнестры, то есть совершают акт матереубийства, за что фурии преследуют Ореста, пока не вмешивается Афина, организующая суд Ареопага над Орестом. Суд в конце концов прекращает дело. Итак, потребовалось вмешательство богини, чтобы поставить точку в последовательности (в неизбежности), в которой одно убийство неотвратимо влекло другое.
Идея греков о необходимой последовательности не была, конечно, уникальной. Интересно то, что греки, казалось, считали неизбежность абсолютно безличностной темой в структуре человеческого мира. Получалось, что начиная с первого поступка, кости выпадали намеренно против участников игры. Указанная тема использовала в качестве средства человеческие чувства и мотивы, но сама тема (мы будем вульгарно называть ее «силой») замышлялась безличной, выше и больше богов и людей, как отклонение в структуре Вселенной.
Такие идеи встречаются и в другие времена, и в других культурах. Индуистская идея кармы очень похожа на греческую «неизбежность» и отличается от последней только тщательной разработкой, характерной для индуистской религии, включающей как «хорошую», так и «плохую» карму. Кроме того, она содержит рецепты избавления от плохой кармы.
Я сам встречался с подобным верованием у племени ятмул в Новой Гвинее. Шаманы этого племени заявили, что могут видеть «нгламби» человека как окружающее ее или его темное облако или ауру. Племя ятмул верит в колдовство, и совершенно ясно, что нгламби является одной из его примет. А может согрешить против В, таким образом навлекая на себя черное облако. В может заплатить колдуну, чтобы отомстить за первый грех, а тогда нгламби будет окружать как В, так и колдуна. В любом случае ожидалось, что человека с черным нгламби ждет трагедия – возможно, его собственная смерть, возможно, смерть родственника, потому что нгламби – заразен, а сама трагедия будет вызвана колдовством. «Нгламби», как и греческая «неизбежность», срабатывает через человека.
Настоящий вопрос, однако, не касается деталей «неизбежности», «нгламби», «кармы» и других похожих понятий, которые человек приписывает большей системе. Вопрос прост: каковы основные характерные черты мыслительных подсисистем, называемых индивидуумами, возникающие из их объединения в большие системы, также обладающие мыслительными характеристиками, которые можно было бы выразить созданием мифологий (истинных или ложных), подобных «неизбежности» и т.д.? Это вопрос другого порядка, на который нельзя ответить ни овеществлением большей мыслительной системы, ни простым пробуждением мотивов участников.
Можно предположить часть ответа, хотя бы для того, чтобы показать читателю направление исследования.
«Неизбежность», «карма» и «нгламби» – это все овеществленные абстракции, последнее из этого перечня наиболее конкретно воображенное, так что шаманы могут даже «видеть» его. Другие менее овеществлены и воспринимаются только через предполагаемые последствия, прежде всего – в мифах.
Хорошо известно, что человеческие верования становятся самоподтверждающимися – как непосредственно, так что верующий склонен видеть, слышать или ощущать то, во что он верит, так и опосредственно, когда вера утверждает себя оформлением действий верующих таким образом, который заставляет их избегать то, во что они верят, на что надеются, чего боятся. Одной из характерных черт людей является потенциальная склонность к патологии, возникающая из гибкости их природы. Они собираются вместе, чтобы создать совокупности, которые становятся воплощением тем, о которых сами индивидуумы могут и не знать.
В терминах такой гипотезы «неизбежность» и «карма» являются вторичными патологическими явлениями, порожденными группированием подвижных, гибких подсистем.
2. Противоречивые и конфликтующие темы
Еще одну мыслительную характеристику крупных систем можно пояснить на примере тем из греческой драмы. В этом комплексе разделенных идей наряду с «Орестеей» существовала и пронизывающая поколения последовательность мифов, связанных друг с другом понятием «неизбежности» и начинающаяся с отдельного акта. Кадмий навлек на себя гнев Ареса, убив священного змея, и это послужило началом многих бед в царском доме Фив. В конце концов, дельфийский оракул предсказал, что Лай-царь Фив будет иметь сына, который убьет отца и женится на собственной матери – Иокасте, жене Лая.
Лай тогда попытался противодействовать предсказаниям оракула и, таким образом, вопреки желанию навлек на себя трагическую неизбежность. Сначала он отказался от сексуального контакта с Иокастой, чтобы избежать рождения сына, который должен был его убить. Но Иокаста напоила мужа, и сын был зачат. Когда ребенок родился. Лай приказал связать его и оставить на горе. Но опять его план не удался. Ребенка нашел пастух, а усыновил его царь Коринфа. Мальчика назвали Эдипом (то есть Толстоногим, так как его ноги распухли, когда он лежал связанный в горах).
Мальчишки дразнили Эдипа за то, что он не был похож на своего отца. Поэтому он отправился в Дельфы за объяснением, а там выслушал приговор, что он был обречен убить отца и жениться на матери. Эдип, не знавший, что он приемный сын, и считавший коринфского царя отцом, решил спастись бегством и не возвращаться в Коринф.
Во время скитаний он встретил незнакомца на колеснице, который грубо отказался пропустить его. Он убил незнакомца, который и оказался его настоящим отцом. Продолжая свой путь, он встретил Сфинкса недалеко от Фив и разгадал его загадку: «Что это такое: сначала ходит на четырех ногах, потом на двух, а в конце на трех?» Сфинкс покончил жизнь самоубийством, а Эдип внезапно оказался героем, принесшим большую пользу городу Фивы. Он стал царем этого города, женившись на Иокасте. От нее у него было четверо детей. Наконец, в город пришла чума. И оракул приписал причину чумы страшному поступку одного человека. Эдип настоял на расследовании этого дела, хотя слепой мудрец посоветовал ему не будить беду. Правда вышла наружу. Эдип, царь Фив, сам оказался тем человеком, который убил своего отца и женился на своей матери. Иокаста в ужасе повесилась, а Эдип ослепил себя булавкой от ее шарфа.
Эдипа выслали из Фив, он бродил по миру в сопровождении дочери Антигоны. Наконец, старый и больной, он прибыл в окрестности Афин. Там он таинственным образом исчез в рощах, священных для фурий, как полагают, чтобы разделить с ними загробную жизнь.
Интересно отметить формальный контраст между этим повествованием и последовательностью Ореста, так как Эдип добровольно отправился в рощи к фуриям, в то время как Орест ими преследовался. Этот контраст получает свое объяснение в финале трилогии Эсхила, где Афина устанавливает закон, по которому Афины являются патриархальным обществом, где жены не являются полноправными родственниками своим потомкам, остающимся в роду или клане отца. Мать – чужая, и поэтому убийство матери не преступление. (В конце концов, у Афины никогда не было матери; она вышла «в полном вооружении» из головы своего отца – Зевса.) Фурии, с другой стороны, матриархальные богини, простят Эдипа – мальчика, убившего своего отца и имевшего четырех детей от своей матери, но не прощают Ореста – убийцу своей матери.
По сути, культура древних Афин несла две совершенно противоположные мифологические последовательности, последовательность Эдипа, являющуюся кошмаром преступления против отца, и кошмарное преступление Ореста против матери.
Лично я не удовлетворен объяснением Афины, в котором она презрительно отзывается о фуриях как о кучке старых сплетниц, случайно выживших окаменелостях примитивного матриархата. В качестве антрополога я не думаю, что когда-либо существовало какое-нибудь общество, которое было бы на 100 процентов матриархальным или патриархальным. В большинстве обществ родство асимметрично, так что по каждой стороне генеалогии развивается свой вид родства. У ребенка разные обязательства по отношению к дядям с материнской и с отцовской стороны. Но обязанности и выгода есть с обеих сторон. Вся пьеса Эсхила «Эвменида» очень странная, впрочем так же, как и «Эдип в Колоне» Софокла. Когда я читаю «Эвмениду», я вижу в ней или крайнее-проявление афинского патриотизма, или, что более вероятно, карикатуру на этот патриотизм. «Эдип в Колоне», с другой стороны, – это очень серьезная вещь, с не меньшим патриотизмом, чем «Эвменида», так как она тоже обращается к древней истории города Афины. Странно то, что от аудитории ждут понимания того, что Эдип – священная фигура и что назревает война между наследниками Эдипа в Фивах к Тезеем – основателем нового города Афины. Обе стороны хотят, чтобы Эдип умер на их территории, став таким образом ангелом-хранителем этой земли.
Я подозреваю, что каждый миф в долгу перед другим мифом и их можно представить в виде уравновешивающей друг друга пары, являющейся совместным продуктом куль – туры, разделенной в зависимости от акцента на матриархат или патриархат. Мне очень хотелось бы задать вопрос, не является ли это двойное выражение конфликтующих взглядов типичным для раздвоенного большего ума.
Синкретический дуализм христианской мифологий представляет подобный, но еще более удивительный пример Иегова – это бог из вавилонских времен, чье место – нахождение определено на вершине искусственной горы. Иисус в противоположность ему – божество, чье местонахождение в груди человека. Он – олицетворение божества, как фараон или любой древний египтянин, и которому в поминальных церемониях обращались как к Озирису.
Для крупных культурных систем характерно то, что в них содержатся такие двойные мифы и представления, отражающие в скрытых противоречиях основные характерные черты крупной мыслительной системы.
В этой связи греческая мифология особенно интересна, так как ее мифы не проводят такого раздела между светским состоянием и темами судьбы и рока так, как это делается у нас сегодня. Греческая классификация отличается от нашей. Греческие боги похожи на людей, они являются марионетками судьбы, как и люди, а взаимосвязь между силами большего ума и простыми богами и людьми постоянно подчеркивается хором. Хор видит, что боги, герои и они сами – одинаковые игрушки в руках судьбы. Боги и герои такие же светские, земные, как наш супермен, которого они частенько напоминают.
В мифологии, и особенно в драме, предчувствие беды и тайна содержатся в таких абстрактных понятиях, как «неизбежность» (anangke) или «немезис» (nemesis). Нам довольно неубедительно говорят, что Немезис – это богиня и что боги наказывают высокомерие власти, которое называется хубрис (hubris)[13]. Но на самом деле все это названия тем или принципов, которые придают религиозный оттенок жизни и драме; боги являются невидимыми символами этих более таинственных принципов. Подобное же состояние дел и в религии Бали, где, однако, боги лишены полностью всех личностных характеристик. Они (за исключением Рангды – колдуньи и Баронга – дракона) обладают только именами, направленностью действия, цветом и днями их действия. В общении с ними виден соответствующий этикет.
В начале этой главы я говорил, что основное внимание будет сосредоточено на подтверждении существования очень больших систем. Эту цель можно сейчас еще больше уточнить, если мы зададим вопрос о том, какие черты человеческих религий, древних и современных, становятся понятными в свете кибернетической теории и развития эпистемологии. Необходимо изменить направление, цель которого со времен Коперника состояла в развенчании мифологии, начать собирать все эпистемологические компоненты религии, до сих пор отметившиеся. В ходе этого процесса мы можем обнаружить важные понятия, частично скрытые за мусором (особенно накопленным религиозными людьми, претендующими на научный авторитет) или частично утерянные из-за неспособности понять, в чем же все-таки суть религии, что характерно для большинства научных разоблачений. Битва над Книгой Бытия – это часть истории, которой не могут гордиться ' ни сторонники эволюционной теории, ни фундаменталисты.
Религия состоит не из признания маленьких чудес, демонстрации которых старается избежать каждый религиозный лидер, но на которых настаивают его последователи, а из огромных совокупностей организации, имеющей внутренне присущие мыслительные характеристики. Я считаю, что греки были близки к религии, когда употребляли понятия «неизбежность», «немезис» и «хубрис», и отходили от религии, когда их оракулы призывали сверхъестественную власть или когда их мифологи украшали изображения богов в пантеоне.
Можем ли мы распознать среди научных находок достаточное количество основных принципов традиционной религии, чтобы создать основу для сближения? При выработке моей сегодняшней позиции я использовал сочетание подходов – логических, эпистемологических и традиционных. Я пытаюсь исследовать закономерности коммуникации в биосфере, предполагая, что при этом я также буду исследовать взаимосвязанные закономерности в системе, к которой мы могли бы даже применить слово Бог. Закономерности, которые мы открываем – включая закономерности коммуникации и логики – образуют единое целое, в котором мы строим свой дом. Их можно даже рассматривать как особенности Бога, которого можно было бы назвать Эко.
Существует притча, в которой говорится, что когда Экологический Бог бросает взгляд вниз и видит представителей рода человеческого, грешащих против экологии, он вздыхает и невольно насылает загрязнение среды и радиоактивные осадки. Нет смысла говорить ему, что нарушение было небольшим, что вы просите прощения и больше не будете… Нет смысла приносить жертвы и предлагать взятки. Экологический Бог неподкупен, и поэтому над ним нельзя насмехаться.
Если мы будем стараться среди коммуникации и логики найти то, что может быть признано священным, нам придется отметить, что эти вопросы рассматривались тщательно и долго большим количеством людей, большая часть из которых совершенно не считали себя учеными в области естественной истории. Одна группа таких людей зовет себя логиками. Они не делают различий между явлениями коммуникации и явлениями физики и химии; они не утверждают в отличие от меня, что объяснение живых рекурсивных систем требует других правил логики. Но они заложили большое количество правил относительно того, какие шаги считаются приемлемыми в объединении предложений, чтобы выработать теории любой тавтологии. Более того, они проклассифицировали различные виды шагов и виды последовательностей, как, например, различные виды силлогизма, которые мы обсуждали в главе II. Мы могли бы принять эту классификацию как первый шаг к естественной истории мира коммуникации. Шаги, определенные логиками, стали бы тогда кандидатами на роль примеров в нашем поиске Вечных Истин, характеризующих мир, более абстрактных, чем предложения Августина.
Но, увы, логика имеет свои недостатки, особенно когда она пытается коснуться кольцевых причинно-следственных систем, в которых аналогами логических связей являются причинно-следственные последовательности, двигающиеся по кругу, подобно парадоксу Эпименида Критского, заявившего:
«Все критяне – лжецы». Логик отбрасывает этот парадокс как банальный, но подлинный наблюдатель знает, что аргумент Эпименида является парадигмой для отношений в любой самокорректирующейся цепи, такой, как, например, простой дверной звонок.
Я считаю наличие таких цепей одним из критериев, по которым я определяю разум наряду с кодирующей иерархической организацией и дополнительной системой обеспечения энергией. Такие цепи (или контуры) могут быть найдены во многих механических и электрических формах, таких, как домашний термостат, описанный в главе IV, или устройство, контролирующее уровень воды в туалетном бачке, но более значимо они проявляются в физиологии организмов, где они следят за изменениями в температуре, наличием сахара в крови и т.д., и в экосистемах, то различные популяции (скажем, кролики и рыси) взаимозависимо изменяются, сохраняя целое в равновесии: Логика стремится к прямолинейности, двигаясь от А к В или от посылки к выводу; логика неодобрительно косится на аргументы, движущиеся по кругу.
Поэтому в описании жизни я не испытываю особого желания доверять логике или логикам как источникам истины. Интересно, однако, рассмотреть свойства самокорректирующегося контура как пример глубокой абстрактной истины, а это и есть предмет изучения кибернетики и первый шаг в использовании кибернетики в движении к новым способам размышления о природе. Возможно, затем, позднее мы придем к еще более глубокой и абстрактной системе описаний взаимосвязей – но для начала с нас хватит и взаимосвязей :контуров (цепей), причем мы не должны забывать ту истину" что есть неизбежные ограничения в любом описании, которые еще надо детально описать.
XIV. МЕТАЛОГ: ЭТО НЕ ЗДЕСЬ (МКБ)
Дочь: Папа, но этого здесь нет.
Отец Чего?
Дочь: Но ты же не даешь точного определения, что ты подразумеваешь под «священным»! А ведь прежде, чем мы будем готовы начать новую дискуссию по эпистемологии в биологическом мире и о твоем понятии «структуры», нам нужно такое определение. Людям трудно понять твое описание, которое звучит очень сухо. Я имею в виду звено между разделом, относящимся к объединяющим идеям типа «неизбежности», «кармы» или «нгламби», и тем, что ты говоришь о проблемах мышления, о биологическом мире. Ты увлекся разговором о любимых греческих трагедиях, а затем переходишь к обсуждению эпистемологии, но ты не даешь связи между ними. Я вижу, какой она могла бы быть, но не знаю, насколько совпадают наши взгляды.
Видишь ли, когда я работала над этой частью рукописи, мне показалось, что ты сложил вместе весь имеющийся материал в главах XIII и XV, так что получилась модель всей книги. Папа, ты помнишь историю с матерью Маккулоха?
Отец: Что это за история?
Дочь: Это было когда-то одной из твоих любимых историй. Мне помнится, что ты участвовал в дискуссии с группой кибернетиков в доме Маккулоха о поиске информации. Он пошел в кухню за кофе, и там он увидел свою разгневанную мать, которая к тому времени была уже в возрасте. Она сказала ему: "Вы все говорите о поиске информации, но это все чепуха.
Я лучше вас знаю, в чем состоит проблема, так как у меня совсем не осталось памяти. Единственным в способом для меня найти что-нибудь – это хранить все понемножку во всех местах".
Отец: Да, это и есть проблема данной книги. Но первым шагом на пути от ложных аналитических различий, подобных тем, что представлены картезианским дуализмом, к определенному монизму – это ввести вещи, разделенные в прошлом, в одну беседу и затем установить формальные правила работы с ними – то, что я планировал назвать «синтаксисом сознания».
Дочь: Если бы это была конференция, в которой я бы захотела разобраться, я бы складывала вместе разные кусочки материала, чтобы в результате получить то, что ты называешь «двойным описанием», а затем потихоньку вводила бы соединительные замечания, чтобы читатель мог составить единое представление на определенном уровне.
Отец: Ну, и какие же соединительные замечания ты бы хотела внести?
Дочь: Ну, например, мне кажется, что часть из того, что ты в говоришь (или подразумеваешь) относительно религии, – это то, что в ней обязательно заложены противоречия – парадоксы, – и эти противоречия защищают от определенных видов рационального знания, чтобы сохранить их в состоянии напряжения, так как именно это напряжение позволяет религиозным системам функционировать как моделям Креатуры. Меня всегда поражало то, что ислама находится в спокойствии, в то время как христианская религия корчится в противоречиях, и, возможно, это очень значительное различие. Как быв там ни было, я бы хотела объединить твои замечаниям о матриархальных и патриархальных элементах в греческой религии с табу на транссексуальные знаниям и это все объединить с бисексуальным воспроизводством как способом выработки и ограничения неопределенности. А затем я хотела бы перейти отсюда к понятиям переходящего границы парадокса и добавить хорошую дозу религии дзэн…
Ты помнишь, что когда-то назвал природу сукой, создающей тупиковые ситуации?
Отец: Одним из способов вульгаризации понятия тупиковой ситуации является применение его к любой ситуации, где никак нельзя выиграть. Если ты будешь цитировать это замечание, люди просто подумают о голоде и других природных бедствиях. Здесь надо думать о логических типах.
Дочь: Да, особенно когда мы пытаемся обсуждать отношения между отношениями – бесконечный регресс, о котором ты частенько говорил. Это, должно быть, тот случай, когда насколько ограничено наше мышление по степени продвижения по пути регресса, настолько же ограничены и биологические системы, а уровни просто обрушиваются друг в друга. Если бы ты хотел провести аналогию между мышлением и эволюцией, тебе надо было бы исследовать распространенность всех возможных типов познавательных ошибок в эволюции.
Отец: Я ведь уже говорил: «Нельзя смеяться над богами». Когда что-то неладно с преобразованием частей зародыша во время развития, вы с большой вероятностью получите нежизнеспособный организм или организм, не способный на воспроизводство. А последствиями некоторых эволюционных ошибок является вымирание. Выживает то, что выживает. Когда тавтология перестает действовать в физическом мире, ошибка быстро становится очевидной.
Дочь: Может быть, через несколько миллионов лет. Это всегда беспокоило меня в антропологии: культура – это приспособляющаяся система, так что если общество выживает, мы говорим, что его культура, должно быть, приспособляющаяся, и мы с головой окунаемся в спор о функционализме. Но общество может ведь идти и к вымиранию. Если мы взорвем эту планету или погрузим ее в ядерную зиму, у тебя в аду будет проблема: надо будет определить момент ошибки, и я не думаю, что ты определишь ее местонахождение в момент нажатия кнопки. Может быть, Версаль? Или Декарт? Римская империя? Или сад Эдема?
Отец: Конечно, один из способов трактовки первоначального греха – это рассмотрение его как предрасположенности к совершению определенной эпистемологической ошибки. Римская империя? Протофашизм. Латынь представляется мне чисто милитаристским языком, и я очень хотел бы, чтобы в школах прекратили ее изучение и перешли бы на греческий. Декарт? Конечно.
Дочь: Мне приходится постоянно объяснять, что в твоих сочинениях Декарт олицетворяет набор идей, у которых, возможно, более сложная история, Декарт – это эмблема. Вид прозвища или местоимение которым ты заменяешь «всю эту чушь». И, кроме того, разве ты не знаешь, что в школах этой странны давно уже прекратили изучение как латыни, так греческого?
Отец: Если бы только это. Они прекратили обучение доказательствами в геометрии и бросили преподаватели естественную историю. Видишь ли, нельзя научиться следить за логичностью, пока ты не будешь заниматься общими системами в целом и не почувствуешь, что же такое их целостность. Но целостность можно понять разными способами, И тебе, возможно, они все понадобятся – при рассмотрении древних экосистем в пике их расцвета или при рассмотрении произведения искусства, или рассматривая прочно связанную логическую систему Мои лучшие студенты всегда являются или римскими католиками, или марксистами, потому что изучают то, чему сейчас не учат детей, – то, что логичность – очень важная вещь. И мне очень хотелось бы чтобы обучение строилось вокруг какой-либо религиозной веры с добавлением логики и поэзии, тем чтобы они были знакомы с метафорой. Ах, эти дети!
Дочь: Ну, ладно. Еще что?
Отец: Ты ведь упомянула Версаль. Это очень важно, потому что, когда карательные условия мира заменили четырнадцать пунктов Вильсона в качестве основы завершения первой мировой войны, доверие стало невозможным. Можно соврать в качестве тактического средства во время войны, но когда ложь поднимается по лестнице логических типов и вы лжете о войне и мире, назад пути нет. Мир все еще страдает до сих пор из-за договора в Версале.
Дочь: Гмм, это еще один способ определения момента ошибки, но, возможно, они соединены. Помнишь, как Раппапорт говорил о населении Новой Гвинеи? Между их существованием и мифологией была целая серия связующих звеньев и несколько священных идей, скреплявших данную культуру. Одно из значений этого «священного» – то, что оно дает чувство благоговения.
Отец: И внушает смирение.
Дочь: Однажды в Вартенштайне у нас был разговор на тему: можно ли разработать экологическую религию, которая стала бы священным и несомненным средством понимания взаимосвязей Креатуры.
Отец: Ну и что же я сказал?
Дочь: Ты сказал «нет». С одной стороны, сказал ты, идея «своего» и «чужого», «проклятого» и «спасенного» – чересчур принадлежит понятию религии, чтобы ею можно было бы воспользоваться. Даже если обратить полмира, будет создан раздел между обращенными и необращенными, будет граница между тем, что мусульмане называют царством войны и царством мира (или спасения). Затем эта граница – станет средоточием конфликта и недоверия.
Отец: Нельзя создать что-то и определить его как священное.
Дочь: Итак, Эко не замышлялся как Бог, в которого могли бы верить люди?
Отец: Конечно, нет. Нет, это выражено неверно, потому что «верить» имеет несколько слоев значений. Оно означает и «веру в существование», и «веру в олицетворение точной идеи», и «полагаться и доверять». Я считаю, ты могла бы сказать, что я верю в Эко во втором значении.
Дочь: Ты знаешь, я думаю, что возможно верить во что-то наподобие иудео-христианского Бога в смысле того, что Он представляет или олицетворяет, и также в терминах доверия. Причем не обязательно верить в его отдельное существование.
Отец: Ты говоришь об Иегове? Возможно. Но, скорее, нет, так как идея превосходства слишком близка для Иеговы. Дуализм того, что ты называешь «отдельны» существованием", слишком логично вписывается в систему. Это также касается и дуализма добра и зла Эко не занимается проблемами добра и зла простом уровне, у Эко нет свободы воли. Oн символизирует тот факт, что, скажем, приверженность пагубным привычкам или даже патология является другой стороной приспособления (адаптации);
Дочь: Но ты все-таки продолжаешь разговор о «священном». А как же Гайя? Ты когда-нибудь встречался с гипотезой Гайи, в качестве названия понятия, что эта планета также является живым организмом?
Отец: Да, незадолго до моей смерти. Кто-то познакомив меня с сочинениями Джеймса Лавлока.
Дочь: Ну что ж, я рада слышать, что ты читал что-то современное.
Отец: Он, конечно, прав, что условия на планете можно объяснить только жизненными процессами.
Дочь: Да, но… это не совсем то. Каждый раз, когда я читав лекцию о гипотезе Гайи, я ловлю себя на мысли, что постоянно предупреждаю против опасности рассматривать Гайю как визави. Нельзя сказать: «Я и Гайя» или «Я люблю Гайю», или «Гайя любит меня». Taк же нельзя сказать: «Я люблю Эко» и т.д., не так ли?
Отец: Это разные вещи. Понятие Гайя основано на физической реальности планеты – оно плероматично, вещественно. Когда я прошу людей подумать о боге, которого можно было бы назвать Эко, я пытаюсь заставить их думать о Креатуре, о мыслительном процессе.
Дочь: Слово «процесс» важно в этом случае, не так ли?
Отец: А также тот факт, что взаимосвязи не очень жесткие, и что в знании есть пробелы, и что мыслительный процесс включает способность к формированию новых связей…
Дочь: А Эко – это прозвище для логики мыслительного процесса, связи, которая скрепляет всю жизнь и эволюцию? И его можно оскорблять, но над Ним нельзя смеяться? Тоща его, скорее, можно назвать прекрасным, чем привлекательным.
Отец: Прекрасным и страшным. Шива и Абраксас.
XV. СТРУКТУРА (ГБ)
1. Карта и местность
[Когда мы изучаем биологический мир, мы изучаем многочисленные события коммуникации. В данной коммуникации о коммуникации нас особенно интересует, описание приказов или команд-сигналов, которые, можно, сказать, имеют каузальный (причинно-следственный) эффект; на функционирование биологического мира – и системы посылок, лежащих в основе всех сигналов и делающих их логически последовательными. В модели, на которой основана данная книга, термин «структура» используется для ссылки на ограничения, характеризующие системы и определяющие их функционирование, как, например, настройка термостата. Вы могли бы сказать, что такие понятия, как «неизбежность» или «карма», являются подтверждениями структуры. Отметив, что коммуникативная структура живого мира упорядоченная, всепроникающая и определяющая даже до такой степени, когда о ней можно сказать, что вот что подразумевается под Богом, мы можем идти дальше с целью описание ее закономерностей.]
[Биологи, рассматривающие естественный мир, создают свои описания, так как даже их самые объективные зарегистрированные данные являются артефактами человеческого восприятия и выбора.] Описание не может никогда быть похожим на описываемую вещь – более того, описание не может быть описываемой вещью. Единственной истиной, приближающейся к абсолютному уровню, является истина, которую предоставляет сам предмет, если бы мы только могли так близко к нему подойти, чего, увы, никогда не может произойти, как давным-давно указал Иммануил Кант. Мы можем получить от самой вещи – «вещи в себе» – только такую информацию, которую позволяют нам получить некоторые внутренне присущие ей различия.
Поэтому нам следует для начала взглянуть на системные расхождения, которые обязательно существуют между тем, что мы можем видеть, и тем, что мы собираемся описать. Прежде чем начать рисовать любую карту, нам следует уяснить разницу между «картой» и «местностью» (или «территорией»). При описании мы часто ссылаемся на «структуру» не для того, чтобы точно указать, что должно быть, а чтобы попытаться описать мельчайшие детали того, что мы наблюдаем. Сказать, что растение или лист имеет структуру, означает, что мы можем сделать общие дескриптивные утверждения. Называя что-либо «структурой», мы заявляем, что мы способны на большее, чем сконцентрировать внимание на отдельных деталях поодиночке. Если я говорю, что позвоночник животного является повторяющейся структурой, объединяющей части в спинной хребет («столб»), я, таким образом, подтверждаю определенную закономерность или организацию частей. Я делаю утверждение применительно не к отдельному позвонку, а к совокупности позвонков. Само понятие структуры всегда отходит от бесконечных деталей частного. Само слово структура базируется на понятии общего.
Философ Уайтхед однажды заметил, что, в то время как арифметика является наукой отдельных чисел и операций с ними, алгебра – это наука, возникшая при замене слова «данный» (particular) словом «любой» (any). В этом смысле структура есть алгебра подлежащего описанию предмета или явления, в ней всегда присутствует определенный элемент абстракции. Структура предполагает сбор и сортировку множества деталей, которые затем отбрасываются и их место занимают обобщения.
Важно различать классы от групп в этом контексте. Члены «класса» собираются вместе по принципу какой-то общей для них характерной черты; члены «группы» собираются вместе, так как каждый член является определенного рода модуляцией какого-то другого члена или членов. Существует определенный процесс, или, как говорят математики, «операция», в ходе которой члены группы трансформируются (преобразуются) друг в друга. Теория биологической эволюции была бы значительно улучшена, если бы биологи моделировали свое мышление и язык, используя математику для описания групп. Это заставило бы их разработать какую-то теорию структурной связи, более сложную, чем простое использование «гомологии» в качестве доказательства филогенеза. Конечно, явление гомологии может дать несравненно больше, чем даже мечтали биологи.
Исходя из данного различия между классом и группой, совокупность позвонков в позвоночнике есть класс, поскольку каждый позвонок разделяет определенные черты с другим. Мы можем сказать, что каждый позвонок построен по одному и тому же плану. Но эта совокупность является также и группой в том смысле, что каждый позвонок есть модуляция предшествующего ему в данной последовательности позвонка. Существуют, однако, интересные разрывы непрерывности модуляции между грудным и поясничным позвонками. Кроме того, позвонки связаны таким образом, что все удачно сочетаются и функционируют как часть единого целого.
То, что было сказано об отношениях позвонков, является небольшой частью той большой тайны, которая называется организацией биосферы. Таким образом, когда мы пытаемся заглянуть за слово «структура», мы встречаем фрагменты парадигмы, то, как складывается большая структура.
Есть, однако, и более проблематичный аспект нашего понимания «структуры», который следует подчеркнуть. Когда мы, ученые, используем это слово, оно создает у нас ложное понятие, что более конкретные детали, включенные в данную структуру, являются каким-то образом действительно компонентами этой структуры. То есть мы с легкостью начинаем верить, что способ, которым мы препарировали реальный мир, чтобы выработать его описание, был наилучшим и самым правильным способом препарирования.
Химики могут сказать, что все галогены (ряд элементов, включающий фтор, хлор и т.д.) разделяют определенные и формальные общие черты в модулированной степени и поэтому составляют «группу», и далее, что такие группы элементов можно соединить и получить периодическую таблицу элементов.. Мы можем возразить, что это нереально, что это формальное сходство, а классификация элементов является артефактом, актом химика, а не актом природы.
Но критика такого рода неприемлема в биологии. Если мы как биологи думаем, что мы используем слово «структура», как это могли сделать физик или химик, мы подвергаемся риску чрезмерной коррекции.[Но одновременно мы можем допустить и противоположную ошибку, запросив слишком мало от нашего биологического описания, считая, что, если У элементы вписываются в общую картину, – нам больше ничего и не надо.] Справедливо, конечно, что в чисто физической Вселенной нет названий, а названия у звезд существуют только потому, что их назвал так человек. Даже созвездия существуют только в той степени, в какой их видит на небе человек. Подобным же образом утверждения физиков и химиков о структурах относятся только к структуре, имманентной для их теорий, а не для физического мира. Но совсем не так в биологическом мире. В нем, в мире коммуникации и организации, обмен информацией, сигналами является существенным компонентом происходящего. А наличие спинного мозга определяется в эмбриологии генетическими процессами и сигналами от ДНК и от других у растущих органов. Они зависят от структуры. Они и есть структура. Сигналы в биологии, как и сигналы о биологии, обязательно отличаются от предмета ссылок.
В описании, принадлежащем биологу, всегда будут обращаться к структуре, и такое обращение имеет несколько возможностей как для обнаружения истины, так и совершения ошибки.
1. Структура, определенная биологом, может быть просто неверна. Он может проклассифицировать дельфина вместе с рыбой, физик также может допустить ошибку в классификации элемента.
2. Биолог может объяснить структуру способом, подходящим в качестве основы для прогноза, но должным образом не связанным с системой коммуникации внутри или среди организмов. В этом случае он прав в том смысле, что хороший физик прав. Его описание соответствует наружным данным. Но он может быть неправ в отнесении к описываемой им системе сигналов, соответствующих тем, которые он использует в ее описании. Он может утверждать, что у человека две руки, но будет колебаться, относить ли ему это числительное к языку ДНК.
3. Структура, определяемая биологом, может следовать классификации частей и отношений, используемых ДНК и/или другими биологическими системами управления. Совершенно верно рассматривать структуру как причину хода событий, при обязательном условии, что мы уверены, что наше понимание структуры совпадает и формально идентично с сигнальными системами внутри растения или животного. Совершенно правильно говорить также и об «апикальном преобладании» в схемах роста цветущих растений, если мы уверены, что контролирующие сигналы на самом деле идут от верхушки вниз и влияют на рост ближайших частей. Если биолог обращается к связи или схеме охотнее, чем к числу, он будет, вероятно, более точен, чем биолог, говорящий, что у человека две руки или пять пальцев. В любом случае у него есть возможность оказаться правым в таком смысле, которого никогда не добиться физику. С другой стороны, у него есть возможность оказаться настолько глубоко неправым, насколько неправым никогда не окажется физик.
Нет коммуникации в материале, относящемся к физику. В нем нет ни имен, ни структур в том смысле, в котором я говорил об этом ранее. То, что должен описать физик, есть, к примеру, падение тела, которое не может наблюдать за своим собственным падением. Когда епископ Беркли задает вопрос о дереве, падающем в лесу, когда он отсутствует и не может ни видеть явления, ни описать его, – он физик. В биологии развивающийся эмбрион всегда на месте, он может быть и свидетелем, и критиком собственного развития, чтобы вовремя отдать приказы и проконтролировать пути изменений и реакции.
В физическом мире, каким бы странным это ни показалось, не может быть ни «ошибки», ни «патологии». Последовательности событий, в которых участвуют физические организмы, не организованы, и их поэтому нельзя дезорганизовать. Но в биологии «ошибки» и даже «патология» возможны, так как биологические организмы организованы, а не просто расположены в порядке. Они содержат свои собственные описания и рецепты роста.
4.[Сказать, что описание, сделанное биологом, соответствует собственному описанию организма, – еще не значит сказать полную правду.] Все биологические описания обязательно структурны и должны фальсифицировать и упрощать или обобщать предмет ссылки. Даже сообщения и приказы, циркулирующие внутри живых организмов, являются производными – всегда начало сигналу дает различие или контраст, а сутью морфогенеза или управления поведением является, скорее, изменение, чем состояние. Если такое ограничение всегда ведет к искажению, если совокупность сигналов, сообщающих об изменениях и игнорирующих состояние, является, таким образом, искажающей совокупностью, тогда все биологические совокупности сигналов в этой мере всегда ошибочны. 5.[Описание, составляемое биологом, не идентично тому, что он описывает, даже если он выставляет образец в музее.] Информация идет только об упоминаемых в нем предметах, даже если эти предметы сами используются для кодирования сигнала. Даже когда в ресторане демонстрируется ростбиф на вертеле, чтобы дать понять клиентам, что здесь они могут отведать говядину, жаренную на вертеле, – даже в такой наглядной коммуникации поджариваемая говядина в качестве носителя сигнала не является сама собой. А когда мы посмотрим на более сложные процессы взаимодействия, такие, как внутренняя организация живых организмов, мы увидим, что, в то время, как идущий процесс имманентен «материи», сам процесс обладает закономерностью.
2. К сути вопроса
Давайте еще раз взглянем на закономерности, которые Святой Августин давным-давно назвал Вечными Истинами, и сравним их с используемым нами понятием структуры. Слух современного человека не воспринимает понятия, что любое предположение может претендовать на звание «Вечной Истины». Эти Вечные Истины, обсуждавшиеся нами обзорно в главе II, соответствовали виду предложения «3 и 7 есть 10». Сегодня, как я уже сказал, наш разум отвергает само упоминание о Вечных Истинах и очевидность любых предположений. Сегодня стало модным не доверять всем предположениям, претендующим на то, чтобы называться вечными или очевидными. В это привычном скептицизме мы забываем, что было сказано о природе описания. Ни одно описание не является истинным, как мы уже отмечали, но с другой стороны, очевидно, верно, что описание должно быть несколько отдалено от описываемых вещей.[И, на самом деле, мы отмечаем при рассмотрении процессов коммуникации в мире природы, что данная коммуникация зависит полностью от посылок и связей, доказательства не требующих. Даже ДНК принимает некоторые вопросы как очевидные.]
Истины очень близки к очевидным предположениям, но современный критик назвал бы последние просто деталями, даже вторичного характера, в крупных тавтологических системах. Будет сказано, что «7+3=10» есть один из ограниченного количества подобных мелких кусочков, которые собираются в созданную человеком систему взаимосвязанных предложений под названием арифметика. Эта система является тавтологией, сетью предположений, вытекающих логически из определенных аксиом, чья подлинность не утверждается математиками. Математики утверждают только вытекающие из аксиом предположения при условии принятия аксиом как данное. Из аксиом и определений арифметики следует, что «7+3=10», но так как математики не претендуют на истинность аксиом, они не претендуют на истинность и вытекающих из них предположений. Они даже не претендуют на то, что аксиомы относятся к чему-либо в реальном мире.
Но, на самом деле, проблему вечного и очевидного не полностью удалось избежать из-за этого отказа математиков в отношении аксиом и определений. Я допускаю, что аксиомы и определения – дело рук человеческих и не относятся ни к чему конкретному в материальном мире. Я настаиваю, что мы недостаточно знаем о телесных предметах этого мира, чтобы даже допускать возможность того, что в аксиомах может находиться истина о предметах. Но, в конце концов, цель этой книги не в выявлении истины о вещах, а только истины об истинах, включая естественную историю описательных предложений, информацию, приказы, абстрактные посылки и совокупность этих идей. Прежде всего, я пытаюсь создать естественную историю отношений между идеями. Совершенно несущественно утверждение, математиков, что их тавтологии не утверждают истин относительно предметов, но крайне существенно, когда они утверждают, что шаги и даже последовательности шагов от аксиом к детальным предположениям являются очевидными и, вероятно, вечными и истинными. Хотя я могу и ничего не знать о данной отдельной вещи, я могу знать что-то об отношениях между вещами. В качестве наблюдателя, я нахожусь в положении, не отличающемся от положения математика. Я так же, как и он, ничего не могу | сказать от отдельной вещи – я не могу даже утверждать, что, исходя из опыта, она вообще существует. Я могу знать только что-то об отношениях между вещами. Если я говорю, что стол «твердый», я выхожу за пределы моего опыта. Единственное, что я знаю, это то, что взаимодействие или отношение между столом и органом чувств или инструментом имеет особый характер твердости, для которой в моем словаре нет специального термина, но который я искажаю, относя особый характер отношений полностью к одному из их компонентов. При этом я искажаю то, что я мог бы знать об отношениях, и ввожу эти данные в утверждение о «вещи», которую я знать не В могу. Предметом ссылки всех действительных предположений всегда является отношение между вещами. Интересно, что математики согласны на восприятие идеи о том, что отношения между предположениями могут быть очевидными, но они не желают придавать этот статус самим предположениям. Это можно сравнить с тем, как если бы они претендовали на умение разговаривать, не зная при этом, о чем разговор. Эта позиция полностью параллельна моей. У меня возникают большие трудности при обсуждении крупной мыслительной организации мира и обсуждении ее составных частей, но мне кажется возможным говорить о том, как эта организация мыслит. Мы можем исследовать вид связей, используемых между ее предположениями, не зная, о чем она мыслит.
Связи и формы отношений, которые я хотел бы обсудить, являются закономерными и образуют часть Вечных Истин, включая правила соединения предметов обсуждения вместе с естественной историей того, что же происходит, когда эти предметы объединяются неверно. В мою область исследований я включаю то, что говорит ДНК растущему эмбриону и самому телу. Я включаю то, что структура мозга говорит процессам мышления. Я включаю все рассуждения, связывающие явления любой экосистемы. Правила отношений между отдельными предметами умственной жизни (жизни идей) не являются нерушимыми «законами» природы. Они часто нарушаются.
Но я говорю снова и снова: нельзя смеяться над богами.
3. Между строчек
Вопреки ограничениям логики мы можем позаимствовать у нее то, что результаты расчетов или абстрактных размышлений не являются «вечными» или очевидными. Очевидно только то, что находится между строчек расчетов. Математики называют находящийся в основе образец (структуру) данного расчета – алгоритмом. Попробуем рассмотреть виды предложений, из которых составлены алгоритмы.
Во-первых, имеются определения, которые, как мы решили, являются только предположениями (если…). Затем следуют определения процесса. И, наконец, имеются конкретные данные. Если числа такие-то и такие-то, если сложение определяется так-то и так-то, мы можем взять "5" и "7" и сложить их в соответствии с уже данными определениями. Но за всем этим кроется еще что-то. Процессу требуется больше того, что уже дано, а именно: скрытое между строчек. Он требует отдачи приказов человеку или машине относительно того порядка, в котором шаги (операции) будут проводиться.
Многие взрослые помнят из школьного курса абстрактные утверждения о порядке операций (действий) расчетов, известные под названием распределенного и перестановочного правил. В виде уравнения математики говорят нам, что:
a+b=b+a
и что:
aґx=хґa
Таким образом, в операциях сложения и умножения; порядок членов не важен. Но когда действие сложения сочетается с действием умножения, порядок членов приобретает первостепенное значение:
(а + b) ґс не равно а + (bґ с)
Отметьте для начала, что эти правила не ограничиваются t только математикой. Если вы – повар, вы должны знать, что порядок операций на кухне является существенным компонентом каждого рецепта, если вы – развивающийся эмбрион, все ступеньки развития должны находиться в соответствующей последовательности и должной синхронности.
Другими словами, мы не можем отрицать распределительный и перестановочный законы как простые побочные продукты человеческой тавтологии. Там, где есть цель и/или рост и/или эволюция, там будут применяться «законы» последовательности или их подобие. Они не будут похожи на «законы» физики, где не бывает исключений, не будут они похожи и на «законы» юристов, где нарушение закона ведет к наказанию. «Законы» последовательности шагов в аргументе (или команд-шагов в поварском искусстве и эмбриологии) могут быть нарушены (и нарушаются часто), и за их нарушением не следует наказание или отмщение человеком или Богом. Тем не менее результат последовательности будет зависеть от последовательности шагов (операций), и, если последовательность выстроена неверно или какие-то операции пропущены, результат будет другим, вплоть до бедственных последствий.
Рассказывают, что Сократ задался целью доказать, что все образование – это только дело выуживания из необразованного ума того, что он уже знает. Чтобы это показать, Сократ позвал маленького несчастного мальчика с улицы и задал ему длинную серию вопросов, но в такой последовательности, что последовательность ответов мальчика явилась доказательством знаменитой теоремы Пифагора о том, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов прямоугольного треугольника. Пройдя через весь этот ритуал и получив желаемое от ребенка, Сократ сказал: «Вот видите, он знал это все время!»
Но все это чушь: то, чего не знал мальчик и что обеспечил Сократ, – было ответом на вопрос: на какой вопрос мне сейчас отвечать? Если бы ребенка поставили перед необходимостью доказать теорему Пифагора, ребенок остался бы безмолвен, не зная порядка шагов по построению теоремы.
Таким же образом и эмбрион должен, прежде всего, знать порядок шагов для эпигенеза. В дополнение к инструкциям ДНК необходимы приказы в отношении последовательности шагов по своему развитию. Эмбриону необходимо знать алгоритм своего развития.
Здесь мне хотелось бы подытожить то, что было сказано до сих пор в этой главе и в главе XIII о понятии «структура» при рассмотрении с разных точек зрения. Я высказал предположение, чтобы структура мыслилась как что-то наподобие Вечных Истин Августина, или как законы, перестановочный или распределительный, в математической логике, или как алгоритмы, являющиеся рецептами последовательностей при расчетах. Их следует сравнить с понятиями порядка в природных событиях и в человеческой жизни, такими, как понятие «неизбежность», которое, как считалось, управляло переплетением жизни людей, богов и городов-государств. Каждый из этих подходов был попыткой нащупать описание самых больших умственно или экологически организованных систем, которые мы можем или представить (или вообразить) или воспринять, – попыткой определения чего-то, имеющего свойства того, что люди называют Богом. Ничего, однако, не было сказано о персонификации Бога или человека как индивидуума. Говоря об индивидуумах, я предлагаю здесь только, чтобы мы помнили о том, что они являются подсистемами большого целого, отвечая каждый по отдельности критериям того, что мы называем «разумным».
Подытоживая, мы можем выделить следующие упомянутые до сих пор пункты:
1. «Структура» является информационной идеей и поэтому пронизывает всю биологию в широком смысле слова, от организации внутри вируса до явления, изучаемого антропологами.
2. В биологии многие закономерности являются частью своего собственного существенного признака. Данная рекурсивность близка к основам понятия «структура». Сообщение о закономерности, как я полагаю, не вводится обратно в атом для управления его действиями на следующем этапе.
3. Информация или приказ, которые я называю «структурой», всегда находятся на одной стадии удаления от предмета ссылки. Это название, например, какой-то характерной черты, внутренне присущей предмету ссылки, или, что более точно, это название или описание какого-то отношения, внутренне присущего предмету ссылки.
4. Человеческие языки – особенно западные – придают излишнее значение Отдельным Вещам. Ударение делается не на «отношения между», а на результат отношений. Это ударение затрудняет осмысление того факта, что слово «структура» резервируется для обсуждения отношений (ни в коем случае нельзя употреблять множественное число – «структуры»).
5. В той же степени, в какой имя не есть поименованный; предмет, а карта никогда не является территорией, «структура» никогда не является истинной.
(Существует рассказ о том, как в поезде к Пикассо обратился незнакомец с вопросом: «Почему Вы никогда не изображаете предметы такими, какими они являются в реальности?» Пикассо ответил, что не совсем понимает, что имеет в виду джентльмен, и тогда тот достал из бумажника фотографию своей жены. «Вот это я имею в виду, – сказал он. – Вот какая у меня жена». Пикассо смущенно кашлянул и сказал: «Да, но она ведь несколько мала и плоская к тому же, не так ли?»)
«Структура» – всегда несколько сплюснутая, абстрагированная версия «истины», но структура – это все, что мы можем знать. Карта никогда не является территорией, но иногда полезно обсудить, в чем карта отличается от гипотетической территории. Это самое близкое расстояние, на которое мы можем подойти к невыразимому.
6. Ясно, что структура – это определяющий фактор. Структура часто рассматривается как что-то вроде Бога – обожествляя Иегову с его заповедями. Но это предполагает дуализм – раскол между структурой и большей реальностью, которой внутренне присуща данная структура. Структура не существует отдельно. Тенденция к представлению дуалистической Вселенной легко корректируется, если мы вспомним, что зачастую именно мы создаем понятие структуры в нашем синтезе описаний из данных, проникающих к нам через фильтры наших органов чувств. В таких случаях мы можем напомнить себе, что структура, проецируемая нами на «внешний» мир, является просто побочным продуктом нашего восприятия и мышления. Труднее добиться коррекции эпистемологического дуализма, когда мы исследуем биологические организмы, так как они – птицы, рыбы, люди и развивающиеся эмбрионы – создают свои собственные предпосылки и руководствуются ими в физиологическом развитии.
Научному уму трудно ясно представить общую эпистемологическую истину: что десять заповедей, правила морфогенеза и эмбриологии, посылки грамматики в общении у животных и у людей – все они представляют собой часть огромного мыслительного процесса, который является внутренне присущим нашему миру и таким же реальным и нереальным, как силлогистическая логика.
4. Пропуски в структуре
Выделив «структуру» из текущего организованного потока жизни Вселенной, следует теперь попытаться добиться синтеза – вернуть «структуру» на место. Давайте рассмотрим, как наша система описаний, отчетов, сообщений и приказов вписывается в мир, облеченный плотью и событиями.
Во-первых, она полна прорех. Если мы попытаемся наложить на жизнь наши описания этой жизни – или если мы попытаемся задуматься о каком-то покрытии организма его собственной системой сигналов (или системами), – мы сразу же увидим, что описаний не хватает. Но, какое бы количество структуры мы ни добавляли, как бы тщательно ни разрабатывали спецификации, пропуски есть всегда.
Даже не рассматривая живую материю нашего структурного сообщения и высушивая только то, что может быть сказано, мы чувствуем промежутки между описательными предложениями. Стихотворение Роберта Саути «Битва при Бленгейме» описывает ребенка, смотрящего на найденный им предмет: … такой большой, и гладкий, и круглый… – говорит Вильгельмина.
Позднее мы узнаем, что ребенок ведет речь о черепе солдата, убитого в бою («это была великая победа»), но знание это получено в результате перескакивания от одного суждения к другому. Мы должны знать, что означает «большой» для малыша, играющего в поле. В качестве слушателей нам приходится перескакивать от размера к качеству поверхности, а от качества поверхности – к форме, следуя за образцом рассуждений, предложенным автором-поэтом. Но по сравнению с реальностью описание представляет только малозначительные наброски. У нас действительно очень неполное знание и о черепе, и о ребенке, и это не вина поэта, который дал нам так мало в качестве исходного пункта. Это неизбежный результат сути коммуникативного процесса. Имеющиеся данные никогда полностью не покроют объект описания.
Искусство – это хитроумное использование того, что уже известно слушателю – что уже находится в его черепе, – чтобы слушатель мог дополнить детали. Конечно, ребенок был блондином! Конечно, череп был абсолютно чист!
Необходимым условием всей коммуникации является заранее подготовленное состояние получателя каждого сигнала. Эта книга ничего вам не даст, если вы не будете знать девять десятых ее заранее.
Как бы там ни было, что справедливо в отношении рассказов и слов между людьми, – также справедливо в отношении внутренней организации живых организмов. То, что может быть выражено ДНК или гормонами и веществами, контролирующими рост, совершенно не перекрывает события эмбриологии, анатомии и физиологии организма. Развивающиеся ткани должны знать аподозисы, соответствующие реакции на протазисы, обеспеченные ДНК (и окружающей средой). В результате покрытие будет неполным. По этой причине растения и животные строятся по образцам и повторам в отношении формы и реакции. Избыточность является экономичным способом заставить ограниченное количество структурной информации покрыть сложный предмет. Все знают (или должны знать), что нельзя научиться танцевать посредством чтения книг. Следует также иметь фактический опыт танцев, который остается неописанным в книге. Именно практика позволяет сложить вместе кусочки руководства по обучению, чтобы сформировать навыки. По сути, все описание, вся информация таковы, что касаются только нескольких черт подлежащего описанию вещества. Остальное остается непокрытым, незатронутым. Например, конституция США оставляет неупомянутым почти все.
Попробуйте описать листок или, еще лучше, попробуйте определить различие между двумя листками одного и того же растения или между второй и третьей «ногами» одного отдельно взятого краба. Вы обнаружите, что то, что вы должны выделить, находится везде в листке или в ноге краба.
«Структура» и «описание» никогда не покрывают полностью реальность. «Вещь в себе» – сама вещь – всегда содержит бесконечное количество деталей. Что касается ноги краба или листочка, только небольшая часть деталей управляется генетикой или особенностями роста. Но если вы попытаетесь решить данную выше задачу, но с двумя листочками или двумя ногами краба, вы обнаружите кое-что об отношениях между структурой (или описанием) и действительностью. Сразу же обнаружатся несколько разновидностей пропусков (промежутков), которые всегда и обязательно остаются непокрытыми описанием:
1. Существуют пропуски детали между деталями. Какой бы мелкоячеистой ни была бы наша сеть описания, мелкие детали всегда ускользают от него. И это не потому, что мы ленивы или небрежны, а потому, что в принципе механизм описания знаковый и прерывный, в то время как переменные внутренне присущие подлежащему описанию предмету, являются моделируемыми и непрерывными. Если, с другой стороны, метод описания идет как моделируемый, мы сталкиваемся с обстоятельством, что никакая величина не в состоянии точно представить любую другую величину, – всегда, в любом случае любое измерение – приблизительно.
2. Существуют пропуски между видами описания, не обязательно присутствующие в списываемом предмете. «Большой», «гладкий» и «круглый» являются отдельными суждениями, причем – нестыкующимися. Сплошная масса природы разбивается на куски «переменных» в акте описания.
3. Подобная прерывность появляется в иерархии описательных утверждений. С целью экономии ДНК (то, что описывает) неизбежно касается деталей группами. Кривизна будет сведена к какой-то математической форме. Бесконечно малые величины какой-либо формы будут в сжатом виде даны в уравнении. Тогда, успешно описав данную группу деталей, мы неизбежно предпримем следующий шаг в обобщении, подытоживая отношения между группами.
Все вышеприведенное дает что-то вроде топологической картинки проблем описания любого живого организма. Доказательство имеет свою структуру, а организм, который мы пытаемся описать, также имеет свою «структуру» – делая ссылку в обоих случаях на взаимосвязанную совокупность сигналов. Но данные сигналы (как и вся структура и описание) не могут покрыть все, что надо определить или описать. Другими словами, существуют все вышеприведенные виды промежутков. Наша диаграмма всей системы должна, таким образом, (а это и есть топологический аспект проблемы) быть таковой, что, если мы делаем ее сечение, мы пересечем по очереди точки формулирования и структуры, а также области промежутков. Это будет касаться всех случаев вне зависимости от размера ячеек сети структуры.[Эти различные виды промежутков являются характерной чертой Креатуры, биологической организации и описания, о чем мы уже говорили. Проблемы описания в Плероме совершенно другие. Там мы можем использовать понятие «структура», только чтобы указать информационную суть нашего описания. В мире постоянного изменения нет промежутков в том смысле, в котором мы употребляем здесь это понятие. Температура в доме (глава IV) постоянно изменяется…]
Прежде чем двигаться дальше, мне бы хотелось сделать предупреждение тем, кто сейчас противоборствует с подобными проблемами и будет заниматься ими и впредь: трудность и запутанность этого вопроса возникает из следующих обстоятельств:
1. «Данные» ученого, изучающего биологические явления, создаются им самим. Они являются описаниями описаний, формами форм (форма структура).
2. В то же самое время сигналы, описания, приказы и формы (называйте их, как хотите) уже существуют и внутренне присущи данному биологическому явлению.
3. Все формы, описания и т.д., включая внутренне присущие организмам, подобны языкам. Они являются прерывными и искажающими.
4. Формы абсолютно необходимы, если мы хотим понять как свободы, так и ограничения живых систем. Они относятся ко всему процессу, как ось к колесу. Ограничивая движение и не допуская его в других плоскостях, ось позволяет колесу плавно двигаться в избранной плоскости.
XVI. ПЕРВОЗДАННАЯ ЧИСТОТА РАЗУМА И ОПЫТ (ГБ И МКБ)
В данной главе мы рассмотрим характерные черты того, что появляется на стыках между мыслительными подсистемами. Для начала в качестве основного примера я покажу стык между старым и молодым. Этот стык мы сравним I с другими, особенно с иногда трагическим стыком, который антропологи называют культурным контактом, и со стыком, также трагическим, встречающимся при соприкосновении Человека с природными экосистемами.
Давайте начнем с двух хорошо известных шуточных стихотворений, иллюстрирующих в сжатом виде явление умственного контекста:
Сказал паренек в разговоре со мной:
Теперь я знаю, кто я такой.
Я – существо, движущееся
По заданному пути в рай.
Я даже не автобус.
Я – трамвай".
На это есть ответ:
Сказал старик в разговоре со мной:
"Я должен решить, кто я такой —
Хороший или плохой.
Судьба мне велела
В борьбе за правое дело
Идти прямехонько в рай …
О Боже, я ведь автобус, а не трамвай".
Эта пара стихов была, вне сомнения, написана, чтобы подчеркнуть иллюзорный характер свободы воли. Я только внес небольшое изменение, чтобы показать, что «автобус» старее – возможно, опытнее, – чем «трамвай».
Если перейти от узкого к более широкому детерминизму, вы останетесь в якобы детерминированной Вселенной, но теперь можно отойти от контекста, в котором вы находитесь, и увидеть этот контекст. В этом месте и следует решать, кто вы такой: хороший или плохой. Не все для вас жестко ограничено. Вы становитесь больше похожим на «автобус», чем на «трамвай». Но все-таки у вас сохраняется иллюзия, что, если только вам удастся достичь следующей стадии свободы, у вас воистину будет свобода воли. Свободу всегда ожидают за очередным поворотом. Мы продолжаем упорно заниматься исследованиями и размышлениями о всех видах проблем, как будто однажды мы сможем добраться до мысли, которая нас всех освободит.
Смысл приведенных шуточных стихотворений заключен не в каждом из них в отдельности, а в их противопоставлении. Наивность «трамвая», думающего, что он был бы свободен, если бы не рельсы, проявляется в разочаровании «автобуса», открывающего для себя ограничения и новый груз ответственности на более высокой стадии. «Свобода» и «ответственность» являются взаимодополняющей парой, такой, что увеличение первого члена пары всегда приводит к увеличению второго.
Поверхностный контраст между «автобусом» и «трамваем» и фундаментальный детерменизм, который встает между обоими, соединяются и дают нам притчу об отношениях между молодостью и старостью, а также служат примером широко распространенной характерной черты многих стыков между мыслительными системами.
В молодости мы испытываем более жесткий гнет, ограниченный как со стороны общества, так и знаний, как что делать. Приближаясь к старости, мы ощущаем ослабление ограничений. Это вроде бы дает нам большую свободу, но на самом деле возлагает на нас большую ответственность за выбор.
Я обсуждаю не абстрактный философский мир «свободы воли» и «детерминизма», а необходимый компонент в живой естественной истории каждого организма. Вот что означает быть мыслящим существом, и этот парадокс является существенным компонентом человеческой жизни.
Мы видим друг друга всегда в искаженном свете. В глазах «трамвая» «автобус» выглядит «свободным». В глазах же «автобуса» первозданная чистота разума, невинность «трамвая» благословлена свободой. Тот же контраст присутствует почти во всех иерархиях и пирамидах власти, в которых сочетается большое количество подсистем. Я был назначен членом правления Калифорнийского университета – одним из двадцати пяти человек, входящих в правление этого огромного финансового и педагогического концерна, насчитывающего 100 тысяч студентов в девяти колледжах. Каждый человек – внутри и вне этого заведения – считает регентов могущественными людьми, как по отдельности, так и вместе. Предположим, что они могут и действительно определяют события в этом огромном университете. Но на самом деле они больше осознают недостаток власти, чем студенты. Я лично обладал большим влиянием на процессы образования в качестве старшего лектора, чем в качестве члена правления. Тогда я мог влиять на студентов непосредственно в классах. Я мог вкладывать в их головы странные идеи в моих аудиториях с тем, чтобы они впоследствии задавали странные вопросы в других. Они могли сказать другим преподавателям: «Но Бейтсон говорит то-то и то-то». В качестве члена правления я чувствовал себя крайне расстроенным из-за сведения моей деятельности к количественным вопросам вместо идей. Сколько студентов нам следует принять? Какую плату за обучение назначить? Как осовременить пенсионную систему? В качестве члена правления я утратил большую часть свободы в формулировании вопросов. Таким же образом, я уверен, чувствует свое сходство с «автобусом» президент США. Его власть, его возможность вводить новации практически полностью отрицаются его обязанностью, долгом блюсти установленный «порядок».
Президенты-идеалисты и президенты-радикалы, должно быть, плачут по прибытии в Белый дом, обнаруживая, сколь незначительна их власть. И все же люди стремятся быть президентами, монархами и премьер-министрами. Они стремятся к тому, что называется «властью». Странным образом иллюзия власти является побочным продуктом или функцией искажения восприятия, которая заставляет «трамвай» завидовать «автобусу». Каждый нижестоящий человек думает, что каждый более высоко стоящий более свободен от рельс, от заданного пути. Амбиция и зависть являются общими побочными продуктами большого класса стыков между человеческими мыслительными подсистемами.
Нам приходится исследовать механизм иллюзии – то, как с уважением невинность взирает на опыт и как с завистью опыт взирает на невинность.
Подобное же состояние дел характерно и для отношений между полами. Мой старый профессор антропологии в Кембридже, Альфред Хаддон, обычно заканчивал курс лекций по физической антропологии каждый год одной и той же шуткой. Он выносил на кафедру два черепа: мужской и женский и указывал на контраст между ними (тяжелые надбровья у мужского черепа, легкая гладкость структуры и незавершенность швов – у женского). Затем он заключал:
«Вот видите, мужской череп напоминает антропоида, а женский – младенца. Что предпочитаете вы?»
Иллюзии, иллюзии… Один пол завидует другому и, возможно, даже восхищается им. Пусть у нас всегда остаются эти иллюзии!..
Ну что ж, значит нет выхода? Нельзя избежать этих скрытых тенденций умственной жизни? Являются ли иллюзии, характеризующие отношения между старостью и молодостью, характерными для всех подобных стыков? Каков механизм их распространения? Могут ли быть приведены в качестве доказательства исключения?
Существует много видов ситуаций, в которых люди достигли или сохранили определенную степень свободы от иллюзий, сопровождающих иерархическое превосходство.
Первый класс исключений связан с неизбежной смертью. В шотландском языке есть слово fey (обреченный на смерть). Это слово того же корня, что и фатум (судьба), и относится к возвышенному состоянию, в котором многие ранее непризнанные истины становятся очевидными, так что в фольклоре обреченный на смерть человек наделяется сверхъестественной мудростью. Здесь у нас очень точный термин для состояния ума, вызванного абсолютной вероятностью смерти. Когда смерть близка, становится возможным очень ясное видение происходящего. Если бы все были на пороге смерти, зависти больше не было бы.
Если вернуться к притче об автобусе и трамвае, нам придется вспомнить, что оба эти вида транспорта (и соответствующие им представители рода человеческого) считают, что они куда-то движутся. Они полностью привязаны к значению «Эго» и, исходя именно из этого, создают иллюзии свободы и/или детерминизма. Мы можем сказать, что автобус на один шаг ближе к свободе, но это ничего не означает. Можно быть или свободным, или несвободным, промежуточных стадий не бывает.
Рассмотрение отношений между идеями цели и идеями свободы приближает нас к истине. В двух случаях я был близок к смерти при хирургическом вмешательстве, и в обоих случаях операции оказались неудачными, но пациент выжил. Я благодарен за этот опыт. В результате его любовь стала более земной, ее стало легче передавать, и в то же время появилось чувство одиночества, подобное тому, с каким человек, взобравшийся на вершину горы, оглядывает все вокруг.
Состояние это длилось в течение недель или месяцев и медленно уступало чувствам озабоченности и привязанности к делам повседневной жизни.
Очевидно, состояние обреченного на смерть может прийти в любом возрасте, но старость – это приближение, подход к смерти, и я считаю, что различия в степени обреченности являются компонентом барьера между старостью и молодостью. Не просто старость больше похожа на автобус, а молодость на трамвай, но старость начинает медленно обнаруживать, что проблема свободы воли не существенна.
Мне выпало счастье увидеть другую систему, где люди были частично свободны от дилеммы автобуса и трамвая. Это было на острове Бали, где я работал в течение двух лет вместе с Маргарет Мед, на которой тогда был женат. Западные понятия цели и продолжительности затемнены в мышлении обитателей острова, и даже слова для этих понятий позаимствованы совсем недавно. В ответ на вопрос цели: «Почему ты делаешь так-то и так-то?» обитатель Бали обычно ответит общепринятой вежливой формулой или в календарных терминах: «Потому что это Аиггара – Касих».
Другими словами, то состояние ума, которое вынудило «трамвай» и «автобус» жаловаться на недостаток свободы отсутствует или слабо развито среди обитателей Бали. Отсюда естественно спросить, являются ли балийцы «fey» в смысле хронического ожидания смерти. Ответ на этот вопрос, однако, не прост. Смерть и ритуалы смерти – постоянная и заметная черта жизни на Бали. Их кремация пользуется известностью. Покойников несут на площадку для кремации в башнях высотой примерно в сотню футов. Несет башню большая толпа мужчин, которые постоянно кричат, находясь под бамбуковой решеткой, на которой установлена башня. Они проходят по всей деревне, затем через ручей, а у ручья происходят бешеные игры с грязью, все плещутся и смеются. В каждой такой похоронной толпе находятся один два человека, являющиеся «сапта» – «свободными от отвращения». Эти люди частично пользуются восхищением в качестве источника развлечения, но частично их презирают за то, что они устраивают спектакль (аджум-аджуман) из своего необычного умения. Они могут схватить руку или ногу покойного, откручивая ее от загнивающего трупа, или один из них может приложиться лицом к брюшной полости покойника.
Эта грубая игра является обычным правильным поведением, так отличающимся от демонстрации горя и уважения к покойникам, которые условности требуют от жителей Запада. Но можно сомневаться, является ли условное, поведение во время похорон выражением «чувств» участников как у жителей Бали, так и у нас. В горной деревушке Баджонг Гид мы были свидетелями похорон жены человека, который был сразу глух и нем. В этом случае недавно лишившийся жены муж горько плакал, а его многочисленные друзья просили прощения у окружающих за его бесстыдное проявление горя, говоря, что из-за его физических недостатков он не знает, как себя правильно вести.
В итоге становится ясным, что общепринятое отношение жителей Бали к смерти очень отличается от нашего и некоторым образом напоминает состояние «fey». Оказывается, что «счастье» жителей Бали в присутствии смерти (так они называют свое поведение) не простое. Возможно, что они подавляют выражение горя так же, как мы подавляем импульсивные желания мерзкого поведения.
Я подозреваю, что совершенно не случайно индуистская богиня смерти обладает на Бали не только ее индуистскими именами Дурга и Кали, а также определениями, сопровождающими эти имена. Она здесь также Рангда, королева колдуний, сама будучи колдуньей типа Медузы, с лицом чудовища и способностью парализовать всех, кто осмелится к ней приблизиться.
Колдуньи, вероятно, во всем мире, напоминают состояние «fey» и проявляют враждебность, которую это состояние может вызвать. Колдунья традиционно функционирует на грани логики, заставляя контекст выглядеть отличным от того, на что надеялись обычные люди. Она создает контекстуальные головоломки, постоянно ведущие к тупиковым ситуациям;
довольно интересно, что традиционным европейским испытанием и/или наказанием колдуний было погружение в воду, ужасная тупиковая ситуация, создающая симметрию между преступлением и наказанием. Подозреваемую привязывали к концу шеста и погружали в воду. Если она тонула – это доказывало невиновность, но… Если же она всплывала – вина считалась доказанной, и жертву сжигали.
Является ли преступление колдовства особенно типичным для старух, я не знаю, но таков стереотип в европейском фольклоре и сказках. Жители Бали в танцах и драме очарованы не достигшими совершеннолетия девочками, исполняющими партию Рангды, но ведь Рангда – это древняя старуха. В терминах индуизма она больше Кали-Дурга, чем Парвати, но внутри каждой прекрасной маленькой Парвати скрыта Кали-Дурга. И наоборот, в каждой старой карге скрыта Парвати.
Колдунья, «сапта», мистик, шизофреник, дурак, пророк, фокусник и поэт – все они варианты «автобуса». Они все разделяют частичную свободу, что приводит их в противоречие с миром условностей.
Давным-давно, в 1949 году, когда психиатры все еще верили в лоботомию, я был новым сотрудником психбольницы в Пало Альто. Однажды один из сотрудников повел меня в самую большую аудиторию взглянуть на доску. Чуть раньше этим же днем там проводилось заседание по проблемам лоботомии, и с доски еще не были стерты записи.
Это было, конечно, лет тридцать назад, и ничего подобного не могло бы произойти сегодня, но в те дни совещания по проблемам лоботомии были крупным социальным событием. Все, кто имел хоть какое-нибудь отношение к делу, появлялись на встрече: врачи, сестры, общественные деятели, психологи и т.д. Всего присутствовало около тридцати – сорока человек, включая пятерых из Комитета по лоботомии во главе с их председателем, известным психиатром из другой больницы.
Когда были представлены все тесты и доклады, ввели пациента для беседы с приезжей знаменитостью.
Знаменитость дала пациенту кусочек мела и сказала:
«Нарисуйте фигуру человека». Пациент послушно направился к доске и написал: «Нарисуйте фигуру человека».
Знаменитость сказала: «Не пишите. Рисуйте». И снова пациент записал: «Не пишите. Рисуйте».
Знаменитость сказала: «Ну, все. Я сдаюсь». На этот раз пациент пересмотрел определение контекста, который он уже использовал для подтверждения определенной степени свободы, и написал крупными заглавными буквами поперек всей доски: ПОБЕДА.
Я считаю, что по мере подъема по лестнице умудренности от молодости к старости, от невинности к опыту или от одного логического типа к другому мы обязательно встретимся со сложностями, представленными мистиком, шизофреником и поэтом. Структура разума, уродства и красоты, частью которой мы все (живые существа) являемся, построена так, что все, описанное мною, должно случиться при соответствующих условиях.
Дело не только в том, что автобус должен выбирать между ;
хорошим и плохим, дело и в том, что при встрече с трамваем, автобус будет завидовать его невинности, а трамвай – опыту и псевдосвободе, которую дает опыт.
Мир мышления отличен и разделен большим количеством стыков на большое количество подсистем, и поэтому, чтобы его функционирование было возможным, мы должны продвигаться постепенно, шаг за шагом. Мир мышления намного больше нас самих, но у нас есть различные «приемы», дающие нам возможность охватить что-то из его огромности и деталей. Из этих приемов наиболее известными являются индукция, обобщение и абдукция. Мы собираем информацию о деталях, мы подгоняем обрывки информации друг к другу,, чтобы получить общую картину или конфигурации, мы обобщаем их в структурных утверждениях. Затем мы сравниваем полученные конфигурации, чтобы показать, как их можно классифицировать в качестве подпадающих под одинаковые или близкие друг другу правила. Именно последний шаг я называю абдукцией (abduction) – это и есть тот клей, который скрепляет всю науку (и всю религию?).
Во всем этом мы сами подтверждаем примером необходимые характеристики структуры разума, частью которой мы являемся. Именно эту сеть, эту структуру данная книга пытается исследовать. Кроме того, мы должны помнить о барьерах, которые следует поддерживать, если структура ума должна стать богаче и сложнее, стремясь в своем развитии к экологическому пику, полустабильной системе максимальной дифференциации, сложности, изящества. Мы ищем контрасты, которые развиваются или отличаются по мере увеличения сложности.
Мы также ищем примеры патологии, как ключ к пониманию условий нормального функционирования большой сети, ищем явления стыков, где участвующие подсистемы значительно уменьшаются. В качестве примера можно привести колдунью и помещенного в соответствующее заведение шизофреника. Эти примеры являются показателем неудачи системы и заставляют и систему, и индивидуума искать лучшие пути. Более серьезными являются те случаи, в которых на протяжении веков целые подсистемы (общества или экосистемы) медленно вырождаются в результате взаимодействия и стыков.
Это (почти всегда) случаи, в которых количество вытесняет качество – приемы, из-за которых старость перестает понимать молодость, а отцы города выбирают, на чем же основывать всю их систему: на «автобусах» или «трамваях», не понимая ни того, ни другого. Занятия экономикой и оценкой расходов – решат все!
Из всех воображаемых организмов (драконов, богов, демонов, морских чудовищ и т.д.) самый скучный и тупой – это человек, для которого экономика – это все! Он туп, так как его мыслительные процессы решаются в терминах количества. Его эволюцию лучше всего понять, учитывая коммуникативные проблемы человеческого культурного контекста.
Всегда следует достигать взаимного понимания на стыке между двумя цивилизациями. В случае двух сильно отличающихся друг от друга систем, разделяющих минимум s общих посылок, установление общих точек соприкосновения для коммуникации не легко и будет еще труднее по мере того, как люди во всех культурах склонны поверить, что их ценности «истинны» и «естественны». Их предпочтение собственной культурной системы необходимо и универсально. Однако существует широко распространенное мнение, что больше по количеству больше, чем не так много, а больше по размеру больше (и, возможно, лучше), чем не такой большой предмет.
Таким образом, дилеммы, порожденные культурным контактом, часто решаются концентрацией внимания на этой общей посылке, по которой легче всего прийти к согласию, так что встреча цивилизаций превращается в вопрос торговли и возможность получения прибыли или приобретения власти, причем считается, что доминирование одной цивилизации над другой является неизбежным результатом. Если мы взглянем на трагедии, происходящие на стыках между двумя человеческими культурами, совершенно не удивительно, что подобные трагедии происходят на стыке между человеческими обществами и экосистемами, что ведет к медленному вырождению. Посылки таких встреч имели тенденцию к упрощению, пронизывая интерпретацию сигналов, формируя наблюдение. Предпосылки, которые привели к конфликту между поселенцами и американскими индейцами были те же, что и приведшие к уничтожению прерий, и те же, что сегодня угрожают формирующим дожди лесам Южной Америки и их обитателям.
Альтернативой было бы изменение наших взглядов, что повело бы к признанию сложностей и интеграции обеих сторон любого стыка. Мы сами низводим себя до положения человека, т для которого экономика – это все, и мы низвели леса и озера до статуса выгодного потенциального состояния, в какое мы привели прерии (теперь это пустыня), или шизофреника, которого мы поставили ниже любого человека благодаря психохирургии.
[Что потребуется, чтобы реагировать на стыки более сложным образом? По меньшей мере, такое видение, которое подтвердило бы нашу собственную сложность и системную сложность других и предложило бы возможность составления из нас вместе единой системы с общей сетью (структурой) разума и элементами таинственного. Такое восприятие себя и других является утверждением священного.
То, как мы действуем, как уравновешиваем сложности свободы и ответственности, зависит от того, какой ответ мы даем на древнюю загадку: «Что есть человек?» Загадка Сфинкса, приведенная нами в главе XIII, является одним из многих вариантов этой загадки. В ней спрашивается: «Что это такое – сначала ходит на четырех ногах, потом на двух, а в конце на трех?» Она представляет вопрос в контексте стыков, которые всегда существуют в человеческом обществе между детством и старостью. Что это такое: иногда автобус, иногда – трамвай, но никогда полностью не свободный? И что это такое, движущееся сквозь большие и более сложные мыслительные системы, включенные в столкновения с большим количеством других мыслительных подсистем, каждая из которых предлагает определенную возможность целостности. Мы имеем дело со столкновениями между умами. В этом контексте такие вопросы, как загадку Сфинкса, следует формулировать двусторонне, как это сделал Уоррен Маккулох в своем варианте вопроса из псалма: «Каким должен быть человек, чтобы узнать тело, и каким должно быть тело, чтобы человек мог его познать?»]
Что такое, по нашему мнению, человек? Что означает быть человеком? Что это за другие системы, с которыми мы встречаемся, и как они соотносятся друг с другом?
Наряду с загадкой мне хотелось бы предложить вам идеал – возможно, не полностью достижимый, но, по крайней мере, являющийся мечтой, к которой мы можем попытаться приблизиться. Идеал состоит в том, чтобы наши технологии, наши медицинские и сельскохозяйственные операции, наше социальное устройство каким-то образом соответствовали бы наилучшим ответам, которые мы могли бы дать на загадку Сфинкса. Как вы видите, я не полагаю, что действие или слово является само по себе достаточным определением. Я считаю, что действие или ярлык, приклеенный к опыту, должны всегда быть видимы и рассматриваемы в контексте. А контекст каждого действия является цельной структурой эпистемологии и состоянием всех включенных в нее систем, обязательно с предысторией. Какими мы видим себя – с той точки зрения мы должны рассматривать и мир вокруг нас.
Отметьте, что предлагаемый мною идеал близок к религиозной надежде или идеалу. Мы не уйдем далеко, если не признаем, что вся наука и технология, как и медицина от Гиппократа до наших дней, исходят из религии. Все врачи религиозны двояко: обязательно воспринимая какую-то систему этики и обязательно придерживаясь какой-то теории отношений в системе «разум-тело». Чтобы достичь предложенного идеала, мы должны быть последовательными. Но это, увы, крайне трудно и, вероятно, невозможно.
Именно загадке Сфинкса я посвятил пятьдесят лет профессиональной деятельности в качестве антрополога.
Первостепенную важность я придаю тому, чтобы наш ответ на загадку Сфинкса соответствовал развитию нашей цивилизации и фактическому функционированию живых организмов (систем). Главная трудность состоит в том, что ответ на загадку Сфинкса является частично продуктом ответов, уже данных нами. Курт Воннегут дает следующий совет: нам следует очень я осторожно притворяться, так как мы становимся постепенно т похожи на предмет притворства. Это происходит во всех организациях и человеческих культурах. Люди определяют понятие «гуманности», затем, исходя из этого понятия, строят социальную структуру, затем эта структура изучается, становится частью личности участников. Мы должны быть вдвойне осторожны в своих предположениях о тех людях, с кем мы имеем дело. Мы уже создали нацию сутяг путем создания мира, в котором боль и ущерб имеют денежное выражение и где абсолютно небезопасно находиться без защиты страховки, без вооружения…
Более того, наши варианты ответов на загадку Сфинкса находятся сегодня в неустойчивом, колеблющемся состоянии. Наши верования претерпевают изменения со скоростью, с которой подобные изменения происходили в Древней Греции, скажем, между 600 и 500 годами до нашей эры или в ее начале. Наш мир очень странный и волнующий. В нем ставятся под вопрос сами предпосылки языка. Какой язык у сердца? Или у правого полушария? Латынь или английский? Или санскрит? Это проза, поэзия? И т.д.
Под вопросом стоит старая тема отношений между «телом» и «разумом» – центральная тема великих религий мира.
Старые веры сходят постепенно на нет. Человек находится в поиске новых. И дело не в принадлежности к христианству, мусульманству, буддизму или иудаизму. Мы знаем совсем немного о направлении изменений, но ничего о месте их завершения. Мы постоянно должны помнить и признавать, что мы живем в мире столпотворения идей, в котором следует найти духовное отдохновение и прибежище.
Я полагаю, что американское конституционное требование религиозной «свободы» вытекает именно отсюда. Под «свободой» отцы-основатели имели в виду возможность почитать Бога в различных формах. Эволюция, революция и религия должны были сосуществовать. Вопреки религиозной свободе важным считалось быть верующим. Я считаю ошибкой запрет религиозного обучения в государственных школах[14].
Но давайте вернемся непосредственно к загадке Сфинкса. Я предложил вам две точки зрения, определяющие ответ на нее. Первое – это то, что «природа человека» самоутверждающая. Второе – то, что все мы живем сейчас в начале нового решения проблемы «тело-разум».
Я утверждаю, что сегодня у нас достаточно знаний, чтобы ожидать унитарности от нового понимания и что концептуальный раздел между «разумом» и «материей» будет рассматриваться как побочный продукт недостаточного холизма. Когда мы слишком сосредоточиваем внимание на частностях, нам не удается увидеть нужные характерные черты целого. И тогда мы склонны приписывать явления, возникающие благодаря целостности, сверхъестественным причинам.
«Холистический» – это слово очень популярно сегодня, встречается наиболее часто в словосочетаниях наподобие «холистическая медицина», подразумевая множество взглядов и их реализацию от гомеопатии до акупунктуры, от гипноза до психоделизма, от индуизма до дзэн…
Люди возлагали большие надежды на холистические решения в течение долгого времени. Слово это (Смэтс) восходит к 1920 году и определяется как «тенденция в природе производить целое из упорядоченной группы единиц».
Системное мышление, позволяющее дать четкое, формальное и несверхъестественное значение слову, восходит к XIX веку. Именно там мы находим первые разработки этого понятия о целом и о формальных отношениях между информацией и организацией, включая Клода Бернарда, Кларка Максвелла, Рассела Уоллеса и доктора Эндрю Стиля.
Стиль был основателем остеопатической медицины. В конце XIX века он пришел к мысли, что патологии тела могли возникать из-за нарушения того, что мы сегодня называем коммуникацией, что внутренняя физиологическая организация тела может быть делом передачи сигналов и что спинной мозг является той «расчетной палатой», через которую должны проходить все сигналы. Он утверждал, что вылечить любую патологию можно, проводя соответствующие процедуры над спинным мозгом. Он несколько спятил, как и все люди, которые опережают свое время лет на сто. Он поверил, что его идеи относятся не только к тому, что действительно связано со спинным мозгом, но что подобные теории можно применить к бактериологии и т.д. Все это очень повредило ему, но он был одним из первых холистов именно в том смысле, в котором я хотел бы применить это слово.
Сегодня, конечно, идея патологии как нарушения внутренней экологии тела приобрела довольно большую известность. Даже в случаях, когда патология вызвана «физическими причинами» (переломы), мы начинаем связывать воедино перелом и реакцию на него.
Следующим этапом будет предсказание того, что в течение ближайших двадцати лет такое мышление будет характерно для «человека с улицы» и станет основой для правдоподобия, преобладающего в обществе.
Старое правдоподобие потихоньку исчезает, а новое создается, причем очень быстро. Мы учимся иметь дело с мировой тенденцией создавать целое из отдельных величии, соединенных коммуникацией. Именно это и делает тело живым организмом, функционирующим так, как будто оно обладает разумом, что и соответствует действительности.
Мне хотелось бы выдвинуть предположение, что слово; «холистический» приобрело почти совершенно новое и намного более точное значение со времен второй мировой войны и что это новое и более точное значение придает нам надежду на глубокий, коренной пересмотр западной культуры. Становится ясно, что загадочные явления, которые мы ассоциируем с «разумом», должны взаимодействовать с определенными характеристиками систем, которые довольно поздно попали под рассмотрение науки. Они включают:
– характеристики кольцевой саморегулирующейся системы;
– сочетание таких систем с обработкой информации;
– способность живых организмов накапливать энергию, так что изменение в каком-либо органе чувств может дать начало испусканию накопленной энергии. Есть еще несколько вопросов, которые помогают утверждению новых способов мышления о цели, адаптации, патологии и, короче говоря, жизни. Они исследуются кибернетикой, теорией информации, теорией систем и т.д. Но в данном случае я хотел бы привлечь внимание к сегодняшнему состоянию – к тому, что по мере разрушения привычных способов мышления о разуме и жизни, новые способы мышления в отношении данных вопросов становятся доступными – не только философам в башнях из слоновой кости, но и практикам и даже «человеку с улицы».
В историческом плане новые разработки, ставшие заметными во второй мировой войне и в последующий период, почти полностью изменили все, что мы говорим и думаем о мыслительном процессе и о системе «разум-тело», как общем, самокорректирующем, самоуничтожающемся единстве.
Кибернетика в широком смысле является, насколько я знаю, единственным серьезным началом мышления в целом.
Если мы подойдем к явлениям разума с этими новыми инструментами, тогда генетика и общий детерминизм формы и роста – то, что определяет симметрию высшего лица (глаза по обе стороны носа), все, что направляется сигналами от ДНК, – может быть признано как часть мыслительной организации тела. Часть холизма.
Если же мы поставим двойной вопрос: «Каким должен быть человек, чтобы он мог определить болезнь, или разрушение, или уродство?» и «Какими должны быть болезнь, разрушение, уродство, чтобы человек мог познать их?», новые способы мышления представляют ответ в виде утверждения, что саморекурсивная коммуникативная система может осознавать нарушение своей собственной функции. Это может быть как боль, так и другие виды осознания. Она может также осознавать гармонию своих функций, и это осознание может стать основой для благоговения и осознания прекрасного в большей системе.
И наконец, следует определить отрасли знаний, занимающиеся новыми способами мышления. Это возвращает нас к понятию ответственности. Это то слово, которое я обычно не употребляю. Но позвольте мне употребить его здесь со всей серьезностью. Как нам растолковать ответственность всех тех, кто имеет дело с живыми системами? У всех есть ответственность перед мечтой, ответственность как индивидуальная, так и коллективная.
И опять мы встаем перед новым вариантом уже упоминавшейся загадки: каким должен быть человек, чтобы познать и взаимодействовать с живыми системами, и какими должны быть эти системы, чтобы их можно было познать? Ответы на эту загадку должны быть взяты из математики, естественной истории, эстетики, а также из радости жизни и любви – то есть из всего, что помогает сформулировать эту мечту.
Я напоминал вам ранее, что человеку свойственно изучать не только детали, но и глубоко содержательные философии, чтобы стать тем по форме и сути, каким хочет видеть его наша культура. Мифы, среди которых протекает наша жизнь, приобретают достоверность в той мере, в какой они становятся частью нас самих. В таких мифах не сомневаются, они глубоко входят в нас, зачастую неосознанно, то есть это вопросы веры.
Именно перед этими мифами все наши ученые, политики и учителя должны чувствовать ответственность. Доктора, адвокаты и представители прессы разделяют ответственность перед динамичными мифами – ответами, которые они дают на загадку Сфинкса.
XVII. ИТАК, ЗАЧЕМ НУЖНА МЕТАФОРА? (МКБ)
Эта книга заставила меня избегать вечеров с коктейлями, таких социальных мероприятий, когда дружелюбные незнакомцы, узнав, что я провожу время весной за работой над книгой, спрашивали бы меня о ее содержании. Сначала я бы рассказала им о задумке этой книга, о задаче завершения работы, которую из-за смерти не успел закончить мой отец. Но они продолжали бы спрашивать, о чем все-таки эта книга? «Ну, – колебалась бы я, – это философская книга». Пауза.
«Видите ли, – говорила бы я, – Грегори выработал ряд идей о природе мыслительного процесса, идей, взятых из кибернетики, которая, по его мнению, формировала основу нового понимания эпистемологии живых систем. Он, конечно, не считал задачу завершенной и был убежден, что если бы это новое понимание разделялось многими людьми, люди действовали бы совершенно по-другому в отношении вопросов экологического баланса, а также войны и мира. Он также полагал, что развитие такой чувствительности к природным системам имеет отношение к эстетике и „священному“».
Фу, я должна вздохнуть после такого длинного заявления, ибо я сказала слишком много и слишком быстро. Нельзя на вечере коктейлей сказать, что книга, над которой ты работаешь, «обо всем». Ни больше, ни меньше. И неизбежно затуманиваются глаза, когда в одном и том же предложении встречаются слова типа эпистемология, эстетика и кибернетика. К сложности задумки Грегори я добавила еще одну тему к книге (в дополнение ко «всему»). Изучая книгу-рукопись, чтобы понять направление, в котором двигался Грегори, решая, добавлять или убирать тот или иной материал для большей ясности, я старалась так построить эту книгу, чтобы показать, как мыслил Грегори. Эта книга о мыслительном процессе и о процессе мышления. Поисковая работа Грегори очевидна во многих вопросах, но, возможно, именно это побудит читателя самому вникнуть в эти вопросы и разрабатывать их дальше, используя доступные сегодня средства и информацию.
Мыслительный пейзаж, в котором работал Грегори, для большинства из нас чужд, как если бы мы исследовали совершенно чужую культуру или другой вид. Мне приходилось сознательно делать корректировку сложившихся мнений, и это стало основой в признании знания как артефакта: знание обязательно зависит от заранее составленных мнений, которые следует иногда проверять или изменять.
Странно, конечно, после всех лет, в течение которых считалось, что Грегори отошел от антропологии и занялся другими областями знаний, что его работа признана имеющей отношение к основным антропологическим вопросам. Антропологи часто пытаются войти в какой-то степени в концептуальный мир другой культуры. Те, кто изучает этнографию, каждый раз, когда они читают о чужом обществе, выучивают несколько слов экзотического языка, так как они нужны для выражения понятий, не существующих в западном мышлении. Некоторые из этих слов вошли и в наши языки (например, табу). Часто приводится объяснение целой системы: пантеон богов, календарь и т.д. На острове Бали, к примеру, указания о маршруте следования даются, исходя из движения к священной горе посредине острова или к морю. Нельзя передать способ концептуализации жителями Бали географии, не обращаясь как к физической форме их мира, так и к его метафизике. Исследователь, движущийся между горой и берегом моря вместе с жителями Бали, войдет и в мир их мышления.
Большинство антропологов находят необходимым практиковать более одного способа мышления и наблюдения. С одной стороны, они пользуются инструментами объективной записи и измерений. С другой стороны, выслушивают с полной серьезностью рассказы о волшебстве, колдовстве и богах… А между этими двумя крайностями уделяют внимание объяснениям обычной жизни, в которых другие виды символических элементов даются в виде причин: деньги, честь, коммунистическая угроза, гостеприимство, сексуальная привлекательность.
Полностью разделить их нельзя, потому что как бы ясно ни было этнографу, что туберкулез «реален», а колдовство «нереально», и то, и другое включены в причинность наблюдаемых образцов поведения. Не уделяя внимания обоим, вы не сможете активно действовать или дать объяснение увиденному. Таким же образом не может успешно лечить врач, если он имеет дело с пациентом только в рамках тех переменных, которые могут быть выделены в лаборатории. Итак, на самом деле в человеческих действиях и взаимодействиях «реальным» может оказаться как раз колдовство, а не туберкулез. Идея лечения при помощи успокаивающих средств может быть эффективной против идеи симптома, и боль, которую мы испытываем, также является идеей, видом мысленного образа.
Вот эта мысль и пронизывает работу Грегори. Да, в движении между созданным человеком значением и физической реальностью имеется глубокая необходимость для каждого антрополога мыслить в терминах того, что Грегори называл стыком между Креатурой и Плеромой, где встречаются умственное и материальное.
Но вопрос еще более фундаментален. Потому что Грегори утверждает, что та же самая проблема существует во всем биологическом мире. Этнограф изучает общество, которое живет посредством коммуникации: без передачи изученных образцов адаптации люди не смогут выжить. Мы, как этнографы, изучаем сигналы, коды и организационные формы, которые скрепляют общество и регулируют его повседневную жизнь. При этом мы должны двигаться от одной частной эпистемологии к другой. Но все они человеческие, все – часть Креатуры. Если мы будем изучать только реальности, доступные, скажем, физикам и биохимикам, картина будет неполной. Грегори считает, что все наши описания организмов или взаимодействующих групп организмов должны включать характеристики их сигнальных систем, то есть он предполагает, что для понимания организмов, их следует понять, в первую очередь, этнографически.
Классическими стратегиями науки являются анализ, при котором мы разбиваем сложное целое на более доступные для изучения части, и преобразование, при котором сложные процессы типа жизнь мы выражаем в терминах более простых процессов (скажем, на молекулярном уровне). Но у этих стратегий имеются ограничения. Хотя физическая реальность профессора химии может быть полностью подвергнута лабораторному анализу. Это изучение профессора как части Плеромы не может определить, разумен он или глуп, честен или бесчестен, и вообще, что это такое быть человеком или профессором. Только в Креатуре, только когда его рассматривают в контексте его коммуникации и связей, мотивированных абстрактными целями и амбициями, только тогда можно его познать. Поэтому нам нужна наука о Креатуре. Мы беспокоимся в антропологии о разнице между тем, что воспринимает этнограф, и тем, что воспринимают туземцы, о том, насколько хорошо и полно наше описание соответствует их реальностям. В контексте науки мы также озабочены и тем, будут ли наши описания обладать способностью предсказаний, прогнозов. Конечно, нет, если мы не определим причины, а они обычно абстрактны. Иногда биолог задается вопросом, что же воспринимает кошка, птица, лягушка или даже пчела, но очень редко такой же вопрос задается о растении, о луге или отдельной клетке развивающегося эмбриона, хотя все они живые системы. В каждом из этих случаев важно знать, какая информация доступна и как она закодирована, чтобы выявить приказы, определяющие очередной шаг в росте или поведении.
Такой подход к эпистемологии требует от нас изучения наших описаний и собственной природы как обработчиков информации. Антропология часто рассматривается как путь к самопознанию, так же, как и путь к пониманию страшного и незнакомого. Особенно важным становится учет языка – этой системы кодирования и коммуникации, которая выделяет человеческий вид из других видов. В языке мы имеем чрезвычайно гибкую коммуникативную систему в дополнение к обладанию коммуникативными средствами и средствами восприятия, имеющимися у других млекоплетающих: хромосомными, гормональными, неврологическими и т.д.
Мы также осознаем чрезвычайно большую долю нашей собственной деятельности по обработке информации. В языке «карты», с которыми мы работаем, не соответствуют «территории». Мы не просто вынуждены иметь дело с идеями кокосовых пальм вместо действительных кокосовых пальм. Мы можем сидеть на тропическом острове и представлять дубы, сочинять о них истории, шутить о них и т.д. Человеческий язык, увы, подобен деньгам: он частенько гибок и неподвижен, что может и обмануть.
Отсюда неудивительно, что великая человеческая изобретательность постаралась найти способы обуздать этот взрыв, начиная от инквизиции и кончая детектором лжи. Человеческая коммуникация не является сплошной структурой или тканью. Наоборот, существуют различные типы общения, каждый с возможностью своего вида отношения к Плероме.
В некрасивом неологизме «плероматизировать» заключена ирония. Хотя язык может быть только продуктом Креатуры, он оформлен, особенно в науке, для описания Плеромы, для того, чтобы подвести нас ближе к материальной реальности. Иногда точности угрожает старание добиться объективности, и общественные науки находятся постоянно в опасности: их может исказить (физическая) научность.
Грегори снова и снова возвращается к различиям между тем, как срабатывает (или должна срабатывать) коммуникация в Креатуре, и тем, как мы стараемся ее исказить. Самое важное различие, считает он, – это то, что язык опирается на существительные, то есть идет ссылка на предметы, в то время как биологическая коммуникация касается образцов и связей. Итак, спрашивает он, как определяет человеческую руку генетика? Выделяет ли она пять пальцев (пять предметов) или четыре связи между пальцами? Даже акула со своими разнообразными адаптационными программами, вероятно, обладает информацией об отношении к океану.
Если справедливо, что в Плероме существуют вещи, предметы, тогда существительные (предметами не являющиеся) – это полезное изобретение, чтобы размышлять о предметах, но в данном случае мы изобрели способность к лжеовеществлению. В Креатуре нет предметов – только идеи, образы, пучки абстрактных связей, но удобства ради мы любую доступную идею (правду, Бога) трактуем, как будто она в виде предмета. Следовало бы сказать, что семантика, соответствующая Креатуре, должна состоять из связей и отношений.
Задав вопрос о семантике Креатуры, резонным было бы задать такой же вопрос и о синтаксисе. Грегори противопоставляет общее предпочтение биологической коммуникации метафоре – развитию человеком системы, организованной вокруг существительных, поставленных в связь «подлежащее-сказуемое». В метафоре два сложных предложения до некоторой степени уравниваются:
подтверждение находится в противопоставлении. В языке возможно разделить подлежащее и сказуемое внутри данного предложения, так что утверждение находится в предикации. Другой способ, по которому внутренняя структура лингвистических последовательностей находится в параллельной связи с внешними событиями, состоит в логическом аргументе, так как логика разработана таким образом, чтобы позволить моделирование линейных причинных цепочек. В другом месте Грегори подчеркивает отрицание как характеристику, присущую именно человеческому языку, которое часто заменяется в коммуникации между организациями другим видом противопоставления или комбинированием логических уровней. (Собака не может сказать: «Я не нападу на тебя». Она может, однако, использовать поведение, сигнализирующее о намерении напасть в контексте противоречащих сигналов, чередуя агрессивное и униженно-ласковое поведение, таким образом достигая следующего результата в виде сигнала: «Это игра, не надо бояться».) Логические типы важны во всей Креатуре, но путаница логических типов также играет свою роль в синтаксисе.
И, наконец, по сравнению со всеми остальными видами коммуникации, человеческая языковая коммуникация выделяет сигналы, чья главная функция состоит в отчете о состоянии какого-то предмета.
Человеческий язык, таким образом, очень далек от любого другого биологического способа коммуникации и более удобен для разговора о Плероме. Плероматизировали ли мы язык? Или создали гибрид, не применимый нигде? Интересно, что Креатура способна делать сообщение о Плероме и делать неверные сообщения о Креатуре, то есть о себе.
Так как вся Креатура находится внутри Плеромы, язык последней будет очень точным – у меня действительно есть пять пальцев, на уровне скелета моя рука состоит из отдельных предметов в пучках по пять штук, и эти материальные объекты можно подсчитать, взвесить, измерить и химически проанализировать. Но никакой вид подобной деятельности не будет яркой иллюстрацией, если мы захотим ответить на другой ряд вопросов – что же означает «иметь руку», как организм производит ее в ходе эпигенеза, в чем рука напоминает ступню или лапу. Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужна семантика, соответствующая Креатуре, которая должна состоять из различий, и соответствующий Креатуре синтаксис, который должен, по крайней мере, быть чувствительным к метафоре и логическим типам. Мы должны обладать синтаксисом, если хотим комбинировать идеи новыми способами в процессе, подобном дедукции, так как это позволяет создать новые системы. В качестве ученого Грегори хотел разработать способы обсуждения Креатуры, требующие точности, ясности и дедукции.
Основные компоненты мышления Грегори начали объединяться в единую систему: кибернетика и логические типы, семантика Коржибского и усилия раннего психоанализа по описанию бессознательного – все это соединяется в начале грамматики Креатуры. Такая грамматика в конце концов сделает возможным взглянуть на организмы и луга по-новому. Грегори хочет, чтобы мы могли разговаривать как ученые (ученые Креатуры!), например, об эстетике, потому что он считает многое из того, что идет под этой рубрикой сегодня, совершенно не соответствующим должному уровню общения. А он считает, что это вопрос первостепенной важности, так как все организмы, а не только критики-искусствоведы и философы, все время опираются на эстетику.
Центральной в усилиях по описанию Креатуры является проблема описания, состоящего из множества частей, но тем не менее унифицированного с такой логической организацией, которая моделирует сложность живых систем. В живых системах происходит множество событий, а тем не менее целое остается целым. Вот почему важно видеть, что каждый термин метафоры многогранен – имеет собственную внутреннюю сложность. Если «весь мир – театр», это не вопрос идентичности частей театра и частей мира, а вопрос эквивалентности отношений между частями метафизической структуры и тем, что моделируется ею.
Грегори уделял особое внимание одному виду расширенной метафоры – притче (или рассказу).
Из всех доступных, имеющихся в нашем распоряжении метафор, центральной является собственное "Я". Изучение "Я" помогает понять других людей намного лучше.
В связи с этим необходимо также сказать, что для большинства людей на протяжении всей истории структурой, соединявшей их индивидуальную жизнь в сложную закономерность мира, в котором они жили, была религия – расширенная метафора.
Иногда религия охраняет, защищает коммуникативную связь, необходимую для понимания Креатуры, функционируя в качестве своеобразной терапии при определенных отклонениях и патологических изменениях в коммуникации, обычно возникающих у людей.
Интересно, что религиозные метафоры в большинстве своем полны парадоксов.
Грегори считал, что искусство, как и религия представляет тот участок опыта, который характерен для способа мышления на уровне Креатуры. Произведение искусства является результатом мыслительного процесса, как раковина или человеческое тело.
Каждое произведение искусства зависит от сложности внутренних отношений – «много мыслей ушло на создание розы». Эстетическое единство очень близко понятиям системной целостности и холистического восприятия. А оценка произведения искусства является узнаванием, возможно, опять-таки узнаванием самого себя.
XVIII. МЕТАЛОГ: ПОСТОЯННАЯ ТЕНЬ (МКБ)
Отец: Все работаешь?
Дочь: А ты? Ты как будто все время находишься в тени, но работа идет. Так ты умер или нет?
Отец: Я всегда говорил, что цивилизацию ждет беда, если мы не сможем принять факта нашего умирания. Наше бессмертие в наших идеях, мыслях. Вот почему я оставил тебе тяжелую задачу завершить эту книгу.
Дочь: Да, это совсем не легкая и не очень приятная задача. Другая работа ведь у меня не идет.
Отец: Ты помнишь, я рассказывал тебе о человеке в Эзалене, который в состоянии транса писал картины под Моне?
Дочь: Да, конечно. У моей подруги есть в доме комната, где обычно останавливалась Маргарита. Людям, которые в ней живут, часто снится она, как будто она приходит и велит им продолжать работу, закончить исследования, возложить на себя ответственность.
Отец: Ты когда-нибудь спала там? Дочь: Да, но я думала о другом, и она мне не являлась.
Отец: Никуда не денешься от подсознательного. Мне никогда полностью не удавалось войти в контакт с тенью моего отца, но все-таки и то немногое, чего я добился, помогло мне переосмыслить суть эволюции.
Дочь: Твой отец открыл, что если у жука оказывалась дополнительная лженога, это означало, что вместо одной ноги у него было две – правая и левая, «правило Бейтсона». Ты же пришел к выводу, что это вовсе не дополнение очередной ступени двусторонней симметрии, а потеря, потеря на определенной стадии эпигенеза информации, необходимой для определения симметрии (право-лево) в инструкции о том, как выращивать ногу в данной конкретной ситуации. И это привело тебя к мыслям о Креатуре – биологическом мире как мире информации.
Отец: Послушай, Кэп, я вроде никогда не рассказывал тебе о…
Дочь: Нет, но лучше не надо. С меня и так хватает загадок. Однажды у меня было видение «ангела» – как обнаженной мужской фигуры, вся в лучах света. Вот и освети мне, пожалуйста, те вопросы, которыми я занимаюсь: укажи мне на симметрию в одних местах, на асимметрию в других…
Отец: Видишь ли, мы стараемся в конце концов выработать тавтологию.
Дочь: То есть все будет выглядеть как простое «если Р, то P»
Отец: Это и есть основные идеи, вероятно, математические по форме, но требующие, чтобы их открыли. И не только их, но и связи между ними.
Дочь: Иногда передо мной возникает образ Евклида, не того, который, вероятно, существовал, а мифического Евклида. Один из его учеников подходит к нему и говорит очень гордо: «Я вывел три новые теоремы». И затем эти теоремы великолепно вписываются в единое целое, так как они не новы, они внутренне присущи аксиомам. Вот как все это развивается.
Отец: Вот именно, что тавтология – то и не развивается. В Е теоремах нет ничего нового. Они представляют собой просто старые аксиомы и определения, но только перегруппированные. Теорема Пифагора вся исходит из аксиом. Существенное требование тавтологии состоит в том, что связи между предложениями – пусты, то есть не содержат информации о предмете речи.
Дочь: А я говорю, что развивается.
Отец: Да нет же! Весь смысл в том, что аксиомы не развиваются!
Дочь: Ладно, ладно. Только не кричи на меня. Итак, аксиомы не развиваются. Но в этом смысле и семя не развивается. Оно только взрывается, как ты это называешь, а его ДНК состоит из команд или «приказов», которые указывают эмбриону, саженцу и т.д., как расти. Разве не то же происходит с тавтологией? Где аксиомы указывают тавтологии, как развиваться?
Отец: Ну да. В этом смысле – конечно. Семечко не добавляет ничего нового по мере роста или не так уж много…
Дочь: Итак, я начинаю думать о себе как о садовнике. Садовнике с системой подготовки текстов. Ты знаешь, в чем твоя проблема? Ты можешь не верить в существование приведений, но ты веришь в существование идей.
Отец: Есть еще одна проблема у «Ангелов…», проблема неверного использования идей. Посмотри, что делают семейные врачи, как они осуществляют «парадоксальное вмешательство», чтобы изменить людей или целые семьи, или подсчитывают тупиковые ситуации. Их нельзя подсчитать.
Дочь: Знаю. Потому что тупиковые ситуации имеют дело с общей контекстуальной структурой, так что данный конкретный пример тупиковой ситуации, который можно заметить во время терапевтического обследования, – это только верхушка айсберга, а «под водой» остается вся жизнь семьи. Но людям не запретишь подсчитывать и рассчитывать тупиковые ситуации. Разбивка целостного процесса на части характерна для человеческого восприятия.
Ладно, ты помнишь, как ты всегда спрашивал у аудитории: посмотрите на свои руки – сколько у вас пальцев? Возможно, что у вас не пять пальцев, а четыре отношения между пальцами?
Отец: А потом я предлагал подумать об отношениях собственности в части идей, связей.
Дочь: Ты знаешь, я считаю, что происходит тот же самый процесс, что приводит к появлению жуков с лишними членами, то есть теряется какая-то информация, существенная часть идеи. Вот мы вместо того, чтобы ругать тех, кто хочет разработать свой эпигенез при отсутствии части связей и существенных идей, и должны попытаться определить, что же отсутствует. Может быть, «Ангелы…» помогут нам и им в этом.
Отец: Когда ты начинаешь говорить о том, чтобы стать полезной людям, ты очень напоминаешь свою мать. Ладно, иди работай, а я отдохну. Здесь, в царстве теней хорошая овсянка, ну а кофе – просто ужасен.