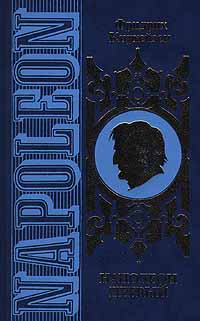
Фридрих Кирхейзен
Наполеон Первый. Его жизнь и его время
ПРЕДИСЛОВИЕ
Автор книги, первый том которой предлагается теперь вниманию русского читателя, швейцарский ученый Фридрих Кирхейзен, давно уже составил себе имя среди специалистов как автор превосходной свободной библиографии о Наполеоне (1-e изд. 1902 г., 2-е, сильно дополненное, 1908). Как увидит читатель из его собственных вступительных слов, он всю жизнь посвятил собиранию и изучению материалов для своей работы, и теперь приступил к ней во всеоружии. В настоящее время в Европе немного специалистов, которые могли бы тягаться с Кирхейзеном в знании литературы о Наполеоне и его времени: итальянец Лумброзо, автор более ранней библиографии о наполеоновской эпохе (1897) и редактор “Revue Napoléonienne”, француз Э. Дрио, который с прошлого года стал издавать “Revue des études Napoléoniennes”, Артур Шюке, профессор в Нанси Паризе. Ни один из них, однако, не решился предпринять составление общего труда о Наполеоне и его времени, хотя каждый из них дал множество специальных этюдов по различным вопросам, касающимся истории консульства, Империи и личной биографии Наполеона.
Кирхейзен не остановился перед колоссальными трудностями задачи, и у нас все основания ждать, что он сумеет их преодолеть.
Таким образом, последняя общая работа о Наполеоне будет опять написана не французом, так же как две предшествовавшие. Лучшие монографии о Наполеоне, несомненно, принадлежат французам. Достаточно назвать имена Сореля, Вандаля, Уссе, Масона, тех же Дрио, Шюке и Паризе. Но до появления книги Кирхейзена лучшими общими трудами были книги англичанина и немца: Дж. Голландца Роза и Fournier.[1]
Теперь появляется еще один общий труд нефранцуза; Кирхейзен, как уже упомянуто, швейцарец. Нет ничего удивительного в таком именно распределении работы между французами и нефранцузами. После того как Тьер дал классическую для своего времени “Историю консульства и империи”, французы охотнее занимаются собиранием материалов и исследованиями по отдельным вопросам. Они не хотели конкурировать с художественно законченной книгой Тьера, которая много читается и сейчас, несмотря на устарелость и существенные научные недочеты. Кроме того, быть может, французский историк чувствует, что он не может внести в общую работу о Наполеоне необходимого беспристрастия. Положение иностранца в этом отношении лучше. Им легче сохранить беспристрастие.[2]
Особенно благоприятно поставлен в этом отношении швейцарец. Если какая-нибудь европейская страна может быть свободна от чувства признательности или ненависти к Наполеону, так это – Швейцария. Швейцарский ученый может говорить о Наполеоне без итальянской восторженности, без прусской ненависти, без английской сконфуженности. Судя по первому тому, Кирхейзен сумеет до известной степени сохранить это драгоценное, столь необходимое историку и столь редкое качество. В общем, он, конечно, поклонник Наполеона. Иначе и a priori трудно было бы объяснить, что человек целую жизнь посвятил работе над его биографией и историей его времени. Но преклонение перед гением Наполеона, по-видимому, не будет мешать Кирхейзену выносить правильные суждения о нем в тех случаях, когда эти суждения должны быть отрицательными. Sine ira, но не совсем sine studio. Не будет холодного бесстрастия, замораживающего изложение, но будет известный объективизм, охраняющий от чрезмерных восторгов и не позволяющий превращать научные объяснения в ненаучные оправдания или порицания.
Не в этом, конечно, будет наиболее сильная сторона книги Кирхейзена, а в материале. Семь лет, отделяющих ее от ее предшественницы, двухтомной работы Роза, были временем усиленного публикования материалов и усиленной монографической разработки. Поэтому у Кирхейзена будет много нового. С другой стороны, пока Кирхейзен доведет книгу до конца (он рассчитывает кончить ее в восьми или десяти томах), пройдет тоже но меньшей мере семь лет, по истечении которых интерес в Наполеоне неминуемо пойдет на убыль, ибо кончатся все юбилейные даты. Не будут уже печататься с такой быстротой ни материалы, ни монографии. Другими словами, работа Кирхейзена обещает после своего окончания надолго сделаться самой полной и наиболее свежей историей Наполеона и его времени.
Что касается плана и метода, то книга Кирхейзена, опять-таки насколько можно судить по первому тому, должна удовлетворить строгим научным требованиям. Задача поставлена широко: “Наполеон, его жизнь и его время”. Вернее, в книге две самостоятельных задачи: биография Наполеона и история Франции и Европы в его время. Каждая из них представляет большие трудности. Их гармоническое сочетание в одной книге требует большого научного такта и большого литературного таланта. Первый том, где не выступают еще самые большие трудности, не возбуждает недоразумений. Самостоятельные главы о Директории трактованы удачно, не перегружены материалом, лишенным прямой связи с биографией Наполеона, изложены живо и ярко. Трудно сказать, что будет дальше. Одно во всяком случае несомненно: биографический материал будет обработан лучше, чем общеисторический. Думать так заставляет как характер подготовки Кирхейзена, так и заметное уже в первом томе отсутствие живого интереса к явлениям социально-экономического порядка. Правда, Кирхейзена едва ли можно упрекнуть в том, что он не понимает значения социально-экономического фактора. Но он не останавливается на явлениях этой категории с тем увлечением, как на явлениях политических и особенно бытовых. Быт занимает очень большое место в книге: типичная черта писателя, хорошо изучившего мемуарную литературу. И эта ее особенность делает ее очень доступной даже читателю, сравнительно мало подготовленному.
Подводя итоги, можно сказать, что новая работа Кирхейзена должна быть весьма ценным дополнением к существующей литературе о Наполеоне и его времени. Тем с большим интересом нужно ждать появления дальнейших томов оригинала.
А. Дживилегов
25 августа 1912 г.
Москва
ВВЕДЕНИЕ
“Сколько ни вычеркивать, ни выпускать и ни искажать, – после того, что я сделал, теня трудно стереть с лица земли, – писал Наполеон в “Mémorial de Sainte-Hélène”. “Историк всегда будет вынужден упомянуть об Империи. И, если в груди его бьется сердце, он все-таки воздаст мне хоть долю справедливости. Задача его будет легка. Подвиги говорят сами, они сияют, как солнце!”
“Я закрыл анархистскую бездну, распутал хаос. Я смыл кровь с революции, облагородил народы и укрепил на тронах монархов. Я возбудил всеобщее соревнование, наградил все заслуги и расширил границы славы. Все это уже нечто! И можно ли меня упрекнуть в чем-либо, в чем историк не сумел бы меня защитить?”
Многие пытались уже с большим или меньшим успехом изобразить жизнь Наполеона. Они старались показать, что для возвеличения и управления Франции и для придания гнилой Европе жизненных сил и твердой точки опоры он не мог действовать иначе, чем действовал. Его деспотизм и диктатура его были необходимы для того, чтобы положить предел анархии и беспорядкам, подтачивавшим благосостояние страны и народа. Без своего безграничного честолюбия Наполеон никогда не свершил бы своих великих подвигов и, быть может, он был не так уж не прав, когда говорил: “Тут историку придется, может быть, пожалеть, что это честолюбие не было удовлетворено вполне, до конца”.
Полная критическая история Наполеона еще не написана.
Я поставил себе задачей изобразить историю Наполеона в теснейшей связи с историей Европы и Соединенных Штатов Северной Америки его эпохи, то есть от тринадцатого вандемьера и года (пятого октября тысяча семьсот девяносто пятого года), от того дня, когда Бонапарт вмешался в политические события Франции, до второго отречения императора Франции (двадцать второго июня тысяча восемьсот пятнадцатого года). Жизнеописание героя, являющееся центральным пунктом моего труда, рассчитанного на восемь – двенадцать томов, будет прослежено с самых истоков его вплоть до смерти Наполеона на пустынном скалистом острове Святой Елены. В задачу историка входит не только добросовестное и правдивое изображение фактов, но и анализ каждого элемента в отдельности, в его возникновении и развитии. Только таким образом может быть вынесен справедливый приговор относительно влияния личности и деяний героя на ход всемирной истории.
Я не пытаюсь умалять значения века Наполеона, а хочу только выявить из последнего всю его личность, его возвышение и достижение высшей власти, – единственные в нашу эпоху. Нельзя, однако, забывать при толковании этого факта, что услуга, оказанная Наполеоном Франции и всему миру, не всегда стояла в правильном соотношении с тем мнением, которое составили себе о нем его современники, и как ни велики подвиги, даровавшие ему бессмертие и славу, он все же многим обязан внешним условиям. Время, в которое он жил, способствовало его гениальности. Его выдающиеся способности могли развиться только в такой среде, как среда революции, и только тут вознести его на вершину мировладычества. Он сам любил называть себя “игрушкой судьбы” и верил в свою судьбу. “Нельзя себе представить ничего проще моего возвышения, – говорил он на Святой Елене, – напрасно стараются приписать его преступлению. Оно объясняется своеобразным характером эпохи и моей репутации, тем, что я храбро боролся с врагами отечества… Я – продукт времени!”
Его многосторонность, объединившая в одном человеке столь же различные, сколько и выдающиеся качества полководца и государственного деятеля, едва ли могла бы достичь своего полного развития при других обстоятельствах. Нельзя, однако, упускать из виду и того, что Франция, целиком отдавшаяся в руки одного человека, перед гением которого она преклонялась, не была державой, стоявшей ниже других государств или наций, подавленных чужим господством и жаждавших освободиться. Наоборот, она только что претерпела революцию и создала новое политическое государство. И вот именно этот-то переворот помог Наполеону развить свой исполинский гений. Он невольно побуждался к подвигам. Два доминировавшие в его характере свойства помогли ему в этом: железная сила воли в осуществлении намеченных планов и невероятно развитое воображение. И в том, и в другом он не знал пределов: не знал ни преград, ни усталости. Благодаря этим качествам он стал “величайшим из великих”, как назвал его английский фельдмаршал Вольслей.
Но не одним способностям и подвигам обязан Наполеон своею историческою ролью. Неисчерпаемая фантазия народов и умение вселять в окружающих восторг и поклонение – в этом умении ему не было равного – много способствовали ему в этом. В качестве генерала и консула он вызывал восхищение всего мира, так что потом ему было легко овладеть престолом.
Французы сделали его своим господином, своим богом. К этому присоединялись еще едва ли не баснословные победы его первых походов: Монтенотт, Миллезимо, Арколэ, Риволи и Маренго были величайшим удовлетворением военному честолюбию Франции, неизбалованной победами при последних королях. Наполеон затронул этим сокровеннейшие струны народной души и взял штурмом сердце нации.
Его величайшие таланты развивались на поприще полководца, организатора и законодателя. Он организовал свое государство по тому же образцу, как и армию, и поэтому его система правления могла быть только деспотической. Он был господин и должен был быть им; политический организм государства, созданный новейшим развитием, был для него непонятен. Он мечтал об империи Карла Великого и видел себя властелином народов. Эта мечта должна была, однако, рушиться, потому что она неосуществима и никогда не осуществлялась. Карл Великий и Людовик XV должны были понять это, и мировладычество Наполеона рушилось о жизнеспособность народов, которыми можно овладеть на время, но не навсегда.
Описать все это с беспристрастной международной точки зрения, без всякого предубеждения против той или другой нации, личности или события, на основании всех имеющихся источников, обладающих хотя какой-либо ценностью, и составляет мою задачу. Но насколько легко охарактеризовать эту задачу, настолько же трудно выполнить это на деле. Столь обширный труд встречает множество самых неожиданных препятствий, и не один, уже пытавшийся осуществить его, потерпел фиаско.
Огромный материал о наполеоновской эпохе, скопившийся с течением времени и не подвергавшийся критическому разбору, отчасти повинен в том, что мы не имеем еще всеобъемлющей истории Наполеона и его века. Лишь после составления библиографии было возможно приблизиться к разрешению этой задачи. Весь этот материал, обнимающий в настоящее время свыше восьмидесяти сочинений, я в течение десяти лет предварительной разработки постарался использовать для своего сочинения и недавно выпустил в свет подробный свод его в посильном критическом освещении.[3]
Таким образом, я несколько уклонился от обычного пути историка, который ссылается на источники либо в примечаниях под текстом, либо в конце своего труда. Мне кажется, однако, что тем самым я придал своей истории Наполеона некоторые преимущества: чтение ее не будет неприятно прерываться ссылками на использованные источники.
Так как мой труд и все его отдельные главы обработаны на основании всех этих имеющихся в наличности источников, то они в целом своем и с точки зрения критического понимания представляют собою нечто новое.
Моя жизнь тесно связана с моей книгой, как я упоминал уже в предисловии к “Библиографии века Наполеона”. С ранней молодости меня непрестанно занимала мысль, которой я посвятил всю дальнейшую жизнь. Сейчас я нахожусь в самом разгаре работы и надеюсь осуществить ее в тот виде, в каком мне она всегда рисовалась. Мне посчастливилось найти спутницу жизни, которая, также привлеченная интереснейшей, огромной темой, стала для меня энергичной сотрудницей. И я надеюсь, что эта совместная работа будет вознаграждена интересом читателя.
Женева, весна 1911 г.
Фридрих М. Кирхейзен
ГЛАВА I. РОДИНА
Острова играли в жизни Наполеона всегда крупную роль: он родился на острове; остров был родиной его первой спутницы жизни, его величайшие заклятые враги, англичане, – островитяне; Эльба была для него зловещим убежищем, а в конце концов ему было суждено закончить свою богатую жизнь на пустынной скале посреди океана.
Остров Корсика, на котором завязалась наполеоновская драма, после Сардинии и Сицилии, самый большой остров Средиземного моря. Вид Корсики чрезвычайно живописен. С гордыми скалами, с огромными непроходимыми лесами дубов, пиний, оливковых деревьев и каштанов, с таинственными рощами, на спутанных тропинках которых в густых кустарниках скрываются и бандиты, и пираты, с морским прибоем у берега и с живописными долинами внутри, Корсика объединяет в себе все обаяние величия и нежной прелести. К этому присоединяется еще непреодолимое обаяние, окружающее имя героя. А как любил этот герой свой остров, свою отчизну! Постоянно вспоминал он о ней, как о прекрасном сне, которого не мог вырвать из сердца весь блеск славы и трона. И когда на плененного императора взглянули голые, мрачные утесы Св. Елены, он вскрикнул с тоской: “Отчизна всегда дорога!” Жители островов благодаря своей отрезанности, защищающей их от вражеских нападений и постоянного смешения рас, несут в себе всегда нечто своеобразное. Горный народ обладает свойственной лишь ему силою характера и величием души. И какое драгоценное обаяние таит в себе родная земля!.. “Там все лучше, даже запах земли: с закрытыми глазами узнал бы я его. Нигде, нигде больше не слышал я этого аромата!..”
Подобно большинству горных стран Корсика не особенно плодородна. Почти весь остров покрыт горами. Но даже плодороднейшие части острова долгое время оставались необработанными, и лишь более поздняя культура использовала обильную землю. Главная причина такого пренебрежения сокровищами, которые предоставила природа, заключается, по-видимому, во внешней особенности острова. Берега его плоски, внутри же громоздятся горы с непроходимыми чащами. Боязнь пиратов гнала жителей Корсики из плодородных долин в неприютные местности и сделала из них вместо земледельческой нации суровое пастушеское и военное племя, испытавшее много невзгод и лишений.
Изучение этих островитян, из среды которых вышел великий завоеватель мира, во всем их физическом и психическом своеобразии, в их тогдашних привычках, представляет собою не только огромный интерес, но и настоятельную необходимость для понимания личности Наполеона.
Типичный корсиканец – низкого роста, приземистый, но все же стройный и очень гибкий. Кожа его, как кожа всех южан, смугла, а маленькие, почти всегда темные глаза проницательны и живо сверкают. Волосы, на недостаток которых не может пожаловаться ни один корсиканец, почти всегда черны, – плешивого корсиканца встретить почти невозможно.
В корсиканском характере объединяются меланхолия со страстностью темперамента. Корсиканец может воспламеняться внезапно, точно вулкан, а через мгновение он уже печален и сентиментально опускает голову. Вообще же он скуп на слова, молчалив, но не лишен красноречия, если представляется случай поговорить. Он сдержан из осторожности, недоверчиво замкнут в общественной жизни, но откровенен и искренен в дружбе. От природы чрезвычайно восприимчивый, он способен на столь же большие страсти и чувства, как и на большие пороки.
В некоторых отношениях чрезвычайно честолюбивый, корсиканец считает величайшим достоинством показать другим свою храбрость или силу, хотя бы в качестве бандита. Он невыразимо страдает, когда видит, что другие подле него превосходят его, и непрестанно стремится уподобиться им или превзойти их. Больше всего он любит оружие, – нет ни одного корсиканца, у которого бы его не было. Он скорее откажется от скота, от земли и от плуга, лишь бы купить себе ружье, кинжал и пистолет.
В обращении с оружием корсиканцы были всегда на высоте положения, непрестанная борьба с внутренними и внешними врагами сделала их мужественными и бесстрашными людьми, которых не пугает никакая опасность. Каждый из них был готов постоянно стать жертвой вендетты. Последняя играла когда-то кровавую роль, на скалистом острове. Безграничное горе причинила она целому ряду семейств. Корсиканец, находившийся в какой-либо связи с вендеттой, бы способен на все: он не боялся ни опасности, ни страданий, ни смерти. Чтобы дать волю своим страстям, он приносил в жертву все: жену и детей, дом и землю, репутацию и положение. Семейные распри тянулись иногда в течение нескольких поколений и сила их страстности нисколько не ослабевала.
Когда у корсиканца в такой семенной войне убивали кого-либо из его родственников, он клялся отомстить за кровь убитого и не успокаивался до тех пор, пока не находил удовлетворения в вендетте. Исполнив свое дело, он бежал в горы и вел там жизнь бандита, чтобы избегнуть рук сбиров,[4] ибо попасться к ним считалось величайшим позором. Вендетта была неотвратима. Оставшиеся в живых родственники и другие мстители не могли считать свою жизнь вне опасности: они должны были вести непрестанную оборонительную борьбу с врагом. Чувство мести все больше и больше охватывало людей. Уже детям в раннем возрасте внушалась эта неизгладимая ненависть. Корсиканская женщина, у которой убивали мужа, сохраняла до тех пор его окровавленное платье, пока ее дети не подрастали настолько, что могли понять значение вендетты. Тогда она показывала им одежду отца и воодушевляла на месть убийце. Перед детьми стояла всегда альтернатива: либо вести бесчестную и позорную жизнь, либо же стать убийцами, и, преклоняясь перед честью, они обычно выбирали последнее.
К счастью, в наши дни вендетта почти совершенно исчезла на Корсике. Во времена же Наполеона еще много корсиканских фамилий вели непримиримую войну друг с другом.
Но насколько страшны корсиканцы в своей ненависти к врагам, настолько же искренне преданы и верны они к друзьям. Дружба и гостеприимство – их лучшие добродетели. Тем не менее они нелегко сближаются между собою: тот, кого они называют своим другом, должен сперва заслужить это. В своем доме они очень щедры даже к чужим, но за порогом едва ли не скупы. Для них священно гостеприимство, и горе тому, кто его нарушает!
Столь же страстны и пламенны, как в ненависти, они и в любви, которая, несмотря на всю пылкость, таит в себе что-то детски-наивное. Молодая девушка, утратившая свою честь, никогда не найдет человека, если на ней не женится соблазнитель. И горе ему, если он этого не сделает! Родственники девушки объединяются между собою, чтобы отомстить тем или иным способом за позор семьи. Корсиканская женщина редко обманывает мужа: прелюбодеяние весьма редкое явление в Корсике. Корсиканский народ чрезвычайно терпеливо и упрямо переносит всякие страдания и лишения, чему немало способствует его умеренность в употреблении алкоголя. Пьянство считается величайшим позором на острове: там действительно трудно встретить пьяного человека.
Несмотря на то, что корсиканцы благодаря свойствам своей страны должны были бы стать земледельческим, винодельческим или рыболовным народом, они стали в гораздо большей степени военным племенем. К сельскому хозяйству у них не было склонности. Когда удовлетворялось их желание иметь оружие, других потребностей у них уже больше не было, и поэтому они работали лишь столько, сколько нужно было им для пропитания. Вследствие этого денежный капитал редкое явление на Корсике. Еще даже теперь многие подати уплачиваются натурою. Корсиканец считал унижением своего достоинства работать за деньги: у него было слишком высокое мнение о своем превосходстве над другими. Ввиду этого среди корсиканцев очень мало служащих. Поденщики и прислуга по большей части итальянцы. Лишь в солдатской профессии видели корсиканцы свой идеал. Мужественный, смелый человек, отважно сражавшийся за свое отечество, ценился гораздо больше того, кто оказывал значительные услуги науке или искусству. Военные люди пользовались успехом у женщин, мужчины преклонялись перед ними, а юноши брали с них пример.
Корсиканцы обладают чрезвычайно сильно развитым семейным чувством. Чем больше детей в семье, чем больше родных, тем большим уважением пользуются они у сограждан. Узы родства связывают корсиканские семьи с самыми отдаленными их членами.
Женщина даже в знатной корсиканской семье играла довольно второстепенную роль. Наибольшим уважением пользовалась та, которая производила на свет наибольшее количество детей. Она была подчинена мужчине и не знала другого времяпрепровождения, как служить ему, кормить, беречь и воспитывать его детей. Недостаточно развитая и образованная, она была очень хорошей хозяйкой: экономная, она старалась и сама умножить достояние семьи. С дочерьми отец был большею частью строг и суров, по отношению же к сыновьям выказывал всегда известную слабость. Тем не менее все дети одинаково любили и уважали его, как главу семейства.
В своем мышлении корсиканец обнаруживает много логики и рассудительности, если только дело не идет об его собственных интересах. Когда же на сцену появляются они, он становится софистом. Он обладает проницательным умом и умеет блестяще пользоваться им при всяком удобном случае. Он говорит изысканно, старается постоянно пополнить свое образование; манеры его очень мягки, лжи он не терпит, но тем не менее не всегда говорит правду.
В потребностях своих он прост и непритязателен. Быть может, в этом и заключается разгадка его нелюбви к работе: ему не нужно много трудиться, потому что он не стремится к богатству. Он не знает ни роскоши, ни излишеств, питается и одевается он очень просто, – никакой роскоши не допускает, разве только в оружии.
Его недоверие ко всему, что означает собою культуру и прогресс, тесно связано с историей его отечества. Вековая ожесточенная борьба с угнетателями не проходила бесследно для нации! “Все это сообщает жителю острова, – говорит один анонимный бытописатель Корсики, – перенесенный в нашу эпоху характер итальянца-кватроченто, мужественная гордость которого приводит в восторг художника и возмущает спокойного, честного жителя континента”.
Благодаря центральному положению в Средиземном море, благодаря хорошим гаваням, богатству леса, пастбищам и плодородному побережью остров был в древности и в средние века объектом постоянной борьбы между народами, занимавшимися мореходством: финикияне, фокейцы, этруски, карфагеняне, римляне, вандалы, остготы, византийцы, сарацины, лангобарды и франки основывали там колонии, боролись за обладание Корсикой и временами овладевали ей. В то же время и почти до начала девятнадцатого столетия прибрежные города наводняли пираты-берберы Северной Африки; столь же быстро, как они приезжали, они и скрывались с награбленным добром.
Во времена первых германских императоров на острове образовалось своего рода самоуправление, но при папе Урбане II, в конце XI века, остров попал под владычество архиепископа Пизанского. Владычество пизанцев, длившееся около двух столетий, было очень благодетельно для развития страны.
В ту эпоху Пиза находилась в дружеских отношениях с Генуей, этим пышно расцветшим городом республиканской Италии; оба они сообща выгнали в два десятилетия арабов из Сардинии. Но вскоре между ними начались распри, и поле борьбы между ними было перенесено на остров Корсику. Генуя подала папе протест против господства Пизы над Корсикой. И ввиду этого остров в 1133 году был передан Иннокентием II обеим республикам. Пиза удержала за собою юг, между тем как северная половина была предоставлена Генуе. Но распри начались вскоре снова, и борьба соперников, поддерживавшаяся противоположными партиями жителей острова, продолжалась долгие десятилетия, пока наконец в морском сражении при Мелори, в 1284 году, весь флот пизанцев не был сожжен. По миру 1299 года остров перешел, наконец, целиком к генуэзцам, которые уже сами в предшествовавшие годы стали мало-помалу овладевать им. Но только в 1347 году Генуя получила обладание страною, так как папа Бонифаций VIII в 1394 году отдал остров в лен королю Аррагонскому. Началась ожесточенная борьба между Генуей и туземной знатью, достигшей мало-помалу значения и власти. Жаркое пламя гражданской войны угасло только в 1567 году, после убийства находившегося на французской службе полковника Сампьеро, величайшего героя корсиканцев до Паоли.
Только с его смертью и начинается действительное господство генуэзцев над Корсикой. В начале оно было довольно мягким, но вследствие недружелюбия населения острова, которое благодаря вековой ожесточенной борьбе с чужеземным господством стало еще более суровым и замкнутым, чем было до того, благодаря своей низкой степени развития, – генуэзское правление превратилось очень скоро в тяжелое угнетение гордых корсиканцев, которые никогда, даже в глубокой древности не давали превращать себя в рабов других народов.
Долгое время бродившее возмущение вырвалось наконец наружу в 1730 году. С переменным успехом в течение сорока лет вели корсиканцы эту войну, которая окончилась лишь в 1769 году присоединением острова к Франции.
Молодой Бонапарт, пылкий республиканец, в своих “Lettres sur la Corse” писал следующим образом об этом событии: “Ни одна революция не совершалась так неожиданно и так быстро, как эта! Враги забыли свою ненависть и заключили столь желанный для всех мир. Начавшееся благосостояние отечества было, по-видимому, причиной всего этого. Пламя патриотизма облагородило неожиданно души, иссушенные в течение стольких лет эгоизмом и тиранией… Друзья, мы люди! Таков был лозунг. Гордые тираны земли, берегитесь, чтобы это чувство не вспыхнуло когда-нибудь в сердцах ваших подданных! Ваш трон рушится, когда ваши народы воскликнут: “Мы тоже, мы тоже люди!”
Два человека с большими дарованиями и благородным воодушевлением, Чеккальди и Джиодфери, взяли на себя руководство восстанием, которое приветствовалось и поддерживалось знатнейшими родами страны. Генуэзцы потерпели несколько поражений и должны были сосредоточиться на укрепленном побережье, – особенно когда корсиканцам удалось получить из других стран оружие, амуницию и другие военные припасы. Сознавая опасность, Генуя обратилась к императору, который предоставил в ее распоряжение восемь тысяч наемных солдат под предводительством принца Людвига Вюртембергского. Но после нескольких побед, одержанных с помощью немцев, последние тоже были побеждены упорной храбростью корсиканского племени, которое завлекло своих врагов в горные местности острова, чтобы легче справиться там с ними. Заключенный в 1732 году мир продолжался недолго; обе стороны продолжали ожесточенную борьбу.
Двенадцатого марта 1736 года в Алерию на английском судне приехал фантастически, и полувосточно, полуевропейски одетый чужестранец с большой свитой и богатым запасом военных припасов. Это был вестфальский барон Теодор фон Нейгоф, уроженец Франции. После авантюристской жизни во Франции, Испании и Голландии, в течение которой он приобрел различные многосторонние познания, он познакомился с одним корсиканским монахом, который рассказал ему о злоключениях своего народа и пробудил в Нейгофе желание сделаться королем Корсики, самого маленького государства Европы… Быстро решившись, Теодор отправился в Ливорно, где встретился с корсиканским посланником Ортикони и другими представителями острова и рассказал им о своих близких связях с европейскими дворами, которые помогут ему освободить остров от гнета Генуи. В награду он требовал себе ни больше ни меньше как королевской короны. Корсиканцы, боровшиеся за свою свободу, обещали ему с отчаяния королевский титул. Они решили, что лучше подчиниться самостоятельному господину, чем продолжать нести ненавистное ярмо генуэзского владычества. Нейгоф тотчас же приступил к делу: раздобыл денег, накупил оружия, амуницию и подарков. Весной 1736 года его приготовления были закончены и с богатым грузом он прибыл из Туниса в Корсику.
Корсиканское население и вожди его: Джиафери, Гиацинто, Паоли, Коста, Саверио, Матра, Джаффори, Фабиани, Рафаэли и другие встретили его с ликованием, и, действительно, новому властелину своею щедростью, раздачей титулов, а также полезными нововведениями и практическими реформами удалось завоевать любовь своего молодого народа, который поднес ему титул короля Теодора I.
Но обещанной помощи европейских держав не последовало. Хотя в начале военное счастье ему улыбнулось, однако в сентябре 1736 года Теодор покинул остров, отправившись сам за обещанной помощью. Перед отъездом он учредил регентство, состоявшее из Гиацинто и Паоли, Людовико Джиафери и Лука д'Орнано. Долгое время новый король не подавал о себе ни слуху ни духу, и корсиканцы были снова предоставлены самим себе и своим собственным силам.
Несмотря на его отъезд, мужество их не упало, и они упорно продолжали борьбу с генуэзцами. Последние, не зная, что предпринять, обратились в конце концов к французскому королю, который прислал им на помощь три тысячи человек под предводительством графа де Буассие. Между тем Теодор действительно собрал людей и оружие и в 1738 году возвратился на Корсику, чтобы снова взять в свои руки бразды правления. На этот раз, однако, большинство подданных встретило его очень холодно. И он счел лучшим вскоре снова исчезнуть.
Вмешательство Франции не могло заставить Корсику сложить оружие. Когда наконец французский отряд устал от беспрерывной борьбы, Людовик XV послал многочисленное войско во главе с маркизом де Мейбуа. С такой армией корсиканцы не могли, конечно, справиться, и большая часть Северной Корсики досталась в руки французов. Между тем, благодаря вспыхнувшей Австрийской войне за “наследство”, Франция в сентябре 1741 года вызвала войска из Корсики и перевела их на Рейн.
Два года спустя, в июне 1743 года, Теодор фон Нейгоф в третий раз высадился на острове с оружием и амуницией. Однако ему не удалось овладеть вновь сердцами своих бывших подданных, и он вскоре вернулся в Лондон. Там кредиторы посадили его в тюрьму, из которой его спасла только подписка, организованная Уольполем. Забытый и одинокий, умер 11 декабря 1756 года первый и последний король корсиканский, достойный поистине лучшей участи.
Так как Генуэзской республике приходилось вести борьбу за собственное существование, то Джаффори и Матра, стоявшие теперь во главе корсиканского племени, решили использовать этот случай, чтобы навсегда избавиться от ненавистного господства. Между тем король сардинский давно уже засматривался на соседний остров и надеялся завоевать его с помощью англичан. Корсиканцы, видя себя стиснутыми со всех сторон и потеряв благодаря коварному убийству своего любимого вождя Джаффори, избрали своими предводителями Сантини, Фредиани, Гримальди, Цервони и Климента Паоли, сына Гиацинто. Однако вскоре они убедились, что все эти люди не были на высоте своего положения и что прежде всего необходимо иметь одного энергичного вождя. По совету Климента Паоли, внимание народа обратилось на его младшего брата Пасквале, молодого офицера, состоявшего в то время на неаполитанской службе. Было решено вручить ему судьбу родины.
Оба брата, Климент и Пасквале Паоли, получили прекрасное воспитание. В то время как старший, будучи священником, был рожден солдатом, характер Пасквале делал его скорее организатором и законодателем.
Пасквале Паоли принял предложение своих соотечественников, 29 апреля 1755 года прибыл в Порраджию, и национальное собрание назначило его единоличным главой корсиканского народа.
Он нашел свою родину в ужасном состоянии. В народе не было ни дисциплины, ни солидарности, ни порядка; в стране не было ни денег, ни оружия, ни амуниции. Он тотчас же принялся за работу, и скоро его энергии, его большому знанию людей, его красноречию и справедливости удалось водворить порядок в стране. Он был первым, сумевшим вселить признание своего авторитета в эту гордую нацию, не желавшую никому подчиняться. Начав с водворения порядка, Паоли подумал о том, как бы положить конец распрям своих соотечественников.
Он старался облагородить еще варварские, дикие нравы своих земляков, поднял земледелие и торговлю и основал было первую высшую школу в Корте, которая, однако, закрылась через несколько лет. Восстание Марио Матра, стремившегося к званию главнокомандующего, было подавлено Паоли, и стоило жизни его зачинщику. В начале 1764 года остров, за исключением некоторых укрепленных пунктов побережья, мог считаться освобожденным.
Летом того же года между Францией и Генуэзской республикой был заключен договор, на основании которого гавани Аяччио, Кальви, Альгайола, Сан-Фиоренцо и Бастия на четыре года были заняты французами. В вознаграждение за это Генуя отказалась от двух миллионов, которые она ссудила Франции во время Семилетней войны. Граф де Марбеф, игравший впоследствии столь видную роль в истории семьи Бонапартов, был поставлен во главе шести батальонов для занятия нескольких городов. Благодаря его умению, а также и содействию Паоли, ему удалось снискать доверие корсиканцев. Когда же генуэзцы предоставили остров в качестве убежища четырем тысячам иезуитов, высланным из Испании, французский министр Шуазель, выдавший их в 1763 году из Франции, почувствовал себя глубоко оскорбленным и приказа.“Марбефу тотчас же очистить укрепления Корсики. И в то время как французы выходили из одних ворот города, в другие вошли корсиканцы. Таким образом Паоли удалось занять Аяччио и Альгайолу.
Но Шуазель был против этого. Он долго не раскрывал своих планов Маттео Буттафоко, корсиканскому посланнику в Версале и впоследствии изменнику своей родины. Только когда Генуэзская республика убедилась в бесцельности дальнейшего удерживания Корсики и 15 мая 1768 года заключила с Францией договор, в силу которого остров за денежное вознаграждение переходил в вечное владение Франции, – только тогда раскрыл он свои карты. Паоли понял, что он и соотечественники его обмануты, и стал делать тщетные попытки найти помощь и содействие у европейских держав.
“С нами обращаются, как со стадом баранов, которых продают на базаре”, – писал он в Вену. Но и здесь он не встретил поддержки. Впоследствии, когда Паоли после завладения Корсикой французами покинул родину, Мария Терезия хотела было принять беглеца, но ее сын, впоследствии император Иосиф II, отсоветовал ей делать это. По дипломатическим соображениям, на национальном собрании, созванном 22 мая 1768 года в Корте, было единогласно постановлено сопротивляться завладению островом французами и лучше умереть, чем лишиться свободы. И хотя корсиканцы, как и прежде, всегда страдали от недостатка в оружии, все же потребовалось огромных усилий, чтобы подавить этот маленький, но храбрый и смелый народ. Вначале попытку сломить сопротивление упрямых островитян и подчинить их Франции произвел маркиз де Шовелен с войском, численностью около десяти тысяч человек. Но после нескольких побед Шовелен потерпел ряд поражений при Казнике и Борго.
Генерал граф де Во, который уже и прежде сражался на Корсике и был известен как своими познаниями, так и своей строгой дисциплиной, получил приказание отомстить за позор, нанесенный французскому знамени. С армией свыше сорока полков пехоты, четырьмя полками кавалерии и многочисленной артиллерией он подступил в апреле 1769 г. к Сан-Фиоренцо. В речи, произнесенной им офицерам, он, между прочим, сказал: “Господа, король поручил мне передать вам, что он чрезвычайно недоволен своею армиею, так как некоторые офицеры были настолько трусливы, что подписали капитуляцию. Я запрещаю каждому офицеру пользоваться в будущем пером и бумагою!..”
Новому главнокомандующему удалось настолько удачно повести военные операции, что французы одержали ряд решительных побед. В сражении при Понте-Нуово 8 мая 1769 года должна была решиться судьба храброго корсиканского народа. Несмотря на упорное сопротивление нескольких тысяч корсиканцев, которых Паоли сумел противопоставить многочисленному врагу, сражение это окончилось полнейшим поражением островитян.
Паоли не хотел, однако, считать дело отечества проигранным, но его принудили к тому обстоятельства, так как пули врагов пощадили лишь немногих корсиканцев, способных носить оружие. Корте, столица острова, была взята французами почти без сопротивления, и 12 нюня 1769 года он вместе с братом и тремя тысячами верных солдат спасся в Портовеччо. Большинство его земляков осталось в Ливорно, а сам Паоли уехал в Англию, где ему предложили убежище.
Завоевание Корсики французами обнаруживает большое сходство с английским завоеванием обеих бурских республик. Как здесь, так и там маленький храбрый, мужественный народ, живший, однако, еще в примитивных условиях, долгое время отражал натиск прекрасно вооруженного, многочисленного войска высокоцивилизованного противника.
Оба раза народы эти, тщетно просившие помощи у Европы, побеждались силою высшей культуры, чтобы, впрочем, затем приобщиться к благам развитой цивилизации.
ГЛАВА II. РОДИТЕЛИ
Относительно происхождения рода Бонапартов воззрения генеалогов расходятся. Одни производят его от Карла Великого, другие от римских императоров, а третьи даже категорически утверждают, что Наполеон происходит по прямой линии от Железной Маски. Большинство исследователей, однако, сходится в том, что происхождение рода Наполеона следует искать в Италии, в Сарцане, – в городе теперешней провинции Генуи.
Сарцана была в конце средних веков маленьким городком без всякого политического значения, в котором, однако, пульсировала чрезвычайно оживленная для того времени интеллектуальная жизнь. Отдельным членам различных поколений Бонапартов удалось подняться до различного рода степеней и отличий. Хроника сообщает, например, об одном Бонапарте – городском мэре, другие Бонапарты были советниками, аббатами, офицерами, адъютантами и т. п.[5]
Когда сарцанцы в пятнадцатом столетии вошли в сношения с островом Корсикой, члены семьи Бонапарт часто посылались туда. Так, в начале шестнадцатого века мы находим в Аяччио Франческо, Анджело и Агостино Бонапартов. Первый из них был заложником города. В 1540 году Франческо умер и оставил семью с довольно хорошими средствами. Мало-помалу Бонапарты достигли благосостояния, стали пользоваться уважением и принимать участие в общественном управлении, не выделив, однако, из своей среды ни одной более или менее выдающейся личности. Они занимались большею частью управлением своих владений, немного также торговлей и жили спокойно, без всякого честолюбия. Благодаря этому состоятельность семьи от поколения к поколению скорее уменьшалась, нежели увеличивалась.
Первым, кто постарался возвеличить имя Бонапартов, был отец Наполеона, Карло Мария Бонапарт, десятый потомок Франсуа. Он родился 27 мая 1746 года в Аяччио. Рано потеряв отца, он нашел второго отца в лице своего энергичного интеллигентного дяди Люциана Бонапарта, архидиакона при соборе в Аяччио. Тот четырнадцати лет отправил его в основанную Пaoли высшую школу в Корте и решил сделать из него юриста.
Помимо своих недюжинных умственных способностей, он испробовал свои силы на поэтическом поприще. Он был очень интеллигентен и во всяком случае выделялся своим образованием над общим корсиканским уровнем. Карло обладал многими внешними преимуществами, которые снискали ему популярность среди молодежи. Он был высокого роста, стройный, с приятным выразительным лицом, форму и глаза которого унаследовал от него его сын Наполеон. Благодаря его светским манерам, умению поддерживать разговор и всегда элегантному и в высшей степени аккуратному костюму, он пользовался большою любовью в обществе. По-французски он говорил и писал почти так же хорошо, как и на родном языке.
Его склонность к роскоши и удовольствиям была общеизвестна. Чрезвычайно честолюбивый, всегда желавший выдвинуться, он уже в молодости именовал себя в Италии “Conte di Bouonaparte”: его старинное имя чрезвычайно льстило ему. Честолюбивый, всегда недовольный своею судьбою, он непрестанно стремился к блеску и богатству, почестям и привилегиям для себя и своих близких, не находя, однако, удовлетворения ни в чем. В его голове роилось множество планов, которые он, однако, почти никогда не приводил в исполнение.
Небогатый, но в высшей степени расточительный, Карло стал искать выгодной партии. Встретив в Италии синьору Альберти, он решил, что нашел в ней столь нужную ему спутницу жизни. Она была богата, красива и симпатична. Родители ее не имели ничего против элегантного молодого человека, разве только то, что он был еще чересчур молод: Карло не было тогда еще семнадцати лет.
Вскоре после этого он вернулся на родину и при содействии дяди Люциано познакомился с юной Марией Летицией Рамолино. Она была богата, красива и молода и поэтому вдвойне интересна для Бонапартов. В действительности же она обладала лишь капиталом в семь тысяч франков, которые все находились в земельных участках: ее будущий супруг имел почти такое же состояние.
Рамолино, настроенные в пользу генуэзцев, неохотно согласились на ее брак с паолистом, но в конце концов должны были все-таки уступить, а июня 1764, года викарий Рончеро совершил обряд венчания: жениху было восемнадцать, а невесте четырнадцать лет.
Молодые люди поселились в Корте, чтобы быть поближе к Паоли; кроме того, Бонапарт был избран членом национального собрания, заседавшего в этом городе.
Четыре года спустя на острове вспыхнула война. Карло принял в ней живейшее участие: он был одним из самых пламенных патриотов и был полон воодушевления за дело свободы и Паоли. Ему удалось оказать довольно значительное влияние на ход событий, предшествовавших массовому восстанию на Корсике. Ему, между прочим, приписывают составление присяги корсиканцев в мае 1768 года, в которой они заявляют, что лучше согласятся погибнуть, чем покориться ненавистному гнету Генуи. Вероятнее, однако, что главное участие в редакции этой присяги принимал Паоли, потому что она проникнута всецело его идеями.
Несомненно достоверно то, что Карло Бонапарт написал прокламацию к корсиканской молодежи, в которой с воодушевлением призывал ее к борьбе с врагом и убеждал каждого в том, что у него долг перед отчизной, за которую предки его пролили столько крови.
Паоли любил Карло. Он использовал воодушевление молодого патриота и назначил его своим секретарем. Но тут разразилась катастрофа при Понте-Нуово. Даже после сражения Карло питал искреннее намерение призвать своих соотечественников к новой борьбе с неприятелем, но не встретил больше сочувствия в Паоли, который спасся бегством в Англию. Впоследствии, когда Карло понял, какие выгоды сулит его родине присоединение к великой, могущественной Франции, он изменил свои взгляды. К этому присоединилось еще его собственное печальное материальное положение, улучшить которое, как он видел сам, он мог только при помощи нового правительства. Нужда и лишения заставили его склонить голову. Он понял, что ему выгоднее служить новому господину, – и служил ему с тем же усердием, как прежде отечеству. В душе, быть может, он оставался таким же корсиканцем, как и прежде. Он надеялся только с помощью нового правительства получить какую-либо должность и тем самым улучшить положение семьи.
С этою целью он, спустя несколько месяцев после рождения своего сына Наполеона, в ноябре 1769 года, отправился в Пизу, чтобы выдержать там экзамен на доктора юриспруденции и вместе с тем закончить исследование о древнем происхождении своего рода. Последнее увенчалось успехом: тридцатого ноября 1769 года он получил от архиепископа Пизанского патент с докторским дипломом Пизанского университета, который, впрочем, также устанавливал его аристократическое происхождение: Il Sig. Carlo del Qm. Sig. Giuseppe Bonaparte, nobile patrizio Fiorentino, Samminiatense, e di Ajaccio, – и вернулся снова на Корсику. От радости он, как передают, устроил дома пиршество, обошедшееся ему в шесть тысяч франков.
Первой наградой его франкофильского настроения было то, что Марбеф, новый губернатор, взял его под свое покровительство. Благодаря этому в феврале 1771 года Карло был назначен королевскою властью асессором в Аяччио с девятитысячным окладом жалованья. Это был первый шаг к тому, чтобы со временем стать членом государственного совета. Приблизительно около того же времени он был внесен в список четырехсот корсиканских аристократов, а в 1772 году был назначен членом корсиканского дворянского совета “двенадцати”.
Марбеф был другом Карло не потому только, что тот был одним из первых корсиканских аристократов, высказавшихся в пользу Франции, по благодаря его личным привлекательным качествам. Карло отплатил Марбефу блестящей защитой оклеветанного губернатора перед Людовиком XV, ко двору которого он был командирован от корсиканского дворянства в 1773 году. Это поручение принесло ему три тысячи франков и исполнило его честолюбивые замыслы. Он решил извлечь выгоду из своего нового положения и прежде всего использовать привилегии, на которые имел теперь право как французский аристократ. Ближайшей его мыслью было воспитание сыновей. В 1776 году он подал прошение о предоставлении двух бесплатных вакансий во французских школах для Жозефа и Наполеона. В 1778 году его друг Марбеф еще раз повторил его просьбу военному министру, маркизу Монбаррею. Помимо этого Карло обратился к королю с просьбой разрешить ему открыть школу шелководства, с помощью которой он думал развить на острове шелковое производство и увеличить свое личное благосостояние.
Мысль об улучшении положения своей малосостоятельной семьи занимала его постоянно, несмотря на страсть к расточительности. Но планы его не всегда увенчивались успехом. Они часто терпели крушение, просьбы его отклонялись. Несмотря на различные награды, у Карло Бонапарта никогда не было денег. В 1778 году он снова был послан в Версаль и получил на поездку три тысячи франков. В Париже он получил от короля еще четыре тысячи франков и две тысячи в качестве почетной награды. Но все же, как сам рассказывает, “вернулся домой без единого су”. Правда, в Париже он купил себе ни более ни менее как двенадцать костюмов, все богато украшенные бархатом, шелком и вышивкой. Все его деньги поглощали портные, башмачники, торговцы бельем и ювелиры. Дома же Летиции приходилось экономить: она не знала, как справиться ей с содержанием себя и детей.
Пагубной страстью его было сутяжничество. Он вел тяжбы решительно со всеми. Где бы дело ни шло о наследстве, он тотчас же заявлял о своих правах. Он добился получения небольшого наследства в Сан-Миниато и, кроме того, заявил свои права на наследство Паоло Франческе Одонэ, который хотя и считался дядей Карло с материнской стороны, однако приходился ему весьма отдаленным родственником. Прабабка Карло была дочерью Пиетро Одонэ, от которого и произошел вышеупомянутый Паоло. Последний завещал свое состояние иезуитам на основании “фальшивых религиозных убеждений”, как говорил Карло. Благодаря новым политическим условиям капитал иезуитов подлежал конфискации. Карло не упустил этого из виду и извлек из него пользу: он вел процесс со всем упрямством корсиканца, но добился только частичного успеха – получил из наследства одно только поместье Миллели, близ Аяччио.
Бонапартам приходилось вести тяжелую борьбу за существование. Доходы их были весьма ограничены. Целый ряд предприятий, разрешенных правительством, потерпел крушение. Школа шелководства не окупала расходов, а устроенная Карло солеварня потерпела полнейшее фиаско. Он был даже принужден заложить свои виноградники и наверное бы продал их, если бы ему не воспрепятствовал в этом его дядя Люциано. Для всех будущих королей и княгинь отец, замечавший, что силы его иссякают, а заботы все увеличиваются, просил бесплатных вакансий во французских школах. Он прибегал ко всему: к прошениям, к рекомендательным письмам, к аудиенциям. Полжизни провел он в передних влиятельных особ. Наконец, настал счастливый день. В 1778 году он получил вышеупомянутое маленькое наследство от одного своего родственника Иосифа Бонапарта из Сан-Миниато. Тотчас же они повели широкий образ жизни. Взяли кухарку и горничную, получавшую, правда, всего шесть франков в месяц. Карло стал снова одеваться с изысканным изяществом и задавать пиры в своем доме. Только Летиция оставалась по-прежнему простой женщиной.
Но уже в 1784 году материальное положение семьи настолько ухудшилось, что отец принужден был одолжить двадцать пять луидоров у генерал-лейтенанта и губернатора Бомануара на поездку во Францию. Помимо обычных планов улучшить свое материальное положение, он хотел обратиться к парижскому врачу де ла Сонду за советом относительно своей болезни желудка, отвезти дочь Марианну в Сен-Сир и навестить Жозефа и Наполеона. До конца своей жизни Карло не мог вернуть этих денег. А после смерти его это было уже совершенно не по силам Летиции. Бомануар и не настаивал, впрочем, на уплате. Когда он впоследствии был переведен с острова, и Летиция захотела было продать серебро, чтобы вернуть ему двадцать пять луидоров, он не допустил этого и заявил, что она вернет ему деньги, когда они у нее будут. Во время революции Бомануара преследовала чернь, и ему пришлось спастись бегством. В своем печальном положении он написал Первому Консулу и просил вернуть ему одолженные еще его отцом деньги. Бонапарт послал тотчас же сумму в десять раз большую, велел вычеркнуть его из списка эмигрантов, назначил ему двенадцать тысяч ренты из государственной кассы и столько же из личных сумм.
Во время пребывания во Франции болезнь Карло настолько ухудшилась, что он, не навестив даже на обратном пути Наполеона в Бриенне, должен был поспешно вернуться в Аяччио.
Ему удалось еще раз увидеть Францию с тем, однако, чтобы найти там свое последнее успокоение. Он поехал в Париж, чтобы обратиться за советом к лейб-медику королевы. Годом раньше ла Сонд прописал ему лечение, которое сначала облегчило немного его страдания, но не устранило причины болезни. Доехать ему удалось, однако, только до Экса. Здесь он обратился к профессору Турнатори, который послал его в Монпелье. Там Карло, остановившийся было в гостинице, встретил земляка, который сжалился над ним и перевез его к себе в дом. Это был Пермон, отец будущей мадам Юно, герцогини Абрантской. Вместе с женой он с трогательным самопожертвованием ухаживал за Карло. Они не могли, однако, воспрепятствовать течению страшной болезни, которая достигла к началу следующего года полного развития и сделала неминуемой роковую развязку. Незадолго до смерти больной, напрягши свои последние силы, написал письмо в министерство, в котором еще раз излагал все свои притязания на наследство Одонэ. Результата этого письма он не дождался. 24 февраля 1785 года, в семь часов вечера, он после трехмесячных страданий умер на руках своего старшего сына, которого он хотел отвезти в Мец, в военное училище. Молодой шурин его, Жозеф Феш, приехавший из Экса, а вовсе не сопровождавший его, как говорят многие историки, приехал слишком поздно и не застал его уже в живых.
Карло Бонапарт был не всегда таким благочестивым. Он сочинял даже антирелигиозные стихи. Но, увидев перед собою смерть, он со всем своим колеблющимся характером ухватился за Святые Дары, которые принес ему аббат Кусту, викарий в церкви Сен-Дени, в Монпелье. Последние слова Карло были обращены к детям и к жене, которая за время его болезни родила его младшего сына Джираломо (Иеронима).
“Сын мой, – сказал Карло Бонапарт Жозефу, который, плача, опустился на колени перед его постелью, – сын мой, подражай мне в моей вере, но не впадай в ошибки моей молодости! Будь покровителем твоих братьев и сестер и окружай твою несчастную мать всей заботой и уважением, которыми ты ей обязан… Мне бы хотелось увидеть еще раз моего любимого маленького Наполеона. Его ласки усладили бы мои последние мгновения жизни, но Бог не захотел этого!”
Так умер Карло Бонапарт, произнося в последнюю минуту имя Наполеона, до блеска и славы которого ему не суждено было дожить.
Он был похоронен в церкви Кордельеров. В 1802 году жители Монпелье захотели воздвигнуть памятник отцу Первого Консула, но Наполеон ответил очень разумно, что его отец умер уже пятнадцать лет назад и что никто не помнит о том незначительном в то время происшествии: лучше поэтому памятника не воздвигать. В 1802 году Луи без ведома Первого Консула перенес останки отца в свой замок и похоронил их в парке. Во время Реставрации они еще раз тайно ночью были вырыты наполеонидами и скрыты в пещере, пока, наконец, в день перевезения праха Наполеона в Дом Инвалидов, тело отца не было погребено в церкви Сен-Ле.
Жена Карло, которой было суждено подарить жизнь целому поколению князей и монархов и которая во все моменты своей жизни, даже на вершине блеска и славы, оставалась все тою же, значительно превосходила своего супруга силою характера.
Дата рождения ее подлежит сомнению. Но более вероятная – это 24 августа 1749 года. Родилась она, как и муж ее, в Аяччио. Летиция происходила из патрицианского рода Рамолино, который также переселился на Корсику из Северной Италии и при помощи браков связал свою судьбу с одним из богатейших родов графов Коллато. Летиция Рамолино потеряла отца тоже в раннем детстве. Ее мать, урожденная де Пиетро-Санта, вышла в 1757 году во второй раз замуж за уроженца Базеля, капитана швейцарского полка, находившегося на генуэзской службе, Франсуа Феша. От этого брака родился Жозеф Феш, будущий кардинал. Когда вскоре мать Летиции и ее второй муж умерли, она стала второю матерью своему сводному брату.
В тринадцать лет она достигла уже полного развития своей красоты, что, впрочем, наблюдается весьма часто у корсиканских женщин. Летиция считалась красивейшей девушкой в Аяччио. Она была среднего роста, с изумительно пропорциональными формами тела, юная грация которого гармонировала со всей обаятельной внешностью. Руки, ноги ее были изящны и нежны: это передалось по наследству и Наполеону. Рот, быть может, с несколько серьезным выражением, но чрезвычайно красиво очерченный, открывал два ряда жемчужных зубов. Когда по губам ее пробегала улыбка, она была очаровательна. Несколько выдававшийся подбородок указывал на энергию, – совсем как у сына. Роскошные каштановые косы украшали классическую голову, которой темные глаза с длинными ресницами и тонким носом придавали аристократическое выражение. Все черты ее лица и все формы находились в поразительной гармонии. Неудивительно поэтому, что молодой Карло Бонапарт воспылал к ней сразу любовью.
Несмотря на слабости Карло, они жили очень счастливо. Сын сам говорил впоследствии на Святой Елене: “У моей матери было столько же добродетелей, сколько и женственного обаяния: она была счастливее своего мужа, а дети нежно любили ее”.
С физиологической точки зрения брак Летиции и Карло был слишком ранним. Первые трое детей, которых молодая женщина подарила супругу, не обладали жизнеспособностью, они умерли в детском нежном возрасте. Из тринадцати детей за ее двадцатилетний брак в живых осталось только восемь, которых она родила в период между расцветом юности и высшим развитием своего женского тела.
Летиция была для детей своих превосходной матерью; ее возвышенное сердце было полно добротой и любовью. Она не прощала им ни одного проступка и, наоборот, часто строго наказывала их. Карло, которого нередко отдаляли от семьи дела и развлечения, старался по временам извинять шалости детей, но Летиция не позволяла ему вмешиваться в воспитание. “Предоставь это мне, – говорила она ему тоном полуупрека, полуприказания, – я буду за ними следить!” И с несравненной заботливостью следила она за первыми впечатлениями детей. “Все низменные чувства в нас устранялись, – говорит Наполеон, – она ненавидела их. Она допускала до детей только возвышенные. Она питала величайшее отвращение ко лжи, как вообще ко всему, что носило на себе хотя бы признаки низменного. Она умела наказывать и награждать”.
Она замечала у детей решительно все. Летиция Бонапарт была истинной матерью, истинной корсиканкой. Имя “Madame mére”, которое она официально получила во время Империи, удивительно подходило к ней: оно как нельзя более соответствует той скромности, которую постоянно сохраняла мать императора.
Но воспитание, которое могла дать Летиция своим детям в отношении умственных способностей, было весьма недостаточно. Вместо этого, однако, она давала им на жизненный путь нечто, что они в достаточной мере использовали: сознание необходимости держаться всегда вместе.
В доме ее дяди ди Казанова в Корте 7 января 1768 г. Летиция родила Жозефа, своего первого жизнеспособного ребенка. Спустя короткое время после родов она последовала за мужем, который вместе с Паоло сражался за свободу отечества.
Каждый корсиканец, способный носить оружие, присоединялся к патриотам. Мужчины, женщины, дети и старики – все хотели внести свою лепту в великое дело, и особенно велик был в то время героизм корсиканских женщин. Летиция Бонапарт ехала верхом и мужественно шагала подле Карло по горным тропинкам. Ее красота, ее взгляды, тонкие черты ее лица не гармонировали с той невероятной отвагой, которую она выказывала. Но гордые линии ее строгого носа, плотно сжатые губы, вокруг которых виднелись черточки презрения, и сверкавшие смелым огнем глаза обнаруживали железную силу воли: под этим белым женским лбом роились отважные мысли мужчины.
Однажды им пришлось переправляться через Лиамон, надувшийся от дождя горный поток. Из-за неправильного движения, лошадь Летиции потеряла почву под ногами и была унесена течением. Летиции, находившейся в опасности, крикнули, чтобы она бросила лошадь и пустилась бы вплавь, но она храбро продолжала сидеть в седле с маленьким Жозефом на руках. Наконец ей удалось справиться с течением и счастливо добраться до берега. А между тем ведь ей предстояли вскоре новые роды!
После битвы при Понте-Нуово, в которой Летиция не могла принять деятельного участия, так как беременность ее подходила к концу, она спаслась бегством в Аяччио. Когда Летиция возносила в церкви молитву к Богоматери о покровительстве ребенку, которого она носила под сердцем, она почувствовала, что час приближается и испуганная побежала домой. 15 августа 1769 года Летиция подарила жизнь Наполеону.
После Люсьена и младшего сына Иеронима Наполеон был матери ближе других: его слабое здоровье в первые годы нуждалось постоянно в тщательном и нежном уходе. Наполеон был похож на Летицию и внешностью, и характером. Свою способность быстро воспринимать и подмечать самые незначительные мелочи, свою энергию и редкую дееспособность, свое умение справляться с материальными вопросами он унаследовал от матери, и лишь ее любовь к правде не перешла к нему.
Образование Летиция получила, как и все корсиканки, чрезвычайно незначительное. Она не знала почти ничего помимо своих обязанностей хозяйки и матери и молитв Деве Марии, покровительству которой поручала она всех детей и чье имя носили все ее дочери. Ни об итальянской, ни о французской литературе она не имела ни малейшего представления. Всю свою жизнь, даже при императорском дворе своего сына, говорила она на корсиканском диалекте. Французский язык доставлял ей много трудностей; она никогда правильно на нем не говорила. Постоянно слышался ее итальянский акцент. Так, она говорила всегда “houreuse”, вместо “heureuse”, “ma”, вместо “mais”, “oune”, вместо “une”, “je souis”, вместо “je suis”. Наполеон сердился, особенно когда она по-корсикански произносила его имя, и, будучи консулом, сказал как-то Люсьену и Жозефу: “Передайте матери, чтобы она не называла меня Наполеоне. Это по-итальянски. И не Буонопарте, а Бонапарт. Это еще хуже, чем Наполеоне. Вообще пусть она лучше зовет меня “Первым Консулом” или просто “Консулом”. Это лучше всего. Этот Наполеоне меня раздражает”. Он утверждал даже, что мать его не говорит правильно и по-корсикански; когда впоследствии Летиция была принуждена писать французские письма, она всегда диктовала их на своем родном языке.
Ее величайшей добродетелью было сознание долга, любовь к порядку и расчетливость, которую некоторые считали даже скупостью. Она всю свою жизнь была женщиной без всяких претензий. Когда ее сын приобрел уже себе имя и состояние и играл уже в политической жизни выдающуюся роль, она все-таки одевалась проще любой простой гражданки. Однажды она приехала на несколько недель к своей красивой дочери Полине, бывшей замужем за генералом Леклерком, и привезла с собой всего одно платье. Элегантная Полина смеялась над экономной матерью, но Летиция ответила ей серьезным тоном: “Молчи, расточительница, я должна же заботиться о твоих братьях и сестрах. Они не все еще самостоятельны. Я не хочу, чтобы Наполеон имел основание жаловаться. Ты злоупотребляешь его добротой”. Впоследствии же, когда император предоставил в ее распоряжение значительные суммы, экономия ее превратилась, действительно, почти в скупость. Говорят, что Летиция забирала себе даже деньги, которые получала от сына для раздачи бедным. Когда дети упрекали ее в этом, она отвечала им холодно: “Разве не должна я копить? Разве не будет у меня рано или поздно семи или восьми монархов на шее?” Она была единственной на всем земном шаре, которая не верила в продолжительность всего этого богатства и блеска. “Pourvu que cela doure”, – говорила она обычно. Ее расчетливость дошла наконец до того, что она старалась экономить даже в мелочах своего хозяйства в императорском дворце. Так, например, жене Люсьена, Кристине Бойе, она постоянно советовала ложиться спать пораньше, чтобы не жечь много свечей. Мы должны, однако, извинить ей эту расчетливость, безусловно смешную в дни счастья и блеска: она знала, что значит нужда. И однажды заявила графу Жирардену: “J'aioun millione, l'année. Je ne le mange pas a beaucoup prés. Je n'ais pas de dettes… je me trouve toujours avoir cent mille francs au service d'un de mes enfants. Qui sait, peut-être, un jour serontvils bien contents de les avoir. Je n'oublie pas que pendant longtemps je les ais nourri aves des rations”. – Она была большим скептиком и была не так уже не права, так как впоследствии, когда все неожиданно рухнуло, ее детям пришлось весьма кстати накопленное ею богатство: великодушно предложила она все свое состояние своему несчастному сыну на одиноком острове.
Когда тридцатишестилетняя женщина осталась вдовой с восемью детьми, из которых лишь Жозеф мог ей быть слабой опорой, ей пришлось вести тяжелую борьбу: Карло, отец Наполеона, очень плохо позаботился о своих близких. По счастью, она нашла в старом губернаторе Марбефе друга-отца, который помог ей в ее тяжелой нужде. Он был крестным отцом ее детей и чувствовал себя обязанным заботиться о сиротах. Карло оказал ему в свое время тоже много ценных услуг.[6]
Мать Наполеона обвиняли в том, что она была не только другом старого Марбефа. Но ее прямой, чисто корсиканский характер, чуждый фальши и любовных приключений, служит порукой за ложь этих слухов. У нее не было того легкомыслия, которым отличались впоследствии ее дочери. Красота Летиции, не пострадавшая, несмотря на многочисленные роды, пробуждала скорее немое восхищение, нежели какие-либо желания; она была слишком хозяйкой и матерью, чтобы стать пылкой любовницей. Ее постоянная беременность, заботы о благосостоянии многочисленной семьи и уход за дядей Люциано, старым подагриком, не оставляли ей времени для каких бы то ни было внебрачных утех. Кроме того, Марбеф находился, по-видимому, в интимных отношениях с синьорой Варезе из Бастии, которая не потерпела бы никаких соперниц. После смерти мужа Летиция отнеслась к своему положению очень серьезно: она считала себя главой семьи, на которую не должно пасть ни одной капли позора. Обязанности и заботы еще тяжелее обременяли ее. Разве могла она думать о чем-нибудь, кроме семьи? Правда, у нее был добрый советник в лице старого архидиакона, но денег и доходов было очень мало. Ей мог бы помочь дядя: он был состоятельным, у него были большие стада овец, да и много блестящих червонцев хранил он у себя под подушкой. Только с большим трудом и хитростью удавалось по временам молодым Бонапартам выманить у него несколько франков. Тем не менее его все любили и уважали, и он оказывал благодетельное влияние не только на родных, но и на все Аяччио. Он был общим советчиком: все приходили к нему, чтобы посоветоваться относительно тяжб, земельных владений и скота, – и каждому давал он дельный и умный ответ. Благочестивый, образованный, простой и отзывчивый, старик был верным советчиком племянницы, только денег она не должна была от него требовать.
Летиция стала в это время еще более расчетливой. Она вела в Аяччио чрезвычайно замкнутый образ жизни. Семнадцатилетний Жозеф, похоронив отца на “чужбине”, как выражался Наполеон, вернулся к матери на Корсику. Наполеон же остался в военной школе в Париже, в которую поступил 19 октября 1784 года. Экономить было, действительно, нужно. Одна прислуга, получавшая три франка в месяц, помогала будущей матери императора, и последняя не брезгала самой грязной работой.
Но политические события подвигались исполинским шагом. Французская революция не прошла бесследно и для Корсики; снова возгорелась война, закончившаяся поражением Паоли в 1796 году. Но чем больше сближался Паоли с англичанами, тем больше отдалялась от него семья Бонапартов. Летиция, ее брат Феш и сыновья ее, Жозеф и Люсьен, с воодушевлением приветствовали французскую революцию. Летиция, правда, вначале с тяжелым сердцем сделалась француженкою, но так ею и осталась. Каких воззрений она тогда придерживалась, мы видим ясно из слов, обращенных ею к Наполеону, когда тот жаловался, что не может быть на Корсике, чтобы спасти дорогое отечество от нового нашествия англичан. “Наполионе, – сказала она, – Корсика только маленькая скала, маленькая, ничтожная частица земли! Франция же велика, богата и обильна, – она объята пламенем! Спасти Францию, сын мой, задача благородная, она заслуживает того, чтобы поставить на карту всю свою жизнь”.
Тем временем смерть дяди Люциано избавила его от двадцатилетних страданий и улучшила немного материальное положение Бонапартов, которые хотя и имели несколько земельных участков, но они почти не приносили никакого дохода. Ночью с 15 на16 октября 1791 года старик призвал к себе родных и сказал рыдавшей Летиции: “Не плачь, Летиция! Я умираю довольный, потому что оставляю тебя, окруженную сыновьями. Жозеф стоит уже во главе страны,[7] он сможет вести и дела семьи. А ты, Наполеон, станешь великим человеком!” Как и в какой мере исполнилось затем это пророчество, добрый дядюшка, наверное, не мог предвидеть.
Но положение Бонапартов на Корсике становилось все более и более затруднительным; на острове разразилось восстание. Наполеон попытался во главе республиканских войск выступить против национального героя, которому некогда поклонялся, но тщетно. Некоторое время патриоты одерживали одну победу за другой. Обращение Люсьена к конвенту дало паолистам повод с большей ненавистью относиться к Бонапартам. Наполеон понял опасность, грозившую ему и семье. Чтобы спастись от Паоли, который поклялся захватить живой или мертвой ненавистную семью. Летиция принуждена была бежать вместе с детьми. “Однажды ночью, – рассказывает Люсьен, – мать проснулась от шума голосов. Поднявшись на постели, она увидела, что вся комната была полна вооруженными людьми. Ей показалось, что это люди Паоли. Но отблеск горящей лучины упал на лицо предводителя, и она увидела Косту из Бастелики, одного из преданнейших наших друзей. «Скорей, синьора Летиция, – закричал он, – они преследуют нас по пятам! Нельзя терять ни минуты! Я тут со всеми своими людьми, им не удастся похвастаться, что они захватили вас в плен, остальное я вам расскажу по дороге. Мы спасем вас или умрем вместе с вами! Скорей! Скорей!»”
Мать и дети быстро поднялись и еле успели одеться. Взять что-либо с собой не было времени. Ключи от дома они передали семейству Браччини, которое ночью убрало все компрометирующие бумаги. И, молча, во главе вооруженного отряда, Бонапарты, за исключением двух младших, Каролины и Иеронима, оставленных у родных, покинули спящий город. Они отправились сначала в Миллели, в свою усадьбу, недалеко от Аяччио. Но и там они были не в безопасности. Пришлось уйти в горы. Часто слышали беглецы, как внизу, в долине, ищут их вражеские отряды, но Провидение воспрепятствовало встрече, которая могла стать роковой для семьи.
Возвышенный, сильный характер Летиции преодолевал все трудности, все заботы и вселял мужество в отчаявшихся детей. Тонкие ботинки Элизы не годились для непроходимых тропинок в скалистых горах; ее ножки были покрыты сплошь ранами, и она плакала от жестокой боли. Мать все время утешала и ободряла ее. Издали видела Летиция свой дом, который разграбили и отчасти разрушили люди Паоли; но она не моргнула и глазом, хотя сердце ее должно было обливаться кровью, – она осталась теперь без всяких средств. Только горькие черточки легли вокруг ее плотно сжатых узких губ, глаза широко раскрылись, – то был признак, что она переживает сильное волнение.
После двух ночей непрерывного бегства они заметили наконец в просвете между деревьями паруса французской эскадры, которая должна была отвезти беглецов покамест в Кальви. Их встретил Наполеон, блуждавший по берегу и искавший свою семью.
Преодолев многочисленные опасности, Бонапарты в июле 1793 года приехали в Тулон. Но пребывание там было не совсем безопасно для корсиканских беглецов. Республиканцы и революционеры боролись из-за города, и каждую минуту можно было ждать осады. Помимо этого жизнь в Тулоне была слишком дорога для опустевшего кошелька Летиции. Поэтому она переехала с детьми в деревню Ла-Валетт, немного времени спустя в Бандоль и, наконец, в Ниццу, где стоял полк Наполеона. Впоследствии она поселилась в Марселе.
Летиция думала, что во Франции ее примут как эмигрировавшую патриотку и окажут ей необходимую поддержку. Но ошиблась. Никто не заботился о многочисленной бедной корсиканской семье. Лишившись всего, что у нее было, Летиция вместе с детьми очутилась в величайшей нужде: все ее достояние на Корсике было отчасти разграблено, отчасти разрушено и конфисковано. Теперь пришлась очень кстати ее расчетливость, в которой так часто ее упрекали.
Сначала Бонапарты поселились в Марселе, в маленькой мансарде на улице Павильон, потом же переехали в подвал, в дом отчасти разрушенный террором, в котором нашли приют несколько корсиканских семейств эмигрантов. Мать Наполеона сносила все лишения с таким разумным спокойствием и с таким достоинством, что все кругом приходили в изумление. Император говорил впоследствии: “У нее голова мужчины на теле женщины!”
В Марселе Летиция жила более чем скромно. В конце концов она подавила свою корсиканскую гордость и обратилась в благотворительное общество, прося вспомоществования себе и детям; скудного офицерского жалованья, которым Наполеон должен был покрывать все потребности, семье далеко не хватало. Теперь же Летиция имела, по крайней мере, обеспеченный кусок хлеба. В общем, у Бонапартов было ровно столько, чтобы не умереть с голода. Летиция не слишком страдала от этих плачевных обстоятельств. – гораздо больше ее три красивые дочери, из которых Марианне (Элизе) было восемнадцать лет, Марии-Аннунциате (Полине) – пятнадцать и Марии-Шарлотте (Каролине) – тринадцать. Мать заставляла их усердно работать: будущие королевы и княгини должны были мыть посуду и вытирать пыль. В скромных платьях и дешевых шляпах за четыре су ежедневно делали они скромные покупки по хозяйству. Дома же мать и дочери шили и штопали: они были в то время для себя и портнихами, и модистками.
Благодаря чрезвычайной расчетливости Летиции и ее беспрестанным поискам поддержки, положение несколько улучшилось. Они могли вскоре взять приличную квартиру и переехали на улицу Римского предместья, чтобы сделать одолжение Наполеону, который начал уже иметь некоторое влияние на окружающих. Комиссары благотворительного общества выдали Бонапартам единовременное пособие, давшее Летиции возможность купить для себя и дочерей немного одежды и белья, в котором они так нуждались.
Знакомств у Бонапартов в Марселе вначале почти не было. Они были слишком бедны, чтобы поддерживать какие-либо связи. Впоследствии, когда их положение несколько улучшилось, они сблизились с богатой купеческой семьей Клари, старшая дочь которых в 1794 году стала женой Жозефа. Несколько корсиканских семейств, среди них семья генерала Цервони, финансового советника Виллеманзи, впоследствии горячего поклонника наполеоновского гения, а в то время, вероятно, красоты Летиции, два комиссара, Фрерон и Барра, – вот и весь круг знакомства Бонапартов. Благодаря влиянию этих семей они получит давно желанную пенсию, которую выдавало правительство всем пострадавшим корсиканским патриотам. Она равнялась семидесяти франкам в месяц для женщин и стариков и сорока пяти франкам – для каждого ребенка моложе пятнадцати лет. Посещения Фрерона объяснялись, вероятно, изящной прелестью Полетты, у которой элегантный молодой человек пользовался взаимностью.
Когда, в конце сентября 1793 года, Наполеон был назначен Командиром батальона осадной артиллерии под Тулоном, Летиция, желая быть поближе к сыну, пожинавшему свои первые лавры, поселилась в окрестностях осажденного города. Здесь он, мог лучше и легче помогать ей. И, действительно, скоро слава сына и брата осветила собою всю семью: взятие Тулона положило конец бедственному положению Бонапартов.
Когда Наполеон сделался бригадным генералом, встал во главе артиллерии итальянской армии и получил звание инспектора береговых батарей, служебные обязанности заставили его уехать в Антиб. Весною он вызвал туда свою мать и сестер и поместил их в замке Салле. Здесь Летиция продолжала вести прежний скромный образ жизни, хотя последняя, по сравнению с марсельскою, могла быть с успехом названа блестящей. Она никогда потом не забывала пребывания в старинном, залитом солнцем живописном замке. Будучи матерью императора, она говорила, что провела там счастливейшее время своей жизни. Жители Антиба вспоминали долго потом, как мадам Бонапарт сама полоскала белье в протекавшей около замка речке.
Это не мешало, однако, Летиции открыть у себя “салон”. На этом настаивали ее жизнерадостные дочери. В дом матери Наполеон приводил своих товарищей, молодых симпатичных офицеров, и сам всегда присутствовал на вечеринках. Они ставили спектакли, декламировали, танцевали, и в замке Салле с утра до вечера царило веселье: об этом заботилась веселая резвушка Полетта.
Следующим летом Летиция вместе с сыном переехала в Ниццу и лишь после пятимесячного отсутствия снова вернулась в Марсель. Тем временем Жозеф женился на богатой Жюли Клари. Мать надеялась, что второй ее сын женится на младшей Дезире, но злые языки утверждали, что для Клари вполне достаточно одного Бонапарта.
Женитьба Люсьена на Кристине Бойе, дочери содержателя гостиницы, пришлась не по вкусу семье, но простая Летиция скоро примирилась с невесткой, потому что последняя была скромна, нетребовательна, беззаветно любила своего мужа и подарила ему детей. Это нравилось корсиканке.
Гораздо больше разочарования доставила ей женитьба ее сына Наполеона на бывшей виконтессе де Богарне, вдове генерала, кончившего свою жизнь на эшафоте. Летиция настолько рассердилась на этот поступок своего сына, что продлила свое пребывание в Марселе, хотя Наполеон и настаивал, чтобы она поскорее переехала в Париж. Еще больше горя доставило ей то, что этот брак не был освящен церковью. Благочестивая вера Летиции страдала от этого. Суеверная, как все Бонапарты, она видела в этом дурное предзнаменование для будущего Наполеона. Короче говоря, новая невестка, элегантная светская дама, виконтесса, вращавшаяся в легкомысленном парижском обществе, о которой рассказывали целый ряд пикантных историй и которая была слишком стара для ее сына, совсем не пришлась по вкусу простому корсиканскому сердцу. Летиция не верила в то, что Жозефина может дать счастье своему мужу. Больше всего, однако, ее материнская гордость была оскорблена тем, что Наполеон, вопреки всем корсиканским традициям, не испросил разрешения на брак у матери как у главы семьи. Тем не менее она в любезном тоне ответила на письмо генеральши Бонапарт. Она написала ей, между прочим: “Будьте уверены, что я питаю к вам нежные чувства матери и люблю вас точно так же, как своих собственных детей”.
Горе Летиции по поводу этого брака было вскоре рассеяно назначением Наполеона главнокомандующим итальянской армии. И когда Наполеон по пути в Италию заехал в Марсель, чтобы проститься со своими, она обняла его со словами: “Ну, теперь ты большой генерал!” В этом была вся гордость, все счастье матери. Благословение ее сопровождало его на поле сражения. Когда он, уезжая от нее, направился навстречу славе и блеску, она крикнула ему вслед: “Будь осторожен! Не являй больше храбрости, чем нужно для твоей славы! Господи! С каким нетерпением буду я ждать каждого сражения; да хранят тебя Господь Бог и Святая Дева Мария!”
Когда Летиция впоследствии вместе со своими детьми увидела в Италии победителя Монтенотто, Миллезино, Кастильонэ и Арколэ, бледного худощавого генерала, не знавшего ни покоя, ни отдыха, она горячо прижала его к своей груди и сказала: “О Наполионе, я счастливейшая мать на земле!” Но у нее вырвались и заботливые слова: “Ты губишь себя?” – “Наоборот, – возразил весело Наполеон, – мне кажется, что только так я и живу!” – “Скажи лучше, – заметила Летиция, – что ты будешь жить в памяти потомков, но не теперь!..” – “А разве, синьора, – ответил сын (она очень любила, когда ее называли синьорой), – а разве, синьора, это значит умереть?”
Мадам Бонапарт отправилась в Марсель. Оттуда вместе со своей дочерью Элизой, ставшей тем временем Фелицией Бачиоччи, она вернулась на родной остров, освобожденный, наконец, от английского гнета. С какой радостью приветствовала она старые любимые скалы! Бедная и беспомощная, когда-то она спасалась бегством от своих преследователей, теперь же – возвращалась матерью прославленного итальянского победителя. Найдя свой дом разрушенным и опустошенным, она тотчас же принялась за обустройство своего гнездышка. Но чрезмерные усилия, заставившие ее слечь в постель, продлили ее пребывание на Корсике. Только из разговоров и из газет она узнала о триумфе, которым был встречен ее “большой генерал” при возвращении в Париж.
Во время пребывания Наполеона в Египте английские известия часто нарушали спокойствие матери победителя, распространяя слухи об его смерти. Но твердую веру Летиции в его гений нельзя было так легко поколебать. Однажды, когда у нее в Аяччио собралось много народа, она сказала с твердой уверенностью: “Мой сын не погибнет в Египте такой жалкой смертью, как бы хотелось его заклятым врагам. Я чувствую, что ему суждено нечто большее”. Она тоже верила в звезду Наполеона.
Когда генерал Бонапарт из Египта направился во Францию, мать его тоже покинула родной остров. За несколько дней до его въезда в Париж она приехала туда, не зная, что так скоро увидит его.
Разразились события 18 брюмера. Летиция, жившая у Жозефа, содрогалась за судьбу своих детей, точно мать Гракхов.[8]
Внешне, однако, она волнения своего не выказывала. Только мертвенная бледность покрывала ее лицо, и каждый шорох заставлял ее вздрагивать. Будущая герцогиня Абрантская, находившаяся 18 брюмера вместе с матерью и сестрой Полиной в театре Фейдо, рассказывает следующее о состоянии Летиции в эти дни: “Мать была, по-видимому, чрезвычайно взволнована и озабочена. Она, правда, не говорила ничего, но то и дело выглядывала из дверей ложи. Мы заметили, что она кого-то поджидает. Поднялся занавес, и спектакль начался. Но вдруг к рампе подошел режиссер, поклонился и громко заявил: “Граждане, генерал Бонапарт только что подвергся в Сен-Сире покушению со стороны изменника отечеству!”
При этих словах Полина испустила пронзительный вопль. Мать, потрясенная не менее ее, старалась ее успокоить. Сама она была бледна, как мраморная статуя. Но как ни потрясло ее это известие, на ее все еще прекрасном лице нельзя было заметить ничего, кроме небольшой страдальческой складки около губ.
Она наклонилась над дочерью, взяла ее руку, крепко сжала и сказала повелительным тоном: “Полетта, к чему эти крики? Молчи! Разве не слышала ты, что с твоим братом ничего не случилось, успокойся и встань. Пойдем, узнаем подробности”.
Впервые Летиция решила пойти к своей невестке Жозефине, у которой могла узнать наиболее точные сведения о положении сына. До сих пор она избегала ее, потому что думала, будто Жозефине нет никакого дела до ее забот о любимом Наполеоне. Она не могла простить ей неверности сыну во время пребывания его в Италии и в Египте. Летицию смущало так же и то, что она не подарила ей ни одного внука: мать стольких детей относилась презрительно к бесплодной невестке.
ГЛАВА III. ДЕТСТВО НАПОЛЕОНА
“Генерал, я родился, когда отечество пало! Тридцать тысяч брошенных на наш берег французов, наводнивших кровью трон свободы, – вот та страшная картина, которая впервые предстала моему взгляду!” Так писал двадцатилетний Наполеон Пасквале Паоли, когда предполагал посвятить ему свою “Историю Корсики”.
Его корсиканская родина должна была, в силу договора 15 мая 1768 года, подчиниться владычеству Франции, но еще целый год она с оружием в руках защищалась от вторжения неприятеля. И лишь после сражения при Понте-Нуово, 8 мая 1769 года, корсиканцы подчинились своей участи. Карло Бонапарт не бежал после этого поражения, как часто думают, вместе с Пасквале Паоло в Монте-Ротондо, а отправился с Климентом Паоли в Ниоло, решившись продолжать борьбу. Им не удалось, однако, побудить народ к дальнейшему сопротивлению, и Карло пришлось отправиться в Вико вместе с женой, которая, несмотря на близкие роды, ехала вместе с ним по горным тропинкам скалистого острова. Дядя Летиции, Пиетро-Санто, раздобыл им пропускное свидетельство, и 7 июля 1769 года они благополучно прибыли наконец в Аяччио. И хорошо: молодой женщине было давным-давно пора отдохнуть. Трудности тяжелого похода, несмотря на ее крепкий организм, не прошли для нее бесследно. Тем не менее 15 августа 1769 года, в день Вознесения Богородицы, она решила пойти на мессу в собор Notre Dame, находившийся вблизи ее дома, чтобы испросить благословения Богородицы для ребенка, которого носила под сердцем.
Был дивный летний день. Солнце изливало свои золотые лучи на дома, празднично убранные цветами и гирляндами; празднично одетые люди стремились в широко раскрытые двери церкви и наполняли улицу и площадь своим радостным настроением, к которому примешивался торжественный перезвон колоколов.
Началась месса. Толпа благоговейно внимала священнику, который начал “Gloria in excelsis Deo”. Только у Летиции было на душе неспокойно. Она почувствовала первые признаки родов. Быстро вышла она из церкви и в неописуемом страхе побежала домой. Но не успела дойти до своей спальни, как в первой же комнате, на диване, родила ребенка. Относительно легенды о коврах с картинами из “Илиады” она сама потом часто говорила: “На Корсике у нас зимой не было ковров, а тем более летом”. Дом, в котором родился Наполеон Бонапарт, на Via Malerba – теперь Rue Napoléon, – больше не существует. Дом же, который показывается теперь в Аяччио туристам, в котором будто бы увидел свет император французов, восстановлен лишь в 1796 году из развалин, в которые превратила его в 1793 году ярость паолистов. Как снаружи, так и внутри он совершенно изменился, и в нем не осталось ничего, что могло бы напомнить о детских годах Наполеона.
Ребенок, которому подарила жизнь Летиция, оказался мальчиком с чрезвычайно большой головой. Пронзительным криком приветствовал он свое появление на свет и кричал до тех пор, пока его не уложили в колыбельку. При рождении его не присутствовало ни акушерки, ни доктора. Невестка Летиции, Гертруда Паравичини, и бабка Саверия Бонапарт, считавшая своим долгом ежедневно молиться за каждое новорожденное дитя своей невестки и, наконец, благодаря плодовитости Летиции принужденная ежедневно выслушивать восемь месс, и затем старая служанка Катарина оказали матери и ребенку нужную помощь.
Ввиду слабости ребенка его окрестили тотчас же. Назвали его Наполеоне или, по-корсикански, Набулионе, – именем, которое хотя на Корсике и не встречается часто, но все же довольно распространено там и пишется и произносится самым различным образом. Так, кроме обеих форм – Наполеон и Набулионе, – есть еще: Напулеон, Наполеонус, Напулеонус, Непулеонус, Неаполеон, Неаполеонус, Неаполео, Неапулео и Неаполониус. Карло Бонапарт назвал своих трех сыновей точно также, как его дед со стороны отца, назвавший своего старшего сына Джузеппе, второго Наполеон и третьего Люциано.
Настоящие крестины маленького Наполеона состоялись только 21 июля 1771 года, одновременно с родившейся 14 июля сестрой Марианной, которая умерла, однако, в 1776 году. Архидиакон Люциано крестил сына и дочь своего племянника; восприемниками обоих детей были тетка Гертруда Паравичини, сестра Карло, и Лоренцо Джиубега, королевский прокуратор в Кальви. Гертруда Паравичини была такой же мужественной и интеллигентной корсиканкой, как и Летиция. Подобно ей, она вместе со своим мужем, Николо Паравичини, принимала участие в войне за независимость и не страшилась ни опасностей, ни лишений. Маленькие Бонапарты любили ее и постоянно вспоминали о ней в своих письмах, когда учились во Франции. Лоренцо Джиубега был близким другом Карло. Оба они сражались с Паоли за свободу и впоследствии всю свою жизнь имели одинаковые взгляды.
Раннее детство Наполеона не отличается ни в чем от прочих детей. До двух лет он был, по словам Летиции, спокойным, тихим ребенком, за которым ухаживали мать, бабка и кормилица Камилла Илари. Впоследствии, однако, проявился его необузданный темперамент. Он был самым непослушным из всех детей Летиции. Упрямый и настойчивый, он всегда делал, что ему хотелось. В этом его поддерживала Камилла, которая бесконечно любила его. Нередко в семье Бонапартов происходили из-за него ссоры, особенно между Саверией, бабкой с отцовской стороны, и кормилицей. “Служите уже лучше свои мессы, только оставьте в покое моего Наполеона”, – говорила обычно с досадой Камилла и кончала тем споры.
По счастью, мадам Бонапарт была энергичной женой и матерью, сумевшей вселить в сына своего уважение. А это было безусловна необходимо, так как отец был чересчур слаб и снисходителен к детям. Каким упрямым ни был в детстве Наполеон, авторитет матери он признавал всегда. Впоследствии он был ей благодарен за эту строгость: “Матери и ее строгим правилам я обязан всем своим счастьем и всем тем, что я сделал хорошего. Я утверждаю даже, что все будущее ребенка зависит от матери”.
В детской маленьких Бонапартов было всегда очень оживленно. Мать, желая предоставить им больше свободы движения, отдала им в конце концов большую комнату. Здесь Наполеон в кругу своих братьев и сестер провел первые свои детские годы. Жозеф и Люсьен рисовали на стенах человечков, шумели и прыгали, Наполеон же выказывал особую любовь к солдатам и обнаруживал ее даже в своих попытках рисования. Опоясавшись деревянной саблей, с бумажным шлемом на голове, он подымал адский барабанный бой, а когда сестры не тотчас же уступали ему, он не скупился на пинки и толчки. В доме его не называли иначе, как “Ribulione”. Особенно приходилось терпеть от него мягкому по характеру Жозефу. “Я был упрямым мальчиком”, – говорил впоследствии о себе император. – Мне ничто не импонировало, ничто не вселяло уважения. Я был сварлив и драчлив, – не боялся никого. Одного я бил, другого царапал и все боялись меня. Особенно же страдал от меня мой брат Жозеф. Я колотил и кусал его. И его же потом за это ругали, потому что, пока он оправлялся от страха, я шел уже пожаловаться на него матери. Моя хитрость была очень кстати: мать не терпела драки!”
Все запретное прельщало Наполеона, хотя он великолепно знал, что его ждет за это наказание. Но Летиция понимала необузданный темперамент своего Наполеона. Она была в отчаянии и видела опасность в его характере, столь отличавшемся от всей семьи. В надежде несколько смягчить этот характер, она поместила его пяти лет в школу для девочек. Наполеон часто вспоминал потом об этом счастливом времени среди маленьких девочек, которые послушно и робко исполняли все то, чего требовал от них дикий, необузданный мальчик. Он был там в родной стихии, но остался таким же диким, драчливым и упрямым. Его живость и то, что он был единственным мальчиком в школе, сделали его любимцем благочестивых сестер. Они баловали его сладостями и ласками: маленький Наполеон скоро понял это и сумел использовать свое положение.
Когда он немного подрос, его вместе с Жозефом отдали в иезуитскую школу, а потом в другой институт в Аяччио. Там учителем его был аббат Реко; Наполеон завещал ему на Святой Елене двадцать тысяч франков за то, что он “научил его читать”.
Любовь мальчика к цифрам снискала ему прозвище “маленького математика”. Он мог целыми часами решать математические задачи. Восьми лет его любовь к арифметике дошла до того, что мать велела специально для него выстроить на террасе своего дома маленькую будку, в которой он мог решать свои задачи. Там Наполеон просиживал целые часы и лишь под вечер выходил оттуда, рассеянный, небрежно одетый, с растрепанными волосами и спустившимися чулками. Потом отправлялся гулять солидно, точно взрослый, под руку со своей маленькой подругой из женской школы. Сверстники смеялись над ним и кричали:
Napoleine di mezza calzettaFa l'amore a Giocominetta![9]__________
Наполеон сердился на такие насмешки и яростно бросался на них с палкой или камнем. Как ни многочисленны были его враги, он никогда не боялся напасть на них или защищаться. Его властная натура не знала опасностей.
Такими и еще многими другими приключениями полна детская жизнь Наполеона. Очень часто они придуманы с той целью, чтобы объяснить недетское развитие его выдающегося характера. Не менее достоверны черты его детской жизни, о которых повествует мать, а также очень часто и показания его братьев, поскольку они не обусловлены завистью, воображением или антипатией.
Отец Карло Бонапарт оставил тоже “Livre de raison”, в которую заносил все события, происходившие в его семье. “Я, Карло ди-Буонапарте, – пишет он, – решил с 1780 года написать мемуары своей семьи, так как опыт показал мне, какую большую пользу могут принести многие необходимые сведения для сохранения блеска и славы рода. Только что у меня родился новый наследник, и я предлагаю тому из моих детей, кто больше всего к этому способен, продолжить мою повесть. Таким образом мы отомстим за пережитые страдания и бедствия прошлых лет!” Читая эти слова, приходишь почти в изумление от ясновидения отца Наполеона.
Что Наполеон действительно обладал невероятной склонностью ко всем военным делам, не подлежит никакому сомнению. Что же, однако, означает такая склонность в детстве? Ведь почти все мальчики охотно играют в солдаты. Смешнее всего говорить, однако, о том военном достоинстве, которое будто бы уже в детстве проявилось у него. Так, рассказывают, что однажды он бросился со своей деревянной саблей на огромного гренадера, который рассмеялся над маленьким карапузом. Когда Наполеону заметили, что офицер, которым он так хочет быть, не дерется с простым солдатом, он будто бы спросил: “Зачем же у него в таком случае сабля, если он не имеет права ею защищаться?” В другой раз солдаты наклеили ему усы. Он побежал к матери и попросил у нее пять франков, чтобы вознаградить своих приятелей. Летиция будто бы не отказала ему в просьбе. Все эти рассказы из детства великого человека были распространены в народе. Но большинство их лишено и тени правды. Во-первых, Бонапарты были не настолько богаты, чтобы они из-за детского каприза выбрасывали пять франков, а во-вторых, расчетливая Летиция была совершенно не способна на такую расточительность. Первый же анекдот вообще не соответствует детским наклонностям. Точно так же сомнительно и то, что маленький Наполеон имел два офицерских мундира и маленькую железную пушку с лафетом. Таких дорогих игрушек Летиция своим детям не дарила. Неправдоподобна и его дружба с солдатами в Аяччио. Просто-напросто он, вероятно, как и все его сверстники, смотрел на упражнения солдат, восторгался их формой и в конце концов не думал ни о чем другом, как о том, чтобы стать храбрым солдатом.
Когда Наполеон поступил в иезуитскую школу, Летиция каждое утро давала ему с собою кусок белого хлеба. Однажды она услышала от знакомых, что он по дороге в школу часто съедает большой ломоть черного хлеба. Летиция не понимала, в чем дело. В доме у нее не было ни крошки черного хлеба. Она спросила своего сына и узнала у него, что он каждое утро обменивается белым хлебом на черный с часовым, мимо которого он проходит. Кроме того, добавил Наполеон, он ведь должен приучить себя к черному хлебу, раз хочет стать солдатом. Да и вообще черный хлеб вкуснее, чем белый.
Несмотря на всю строгость матери, не скупившейся на розги, Наполеон отыскивал пути и средства по временам ускользать от ее бдительного ока. Он бегал с другими городскими детьми по крепостному валу, по берегу и по скалам и играл с ними в солдаты. Он был, конечно, всегда предводителем победившей стороны. Домой он возвращался с разгоряченными щеками, горящими глазами, в промокшем насквозь, разорванном костюме, зная прекрасно, что его ожидает.
Он внимательно прислушивался к рассказам рыбаков и пастухов, с которыми сталкивался на своих прогулках за городом. Все они были истинными корсиканцами, свободными, независимыми и гордыми. О французском владычестве они и слышать не хотели. И мальчику приходилось выслушивать неистовые проклятия на головы французов. Их героем, их богом был Паоли. Только одному Паоли хотели они повиноваться. Другие же рассказывали страшные истории о вендетте; и в их глазах сверкала жажда корсиканской кровавой мести. Многих видел Наполеон с блестящим оружием за пазухой, готовых к кровавому делу, несмотря на страшный запрет.
В семье Бонапартов было уже давно решено, что Наполеон будет солдатом, между тем как из старшего, нежного, мягкого Жозефа, намеревались сделать священника. Необузданный характер Наполеона, его резкие манеры, его худощавое, но крепкое телосложение и смуглый цвет лица казались точно созданными для морского солдата.
Карло и Летиция подумывали о том, чтобы подготовить обоих старших сыновей к предназначенным им профессиям. Но для Бонапартов снова настали тяжелые времена. Несмотря на отличия и должности Карло или, вернее, именно благодаря этим отличиям, ощущался недостаток в самом необходимом, и отец был не в состоянии дать своим детям приличного воспитания. На представительство нужны были деньги, а семья между тем непрестанно возрастала. Кроме того, и сами по себе скудные источники Бонапартов были ограничены и истощены последней войной.
Спасителем в нужде был граф Марбеф, французский губернатор на Корсике. Он дал Карло совет воспитать обоих сыновей на средства короля и обещал ему поддержку для получения вакансий. Он намеревался поместить Наполеона в одно из королевских военных училищ во Франции, а Жозефу раздобыть стипендию в отенском коллеже. Право распоряжаться этой стипендией принадлежало его племяннику, епископу Отенскому. Впрочем, французское правительство относилось дружелюбно к тому, чтобы дети знатных корсиканских семейств получали воспитание во Франции: это способствовало их тесной связи с новым отечеством.
Чтобы быть, однако, принятым в военное училище, мальчик должен был непременно говорить по-французски. Наполеон же – отец которого, правда, говорил почти безукоризненно по-французски – не знал ни единого слова. Помимо итальянского языка, который он начал было изучать в женской школе, его знания ограничивались кое-какими сведениями в библейской истории, арифметике и грамматике. До сих пор – за исключением арифметики – он проявлял больше интереса к повестям своей кормилицы и к рассказам родных, рыбаков и пастухов.
Отец решил поэтому, опять-таки по совету своего друга и благодетеля, послать Наполеона вместе с Жозефом в отенский коллеж, где он должен был научиться французскому языку.
В качестве депутата от корсиканской знати Карло Бонапарт с обоими сыновьями и сводным братом своей жены, молодым Фешем, который должен был закончить свое образование в духовной семинарии Экса – кстати сказать, тоже бесплатно, – 15 декабря 1778 года покинул родной остров. Помимо трех мальчиков, его сопровождал кузен Летиции, Аврелий Варезе, которого отенский епископ, по просьбе своего дяди, назначил субдьяконом. Прощание с матерью, родными, сестрами и братьями и со всем остальным на родном острове было очень тяжело. У всех на глазах были слезы. Только Наполеон был, по-видимому, равнодушен. Кто знает, что происходило в душе этого странного мальчика. Остановившись ненадолго в Марселе у родных и отправив Феша в Экс, Карло, двое детей и Варезе 30 декабря 1778 года прибыли в Отен. 1 января 1779 года двери школы закрылись за обоими Бонапартами, из которых один должен был пробыть там пять лет, а другой только до тех пор, пока не научится в достаточной мере языку своей новой родины.
Отенский коллеж был училищем второго разряда, в которое принимали детей самого раннего возраста и подготовляли их к дальнейшему образованию. Наполеон поступил в школу девяти с половиной лет. Но он не получил воспитания, которое бы ставило его на одну ступень с его будущими однокашниками, и не понимал даже их языка. Перед ним открылся новый мир, существенно отличавшийся от того, в котором он жил до сего времени. В полудиком состоянии вырос он на своем родном острове. В сердцах его земляков еще жило воспоминание о горячей борьбе за свободу. Из их уст ребенок слышал всегда лишь угрозы и проклятия на голову угнетателей отчизны, французов, и поэтому он с самого начала почувствовал невольную антипатию к своим французским товарищам. Их игр он не понимал; его игры на родине почти всегда были связаны с патриотическими или военными событиями. Он не понимал их насмешек, шуток, задорных замечаний и выражений. С единственной мыслью о великом герое, имя которого он каждый день слышал у себя дома, он связывал все свои занятия и игры. Его товарищи тоже не понимали его, – для них корсиканцы были рабами и подданными. Этот маленький отпрыск мало чтимого ими народа, со смуглым лицом, проницательными глазами, жесткими, спадавшими на лоб волосами был для них чужим, был вторженцем: они не знали ничего ни о Корсике, ни об ее населении. Его итальянский акцент, корсиканское, в то время во Франции еще неизвестное имя, которое они произносили – “Наполеоне”, давали повод к насмешкам. Его называли еще “Раille-au-nez”,[10] – прозвище, которое сохранилось за ним и в Бриенне. Все эти насмешки приводили его в бешенство. Одно слово “покоренные”, которым товарищи называли корсиканцев, выводило его из себя. В ярости, едва переводя дыхание, он бросался на насмешников. Но товарищи еще больше смеялись над его неистовством. Благодаря этому в Наполеоне развилось то недоверие к окружающим, от которого потом он никогда не мог избавиться.
Жозеф относился ко всему гораздо более философски. У него был мягкий, спокойный характер, он пропускал насмешки мимо ушей, пока наконец самим мальчикам не надоедало дразнить его.
Чрезвычайно характерен для Наполеона-мальчика портрет его, который нарисовал аббат Шардон в своем письме от 30 июля 1833 года аббату Форьену. Он обучал обоих Бонапартов в Отене французскому языку. “Наполеон, – пишет он, – был в первое время своего пребывания в Отене ворчлив и меланхоличен. Он не играл ни с одним из своих сверстников и обычно гулял совершенно один на дворе”. У него было много способностей, он легко все воспринимал и легко учился. Когда я давал ему уроки, он глядел на меня своими большими глазами, широко раскрыв рот; когда же я повторял ему только что сказанное, он не слушал. А когда я делал ему за это замечание, он отвечал холодно, почти повелительным тоном: «Я все это уже знаю»”.
Этот же учитель рассказывает, что он как-то слышал разговор нескольких учеников в классе. Они как раз дразнили Наполеона Бонапарта покорением Корсики и говорили, между прочим, что корсиканцы трусы. Вначале Наполеон слушал их спокойно, но затем, когда воцарилось молчание, он сжал кулаки и закричал: “Если бы против одного было бы хотя четыре, вы бы Корсики никогда не взяли. Но вас ведь было против одного десять!” И когда аббат Шардон вмешался в разговор и заметил Наполеону: “Но ведь у вас в лице Паоли был такой славный генерал”, он только ответил: “Да, и я хотел бы сделаться таким же, как он!”
Наполеон пробыл в Отене около трех с половиной месяцев. За это время он научился настолько говорить по-французски, что мог без труда учиться вместе с другими. Его пребывание в школе обошлось в 111 франков, сумма все-таки довольно большая для тощего кошелька Карло. Тем временем он с помощью своего покровителя добился вакансии в Бриенне. Для этого ему пришлось претерпеть много унижений и исполнить много формальностей. Но Карло Бонапарт не отступал ни перед чем, что касалось различных просьб и ходатайств. Ему пришлось представить не только доказательства своего знатного происхождения, но и свидетельство о бедности, подписанное представителями известных корсиканских семейств, из которого явствует, что он не может воспитывать своих сыновей на собственные средства. Свидетельство о бедности он раздобыл еще в 1776 году. Оно было подписано двумя корсиканскими аристократами, Аннибалом Фолаччи и Пиетро Колонна д'Орнанно, и, кроме того, адвокатом Стефанополи и уполномоченным Понте, – все они подтверждали, что Карло Бонапарт хотя и дворянин, но не обладает средствами для воспитания детей.
Но этого было еще мало. Карло учинили много препятствий из-за его имени, из-за чуждого для французов имени “Наполеоне” и, наконец, из-за родового герба: потребовали представления не только его описания, но и его изображения. В конце концов, благодаря поддержке Марбефа, ему удалось все же достигнуть цели. Его домогательство при французском дворе увенчалось успехом; он доказал свое знатное происхождение, указав не только на четырех, но даже на одиннадцать предков и представив королевскому комиссару д'Озие де Сериньи свой родовой герб.[11] 10 марта 1779 года Карло получил аудиенцию у короля, а 15-го написал благодарственное письмо д'Озие:
“Имею честь препроводить вам изображение герба моего рода вместе с ответами на предложенные мне вопросы и осмеливаюсь выразить вам сердечную благодарность за ту любезность, с которой вы так быстро отослали свидетельство министру”.
Он был счастлив, что наконец избавился от заботы о воспитании своих двух сыновей. В начале апреля он написал Наполеону, чтобы он отправился в Бриенн, где он его будет ждать. 21 апреля 1779 года мальчик покинул отенский коллеж, но поехал не прямо в Бриенн, а, вероятно, по просьбе Марбефа, отправился на несколько недель в имение Туази-ле-Дезер, к бывшему капитану де Шампо. Сын Шампо вместе с Наполеоном уехал из школы и должен был вместе с ним поступить в военное училище в Бриенне. Из-за болезни, однако, он не поступил туда. Во всяком случае все указывает на то, что Наполеон только 12 мая, в сопровождении прибывшего специально для этого в Туази аббата д'Оберив, уехал в Бриенн и 14-го или 15-го был принят в военное училище.
В Отене Наполеон должен был покинуть своего брата Жозефа, “своего лучшего друга”, как он впоследствии называл его. Прощаясь с братом, Жозеф плакал горькими слезами; но глаза Наполеона оставались сухими, хотя он и знал, что теперь он будет еще более одиноким, и хотя нежно любил старшего брата. Одна-единственная слеза выкатилась украдкою из его глаз, но и она означала при его характере значительно больше, чем все отчаянные рыдания Жозефа. Он, привязанный всею душою к родине, потерял последний остаток живого воспоминания о доме. Теперь уже у него не было никого, с кем он мог бы говорить на своем диалекте, о своей родине, о матери и отце, о младших братьях и сестрах и, главное, о своем идеале, великом Паоли, которому они оба так поклонялись. Теперь он уже не мог больше вспоминать прекрасную золотую свободу в ложбинах и лесах с пастухами и на берегу с рыбаками; теперь Наполеон был более одиноким, чем когда-либо. Для него началась, правда, другая, новая жизнь, но жизнь, которую он должен был разделить с “врагами отечества”. В Отене он мало думал об этом. Но в Бриенне! Найдет ли он там корсиканских друзей, которые разделяли бы с ним его взгляды?
Карло Бонапарт, который приехал в Бриенн раньше сына, сам отвел Наполеона к директору училища. На следующий день состоялся вступительный экзамен по французскому языку, который Наполеон благополучно выдержал. Телосложение его, которое должно было быть безукоризненным у каждого вновь принимаемого ученика, было признано удовлетворительным, хотя он и был слишком мал для своего возраста и имел довольно бледную внешность. Но им владела такая горячая жажда знаний, а большие серые глаза сверкали честолюбием.
Короче говоря. Наполеон де Буонапарте стал стипендиатом короля и поступил в младший класс.
Военное училище в Бриенне, в Шампани, было раньше одним из тринадцати монастырей, которыми обладал в начале восемнадцатого столетия орден миноритов.
Его преобразование в училище относится к 1730 году, но военным оно стало только в 1776 году. Кажется несколько странным, что воспитание молодых офицеров было вручено монастырю.
Когда Наполеон поступил в Бриенн, начальником школы был патер Лелю. Впоследствии он был заменен патером Луи Бертоном, брат которого состоял уже раньше помощником директора. Луи Бертон был энергичным человеком, вновь водворившим порядок в училище, чрезвычайно запущенном при его предшественнике.
В Бриенн принимали не более ста пятидесяти учеников в возрасте от восьми до одиннадцати лет, из которых около шестидесяти воспитывались на средства казны. За каждого стипендиата короля государство уплачивало по семисот франков в год; такую же сумму платили и остальные ученики. Родителям при поступлении детей приходилось заботиться только о белье и платье. Нечего и говорить, что гардероб Наполеона ограничивался самым необходимым. Воспитанники не имели права получать никаких подарков из дома во время их пребывания в училище, кроме платья, книг или необходимых денег. Не дано было им права и посещать родственников. Каникул во французских военных училищах не знали, были только своего рода вакации, в которые часть уроков несколько сокращалась. На карманные расходы младшие получали по одному, а старшие по два франка в месяц.
В училище было пять классов. Греческий язык не преподавался, но зато латинский – в весьма большом объеме. Помимо истории, литературы, географии, математики и катехизиса, преподавались еще немецкий язык, рисование, фехтование, пение, танцы и даже музыка. Последняя, по предписанию военного министра Сегюра, была, однако, отменена, так как он считал гораздо более нужным для молодого офицера знание английского языка.
Педагогический персонал, состоявший из двенадцати монахов и нескольких светских учителей, не блистал крупными величинами. Отрезанные от действительной жизни монастырскими стенами, они не обладали ни педагогической практикой, ни педагогическим искусством.
Физическое развитие воспитанников было поставлено хорошо и приносило действительную пользу здоровью. Каждый воспитанник имел отдельную комнату; общих дортуаров не было, но это не мешало тому, чтобы в Бриенне, по свидетельству самого Наполеона, как и в других интернатах, был распространен известный порок. В каждой комнате стояла кровать, таз и кувшин с водою; другой мебели не было. Воспитанники только спали в своих комнатах. Целый день же они проводили либо в классе, либо в саду.
Форма училища состояла из синей куртки с красным воротником и белыми пуговицами, коротких синих или черных штанов, синего жилета, а зимою еще и синей шинели. Белье воспитанники меняли два раза в неделю. Пища была хорошая и обильная, даже слишком обильная для молодых людей, которые должны были впоследствии претерпевать лишения и трудности походов.
Из учителей юного Наполеона самым интересным был преподаватель математики, патер Патро, сам по себе не отличавшийся особенным умом. Он оценил, однако, скоро способности Наполеона и направил их на верный путь. Хотя Патро придавал своему предмету большое значение, но сам, обладая довольно скудными познаниями, не мог удовлетворить запросов математического гения Наполеона. У последнего, как у всех воспитанников, был так называемый репетитор, старший товарищ по училищу: это был впоследствии столь известный Пишегрю. Он был выдающимся математиком и ввиду своих способностей был назначен репетитором, что считалось весьма почетным званием для воспитанника. Вначале он должен был стать монахом, но склонности его к военным наукам одержали верх. Он сделался артиллерийским офицером. Его способности, проявлявшиеся во время революции, снискали ему славу. Таким образом, Наполеон в течение целого года учился у того, кто впоследствии так упорно жаждал его крови.
Эльзасец, патер Кель, учил Наполеона немецкому языку, а патер Дюпон – французской грамматике. Закон Божий преподавал патер Шарль. Некий Дабоваль, впоследствии унтер-офицер жандармерии, посвятил Наполеона в искусство фехтования. У танцмейстера Жавилье юный Наполеон научился танцевать. Он не проявил больших способностей к грации и плавным движениям; у него часто кружилась голова, но танцевать он все-таки выучился и, действительно, танцевал, несмотря на все, что говорилось и писалось на этот счет. В Валансе он брал даже частные уроки, чтобы иметь возможность танцевать с мадемуазель де Коломбье и мадемуазель де Сен-Жермен.
Так как его французский язык оказался недостаточным для бриеннского военного училища, то Дюпон давал ему еще частные уроки. В одном источнике, найденном всего несколько лет назад и написанном, по-видимому, рукою сверстника Наполеона, Анри де Кастра, говорится про юного Наполеона, что он по приезде в Бриенн почти совсем не умел говорить по-французски. Так как он не выказывал никаких способностей к латинскому языку, то начальство освободило его от этого предмета, и он начал усиленно заниматься французским. Де Кастра говорит о недостаточных познаниях Наполеона во французской орфографии и грамматике и объясняет его своеобразную французскую речь тем, что он никогда не учился латыни.
И действительно, латинский язык доставлял ему большие трудности. Вообще он не считался способным учеником. По литературе и по языкам он отставал от других и только в абстрактных науках выказывал большие способности.
В языке своего нового отечества он все же сделал довольно значительные шаги. Его обороты речи и выговор, правда, выдавали еще иностранца. Синтаксис и орфография были для него камнями преткновения, тем не менее все, что он говорил, было полно жизни и огня. Казалось даже, что этот новый для Наполеона язык не обладал достаточным темпераментом, чтобы выразить все его ощущения.
Его инстинкт и его любовь к военным делам влекли его бессознательно к тем наукам, которые были полезнее для его исключительной карьеры, чем вся латынь, вместе взятая. Стратегия, тактика, математика и особенно древняя и новая история были любимыми предметами Наполеона. Он превосходно знал жизнь древних греческих и римских героев. Все свободное время он посвящал чтению жизнеописаний, которые он читал, однако, не в оригинале, а в переводе. Больше всего любил он Плутарха; охотно читал Полибия и Арриана, но Квинт Курций не был в числе его любимцев. Его характер развивался по образцу этих героев: он старался уподобиться им.
Помимо биографий, Наполеона живо интересовала история его родины. Он с раннего детства приучался делать выдержки из прочитанного, и к моменту поступления в военное училище в Париже у него уже была довольно объемистая груда таких рукописных заметок. При его ненасытной жажде чтения это не неудивительно: в Бриенне он больше всех других своих товарищей брал из школьной библиотеки книг. Но в противоположность другим детям его возраста у Наполеона была способность повторять тут же перед учителем все, только что им сказанное. Его интеллигентность и тонкость понимания математики привлекла внимание учителей и товарищей. Патер Патро называл его своим лучшим математиком, и все были твердо убеждены, что мальчик добьется когда-нибудь выдающегося успеха на этом поприще. Только один из его товарищей не отставал от него в этом отношении: Фовеле де Бурьен. Он был также единственным, с которым Наполеона связывала в Бриенне тесная дружба. Помимо этого у Наполеона была превосходная память на хронологические даты, имена, названия местностей и тонкое понимание топографии, пришедшееся ему весьма кстати, особенно для географии.
Физически он в это время был все еще довольно слаб. Его маленькое худощавое тело состояло, казалось, только из костей, кожи и нервов. На синевато-желтом лице в глубоких впадинах виднелись серые глаза, оттененные густыми темными бровями. У него были впалые щеки и выдающиеся скулы. Тем не менее весь он дышал решимостью и энергией. Доминировавшее в нем чувство честолюбия отражалось во всем его существе.
Утверждают, что Наполеон ребенком, особенно же в Бриенне, всегда отдалялся от игр товарищей. Он никогда не был якобы настоящим ребенком. Утверждение это правильно лишь отчасти. В те дни, когда он, чужестранец, поступил в училище, когда еще он находился под впечатлением нестерпимых издевательств отенских школьников, он, правда, редко вмешивался в крикливую, шумную толпу товарищей. Часто, целыми днями он не произносил ни одного слова, а когда с ним заговаривали, он поднимал голову, пристально смотрел на вопрошавшего и отвечал односложно и коротко. Он недоверчиво относился к французам, которых считал выше себя, хотя бы в языке. Его заставляла замыкаться боязнь быть посмешищем. Из-за своего робкого характера мальчик казался недовольным и задумчивым. Вместо того чтобы приспосабливаться, он отдалял от себя всех тех ребят, которые могли бы стать его близкими друзьями. Он называл себя корсиканцем, а не французом и пробуждал, благодаря этому, антипатию в окружающих. Он постоянно искал одиночества, где бы ему не мешали учиться, где бы он мог всецело отдаться чтению и где мог бы остаться наедине со своими героями.
Первое время своего пребывания в Бриенне он весь свой досуг посвящал обработке крохотного садика, который был у каждого ученика. Из досок и сучьев он решил построить себе маленькое, уютное гнездышко. Так как ему показалось мало его части, то он уговорил своего соседа уступить ему его участок. Добившись этого, он тотчас же принялся окружать свой садик стеною. Горе тому, кто посмел бы непрошено проникнуть в его святыню или перелезть через стену! Наполеон весь бледный, со сверкающими глазами, бросился бы на него и начал бы драться чем попало, не обращая внимания на то, со сколькими ему пришлось бы воевать.
Такой отличный ото всех характер должен был, естественно, обратить на себя внимание как учителей, так и воспитанников. Первые старались всеми способами сблизить этого замкнутого юношу с его товарищами, но Наполеону нужно было немало времени, чтобы переломить себя и приспособиться к ним. Он, легко свыкавшийся впоследствии со всеми ситуациями в жизни и говоривший: “Там, где развевается французское знамя, я дома”, он ребенком очень трудно мирился с новым положением. Он был чрезвычайно чувствителен и невыразимо страдал от насмешек или иронии. Самолюбивый и гордый, он не позволяли никому насмешливых замечаний ни над ним самим, ни над близкими, ни над Корсикой и его городом. Он в высшей степени хладнокровно сносил все физические наказания, никогда не показывал, что ему больно: он должен был доказать этим заносчивым французам, что корсиканец не ведает страха. Но сносил он только наказания, не оскорблявшие его чести. Однажды за какой-то проступок он должен был надеть покаянную рясу и босиком, стоя на коленях, обедать, между тем как все его товарищи сидели тут же за столом. С ним сделался такой сильный нервный припадок и рвота, что учителя были принуждены освободить его от наказания. Впечатление, которое произвело его безграничное волнение на всех, было одновременно и благоприятным, и сомнительным. Как-никак, но решено было не применять таких порочащих наказаний к легко раздражающемуся мальчику.
С другой стороны, он терпеливо сносил даже такие наказания, когда знал, что действительно заслужил их. Так, однажды его лишили звания начальника школьного отряда, заявив ему, что он недостоин его, так как относится недружелюбно к товарищам. Из учителей и старших воспитанников был избран военный суд, который присудил Наполеона к разжалованию. Приговор был прочтен перед всеми товарищами, и с мальчика сняли знаки отличия. Он не показал и тени волнения, хотя, наверное, несказанно страдал от этого оскорбления его самолюбия. Но наказание дало превосходные результаты: товарищи преклонились перед его стойкостью и начали присматриваться ближе к этому странному мальчику, который так их чуждался.
Наполеон сам пошел им навстречу и перестал быть замкнутым.
Привыкнув немного к ним, он стал принимать участие в их играх, и сделался таким же ребенком, как они. Когда же они начали дразнить его и смеяться над ним, он заставлял их молчать силою своих кулаков. Он был очень силен, несмотря на слабый вид. Его замкнутость и недоверие превратились в конце концов в зоркую наблюдательность.
Но в играх, которые требовали умения и ловкости, как, например, игра в мяч или серсо, он не принимал никакого участия. Наполеон знал, что для этого он слишком неповоротлив, и никогда не соглашался играть вторую роль. Он не снес бы ни поражения, ни насмешек над своей неповоротливостью и предпочитал поэтому стоять в стороне. Но зато в других играх, в “разбойники” или в “охоту”, он был всегда первым. Больше всего любил он “охоту”: “охотники” со своей “сворой” должны были преследовать “оленя”, по большей части самого быстрого бегуна.
Но охотнее всего Наполеон устраивал военные игры. Сражение и осада могли выводить его из постоянно замкнутого и угрюмого настроения и вызывать в нем пламенное воодушевление. Он отличался в них своею ловкостью и находчивостью. Его рыцарское поведение, его способности и особенно его превосходство в военных упражнениях и играх победили в конце концов ту антипатию, которую вначале питали к нему товарищи. Они боялись теперь дразнить его, так как знали, что его остановить не может ничто. Влияние, которого вскоре добился Наполеон, было настолько велико, что они слушались его и устраивали игры только по его желанию. Чтение древних авторов принесло свои плоды. Его изобретательный гений восстанавливал то чрезвычайно любопытные эпизоды из греческой и римской истории, то сцены из Олимпийских игр, то устраивал импровизированные сражения и осады.
Особенно благоприятной для таких забав была суровая зима 1783 года. В этом году в школе подробно преподавалась фортификация, к которой Наполеон обнаружил живейший интерес и напряженное внимание. Теперь благодаря обильному снегу, выпавшему на школьном дворе, Бриеннское училище могло применить теорию на практике. Быстро и уверенно раздавал он приказания. Каждый день под его руководством строились валы и рвы, и школа превратилась в настоящий снежный форт, возбуждавший любопытство даже у жителей города. Воспитанники разделились на два лагеря. Бонапарт то защищал укрепления, штурмовавшиеся снежками, то переходил на сторону осаждавших. Его талант, его гениальная сообразительность и находчивость в этой игре повергли в изумление учителей и воспитанников. Но никто не предполагал, что маленький корсиканец вскоре повергнет в такое же изумление своим гением всю Европу!
Нередко, однако, эти игры переходили в опасные затеи. Возбужденные пылкостью и воодушевлением Наполеона, школьники забывали, что это игра, – особенно, когда изображали битву между римлянами и карфагенянами. Невинные средства защиты оказывались недостаточными; они хватали камни, и нередко на обеих сторонах оказывались раненые. Ввиду этого игры были запрещены, а зачинщик их, Наполеон Бонапарт, был наказан. Он снова замкнулся в себе.
Бурные вспышки гнева против товарищей были не редкостью у Наполеона. В последние годы его пребывания в Бриенне произошел эпизод, когда он дал волю своему бешенству, забыв про всех окружающих. Дело в том, что ежегодно в честь короля в училище справлялся день Святого Людовика. Воспитанникам предоставлялась в этот день полная свобода. Но главное было то, что каждый воспитанник, достигший четырнадцати лет, получал в свое распоряжение небольшое количество пороха. Последним пользовались для фейерверков, подготовлявшихся в училище задолго до этого дня. Мальчикам давали также ружья и пистолеты, из которых они стреляли, возвещая наступление торжественного дня. Все были, конечно, счастливы, и за неделю до праздника в училище царили оживление и напряженное ожидание. Всех удивило поэтому, что юный Бонапарт, который должен в последний раз справлять в училище день Святого Людовика, ходил с еще более угрюмым и недовольным видом, чем обыкновенно. Весь день не выходил он из своего угла, усердно и ревностно склонившись над своими книгами и атласами. Быть может, он, будущий республиканец, уже тогда не хотел принимать участия в празднике в честь короля? Или это был только каприз? Относительно взглядов Наполеона в те времена ничего не известно; как бы то ни было, но он по каким-то причинам отдалился от общего веселья.
В соседнем саду товарищи готовили фейерверк, который вечером решили зажечь для своих друзей. К девяти часам мальчики собрались в садике и с восторгом окружили произведение своего товарища. Неожиданно раздался взрыв: в открытый ящик с порохом попала искра. Мальчиками овладела паника: все старались как можно скорее спастись из садика. Одним удалось убежать, другие получили ожоги на лице, а третьи упали и сломали себе ноги. В страхе несколько мальчиков перелезли через стену, отделявшую садик Наполеона от соседнего, и coрвали там несколько досок. Заметив это, Наполеон вне себя от злобы и бешенства бросился на товарищей и беспощадно избил их. Какое ему дело до несчастья товарищей? Им владела лишь мысль, что ему помешали работать и нарушили святыню его одиночества. Наполеон обладал железной физической силой и силой воли, приводившими в изумление всех окружавших и возбуждавшими даже негодование.
За год до отъезда из Бриенна, когда Наполеону не было еще четырнадцати лет, ему пришлось отсидеть в карцере. Поводом к этому послужило то, что один из товарищей, с которым он поссорился, позволил себе замечание: “Твой отец простой судебный слуга!” Звание асессора, которым обладал Карло Бонапарт, мальчики толковали именно в этом смысле. Наполеон побледнел как полотно. Зрачки его расширились, лицо сразу стало мрачным. Он вышел из комнаты, но через минуту вернулся с письменным вызовом на дуэль. Этот вызов попал, однако, в руки инспектора, который наказал Бонапарта карцером, а товарищей его оставил без обеда. Наполеон стойко перенес наказание: он готов был снести все, лишь бы не оскорбление.
Близился день отъезда из Бриеннского училища. Еще в 1781 и в 1782 годы инспектор военных училищ, Кералио, отметил его, как способного к абстрактным наукам, и предложил ему поступить в военное училище в Париже. В то время у Наполеона было все еще желание поступить во флот. Несмотря на представления бриеннских учителей, которые указывали Кералио на то, что Бонапарт, в сущности, успевает лишь в математике и находится в школе четвертый год, вместо положенных шести, Кералио все-таки настаивал на Париже. “Я знаю, что делаю, – сказал он тогда. – Если я этим преступаю правило, то делаю это не из-за симпатии к его семье, – лично я вообще мальчика не знаю. Я делаю это только ради него самого. Я подметил в нем искру, которой нельзя дать угаснуть!” С этой целью Кералио выдал ему следующее свидетельство:
“Мсье де Буонапарте (Наполеон) родился 15 августа 1769 г. Рост: четыре фута, десять дюймов, десять линий. Физическое состояние: превосходное. Характер: послушный (!), честный и признательный. Поведение – безукоризненное. Отличается прилежанием к математике. В истории и географии хорошо успевает. Будет превосходным морским офицером. Заслуживает принятия в военное училище в Париже”.
Но Кералио ушел вскоре и умер в том же году. Преемником его был Рейно де Мон. Во время своей инспекторской поездки в 1783 году он выбрал для Парижа только двух воспитанников, среди которых, к величайшему прискорбию отца, Наполеона не оказалось. Он сильно рассчитывал на это, так как на место Наполеона в Бриенне думал отдать Люсьена.
Через год, 21 июня 1784 года, Карло навестил своего сына в Бриенне и привез с собою Люсьена. Кроме того, он отвез Марианну в Сен-Сир и направился в Париж к лейб-медику посоветоваться относительно своей болезни желудка. Это было единственным посещением Наполеона отцом в Бриенне: Летиции очень хотелось повидать сына, но по многим причинам она должна была отказаться от поездки. Во-первых, она была занята своей многочисленной семьей, да и денег для такого дальнего путешествия у нее не было, ведь и Карло вынужден был занять крупную сумму.
Наполеон был счастлив, увидев отца, после столь продолжительной разлуки. Но болезненный вид Карло, со следами страшного недуга, от которого год спустя он умер, вселил в него снова убеждение, что ему придется скоро стать опорой семьи. Жозеф был, по-видимому, малопригоден использовать свое право первенства: он был непостоянен и нерешителен и неожиданно захотел стать солдатом, между тем как все его воспитание было направлено к тому, чтобы он стал священником. Отец был очень озабочен будущим своего старшего сына и говорил об этом с пятнадцатилетним Наполеоном, как со взрослым. Серьезно и озабоченно тот дал несколько советов. Когда Карло уехал, Наполеон 25 июня написал одному своему дяде, вероятно, Николо Паровичини, в Аяччио, следующее письмо, служащее красноречивым доказательством развития практического ума и зрелого образа мыслей пятнадцатилетнего мальчика.
“Дорогой дядюшка, пишу вам сам, чтобы известить вас о прибытии моего дорогого отца в Бриенн. Он везет Марианну в Сен-Сир и хочет посоветоваться в Париже с врачами. Сюда он прибыл двадцать первого с Люсьеном и с обеими барышнями.[12] Люсьена, которому теперь девять лет (ростом он в три фута, одиннадцать дюймов и шесть линий), он намерен оставить здесь. Его приняли в сексту. Он будет учиться по-латыни и по всем другим предметам. Мы надеемся, что из него что-нибудь выйдет. Он чувствует себя хорошо, он толстый, живой, для начала им тут довольны. Он говорит превосходно по-французски и совсем забыл итальянский язык. Впрочем, он сам припишет к моему письму несколько строк. Помогать я ему не буду, чтобы вы убедились, на что он способен. По всей вероятности, он будет вам писать теперь чаще, чем из Отена.
Я твердо убежден, что брат мой Жозеф вам еще не писал. Да и что вы хотите: он не пишет даже отцу! Откровенно говоря, он не тот, что был раньше. Мне он, правда, пишет очень часто. Он в предпоследнем классе и, наверное, был бы первым учеником, если бы прилежнее учился: господин ректор сказал отцу, что во всей школе нет человека, у которого было бы столько способностей, как у него. Что же касается его будущей профессии, он остановился сначала на духовной карьере и настаивал на ней до того дня, когда захотел служить королю. Но эту перемену в нем я считаю по многим причинам неблагоразумной. Во-первых, он, как говорит и дорогой отец, не обладает достаточным мужеством, чтобы сносить опасности сражений. Его слабое здоровье не позволяет ему переносить трудности походов и, кроме того, вообще мой брат смотрит на солдатчину только с точки зрения гарнизонной службы. Очень возможно, что брат действительно станет превосходным гарнизонным офицером: у него приятная внешность, он умеет льстить и со своими способностями всегда сумеет извлечь пользу из салонной жизни, – но при чем тут военное дело? Вот в этом-то сомневается и отец!
Во-вторых, он получил образование для духовной карьеры.
Теперь уже поздно думать о какой-либо другой: Его Преосвященство, епископ Отенский, наверное, помог бы ему выдвинуться, и Жозеф стал бы скоро епископом! Какие блестящие перспективы для семьи! Его Преосвященство сделал все, чтобы уговорить его остаться при прежнем решении, и обещал, что он не пожалеет об этом. Но нет, Жозеф настаивает на своем. Если у него действительно есть решительная склонность к этой деятельности (военной), прекраснейшей, впрочем, которая вообще только существует, и если великая движущая сила всех человеческих поступков вселила в него эту склонность, то я его все же хвалю.
В-третьих, он хочет поступить в армию. Это прекрасная мысль, но в какой корпус? Не во флот ли? Математики он не знает. Потребовалось бы два года, чтобы хотя немного ей научиться. Кроме того, и здоровье его не годится для пребывания на море. Быть может, в инженерные войска, где он четыре или пять лет будет учиться и в конце концов останется простым офицером, тем более что, по-моему, он не годится для такой напряженной работы? То же самое нужно сказать и об артиллерии, с той только разницею, что там придется работать восемнадцать месяцев, чтобы получить звание ученика, и столько же, чтобы стать офицером. Он, наверное, имеет в виду пехоту! Прекрасно! Я понимаю. Он хочет по целым дням ничего не делать, слоняться из стороны в сторону. Что представляет собою такой ничтожный офицер? Плохой солдат три четверти дня, а этого, на мой взгляд, не хотят ни отец, ни мать, ни дорогой мой дядя архидиакон. Жозеф дал уже несколько доказательств своего легкомыслия и расчетливости. Нужно поэтому прибегнуть к последней энергичной попытке уговорить его вернуться к духовной карьере, – в противном случае отец возьмет его с собою на Корсику, где он будет хотя бы у него перед глазами. Он будет стараться поместить его в адвокатуру.
Я кончаю свое письмо с просьбой не отказывать мне и в дальнейшем в вашей благосклонности. Быть достойным ее будет моим первым и прекраснейшим долгом.
Остаюсь с глубочайшим почтением ваш преданный и покорный слуга и племянник Наполеон Буонапарте.
Р. S. Дорогой дядюшка, разорвите это письмо. Будем надеяться, что Жозеф со своими способностями и с чувствами, которые должно вселить в него его воспитание, примет правильное решение и станет опорой нашей семьи. Постарайтесь доказать ему все преимущество этого”.
Как ни юн был Наполеон, он все же прекрасно понимал печальное положение своей семьи, увеличивавшееся почти с каждым годом. Он сознавал необходимость того, что и Жозеф, и он прежде всего должны стараться возможно скорее сделать что-либо, что поддержало бы семью. И вот теперь этот Жозеф, которого он считал таким близким к цели, хочет избрать себе другое поприще, иначе говоря, начать сызнова! Он, у которого такие широкие перспективы! “Какие перспективы для семьи!” В этих словах – весь корсиканец. Наполеон был в отчаянии, тем более что и у него дела обстояли не так, как ему хотелось. Чтобы облегчить отцу воспитание Люсьена, он охотно уступил бы ему свою вакансию в Бриенне, но перевод в Париж все откладывался.
Карло Бонапарт тотчас же обратился по этому поводу к военному министру и попросил его, в случае, если даже перевод Наполеона в парижскую военную школу сейчас еще невозможен, определить Люсьена в училище в Бриенне. Министр, однако, ответил: пока старший состоит в Бриенне стипендиатом короля, до тех пор младший не может получить вакансии, так как два сына одной и той же семьи одновременно не имеют на это права. Карло, однако, не унимался. Он поручил своему родственнику Казанове, который в качестве депутата корсиканских сословий был послан к королю, возбудить ходатайство за Наполеона у министра.
Тем временем здоровье Карло все ухудшалось. Лечение, предписанное ему врачом, казалось, скорее ухудшило его состояние. Поместив Марианну в пансион в Сен-Сире, он принужден был поспешно вернуться на Корсику, не заехав даже в Бриенн к Наполеону. Последний так и не видел отца. Он был очень опечален известием, полученным им, а в сентябре 1784 года написал домой письмо, представляющее собою продолжение его письма к дяде. Будущее Жозефа непрестанно занимало Наполеона, и он должен был еще раз объясниться с отцом по поводу того, что предпринять, так как брат твердо настаивал на своем новом решении. Не верится, чтобы логика, которою проникнуто это письмо, принадлежала пятнадцатилетнему мальчику, настолько точно и ясно выражается он. Он пишет:
“Дорогой отец, ваше письмо, как вы и сами догадываетесь, меня сильно опечалило. Но так как ваше здоровье и благо дорогой нашей семьи требуют вашего возвращения на Корсику, то я могу только преклониться перед вашим решением. Постараюсь как-нибудь утешиться в этом.
Как же не быть, впрочем, счастливым и довольным, раз я уверен в вашей неизменной любви, а также и в вашей заботе всегда помогать и поддерживать меня? Преисполненный этими чувствами, спешу спросить вас, какое действие оказало на вас купание, а также уверить вас в своей всепочтительной, огромной и вечной благодарности.
Я в восторге, что Жозеф вместе с вами вернулся на Корсику, и думаю, что первого ноября, через год то есть, он приедет сюда. Жозеф может быть спокоен: патер Патро, мой учитель математики, не уходит. Наш директор поручил мне передать вам, что Жозеф здесь будет хорошо принят, пусть он только приедет. Патер Патро – превосходный преподаватель математики. Он уверил меня, что с радостью берется обучать моего брата, и если Жозеф будет прилежен, то мы бы могли, может быть, сдавать вместе экзамен по артиллерии. По-моему, вам не надо предпринимать никаких шагов. Я надеюсь, дорогой отец, что вы все же предпочтете поместить его в Бриенне, а не в Меце, по следующим причинам:
1. Потому что это будет большим утешением для Жозефа, Люсьена и для меня.
2. Потому что вам пришлось бы писать директору в Меце, – и это заняло бы только время, и вам пришлось бы долго дожидаться ответа.
3. В Меце не проходят в полгода всего того, что нужно знать Жозефу для экзамена; ввиду этого его определят в младший класс, так как он не обладает никакими познаниями в математике. Эта и еще другие причины должны будут побудить вас прислать его сюда, тем более что здесь ему будет лучше, чем где-либо в другом месте. Я рассчитываю, что он приедет сюда в конце октября. Впрочем, он может уехать и двадцать шестого или двадцать седьмого октября и приехать сюда двенадцатого или тринадцатого ноября.
Очень прошу вас прислать мне Босвелля (Историю Корсики), а также и другие исторические сочинения и мемуары, касающиеся нашей страны. Не беспокойтесь: я их привезу обратно на Корсику, когда вернусь туда, – хотя бы и через шесть лет. Прощайте, дорогой отец. Шевалье[13] шлет вам много сердечных поцелуев. Он работает очень прилежно и хорошо сдал экзамены. Инспектор приедет сюда самое позднее пятнадцатого или шестнадцатого сего месяца, то есть дня через три. Как только он уедет, я вам сообщу его мнение. Передайте Минане Саверна, Гертруде, Николино, Тута и другим моим сердечный привет и кланяйтесь Менано Франческо, Санто Джиованне и Орацио. Напишите мне, здоровы ли они все. Шлю пожелание, чтобы ваше здоровье было таким же хорошим, как и мое.
Ваш преданный и покорный сын
де Буонапарте, второй”.
Наполеон, который тем временем, как явствует из его письма, остановил свой выбор на артиллерии, был, наконец, допущен к экзамену. Его ответы на экзамене в сентябре 1784 года были настолько блестящими, что инспектор Рейно счел на сей раз своим долгом перевести его в парижское военное училище. Он назначил его в отряд “Cadets gentilhommes”, – отличие, которого удостаивались лишь лучшие ученики провинциальных военных училищ. В выпускном свидетельстве его стояло: “Caractère dominant, impérieux et entêté”.
Патент на “Cadet gentilhomme” Наполеон получил 22 октября, a 30-го, в сопровождении своих товарищей, Никола Лорен-де-Монтарби де Дампиерра Жана Жозефа де Коменжа, Анри Александра Леопольда де Кастр-де-Во и Пиерра Франсуа Мария Ложие-де-Беллекура, уехал в дилижансе из Бриенна, где пребыл почти четыре с половиной года. Друг его Фовле де Бурьен провожал его до Ножена. Наполеону предстояло в первый раз увидеть Париж, который принес ему впоследствии столько славы, блеска и счастья, но также и столько страданий!
Таков был мальчик Наполеон.
ГЛАВА IV. ЮНОСТЬ НАПОЛЕОНА
Военная школа в Париже. – В полку “La Fére”. – На родине. – Гарнизон Оксонна (Ноябрь 1784 – сентябрь 1789 года)
Парижская военная школа, в которой юный Наполеон должен был закончить свое теоретическое образование, была в противоположность бриеннской поставлена на довольно широкую ногу.[14] Генерал-лейтенант маркиз де Тембрюн-Валанс управлял училищем в стиле гран-синьора и в сущности нисколько не подходил к этой роли. Субинспектор Рейно де Мон, благодаря своим постоянным поездкам в провинциальные военные училища, очень мало заботился о парижской школе, и поэтому все бремя ее лежало на плечах директора Вальфора, – чрезвычайно добросовестного и интеллигентного человека.
Персонал училища, помимо многочисленных канцелярских чиновников, директора и пр., состоял из ста пятидесяти человек, – цифра весьма солидная по сравнению с незначительным числом учеников, которое не должно было превышать ста тридцати, – из них шестьдесят стипендиатов. Из этих начальствующих лиц было тридцать учителей: шесть по математике, четыре по истории и географии, три по рисованию, три по фортификации, три по немецкому языку, один по английскому, два по литературе, три по верховой езде, три по фехтованию и два танцмейстера. Остальные были служителями в кухне, доме и конюшнях. Кроме того, сторожевую службу нес отряд инвалидов.
Форма парижского военного училища была очень нарядна и составляла предмет гордости молодых людей. Стол был очень обильный, по крайней мере, на первый взгляд, но часто качество уступало количеству. К обеду подавали постоянно шесть блюд: суп, мясо, два жарких и два десерта. Ужин состоял из жаркого, двух других блюд, салата и трех различных десертов. Постом блюд, особенно сладких, бывало еще больше. Здесь, так же как и в Бриенне, каждый воспитанник спал в отдельной комнате.
Помещение училища было просторно и приветливо, а управление его и канцелярия даже роскошны. Стипендиаты и другие воспитанники, которые платили в училище по две тысячи франков в год, пользовались одинаковым преподаванием и одинаковым столом. “Cadets gentilhommes” парижского военного училища имели тот же ранг, что и королевские войска.
Как в Бриенне, так и здесь не существовало ни вакаций, ни отпусков к родным. Неправильно поэтому сообщение, будто Наполеон посетил свою сестру Марианну в Сен-Сире. Только один раз, за день до выхода из школы, он получил разрешение посетить епископа Марбефа, находившегося в то время в Париже, да и то только в сопровождении унтер-офицера.
Развлечением и отдыхом служили военные упражнения и верховая езда. Два раза в неделю бывали упражнения в стрельбе; более слабые и неповоротливые должны были, однако, упражняться ежедневно в обращении с оружием и артиллерийскими снарядами.
В училище вошло в обычай, что каждый старший ученик брал на себя разъяснение военных инструкций новичку. “Старшим” Наполеона был шевалье де Мазис, который находился в училище с 1783 года. С ним Наполеона связала скоро искренняя и прочная дружба.[15] Напротив того, в другом товарище, Фелипо, он приобрел себе уже в училище заклятого врага на всю жизнь.
Широко распространено мнение, будто Бонапарт, изумленный господствовавшей в училище роскошью, подверг ее резкой критике в письме, обращенном ко второму директору бриеннского училища, патеру Бертону, окончательно опровергнуто Массоном и Шюке. Правда, мысли, изложенные в этом письме относительно устройства “Hôtel du Champ de Mars”, как до сих пор называется еще военное училище, согласуются с тем, что Наполеон писал во время своего пленения. “Нас превосходно
кормили, за нами ухаживали и обращались превосходно, во всяком случае лучше, чем в большинстве наших семейств и чем многие из нас могли себе в будущем позволить”.
Наполеону, который ни на Корсике, ни в Бриенне не был в этом отношении избалован, такая постановка дела должна была показаться чрезвычайно роскошной и расточительной. Он не принимал, однако, во внимание, что кроме шестидесяти стипендиатов, сыновей бедных дворянских семейств, училище посещало еще семьдесят отпрысков богатейших и знатнейших придворных аристократов, которые платили, несомненно, высокую для того времени сумму в две тысячи франков в год. Такого впечатления, как Наполеон, наверное, не получили носители таких имен, как Роан-Геменэ, Монморанси-Лаваль, Брогли, де ла Нугарэд и другие! Кроме того, парижское военное училище было первым и самым аристократическим и вследствие этого должно было поддерживать известный блеск.
Жизнь Бонапарта в этом училище была менее одинокой, чем в Бриенне, хотя как раз здесь в сильной степени проявлялся блеск высшей аристократии, с презрением смотревшей на представителей бедного провинциального дворянства. У его соседа по комнате, де Мазиса, бедного, как и сам Наполеон, был простой, уживчивый характер, легко подчинявшийся властолюбивому и уже в то время сильному другу. Морально, однако, Наполеон страдал и здесь. Вместе с его бриеннскими товарищами появились в Париже и старые насмешки: и здесь за ним осталось прозвище: “Paille-au-nez”. Ero странная внешность, его еще более странный характер, особенно же его непоколебимая вера в своих соотечественников возбуждали и здесь едкие насмешки. Сейчас, правда, он относился к ним более хладнокровно, но зато, владея лучше французским языком, отвечал на них более находчиво и логично. Товарищи нарисовали на него карикатуру: с толстой дубиной в руках он спешит на помощь Паоли, между тем как учитель старается удержать его за косу.
Больше, чем когда-либо, несчастная участь его родины, которая принуждена была наконец склониться перед силою и принести в жертву свободу, вызывала у Наполеона вспышки страшного гнева, и нужно было влияние его друга, чтобы его успокоить. Один из учителей по какому-то случаю дал ему пророческую характеристику: “Корсиканец по происхождению и характеру, он пойдет далеко, если обстоятельства будут ему благоприятствовать”.
Несмотря на все это, Наполеону было по душе это училище, устроенное всецело на военный лад. Ему нравилась непрерывная и строгая дисциплина; физические упражнения укрепляли его здоровье. Часы преподавания следовали быстро один за другим. Ни минуты не тратилось понапрасну. Наказания назначались в зависимости от проступков: карцер, арест на хлеб и на воду и просто арест.
Мало-помалу Наполеон сблизился с некоторыми товарищами, но постоянно выделялся среди них своим серьезным видом и своим раздражительным корсиканским характером. Ответы его были всегда своеобразны, точны и метки. Когда архиепископ, монсеньор де Жюнье, у которого он причащался, выразил свое удивление, что имя “Наполеон” не значится в святцах, юный Бонапарт ответил находчиво, что в этом нет ничего удивительного, раз святых больше, чем дней в году! Едва, однако, сжился Наполеон с новыми условиями, как прискорбные известия с Корсики омрачили его пребывание в Париже. 15 ноября 1784 года его и без того многочисленная семья увеличилась еще одним отпрыском. Во время поездки Карло во Францию Летиция родила своего младшего сына Джироламо (Иеронима). Карло хотел раздобыть во Франции новые средства к существованию, отдать Жозефа в военное училище в Меце и, кстати, посоветоваться в Париже относительно своей болезни с доктором ла-Сондом. Морское путешествие ухудшило, однако, его состояние, и 24 февраля 1785 года он умер в Монпелье.
Скорбное известие, как громом, поразило Наполеона. Перед ним встал тотчас же грозный вопрос: чтό будет с семьей, лишившейся теперь своего главы? И, кроме того, его родина? Какого человека лишилась Корсика! “Отечество утратило с его смертью ревностного, просвещенного и бескорыстного гражданина!” – пишет он 23 марта дяде Люциано, который в августе 1785 года на семейном совете был избран опекуном детей Карло.
Скорбь сына по поводу этой утраты не проявляется, однако, в его письмах к матери и к дяде с тою силою, с какою он сам ее испытывал. В холодных, вежливых фразах соболезнования заметна редакция парижских учителей: каждая строчка, которую писали воспитанники своим родителям, родственникам или друзьям, прочитывалась ими и “исправлялась”. Они зорко следили за тем, чтобы воспитанники выражались изысканно, но по возможности более коротко, на военный лад, лишенный всякой сентиментальности. Тем не менее уже в этом письме юного Наполеона чувствуется тон морального авторитета, который с этого времени усвоил он для своей семьи. Луи в письме к Вальтеру Скотту пишет:
“Хотя Наполеон и не был старшим, но с ранней молодости он занял положение главы семьи и исполнял его обязанности”. Чтобы забыть свое горе и заботы, у юного Наполеона оставалась только работа. Ему шел теперь шестнадцатый год, и он мог получить должность младшего лейтенанта в артиллерийском полку. С жаром принялся он за подготовку к предстоявшему экзамену. Его единственным желанием было начать зарабатывать, чтобы иметь возможность поддерживать семью. Как в Бриенне, он целыми часами просиживал в своей комнате и не пускал к себе никого, чтобы не отвлекаться от занятий. Однажды он заперся даже на три дня, питаясь только самым необходимым, и впускал к себе только денщика для уборки. По математике, которую преподавал ему Людовик Монж, брат знаменитого Монжа, по истории и географии Наполеон был подготовлен хорошо; однако его знания по литературе и успехи по рисованию, фехтованию и верховой езде заставляли желать лучшего. Тем не менее его учителя признавали, что он незаурядный воспитанник. Преподаватель истории, де л'Эскиль, составил о нем вышеупомянутое суждение и впоследствии чрезвычайно гордился своим предвидением. Первый Консул принимал его затем часто в Мальмезоне и однажды якобы сказал ему. “Из всех ваших уроков самое глубокое впечатление произвел на меня тот, когда вы говорили о возвышении коннетабля Бурбона. Вы были, однако, не правы, говоря, что тягчайшее его преступление было в борьбе против короля. Он повинен лишь в том, что покорил Францию при помощи чужестранцев”.
Кроме л'Эскиля на понимание личности Наполеона претендует и преподаватель литературы Домерон: он утверждает, по крайней мере, что был приведен в изумление своеобразными достоинствами его сочинений. Он характеризует литературные упражнения юного Наполеона следующим выражением: “Они точно гранит, раскаленный вулканом”. Только один обманулся, по-видимому, в способностях Наполеона: преподаватель немецкого языка Бауэр. По его предмету Наполеон считался самым плохим учеником, так как обладал, как известно, очень незначительными способностями к языкам. Впоследствии во время своих походов в Германию он не произнес ни одного слова по-немецки, а на Святой Елене ему доставило бесконечное мучение выучить несколько слов по-английски. В один прекрасный день он не явился на урок Бауэра. На его вопрос, где Бонапарт, воспитанники отвечали, что у него сегодня репетиция по артиллерийским наукам. “Вот как, разве он вообще на что-нибудь способен?” – удивленно спросил немец. И когда молодые люди сообщили учителю, что Бонапарт лучший математик во всем училище, он заметил презрительно: “Да, я всегда был того мнения, что математика только для глупцов”.
Желающих поступить в артиллерию было немного в парижском военном училище. Воспитанники предпочитали большею частью значительно более аристократическую кавалерию, где им не приходилось так много работать, как в инженерных и артиллерийских войсках. Многие вообще не задавались целью посвятить себя военной службе, а учились здесь лишь для того, чтобы скорее добиться положения при дворе. Из пятидесяти восьми воспитанников, которых ожидало производство в офицеры, только восемь избрали артиллерию.
В начале сентября 1785 года Лаплас, которого впоследствии император удостоил высоких почестей и знаков отличия, проэкзаменовал юного Бонапарта по арифметике, геометрии, тригонометрии и алгебре. Наполеон и его друг де Мазис были назначены лейтенантами. Столь часто упоминаемое выпускное свидетельство Бонапарта из военного училища, несомненно, не настоящее.
Патента пришлось, однако, ждать довольно долго. Только в начале октября Наполеон получил его с приказанием отправиться в артиллерийский полк “La Fére”, расположенный в Валансе. Он сам избрал этот полк, потому что как раз он посылался два раза на Корсику. Он питал надежду, что его пошлют на родину.
Бонапарт покинул парижское военное училище 30 октября 1785 года в возрасте шестнадцати лет: года пребывания там было ему достаточно для получения первой военной степени! Одновременно с ним лейтенантами были назначены шестеро его товарищей: де Мазис, де Дамуазо, ле Льер, Мареско де ла Ну, Герберт де Беллефон и Белли де Бюсси.
Первый шаг был сделан. В то время как Наполеон вместе с де Мазисом ехал в лионском дилижансе, известном, кстати, своей быстротой, – его мысли были на Корсике у семьи. Он все еще не видел средства спасти ее от нужды. Какие перспективы у него? Он долгое время будет теперь получать лишь восемьсот франков в год, а впереди только надежда стать капитаном или, если ему посчастливится, полковником. Но до тех пор еще очень много времени.
До выхода из военного училища он думал, что ему разрешат съездить на родину. Но надежды его рушились; приказание гласило, чтобы он отправился прямо в Валанс. И 30 октября, после визита к епископу Отенскому, монсеньору де Марбефу, он вместе с де Мазисом и еще одним товарищем, Дальма, назначенным в артиллерийскую школу в Валансе, выехал из Парижа.
Все достояние его, согласно установленным правилам, состояло из дюжины рубах, дюжины штанов, двенадцати пар носков, дюжины носовых платков, двух ночных колпаков, четырех пар чулок, пары застежек для сапог, пары застежек для коротких штанов, сабли и серебряных запонок для воротника, а также 157 франков и 16 су, из которых 24, франка считались авансом в счет жалованья. Ему было не нужно – в противоположность сообщению мадам Юно в ее мемуарах – брать денег взаймы на дорогу у Пертонов, которых, кстати сказать, он тогда еще вовсе не знал.
4 или 5 ноября 1785 года оба молодые лейтенанта прибыли в Валанс. В приказе значилось, что они должны были остановиться у мадемуазель Клодины Бу, владелицы “Café du Cércle”, которой “именем короля предлагалось предоставить ночлег двум лейтенантам королевского артиллерийского полка “La Fére”.
Мадемуазель Бу, славная старушка, жила на углу Большой улицы и улицы Круассан, где держала кафе и сдавала комнаты офицерам. Наполеону так тут понравилось, что он решил у нее поселиться. Комната его находилась в первом этаже, рядом с бильярдной, в которой нередко собирались для игры офицеры. Юного офицера встретил самый радушный прием: мадемуазель Бу смотрела за его бельем и костюмом и оказалась превосходной хозяйкой во всех отношениях. Друг его, де Мазис, покинул его уже на следующий день и переселился к своему брату, капитану того же полка.
Полк “Ла Фер” с 1783 года стоял в Валансе. Он разделялся на пять бригад по четыре отряда или на два батальона по десяти отрядов. Из последних четыре отряда составляли пятую бригаду под начальством Кентена. Командиром был шевалье де Ланс. Наполеон Бонапарт был прикомандирован к первому отряду под начальством капитана Масона д'Отюма, но должен был, как каждый “cadet gentilhomme”, пройти все ступени, от рядового солдата до лейтенанта. Продолжительность этой службы зависела всецело от способностей молодого офицера. Наполеону понадобилось всего три месяца, 10 января 1789 года он был принят в офицерскую корпорацию “Ла Фер”.
Наконец-то мог он одеть столь желанный артиллерийский мундир. До этих пор он должен был носить форму военного училища. В сущности обе они мало отличались друг от друга, по крайней мере во времена Наполеона. Для него, однако, артиллерийский мундир был прекраснейшим в мире: об этом он не забыл упомянуть, будучи консулом, когда впервые надел гренадерскую форму. Артиллерийская форма состояла из коротких синих рейтуз, такого же цвета суконного жилета, голубого мундира с синими реверами и воротником и красными обшлагами, карманы были обшиты красным шнуром. Блестящий вид завершали золотые пуговицы с номером полка, погоны с золотыми шнурами, белый галстук, выдавшийся из-под воротника мундира, и белые батистовые манжеты.
В первый месяц своего пребывания в полку Бонапарт употреблял все свое время на изучение артиллерийской службы. Последняя была довольно трудна. Три раза в неделю давались теоретические и три раза практические уроки, во время которых выдвигались осадные орудия, изготовлялись артиллерийские снаряды, пускались сигнальные ракеты, – словом, производились все манипуляции, необходимые для артиллериста. Полк имел блестящую репутацию и считался одним из самых энергичных, неутомимых и дисциплинированных во всей армии, хотя в нем между офицерами всех рангов господствовали самые тесные товарищеские отношения. В полк “Ла Фер” принимались только лучшие военные силы. Капитан Ришуфле выпустил “Avis á la belle jeunesse”, в которой он обращал особое внимание на то, чтобы офицеры три раза в неделю танцевали и два раза играли в мяч; остальное время должно тратиться на фехтование и игру в кегли. Они, по его мнению, получали хорошее жалованье, шестьдесят франков в месяц, и имели все шансы на быстрое повышение. О каких-либо развлечениях Наполеон Бонапарт в начале своего пребывания в Валансе не мог даже и думать. Тем не менее он завязал некоторые знакомства в тамошнем обществе. Между прочим, он бывал у мадам Грегуар дю Коломбье, салон которой считался в городе одним из самых видных. Она часто приглашала молодого офицера в свое поместье и знакомила его со многими влиятельными особами.
У мадам дю Коломбье была шестнадцатилетняя дочь Каролина. Красивой назвать ее было трудно, но юность и грация придавали ей обаяние. Пылкий Наполеон поспешил, конечно, в нее влюбиться. Это было первым идеальным чувством юноши к девушке, их отношения были самого невинного свойства. “Мы назначали друг другу свидания, – говорил император на Св. Елене в счастливом воспоминании об этом невинном периоде, – я помню особенно хорошо одно из них, в раннее летнее утро. Никто не поверит, что все наше счастье заключалось в том, что мы вместе ели вишни”. Он не забывает, однако, добавить, что мечта его юности впоследствии “страшно изменилась”. Эта первая вспышка любви юного Наполеона продолжалась недолго и не увенчалась брачным союзом. Каролина дю Коломбье 31 марта 1792 года вышла замуж за бывшего капитана Гарремпеля де Брессье. Наполеон вспомнил впоследствии о своей юной любви и пожаловал ее мужу, брату и ей самой титулы и знаки отличия.[16]
После Каролины дю Коломбье внимание Бонапарта привлекла прелестная мадемуазель де Лобери де Сен-Жермен. Он часто танцевал с молодой девушкой, но и здесь дело ограничилось невинным флиртом. Мадемуазель де Сен-Жермен стала впоследствии мадам де Монталиве. Супругу ее не пришлось жаловаться на то, что жена его в молодости встретилась с Наполеоном. Бонапарт назначил его сперва префектом департамента, потом генеральным директором мостов и шоссе, а в конце концов – министром внутренних дел и пожаловал ему графское достоинство.
Много других знакомств, приписываемых Наполеону во время его первого пребывания в Валансе, относятся к позднему периоду.
Его совершенно не привлекала светская жизнь. Денег у него было очень мало, к тому же он был скромен и трудно привыкал к людям; кроме того, он старался посвящать все свое свободное время совершенствованию своего образования. С большой радостью предавался он размышлениям, переносившим его на любимый остров. Он рисовал себе смелые освободительные планы, которыми он в один прекрасный день изумит своих угнетенных корсиканских друзей. Благодаря постоянному изучению истории своего отечества его восприимчивая фантазия и пылкий темперамент возгорались с каждым днем все больше и больше. Ненависть к “тиранам” увеличивалась, и Наполеон не замечал, что он в качестве королевского лейтенанта служит именно этим тиранам. “Паоли, Коломбано, Сампиеро, Помпилиани, Джаффори! – фанатически восклицает семнадцатилетний Наполеон в одной из своих заметок о Корсике з6 апреля 1786 года. – Славные мстители за человечество! Герои, освободившие соотечественников от гнета деспотизма! Но что было благодарностью за все ваши подвиги? Кинжалы, кинжалы, – ничего, кроме кинжалов!”
Богатую пищу мыслям своим находил он в читальне книгопродавца Ореля, жившего в подвале соседнего дома. Наполеон, как и большинство его товарищей, был у него абонирован. Гедувиль, будущий посланник ла Рибуазиер, и Сорбье, будущий генерал-инспектор артиллерии, и другие усердно посещали вместе с Бонапартом читальню.
У Ореля Наполеон нашел “Contrat social” и “Confessions” Руссо – этого великого республиканца и пламенного защитника порабощенных народов. Разве не Корсику называет Руссо той страной, которая когда-нибудь повергнет в изумление весь мир, разве не страстно желал он окончить дни свои в благословенной стране? Воображение молодого Наполеона воспламенялось этими творениями великого гения. Подобно Руссо, он считал человеческое общество обреченным на гибель. Руссо, как и Наполеон, обладал пламенный характер республиканца и необузданная воля, чересчур гордая, чтобы склониться перед гнетом. Руссо и Корсика – в них концентрировалась теперь вся жизнь Наполеона.
Воодушевленный гением женевского философа, Бонапарт излил всю силу своей фантазии в трех публицистических статьях.[17] В них ясно проявляется влияние Руссо. “Постоянно один среди людей, – записывает Наполеон 3 мая 1786 года в свой дневник, – возвращаюсь я домой и всецело предаюсь своим мечтаниям и своей томительной меланхолии”. И далее: “Как далеки все же люди от природы! Как они трусливы и пошлы! Что ждет меня на родине? Мои соотечественники, окованные цепями рабства, дрожащими руками целуют руку, которая их угнетает! Это больше не те храбрые корсиканцы, которых воодушевлял своим мужеством герой, не враги тиранов, роскоши и пошлых царедворцев!” Тут, конечно, целиком влияние Руссо!
Заботы о семье тяготили Наполеона в той же мере, что и заботы об отечестве. Жозеф довольно прозрачно описывал брату в своих письмах тяжелое положение семьи, которое благодаря заботам о воспитании младших детей еще тяжелее ложилось бременем на плечи Летиции. Будущее Люсьена особенно заботило Наполеона. Вакансии в Бриенне получить не удалось, мало шансов было и на стипендию в семинарии в Эксе. К тому же Летиция имела крупные расходы сравнительно со своим стесненным материальным положением, для того чтобы войти во владение доставшимся ей по наследству имением Миллели; доходов же еще не было видно. Наполеону очень хотелось поехать на Корсику, чтобы самому урегулировать дела.
Тоска по родине и семье становилась все сильнее и сильнее. Больше, чем когда-либо, казался он себе самому выброшенным из колеи.
Тоска по родине, которой он был не в силах больше преодолеть, проявлялась в его письмах к матери и брату. Но этого ему было мало: ему хотелось излить свою больную душу человеку, который бы его понимал. В Турноне, в четырех верстах от Валанса, жил его соотечественник, некий Понторнини. К нему-то и ходил Наполеон, когда ему становилось особенно тяжело, и говорил с ним о Корсике, о своей дорогой родине. Этому Понторнини мы обязаны аутентичным[18] портретом юного Бонапарта. Портрет изображает его четкий, энергичный профиль; волосы спадают до половины лба, рот красиво очерчен, губы тонки, а выражение лица странно-серьезно и строго для шестнадцатилетнего юноши.
Наполеон искал и находил утешение в книгах. Но скоро он исчерпал всю библиотеку Ореля. Из своего скудного офицерского жалованья, которого едва хватало на поддержание жизни, он находил еще возможность тратить кое-что на духовную пищу. 29 июля 1785 года он заказал у женевского книгопродавца Поля Бардо “Мемуары мадам де Варан” и два последних тома “Истории революции на Корсике” аббата Жермана. Заказ сопровождался примечанием, чтобы Бардо указал ему “все сочинения о Корсике, которые он имеет на складе или которые может приобрести”.
Последние гроши жертвовал молодой офицер, чтобы лучше познакомиться со своей родиной, историю которой он намеревался писать. Ему приходилось быть чрезвычайно экономным. Все его доходы равнялись в то время тысяче двумстам франкам в год: восемьсот франков жалованья, сто двадцать франков квартирных, двести франков пособия, которое он получал в качестве бывшего ученика парижского военного училища вплоть до назначения его старшим лейтенантом – и кое-какие карманные деньги, которые он время от времени получал от дяди Люциано. Из этой суммы Бонапарт должен был оплачивать не только квартиру, стол и одежду, но и покрывать всевозможные побочные расходы, неизбежные в жизни офицера. Не всегда мог бедный корсиканский дворянин отделываться от празднеств, балов, пирушек и прочего. Видов на повышение, которое происходило в Ла Фер в строгом порядке, никаких не было. В январе 1787 года Наполеон все еще был лейтенантом.
Обедали молодые офицеры все вместе в гостинице “Трех голубей”, принадлежавшей некоему Жени. Более состоятельные офицеры ходили к известному ресторатору Фору, кухня которого славилась на весь город. Наполеон тоже несколько раз бывал там, несмотря на свою скромность и умеренность. Он охотно вспоминал об обильных обедах у Фора: когда в 1811 году он принимал депутатов департаментов, то обратился со следующими словами к мэру Валанса: “Ну, мсье Планта, что у вас слышно?.. Скажите, земляки ваши все еще такие же гурманы, как в мои времена? А ресторатор Фор готовит все такие же вкусные паштеты? Да, да, Фор одна из достопримечательностей Валанса. Я прекрасно помню его”.
Таким образом, жизнь Наполеона в Валансе не была сплошной цепью лишений, как ее обычно изображают. В будни, правда, его первый завтрак состоял из стакана воды и двух хлебцев, которые он покупал в булочной Куриоль. Он сам брал с прилавка хлеб, клал два су и молча съедал скромный завтрак.
В это время, однако, Бонапарт не был ни особенно мрачен, ни угрюм и не впадал временами в состояние бессильной злобы, как в Бриенне. Его совершенно изменившееся положение способствовало перемене его характера. Он гордился своим артиллерийским мундиром и принадлежностью к офицерской корпорации и по временам веселился вместе с товарищами, с которыми сблизился теперь несколько больше, чем прежде в Бриенне и в Париже. Если бы не заботы о семье, он, несмотря на всю нужду, был бы счастливейшим офицером на свете, хотя в то же время он и писал в своем дневнике: “Жизнь тяготит меня: я ни в чем не нахожу удовлетворения, все причиняет мне только страдания. Она тяготит меня потому, что нравы людей, с которыми я живу и, вероятно, всегда буду жить, столь же отличаются от моего характера, как свет луны от света солнца”. Это была отчасти риторика Руссо, которая не мешала, однако, Наполеону сближаться все более и более с товарищами. Бывали, правда, дни, когда глубокая меланхолия, вытекавшая из его тоски по родине, проявлялась в бурных вспышках. В такие минуты он казался товарищам какой-то загадкой, исключая, быть может, де Мазиса, который один понимал Наполеона. Бонапарт часто принимал участие в их развлечениях, поскольку это позволяли ему его средства. Он любил продолжительные прогулки, любил ходить и восторгался, по примеру Руссо, красотами природы.
В июне 1786 года он в сопровождении одного друга – по всей вероятности, неразлучного с ним де Мазиса – предпринял экскурсию в город Дофинэ. С Рош-Коломба они наслаждались видом на долину, расстилавшуюся у их ног. И юный Наполеон находил возвышенные слова, в которых выражалось его наслаждение красотою природы.
Между тем 12 августа 1786 года батальон Наполеона был назначен в Лион для подавления вспыхнувших там беспорядков шелковых ткачей, требовавших повышения заработной платы на два су за локоть. Беспорядки эти подучили название “Révolte de deux sous”. Бонапарт и де Мазис прибыли в Лион 14 августа.
Офицеры поселились в видных купеческих семействах города и более или менее были довольны своим пребыванием здесь. Особенно повезло Наполеону. Сперва он жил в предместье Вэз, а потом переехал к вдове Блан. По его словам, любезный прием его первых хозяев несколько стеснял его личную свободу. Когда поэтому один из его приятелей пожаловался ему на плохую квартиру, Бонапарт тотчас же поменялся с ним, хотя ему и осталось прожить в Лионе всего несколько дней. “Я точно в аду, – вскричал он вне себя, – я не могу никуда выйти; любезность хозяина меня тяготит… Я не останусь там ни минуты. Я не в состоянии ни о чем думать в этом проклятом доме!” Они обменялись квартирами к обоюдному своему удовольствию.
Беспорядки были подавлены в несколько дней. В конце августа, когда полк Наполеона готовился к переходу в новый гарнизон Дуэ, Наполеон снова приехал в Валанс, чтобы запаковать чемоданы: ему разрешили шестимесячный отпуск в Корсику. Сердце его билось учащенно при этом. Наконец-то, увидит он “свою дорогую отчизну, где будет, – как он сам выражался, – жить хотя бы некоторое время сердцем”, после того как он так долго жил разумом.
По дороге на Корсику он заехал в Экс, чтобы навестить молодого Феша, который не закончил еще своего духовного образования. Он свиделся здесь и с маленьким Люсьеном, который учился в семинарии, и нанес давно уже тяготивший его визит директору Амьену. После этого он направился прямо на родину.
* * *
Две недели спустя, 15 сентября 1786 года, Наполеон после семилетнего отсутствия приехал на Корсику. У него сжалось сердце, когда он с корабля, издали увидел вздымавшиеся из моря темные скалы любимого острова. А когда приблизился к ним, тο почувствовал “его аромат”.
Весь город знал, что приезжает второй сын Карло Бонапарта. И прибытие его стало поэтому целым событием. Уехав диким, необузданным мальчиком, Наполеон возвратился молодым, вполне зрелым для своих семнадцати лет человеком, облаченным в королевский мундир. Земляки его немало гордились молодым офицером, первым корсиканцем, вышедшим из парижского военного училища. В гавань, навстречу Наполеону, вышли все знакомые, друзья и родные. Старая Катарина, верная Камилла Иллари, сиявшая от счастья, что видит снова своего “caro figlio”, пастух Багалино, – все его верные слуги приветствовали его возвращение. Его без конца обнимали, но Наполеон отвечал на приветствия молча: долгое отсутствие отучило его от родного диалекта.
Дома ждали его мать с сестрами и братьями, бабка Феш, дядя Люциано, дядя Паравичини и тетка Гертруда. Трех младших детей, шестилетнюю Полетту, четырехлетнюю Аннунциату и маленького Джироламо, которому исполнилось всего два года, Наполеон увидел впервые. Домашние обязанности и заботы превратили Летицию в пожилую женщину. Дядя архидиакон был уже целый год прикован к постели, но он был силен духом и заботился о детях, насколько это было возможно в его положении. Ему помогали в этом Жозеф и тетка Паравичини.
Старший брат следующими словами описывает впечатление, произведенное на семью молодым артиллерийским офицером: “Приехал Наполеон. Это было большим счастьем для матери и для меня… Вид страны привел его в восхищение, он стал прилежным, вдумчивым человеком, но совсем иным, чем изображают его авторы мемуаров, впадающие все в одни и те же ошибки. В то время он был страстным поклонником Руссо и витал, как мы все выражались, в идеальном мире. Ему нравились шедевры Корнеля, Расина и Вольтера, которые мы постоянно читали вслух. У него были произведения Плутарха, Платона, Корнеля, Непота, Тита Ливия и Тацита во французских переводах. Кроме того, книги Монтеня, Монтескье и Рейналя. Все они находились в сундуке, который был гораздо больше того, где лежало его платье. Я не отрицаю, что у него были и стихи Оссиана, но категорически опровергаю сообщение, будто он предпочитал их Гомеру”.
Больше, чем когда-либо, испытывал Наполеон необходимость стать опорой многочисленной семьи. Семидесятилетний дядя мог умереть каждый день, а Жозеф, несмотря на все свое желание, не был для этого подходящим человеком и, кроме того, намеревался вообще уехать в Пизу для соискания докторской степени. Последняя даст ему возможность получить должность на Корсике и, таким образом, быть подле матери.
Наибольшие заботы доставлял Наполеону Люсьен, который уехал из Бриенна и поступил в духовную семинарию в Эксе, где Марбеф обещал ему вакансию Феша. Но покровитель семьи умер 20 сентября 1786 года, и возникло опасение, что бесплатно поместить его будет очень трудно. Ввиду этого Наполеон и посетил по дороге директора Амьена и просил его за младшего брата, но так и не добился благоприятного ответа. Семью Бонапартов, по-видимому, забыли.
Тем не менее Наполеон все же был рад возможности провести несколько месяцев на своем острове в кругу близких. Заботы, тяготившие его все время, казались ему здесь не такими уже мрачными. По примеру Руссо, он испытывал на себе чары природы. Его Корсика, аромат которой, как он говорил, он бы отличил с закрытыми глазами от всех прочих стран, остров с красивыми долинами и могучими скалами, омываемый лазурными волнами моря, был предметом его неустанного воодушевления. Наполеон был счастлив. Впоследствии он говорил как-то об этом первом пребывании на Корсике: “Для моего счастья недоставало тогда лишь двух дорогих мне людей: отца и графа Марбефа, которого мы лишились 20 сентября и о котором долго скорбела вся наша семья”.
Соотечественники, с их чистыми, неиспорченными нравами и своей умеренностью, воплощали в глазах молодого Бонапарта “естественных людей” женевского философа. Видеть их порабощенными было для него невыносимо. Здесь на месте мог развить он свои планы истории Корсики, здесь представлялась ему наиудобнейшая возможность и собрать материалы, и приступить к их обработке. Усадьба Миллели, отдаленная от города, была удобным местом для занятий. Туда-то и отправился семнадцатилетний историк. Там под тенью старых олив, в гротах и темных аллеях парка он питал свой жадный ум чтением научных сочинений. Там его мысли превращались в смелые планы, которые перо не успевало запечатлевать на бумаге.
С твердой решимостью и силою воли, присущей ему, он ревностно принялся за итальянский язык, чтобы прочесть в оригинале “Giustificazione” и “Disingnanno” Филипини и чтобы слиться с народом, который он мечтал освободить от тирании и гнета. Ему хотелось поднять свою страну на высшую ступень благосостояния, он понимал, что это возможно исключительно путем поощрения земледелия. Он обратил поэтому внимание своих соотечественников на цветущую французскую агрикультуру, которую они должны взять себе за образец. Сам он решил подать им пример во владениях своей земли, но встретил энергичное сопротивление дяди Люциано, который не хотел дать ни одного су и полунегодующе, полушутливо назвал племянника: “il novatore”. Во всем же остальном Наполеон сходился во взглядах со стариком, мимо которого прошло три четверти столетия. С ним он говорил много о бедствиях, постигших его родину; здесь его понимали, здесь корсиканец говорил с корсиканцем.
Тем временем шестимесячный отпуск приходил к концу. Нужно было снова подготовиться к жизни с людьми, не понимавшими его. А к этому у молодого лейтенанта не было, по-видимому, ни малейшей охоты. Кроме того, и здоровье несколько ослабело. Весною 1787 года он заболел перемежающейся лихорадкой, которая с тех пор не оставляла его. Наполеон упоминает о ней в письме от 1 апреля 1787 года к известному женевскому врачу Тиссо. Эта лихорадка послужила ему поводом к ходатайству о продлении отпуска.
Просьба его была уважена, и 16 мая он получил новый шестимесячный отпуск. В этом нет ничего удивительного, так как в королевских полках существовал обычай просить всегда о продлении отпусков; иногда такое прошение подавалось даже до двух раз. Каждый офицер пользовался этим, и почти никогда не случалось, чтобы кто-нибудь возвращался в установленный срок. В этом отношении полк “Ла Фер” был чрезвычайно снисходителен к офицерам.
Наполеон был счастлив, получив возможность прожить в кругу своих еще полгода или, вернее, даже семь месяцев, потому что корсиканцам давался еще месяц для путешествия. Что он не попусту тратил время, мы уже знаем.
Его заботила теперь больше всего школа шелководства, основанная его отцом и приносившая чрезвычайно скудные доходы. Несмотря на обещания, государство с 1786 года не выдавало Летиции никакого пособия, и все ее попытки и ходатайства дяди рушились о недружелюбное отношение нового интенданта де ла Гильоми. Бонапарты замечали, что у них нет больше друзей и покровителей. Бушпорн, предшественник Гильоми, в 1785 году был переведен с Корсики; Марбеф умер. Старания молодого артиллерийского офицера оставались бесплодными. Ла Гильоми был очень порядочным человеком, но думал, что ничего не может сделать без исполнения всех формальностей. Он оправдывался тем, что не может выдать пособия Летиции без согласия генерал-контролера в Париже.
Снова наступил конец отпуску, но сейчас, когда семья ожидала получение небольшой суммы, Наполеон совсем уже не мог уехать. Предстоял, кроме того, созыв корсиканских сословий, и он должен был присутствовать на нем в интересах семьи. В начале сентября он послал поэтому новое прошение о продлении отпуска, не прося, однако, о жалованье. В качестве причины своей просьбы он выставлял то, что должен “участвовать в собрании корсиканских сословий, чтобы заявить о правах своей семьи”. И снова прошение его было удовлетворено. Новый отпуск продолжался с 1 декабря 1787 года по 31 мая 1788 года.
Сословия, однако, не собрались, и в начале октября 1787 года мы видим Наполеона в Париже. Так как он понял, что все старания относительно школы шелководства на Корсике тщетны, то решился обратиться по этому поводу лично к генерал-контролеру. Дядя Люциано дал ему немного денег на дорогу, и юный проситель остановился в отеле “Шербург” на улице Сен-Оноре. Чтобы добиться признания своих прав, он пустил в ход все связи и выказал в этом отношении тο же упорство и тο же терпение, что и его отец.
Бонапарт отправился к генерал-контролеру с рекомендательным письмом от тулузского архиепископа. В Версаль его отвезла одна из старых пролеток, именовавшихся “voiture de la cour”. Эти старые рыдваны были, по мнению Наполеона, очень “комфортабельны”. Скоростью они, однако, не отличались, так как от Парижа до Версаля ехали целых пять часов. Наконец Бонапарт приехал на место, но здесь его постигло жестокое разочарование. Об его деде вообще не знали ничего; тут не было даже документов, свидетельствовавших об основании школы.
Но этим отделаться от него было нельзя, – он был слишком сыном Карло. Он с таким красноречием защищал интересы семьи, что генерал-контролер счел своим долгом не лишать его последней надежды. Он обещал ему сообщить интенданту на Корсике, что разрешает ему полную свободу действий в этом деле.
Но этого Наполеону было мало. Он воспользовался своим пребыванием в Версале, чтобы испросить еще вакансии для Люсьена, и добился с этой целью аудиенции у министра финансов Ломени, графа де Бриенна. Бонапарту дали неопределенные обещания, и, таким образом, почти ничего не добившись, он должен был двинуться в обратный путь.
Чрезвычайно разбитым вернулся он в Париж, в город, в котором впервые почувствовал себя предоставленным самому себе. Он блуждал по улицам, осматривал достопримечательности и в свои восемнадцать лет пришел в конце концов к выводу, что общественные нравы города и его жизнь в корне своем развращены и испорчены. Впервые здесь в жизнь Наполеона вторглась женщина, впервые испытал он искушение!
22 ноября он был в итальянском театре и возвращался через Пале-Рояль, царство приключений и полусвета. Смеясь и шутя, бушевала вокруг него фривольная толпа, перекидываясь разгоряченными взглядами, – много вызывающих жестов обращалось и к молодому артиллерийскому офицеру. Среди многочисленных красивых и уродливых жриц Венеры, выставлявших здесь на показ свои прелести, ему особенно бросилась в глаза одна, поразившая его своим скромным видом, нежной фигурой и юностью. Он собрался с духом и заговорил с нею. Но заговорил не обычным тоном молодых людей его возраста. Точно экзаменатор, предлагал он молодой девушке различные вопросы, как и почему дошла она до ее печальной профессии, кто был ее соблазнителем и так далее. Девушка откровенно рассказала свою историю – знакомство их закончилось в пустой комнате отеля, в котором остановился Наполеон.
Пламя чувственности в Наполеоне угасло так же быстро, как и вспыхнуло. Слова, произнесенные им в бытность императором: “Любовь создана для других, не для меня. Меня всецело заполняет политика”, могли быть, по-видимому, применены к нему уже и в то время. Гораздо сильнее и неотступнее действовала на него любовь к отечеству, историю которого он начал писать. Через несколько дней после своего приключения, 27 ноября, он 11 часов вечера записал в свой дневник: “Я едва достиг зрелого возраста… как уже берусь за историю! Я знаю свои слабости… но, быть может, как раз это наилучшее душевное состояние для такого рода работы. Мною владеет воодушевление, которое разрушается в нашем сердце более глубоким изучением людей. Подкупность зрелого возраста не осквернит моего пера! При чтении описания наших страданий я вижу, дорогие соотечественники, как текут у вас горячие слезы!”
Наполеона ничто не удерживало больше в огромном, греховном Вавилоне, в котором как бы умышленно затягивали его дела. Его присутствие дома было необходимо. Жозеф находился в Пизе, а у Летиции не было никого, кто бы писал ей различные прошения для урегулирования ее дел и кто был бы ее посредником и переводчиком. Ее положение было отчаяннее, чем когда-либо: ей приходилось заботиться не только о четырех младших детях, но платить еще за Люсьена и помогать Жозефу в Пизе. Наполеон вернулся на Корсику, 1 января 1788 года он снова прибыл в Аяччио.
Его ждали тяжелые заботы: злосчастная школа шелководства, дорого стоившее пребывание Люсьена в семинарии, определение Луи стипендиатом в одно из военных училищ и, наконец, ничтожные доходы семьи, обладавшей, правда, небольшими участками, но принужденной отдавать их в аренду по очень низкой цене, – все это занимало юного Бонапарта. Он изо всех сил старался облегчить хоть немного участь матери, но всюду находил лишь запертые двери. По отношению к девятнадцатилетнему офицеру, не обладавшему ни связями, ни положением, не проявляли того интереса, как к его отцу, депутату корсиканского дворянства. Даже поездка, предпринятая ради школы шелководства в Бастию, не имела никакого успеха.
В Бастии он познакомился с товарищами по полку, находившимися там в гарнизоне. С воодушевлением говорил он им о Корсике, о национальных героях, о Паоли, но они не понимали его: в устах королевского офицера это звучало чуть ли не оскорблением Величества. Большее сочувствие встретил он в этом отношении у старых корсиканцев, участвовавших в войне за независимость. Целыми часами мог он слушать их рассказы. И много интересного и важного о Паоли, и об отчаянной борьбе за свободу пришлось ему тут узнать. Ему удалось также приобрести редкие печатные источники, находившиеся в руках старых солдат: они давали ему ценный материал к его “Lettres sur la Corse”, как он решил назвать свою историю Корсики.
Сочинение это непрестанно занимало Наполеона. Он намеревался посвятить его министру, монсеньеру де Бриенну, так как надеялся благодаря этому обратить внимание короля и правительства на своих соотечественников.
Наступило 31 мая 1788 года, а с ним вместе и окончательный срок отпуска. Ничто не могло помочь ему: разлука была неизбежна. До отъезда, однако, Наполеон мог с радостью обнять Жозефа, который вернулся из Пизы молодым доктором права. Таким образом, Наполеон покинул мать и своих близких, по крайней мере, с сознанием, что у них есть теперь опора в лице старшего брата.
* * *
После полуторагодового отсутствия лейтенант Бонапарт в первой половине июня 1788 года снова вступил в полк.
Полк между тем после различных командировок в Нормандию и Бретань с конца прошлого года перешел в гарнизон Оксонна и находился теперь там в полном составе. Перемен не произошло никаких: полковой штаб остался в прежнем составе, только в отряде Наполеона был новый командир, капитан Гозьер.
Самого Наполеона борьба за существование закалила и сделала более зрелым. Непрестанные заботы о семье, неоднократные поражения, которые он испытал в своих ходатайствах и прошениях, должны были причинять мучения его характеру, совершенно не созданному для них. И все же не было никаких шансов на улучшение его положения! Если все будет обстоять благополучно, то он только через семь лет будет назначен старшим лейтенантом. Перспектива далеко не блестящая! К счастью, однако, ему не было времени предаваться этим печальным размышлениям: вначале служба всецело захватила его.
В Оксонне находилось превосходное артиллерийское училище, во главе которого стояли генерал дю Тейль и директор д'Аркебувиль. Об этом училище Наполеон говорил впоследствии: “Если оно и не было единственным, где офицеры могли приобрести познания, то оно, несомненно, было одним из лучших и, вероятно, даже первым училищем такого рода”. В числе его учителей находился Ломбар, в лице которого Наполеон нашел себе вскоре друга и покровителя.
Благодаря своему продолжительному отсутствию из полка, Бонапарт многое упустил, да и, кроме того, он ни в Париже, ни в Валансе не имел случая расширить свои познания в артиллерии. Поэтому он твердо решил использовать удобный случай и нагнать потерянное время. Он пунктуально являлся на все лекции, которые Ломбар читал у себя на квартире молодым офицерам. Они были для него тем более интересны, что как раз в это время была назначена комиссия из офицеров его полка для производства опытов относительно дальнобойности новых орудий. Молодой Бонапарт вместе с некоторыми другими товарищами был назначен в эту комиссию. Единственным молодым лейтенантом в ней был Наполеон, другие были чином выше его. Донесение Бонапарта об опытах, к которому он приложил свои выводы и замечания, удовлетворило генерала дю Тейль, но совсем не понравилось самому юному лейтенанту. Год спустя он составил новый доклад, в котором изложил свое мнение относительно наилучшего применения орудий для достижения наибольшей дальнобойности. В этой работе молодого офицера чувствуется уже гений и практический ум генерала итальянской армии.
В Оксонне Наполеон сделал значительные успехи в рисовании, которым до сих пор почти не интересовался. В лице профессора Коломбье он нашел превосходного преподавателя, так что в короткое время приобрел необходимые познания в учении о пропорции, в правилах архитектуры и перспективе. Как мы видим, свободного времени у Бонапарта в Оксонне не оставалось. Но через несколько дней по его прибытии сюда он получил уже из дома снова печальные вести. Луи исполнилось двенадцать лет, как раз максимальный возраст для поступления в военное училище; но ему снова отказали в бесплатном приеме. Наполеон был в отчаянии. Что ему делать? Что предпринять? Оставалась только одна надежда: непосредственное прошение самому министру, который, наверное, не имел понятия, “в каких дурных руках управление Корсики”. Сказано, сделано! 18 июня 1788 года Наполеон написал ему от имени своей матери: “Монсеньор, вдова Бонапарт из Аяччио на Корсике осмеливается прибегнуть к вашей доброте относительно приема ее четвертого сына, Луи, в одно из королевских военных училищ. С 1787 года она безуспешно добивалась вакансии и получила обещание, что сын ее будет принят в следующем году, так как он не перешел еще максимального возраста. Срок теперь наступил, но предпочтение было отдано другим детям, семьи которых могут, очевидно, гордиться более блестящими титулами. Прошел таким образом еще год, и следующего приема ждать уже не приходится, так как сын мой перейдет указанный возраст… Обремененная воспитанием восьми детей, вдова человека, который оказал королю много услуг по управлению Корсикою, который пожертвовал значительные суммы на поддержку планов правительства… лишенная почти всяких средств, она надеется найти помощь у подножия трона и в вашем сострадательном и возвышенном сердце”. Сколько труда должны были стоить Наполеону эти слова, эти мольбы! Тем не менее успех они имели такой же, как и все предыдущие прошения. Снова в его неутомимом мозгу зародилась мысль отправиться в Париж, чтобы лично там постучаться во все двери. Но жалованья для далекой поездки ему не хватало. В отчаянии он снова обратился к дяде Люциано, который прятал деньги под подушку. Париж! Париж! Он был якорем спасения для Наполеона! “Пришлите мне триста франков, – писал он архидиакону, – этой суммы достаточно для поездки в Париж. Там я сумею, по крайней мере, завести связи и преодолеть препятствия! Я убежден, что мне это удастся. Неужели из-за каких-нибудь трехсот франков вы лишите меня этой последней возможности?”
Дядя Люциано был, однако, другого мнения. Он счел лучшим продолжать копить деньги. Наполеон написал Фешу, но и у него встретил отказ. Тот посоветовал ему раздобыть денег у знакомых в Оксонне, но Бонапарт только ответил: “Вы сильно ошибаетесь, если думаете, что я могу занять деньги. Оксонн очень маленький городок, и я еще слишком недавно здесь, чтобы завести прочные знакомства”. От поездки пришлось, таким образом, отказаться.
Но, как мы уже говорили, у Наполеона не было времени на размышления о печальном положении его семьи. Все свое свободное время он посвящал чтению книг по артиллерийским наукам. Запирался к себе в комнату и не выходил до тех пор, пока не отправлялся на службу или не шел обедать. Вместе с другими офицерами своего батальона он шел в офицерское собрание напротив старой мельницы. Комнату его убирала служанка по имени Тереза Герен. Сама комната была очень простая, устроенная согласно регламенту. У Бонапарта не было денег хоть немного украсить ее. Помимо обыкновенной деревянной постели, в ней находился гардероб, умывальник с тазом и кувшином, подсвечник, стол с ящиком и несколько соломенных стульев.
Охваченный ненасытной жаждой знаний и лихорадочным стремлением к деятельности, Наполеон изучал здесь с изумительным прилежанием не только книги, необходимые для его профессии, как перевод: “New principles of gunery”, “Tables du tir de canons et des obusiers”, но и расширил свое общее образование. Он прочел десятитомную историю Англии Джона Баррау, из которой по привычке сделал точные выписки по особенно интересовавшим его вопросам. Он изучал далее труды Вальера, но предпочитал ему Грибоваля, бывшего по его мнению выдающимся талантом в области артиллерии. В душе он намеревался впоследствии еще более упростить и усовершенствовать систему артиллерии Грибоваля; он изучил прилежно еще и “Mémoires d'artillerie” Сен-Реми. Приобретаемые познания и собственные наблюдения по артиллерийским вопросам он записывал в свои “Cahiers sur l'artillerie”, из которых до нас дошла только одна. Приблизительно в это же время написал он трактат: “Principes d'artillerie”.
Если сравнить приказания, которые впоследствии Наполеон отдавал своим артиллерийским генералам, то приходишь невольно в изумление, находя в них те же принципы, часто даже те же самые выражения, какие мы находим в его юношеских произведениях.
Барон дю Тейль заинтересовался молодым интеллигентным офицером, так как подметил в нем неутомимого работника и редкий военный талант. Неоднократно выдвигал он его перед старшими товарищами и давал ему поручения, которые приходится признать чрезвычайно ответственными при молодости Наполеона. Так, он поручил ему команду над довольно большой школой стрельбы, когда принц Конде, губернатор Бургундии, посетил в 1788 году Оксонн. Зависть товарищей по поводу такого отличия побудила их сыграть с Наполеоном шутку: они заколотили орудие в его батарее. Но он вовремя заметил проделку и быстро привел его в порядок.
Во время этих работ дю Тейль не совсем был доволен Бонапартом, так как однажды послал его на двадцать четыре часа под арест. Строгий, но справедливый начальник оставил по себе хорошую память в сердце Наполеона. Неоднократно, достигши впоследствии власти, говорил он: “Генерал дю Тейль научил меня повиноваться и повелевать”. Даже на закате дней своих император вспоминал генерала, которому стольким был обязан. Он оставил сыну Тейля сто тысяч франков и написал в завещании: “Из благодарности за труды, которые потратил на нас храбрый генерал (отец), когда мы были лейтенантом и капитаном под его начальством”.
Девятнадцатилетний лейтенант, движимый честолюбием, настолько заработался, что почувствовал это на своем и без того не крепком здоровье. Но с гордостью и удовлетворением пишет он 22 августа 1788 года Фешу: “Я немного хвораю; в этом повинна работа, которой я посвящаю все свое время. Как вам известно, дорогой дядюшка, генерал оказывает мне столько внимания, что поручает производить на стрельбище различные работы, требующие утомительных расчетов. В течение десяти дней я с раннего утра и до позднего вечера работаю во главе отряда; благосклонность генерала несколько восстановила против меня капитанов: по их мнению, поручая лейтенанту столь важное дело, генерал совершил несправедливость. Из тридцати человек, наверное бы, нашелся такой же способный, как я. Мои товарищи тоже завидуют мне. Но все это пустяки. Больше всего беспокоит меня здоровье, я чувствую себя неважно”.
В расстроенном здоровье Бонапарта был отчасти повинен и климат Оксонна. Крепость была окружена рвами, вода которых заражала город, да и самый климат был нездоровый и сырой. Вследствие постоянных наводнений Сены, Наполеон и почти все офицеры и солдаты страдали лихорадкой. Уже в начале 1789 года, когда погода несколько улучшилась, и благодаря уходу полкового врача Бьенвело, Наполеон несколько поправился.
Через посредство дю Тейль молодой офицер вошел мало-помалу в оксоннское общество, конечно, насколько позволяло ему его скромное материальное положение. Ему приходилось жить очень экономно, и это особенно отражалось на его платье. Оно было настолько скромно и даже неряшливо, что резко отличалось от всех его товарищей. Если взглянуть на скромные счета от портных во время его пребывания в Оксонне, то нельзя было и требовать от его туалетов элегантности и изящества. Портной будущего императора, наверное, не разбогател от него. Некий Биотт опубликовал впоследствии несколько счетов его отца, портного лейтенанта Наполеона, из которых мы можем видеть, что ему был должен Наполеон:
Работа пары суконных брюк – 2фр.
Две пары штанов – 1 фр. 4 су.
Работа синего английского мундира – 4 фр.
Кант – 1 фр.
Несмотря на свою бедность, молодой лейтенант вращался все же в лучшем обществе. Между прочим, он бывал у мадам де Берби, которая благодаря браку ее дочери и сына генерала дю Тейль, находилась с последним в родственных отношениях. Его часто приглашали в гостеприимный дом директора артиллерийского училища Пиллона д'Аркебувиля; он бывал там большей частью с четою Ломбар, игравшей каждый вечер у директора в лото. Молодой офицер, худощавый, бледный и хмурый, не отходил от мадам Ломбар, галантно нося ее сумочку.
Бонапарт бывал и в доме агента жизненных припасов Берсоннэ; ему были открыты и двери элегантного салона военного комиссара Нодена. У Берсоннэ была превосходная, богатая библиотека, чрезвычайно привлекавшая любознательного лейтенанта. Берсоннэ отдал ее в его полное распоряжение, и Наполеон не забывал никогда этой любезности. Уезжая из Оксонна, он сказал Берсоннэ на прощание: “Я никогда не забуду радушного приема, который я встретил в вашей семье. Где бы я ни был, напишите мне, вы всегда можете рассчитывать на меня”.
Такого же друга нашел Наполеон и в лице почтенного директора Лардильона. Каждое утро шел он к нему в бюро и читал газеты. Среди товарищей в наиболее близких отношениях он был по-прежнему с де Мазисом, хотя дружил и с другими, с лейтенантом ле Льер де Виль-Сюр-Арком, Жюльеном де Бидоном и Роландом де Виларсо. Особенно уважал он капитана Гассенди, с которым сблизился во время вышеупомянутого поручения: тот горячо любил его корсиканскую родину. Гассенди стал впоследствии одним из пламеннейших поклонников итальянского победителя.
Мы видим, что Наполеон не страдал от недостатка друзей и общества. Разве мог бы он иначе написать в своих “Discours de Lyon”: “Назовите мне того несчастного, который не нашел бы среди товарищей, по крайней мере, двух близких друзей!”
С остальными офицерами он находился в добрых товарищеских отношениях, хотя иногда между ними и бывали трения, которые по большей части объяснялись ироническим тоном Бонапарта. Так, один офицер, Белли де Бюсси, страстно любил игру на валторне, но Наполеон терпеть не мог этого инструмента. Белли жил этажом выше его, как раз над его комнатой, и часто мешал ему работать своею музыкою. Однажды они встретились на лестнице, поздоровались, и Наполеон заметил, умышленно избегая традиционного в полку обращения на “ты”:
“Ваша валторна, наверное, вас утомляет?” – “Нисколько”. – “Было бы все-таки лучше, если бы вы упражнялись в игре на ней где-нибудь в другом месте”. – “Я могу в своей комнате делать, что мне угодно”. – “Это вопрос еще спорный”. – “Ну, спорить я никому бы не посоветовал!”
Это было достаточной причиной для вызова, который, наверное бы привел к поединку, если бы в спор не вмешалась “калотта”. Эта “калотта” была обществом офицеров, своего рода судом чести, который наблюдал за поступками и образом жизни офицеров. Она посоветовала Белли упражняться на валторне где-нибудь в другом месте, где он никому не мешает, а Бонапарту рекомендовала быть немного терпеливее.
Этот своего рода “полицейский надзор”, бывший в ходу среди офицеров Ла Фер, способствовал много поддержанию рыцарского, товарищеского духа в полку, которым они отличались от прочих полков. Известному своими оригинальными идеями лейтенанту Бонапарту было поручено однажды составить устав “калотты”, в котором были бы изложены все правила, следовать которым обязуются все се члены. Как всегда, во всех поручениях, он с жаром принялся за работу и через несколько дней представил проект устава товарищам. Но поучительный тон, в котором написал Бонапарт этот устав, вызвал у них только насмешки. Он слишком серьезно отнесся к своей задаче. С пафосом называл он президента “калотты” “орлом с проницательным взглядом”, который “пронизывает им самую темную ночь”. Он сравнивал его далее со “стоглавым Аргусом”, которого, если он заснет, “поразит меч закона”. Сам он говорил впоследствии о своей работе как о “славной, трудной задаче” и называл ее, составленную им “после глубоких размышлений” – тонко сплетенной паутиной. Товарищи его были того же мнения. Но в противоположном смысле. Тем не менее мысли, содержащиеся в этом уставе, свидетельствовали о благородном образе мыслей, какими бы ребяческими они ни казались. Они обнаружили уважение Наполеона к солдатам, его чрезвычайно развитое чувство чести, тесно связанное со всем, что касалось военного дела.
Из всех периодов неприхотливой молодости Бонапарта жизнь в Оксонне была самой тяжелой и трудной. Однажды ему, де Мазису и еще одному товарищу пришло в голову питаться молочной пищей – отчасти из экономии, отчасти же из принципа. Но из этого ничего не вышло; особенно трудно было Наполеону, слабый организм которого требовал усиленного питания.
Его все еще заботила школа шелководства на Корсике, для которой до сих пор он не мог ничего сделать. Второго апреля 1789 года он снова написал письмо интенданту, находившемуся в то время при французском дворе. Энергично, определенно, но в то же время, несомненно, иронически писал он ему: “Простите, что я во время Вашего отдыха надоедаю Вам своим делом… Необходимо, однако, прийти к какому-нибудь решению; несправедливо ведь, что мы по-прежнему являемся жертвами… Я жду ответа, которым, надеюсь, Вы меня удостоите, и тотчас же сделаю в зависимости от него нужные распоряжения…” Гильом ответил ему в таком же ироническом тоне, что отдых и развлечения, о которых говорит Наполеон, заключаются в регулировании дел его управления, но что ему доставит особое удовольствие добиться у министра благоприятного решения в его деле. На этом дело и кончилось.
Тем временем во Франции подготовлялись политические события. Глухо доносился издали грохот революции, долженствовавшей сыграть огромную роль в жизни Наполеона Бонапарта. В провинции тоже замечалось возбуждение умов. В различных местностях Бургони вследствие вздорожания хлеба разразились в марте 1789 года беспорядки, давшие повод к самым грозным опасениям. В начале апреля три батальона “Ла Фер” получили приказ отправиться в Серр, маленький город на Соне, к югу от Оксонна, чтобы защитить там купеческое сословие и торговлю. Восставшая чернь убила уже двух торговцев хлебом, Гайе и Марло, прослывших ростовщиками. Немедленная военная помощь была необходима.
В отряде находился и молодой Бонапарт. Так как капитан Гозьер был назначен в Шарлевиль, а старший лейтенант дю Винье находился в отпуске, то начальствование было поручено Наполеону, и он немало гордился таким отличием. Полковник его заметил по этому поводу: “Такого рода поручения даются обычно старшим офицерам: они довольно сложны и трудны… Я, однако, высокого мнения о ваших способностях. Отправляйтесь туда и сделайте все, чтобы заслужить похвалу министра”.
В возбужденном городе войско было встречено с радостью. Жители увидели в нем спасение и стали спорить о том, кому приютить начальников отряда. Бонапарт поселился у мосье Ламбера, одного из богатейших и видных граждан города. Немного времени спустя он переехал на улицу Делю, которой впоследствии было присвоено его имя.
Прибытие войск успокоило бунтовщиков, и в первое время не пришлось прибегать ни к каким выступлениям. Войско расположилось на квартиры, и любезные хозяева заботились о том, чтобы никто не скучал. Мосье Ламбер дал в честь своего молодого гостя бал в своем доме. Бонапарт обещал присутствовать на нем, но до полночи не вышел в залу. Наконец за ним послали и нашли его в комнате над грудой карт и планов, разложенных на столе: он спал. За работой он, по-видимому, совершенно забыл о бале!
Оправившись от первого страха при прибытии войск, бунтовщики хотели было снова поднять восстание: на рынке собралась уже большая толпа черни. Известие это дошло до Наполеона как раз, когда он сидел за обедом у Ламберов. Он тотчас же вскочил, взял свою саблю и последовал на площадь за сержантом, принесшим ему известие. Взяв с собою двадцать человек, он, обнажив саблю, подошел вплотную к шумевшей толпе. “Граждане! – сказал он, – вы должны чтить законы. Армия здесь для защиты. Предлагаю вам разойтись!” Но шум и крики только усилились. Тогда он прибег к хитрости, которой пользовался часто впоследствии, на поле сражения. Он велел ударить в барабан и начал командовать наступление. Но перед последней командой: “Пли!” он повернулся еще раз к толпе и сказал: “Граждане, я имею приказание стрелять только в негодяев, порядочные люди пусть скорее уйдут!” Толпа тотчас же разбежалась: никто не хотел оставаться негодяем.
В Ceppe тоже заметили разницу в одежде молодого артиллерийского офицера и его товарищей, но еще больше даже в их характерах. Он считался повсюду чрезвычайно трудолюбивым, серьезным, малообщительным человеком, проводившим охотнее всего время в богатой библиотеке своего хозяина. Тем не менее Наполеон был желанным гостем и среди женщин. Он был завзятым поклонником супруги сборщика соляных податей Приера, молодой, симпатичной женщины; говорят даже, что он был в интимных отношениях с мадам Гравель, женою арендатора, с которой познакомился во время своих прогулок по окрестностям города.
Как бы то ни было, но через два месяца пребывание Наполеона в Ceppe пришло к концу. 29 мая он был снова в своем гарнизоне.
Вскоре после своего возвращения он едва не утонул, купаясь в Сене. Во время плавания с ним сделались судороги. Силы и сознание покинули его, и он погрузился в воду, – товарищи даже не заметили этого. К счастью, однако, течение пригнало его к мели, толчок привел его снова в чувство, и он с величайшим трудом добрался до берега.
Несколько недель спустя, шестнадцатого июня 1789 года, в Оксонне тоже вспыхнули беспорядки. В Париже штурмовали Бастилию, и восстание прокатилось скоро по всем провинциям. Дикие орды черни наводняли собою улицы, покинутые гражданами, поджигали дома, грабили и разрушали. С помощью двух отрядов гражданской милиции восстание было быстро подавлено.
Бонапарт во время этих беспорядков был адъютантом генерала дю Тейль. Дикая, неистовствующая чернь, добившаяся таким путем своих прав, вселяла в него чувство антипатии. Не такой рисовалась ему борьба за свободу и равенство. Он энергично высказался против анархии и выступил против упреков по адресу королевской семьи. Его республиканизм был проникнут совершенно другими принципами и другими идеями, которые он подкреплял в библиотеке Берсоннэ и Ламбера. С жадностью проглатывал он сочинения, описывавшие революции народов всех эпох, и превратился в того умеренного республиканца, который вскоре проявил свою деятельность.
Беспорядки в Ceppe больше, чем когда-либо, приковывали его внимание к отчизне, изнемогавшей под гнетом рабства. Двенадцатого июня 1780 г. он написал политическое письмо Паоли, где говорил ему о своей “Истории Корсики”, которую хотел посвятить национальному герою, изложил свои желания и надежды и разъяснил свои цели. “Я хочу, – писал он в своем юношеском воодушевлении, – сравнить Ваше правление с нынешним, хочу заклеймить бесчестьем тех, которые продали общее дело. Я хочу привлечь к суду общественного мнения тех, в руках которых сейчас управление, хочу раскрыть их злоупотребления и заинтересовать министра горестною судьбою родины”. Уверенный в своих силах и полный горячею любовью к отчизне, он добавляет: “Я еще молод, мои планы могут показаться смелыми, но мне дает силу любовь к истине, к родине, к моим соотечественникам, дает силу и то воодушевление, которое вселяет в меня надежда на улучшение положения нашей страны. Если вы соблаговолите приветствовать труд, в котором так много места будет уделено Вам, если Вы поддержите стремления молодого человека… то это будет лишь верной гарантией его работе”.
Но Паоли не ответил на это письмо. Лишь впоследствии, передав письмо Наполеона Буттафоко, он написал ему, что он слишком молод и неопытен, чтобы составить историю Корсики, только серьезным изучением может он подготовиться через несколько лет к такой серьезной и трудной работе. Паоли не понял горячего желания, которым дышали строки Наполеона. Не понял он и того, что этот молодой патриот кровью своею хотел пожертвовать для святого дела отчизны!
Это наставление Паоли не могло быть приятным молодому историку, но оно его не возмутило. Наполеон не был обескуражен, наоборот, еще усерднее принялся за работу и написал трактат о Корсике, который хотел посвятить герою дня, министру Неккеру. Но прежде он послал его просмотреть своему бывшему учителю, патеру Дюпюи, в Бриенне, который категорически отсоветовал ему это делать. Идеи свободы, воодушевлявшие Францию, распространялись все шире и шире, охватывали собою решительно всех, не исключая и солдат. Гарнизон Оксонна взбунтовался. Большинство солдат отправилось огромною толпою к квартире полковника, чтобы потребовать от него полковой казны. Он должен был уступить силе. Овладев деньгами, солдаты, лишенные всякой дисциплины, перепились, увлекши за собою и офицеров. Бонапарт с ужасом смотрел на эти войска, порвавшие все оковы дисциплины, которых опьянение свободы сделало дикими и жестокими. Но и им овладело пламенное воодушевление и мысль, что наконец-то настал момент, когда его бедное отечество может постоять за себя. Как поведут себя патриоты его острова во всеобщем опьянении свободы, которая охватила все и всех? Но проникнет ли вообще оно к ним? Кровь стучала и билась в висках Бонапарта, он рвался к своим соотечественникам, хотел им сказать, чтобы они не упустили этого единственного случая сбросить ненавистные оковы. Но он сдержал себя и продолжал работать, работать, работать!
Двадцать третьего августа королевский артиллерийский полк “Ла Фер” последовал примеру других корпусов и принес присягу национальному собранию. Мысли Наполеона были теперь только вокруг нации: король перестал для него существовать. “До этих дней, – говорит он сам, – если бы мне приказали, я бы несомненно стрелял в народ, ибо привычка, предрассудки, воспитание и имя короля вселяли в меня повиновение. С тех же пор как я принес присягу нации, я знаю только ее!”
Его здоровье страдало, однако, от непривычных волнений и скудного питания, на котором он постоянно экономил ввиду своего положения. Тоска по родине и горячее желание знать, что творится теперь на его острове при новых политических условиях, сверлило его пылкое патриотическое сердце. Нужда подавляла его и ухудшала все его психическое и физическое состояние. Еще в июле он писал домой: “У меня нет никаких других источников дохода, кроме работы. Я меняю белье только раз в неделю, я работаю в своей комнате, в десять часов ложусь спать. С тех пор, как я болен, я сплю очень мало, встаю в четыре часа и ем только раз в день, что, впрочем, мне очень полезно”.
Он был не в силах оставаться дольше во Франции, с тех пор как узнал, что и Корсика охвачена общим движением к свободе. Спокойствия как не бывало: он не находил удовлетворения ни в службе, ни в своих научных занятиях. День и ночь мучила его мысль о любимой отчизне. Неужели же он, самый верный из верных ее сынов, останется вдали и будет сидеть, сложа руки? Быть может, именно от него зависит участь родины?
Наполеону во что бы то ни стало нужен был отпуск. Девятого августа 1789 года он просил о нем, и несмотря на тревожные времена ему дали его: военный министр ла Тур-дю-Пен согласился на это лишь по особой просьбе инспектора де ла Мортьера.
ГЛАВА V. РЕСПУБЛИКАНЕЦ
I. Революция на Корсике
(Октябрь 1789 года – декабрь 1790 года)
Когда Бонапарт в конце сентября – или, вернее, в начале октября – покинул Францию, она вся была объята пламенем, зажженным факелом революции. Взятие Бастилии, причину которого следует искать главным образом в отставке министра финансов Неккера, дало сигнал ко всеобщему восстанию. В городах и провинциях царили страх и ужас перед поднявшимися разбойничьими и грабительскими бандами. Крестьяне вооружились для встречи этих шаек, но вскоре сами принимались грабить окрестности и сжигать замки и монастыри. Они решили освободиться от лежавших на них тяжелым бременем феодальных налогов. Повсюду вспыхивали восстания. Повсюду царили преступления, поджоги, убийства. Ночью четвертого августа духовенство и аристократия были вынуждены отказаться от своих феодальных прав, и Людовик XVI получил от учредительного собрания звание “восстановителя французской свободы”.
Двадцать седьмого августа прокламация Лафайета стала наконец основой новой конституции.
Иначе обстояли дела на Корсике. Туда искры революционного движения упали несколько позже. Порабощенные корсиканцы вначале с некоторым недоверием смотрели на освободительное стремление Франции и не решались высказывать своих собственных идей и стремлений из боязни быть впоследствии еще более жестоко наказанными за революцию. Кроме того, известия из восставшей Франции шли очень долго и отличались неясностью: о каждом событии на острове узнавали лишь через месяц. Так, о взятии Бастилии узнали только в августе. По большей части известия вообще не получали, так как роялистски настроенный губернатор Баррен боязливо скрывал все сведения и не опубликовал ни одного постановления Национального собрания.
Строго говоря, корсиканский народ не мог составить себе верного понятия о значении Французской революции. Для корсиканцев не существовало ни борьбы против богатых, привилегированных, против дворянства, ни борьбы против духовенства. Классовые противоречия были им чужды, только клан обладал на Корсике некоторой силой и властью. Каждый был землевладельцем, и даже клир стоял в тесном соприкосновении с народом, так как вышел из него и принимал участие в его борьбе за свободу.
Относительно государственного устройства корсиканцы во многих отношениях давно опередили Францию. При Паоли у них была уже милиция, в которой каждый был солдатом с юношеских вплоть до старческих лет. Они избирали своих чиновников на народных собраниях, в которых принимали участие все, без различия положения и сословия. У них было жюри, а провинции их управлялись трибуналами. Все это было создано во Франции лишь революцией.
Ради этих привилегий корсиканцам не нужно было поднимать знамени восстания. Для них существовал один только враг – Франция, перед белым знаменем которой они продолжали склоняться, между тем как в ней самой развевался уже трехцветный флаг. Их лозунг свободы гласил: “Долой французов и всех чужестранцев! Долой чужих чиновников, которые эксплуатируют нас и угнетают!” До сих пор, однако, попытки такой сделано не было, новые политические условия не произвели еще перемен в управлении, законах и обложении острова. В генеральных штатах Франции декрет двадцать второго марта 1789 года впервые призвал корсиканцев в собрание сословий, которое должно было открыться 25 апреля, но состоялось только 5 мая.
Депутаты эти состояли из бригадного генерала Маттео Буттафоко, представителя дворянства, аббата Перетти, представителя духовенства, юриста Саличетти и капитана Колонна Чезари Рокка, представлявших три высшие сословия. Саличетти и Чезари Рокка были на стороне народа, между тем как Буттафоко и Перетти защищали так называемых “черных”, или аристократов. Буттафоко был в глазах своих соотечественников величайшим изменником родины; он был тем самым, который в свое время в качестве депутата Паоли дал себя подкупить герцогу де Шуазелю. До сих пор он считался у французского правительства чрезвычайно влиятельной личностью, сведущей во всех вопросах относительно Корсики, и делал все, чтобы разрушить стремления к свободе своих соотечественников. Избранные в конце мая депутаты только в конце июня прибыли в Версаль, когда события уже надвигались. И прошло немало времени, прежде чем они могли оказать какую-либо пользу отечеству.
Мало-помалу, однако, идеи независимости, за которые было когда-то пролито столько крови, снова пробудились на острове. Особенно сильное влияние оказало на корсиканские умы известие о взятии Бастилии. С жадностью ожидалось всякое известие из Франции: целыми часами стояли корсиканцы на берегу и смотрели, вперив взор вдаль: не покажется ли заветный парус? На дорогах собирались кучки людей, которые обсуждали события и на корсиканский манер ожесточенно жестикулировали. В Аяччио и Бастии стала замечаться существенная перемена в настроении жителей: веселость уступила место серьезности. Народные развлечения собирали мало публики, – всеми овладело сознание серьезности момента. Едва молодой Бонапарт в октябре 1789 года прибыл на Корсику, как его засыпали вопросами о последних событиях. Его, который все еще был преисполнен идеями, изложенными в его письме к министру Неккеру! Его, который не думал ни о чем другом, как о том, чтобы снова завоевать свободу родине, который стремился занять почетное место среди великих героев отчизны, его, чье честолюбие не останавливалось решительно ни перед чем! В пламенной речи он рассказал им о Французской революции, которую назвал “борьбой свободы против тирании”. Он обрушился на своих соотечественников, что они еще ничего не предприняли для своей независимости, между тем как во Франции, во всех городах, образовались уже комитеты для защиты народа и его интересов.
Все Аяччио сразу поднялось. Бонапарту удалось побудить сограждан поднять трехцветное знамя, учредить патриотический клуб, душой которого был он сам, и образовать национальную гвардию. Он прибегал ко всему, чтобы воодушевить корсиканцев к новому делу, которое должно было ознаменовать возрождение его родины.
Дом Бонапарта стал теперь местом сборища всех патриотов, которые приходили туда, чтобы обсудить положение вещей и решить, что предпринять. Во главе этих патриотов стали братья Жозеф и Наполеон. Одним из самых деятельных среди них был молодой юрист Карло Андреа Поццо ди Борго, в то время близкий друг, но и соперник молодого Бонапарта. Он превосходил всех своими способностями и умением завязывать интриги и связи. Все родственники семьи Бонапарт: Паравичини, Коста, Рамолино, Колонна и другие, принадлежали к числу сторонников Наполеона, молодого республиканца, перед взором которого открывалась новая, построенная на принципах Руссо, эра независимости, свободы и равенства. Его неутомимой деятельности и фантазии открылось теперь широкое поле действий.
Двадцатилетний артиллерийский лейтенант переходил на улицах Аяччио от одного к другому в постоянном стремлении воодушевить своих соотечественников новыми идеями.
Внешность его в то время была настолько своеобразна, что возбуждала внимание даже на родине. Большая голова с впалыми щеками, с темными волосами, спадавшими на лоб прямыми прядями, с серыми глазами, которые смотрели на мир серьезно и испытующе, с сильно развитым подбородком, обнаруживавшим недюжинную силу воли, с крутым лбом, в котором зарождались, казалось, великие мысли, – все это как-то странно диссонировало с маленьким, тщедушным телом. Его речь, проникнутая горячим пылом молодости, встречала повсюду живейшее сочувствие; его слушали с воодушевлением, с восторгом взгляды всех обращались на его артиллерийский мундир, которому он был тоже обязан частью своего успеха.
Но Аяччио – далеко ведь не вся Корсика! В остальных местностях острова либеральные стремления не нашли еще отзвука. Страна раскололась на два лагеря: роялистов и республиканцев. В одном духовенство, поддерживаемое генералом Джаффори и вооруженной силой, старалось восстановить народ против “novatori”, в другом же, во главе корсиканской молодежи, были братья Бонапарты и Поццо ди Борго, стремившиеся укоренить на родине новые идеи свободы. В первое время победа клонилась на их сторону. Но губернатору с помощью войска, под предводительством Джаффори, удалось обезоружить восставших жителей Аяччио и успокоить их, по крайней мере наружно, потому что умы оставались по-прежнему возбужденными.
Появившийся в то время совет “12” вызвал в обоих городах, Аяччио и Бастии, величайшее ожесточение. Совет “12” образовался совершенно неожиданно и взял на себя обсуждение предложения корсиканских депутатов о Национальном собрании. Он с негодованием отверг эти предложения, особенно проект образования комитета из двадцати трех человек, и высказался категорически против милиции.
Вначале Наполеон и сторонники его подумывали об открытом сопротивлении. Но они не чувствовали еще под ногами твердой почвы и решили воспользоваться помощью Национального собрания. Тридцать первого октября Бонапарт собрал своих сограждан в церкви Святого Франческо и прочел им послание, обращенное к национальному собранию. Стиль, орфография и ход мыслей этого послания, первого политического документа Наполеона, ясно показывают, что автором его мог быть только он сам. К тому же он и подписал его первым, полным своим именем и титулом “officier d'artillerie” – лейтенантом он никогда не подписывался, – и заставил подписаться вслед за ним всех своих друзей, среди них старого дядю Люциано, Поцци ди Борго, Тортароли, Антонно Перальди, Антонио Колонна д'Орнано, аббата Франческо Рамолино, Джироламо Коста, Джиованно Паравичини, аббата Рекко, Феша и других.
Словами: “Высокое собрание! Если чиновники присваивают себе власть, противоречащую законам, если депутаты, не будучи на то уполномочены, от имени народа говорят против воли его, то гражданам позволено собраться, протестовать и оказать сопротивление гнету”, он оправдывал восстание жителей Аяччио и продолжал: “Соблаговолите же обратить на нас ваше внимание.
Лишенные свободы, едва вкусив ее блага, мы в течение двадцати лет были связаны с монархией!
В течение двадцати лет жили мы без всякой надежды, под гнетом насильственного правления, но вот разразилась могучая революция, вернувшая людям их права и французам их отечество! Она оживила нас вновь и пробудила в наших измученных сердцах новую надежду.
Страх за судьбу и тяжесть цепей, бремя которых тяготит сейчас больше, чем прежде, вызвало на острове незначительное восстание, омрачившее не надолго спокойствие. Но вера, которую питает в вас корсиканский народ, безгранична…”
Граф Колонна ди Чезаре-Рокка и депутат Саличетти в согласии с находящимися в Версале патриотами предложили собранию проект учреждения комитета из двадцати трех человек, которые должны были быть избраны в провинциях, чтобы охранять наши права. Мы с нетерпением ждали осуществления этого проекта, продиктованного патриотизмом и чистейшим воодушевлением. Но незаконное собрание “12” привлекло к себе всеобщее внимание. В Аяччио уже наперед все отказались исполнять его постановления. Какое право имеют “12” аристократов представлять собою нацию? Они, постоянными стремлениями которых было поднятие налогов? Они всегда были орудием в руках интенданта. Какое право имеют они выносить решение по вопросам общего блага?
Все думали вначале, что их собрание будет обсуждать только вопрос о налогах.
Неожиданно мы получили сообщение от них о том, что они обсудили предложения наших депутатов и отвергли их, как позорные, опасные, неосуществимые. В качестве причины они указывают на то, что собрания для выбора комитета вызывают всегда беспорядки и брожение! Самый комитет не имеет цели, потому что всюду царит полнейшее спокойствие! Далее, потому, что проведение его в жизнь стоит огромных сумм, отчасти на жалование двадцати трем лицам, отчасти же на содержание милиции, – сумма эта простирается приблизительно до миллиона франков. Далее, потому, что страна лишена части своих землевладельцев! Потому, что Его Величество выведет тогда войска, и Корсика пойдет навстречу разрушению!
Сколь прискорбно для нас слышать из уст наших же соотечественников софизмы, бывшие испокон века языком рабства и деспотии!.. Так, значит, мы никогда не должны собираться?.. И нами должен править интендант?
Одна мысль об этом страшит! “Всюду царит полнейшее спокойствие!” Зачем же тогда с такой настойчивостью требовали войска? Зачем посылали чрезвычайных комиссаров?.. Разве только восстание народа виною в беспорядках и волнениях? Разве собственность и казна могут грабиться одним только народом? Если царит тирания, если правительственные чиновники не пользуются доверием, если они угнетают, и раз их ненавидят, – разве можно сказать, что все совершенно спокойно?
Да, высокое собрание, мы можем заявить, положа руку на сердце: наш народ оклеветан, нас попытались запугать лживыми и смешными угрозами. Попытались обмануть утверждением, будто земледелие лишится части рабочих рук. Нет, никогда свобода не будет препятствием для земледелия! Лишь тирания и деспотизм опустошают страну!..”
За этим обращением нельзя не признать известного красноречия и энергичного тона. Но разве могло оно изменить положение вещей? Какое дело было Национальному собранию до того, что Корсика все еще угнетена? Оно получало ежедневно столько прошений и заявлений, что не обращало внимания почти ни на одно, как бы оно ни отличалось от прочих!
Бонапарт и сторонники его пришли скоро к убеждению, что для того чтобы чего-либо достигнуть, они должны перенести свою деятельность в Бастию, в центр правительства. Быстро решившись, Наполеон отправился в Бастию вместе со своей партией. Они хотели делом показать Национальному собранию, каково положение на Корсике, которая, “будучи управляема дурными чиновниками, находится в полном распоряжении губернатора и его присных!” Здесь им скорее, нежели в Аяччио, удастся образовать гражданскую милицию.
Едва прибыв в Бастию, Наполеон роздал патриотам трехцветные кокарды и уже на следующий день, в воскресенье, бастианцы отправились к дому губернатора, слабого, нерешительного человека, боявшегося всякого проявления насилия. Они старались воздействовать на него словами. Баррен сперва стал было отговариваться тем, что у него нет никаких предписаний от правительства, но в конце концов уступил и сам надел трехцветную кокарду. Офицерам, однако, он приказал сохранить белое знамя. Но солдаты скоро перешли на сторону Наполеона и тоже все прикололи к шляпам трехцветки. Получив, однако, приказ от офицеров, они не оказали сопротивления. Воспротивился только один, который и был за это наказан. Граждане все без исключения с гордостью надели национальные цвета; город охватило волнение. Бонапарт посылал предложение за предложением губернатору, чтобы побудить его к образованию милиции, но тщетно. Единственно, на что наконец согласился генерал Баррен, было разрешение носить трехцветные кокарды.
Воодушевленный этой первой уступкой. Наполеон решил действовать самостоятельно и подготовить все к образованию милиции, не подав ни малейшего вида французам. Однажды утром, пятого ноября 1789 года, все жители Бастии вышли из домов вооруженные. Молча направились они в церковь Святого Джиованно, где должна была состояться официальная перепись.
После тщетных попыток гарнизона обезоружить граждан, милиция завладела Бастией и сумела ее удержать за собою. Когда же порядок был водворен, зачинщик восстания, артиллерийский лейтенант Бонапарт, должен был, по приказанию губернатора, покинуть город.
Он не обратил на это никакого внимания. Он достиг чего хотел. Торжественно воскликнул он: “Наши братья в Бастии порвали на тысячи кусков свои цепи!” Гораздо важнее казалось ему довести до сведения Национального собрания об одержанной победе прежде, чем губернатору удастся послать свое донесение. С лихорадочным волнением ждал Наполеон ответа. Он мог быть, однако, совершенно спокойным, так как в Париже орудовал Саличетти со всем своим влиянием на соотечественников. Они ведь в письме, подписанном Джиованно Баттиста Галеаццини, Гваско и Пиетро Морато, обращенном к нему и Колонне, энергично требовали, чтобы участь Корсики была наконец решена. Они требовали присоединения к Франции, а не к Генуе. Когда они станут французами, – все рабство придет к концу. Они сами будут управлять своим островом, сами защищаться. Их соотечественники подучат должности, и все это будет способствовать пробуждению корсиканского самосознания, которое настолько упало из-за владычества иностранных чиновников.
Письмо это было прочтено в заседании 30 ноября 1789 года Вольнеем, и Национальное собрание постановило, что остров Корсика образует часть французского государства. Жители острова управляются на основании той же конституции, как и другие французы, и король должен посылать и на Корсику все постановления Национального собрания.
Но Генуэзская республика не согласилась с этим. Она опротестовала это постановление, сославшись на договор 1768 года, который уступал Его Величеству лишь суверенитет в королевстве Корсике. Генуя не предполагала, что остров может стать свободным и независимым и без вовлечения в новую политику, противоречащую обусловленной в договоре.
Против этого обращения Генуи, противоречившего всем новым принципам, восстали все депутаты. Саличетти, Мирабо, майор Гара, Буттафоко, аббат Мори, Барнав, Робеспьер, Эспремениль и Вильнев высказались энергично против дерзости Генуэзской республики, считающей Корсику все еще своей собственностью.
Саличетти воскликнул с негодованием: “Страдающий от неопределенности своего положения народ боится, что остров перейдет к республике. Он принадлежит Франции и не хочет принадлежать никому другому!” И Гара добавил презрительно:
“Генуя утверждает, будто она уступила корсиканцев. Людей и наций не уступают!”
Наполеон Бонапарт мог быть, следовательно, спокоен, тем более что разрешение вопроса было вполне в духе Паоли, который хотел теперь вернуть свободу острову через посредство протектората Франции. В письме от 23 декабря он говорил Жантили: “Чья бы рука ни возвратила нашему отечеству свободу, я поцелую ее со всей искренностью и полным воодушевлением”. С этой целью он послал даже для пропаганды одного из своих близких на Корсику, и тот вернулся вскоре к нему в Англию с отрадными известиями.
Так как всем изгнанным корсиканцам была объявлена амнистия, то все они вернулись на родину. Климент Паоли, полковник Петрикони, Луиджи Чиавальдини и другие собрались здесь, чтобы встретить возвращение старого героя на родину.
Хотя Саличетти, который, после Паоли, считался на Корсике самым популярным человеком, тотчас же после заседания Национального собрания, 30 ноября написал письмо на родину, однако прошло целых два месяца, пока на Корсике было официально опубликовано постановление Национального собрания. В этом промедлении было виновато обращение Генуи, которое пришлось обсудить ранее.
Тем не менее корсиканцы узнали о слиянии своего острова с Францией отчасти из писем своих депутатов, отчасти же из “Moniteur universelle”. Ими овладела несказанная радость, проявившаяся в пламенном воодушевлении. Наконец-то, после долгих двадцати лет, они опять получат право носить оружие и смогут снова защищать себя, защищать свое дорогое отечество! С ними не будут больше обращаться, как с рабами, а как с французами! Из заклятых врагов они стали внезапно друзьями!
Большинство земляков Наполеона изменило свои чувства к французам, которых теперь всюду прославляли. Он, столь враждебно относившийся к ним с самого детства, перешел теперь всецело на их сторону и воскликнул с воодушевлением: “Франция раскрыла нам свои объятья. С этого дня у нас те же интересы и те же заботы, как у французов! Море не разделяет теперь нас друг от друга!”
Во всех церквах на острове пели “Те Deum” в благодарность за вновь обретенную свободу. Иллюминации, балы и торжества свидетельствовали о радости освобожденного народа. Бонапарт сам велел поднять над своим городом белое знамя с надписью:
“Да здравствует нация! Да здравствует Паоли! Да здравствует Мирабо!”
Гражданская милиция была образована во всех городах, и корсиканцы с гордостью и с чувством собственного достоинства носили оружие. Наполеон исполнял свои военные обязанности в качестве простого солдата, отказавшись после долгих размышлений от всяких отличий. Особенно хвалили его за то, что даже полковник Перальди, бывший его заклятым врагом, стал часовым у его дверей.
Наполеон, Жозеф и Люсьен предпринимали нередко далекие прогулки в болотистые окрестности Аяччио, чтобы там, на свободе, поговорить о своих планах и идеях. Наполеон хотел, прежде всего, чтобы Жозеф был избран в общинный совет. Он хотя и не достиг еще установленного возраста, однако, что гораздо важнее, был одним из немногих на острове, который свободно говорил по-французски. Эти прогулки по нездоровой местности, предпринимавшиеся обыкновенно поздно вечером, привели к тому, что все трое заболели изнурительной лихорадкой, которая едва не стоила им жизни. Здоровье Наполеона, отчасти из-за этой болезни, отчасти же из-за волнений последнего месяца, было настолько подорвано, что его прошение полковнику де Лансу о продлении отпуска представляется вполне обоснованным. К письму он приложил, кроме того, врачебное свидетельство, подтверждавшее необходимость дальнейшего отпуска. Начальство продлило ему его на четыре месяца.
Но не одно лишь плохое здоровье было причиной его пребывания на родине. Наполеону хотелось лично присутствовать при ходе событий и свидеться с Паоли, которому тем временем Франция оказала почетный прием. Кроме того, он намеревался за это время окончить свои “Lettres sur la Corse”, которые решил посвятить теперь аббату Рейналю. Люсьен, обладавший прекрасным почерком, должен был переписать ему рукопись. Свободные часы Бонапарт посвящал политике, сочинению или беседовал с умным Поццо ди Борго относительно жгучих вопросов дня.
Лично для Наполеона слияние Корсики с Францией было постольку удобно, что теперь он мог найти в Париже поддержку по поводу революционизирования своей родины. Он представлял себе, правда, в ином свете освобождение Корсики и гораздо шире понимал независимость. Но вышло иначе. Это все же было большим шагом к свободе. О том, как сложится политика будущего его страны, он пока не мог дать себе отчета.
Политика всецело захватила его. Он и его братья играли видную роль во всех комитетах и клубах; он был вождем всего движения. Буттафоко и сторонники его были вне себя от успеха соперничающей партии. Где было только возможно, они вредили Бонапартам во мнении народа. В начале мая они распространили в Аяччио слух, что Бонапарты, Массериа и их люди овладели крепостью и прогнали всех французских чиновников, – словом, совершенно освободили Корсику от французов. Население было так возбуждено этим слухом, что огромная толпа подступила к дому Бонапартов и требовала выдачи их с криками “a morte”!
Наполеон и Массериа не растерялись и вышли к возбужденной толпе. “Пусть выступит обвинитель! – закричал Бонапарт. – Мы созовем совет из “12” граждан. Пусть он обсудит обвинение и приговорит к расстрелу клеветников”. Массериа подкрепил его речь словами: “Пусть тот, кто меня обвиняет, если есть у него в теле душа корсиканца, пусть выступит он и обвинит меня публично здесь, перед гражданами!” Эти мужественные слова успокоили толпу, и она разошлась с криками:
“Evviva Masseria! Evviva Napoleone!”
Тем временем Паоли, как мы уже говорили, решился вернуться на родину после двадцатилетнего пребывания в Англии. Из своего убежища он обратился к Национальному собранию с посланием, вручить которое поручил верному Массериа. В этом послании старик порицал недобросовестное поведение герцога Шуазеля и требовал национальной независимости своей страны. Постановление Национального собрания преисполнило его радостью и надеждой и встретило в нем полное сочувствие. Он решил вернуться на остров, который не надеялся уже когда-либо увидеть.
Путь его лежал через Париж, куда он и прибыл 3 апреля 1790 года, чтобы лично принести свою благодарность Национальному собранию. Героя, корсиканского Вашингтона, встретили очень тепло и оказали ему высшие почести, так как видели в нем морального диктатора Корсики. 8 апреля Лафайет представил его королю, который вместе со всей королевской семьей отнесся к нему очень радушно. Во всех магазинах Парижа были выставлены портреты Паоли, рисованные Дролленжом. 22 апреля прославленный корсиканский герой в сопровождении депутатов прибыл в Национальное собрание, где произнес благодарственную речь, восторженно встреченную всеми присутствующими. Он начал ее словами: “Этот день – прекраснейший, счастливейший во всей моей жизни!” И растроганно закончил ее: “Да, я осмелюсь сказать: вся моя жизнь была непрестанной присягой только свободе! Кажется, будто я принес ее Конституции, созданной вами. Теперь мне остается только принести ее нации, которая меня приняла, и также и монарху, которому я принес свою благодарность!” Паоли был введен в “общество друзей Конституции”. Там Робеспьер приветствовал его словами: “Да, было время, когда мы старались подавить свободу… Но нет! В этом преступлении повинен лишь деспотизм. Французская нация исправила свою ошибку!.. Благородный гражданин, вы защищали свою свободу в то время, когда мы еще не решались о ней думать!”
Людовик XVI предложил Паоли должность, титул и богатое содержание, чтобы привязать его навсегда к Франции, но герой решительно отказался от всего. Ему хотелось спокойно кончить дни свои на родине и насладиться благами нового строя для его соотечественников.
После двухмесячного пребывания в Париже он двинулся в путь и в триумфальном шествии по всем городам Франции направился прямо на Корсику. Всюду встречали его восторженными криками: “Да здравствует Паоли!” Стар и млад спешили навстречу ему, чтобы своими глазами увидеть великого корсиканского героя.
Известие о близком прибытии на Корсику Паоли распространилось с невероятной быстротой по острову и всюду вызвало среди населения восторженную радость. Он, герой, столь часто ведший их к победе и славе, столь храбро защищавший долгие годы их независимость, снова приближается к ним! Каждому хотелось приветствовать его. Оба города, Бастия и Аяччио, спорили между собою, на долю кого выпадет честь принять Паоли. Мэр Аяччио тотчас же собрал общинный совет, чтобы обсудить, каким образом побудить Паоли высадиться в Аяччио, а не в Бастии. Было решено послать ему навстречу депутацию, которая склонит его в пользу Аяччио. В состав депутации вошли Жозеф Бонапарт, дядя его Паравичини, аббат Рекко, Томазо Тавера и Якопо По. Такую же депутацию послала и Бастия. Бонапарт воспользовался этой поездкой Жозефа в Марсель и дал ему с собою два своих “Lettres sur la Corse”, вместе с письмом к аббату Ренналю, в котором он просил его “бросить хотя бы беглый взгляд на этот отрывок его “Истории Корсики”. Посетил ли Жозеф аббата и передал ли ему письмо, мы определенно не знаем; не знаем также и того, ответил ли Рейналь.
Депутация была отправлена и встретилась с Паоли в Лионе. Тот тем временем уже принял решение высадиться не в гавани Аяччио, а в Бастии, и продолжал настаивать на этом. Депутация от Аяччио проводила его поэтому лишь до Марселя и там рассталась с ним. Жозеф Бонапарт был чрезвычайно любезно встречен Паоли и вернулся на Корсику с портретом героя, который его отец Карло нарисовал однажды в Корте на игральной карте.
Тем временем в Аяччио произошло событие, в котором Наполеон сыграл хотя и активную, но случайную роль. 25 июня 1790 года, по постановлению общинного совета, в котором присутствовали его дядя Леви и брат Жозеф, было арестовано несколько ненавистных чиновников в Аяччио. Тотчас же после этого общинный совет выпустил манифест, который, несомненно, был составлен Наполеоном. Манифест этот гласил:
“25 нюня 1790 года народ взялся за оружие и арестовал королевского судью Ракена, инженера мостов и дорог Каденоля, майора артиллерии Лайяля, субделегата Суири и директора военного госпиталя Декампа.
Мы были изумлены: с одной стороны, мы видели граждан, прослывших издавна покровителями аристократов, с другой же, заметили, что они были арестованы насильственно, без всякого постановления совета. Мы составили заговор, в котором приняли участие граждане всех сословий, богатые и бедные. Случай этот был настолько серьезен, что оправдывал всякое вмешательство; но последствия, которых мы должны были опасаться, могли взволновать тех, которым скоро вручили надзор за общественной безопасностью. Все пришло, однако, в полное спокойствие: порядок и решительность господствовали повсюду в этот день. Арестованные были перевезены в тюрьму Капуцинов, и мы передали их охране закона”.
Активное участие, принятое Наполеоном в этом событии, было, по мнению Назики, случайным. Испуганный криками толпы под его окнами, он поспешно, в ночных туфлях, без мундира и без шляпы, но с ружьем в руках, выбежал из дома и смешался с толпой, которая избрала его своим предводителем. Он был увлечен якобы против своей воли и ему не оставалось ничего другого, как взять на себя предводительство чернью. В действительности, однако, заговор этот подготовлялся уже давно, как показывает и сам манифест, и если все протекло в полном порядке, то это лишнее доказательство, что в событии участвовал Наполеон.
Он обратился тотчас же к гарнизону и попытался овладеть цитаделью, чтобы разместить там гражданскую милицию. Но план его не удался.
14 июля 1790 г. Паоли высадился в Мацинаджио и отправился тотчас же в столицу, куда прибыл 17-го того же месяца. Он нашел свою родину в состоянии полной анархии, но вид ее пробудил в нем дорогие воспоминания, и старик был настолько растроган, что упал на колени и поцеловал родную землю. “О родина! – воскликнул он. – Я оставил тебя в рабстве, а нашел тебя снова освобожденной!” Воодушевление корсиканского народа не знало пределов. Все еще прямая, несмотря на шестидесятилетний возраст, крепкая фигура Паоли, его энергичное лицо и пронизывающий взгляд его голубых глаз, его серовато-белые волосы, окружавшие его точно мученическим венцом, произвели неотразимое впечатление. Вся Корсика пришла в ликование. Героя встретили овациями и восторженными кликами, пели во всех церквах благодарственные молитвы за его счастливое возвращение. Все города прислали ему приветственные адреса.
Составление адреса от Аяччио было поручено молодому Бонапарту, который в августе сам вручил его Паоли. Ему удалось, таким образом, увидеть впервые генерала – идеал его юношеских мечтаний. Вначале все шло превосходно. Они говорили друг другу любезности, на которые особенно не скупился Наполеон. Он был всецело поглощен героем и не отходил от него ни на шаг. Сердце Бонапарта было полно воодушевления свободою, отечеством и Паоли, в котором он видел высшее воплощение героизма. Он чувствовал, что в состоянии сделать все для распространения новых идей на Корсике. Паоли с первого же дня почувствовал расположение к молодому пылкому патриоту, сыну своего бывшего друга, который так серьезно и ревностно вступился за общее дело и который так резко отличался от всех остальных своим умом и своим гениальным образом мыслей. Искренняя любовь Наполеона к отчизне, его безграничное преклонение перед героями Корсики и древности и его юношеский пыл оживили старика, и он чувствовал себя вновь молодым в обществе этого юного пылкого политика. Однажды, когда он вместе с Бонапартом проезжал по полю сражения Понте-Нуово, и последний не мог удержаться от меткого замечания по поводу плачевного исхода сражения 1769 года, Паоли воскликнул: “О Наполеон! В жилах твоих античная кровь! Ты один из мужей Плутарха!”
Бонапарт старался сохранить расположение корсиканского вождя. Пока Паоли был в Бастии, он ежедневно виделся с ним, читал там французские газеты и был в курсе всех политических событий Франции. Он завел знакомство с политиками и выдающимися представителями Бастии, которые могли впоследствии быть ему полезны. По ночам, когда мысли не давали ему заснуть, он писал письма Жозефу, которому сообщил подробно обо всем, что видел и слышал.
Оп усиленно заботился о том, чтобы близкие его извлекли пользу из нового положения и заняли видные должности в управлении. Особенно старался он о Жозефе и пропагандировал его имя всюду, где только предстояли выборы. Наконец ему удалось провести брата, ставшего тем временем членом общинного совета, в выборщики консульты в Орецце, а немного позже и в президенты округа Аяччио. Под впечатлением всеобщего ликования по поводу слияния Корсики с Францией и возвращения великого героя, собралась в Орецце консульта, которая должна была назначить первых советников департамента и округа. Наполеон лично сопровождал своего брата Жозефа и дядю Феша, бывших в числе шести выборщиков из Аяччио.
Собрание, состоявшее из 419 выборщиков, назначило Паоли президентом правительства и главнокомандующим гражданской милицией. Помощником его был назначен Колонна ди Чезари-Рокка. Кроме того, Паоли предложили пенсию в пятьдесят тысяч франков, также просили разрешения воздвигнуть ему памятник еще при жизни. Но он отказался от того и другого, – от первого под предлогом, что у него есть кое-какие сбережения, относительно же памятника заметил: “Самым драгоценным памятником я считаю тот, который воздвиг себе в вашем сердце”. Саличетти был назначен консультой высшим чиновником. Он был искренним корсиканцем и энергично защищал интересы своих соотечественников в Париже. Наполеон научился ценить его, и впоследствии, будучи императором, вознаградил по заслугам его способности, его силу воли и находчивость. Собрание постановило далее, что Корсика образует собою один департамент и что члены правительства должны отправиться в Бастию для вступления в должности. Вообще говоря, большинство из этих постановлений было незаконно, так как консульта в Орецце имела лишь право назначать членов правительства и указать им места, где они должны отправлять свои обязанности. Несмотря на все воодушевление, которым был встречен Паоли, на острове не было недостатка в недовольных людях, бывших несогласными с его планами и намерениями. Корсиканский народ считал его, совсем как и прежде, своим главою, своим строгим, но в то же время справедливым господином. Даже впоследствии, когда правление было уже упорядочено, Паоли остался “отцом” корсиканцев: только его желаниям подчинялись: они любили его и почитали, как Бога. Неудивительно поэтому, что зависть его врагов не заставила себя долго ждать. Паоли был обличен в тирании и неповиновении правительству острова. Его обвиняли еще в том, что он пренебрегал отрядом гражданской милиции, который предоставила в его распоряжение Бастия, и дал предпочтение Ростино, точно не доверял бастианцам.
В действительности же Паоли был человеком, малоподходящим для Корсики. Он был старой школы, между тем как им нужна была молодая сила, которая увлекла бы их к новым подвигам. Первое недоразумение было вызвано графом Буттафоко, который в заседании Национального собрания 29 октября 1790 года осмелился заявить:
“Народ восстановлен против нас! Паоли соглашается с этим: толпу легче восстановить против тех, кто служит ей без лести и самохвальства, чем против тех, которые хитростью и лживым лозунгом свободы ведут ее к рабству. Но наши личные жалобы должны уступить место интересам нашего несчастного отечества. Они заперли граждан и поставили свою волю выше постановлений. Они оказали давление на выборы… Паоли присоединился к депутатам Бастии и посылает их всюду, даже к порогу высшего суда. Нас выставляют на родине контрреволюционерами, сторонниками старого режима, между тем как Паоли народ приветствует с воодушевлением. Он ни аристократ, ни демократ, ни роялист. Он – это только он: и отечество, и конституция в нем самом!” Ответ на эту речь представителя корсиканской знати взял на себя Наполеон Бонапарт. Его письмо, в котором он выказывает себя одним из пламеннейших республиканцев и поклонников Паоли, было встречено чрезвычайно сочувственно в клубе в Аяччио. Он выразил в нем то мнение о Буттафоко, с которым было согласно большинство. В Буттафоко видели одну из главных причин бедствий страны. Особенно бурное воодушевление вызвал конец его письма. Он гласил: “Будете ли вы терпеть в своей стране изменника?” Изменника, который под холодной личиной умного человека скрывает хищную жадность рабской натуры? Я не могу себе даже этого представить, – вы первым делом должны прогнать его с позором, как только узнаете о хитросплетенной сети его лжи и предательства”.
Это письмо доставило Бонапарту много врагов, хотя и произвело большое впечатление на корсиканцев. В ответ на него президент клуба Массериа написал: “Патриотический клуб принял к сведению ваше письмо, в котором вы сумели раскрыть темные махинации бесчестного Буттафоко, и постановил его отпечатать. Мне поручено просить у вас разрешения на это. Клуб считает опубликование вашего письма общественным благом. Это достаточная причина, чтобы вы не отказали в его опубликовании”.
Это было последним политическим выступлением Наполеона во время его второго пребывания на Корсике. Несколько дней спустя он решил вернуться в свой полк: его вторичный отпуск давно пришел к концу. В оправдание его нужно заметить, что он уже в ноябре хотел вернуться в свой гарнизон, но все время медлил, выжидая событий на родине, особенно же результатов посылки двух делегатов в Национальное собрание. Им было поручено передать адрес и постановление консульты и в то же время раскрыть предательство Буттафоко и Перетти.
Час разлуки, однако, наступил. Молодого артиллерийского лейтенанта сопровождал его младший брат Луи. Вакансии никакой получить не удалось, и Наполеон решил взять на себя его воспитание.
II. Оксонн и Валанс
(Январь – сентябрь 1791 года)
Когда Наполеон с тринадцатилетним братом вернулся в свой полк, ему исполнилось двадцать два года. Хотя он самовольно продлил свой отпуск на три с половиной месяца, что могло доставить ему много неприятностей, он нисколько не думал о последствиях. Он знал расположение к нему его начальства. Поэтому он и не спешил в гарнизон, а остановился проездом в Валансе у своих друзей и только уже оттуда отправился в Оксонн.
Пешком оба брата прошли Дофинэ, убедившись тем самым воочию в духе, господствовавшем в это время во Франции. Наполеона приводила в восторг сила новых идей. Более чем когда-либо партии ожесточенно боролись друг с другом. Революции грозила серьезная опасность: она была на пороге к гибели, потому что против нее выступила и вся официальная Германия. Ряды эмиграции увеличивались особенно заметно и делали уже попытки наводнить собою Францию, чтобы вернуть себе власть и привилегии. Но решимость народа была велика и не отступала ни перед чем. Все свои наблюдения он изложил в письме к Фешу, которое написал 8 ноября из Серва, деревушки близ Сен-Валие.
“Я нахожусь сейчас в хижине бедняка и пишу тебе после длинного разговора с добрыми людьми… Повсюду, особенно в Дофинэ, я нашел крестьян в самом бодром настроении: они решились умереть, лишь бы защитить конституцию.
В Валансе я встретил мужественный народ, патриотических солдат и аристократических офицеров, среди которых исключение составляет лишь президент клуба дю Сербо.
Женщины повсюду настроены на роялистский лад. Это неудивительно: ведь свобода гораздо более красивая женщина, чем они, – она оттеснила их на задний план!
Все священники Дофинэ принесли гражданскую присягу. Они не обращают ни малейшего внимания на негодующие вопли епископа…”
Наконец, 10 или 12 ноября 1791 года Бонапарт прибыл в свой полк в Оксонне. Там он встретил своих старых друзей и товарищей: Ролана дю Виларсо, Нодена, Бидона, а главное – верного де Мазиса. Первым делом Наполеон посетил полковника де Ланса. Он должен был представить ему различные свидетельства, оправдывавшие его запоздание. В них значилось, что лейтенант Бонапарт вследствие бурного состояния моря не мог приехать во Францию: его дважды выбрасывало на корсиканский берег; уже в октябре 1790 года он имел намерение вернуться в полк. Де Ланс сделал вид, будто поверил этим отговоркам: таких хороших офицеров, как Бонапарт, было очень мало в полку, – эмиграция и так нанесла ему сильный урон.
Наполеон не ошибся, таким образом, в приеме: полковник не только простил ему опоздание, но и написал еще военному министру просьбу разрешить ему выдать жалованье лейтенанту Бонапарту за три с половиной месяца. В общем, Наполеон получил в марте двести тридцать три франка и шесть су.
Неожиданное пополнение его скудного кошелька пришлось ему очень кстати: заботы множились день ото дня, так как теперь помимо собственного содержания ему приходилось еще заботиться о брате Луи. Наполеон представил его своим товарищам, добавив многозначительно: “Этот молодой человек хочет наблюдать здесь за нацией, которая готова либо пойти навстречу погибели, либо вновь воскреснуть!”
На Rue Vauban, y семейства Бофр Наполеон снял для себя и Луи две скромные комнаты, вернее, одну с альковом, в котором на жестком матраце спал будущий голландский король. В комнате единственною мебелью была узкая кровать без балдахина – признак большой бедности в то время, – два соломенных стула и маленький стол у окна, который молодой лейтенант тотчас же завалил своими бумагами и книгами.
Таков был рабочий кабинет Наполеона. Здесь он мечтал о будущем Корсики, здесь намеревался закончить историю своей родины. Тотчас же, в первые дни своего пребывания в Оксонне, он начал поиски издателя для своего “Lettre à Matteo Bouttafoco” и нашел его в лице типографа Жоли. Последний, к великой радости автора, тотчас же отпечатал письмо. Для чтения корректуры Наполеон рано утром отправился пешком в Дофинэ, с маленьким Луи. К обеду они тем же порядком вернулись в гарнизон, проведя, в общем, в дороге больше восьми часов.
Наполеон возлагал большие надежды на впечатление, которое произведет это письмо на Корсике, и распространил почти все экземпляры на родине, – их было отпечатано всего только сто штук. В этом намерении он был укреплен главным образом патриотическим клубом в Аяччио, который энергично настаивал на опубликовании письма и встретил его с полным сочувствием. Важнее всего ему было признание Паоли в деле, за которое он вступился. Все предстало перед Наполеоном в розовом свете. Он снова был полон мыслей о своих “Lettres sur la Corse”, об издании которых он почти уже условился с Жоли.[19]
Издание письма к Буттафоко было закончено пятнадцатого марта. Как только получился первый экземпляр, Бонапарт послал его Паоли. Последний, однако, был бы более рад, если бы молодой историк молчал, или, по крайней мере, не употреблял в своем сочинении резких выражений. Он написал Бонапарту письмо, хотя и очень любезное, но задевшее самолюбие Наполеона. “Не трудитесь открывать клеветы Буттафоко, – говорилось в нем, – этот человек погиб во мнении народа, который постоянно чтил правду и теперь снова завоевал свободу. Произносить его имя слишком много для него чести… Он пишет и говорит только затем, чтобы напомнить о себе. Но его собственная семья стыдится его. Предоставьте же его общественному безразличию и презрению”.
Между тем Наполеон воспользовался случаем просить Паоли о присылке различных источников по истории Корсики, которых у старого героя было большое множество. Они были необходимы молодому историку, особенно теперь, потому что он заканчивал свое третье “Lettre sur la Corse”, в котором описывал геройскую сорокалетнюю борьбу на острове. Но Паоли отказал ему, сославшись на недостаток времени, – на самом же деле потому, что считал Наполеона недостаточно зрелым для исторического труда. “В данную минуту, – ответил он ему сухим тоном, – я не могу раскрыть своих ящиков, чтобы разыскать документы. Да и вообще, по-моему, в молодые годы историю писать не годится, – позвольте мне порекомендовать Вам последовать советам аббата Рейналя”.
Это обескуражило Наполеона; особенно же отказ в присылке материала, который Паоли еще раз категорически подтверждал в письме к Жозефу. Он писал: “Я получил брошюру Вашего брата. Она произвела бы еще большее впечатление, если бы была написана более беспристрастно. У меня сейчас слишком много работы, и искать рукопись и переписывать нет решительно времени”.
Несмотря на эту неудачу, силы Наполеона в борьбе за существование не ослабевали. Снова должен был он примириться со своей более чем скромной гарнизонной службой. Он твердо решил сделать хорошего офицера из Луи, который обнаруживал недюжинные способности, и прилагал все усилия, чтобы обучить его математике и другим предметам. При этом он не скупился на тяжелые наказания, которые однажды вызвали со стороны одного возмущенного обывателя восклицание: “Vilain marabout!” С какой любовью руководил Наполеон воспитанием брата, видно из замечания, которое он с гордостью делает в письме к брату Жозефу от двадцать четвертого апреля 1791 года. “Он безусловно, будет лучшим из нас четверых, – пишет он, – да и, положим, никто из нас не получал такого хорошего воспитания, как он”. Скольких лишений стоила ему эта жертва брату, который впоследствии так мало его отблагодарил, об этом он умалчивает. Только в 1813 году Наполеон, жалуясь на неблагодарность Луи, сказал: “Чтобы его воспитать, я, будучи двадцатилетним молодым человеком, терпел всевозможные лишения: я не позволял себе даже самого необходимого!”
Его утешением в это трудное время – которое, однако, не было уж таким мрачным, как его обычно изображают, – была, как всегда, литература и занятия философией. И та, и другая имели у Наполеона всегда какой-то меланхолический характер, даже тогда, когда касались самых жизнерадостных тем. В своем “Dialogue sur l'amour”, который он написал в Сен-Валие, во время своего путешествия по Дофинэ, он высказывается категорически против этого чувства, которое несколько лет спустя, после знакомства с Жозефиной Богарне, охватило его с такой силою: “Я не только отрицаю существование любви! – пишет он в своем дневнике. – Я считаю ее попросту гибельной для общества и для личного счастья человека. Мне кажется, что она причиняет больше вреда, нежели пользы, и было бы счастьем, если бы какая-нибудь добрая фея освободила нас от нее”. И снова возвращается Наполеон к своим принципам в духе Руссо, к естественному состоянию человека, о котором философствует в своих “Réflexions sur l'état de la nature”. Подобно своему великому учителю, он скорбит о далекой эпохе, когда земля была разделена между многочисленными племенами, когда людям ни о чем не приходилось заботиться, когда они в изобилии находили средства для своего существования в богатой природе. Он, честолюбивейший из честолюбивых, стремившийся к власти, он отвергал современную цивилизацию, в которой вся власть находится в руках властолюбия, честолюбия и гордости. Но все эти идеи были у него не столько продиктованы искренним чувством, сколько скорее софистическими аргументами его литературных произведений. Естественно, что сочинения эти утрачивали тем самым свою ценность, но способствовали все же развитию того чрезвычайного самосознания и той железной силы воли, которые он постоянно обнаруживал. Он работал неутомимо, почти еще больше, чем в 1788–1789 годы; часто работал по пятнадцать-шестнадцать часов в сутки. Спал он очень мало.
При всем этом Бонапарт отнюдь не пренебрегал своими политическими интересами, – они особенно озабочивали его. Как во время своего пребывания в Валансе, так и здесь, в Оксонне, читал он солдатам своего батальона патриотические газеты и вел пропаганду среди них всевозможными средствами. Для унтер-офицеров не нужно было в этом отношении особого красноречия, так как большинство из них с самого начала принесли присягу Конституции, – только незначительная часть офицерской корпорации полка “Ла Фер” предпочла эмиграцию.
В то время как Наполеон занимался социальными проблемами и политическими рассуждениями, события во Франции шли своим чередом. Реформы отразились и на войске. Артиллерия была вновь сформирована; полки вместо имен получили номера, этот новый порядок вызвал и перемены среди офицеров. Одновременно со своим назначением в старшие лейтенанты второго июня 1791 года Наполеон был переведен в Гренобльский четвертый артиллерийский полк, стоявший в Валансе.
Это назначение пришлось Наполеону очень некстати: он не только свыкся с полком “Лa Фер”, где приобрел добрых товарищей и даже друзей, но перевод был сопряжен для него с большими расходами. Для воспитания Луи перевод был тоже не особенно удобен, и Наполеон опасался, что в новом полку он не сможет уже так усердно заниматься с братом. Озабоченный этим, он написал третьего июня одному другу своего отца, Ле-Санкеру, прося способствовать его оставлению в “Ла Фер”. Но было уже поздно. Новое формирование артиллерии было уже закончено.
В первый раз в своей жизни Наполеон был принужден наделать долгов, которые, хотя и были незначительными, однако тяготили его. Поэтому, получив свое первое жалованье, увеличившееся теперь всего на двести франков в год, он освободился от этого угнетавшего его бремени и зажил еще более скромно.
Четырнадцатого июня он вместе с братом отправился на новое место назначения. Прибыв туда через два дня, он поселился снова у симпатичной мадемуазель Бу, у которой встретил такой радушный прием во время своего первого пребывания в Валансе. Мадемуазель Бу оказалась снова внимательной хозяйкой и облегчила Наполеону воспитание юного Луи, которого он отдал ей на полный пансион.
Вначале Бонапарт мало бывал в валансском обществе. Большинство его прежних знакомых было склонно к эмиграции, что ставило его, республиканца, в фальшивое положение. Многие умерли, например аббат Сен-Руф; бывшая симпатия Наполеона, с которой он ел когда-то вишни, жила вместе с матерью в деревне. Но читальня Ореля, которая тем временем обогатилась многими интересными книгами, осталась, и он снова сделался одним из самых ревностных ее посетителей.
Несмотря на всю серьезность Наполеона, он пускался иногда на ребяческие проделки. Так, например, часто он подсовывал полковнику де Монжоберу, который тоже часто бывал у Ореля, старые номера любимого им журнала “Perlet”. Рассеянный полковник, к великому удовольствию всех, читал внимательно журнал с начала до конца, не замечая проделки.
Впоследствии он завязал новые знакомства в Валансе и возобновил некоторые старые. Он снова встретил радушный прием в доме военного комиссара Суси и советника гренобльского департамента Монталиве. Молодой лейтенант пользовался в этом обществе успехом благодаря своим смелым идеям и своей неутомимой деятельности за великое дело свободы.
Но как вся страна, так и армия раскололись на два политических лагеря. Благодаря своей приверженности к революции, Наполеон вступил в конфликт со своим начальником, со строго роялистски настроенным капитаном де Роменом. Да и вообще молодому артиллерийскому офицеру приходилось терпеть много неприятностей из-за увлечения новой Конституцией, построенной на демократическом базисе. Так, однажды один из его товарищей, во время обеда в гостинице “Трех голубей”, приказал прислуге не накрывать ему прибора рядом с Бонапартом.[20] Наполеон был настолько умен, что пропустил мимо ушей этот вызов. Но часто зато вспоминал добрые товарищеские отношения в полку “Ла Фер”, вспоминал о своих друзьях де Мазисе, Гассенди, Олере, Мареско, де Виль-сюр-Арке, которых ему так не хотелось покидать. Он не забыл их и впоследствии. Гассенди и Мареско были назначены генералами при Империи, а де Мазис и сюр-Арк получили видные должности при дворе Наполеона. С ними он рассуждал в Оксонне о своих планах, они понимали его, соглашались с его взглядами и в конце концов были настолько проникнуты ими, что впоследствии доказали это на деле. Но будучи императором, Наполеон, конечно, не хотел этого и знать. Однажды, произнося речь в государственном совете, Гассенди сослался на одну политико-экономическую теорию, – но император перебил его словами: “Дорогой мой, откуда такая ученость? Откуда у вас такие принципы?” “От Вас, Ваше Величество”, – ответил Гассенди. – “Как! от меня? – воскликнул Наполеон. – Ах, что вы, мой милый, вы, наверное, заснули за своим пультом, и вам все это приснилось”. Гассенди, однако, не спал, он припомнил только идеи своего бывшего товарища по полку.
Кое-какое возмещение утраченной дружбы молодой Бонапарт находил в Клубе общества друзей Конституции, собиравшемся в кафе мадемуазель Бу. Впоследствии эти собрания были перенесены в читальню Ореля. Наполеон был одним из первых, кто записался членом этого клуба, и одним из наиболее пламенных его ораторов. В первый вечер вступления своего он произнес речь, которая воодушевила всех присутствующих своим пылом и своею уверенностью в успехе революционного движения. Этот молодой бледный корсиканец со своими оригинальными идеями и своей пламенной любовью к свободе должен был пойти далеко! Он был тотчас же избран библиотекарем и секретарем, – по-видимому, его кандидатуру выставили и в председатели.
Речь эта относилась, по всей вероятности, к неудавшемуся бегству короля, которого задержали в Варрене. Это событие усердно обсуждалось во всех клубах. Одни обвиняли Национальное собрание, другие же требовали свержения монархии. Бонапарт сам оставался по возможности беспартийным, но в речи своей высказал все же: “Короля преследует злой рок, который заставляет его каждый день делать ошибку за ошибкой. Бегство его – величайшая и самая необдуманная ошибка, которую он когда-либо совершал. Тем не менее вся вина в ней исключительно на стороне его советников, которые ввергли его в эту бездну”. Тем не менее Бонапарт соглашался с решением, принятым по этому поводу Национальным собранием, и утверждал, что это единственная возможность поддержать требования и спасти Францию от гражданской войны.
Приблизительно в то время, четырнадцатого июля 1791 года, все войска принесли на Марсовом поле гражданскую присягу. Ею они присягали на верность уже не королю, а Национальному собранию как единственной и исключительной власти. Полк Бонапарта был тоже там, и офицеры не только принесли присягу, но и подписали слова: “Клянусь воспользоваться врученным мне оружием для защиты отечества и Конституции, утвержденной Национальным собранием, против всех внешних и внутренних врагов; клянусь скорее умереть, нежели допустить французскую территорию быть наводненной чужеземными войсками, клянусь повиноваться лишь приказаниям, согласным с постановлениями Национального собрания!”
Присяга эта отразилась в четвертом артиллерийском полку усиленной эмиграцией. Многие офицеры покинули Францию, между тем как патриотическая партия, к которой принадлежал Наполеон, пускала в ход все усилия, лишь бы распространить среди войск новые идеи. Наполеон порицал эмиграцию среди своих товарищей; для него существовала теперь только нация, король был для него полный нуль. Ярый якобинец доходил до того, что его полковник пожаловался военному министру на “опасного, несдержанного офицера”. Но это не помешало Наполеону обнаружить свою радость по поводу нового поворота событий. Он был теперь воодушевлен революционным движением, которое должно было сыграть крупную роль и для его родины.
Двадцать седьмого июля он, преисполненный своими мыслями, писал своему другу, военному комиссару Нодену в Оксонне:
“Спокойный за судьбу своего отечества и за славу своего друга (вероятно, Паоли), я озабочен теперь только судьбой Франции. Мне хочется посоветоваться с Вами на эту тему, и я воспользуюсь свободным временем, которое оставляет мне служба.
Будет ли война? Вопрос этот интересует всех уже несколько месяцев. Я лично не думаю. Посудите же, прав ли я?
Европа разделена между монархами, которые властвуют над людьми, и монархами, которые повелевают быками и лошадьми.
Первые вполне понимают революцию, – но боятся ее. Они не остановились бы ни перед какими денежными средствами, чтобы ее подавить, но они боятся поднять маску из страха, что пожар возгорится и у них… Те же, кто повелевает быками и лошадьми, не могут понять Конституции в ее полном объеме! Они презирают ее. Они думают, что этот хаос бессвязных идей способствует падению французского государства… Эти люди не понимают решительно ничего. Они ждут, когда разразится гражданская война, которая, по мнению их недальновидных министров, неизбежна!”
В конце этого письма он как бы оправдывается в своих резких взглядах:
“В жилах моих с быстротою Роны течет южная кровь. Извините же, что я заставляю Вас разбирать свою мазню”.
Столь пламенным республиканцем Бонапарт был не без расчета. Он здраво рассуждал, что он, бедный лейтенант, может добиться чего-либо, лишь идя по течению. Будучи поклонником порядка и врагом всякого народного восстания, он принял в соображение все выгоды и пришел к тому заключению, что движение 1789 года было неизбежно и что за ним необходимо последовать. Несомненно, что скоро наступит реакция, которую можно будет использовать.
Тем временем, однако, его снова поглотила литература и исторические занятия. Он прочел, между прочим, секретные мемуары о правлении Людовика XIV, “Регентство и правление Людовика XV” Дюкло, “Путешествие в Швейцарию” Кокса, “Историю Франции”, проштудировал “Исследование нервов” и “Историю Сорбонны”, сделал большие извлечения из “Критической истории аристократии” и изложил свои тогдашние взгляды в небольшом сочинении.
Пятнадцатого декабря 1789 года Лионская академия назначила на 1791 год конкурсную тему, которая гласила: “Описание чувств, которые должны быть преимущественно вселяемы в людей для их счастья”. Учредителем конкурса был объявлен аббат Рейналь, друг и советник Наполеона.
В числе пятнадцати соискателей находился и молодой Бонапарт. В качестве основной предпосылки, он выставил в своем сочинении то положение, что человек рождается для счастливой жизни, а самое счастье заключается в наслаждении жизнью, соответственно натуре человека. Сочинение, которое должно считаться литературным произведением молодого Бонапарта, было встречено сочувственно Лионской академией, но все же не получило премии, на которую так надеялся автор. Кампиньоль, член академии, характеризовал его следующими словами:
“Это, быть может, произведение чрезвычайно искреннего человека, но оно слишком неумело составлено, слишком разбросано, отрывочно и написано чересчур плохо, чтобы быть достойным внимания”.
Во всяком случае труд Наполеона заслужил похвалы, но все же не получил премии. Последняя, в 1793 году в размере трех тысяч франков, была присуждена другому кандидату, некоему Дану.
После окончания конкурсной работы мысли Наполеона снова устремились к его родине. Там подготовлялись в это время выборы, проходившие всегда очень оживленно. Тоска по родине и горячее желание участвовать в столь значительных событиях снова охватили его. Вместо того чтобы играть роль в клубе в Аяччио и работать на благо своих соотечественников, он должен был оставаться бездеятельным в своем гарнизоне и исполнять монотонную, скучную службу. Это было ему совсем не по душе. Он подал тотчас же своему начальнику прошение об отпуске, но тот ему отказал. Бонапарт, однако, не был человеком, которого можно было этим остановить. Он должен был непременно участвовать в выборах. Ведь на карту было поставлено будущее Жозефа. Кроме того, предвиделась и война. Для защиты отечества Национальное собрание декретом двенадцатого августа 1791 года созвало национальную гвардию в сто тысяч человек. Перед Наполеоном открылось широкое поприще, которое необходимо было использовать. Он рассчитывал определенно на ответственный пост в батальонах, посланных на его родину, и составил с этой целью записку военному министру относительно вооружения корсиканской национальной гвардии артиллерийскими орудиями. За отпуском он обратился теперь непосредственно к генерал-инспектору де Тейлю, своему прежнему покровителю, который, несмотря на отказ полковника и все правила военной службы, отпустил его, хотя и не на шесть, но все же на три месяца, считая с первого октября.
Этого было достаточно Наполеону. Главное – это уехать; а там уже можно устроиться как-нибудь со свидетельством. Тотчас же, в начале сентября, он вместе с Луи собрался в путь и еле успел уехать, так как несколько дней спустя, восьмого сентября, военное министерство издало распоряжение, что вследствие предстоящей войны с Австрией все отпуска запрещаются.
III. Начальник национальной гвардии
– Без должности в Париже. – На родину (Сентябрь 1791 – декабрь 1792 года)
Прибытие Наполеона на родину в середине сентября было омрачено событием, поразившим всю семью. Семидесятишестилетний архидиакон Люциано опасно заболел и четыре недели спустя, шестнадцатого октября 1791 года, он умер, завещав свое положение главы семьи Наполеону. Жозеф не оспаривал у брата этого права и впоследствии сказал однажды относительно этой уступки своего первородства: “Двух мнений быть не могло! Когда Наполеон говорил, приходилось ему повиноваться, – мы слушались его все, начиная с матери и кончая младшим братом”. В этом Жозеф был не совсем прав. Правда, иногда даже и викарий Феш склонялся перед властной волей Наполеона, но Люсьен зато часто его не слушался. Ему хотелось играть самостоятельную политическую роль. Другие же братья и сестры и главным образом мать открыто преклонялись перед гением брата и сына и охотно подчинялись его главенству.
Правда, Наполеон так умел руководить всеми, что им не приходилось сожалеть. Дядя Люциано оставил небольшое состояние, которое пришлось очень кстати семье. По Монтолону, это наследство равнялось пяти тысячам франков ренты, – было ли действительно состояние архидиакона так велико, мы в точности не знаем. Во всяком случае Наполеон вместе с Фешем в середине декабря 1791 года купил дом в Аяччио и два владения Сант-Антонио и Виньяль в окрестностях города.
Его честолюбие обусловливало, однако, все его поступки не только в интересах семьи, но прежде всего в своих собственных. Желание выдвинуться, приобрести себе имя и влиятельное положение заставляло его ни на минуту не терять из виду своих политических целей. Он прибыл на родину вовремя. Выборы корсиканских депутатов в законодательное собрание были в полном разгаре: кандидатом был и Жозеф Бонапарт. Но на этот раз ему не посчастливилось. Он не подвергся даже баллотировке. Депутатами были выбраны: Леонетти, племянник Паоли, Франческо Пиетри, Карло Поццо ди Борго, Пиетро Боэрио, Бартоломео Арена и Марио Перальди. Паоли понимал превосходно, что выросшие во Франции Бонапарты, будучи хотя и корсиканцами, могут когда-нибудь повредить как ему, так и отечеству. Выбраны были только рекомендованные им. Как бы в вознаграждение за понесенное поражение, он назначил Жозефа Бонапарта членом директории департамента в Корте. Здесь он был безвреден и для Паоли, и для корсиканцев; здесь он был вдали от Аяччио, от очага всех революционных движений, вождями которых были оба брата. Паоли еще главенствовал на Корсике! Его энергичное вмешательство в восстание в июне 1791· года в Бастии доставило ему еще больший авторитет на острове, несмотря на непрерывно растущее количество врагов. Он высказался за государственное духовенство и стремился к возможно большей независимости клира от Рима, так как в папском владычестве видел самое тяжелое препятствие революции.
Благочестивое население Бастии было, однако, других взглядов. Возбужденное монахами и священниками старого режима, оно второго июня открыто восстало против постановления, превращавшего священников в государственных чиновников. С криками и воплями, надев на себя вериги в знак покаяния за позор, причиненный церкви, толпа наводнила улицы города, разрушила дом нового епископа и угрожала отомстить членам директории департамента, если они не станут на ее сторону. Народ требовал прежде всего отправления депутации в Париж и восстановления прежнего культа. Члены директории должны были опасаться за свою жизнь; ночью несколько бунтовщиков проникли в цитадель, захватили временного генерал-синдика Арену, секретаря Панаттьери и Буонаротти и отвезли их утром на корабль, который вместе с ними отправился в Париж.
Яростнее всего вели себя в этом восстании женщины. Точно дикие фурии, ворвались они под предводительством некоей Флоры Оливы в епископский замок и в ложу свободных каменщиков, овладели там всеми бумагами и документами и зажгли из них на берегу огромный костер.
Во время этого восстания Паоли находился в Аяччио. Когда до него дошли первые известия о бунте, он поспешил в Бастию во главе шести тысяч национальных гвардейцев. Бастианцы уже сами по себе были ему несимпатичны, так как они дольше других сохранили приверженность к Генуе и затем первые продались Франции. Он не остановился поэтому перед строгими мерами, тем более что необходимо было подать устрашающий пример. Он хотел, чтобы его соотечественники сохраняли спокойствие и возможно более способствовали революции. Он арестовал поэтому зачинщиков и наказал город тем, что заставил его прокармливать войско в течение целого месяца. Кроме того, он тотчас же написал в Париж, что хотя и стоит за спокойствие, однако требует, чтобы центр правления был перенесен в Корте. Вслед за этим Бастия была объявлена “восставшей против закона” и всем жителям под угрозой смертной казни было приказано сдать оружие.
В то время Паоли был все еще “babbo”, отцом корсиканской нации. Он господствовал над нею настолько, что одного его слова было достаточно для водворения порядка. Все постановления парижского Национального собрания не могли сделать и половины того, что мог сделать он.
Но это продолжалось не долго. Введение новой Конституции и поспешное преобразование всех государственных учреждений вызвало на острове такой же хаос, как и на континенте. На Корсике царила полнейшая анархия. Никто не хотел повиноваться, все хотели повелевать! Могучее влияние Паоли с каждым днем становилось все слабее и слабее. Почти все французские чиновники покинули Корсику, чтобы уступить место любимцам и родным Паоли. Этим он создал себе заклятых врагов. Сам он впоследствии почувствовал и душевную, и физическую дряхлость и пережил горькое разочарование, поняв, что его соотечественники развращены двадцатилетним рабством. Число недовольных правлением Паоли возрастало с каждым днем. Величайшего врага, однако, он приобрел себе в лице Бартоломео Арена. Последний, будучи затем депутатом в Париже, старался где только мог повредить старому корсиканскому вождю, чтобы ослабить его влияние на жителей острова. Когда паолисты узнали об этом, их ярость не имела границ. Они подожгли дом Арена на Корсике и опустошили все его владения. Вся надежда Паоли была на войну, в которой он решил показать корсиканцам, что он для них значит.
Таково было приблизительно положение Паоли, когда в сентябре 1791 года Наполеон Бонапарт вернулся на родину. Поражение брата, правда, немного обескуражило Наполеона, но теперь на первый план выступила его собственная карьера. С упрямством корсиканца стремился он к начальству над добровольным батальоном национальной гвардии Аяччио, которую город постановил образовать в непродолжительном времени. Этот пост казался ему тем более почетным, что солдаты должны были сами выбрать себе начальника. Поэтому все честолюбивые корсиканцы домогались того же. Всякий, обладавший благодаря богатству или популярности каким-либо влиянием выставлял свою кандидатуру и не останавливался ни перед чем, что могло оказать ему помощь в этом отношении.
Как всегда на таких выборах, большинство шансов было на стороне богатых. Хотя Наполеон Бонапарт благодаря смерти архидиакона имел в своем распоряжении деньги для такой пропаганды, однако не мог равняться в этом отношении со своими богатыми соперниками Перальди и Перетти. Влиятельностью он тоже особой не пользовался. Он мог бросить на чашу весов лишь свою самоуверенность, свое честолюбие, свою непоколебимую силу воли, свою отвагу и главным образом свое счастье.
Тотчас же по своему прибытию в Аяччио он завязал сношения с революционной партией. Первой задачей ее было разогнать военною силою собиравшийся в городе “Club de feuillants”. “Быть может, это чрезвычайно решительное средство, – добавил он, – быть может, это даже противозаконно, но зато безусловно необходимо. Вспомните принципы Монтескье: законы все равно что изображения некоторых богов, которых на известное время необходимо закрывать”. В этом воззрении уже заключались все те теории, которые впоследствии осуществил Наполеон при своем государственном перевороте. Теперь, однако, интересы его были совершенно другие; честолюбие его еще не простиралось так далеко. Он боялся, разумеется, выставлять открыто свои истинные планы и намерения, – и был вполне прав. Отпуск его кончался тридцать первого декабря, и если в это беспокойное время, когда армия Франции готовилась к войне, он не хотел стать дезертиром, то должен был вернуться в свой полк. А теперь, именно на Корсике, царило наибольшее воодушевление.
Наступили выборы начальника добровольного батальона! Неужели же должен он все бросать на родине и возвращаться в гарнизон? Или лучше ему отказаться от своей карьеры во Франции и посвятить себя делу своих соотечественников? Удастся ли ему возвысить этим влияние и значение своего имени на острове? Не получит ли он, став начальником национальной гвардии, всю полноту власти и не сумеет ли он действовать, как захочет? Он находился между двух огней, но надеялся искусно использовать это положение.
Обстоятельства благоприятствовали Бонапарту. Он потерял, правда, в Паоли покровителя, но заменил его другим, тоже влиятельным человеком. Один из его родственников, Антонио ди Росси был назначен вместо Баррена временным начальником острова и готов был оказать поддержку молодому лейтенанту. По просьбе Наполеона, Росси в ноябре 1791 года написал военному министру Нарбонну, которого император Наполеон сделал впоследствии своим личным адъютантом, и попросил его разрешения назначить лейтенанта Наполеона адъютантом в один из своих добровольных батальонов. Нарбонн ответил утвердительно. Так как закон двенадцатого августа 1791 года, писал он, не исключает возможности назначения офицеров в корсиканскую национальную гвардию, то он не видит препятствий удовлетворить просьбу Бонапарта.
Письмо военного министра получилось, однако, не так скоро, как того хотелось Наполеону. Первого января состоялся смотр, на котором должны были присутствовать все активные офицеры французской армии, и состоялся без участия Наполеона. Однако, согласно военным правилам, каждый офицер, отсутствовавший в это время без отпуска, должен был подвергнуться исключению из армии. В отчаянии Наполеон семнадцатого февраля 1792 года написал военному комиссару Сюсси, своему Другу в Валансе:
“Неотвратимые обстоятельства, – он, вероятно, намекает здесь на смерть дяди, – вынудили меня, дорогой мой Сюсси, остаться на Корсике дольше, чем позволял мне отпуск. Я знаю это и все же не могу ни в чем себя упрекнуть: меня оправдывает более священный долг.
Сейчас, однако, когда я ничем больше не связан, мне бы хотелось вернуться к вам, но я все же решил подождать ваших советов. Каково мое положение после смотра 1 января? И что мне предпринять?..
Я считаю необходимым, чтобы вы прочли мое письмо офицерам моего полка. Лишь от вас зависит ускорить мое возвращение…”
Но еще до ответа от Сюсси было получено разрешение Нарбонна. Наполеон Бонапарт мог не беспокоиться, 22 февраля Росси написал полковнику четвертого артиллерийского полка Кампаньолю, что старший лейтенант Бонапарт, с согласия военного министра, назначается адъютантом батальона гражданской милиции в Аяччио. Наполеон мог теперь спокойно оставаться на Корсике, не отказываясь от своего положения в армии.
“При столь тяжелых обстоятельствах, – написал он тотчас же, 27 февраля, Сюсси, – место верного корсиканца на его родине. Эта мысль побудила и семью мою просить меня остаться здесь. Так как, однако, я не мог бы продолжать своей службы, то я решил подать в отставку. Теперь, однако, губернатор предложил мне mezzo termine, которое все сразу устроило. Он предложил мне должность батальонного адъютанта в национальной гвардии. Это может, конечно, отсрочить мой приезд, но, я надеюсь, ненадолго, если все будет обстоять благополучно…”
Военный министр дал свое согласие на назначение Бонапарта лишь с тем условием, что декрет Законодательного собрания от 28 декабря 1791 года, согласно которому все офицеры армии, кроме старших лейтенантов, находящихся в батальонах корсиканской национальной милиции, должны вернуться к своим полкам не позже 1 апреля 1792 года не будет утвержден. Теперь, однако, постановление это было утверждено. Предстояло поэтому либо вернуться во Францию, либо же позаботиться о своем будущем на родине. Честолюбие Бонапарта, понятно, не мирилось с должностью батальонного адъютанта, хотя он для того чтобы сделаться командиром батальона должен был иметь чин капитана. Но об этом он не заботился: препятствий для него вообще не существовало. Он должен был решиться. Мать и родные умоляли его остаться на острове, – он должен сделать карьеру, достигнуть желанной должности. Он был того же мнения. На Корсике нуждались в таких офицерах, как он: он владел обоими языками и был посвящен в политическую и социальную жизнь страны. Выборы в этом отношении имели решающее значение, и он остался.
О своем ближайшем будущем Наполеон, по-видимому, совсем не заботился в то время, так как предложил свои услуги в качестве провожатого по Корсике писателю и путешественнику Вольнею, который в начале 1792 года приехал на остров.
Вольней намеревался завести на острове культуру тропических растений, главным образом хлопка, и приобрел для этой цели большое поместье в шестьсот гектаров: дель Принчиппе, близ Аяччио. Он обрадовался, встретив интеллигентного, вполне осведомленного офицера, который мог принести ему большую пользу своими советами. Но Наполеон при этом все время не упускал из виду своих политических целей.
Тем временем, в январе 1793 года, на Корсику прибыли полковник жандармерии Чезаре и генерал-синдик Саличетти для сформирования четырех добровольных батальонов. Был объявлен набор, но встретил целый ряд препятствий из-за чрезвычайно обостренной партийности населения острова. На первое апреля были наконец назначены выборы начальников под руководством трех комиссаров директории департамента: Мурати, Гримальди и Квенца. Мурати был приверженец Паоли, Гримальди – друг Бонапартов, между тем как Квенца не принадлежал ни к какой партии и голосовал всегда за сильных. Главным кандидатом в начальники батальона был Маттео Поццо ди Борго, брат депутата Уго Перетти, отказавшийся, однако, в пользу своего шурина, Квенца, – Людовико Орнано, Пиетрино Кунео и Джиамбаттиста Квенца. Наиболее сильным противником Бонапарта был Поццо ди Борго, поддерживаемый богатым Джиованни Перальди и его партией.
Кандидат Мурати остановился в доме Перальди; Гримальди и Квенца воспользовались гостеприимством Бонапартов и Рамолино. Перальди пустил в ход все свое влияние и богатство, чтобы повредить кандидатуре Квенца и Бонапарта. Необходимо было, чего бы это ни стоило, обезвредить опасного противника, а вместе с ним и Поццо ди Борго; иначе говоря, пустить все машины таким образом, чтобы они работали в пользу Наполеона. Он хотел и должен был достигнуть своей цели!
Ему не хотелось, однако, брать на себя всю ответственность; в душе он мечтал о том, чтобы что-нибудь пришло на помощь его планам и сам случай доставил бы ему желанную победу.
Перальди он ненавидел от всей души: их обоюдная вражда длилась уже давно. Перальди не пропускал ни одного случая, чтобы не посмеяться над маленьким худым лейтенантом, который, несмотря на молодость, с такой самоуверенностью стремился к ответственной должности. Он насмехался над бедностью Бонапарта, которая не позволяла ему развить широкую пропаганду в пользу своей кандидатуры. Он заранее уже торжествовал победу над неизбежным поражением честолюбивого противника. Тем самым он задевал самые больные места Наполеона. Некоторое время он еще сносил эти издевательства, но в конце концов терпение его истощилось. Он вызвал Перальди на поединок. Противник принял вызов, но не явился к назначенному месту, – Наполеон тщетно прождал его полдня у греческой часовни.
Задуманный Бонапартом увод Мурати из дома Перальди был, ввиду многочисленности противной партии, делом нелегким. Сторонники Бонапарта были, правда, готовы на все, но сами они не были в состоянии принять такого смелого решения. Только гений Наполеона мог им помочь в этом деле.
Тем временем он пускал в ход все усилия и даже то небольшое состояние, которое получил по наследству от дяди, чтобы увеличить ряды своих приверженцев. В городе он не упускал ни одного удобного случая, чтобы где-нибудь выдвинуться. После назначения дня выборов он, как и все соискатели, широко распахнул двери своего дома. Сторонники его встречали самый радушный прием, вино лилось рекою. Косвенно помогал ему в этой пропаганде и Саличетти. Под предлогом возникших в Аяччио религиозных волнений он добился командировки в Аяччио от Директории и приказал добровольным батальонам, рассеянным уже по различным округам, расположиться на квартиры в городе. Люди Наполеона жили большею частью у Бонапартов, и Летиция была принуждена устилать по ночам все комнаты и даже площадки лестниц матрацами, чтобы дать ночлег своим многочисленным гостям. Огромные расходы беспокоили ее, и она начинала колебаться в своей вере в сына. Когда она сообщила об этом Наполеону, тот только ответил: “Прошу тебя, мать, не падай духом и поддержи меня до конца. Обратного пути нет… Через десять дней батальон будет сформирован. Мои люди не будут тогда обременять тебя… если мне все удастся так, как мне хочется, наше будущее обеспечено. Если я получу эту должность, передо мной все дороги открыты…” И, действительно, он подготовил все так, что теперь все зависело от благосклонности комиссаров.
Ночь после дня их приезда Наполеон провел без сна в неописуемом волнении. На следующий день он появился на улицах, погруженный в раздумье, еще более бледный, чем всегда, с ярко горящими глазами. Сторонники его собрались вокруг него и проводили его до дома. Всем бросился в глаза его рассеянный, взволнованный вид, и все понимали причину этого волнения. Только один Франческо Бонелли отважился прямо спросить, нет ли у него еще какого-нибудь приказания. Упавшим тоном, но все же с оттенком надежды во взгляде, Бонапарт ответил ему: “Что мне вам приказывать? Разве вы сами не видите, что нужно сделать?” – “Нет, скажи нам!” – “Нужно решиться на крайность! Нужно увести комиссара из дома Перальди!” – “Куда же его поместить?” – “Это безразлично… если хотите, – ко мне!” Приказание было тотчас же исполнено. С помощью нескольких преданных национальных гвардейцев Мурати был схвачен в доме Перальди и приведен к Бонапарту. Комиссар был немало удивлен, когда Наполеон встретил его словами: “Я хочу, чтобы вы были свободны! Совершенно свободны! У Перальди вы бы этой свободой не пользовались!” Мурати не имел ничего против этого и остался.
Но поступок Наполеона стал известен всему городу. Партия Перальди ожесточилась до крайних пределов и поклялась страшно отомстить Бонапартам. Они хотели расстрелять его дом, разграбить и поджечь и захватить Наполеона живым или мертвым. Только благодаря умным советам старого Маттео Поццо ди Борго, план этот не был приведен в исполнение. Впрочем, Наполеон был готов ко всему: люди его стояли в полном вооружении за окнами дома, готовые обрушиться на каждого, кто бы осмелился приблизиться с недобрым намерением.
На следующий день, 1 апреля, национальные гвардейцы собрались в церкви Сан-Франческо. Они не носили еще формы, и только кепи отличали их от прочих граждан. Выборщикам было строго запрещено носить оружие, тем не менее каждый спрятал за пазуху острый кинжал. Нельзя было знать, что готовится на выборах при такой ожесточенной борьбе партии.
Мертвая тишина овладела толпой, когда Маттео Поццо ди Борго взошел на трибуну и в резких выражениях обрушился на насильственный акт Бонапарта. Ди Борго был блестящим оратором, он сумел увлечь слушателей своим воодушевлением и использовать влияние, которое оказывал на остров его брат Карло Андреа в качестве депутата. Наполеон заметил опасность и приказал своим людям сделать все, лишь бы не дать говорить оратору. В толпе раздались свистки, крики и неистовый топот. “Abbasso l'oratore!” – послышалось со всех сторон. Шум принимал все более угрожающий характер. Но огромные голосовые средства Поццо ди Борго покрывали собою неистовство толпы, и казалось, что победа будет за ним. Но вдруг его подняли чьи-то руки и силою увлекли с трибуны. Враги яростно кинулись на него и можно было бы ожидать всего, если бы Наполеон и полковник Квирико Казанова из Сардинии не вмешались в толпу. Квенце и Бонапарту благодаря их влиянию удалось удалить из зала Поццо ди Борго.
Спокойствие было снова восстановлено, и выборы пошли своим чередом. Квенца был избран первым, а Бонапарт вторым начальником батальона. Радость Бонапарта по поводу этой победы была неописуема. Люсьен написал тотчас же Жозефу в Корте: “Наполеон и Квенца избраны в начальники батальона!” Дом Бонапартов наполнился радостными гостями. Лилось рекой вино, и полковая музыка играла в честь нового начальника.
Друзья Квенцы и Бонапарта достигли тоже, чего хотели. Целый ряд их был избран капитанами, лейтенантами и унтер-офицерами.
Наполеон предусмотрел в равной мере и тот случай, если бы его постигло поражение. На это по крайней мере указывает свидетельство, которое 31 марта выдал ему Росси. Росси заявляет в нем, что он нуждается в офицере, говорящем по-итальянски и по-французски, и что, с ведома военного министра, назначает его батальонным адъютантом. С этим свидетельством в руках Наполеон, наверное бы, поспешил в Париж, чтобы постараться вновь попасть в войско, из которого он, был исключен, так как не явился на вышеупомянутый смотр. Теперь же, однако, его избрание в батальонные командиры положило всему конец.
Но если в лагере Бонапартов царили ликование и радость, то сторонники Поццо ди Борго и Перальди замышляли жестокую месть. Как истые корсиканцы, они не допускали и мысли, чтобы позор, испытанный ими, мог пройти безнаказанно. Дружба Бонапартов с семьей Поццо уже перед выборами значительно ослабела, теперь же, конечно, порвалась навсегда. Какого опасного врага обрел Наполеон в интеллигентном и умном, но чрезвычайно склонном ко всякого рода интригам Карло Андреа Поццо ди Борго, ему пришлось испытать впоследствии во время своего возвышения.
Новый начальник батальона воспользовался тотчас же своим влиянием и властью для принятия необходимых мер. Это было ему тем более легко, что Квенца не обладал никакими военными познаниями и уступил ему первенство. Батальон Бонапарта, названный вначале “батальоном Аяччио ”, а впоследствии “вторым батальоном”, расположился в бывшей семинарии неподалеку от собора. Наполеон, однако, не был доволен этим старым полуразрушенным зданием и требовал, чтобы людям его было предоставлено более приличное помещение и хорошая пища. Ему хотелось расположиться в цитадели.
В городе торжество Бонапарта и религиозные смуты, в особенности конфискация церковных земель, вызвали серьезное брожение среди населения. Последнее раскололось на два лагеря. Один, более умеренный, и женщины стояли на стороне монахов, другой же, патриотический, высказывался за гражданское духовенство. Событие, разразившееся в начале апреля, легко могло повредить популярности Наполеона. На второй день Пасхи, 8 апреля 1792 года, священники, не желавшие подчиниться новому закону, отправились торжественной процессией к монастырю Сан-Франческо для служения торжественной мессы. Это открытое сопротивление клира привело в ярость патриотов, и в городе с быстротой молнии распространились зловещие слухи.
Около шести часов вечера вблизи церкви разгорелся спор между молодыми людьми, игравшими в кегли. Вскоре спор перешел в драку: в руках противников засверкали кинжалы. Вокруг них собралась огромная толпа. Женщины и дети взывали о помощи и кинулись в соседние казармы второго батальона. Вскоре оттуда для водворения порядка показался лейтенант с двенадцатью солдатами. Он пригрозил арестовать зачинщиков, но тем самым еще более возбудил толпу, состоявшую преимущественно из матросов, врагов добровольцев. “Долой кепи!” – послышалось со всех сторон. Это дало сигнал к беспорядкам. Чернь бросилась на солдат, чтобы их обезоружить. Поднялась невообразимая сумятица. Из всех окон соседних домов посыпались проклятия национальным гвардейцам; раздалось даже несколько выстрелов. Гвардейцы стали тотчас же защищаться.
Тем не менее толпе удалось обезоружить троих из них. Один получил даже несколько ударов кинжалом и, истекая кровью, упал на площади. Другие же вернулись в семинарию.
Весь батальон был вне себя от этого происшествия. Солдаты были твердо убеждены, что их заманили в ловушку. Они настойчиво требовали, чтобы им разрешили отомстить толпе за понесенный позор. Но Квенце, по счастью, удалось удержать их.
Тем временем волнение жителей достигло своего апогея. Они, со своей стороны, были твердо убеждены, что гвардейцы составили заговор против жителей Аяччио, и стали готовиться к обороне. Из всех домов, даже самых отдаленных от семинарии, мужчины выходили то и дело с ружьями, кинжалами и пистолетами. Все они собирались на соборной площади, чтобы показать солдатам, что могут еще защищаться.
Батальонного командира Бонапарта не было в это время в казармах. Он не имел ни малейшего представления о событии, разразившемся перед собором. Услышав, однако, шум, он поспешил на помощь и отправился в казарму сорок второго пехотного полка. Там он приказал дежурному офицеру ударить тревогу, но приказание его не было исполнено. Тогда он собрал вокруг себя несколько офицеров и отправился с ними в семинарию, где был расположен второй батальон. По дороге офицеры встретили молодого человека с двумя ружьями, которые тот отнял у национальных гвардейцев. Бонапарт и другие офицеры заставили его вернуть оружие, но в эту минуту увидели другого, который целился прямо в них. Наполеон подошел к нему и, по-видимому, уже успокоил его, как вдруг из собора показалось несколько вооруженных людей, спешивших на помощь товарищу. Они выстрелили и убили Рокко делла Серра. Из всех углов и переулков выскочили восставшие, и горсточке офицеров не оставалось ничего иного, как спастись бегством. Бонапарту удалось задними дворами пробраться в семинарию.
Гвардейцев вовремя удалось успокоить, тем более что они видели, что в беспорядки не вмешиваются ни гражданские, ни военные власти. Всю ночь в казармах шли приготовления к борьбе.
Квенца и Бонапарт еще до наступления дня отправились в цитадель, чтобы просить коменданта о защите и принятии добровольцев, так как они не в безопасности в старой семинарии. Но Мейлар, который, вероятно, почуял ловушку, отказался и предложил им лишь провиант. Вскоре после возвращения обоих начальников в казарму прибыл мировой судья Драго для допроса одного из раненых солдат относительно причин беспорядков. Но Бонапарт не только не допустил его к допросу, но приказал тотчас же арестовать его и сопровождавших его жандармов.
В восемь часов вечера началась упорная борьба между добровольцами и гражданами. Обе стороны понесли значительные потери убитыми и ранеными. Несмотря на неоднократные предложения общинного совета и властей, батальон не прекращал огня. В пять часов вечера полковник Мейлар предложил ему очистить семинарию и перейти в монастырь Сан-Франческо, расположенный за городскою стеною. Бонапарт отказался исполнить это приказание и отправился еще раз к коменданту с просьбой отменить распоряжение. Он достиг своей цели. Но ни граждане, ни добровольцы не успокаивались. Марио Баттиста Перальди, отец депутата, решил, что настал удобный случай отомстить за поражение сына, и отправился с толпой своих сторонников к семинарии. Солдаты отвечали пулями. Наполеон велел занять несколько домов, соседних с казармами; люди его разгромили дома и стреляли во всех, кто попадался им на пути. 10 апреля было, наконец, подписано перемирие в цитадели, и добровольцы вернулись в семинарию.
Но уже на следующий день беспорядки вспыхнули снова. Бонапарт сам направлял своих добровольцев и мчался по улицам, отдавая приказания. Он пытался, по-видимому, возбудить даже сорок второй полк против его офицеров. В ответ на повторенный приказ Мейлара немедленно очистить город от добровольцев, в противном случае он велит ударить в набат, – Наполеон написал, что он исполняет лишь свой долг и следует приказаниям Паоли. Это было, однако, неправдою: Паоли не давал ему никаких указаний на этот счет. 12 апреля было заключено, наконец, второе перемирие между властями и начальниками добровольных батальонов. Но беспорядки окончились лишь тогда, когда директория департамента 16 апреля прислала в Аяччио еще троих комиссаров.
19 апреля оба начальника гвардии прислали директории департамента записку, автором которой был Бонапарт. Он категорически заявляет в ней, что все волнения были давно подготовлены противниками и назначены на Пасху. Далее он жалуется на командира регулярных войск за то, что тот занял цитадель и отказался прийти на помощь добровольцам и выдать им военные припасы. В заключение он упоминает, что хотел только отомстить за смерть лейтенанта Рокко делла Серра. Записка эта составлена чрезвычайно искусно. Наполеон постарался прежде всего подчеркнуть тайные мотивы, обусловленные ненавистью, враждой и завистью.
Своей истинной цели он, однако, в этой записке не раскрывает; очевидно, что заняв цитадель, он намеревался овладеть господством над городом. Но комендант не попался на удочку. Он понял, что если впустить национальную гвардию в крепость, то ей будет нетрудно возбудить войско, состоявшее тоже из корсиканцев, и вместе с ними арестовать французских офицеров.
После того как в Аяччио все вновь успокоилось, Бонапарт вместе с Квенца и национальной гвардией округов Аяччио и Таллано отправился 6 мая в Корте. Там должны были назначить им новый гарнизон. Воспользовавшись этим случаем, Наполеон посетил в Монтичелло генерала Паоли и предложил ему отказаться от начальствования над вторым батальоном и встать во главе нового, предполагавшегося к сформированию. Паоли сперва согласился, но впоследствии, по-видимому, раздумал, так как 13 мая говорил по этому поводу с Жозефом Бонапартом и заявил, что об этом плане нечего и думать, так как добровольные отряды не должны впредь объединяться под начальством одного лица. В действительности же Паоли опасался безграничного честолюбия Наполеона и его отважного характера. Ввиду этого Жозеф счел своим долгом посоветовать брату возможно скорее отправиться во Францию, чтобы привести там в порядок свои дела и, кроме того, оправдаться против обвинений своих врагов, особенно партии Поццо ди Борго и Перальди. Они донесли на него в Париж, что он приказал стрелять в народ, и энергично протестовали против его узурпированного назначения начальником батальона.
Наполеон был того же мнения, что и Жозеф. Он считал чрезвычайно важным урегулировать свое положение в армии. В середине мая 1792 года он покинул Корсику и через Валанс, в котором остановился всего только на один час, прибыл в конце месяца в Париж. Его обвиняли в превышении власти, подстрекательстве к беспорядкам, отказе в повиновении и вооруженном сопротивлении властям. Обвиняли его еще помимо этого во всевозможных злодеяниях: их было вполне достаточно, чтобы уготовить ему верную гибель. К несчастью, все эти проступки усиливались его основной ошибкой: тем, что он без всяких уважительных причин, без разрешения оставался вдали от полка, в то время как каждая сила была на учете. Но молодой офицер был снабжен наилучшими рекомендациями корсиканских властей, которые ему выдали очень охотно, в надежде навсегда от него избавиться. Во Франции поэтому ему все охотно простили, – если бы не его злосчастная попытка овладеть цитаделью.
Наполеон, однако, не особенно заботился о своем будущем, – по крайней мере, он ничего не пишет в своих письмах к Жозефу. Кажется, будто он всецело поглощен политическими событиями во Франции. О них он подробно рассказывает брату.
Тем не менее он находился теперь в Париже без всякой должности. Он остановился в гостинице “Голландских патриотов”, на улице Рояль-Сен-Рош, где жили также Поццо ди Борго, Леонетти и Перальди. Обедал он обычно в ресторане на улице Сен-Онорэ, вблизи Пале-Рояля. Там вместе с Бурьеном, которого он случайно встретил в Париже, он был свидетелем восстания 20 июня 1792 года.· В этот день он увидел процессию в тридцать тысяч человек, – они направлялись в Тюильри, проникли в королевские покои и заставили Людовика XVI надеть якобинскую шапку. Эти события, ставшие роковыми для Жиронды, дали Наполеону повод к серьезным размышлениям над революционным движением. Его возмущение выразилось в словах: “Как могли впустить эту чернь? Достаточно было смести пушками четыреста – пятьсот человек, остальные тотчас же бы разбежались”.
Перед глазами умеренного республиканца должны были разыграться еще более страшные события. Прежде всего, ему пришлось начинать сызнова борьбу за существование. Семейство Бурьен из-за неудачных спекуляций разорилось, и молодой человек видел себя в том же положении, как и своего друга. По словам Бурьена, он был все же богаче его и платил за их совместные обеды. Он утверждает, однако, что Наполеон был принужден заложить у его брата часы. Однажды как-то обоим пришла в голову мысль нажить деньги спекуляцией домами, хотя Бонапарт ни минуты не терял надежды снова вступить в ряды армии. Их предприятия терпели большею частью крушения: нужны были наличные деньги, которых у них не было даже и в помине. Бурьен был, впрочем, счастливее своего друга, так как вскоре был назначен секретарем посольства в Штутгарте.
Во время его пребывания в Париже оба бывших однокашника из Бриенна виделись ежедневно. Бурьен сопровождал Наполеона даже в Сен-Сир к Марианне. В этом роялистском заведении молодой республиканец Бонапарт обнаруживал величайший такт пли, вернее, величайшую хитрость. Жозефу он пишет об этом посещении: “Марианна – аристократка. Мне пришлось ради нее надеть, маску”. Это вызвало негодование его брата Люсьена, игравшего видную роль в политическом клубе в Аяччио. Он не соглашался с поведением Наполеона и сказал: “Необходимо всегда становиться выше событий и выказывать решимость, чтобы достигнуть чего-нибудь и заслужить себе имя. В истории нет людей более достойных презрения, чем те, которые держат нос по ветру… Я всегда замечал в Наполеоне чрезвычайно эгоистическое самолюбие, – оно в нем сильнее всех стремлений к общественному благу. Я думаю, что в свободном государстве он был бы очень опасным человеком!”
Между тем Наполеон переменил квартиру и переехал в маленькую, дешевую комнату гостиницы “Мец”, на улице дю Мель. Он жил здесь и во время событий 10 августа. Вместе с братом Бурьена он был свидетелем отвратительной резни в Тюильри, во время которой погибли столь жалкой смертью швейцарцы – защитники королевской семьи.
Зрелище это произвело на молодого Бонапарта неизгладимое впечатление. Даже на Святой Елене воспоминание об этом дне было еще настолько живо, что император в точности передавал все его подробности.
“Не доходя еще до улицы Пти-Шам, я встретил кучку оборванцев, несших на острие копья отрубленную голову. Увидев меня, прилично одетого, и приняв за аристократа, они подошли ко мне и заставили закричать: “Vive la nation!” Это было мне нетрудно.
Замок был окружен чернью. В распоряжении короля было по крайней мере столько же войска, сколько впоследствии у Конвента 13 вандемьера: враги Конвента к тому же были более дисциплинированны и поэтому гораздо более опасны. Большая часть национальной гвардии была на стороне короля. В этом следует отдать ей справедливость.
Когда дворец был взят, и король нашел убежище в Национальном собрании, я отважился пробраться в сад. Никогда, ни одно поле моих сражений не производило на меня такого впечатления как это, сплошь усеянное телами мертвых швейцарцев. Быть может, причина этого заключалась в небольшом пространстве или же в том, что первое впечатление такого зрелища всегда значительно сильнее. Я увидел хорошо одетых женщин, издевавшихся над трупами. Во всех кафе вокруг Национального собрания воодушевление достигло крайних пределов. Ярость и бешенство отражались на всех лицах, хотя здесь была не только чернь. Казалось, все эти места посещаются одною и тою же публикой, так как, несмотря на то, что я был очень просто одет, или, быть может, потому, что мое лицо было спокойнее, чем у других, много враждебных и недоверчивых взглядов было устремлено на меня”.
Презрение Наполеона к поведению короля выразилось в словах, которые он написал в тот же день Жозефу: “Если бы король показался на лошади, победа осталась бы за ним!..”
Дома, на Корсике, трепетали за участь сына и брата. Мать, братья, сестры и все родные просили его вернуться в это страшное время и привезти с собою и Марианну, которая все еще находилась в Сен-Сире. Но раньше Наполеон хотел выяснить свое положение. Теперь, когда королевство было низвергнуто и власть перешла к Конвенту, его честолюбию открывалось необозримое поприще. С самоуверенностью написал он поэтому 11 августа своему дяде Паравичини: “Пусть не волнуются наши враги… А вы не заботьтесь о племянниках: они сумеют проложить себе путь!”
Его уверенность в себе выросла еще больше, когда благодаря новому порядку вещей военный министр Лейар был заменен жирондистом Серваном, а морским министром был назначен математик Монж, бывший учитель Наполеона в Бриенне. Надежды его сразу усилились.
Он был прав. Уже 10 июля он получил от Сервана подтверждение его принятия в армию, а 30 августа получил назначение артиллерийским капитаном. Министр поставил Бонапарту на вид, чтобы он немедленно отправился в полк, стоявший на Мозеле под начальством Дюмурье. Но Наполеон не послушался приказания. Он нашел удобный предлог вернуться на Корсику: 1 сентября он должен был взять свою сестру из Сен-Сира и отвезти на родину, так как было издано распоряжение, согласно которому уничтожались все королевские воспитательные учреждения.
Исполнив все формальности и получив от версальских властей на поездку Марианны триста пятьдесят два франка, он вместе с нею 9 сентября отправился на родину. В Марселе они остановились на некоторое время. Там шляпа с пером молодой девушки вызвала недовольство толпы. “Долой аристократов!” – закричали им. Наполеон ответил хладнокровно: “Мы не больше аристократы, чем вы”. Он сорвал с сестры шляпу и, к великой радости толпы, отшвырнул ее прочь. Приблизительно 10 октября брат с сестрой уехали из Тулона па Корсику.
К своему великому удивлению, увидели корсиканцы Наполеона, – его, от которого надеялись навсегда избавиться. Он не только вернулся невредимым, но и, сверх того, в двадцать три года стал капитаном. Влияние его возрастало с каждым днем. Отвага и дерзость считались у корсиканцев величайшею добродетелью, и поэтому Наполеон по возвращении на родину был встречен как прославленный герой.
Он старался использовать это влияние, чтобы провести Жозефа в Конвент, но и на этот раз его старания для брата не привели ни к чему.
Во время отсутствия Наполеона анархия на Корсике приняла угрожающие размеры. Паоли совершенно изменился. Он склонялся все больше к англичанам, и острову грозила новая беда. На сей раз он принял молодого Бонапарта чрезвычайно любезно и предупредительно. Наполеон, однако, понял перемену, происшедшую в старом герое, и почувствовал его антифранцузские намерения. Уезжать в полк он и не думал. Он стал во главе корсиканских монтаньяров, взял на себя осмотр корсиканских укреплений и снова принял начальство над батальоном национальной гвардии в Корте. Как бы для подкрепления своих действий, он писал директории департамента: “Я здесь. Все теперь пойдет хорошо”.
Между тем в департаменте Варр готовилась экспедиция в Сардинию, в которой должны были принять участие корсиканские батальоны национальной гвардии.
ГЛАВА VI. КОРСИКА ИЛИ ФРАНЦИЯ?
Экспедиция на Маддалену. – Бегство с Корсики. – “Ужин в Бокере” (Январь – сентябрь 1793 года)
В мае 1792 года Антонио Константини, корсиканский депутат в Париже, вручил Законодательному собранию записку, в которой говорил о планах покорения соседнего острова. Константини прожил несколько лет в Сассари и был хорошо знаком с Сардинией. Необходимо, говорил он в своей записке, овладеть сначала Маддаленой и некоторыми другими маленькими островками к северу от Сардинии. Вслед за этим можно будет овладеть и северными городами острова, Кастель-Сардо, Сассари и Альгеро. И, наконец, подступить с войском, – которое он исчислил в 12 тысяч человек, – к Каглиари, столице острова.
Генерал-синдик Саличетти соглашался с этим планом. В июле того же года бывший депутат Марио ди Перальди тоже подал записку, в которой говорил о важности военной экспедиции в Сардинию. По совету Карно, временный исполнительный совет приказал военному и морскому министерствам принять необходимые меры к военной экспедиции в Сардинию.
Завоевание Сардинии имело большое преимущество для Франции. Страна эта поставляла превосходных лошадей, хлеб – в котором во время революции ощущался во Франции большой недостаток, – и дорогой мачтовый лес. Помимо этого, владение Сардинией представляло собою большую опору в Средиземном море.
Несмотря на старания Перальди добиться назначения начальником экспедиции корпуса Пасквале Паоли, начальство было поручено командиру альпийской армии генералу д'Ансельму и контр-адмиралу Трюгэ. Ансельму предоставлено было, однако, либо руководить экспедицией, либо поручить начальствование другому генералу. Паоли же был назначен командиром 23-й дивизии и тем самым главнокомандующим всем войском на Корсике. В то время на Корсику и в Ниццу были посланы два специальных комиссара, Марио ди Перальди и Бартоломео Арена, для переговоров с Паоли относительно сформирования нужного войска и для вручения д'Ансельму предписания исполнительного совета.
Военные суда, принимавшие участие в экспедиции, собрались в ноябре в Специи, а транспортные суда в Тулоне. Флот был разделен на две эскадры, из которых Трюгэ командовал меньшею, а большую передал капитану Латуш-Тревилю. Сухопутное войско должно было быть сформировано из шести тысяч добровольцев, из департаментов Буш-дю-Рон и Варр, а также из трех тысяч корсиканских регулярных и добровольных солдат, из которых последние должны были быть посажены в Аяччио на суда. Кроме того, Бастия и Кальви должны были дать войско.
Трюгэ возлагал большие надежды на экспедицию в Сардинию, точно так же и назначенный в Константинополь французский посланник Семонвиль, ожидавший инструкций в Аяччио. Последний был уверен, что экспедиция в короткое время одержит победу, и флот после покорения острова отправится в Черное море, чтобы оттуда диктовать условия русскому правительству! Расположенные к Франции корсиканцы, в том числе Жозеф и Наполеон Бонапарты, в равной мере с воодушевлением ожидали завоевания Сардинии. 18 октября Наполеон писал Косте: “Враги покинули Лонгви и Верден и перешли через реку, чтобы вернуться на родину. Но мы не останавливаемся. Савойя и графство Ницца взяты! Солдаты свободы всегда будут одерживать победы над рабами, оплачиваемыми тиранами!”
Контр-адмирал Трюгэ не стал ждать сформирования добровольческих батальонов, происходившего очень медленно, а 10 декабря с четырьмя боевыми судами, пятью фрегатами и корветом отчалил из Специи. 15 декабря он бросил якорь в рейде Аяччио, чтобы посадить на суда войско 23-й дивизии. В тот же день сюда же прибыл и Латуш-Тревиль с десятью военными судами и двумя фрегатами, чтобы отправиться в Неаполь, произвести там демонстрацию и вручить неаполитанскому двору ультиматум с требованием сохранять нейтралитет; было условлено, что обе эскадры встретятся затем в Пальмском заливе и оттуда сообща направятся к столице Сардинии.
Экспедиция началась для Трюгэ крайне неблагоприятно, так как при входе в гавань Аяччио военное судно “Le Vengeur” потерпело крушение. 15 декабря Трюгэ прибыл в Аяччио и познакомился там с семьей Бонапартов. Молодой и светский, он вращался в лучших домах Корсики и заинтересовался, по-видимому, старшей сестрой Наполеона, Элизой. Но, вероятно, Люсьен был против этого брака.
К этому времени относится и знакомство Наполеона с молодым Монтолоном, который, двадцать три года спустя, должен был последовать в изгнание вместе со сверженным императором.
Трюгэ старался всеми силами ускорить сформирование корсиканских батальонов, назначенных в экспедицию, но Паоли располагал незначительными войсками, так что в походе в Средиземное море могли принять участие вместо трех тысяч лишь тысяча восемьсот человек и 13 орудий.
Через несколько дней после прибытия эскадры между матросами и корсиканцами начались распри, поводом к которым послужила погоня за “аристократами”, стоившая жизни двум корсиканским национальным гвардейцам. Только благодаря умению начальников вражда между обеими нациями не приняла широких размеров. Ввиду этого, однако, нечего было и думать брать с собою в экспедицию корсиканскую национальную гвардию и везти ее на судах адмирала Трюгэ. Паоли решился поэтому вместо национальной гвардии предоставить в распоряжение Трюгэ не только всю сорок вторую дивизию, но и тринадцать тысяч из двадцать шестой и пятьдесят второй. Корсиканские же добровольцы должны были предпринять неожиданное нападение на маленькие островки к северу от Сардинии; главным образом Паоли имел в виду самый крупный из них – Маддалену, занимавшую чрезвычайно благоприятное положение в Средиземном море. Сам Нельсон говорил, что он имеет более важное значение, чем Мальта и Гибралтар. В январе 1793 года приготовления в Аяччио были закончены, и Трюгэ 8 января поднял якорь, чтобы направиться к Каглиари. Наибольшую часть экспедиционного корпуса должны были составлять батальоны двух юго-восточных департаментов Франции. Но с громадным трудом собрали едва четыре тысячи солдат, большею частью молодых и почти совершенно неопытных. Среди них находились два батальона, носивших многообещающее название “марсельской фаланги”. Лишь в начале января было закончено сформирование корпуса, и в тот же день, когда Трюга покидал Аяччио, транспорт флота отчалил из Вильфранш. Общее начальствование над сухопутными войсками было поручено сперва, как мы уже говорили, д'Ансельму, но вследствие нескольких поражений, а также и грабежей в Ницце, его отозвали для дачи показаний в Париж, и 20 декабря его заменил генерал Брюнн. В конце концов руководство сардинским походом было поручено генералу Казабиянке.
Поход в столицу Сардинии вследствие различного рода несчастных случайностей протекал довольно неблагополучно. Не лучше обстояли дела и с походом на Маддалену, который был задуман 28 декабря Трюгэ и, наконец, одобрен Паоли. В нем-то и принял участие молодой Бонапарт.
Несмотря на все возражения Паоли, что у него слишком мало войска для защиты приморских городов, Трюгэ думал, что экспедиция будет чрезвычайно облегчена корсиканскими добровольцами. Паоли назначил главнокомандующим полковника Колонна ди Чезаре-Рокка. Чезаре, как его обычно называют, неохотно принял ответственное поручение, так как считал бесцельным и преждевременным поход на Сардинию. Снабженный неограниченными полномочиями от Паоли, он отправился сначала в Сартену, где стояли четыре добровольных батальона. Оттуда он направился на Аяччио. Там находилось два батальона под предводительством Квенцы и Наполеона. Дисциплина обоих батальонов оставляла желать много лучшего, и Чезаре возлагал мало надежд на военную ценность этих отрядов. В ответ на свои настоятельные просьбы он получил, наконец, разрешение взять с собою часть жандармерии из Бонифачо.
С небольшим войском, состоявшим из ста пятидесяти регулярных солдат и четырехсот пятидесяти корсиканских добровольцев и нескольких жандармов, он прибыл, наконец, в ночь с 18 на 19 февраля в Бонифачо на корвете “Фоветт” и двадцати небольших судах. На следующий день они были уже в виду островов и Маддалены, как вдруг неблагоприятный ветер заставил флотилию повернуть обратно, 22-го, утром, Чезаре снова вышел в море и благополучно достиг маленького островка Сан-Стефано, который отделялся от Маддалены лишь узким проливом. Под охраной орудий корвета “Фоветт” они в тот же день высадились и после небольшой стычки на следующий день заставили сдаться крохотный гарнизон Сан-Стефано, состоявший всего из тридцати человек.
Маддалена же оказала нападавшим значительно большее сопротивление. Две батареи, поддерживаемые полуторастами регулярными и сотней добровольцев, защищали форт Бальбиано и гавань, вход в которую был блокирован несколькими галерами. По приказанию Чезаре, старший лейтенант “Набулионе Бонапарте”, как он значился в то время в списках своего батальона, воздвиг в ночь с 23 на 24 февраля напротив маддаленской гавани батарею и утром пустил первые ядра по направлению к острову. Судя по мемуарам Чезаре и по показаниям самого Наполеона, батарея причинила врагу довольно значительный урон.
24-го был созван военный совет. Все офицеры согласились с Чезаре, чтобы на следующий день, под охраной корвета и воздвигнутой Бонапартом батареи, совершить высадку в гавани и взять обе неприятельских батареи. Решение это было встречено с воодушевлением и солдатами, и только экипаж корвета был противоположного мнения. Многие были убеждены, что северный берег Сардинии наводнен солдатами, и видели всюду лишь измену и опасности. Они решили поэтому повернуть обратно и в ночь с 24 на 25 февраля стали готовиться к отплытию. В экипаже находились большею частью молодые, неопытные матросы, что, однако, отнюдь не оправдывает этой трусости. Их намерение стало вскоре известно и прочим войскам, и потребовалось все влияние офицеров, чтобы солдаты не обратили орудий взятой лишь накануне крепости Сан-Стефано на “Фоветт”, чтобы расстрелять трусов.
Взволнованный этим обстоятельством, Чезаре с кучкой верных жандармов тотчас же отправился на борт судна, чтобы подвергнуть допросу офицеров. Они ответили, что уступают лишь настояниям матросов, но теперь, когда к ним явился главнокомандующий, никто из них и не думает о возвращении. На следующее утро Чезаре попробовал уговорить остаться экипаж, но тщетно. “В таком случае, – воскликнул Чезаре повелительным тоном, указывая на жандармов, стоявших подле пороховых бочек, – повинуйтесь мне, или мои жандармы подожгут пороховые бочки, и корвет взлетит на воздух!” Когда, однако, капитан провел голосование, и подавляющее большинство экипажа высказалось за возвращение, – Чезаре с тяжелым сердцем подал знак к отплытию. Ему пришлось громко прочесть приказ старшему лейтенанту Квенце, чтобы матросы убедились, что они действительно возвращаются на родину. Кроме того, бунтовщики мешали ему отдавать распоряжения и обращались с ним, как с своего рода заложником, неуверенные, что приказ его будет приведен в исполнение.
Как громом, поразил этот приказ Квенцу, Бонапарта и их отряды. Они уже так близки к цели и теперь вдруг из-за восставших матросов корвета должны бросать все и бесславно, не совершив ничего, вернуться на родину! Но злоба и бешенство уступили скоро место беспомощности и бессилию. Из боязни, что “Фоветт” оставит их беззащитными, они бросились на корабль с криками: “Спасайся, кто может!” Они не взяли с собою даже орудий! Бонапарт с невероятным трудом довез их до берега, но должен был оставить их там, и они попали в руки сардинцев.
Рассказывают, что Бонапарт имел на “Фоветте” чрезвычайно бурную сцену с Чезаре и обвинял последнего в трусости и неспособности, после чего матросы перешли на сторону своего главнокомандующего и пригрозили выкинуть Бонапарта за борт.
Это сообщение опровергается, однако, тем фактом, что Бонапарт находился вовсе не на корвете, а на маленьком судне. За это несколько дней спустя по прибытии в Бонифачо его едва не убили матросы “Фоветта”. Они намеревались повесить его на ближайшем фонаре как “аристократа”. Лишь вмешательству добровольцев, освободивших его из рук бунтовщиков, обязан он спасением своей жизни.
Несмотря на оправдательную записку и заявление офицеров, что он не мог поступить иначе, Колонна ди Чезаре-Рокка попал в немилость к правительству. Бонапарт же воспользовался удобным случаем, чтобы развивать планы, каким образом легче всего завладеть островами Маддалены, – планы, которые действительно заслуживали осуществления. Ему удалось изучить на месте положение дел и он втайне надеялся получить начальствование над экспедицией. Но исполнительный совет отказался от всяких дальнейших попыток завоевания Сардинии, так как две уже потерпели такое плачевное фиаско.
Наполеон вспоминал крайне неохотно о своем неудавшемся походе и никогда не говорил о нем ни в своих беседах с друзьями, ни даже на Святой Елене. Для него военная карьера началась с осады Тулона, во время которой он пожал свои лавры. Да и разве он мог начать свою триумфальную карьеру поражением?
* * *
Неудачный поход на Сардинию был причиной падения Паоли и должен был роковым образом повлечь за собою для Франции временную потерю Корсики.
Бартоломео Арена был прежде ярым поклонником Паоли, но последний не любил его и сделал его в конце концов своим заклятым врагом.
Вместе с Марио Перальди Арена был назначен особым комиссаром для наблюдения за сардинской экспедицией. Вернувшись в Ниццу, он взвали всю ответственность на неудачный поход на корсиканского вождя; бывшие марсельские добровольцы, ведшие себя так бесславно во время похода, агитировали со своей стороны в клубах против Паоли, так как считали его виновником неудавшегося похода.
Депутат и бывший генерал-синдик Саличетти единственный из всех корсиканских депутатов голосовал в Национальном Конвенте за казнь Людовика XVI. Он ненавидел Паоли от всей души. Ненавидел, как может ненавидеть только корсиканец, и стремился всеми силами уронить авторитет своего соотечественника. Но причин сомневаться в патриотических воззрениях Паоли еще не было. 11 сентября 1792 года он был назначен генерал-лейтенантом и командиром 23-й дивизии. Назначение это было встречено с большим неудовольствием. Кроме того, он был президентом управления департамента и совмещал, таким образом, в одном лице высшую военную и гражданскую власть на острове.
Чтобы теснее объединить Корсику в военном отношении, по совету Саличетти, 17 января 1793 года 23-я дивизия была подчинена Бирону, генералу итальянской армии. Побудительной причиной для этого послужило, однако, желание ограничить власть Паоли, который был теперь поставлен в зависимость от главнокомандующего итальянской армией, а не только от одного военного министра. Когда Бирон запросил военного министра, не лучше ли ему будет вызвать Паоли в Ниццу, и получил на это утвердительный ответ, он пригласил его к себе для совещания. Паоли почувствовал, однако, что ему предстояло; он ответил, что он болен и слишком стар, чтобы отправиться в путешествие.
Он был превосходно осведомлен относительно всего, что происходило в столице. В справедливом возмущении, он написал 28 января военному министру: “Я узнал, что несколько честолюбивых недобросовестных людей с некоторого времени распространяют путем газет и двусмысленных слухов сомнения в искренности моих симпатий к Республике и моего усердия ко всему, что способствует ее славе и процветанию”. Он надеется, добавлял он, что не будет забыта его прежняя деятельность и доказательства его приверженности к Франции.
Паоли говорил правду. Несмотря на свои симпатии к англичанам, он всею душою и всем сердцем стал французом и отнюдь не стремился к власти. Он был настроен конституционно и уважал принципы революции. Враги его лгали, утверждая, что он с затаенной радостью приветствовал водворившуюся на Корсике анархию, стараясь извлечь из нее для себя пользу.
Тем временем Людовик XVI 21 января жизнью своею искупил на эшафоте ошибки своих предшественников. Несколько дней спустя, 30 января, Франция объявила войну Англии. Саличетти полагал, что теперь может действовать открыто и в конце января и в начале февраля в целом ряде речей в Конвенте указал на то, что необходимо серьезно подумать о защите Корсики, образующей важный опорный пункт на Средиземном море. Он предостерегал французскую нацию от чрезмерного доверия к генералу Паоли, так как последний много лет получал пособия от Великобритании и так как его старинные симпатии к англичанам могли легко послужить во вред Республике. Он предложил прежде всего назначить трех чрезвычайных комиссаров.[21]
Несколько дней спустя он настоял на роспуске четырех батальонов национальной гвардии, преданных, по его мнению, Паоли, и предложил сформировать столько же полков легкой пехоты, но офицеров не выбирать, а назначать через посредство исполнительного совета.
На обвинения и мероприятия правительства Паоли отвечал точно так же, как раньше. Предложение отправиться во Францию исходило на этот раз от комиссаров побережья Средиземного моря. Арена и на этот раз был тут замешан. Паоли ответил, что страна, вследствие опасного положения, в котором она в данный момент находится, не может обойтись без своего вождя да, кроме того, его возраст и недуги не позволяют отправиться ему в морское путешествие.
Окружающие Паоли и многочисленные корсиканцы были возмущены обвинениями против их маститого вождя и еще больше данным 7 февраля распоряжением министра Клавьера, в котором тот обвинял жителей острова в нежелании принять ассигнаты, в отказе от продажи национальных земель и в покровительстве священникам, не принесшим присяги. Министр считал Корсику департаментом, приносившим государственной казне наименьший доход. Вольней, надеявшийся получить на Корсике высокий пост, но потерпевший крушение и исполненный ненависти к корсиканцам, зашел еще дальше. Произнесши в Конвенте беспощадную речь о положении на Корсике, он написал 20-го марта в “Moniteur'e” статью, выставлявшую в самом черном свете политическое, социальное и финансовое положение острова. Он обрушился в ней на Паоли, на его правую рyкy – Поццо ди Борго и даже на Саличетти.
12 февраля комиссары Саличетти, Дельше и Лакомб Сен-Мишель, выехали из Парижа и остановились на несколько дней в Марселе и Ницце и 35 апреля прибыли в Сан-Фиоренцо, откуда на следующий день достигли Бастии. Дорогой они узнали, что последняя попытка их предшественников побудить Паоли к путешествию во Францию окончилась неудачей.
В Сан-Фиоренцо и Бастии депутаты хотя и были приняты сочувственно населением и клубами, но арест Бартоломео Арена, прибывшего с ними из Прованса, привел скоро к открытому восстанию. Арену намеревались, уже по приказанию управления департамента, отослать в Корте, когда товарищи его заявили протест, и Арене и другим корсиканцам была предоставлена свобода.
Паоли, Поццо ди Борго и директория департамента были до крайности возмущены таким отношением депутатов Республики и обратились с жалобой к военному министру, открыто обвинив комиссаров в подстрекательстве к беспорядкам. Саличетти был готов примириться и заставил замолчать тех, которые видели в Паоли врага Республики и высказали подозрение, что он собирается обратиться за помощью к англичанам. Вместе с двумя своими товарищами он 10 апреля выпустил обращение к корсиканцам, в котором призывал их объединиться и общими усилиями встать на защиту Франции против половины Европы, высказавшейся против Французской республики. Он считал наилучшим примириться с Паоли и заставить его расстаться с ближайшими советниками, особенно же с Поццо ди Борго и Перальди. Втайне он надеялся побудить его удалиться от дел. Лишь в этом, по его мнению, был единственный выход.
Под предлогом посещения семьи, Саличетти отправился в Корте, где 13 апреля вступил с Паоли в переговоры, убедившие его в добрых намерениях корсиканского вождя и заставившие уверовать в мирное окончание спора. Он добился даже от Паоли обещания, что тот поедет в Бастию для переговоров с комиссарами и для принятия соответственных мер к объединению. Вдруг, точно удар грома, поразил всех приказ правительства арестовать Паоли и Поццо ди Борго и отправить их немедленно в Париж.
Повод к этому распоряжению подал один из членов семьи Бонапартов. Восемнадцатилетний самоуверенный Люсьен, гордый своим блестящим красноречием и подобно всем Бонапартам преждевременно развитой, предал Паоли. Оскорбленное самолюбие и страстное желание сыграть какую-либо роль послужили, вероятно, причинами этого необдуманного шага. Семонвиль, ожидавший в Аяччио своего назначения при константинопольском дворе, обещал Люсьену взять его с собою в Турцию. Однако его назначение посланником было встречено несочувственно султаном, и он вместе с Люсьеном вернулся во Францию. Причина неудовольствия султана новым посланником была еще в то время неизвестна Люсьену. Он приписывал ее Паоли, к которому и без того не был расположен, так как тот не назначил его своим секретарем. Вся его злоба поэтому обрушилась на него. С юношеским пылом, необдуманно обвинил он Паоли в тулонском “обществе республиканцев” в измене отечеству, – в этом он кается впоследствии в своих мемуарах. Клуб встретил сочувственно речь Люсьена и составил адрес Конвенту, который и был прочтен 2 апреля депутатом департамента Варр, Эскедье. Эскедье обвинял Паоли в измене, взводил на него ответственность за неудачу исхода сардинской экспедиции и высказал подозрение по поводу его связей с англичанами. Находясь еще под впечатлением ошеломляющего известия о предательстве Дюмурье, возбужденный Конвент потребовал немедленного ареста Паоли.
Постановление Конвента не терпело отлагательства. Тотчас же по получении его, комиссары Конвента лишили Паоли всех его должностей, передали начальство над двадцать третьей дивизией генералу Казабиянке и всеми мерами стремились предотвратить недовольство корсиканцев.
Негодованию паолистов не было предела! Повсюду директория департамента старалась парализовать приказания комиссаров Конвента. Большая часть городов отошла от Республики; только в Кальви, Сан-Фиоренцо и Бастии французы еще с трудом держались.
На Аяччио нельзя было больше и рассчитывать. Мэр Джиованни Джироламо Леви, родственник и друг Бонапартов, был заменен Винченцо Гвитера, а все другие власти сторонниками Паоли. Все обратились против французов и их сторонников, в особенности же против семьи Бонапартов.
* * *
С течением времени, вероятно, главным образом под влиянием Саличетти, Наполеон Бонапарт изменил свои взгляды относительно Паоли и корсиканской политики. Он пришел к заключению, что Корсика не может быть самостоятельной и что спасение ее лишь в слиянии с Францией. Его первые сочинения “Lettre à Bouttafoco” и “Discours de Lyon” ясно обнаруживают влияние Саличетти. То, что Наполеон, впоследствии стал считать себя французом, нельзя приписывать только тому обстоятельству, что его отец уже был расположен к Франции. Наполеон получил воспитание во Франции и слился мало-помалу с ненавистной для него вначале нацией. Его ум говорил ему, что Франция единственное государство, с которым может слиться Корсика, не утратив своей национальной гордости. Его взор обращался теперь только к Франции, которую он должен был сделать великой, сильной, могущественной!
Разрыв между Бонапартами и паолистами был неизбежен. Паоли был прежде расположен к Наполеону, но по причинам, которые следует искать во властолюбивой натуре Наполеона, обнаружившейся уже в ранней молодости, между ними стало замечаться все более и более растущее отчуждение, распространившееся впоследствии и на остальных членов семьи Бонапарта. К этому присоединились еще и политические воззрения Бонапарта несомненно прогрессивного характера, склонявшегося еще со времени Марбефа к Франции.
После экспедиции на Маддалену, то есть с начала марта, Наполеон находился в Аяччио, где зорко следил за ходом событий.
Для защиты своих интересов сторонники Паоли учредили первого апреля в Аяччио клуб, который назывался “Клубом неподкупных друзей народа” и уже при основании своем насчитывал до пятисот членов. Чтобы теснее сплотить всех патриотов, клуб этот намеревался слиться с “Друзьями Конституции”, надеясь тем самым еще лучше послужить родине. Наполеон и сторонники его отнеслись, однако, отрицательно к этому плану, исходившему от их противников, Перальди и Гвитера. Слияние клубов не состоялось. Пятого апреля мэр сообщал директории департамента об основании клуба и принес жалобу на Бонапартов и их партию, воспротивившуюся слиянию обоих обществ. Ярость паолистов возросла тем более, когда стало известным, что Жозеф Бонапарт тайно отправился в Бастию для переговоров с Саличетти и что оттуда он непрерывно сообщается с братом относительно хода событий.
В это время до Аяччио дошло постановление об аресте Паоли. Хотя Наполеон и считал преждевременным постановление Конвента – он не знал еще, что ближайшей причиной к нему послужил его брат Люсьен, – он все же решил оказать Франции услугу и посоветовал Конвенту отменить свой декрет против Паоли. Еще под свежим впечатлением, поразившим и друзей, и недругов, он составил обращение к клубу в Аяччио, которое последний должен был послать Конвенту. В благородном негодовании он писал:
“Представители! Вы истинный суверенитет народа, все ваши распоряжения подсказываются вам самим народом. Все ваши законы – благодеяния, – потомки отблагодарят вас за них…
Лишь одно распоряжение омрачило граждан Аяччио: вы призвали на суд к себе пораженного недугами семидесятилетнего старца, его имя было смешано на момент с каким-то гнусным заговорщиком или честолюбцем…” Обращение заканчивается словами: “Представители! Паоли больше семидесяти лет; он больной человек, – иначе он бы давно предстал перед вами, чтоб пристыдить своих врагов. Мы обязаны ему всем. Он всегда будет пользоваться нашим уважением. Отмените же ваш декрет от второго апреля и возвратите всему народу его гордость и славу. Услышьте же наш голос, исполненный скорби…”
Одновременно с этим – приблизительно в конце апреля – он составил два обращения к городскому управлению Аяччио, в которых предлагал торжественно подкрепить присягу, связывавшую корсиканцев с Францией. Но как первое, так и второе его предложения не были приняты, так как влияние Бонапартов и сторонников их в Аяччио с каждым днем все более и более падало.
Отчаянною попыткою, – мы, правда, не знаем о ней ничего определенного, но во всяком случае она бы, наверное, стоила ему очень дорого, – он надеялся вернуть Корсику Франции. Речь шла ни о чем ином, как о новой попытке овладеть цитаделью, доверенной одному из самых ревностных паолистов. Именем комиссаров Республики он предложил коменданту Колонна-Лекка титул генерал-лейтенанта, если он передаст ему крепость. Комендант отклонил предложение, и Бонапарт воспользовался другим представившимся ему вскоре удобным случаем, чтобы хитростью достичь своей цели.
Со дня объявления войны Англии городское управление было озабочено приведением Аяччио в состояние, способное к обороне, и после различных ходатайств получило разрешение перевезти на берег несколько пушек с судна “Le Vengeur”, стоявшего в гавани с самого начала сардинской экспедиции. Когда орудия приблизились к крепостному валу, несколько человек, в том числе Бонапарт и члены клуба “Друзей Конституции”, попытались проникнуть в крепость, чему, однако, энергично воспрепятствовал губернатор. Он велел тотчас же поднять мост и воспретил приближаться ко рву. По другим сведениям, Наполеон намеревался выставить орудия и бомбардировать цитадель, но, по совету друзей, отказался от этой дерзкой попытки, которая в случае неудачи должна была повлечь для виновников ее самые тяжелые последствия.
Наполеон поступил бы очень неблагоразумно, если бы продолжал оставаться в Аяччио. Письмо Люсьена, в котором он хвастался братьям тем, что заманил Паоли в ловушку, попало в руки Паоли, и последний постарался распространить его среди населения острова. То, что Жозеф находился в Бастии у комиссаров Французской республики, способствовало еще больше возбуждению населения. Наполеон решил поэтому покинуть родной город и тоже отправиться в Бастию.
Второго мая он известил своего сторонника Санто-Бонелли, прозванного Санто-Риччи, чтобы он готовился в путешествие для сопровождения его и охраны. Санто-Риччи прибыл в тот же день вечером, а на следующий день оба они отправились в Бастию. Когда Наполеон прибыл в Корте и с одним своим родственником, Ариджи, стал совещаться о положении дел и высказал намерение посетить Паоли, тот категорически отсоветовал ему это делать, так как вследствие письма Люсьена он был восстановлен против Бонапартов и, наверное, не остановился бы перед его арестом. Наполеон решил поэтому тотчас же уехать: вернуться в Аяччио и оттуда морем пробраться в Бастию. Вместе со своим спутником переночевав в Аркаи-ди-Виварио у родственников Бонапартов, они благополучно прибыли в Боконьяно. Наполеон отправился к Тузоли, а спутник его к себе домой. Они условились встретиться утром в предместье Корзачи – Боконьяно состояло из нескольких таких предместий – и продолжить путь в Аяччио.
Тем временем в Корте распространилось известие о прибытии Наполеона, и Паоли послал тотчас же людей, чтобы арестовать его. Ночью в Боконьяно прибыл Марио Перальди и попросил Морелли, в равной мере преданных Паоли, захватить Бонапарта, как только он покажется в деревне. На следующее утро они отправились в харчевню, где остановился Бонапарт, и арестовали его. Между тем Санто-Риччи не сидел, сложа руки. Он поспешил к Вицца Вонна, расположенным к Бонапарту. Желая спасти Наполеона, они пустились на хитрость. Они попросили Морелли разрешить им пригласить Наполеона к завтраку. Морелли согласились, но сами стали на страже перед дверью дома Вицца Вонна. Во время переговоров Санто-Риччи известил всех своих друзей и друзей Бонапарта и велел им прийти к дому, в котором завтракал Наполеон, чтобы помочь в случае необходимости. Потом сам вошел в дом, чему Морелли нисколько не воспрепятствовали. Не теряя времени, он уговорил Бонапарта спуститься по лестнице в конюшню, и оттуда они через крохотную калитку незаметно вышли на улицу. Там Санто-Риччи ожидали два молодых, энергичных человека, и все они вместе отправились прямо в Аяччио.
Когда они отошли уже на порядочное расстояние от дома, Морелли их заметили. Они пустились в погоню с криками: “А morte il traditore della patria!” Ho в этот момент на помощь подбежали Тузоли, окружили паолистов, и в общей свалке Бонапарту и его троим спутникам удалось незаметно скрыться. Несколько дней спустя он вместе с Санто-Риччи, распрощавшись с молодыми людьми, из Боконьяно прибыл благополучно в Аяччио; прибыл он ночью, чтобы быть незамеченным. Бонапарт первым делом отправился к своему родственнику Джиованни Джироламо Леви. Последний, ради безопасности, принял его в свой дом, в котором скрывалось уже много надежных вооруженных людей, чтобы быть наготове на случай внезапного нападения паолистов. Бонапарт не был, по-видимому, озабочен. Он с увлечением беседовал с Маммианой, женою Леви, и провел ночь в большой комнате с альковом. Следующий день прошел так же спокойно. Лишь вечером подучилось известие, что грозит опасность, и было решено ночью отвезти Бонапарта на корабль, который отвез бы его в Бастию. Вдруг в дверь раздался оглушительный стук. Бонапарт и вооруженные люди Леви приготовились к стычке, как вдруг служанка сообщила, что перед домом жандармы. Леви восстановил порядок и впустил жандармского унтер-офицера. Последний передал приказание арестовать Наполеона Бонапарта, который находился в этом доме. Но голос его дрожал: вероятно, он очень боялся готовящегося сопротивления. Леви прежде всего выразил жандарму неудовольствие за то, что в дом к нему, бывшему мэру, врываются столь бесцеремонно поздней ночью. Он возмущен и предоставляет жандармскому унтер-офицеру обыскать все, чтобы он сам убедился в нелепости своих подозрений. Видимо, успокоенный его заявлением, жандарм вежливо извинился и, выпив глоток вина, удалился из дома.
Медлить больше было нельзя, так как жандармы могли каждую минуту вернуться. Задней дверью они прошли в сад, а оттуда на набережную, где лодка уже ожидала Наполеона. Леви вместе с ним отправился на корвет, который тотчас же снялся с якоря и направился к Бастии. Уже на следующее утро в городе распространился слух об отъезде Наполеона. Сторонники его торжествовали, а враги находились в крайнем смущении, 10 мая Наполеон высадился в Мацинаджио, а оттуда направился поспешно к комиссарам Республики.
Тем временем сторонники Паоло не дремали. Всеми силами старались они отменить тяжкое постановление от 2 апреля – приказ об аресте Паоли, – который должен был навеки отчуждать Корсику от Франции: Паоли сам написал 26 апреля обращение к Конвенту, в котором снова излагал причины, почему он не явился в Париж.[22] Далее он опровергал все обвинения, взводимые на него, и предлагал добровольно пойти в изгнание, если личность его препятствует миру между Францией и его родным островом. В ответ на это письмо, прочтенное 16 мая в Конвенте и произведшее большое впечатление, исполнительный совет обратился к комиссарам с предписанием, чтобы они возможно более мягко обходились с почтенным корсиканским вождем и лишь в самом крайнем случае прибегли к насильственным мерам. 30 мая Конвент решил послать на Корсику еще двух комиссаров, Антибуля и Бо. А несколько дней спустя, 5 нюня, отсрочил приведение в исполнение декрета 2 апреля.
Но было уже поздно! Оба новых комиссара – ими были назначены умышленно два беспартийных француза, а не корсиканца – были задержаны вследствие восстания на юге Франции, в Марселе, и взяты в плен. Но даже если бы они могли продолжить свое путешествие, они все равно приехали бы на Корсику чересчур поздно для водворения мира! Восстание распространилось по всей стране. На распоряжение Саличетти и его двух коллег Паоли и директория департамента ответили решительным отказом, – началась открытая война. 26 мая в Корте состоялось собрание депутатов корсиканского народа, самое многочисленное и значительное из всех собраний на острове. Народ снова провозгласил Паоли отцом отечества и восстановил Поццо ди Борго в его должности генерал-синдика. Собрание заявило далее, что верная присяге Корсика и впредь предана Франции, но что народ отказывается повиноваться Саличетти, преследующему свои собственные интересы, а также и двум другим комиссарам.
В эти дни решилась и участь Бонапартов и других врагов Паоли. Было решено предать вечному проклятию и бесчестию семью Арена и Бонапартов, рожденных в грязи деспотизма и воспитанных на средства привыкшего к роскоши паши (Марбефа)!
Слова не замедлили превратиться в действительность. Дом Бонапартов в Аяччио, а также и владения некоторых других корсиканцев, объявленных врагами отечества, были разграблены и отчасти разрушены. Летиция и дети ее, извещенные заранее о нападении на Аяччио, успели, по счастью, спастись и благополучно прибыли 3 июля в Кальви.
В то время как революция на Корсике шла своим чередом, Наполеон не сидел, сложа руки, в Бастии. Он составил план защиты пролива Аяччио и, несколько времени спустя, написал проект защиты гавани Сан-Фиоренцо, предложив его комиссарам. Поглощенный занятиями, составляя непрерывно один план за другим и окрыленный желанием отомстить врагам, он напал наконец на мысль овладеть Аяччио. Так как город за немногими исключениями был предан Франции, то, по его мнению, было легко прибегнуть к хитрости. Комиссары согласились с ним, и тайно подготовленная к экспедиции небольшая эскадра с четырьмястами солдат покинула Сан-Фиоренцо. Кроме двух комиссаров, Саличетти и Лакомба Сен-Мишеля, на корабле находились Наполеон и брат его Жозеф, одушевленные радужными надеждами. Эскадра состояла всего из одного корвета и нескольких маленьких судов; с таким незначительным войском, конечно, нельзя было взять город, охраняемый сильными укреплениями, – но они рассчитывали, главным образом на внезапное нападение, которое должно было повсюду вызвать смятение и хаос.
Только 29 мая они прибыли в залив Аяччио. В нетерпении получить известия о своей семье Бонапарт высадился в окрестностях города и узнал от верных ему пастухов, что дом его разрушен, а вся семья спаслась бегством. Неудовлетворенный такими известиями, он велел им отыскать убежище его близких и передать им, чтобы они ожидали его у башни Капителло. Вслед за этим он снова вернулся на корабль. Через два дня флот бросил якорь вблизи старой башни. Но, когда первые суда подошли на расстояние пушечного выстрела к батареям, из цитадели раздался орудийный залп.
К такому приему они были не подготовлены. Они рассчитывали, что большая часть гарнизона тотчас же примкнет к войскам Конвента, но жестоко ошиблись. Несмотря на сигналы, к ним ночью 31 мая присоединилось лишь небольшое судно. 1 июня отряд солдат высадился на берег, но уже 2-го вечером снова вернулся на корабль. Высадка эта, однако, побудила перейти на сторону правительственных войск тридцать человек солдат и нескольких граждан, среди них семью Бонапартов и аббата Коти. Повелительное обращение к городскому управлению осталось без ответа. Выпустив несколько залпов, комиссары, убедившись в энергичном сопротивлении гарнизона, подкреплявшегося ежедневно народным ополчением, решили двинуться в обратный путь. 3 июня флот прибыл в Кальви, где Наполеон и его близкие нашли гостеприимство в семье Джиубега.
Отступление было отрезано. Они навеки порвали с Паоли. Изгнанный со всей своей семьей, лишившись своего дома и всех своих владений, Наполеон, наверное бы, пришел в отчаяние, если бы уже давно не избрал своей новой родиной Францию. Все его узы с Корсикой были навеки порваны.
Но прежде чем навсегда расстаться с островом – он увидел его впоследствии один только раз, и то вопреки желанию, возвращаясь из Египетского похода, – он составил записку относительно последних событий.[23] В этой записке, обращенной против Паоли, он со всей своей пламенной ненавистью обрушивался на человека, которому еще так недавно поклонялся и которого считал отцом и спасителем отечества, и нарисовал портрет Паоли самыми черными красками.[24]
Народные представители решили расстаться. Лакомб Сан-Мишель должен был остаться в Бастии, чтобы защищать город против паолистов, а впоследствии и против англичан, между тем как Саличетти и Дельше отправились в Париж, чтобы лично дать ответ и испросить помощи. Жозеф Бонапарт отправился вместе с ними для передачи временному исполнительному совету записки своего брата. В лице Саличетти Наполеон встретил верного сторонника и, несмотря на протест корсиканских депутатов Константини и Феральди, – Паоли, Поццо ди Борго и другие важнейшие враги Франции 17 июля были присуждены к изгнанию.
Роль Наполеона на Корсике была сыграна. Теперь оставалось только извлечь наивозможно больше пользы из Французской революции.
Тринадцатого июня 1793 года он со всем своим семейством прибыл в Тулон. Он поместил их пока что в соседней деревушке Лавалетт, так как в самом Тулоне было не только чересчур дорого, но и недостаточно безопасно для беглецов. Впоследствии же семья переселилась в Марсель. Сам Наполеон отправился в Ниццу. Там стояла часть четвертого полка, главное ядро которого находилось в Гренобле. Артиллерийским парком в Ницце командовал только что назначенный полковник Дюжар.
Случай снова благоприятствовал Наполеону. Едва прибыл он в главную квартиру, как, к великой своей радости, встретил брата своего бывшего покровителя в Оксонне, генерала Жана дю Тейля. Последний был назначен начальником артиллерии итальянской армии, так как благоразумно перешел на сторону революции, между тем как брат его Жан Пьер, бывший начальник Наполеона, не любил Республики и окончил свою жизнь на эшафоте.
Жан дю Тейль вспомнил тотчас же мнение своего брата о молодом интеллигентном офицере и постарался использовать способности его для своих целей. Он назначил Бонапарта на береговые батареи, по-видимому, в качестве своего адъютанта. По крайней мере в качестве последнего Наполеон пишет 3 июля военному министру Бушотту:
“Гражданин министр. До сих пор в артиллерии было не принято сооружать пламенные печи вблизи береговых батарей, – мы довольствовались простыми колосниками и кузнечными мехами; так как, однако, преимущества пламенных печей общеизвестны, то генерал дю Тейль поручил мне обратиться к Вам с покорнейшей просьбой прислать чертежи: мы получим тогда возможность соорудить на берегу несколько пламенных печей, чтобы сжигать суда деспотов!”
С другим письмом в тот же день он обратился к начальнику Тулонской артиллерии Род-де-Барра. Письмо касается той же темы и доказывает, как и первое, действительную роль Наполеона на береговых батареях. Но дю Тейль не долго оставлял его там. Несколько дней спустя он отдал Бонапарту приказ отправиться в Авиньон. Он должен был принять там орудия и амуницию для итальянской армии, так как генерал имел основание опасаться, что они могут попасть в руки марсельцев. Последние восстанием 31 мая отложились от Конвента и взволновали весь Юг.
В качестве путевых издержек капитан Бонапарт получил двенадцать тысяч франков ассигнациями. Он поехал, но не сразу исполнил свое поручение, так как Авиньон, Пон-Сен-Эспри и Бас-Дюранс находились в руках марсельцев.
Для подавления этого восстания Конвент в начале июля 1793 года послал генерала Карно с небольшим отрядом. Наполеон в этой экспедиции участия не принимал. Те историки, которые ссылаются в этом отношении на рукопись нотариуса Шамбо, сохранившуюся в Авиньонском архиве, утверждают, что Наполеон примкнул в Понтэ, куда прибыл пятнадцатого июля, к отряду Карно, поступив под начальство батальонного командира Дура. После того как Карно потерпел поражение в своем нападении 25 июля на Авиньон и отступил от города, жена журналиста Турналя, взятая в плен марсельцами, прибежала взволнованная в лагерь и сообщила, что федералисты очистили город. Заслуга в этом отступлении врагов приписывается якобы капитану Бонапарту, так как он выставил свои оба орудия на Роше-де-Вильнев. Заметив, что нападение Карно должно кончиться неудачей, Бонапарт открыл огонь по марсельским повстанцам. Последние заняли якобы позиции на Роше-де-Дом. Но батарея Бонапарта разрушила неприятельские орудия и ранила двух канониров.
Этот подвиг Наполеона при Авиньоне не подтверждается помимо рукописи Шамбо ни одним аутентичным документом. Ни комиссары, ни депутаты не упоминают о нем в своих письмах к правительству. Да и сам Наполеон не говорит об участии в этой экспедиции ни в “Ужине в Бокере”, ни в своем рапорте 1794 года, ни в прошении 1795 года к Комитету общественного спасения, ни даже на Святой Елене. Ни Карно, ни Домартен, ни Альбитт, ни Ровер, никто не упоминает в своем сообщении о событии 25 июля 1793 года при Авиньоне имени Бонапарта; кроме того, в армии Карно все офицерские должности были уже замещены, и ставится вопрос, в качестве кого Наполеон Бонапарт мог принять начальство над канонирами Дура.
Тем не менее следует признать, что он зорко следил за событиями в Авиньоне и изложил их затем сам подробно в своем сочинении “Ужин в Бокере”. Лишь один раз он ошибается. Он говорит, что аллоброги[25] были в Вильневе. Быть там они не могли, потому что Вильнев был занят отрядами Дура.
Среди его солдат не было ни одного аллоброга. Эта незначительная ошибка служит лишним доказательством того, что Наполеон не был при взятии Авиньона и не принимал в нем участия.
После того как Карно ушел со всем своим войском в Марсель, чтобы подавить восстание в самом его очаге, – Бонапарт исполнил данное ему поручение и занялся перевозкой амуниции. Кроме того, ему пришла в голову счастливая мысль описать Конвенту сопротивление федералистов в вышеупомянутой брошюре. Он озаглавил эту брошюру “Ужин в Бокере” и постарался в ней доказать, насколько бесполезно и бессмысленно это сопротивление. Он обращается к марсельцам и передает разговор между марсельским купцом, нимским гражданином-фабрикантом из Монпелье и одним военным о событиях при Авиньоне. Под военным следует разуметь самого Наполеона. Он старается доказать своим троим собеседникам безумство и бесцельность восстания Юга против Конвента. “Поверьте мне, – говорит он, – стряхните с себя ярмо тех злодеев, которые подстрекают вас к контрреволюции! Восстановите свои конституционные власти! Возвратите комиссарам свободу, чтобы они заступились за вас в Париже. Вас ввели в заблуждение. Не впервые уже горсть заговорщиков и авантюристов сводит народ с истинного пути. Всегда повсюду легковерие и невежество масс бывало причиной большинства гражданских войн…” И дальше: “Объединитесь, и армия, не колеблясь ни секунды, пойдет к стенам Перпиньяна, чтобы заставить танцевать карманьолу[26] испанца, возгордившегося победами. А Марсель останется навсегда центром свободы: придется вырвать из истории его лишь отдельные страницы”.
Одних слов этих достаточно, чтобы понять, с какой высоты Наполеон смотрел на гражданскую войну. Главной целью его интересного сочинения было, однако, желание проложить пером путь для армии. Если ему не пришлось с мечом в руках принять участия в подавлении восстания, то он решил помочь хотя бы словами: перо и военная сила должны идти рука об руку. Он на свои средства издал брошюрку в шестнадцать страниц у типографа Турналя в Авиньоне.
Боязнь, однако, никогда не играть активной роли в войске, а всегда исполнять лишь такие поручения, как последнее, в то время как вокруг него республиканский барабан призывал всех патриотов к границам отечества, – побудила Наполеона написать 28 августа 1793 года военному министру Бушоту относительно назначения в старшие лейтенанты. Одновременно с этим он просил и о должности в рейнской армии. Бушот ответил молодому артиллерийскому офицеру не сам, а обратил на него внимание депутатов Альбитта, Эскюдье, Огюстена Робеспьера и других, написав им: “Пойдите к господину Бонапарту; его предложение – предложение патриота. Если он обладает способностями, постарайтесь использовать их и дайте ему возможность себя проявить”.
Тем временем Наполеон и сам уже обратил внимание депутатов своей брошюрой. Особенно Саличетти высказался с воодушевлением за произведение своего друга и соотечественника. Вслед за этим она уже на государственный счет – в двадцать страниц – была отпечатана у военного типографа Марка Ореля в Авиньоне и распространена по всему Югу.
Впрочем, она не достигла желаемого успеха. Спустя короткое время “Ужин в Бокере”, эта незначительная чернильная война Наполеона, была позабыта; автор же ее вновь отправился в Ниццу.
ГЛАВА VII. ТУЛОН
(Сентябрь – декабрь 1793 года)
После победы радикальных монтаньяров над Жирондой в Париже 31 мая 1793 года целый ряд департаментов восстал против господства якобинцев. Но спустя короткое время это сопротивление, не исключая и Бордо, Марселя, Лиона и некоторых других городов Южной Франции, было подавлено. Жителей Тулона, среди населения которого давно уже замечалось брожение, тоже подстрекали к сопротивлению против господства якобинцев.
С начала 1793 года клубы в Тулоне достигли всей полноты власти. От них зависел и общинный совет и директория департамента, – словом, вся гражданская и военная власть, не исключая и морского управления. Город всецело подчинился произвольным насильственным мероприятиям террора. Помимо этого ему приходилось страдать и от войны: гавань блокировали английские и испанские суда и препятствовали какой бы то ни было морской защите. Вследствие этого и торговля, и промышленность, и все занятия жителей пришли в полный застой, так что городу грозило полное разорение.
Неожиданно в Тулоне получили известие о победе страшных монтаньяров и о поражении Жиронды. Возбуждение умов достигло крайних пределов, и для открытого восстания против монтаньяров нужен был только какой-нибудь повод.
Когда народные представители, Бейль и Бове, вследствие тревожных вестей из Тулона и Ниццы, поспешили на место действия и попытались прочесть в секциях новую Конституцию, – их освистали, согнали с трибуны и заключили в тюрьму. Комиссары Барра и Фрерон, намеревавшиеся спустя короткое время пробраться в Тулон в сопровождении генерала Лапойпа, лишь с трудом избегли той же участи. Вернувшись в Ниццу, они предприняли необходимые шаги и просили своих коллег в альпийской армии прислать в Тулон отряд в три тысячи человек. Начальство над ним они передали только недавно произведенному в генералы бывшему художнику Карно, чрезвычайно мужественному, но, к сожалению, неспособному к ведению крупных военных операций. В то время главнокомандующий итальянской армией, генерал Брюне, должен был послать три тысячи человек в деревню Лавалетт. Брюне воспротивился, однако, и был за это отрешен от должности и казнен шестого ноября в Париже.
Тулон был охвачен полнейшей реакцией. Город был готов перейти из одной тирании в другую, не менее тяжелую: к роялистам, которые жестоко мстили насильственными мерами своим врагам, сторонникам якобинцев. К этому присоединилось еще более тяжелое владычество англичан и испанцев, которые завладели вскоре всем общественным управлением.
21 февраля 1793 года Конвент объявил войну Англии, 23 числа того же месяца флот, под начальством генерала Гуда, отплыл в Средиземное море и 15 июля показался впервые перед Тулоном. Тем не менее в то время предложение Гуда оказать поддержку тулонцам было отвергнуто.
Во главе стоявшего в Тулоне флота находился контр-адмирал граф Трогофф-Керлеси. Вторым начальником был контр-адмирал Сен-Жюльен де Шамбон. За исключением Сен-Жюльена все начальство было предано центральному комитету и делу реакции. Начальники батальонов, расположенных в Тулоне, были на стороне нового положения вещей. Относительно взглядов второго начальника флота, Сен-Жюльена, трудно сказать что-либо определенное: да и тогда было неизвестно, был ли он на стороне клуба или реакции. Несомненно только то, что он питал старую затаенную вражду к жителям Тулона.
Французский флот состоял из восемнадцати боевых судов. Среди них находилось адмиральское судно “Торговля Марселя”, со ста восемнадцатью орудиями, считавшееся лучшим кораблем во всем мире, – шесть фрегатов, четыре корвета и два брига.
Провианта хватало до конца сентября. Согласно постановлению, полученному из Парижа, городскому управлению было разрешено в случае необходимости обратиться к государственным складам. Свободная наличность казны доходила до шести миллионов двухсот тысяч франков, исключая мелкие кассы.
Тулон был, таким образом, снабжен в избытке жизненными припасами, так что мнение, будто он обратился за помощью к англичанам ввиду недостатка жизненных средств, совершенно необоснованно. Во время переговоров с английским адмиралом центральный комитет заявил, что провианта оставалось всего лишь на пять дней. В действительности же только первого сентября, пять дней спустя после взятия Тулона, англичанами и союзниками были открыты государственные склады.
Путем различного рода прокламаций 23 августа Гуд попытался еще раз воздействовать на население Марселя и Тулона. Обращение к тулонцам было доставлено племянником адмирала, лейтенантом Куком, который в ночь с 23-го на 24-е прибыл в гавань. В обращении английского адмирала предполагалось поднять королевское знамя, обезоружить находившиеся в гавани суда, а также предоставить их и все форты в распоряжение союзников. При заключении мира – Гуд не преминул благоразумно добавить, что его долго ждать не придется, – форты вместе с орудиями, запасами провианта, также и флот будут возвращены законному властителю.
На сей раз обращение его встретило больше сочувствия, чем месяц назад. Отчасти из страха перед местью Карно, отчасти же в надежде, что союзники не оставят без своей помощи несчастный город, тулонцы приняли предложение англичан.
Под предлогом приступа подагры Трогофф остался на берегу, – в действительности же он надеялся на деятельное участие в заседаниях центрального комитета. Высшее начальство над флотом перешло к помощнику его, контр-адмиралу Сен-Жюльену. Сен-Жюльен поднял адмиральский флаг на своем судне “Торговля Марселя” и издал приказ овладеть фортом и мысом Сэпе. Вслед за этим он с флотом занял позицию между фортами Мандриэ и Эгилетт и начал готовиться к сопротивлению неприятельскому союзному флоту. Это было 26 августа.
Но Сен-Жюльен не выказал той решимости, которая была тут необходима. Распропагандированный роялистами экипаж судов был в равной мере нерешителен, и в то время как большинство внимало обещаниям подстрекателей, экипажи лишь трех судов отвергли предложение тулонцев и поклялись сопротивляться как союзникам, так и городу.
28 августа утром состоялся последний военный совет на адмиральском судне. Он должен был убедить Сен-Жюльена, что об успешном сопротивлении нечего даже и думать, так как большинство офицеров и большая часть экипажа будет на стороне высадки англичан. В пять часов вечера испанский флот под начальством адмирала Лангара показался перед Тулоном. Гуд, ожидавший только прибытия союзников, высадил тысячу пятьсот человек и занял, между прочим, форт Ла-Мальг и Сен-Луи. Когда затем на следующий день к ним присоединился англо-испанский флот, состоявший из тридцати одного военного корабля, французский адмирал издал приказ: готовиться к сражению! Вначале, однако, повиновалось лишь пять судов, и только спустя некоторое время их примеру последовали еще семь.
Сен-Жюльен понял, что всякое сопротивление тщетно и немыслимо, и стал готовиться к отступлению вместе с республикански настроенными войсками в городок Ла-Сейн, расположенный на берегу, чтобы оттуда соединиться с армией Карно, двигавшейся по направлению к Тулону. Если необходимо было большое мужество и главным образом энергичное руководство, для того чтобы побудить население Тулона и флот, находившийся между двумя огнями, к другому образу мыслей, то вся сдача Тулона, одного из важнейших, превосходно защищенных военных портов Франции, должна быть порицаема. Вместо того чтобы сдаться республиканской армии, жители Тулона предпочли предаться англичанам и испанцам в надежде сделать тем самым первый шаг к восстановлению монархии. Поведение главнокомандующего флотом адмирала Трогоффа, игравшего двойную игру, заслуживает самого строгого порицания. Между тем Сен-Жюльен виноват значительно менее, так как его могут упрекнуть, в крайнем случае, лишь в недостатке решимости.
Если бы генерал Карно со своей карательной экспедицией несколько более поторопился, то Тулон, быть может, не попал бы в руки врага. 25 августа Карно прибыл в Марсель, но лишь 29-го, в день сдачи Тулона союзникам, отправился туда во главе своих шести тысяч человек, у его авангард занял деревушку Оллиуль, расположенную в нескольких километрах от городских фортов, но после недолгой стычки был отбит. Несколько дней спустя, 7 сентября, когда на помощь подошла дивизия Лапойпа от итальянской армии, Карно возобновил нападение; на этот раз Оллиуль после упорного сопротивления попала в руки республиканских войск, и Карно разбил в деревушке свою главную квартиру.
Республиканцы имели в своем распоряжении несколько более двенадцати тысяч человек, из которых одна половина была под начальством Карно, другая же под начальством Лапойпа. Последний, вначале независимый, обошел город с севера и востока и был отрезан теперь от Карно. В конце месяца республиканская армия получила подкрепление в лице новых тысячи пятисот– двух тысяч человек; дальнейшие подкрепления пришли лишь после окончания осады Лиона. Если у французов недоставало почти всего – и оружия, и амуниции, и провианта, – то все же они были воодушевлены желанием отомстить злосчастному городу. На стороне же союзников вспыхнули скоро крупные несогласия между войсками различных национальностей.
В начале сентября союзники насчитывали четыре тысячи испанцев, две тысячи англичан и тысячу пятьсот французов, всего, таким образом, семь тысяч пятьсот человек. Лучшими солдатами были англичане, а впоследствии и пьемонтцы, которые пришли лишь во время осады вместе с неаполитанцами и другими вспомогательными отрядами. Губернатором Тулона был назначен английский генерал Гудалль, начальником же войск – испанский адмирал герцог Гравина.
В сражении при Оллиули у республиканцев был ранен начальник батальона Кузен де Доммартен. Это был превосходный офицер, и его было необходимо кем-либо заменить. Но в армии хороших артиллерийских офицеров было очень мало.
В это время, 16 сентября, Бонапарт находился в Марселе, где собирал обоз для итальянской армии. Возвратясь в Ниццу, он явился на главную квартиру Боссе, где посетил своего друга и соотечественника Саличетти. Последний предложил ему тотчас же место Доммартена, и Бонапарт согласился. Свидетельство Саличетти, написавшего 26 сентября 1793 года письмо Комитету общественного спасения: “Рана Доммартена лишила нас начальника артиллерии, но на помощь нам пришел случай, мы встретили гражданина Боунапарте, чрезвычайно осведомленного артиллерийского капитана, намеревавшегося отправиться в итальянскую армию, и приказали ему занять место Доммартена”, – подтверждается донесением Гаспарена и самим Наполеоном.
По другой версии, Саличетти и Гаспарену было поручено прислать из Марселя подходящего артиллерийского офицера. Случайно они встретили на улице Жозефа Бонапарта и вместе с ним стали искать Наполеона и нашли его, наконец, в клубе. В ближайшем кафе они с трудом убедили его занять свободную должность начальника артиллерии; он согласился на это после продолжительного размышления, так как был чрезвычайно невысокого мнения о военных способностях Карно.
До прибытия Бонапарта в республиканской главной квартире не было определенного мнения на счет того, каким образом лучше всего взять Тулон. Карно был склонен стать во главе небольшого отряда и вселить воодушевление в подчиненных ему солдат, но он абсолютно не понимал значения и роли артиллерии, так как предполагал, как впоследствии сам признавался, взять Тулон тремя направленными на крепость штурмовыми колоннами, исключительно при помощи пехоты.
С тех пор, однако, как Наполеон Бонапарт принял на себя начальство над артиллерией, осада и бомбардировка Тулона вступили на правильный путь.
Роль Наполеона в осаде этой крепости не всегда подвергалась верной оценке. По мнению одних, вся заслуга принадлежит ему; по другой же версии, главным образом его врагов и завистников, его участие ограничивалось второстепенными, незначительными операциями. То и другое мнения ложны, и, как всегда, более всего справедлива золотая середина.
Несомненно одно, что чрезвычайно богато одаренный молодой артиллерийский офицер произвел самое благоприятное впечатление на своих начальников и товарищей. Даже те, которые лишь короткое время находились вместе с ним перед Тулоном, унесли с собою неизгладимое впечатление об его талантах. Так, генерал Доппе четыре года спустя пишет в своих мемуарах: “С радостью могу я сказать, что этот молодой офицер (Бонапарт), ставший теперь победителем Италии, совмещал в себе с многочисленными способностями редкую отвагу и неутомимую энергию. При всех своих объездах армии как перед поездкой в Тулон, так и потом, я постоянно находил его на посту. Нуждаясь в коротком отдыхе, он закутывался в плащ и ложился на землю: никогда не покидал он батарей!”
Даже Барра, который отрицает за Наполеоном какую бы то ни было самостоятельную роль во взятии Тулона и вообще считает себя единственным создателем величия Наполеона, не мог, однако, отрицать неутомимой энергии, мужества и храбрости молодого артиллерийского офицера. Небольшой, худощавый, на первый взгляд слабый, корсиканец, со своею сильною, всепобеждающею волей, вызывал в нем восхищение. Развивавшийся перед его глазами военный гений, проницательный взгляд, не знавший ошибок, и бесстрашная отвага Бонапарта кажутся Барра чудом.
Свидетельства о молодом Бонапарте могут быть умножены до бесконечности. В январе 1797 года генерал Андреосси, не бывший, правда, при Тулоне, но состоявший в тесной дружбе с генералом Дюгоммье, говорит в своей речи, произнесенной им в Директории о Бонапарте: “Артиллерии принадлежит честь его блестящей карьеры, он был простым капитаном, когда вырвал Тулон из рук англичан”.
* * *
Тулон расположен на северо-востоке большой полукруглой бухты, защищенной на севере холмом Фароном, увенчанным фортами, на западе же и на востоке более или менее удобно расположенными, но сильными фортами и укреплениями. Чтобы заставить сдаться Тулон, нужно было только отрезать союзный флот, стоявший на якоре в гавани, у входа в город. Флот снабжал город и войском, и провиантом. Лишившись этого важнейшего опорного пункта и будучи предоставлена самой себе, крепость не могла бы оказать продолжительного сопротивления. Нужно было овладеть западным берегом полуострова Ле-Кер и оттуда уже забросать гавань и город горящими бомбами, чтобы заставить отчалить англо-испанский флот.
Наполеон Бонапарт первый понял это. Другие потом высказали ту же мысль, но он первый с проницательностью, повергшей в изумление комиссаров Конвента Гаспарена и Саличетти, приступил тотчас же к мероприятиям, которые были необходимы для достижения его цели.
“С этого момента, – пишет Мармон в своих мемуарах, – все делалось по его (Бонапарта) распоряжениям или под его влиянием. Он составил тотчас же список необходимых мероприятий, указал на нужные средства, привел все в движение и через неделю приобрел уже огромное влияние на комиссаров Конвента”.
14 ноября 1793 года (24 брюмера II года) Бонапарт развил военному министру Бушотту свой план взятия Тулона:
“Гражданин министр, план взятия Тулона, который я представил генералам и комиссарам Конвента, единственно, по моему мнению, возможный. Если бы он с самого начала был приведен в исполнение, мы бы, вероятно, были теперь уже в Тулоне…
Выгнать врага из порта – первая цель всякой планомерной осады. Может быть, эта операция даст нам Тулон. Я коснусь обеих гипотез.
Чтобы овладеть гаванью, нужно взять прежде всего форт Эгилетт.
Овладев этим пунктом, необходимо бомбардировать Тулон из восьми или десяти мортир. Мы господствуем над возвышенностью Арен, не превышающей девятисот туазов,[27] и можем подвинуться еще на восемьсот туазов, не переходя реки Нев. Одновременно с этим мы выдвинем две батареи против форта Мальбускэ и одну против Артиг. Тогда, быть может, враг, сочтя свое положение в гавани потерянным, будет бояться с минуты на минуту попасть в наши руки и решит отступить.
Как вы видите, план этот чрезвычайно гипотетичен. Он был бы хорош месяц назад, когда неприятель не получал еще подкрепления. В настоящее время возможно, что, даже если флот будет принужден выйти из гавани, гарнизон выдержит продолжительную осаду.
Тогда обе батареи, которые мы направим против Мальбускэ, будут подкреплены еще третьей. Мортиры, бомбардирующие три дня Тулон, должны будут обратиться против Мальбускэ, чтобы разрушить его укрепления. Форт не окажет и сорока восьми часов сопротивления, ничто не будет нам больше препятствовать подвинуться к самым стенам Тулона.
Мы будем штурмовать с той стороны, где находятся рвы и вал арсенала. Тем самым, под прикрытием батарей на Мальбускэ и на возвышенности Арен, мы вступим во вторую линию.
В этом движении нам будет много препятствовать форт Артиг, но четыре мортиры и шесть орудий, которые при начале штурма поднимутся туда, откроют жаркий огонь…”
Наполеон был первым, который искусными распоряжениями и созданием осадной артиллерии, не существовавшей до него, осуществил свои идеи, и тем самым принял живейшее участие в конечном падении Тулона. Прибыв к Тулону, он нашел лишь тринадцать орудий, среди них две мортиры, которые без всякого разбора употреблялись против неприятельских фортов. Благодаря его благоразумию, осадная артиллерия уже 14 ноября состояла из пятидесяти трех орудий и крупных мортир, из числа которых тридцать были уже установлены на батареях. Гений Бонапарта и его неутомимая деятельность сумели найти вспомогательные средства там, где их менее всего ожидали. К цитированному выше письму Наполеона к Бушотту приложено донесение, в котором он пишет:
“Я послал в Лион, в Бриансон и в Гренобль интеллигентного офицера, которого выписал из итальянской армии, чтобы раздобыть из этих городов все, что может принести нам какую-либо пользу.
Я испросил у итальянской армии разрешения прислать орудия, ненужные для защиты Антиба и Монако… Я достал в Марселе сотню лошадей.
Я выписал от Мартига восемь бронзовых пушек…
Я устроил парк, в котором изготовляется порох, шанцевые корзины, плетеные заграждения и фашины.
Я потребовал лошадей из всех департаментов, из всех округов и ото всех военных комиссаров от Ниццы до Баланса и Монпелье.
Я получаю из Марселя ежедневно по пяти тысяч мешков с землею и надеюсь, что скоро у меня будет нужное количество их…
Я принял меры к восстановлению литейного завода в Арденнах и надеюсь, что через неделю у меня будут уже картечь и ядра, а через недели две – и мортиры.
Я устроил оружейные мастерские, в которых исправляется оружие…
Гражданин министр! Вы не откажетесь признать хотя бы долю моих заслуг, если узнаете, что я один руковожу как осадным парком, так и военными действиями и арсеналом. Среди рабочих у меня нет ни одного даже унтер-офицера. В моем распоряжении всего пятьдесят канониров, среди которых много рекрутов”.
За его исключительную деятельность, проявившуюся с самого начала осады, и для того чтобы придать больше веса его распоряжениям, комиссары 29 сентября представили капитана Бонапарта к чину начальника батальона; назначение пришло в Тулон 18 октября.[28]
Главное внимание его было устремлено на взятие форта Эгилетт, господствовавшего с запада над входом в гавань. Предварительно, однако, нужно было взять расположенные на берегу укрепления местечка Ле-Кер, которое только недавно было укреплено фортом Мюльгравом, называемым также “Маленьким Гибралтаром”. В течение сентября были воздвигнуты батареи “Монтань” и “Санкюлот”, облегчившие взятие Ла-Сейна. 21 сентября местечко это попало в руки республиканцев, и уже на следующий день была предпринята первая вылазка против форта Эгилетт и Балагье, окончившаяся, однако, неудачей.
К великой досаде генерала Карно, Бонапарт действовал всецело по собственному усмотрению и не исполнял, правда, с разрешения комиссаров, часто бессмысленные приказы генерала. Карно лишь с презрительной улыбкой или качанием головы относился к ребяческим, по его мнению, представлениям о стратегии молодого артиллерийского офицера. Его с трудом удалось убедить в справедливости плана Наполеона, особенно же согласиться на взятие Ла-Кера. Но Бонапарт настаивал на своем мнении, взял в руки карту, указал пальцем на форт Эгилетт и сказал категорическим тоном: “Здесь Тулон!” Карно снисходительно улыбнулся, толкнул локтем стоящего рядом с ним комиссара и заметил: “Небольшие же у него познания в географии”. Бонапарт был день и ночь занят собиранием необходимого осадного материала из соседних городов и местечек, улучшением своего артиллерийского парка и воздвижением новых батарей, которые прежде всего имели своею целью взятие Эгилетт. По его приказанию выросли батареи “Брегар”, “Саблетт” и “Гранд-Рад”, которые все обстреливали форт Мюльграв, воздвигнутый лишь во время осады для прикрытия Эгилетт и отчасти также судов, стоявших на якоре около берега.
Перед английским редутом Наполеон воздвиг три батареи; наибольшей опасности от английского огня подвергалась знаменитая батарея “Бесстрашных”, на устройство которой Карно ни за что не хотел дать своего согласия, так как полагал, что она не сможет оказать сопротивления. На сей раз он был не совсем не прав: едва была воздвигнута батарея, как английские военные суда и форт Мюльграв обрушились на нее таким огнем, что прислуга отказалась оставаться на своем посту. Бонапарт прибег к хитрости, которая так часто оказывала ему услугу в его дальнейших походах. Он велел поставить на батарее столб с надписью: “Батарея бесстрашных”, и к ней стали стекаться самые храбрые, так как каждому было лестно обслуживать эту батарею.
В конце сентября генерал Лапойп, разбивший свою главную квартиру к северо-востоку от Тулона, в Солье-Фарлед, и оттуда почти самостоятельно производивший свои операции против крепости, получил приказание овладеть береговыми укреплениями на востоке, главным же образом фортом Кап-Брюн, служившим ключом к большому форту Ла-Мальг, господствовавшему над внешним рейдом. Лапойп, однако, считал нужным произвести 1 октября нападение на Мон-Фарон, чтобы в день официального провозглашения Людовика XVII, в Тулоне нанести решительный тяжелый удар.
С тремя колоннами поднялся он 1 октября на возвышенность и укрепился там. Опьяненный победой, за недостатком бумаги написал он на ассигнации: “Республиканские войска только что взяли Мон-Фарон, укрепления и редут”, и послал донесение главнокомандующему. Но недолго, однако, он праздновал свою победу, так как английский генерал Мюльграв и испанский адмирал Гравина поспешно собрали несколько батальонов и уже к вечеру снова овладели позицией. Только своим родственным отношениям с комиссаром Фрероном Лапойп обязан тем, что его непослушание не обошлось гораздо дороже. Карно лишил его тотчас же начальствования, но комиссары восстановили его скоро в правах. Ободренные успехом на Мон-Фароне, осажденные решались на вылазки. Особенно замечательной была вылазка 14 октября, когда республиканский лагерь торжествовал победу над городом Лионом, тоже восставшим против Конвента. Генерал лорд Мюльграв выступил с тремя тысячами человек под прикрытием батареи форта Мальбускэ и предпринял смелую вылазку к северо-западу. Эта вылазка была отбита республиканскими войсками с помощью Бонапарта.
На следующий день Лапойп произвел нападение на Кап-Брюн, которое окончилось для него столь же неблагоприятно, как и штурм Мон-Фарона 1 октября.
Положение Карно становилось все более и более непрочным. Почти каждый день комиссары писали в Париж, требуя отозвания генерала Карно. Со своей стороны тот жаловался на депутатов и Лапойпа, который издевается над ним, действуя самостоятельно, и не повинуется его приказаниям. Бонапартом Карно был тоже более чем недоволен: тот тоже действовал по собственному усмотрению. Жена Карно, находившаяся в лагере, оценивала, по-видимому, заслуги молодого артиллерийского офицера значительно больше, чем ее муж, так как защищала его и говорила: “Предоставь молодому человеку полную свободу, он знает больше тебя. Он тебя ни о чем не спрашивает, но дает тебе отчет во всех своих поступках. Слава достанется тебе одному! Если же он сделает промах, виноватым окажется он!” При постоянном стремлении Наполеона награждать лиц, игравших в его жизни какую-либо роль, бывших ему чем-либо полезными или хотя бы только встречавшихся с ним и не приносивших ему никакого вреда, – он не забыл и Карно. Во время Империи он предоставил ему доходное место, а после смерти генерала в злосчастный 1813 год он вспомнил и о вдове: 20 декабря 1813 года, за несколько месяцев до крушения Империи, он назначил ей пенсию в три тысячи франков.
Но наконец час генерала пробил. Карно 7 декабря покинул армию, чтобы принять начальствование над итальянским войском. До прибытия вновь назначенного главнокомандующего Доппэ власть перешла к Лапойпу, и он в течение нескольких дней с 5 по 12 ноября пользовался всеобщим уважением солдат. Доппэ был немного более способен к начальствованию над армией, чем его предшественник. Он променял свою бывшую профессию врача на литературу и стал известен в 1785 году изданием мемуаров, приписываемых мадам де Варрен. Наполеон знал его по имени, так как в Валансе читал “Исповедь” Руссо, а также вышеупомянутое произведение Доппэ. Благодаря революции Доппэ, как и многие другие, довольно незаслуженно возвысился до генеральского чина в армии и очутился неожиданно – впрочем, вопреки своему желанию – главнокомандующим осадной армией перед Тулоном. В течение нескольких дней его начальствования ему улыбалось счастье: ему удалось нанести решительный удар городу, вернее, форту Балагье, бывшему вместе с Эгилеттом ключом к крепости. Доппэ и Бонапарт, приписывавшие себе главную заслугу этого дня, руководили штурмом. Лишь умелому сопротивлению английского генерала О'Гара, следившему с адмиральского судна за движениями республиканской армии, удалось отразить этот штурм.
Наполеон был вне себя, что штурм окончился неудачей, хотя и ставил последнюю в вину одному Доппэ, который велел подать сигнал к отступлению, когда увидел, что один из его генералов пал. В бешенстве, с залитым кровью лицом – он был ранен в лоб, – он галопом помчался к Доппэ и закричал в возмущении:
“Мы потеряли Тулон! Какой-то мазила велел трубить отступление!” И не только Бонапарт, но и солдаты ворчали. “Неужели нами всегда будут командовать живописцы и доктора?” – говорили они.
16 ноября прибыл, наконец, Дюгомье, на которого, благодаря его выдающимся подвигам в итальянской армии, правительство возлагало большие надежды, и принял главное начальство над армией, которое и сохранил до конца осады. Почти одновременно с Дюгомье прибыл в главную квартиру артиллерийский генерал Жан дю Тейль, а несколько дней спустя майор Мареско. В конце ноября и в начале декабря прибыли еще многочисленные отряды и довольно значительный осадный материал, так что число осаждавших простиралось скоро уже до тридцати пяти тысяч человек.
В короткое время Дюгомье снискал доверие солдат и восстановил дисциплину. Он, по-видимому, признал вскоре значение Бонапарта и предоставил ему, возможно, более полную свободу действий. Однажды молодой офицер, заваленный работами по артиллерии, обедал за столом генерала. “Возьми, – сказал ему Дюгомье, подавая блюдо мозгов, – возьми, это тебе пригодится”.
Дю Тейль принял на себя главное начальствование над артиллерией, и Бонапарт был назначен его помощником. Генерал проверил распоряжения своего предшественника, но мог только одобрить мероприятия Наполеона. Если дю Тейль номинально и был главою артиллерии, то все же Бонапарт пользовался, по-видимому, полной свободой, по крайней мере относительно решительных операций на полуострове Ле-Кер и перед фортом Мальбускэ. Дю Тейль жаловался часто, что в армии так мало артиллерийских офицеров: “Нас только двое, – добавлял он обычно, – Бонапарт и я. Если с нами случится какое-нибудь несчастье, нас никто не сможет заменить. Придется снять осаду, или же она затянется на неопределенное время”.
По прибытии Доппэ несколько раз созывал совещания, обсуждавшие различные проекты взятия Тулона. Так как план Бонапарта совпадал с намерениями самого Доппэ, то Комитет общественного спасения в Париже решил совместить оба плана. В конце концов было решено следующее:
1. Произвести нападение на форт Мюльграв и взять затем форты Эгилетт и Балагье.
2. и 3.· Подвергнуть бомбардировке Мальбускэ и мыс Брюн, чтобы отклонить внимание врага.
4. Овладеть Мон-Фароном.
5. Выставить между батареями Мальбускэ и фортом Монтань сильные мортиры и забросать город бомбами, чтобы вызвать в нем панику и смятение.
В течение месяца Бонапарт воздвиг снова несколько батарей, среди которых следует отметить одну, носившую название “Конвент”. Ее орудия причинили форту Мальбускэ значительный вред. Ночью с 27 на 28 ноября она открыла огонь, и уже на следующий день О'Гара созвал военный совет, обсуждавший вопрос о взятии этой батареи. Главное начальство над отрядом в две тысячи четыреста человек и тысячью двумястами резерва он поручил генералу Дюнда, но сам все же, несмотря на свое положение губернатора крепости, захотел присутствовать при нападении. 13 ноября войско двинулось, перешло Нев и поднялось на возвышенность Арен. Там после непродолжительной стычки они овладели батареей, Дюнда заколотил орудия и взял в плен всех тех, кто не успел спастись бегством. Вместо того, однако, чтобы, достигнув цели, подождать новых приказов или испросить их, генерал Дюнда не мог воспрепятствовать тому, что солдаты рассеялись и начали грабить. Когда О’Гара это заметил, он вскочил на лошадь, собрал около тысячи человек и бросился преследовать французов. Это было его гибелью. Дюгомье со своей стороны тоже поспешил на помощь. Ему удалось остановить беглецов, и, подкрепив их несколькими батальонами свежего войска, он отбил англичан. В этой стычке в руки победителей попал О’Гара, назначенный вместо Гудаля губернатором Тулона. Сильная потеря крови, вследствие легкого ранения, настолько ослабила тучного генерала, что он должен был присесть у стены и был, таким образом, застигнут подступившим врагом. Помимо семнадцати других офицеров, разделивших участь О’Гара, союзники потеряли убитыми и ранеными около четырехсот человек. Потери республиканцев были значительно меньше.
В этой победе принимал участие и молодой Бонапарт, 1 декабря 1793 года (и фримера II года) Дюгомье пишет военному министру: “Я не могу нахвалиться поведением тех моих помощников, которые захотели сражаться. Среди наиболее отличившихся и энергично помогавших мне собрать войско и напасть на врага я считаю своим долгом назвать в особенности гражданина Бонапарта, начальника артиллерии, и полковых командиров Арену и Цервони”.
Такую же похвалу Бонапарт услыхал и от депутата Саличетти, который сообщил своим коллегам об исключительной храбрости республиканских войск перед Тулоном и не забыл упомянуть и о Бонапарте: “Словами описать храбрость нашего войска почти невозможно… наши солдаты творили бы чудеса, если бы имели достаточно офицеров. Дюгомье, Гарнье, Муре и Бонапарт вели себя превосходно”.
В течение декабря к Тулону подошли новые значительные подкрепления, и так как там и сям обнаруживались признаки утомления и упадка дисциплины, то Дюгомье решил нанести неприятелю решительный удар до наступления холодного времени года.
28 ноября план штурма был утвержден, и 11 декабря в Оллиули состоялся последний военный совет. Главные силы должны были быть обращены на форт Мюльграв, расположенный на полуострове Ле-Кер. 14 декабря все батареи открыли канонаду, особенно же те, что стояли ближе к форту, 15-гои 16-го артиллерийская борьба по всей линии продолжалась, а в ночь на 17 декабря двинулись три колонны в семь тысяч человек из Ла-Сейна. Но несмотря на начальные успехи сила нападения была ослаблена, и Дюгомье вскричал в отчаянии: “Я погиб!” Он намеревался уже вызвать резерв, но в это время приблизились Бонапарт с Муироном во главе резервной колонны. Соединенными усилиями удалось наконец подняться на последние неприятельские укрепления, сломив отчаянное сопротивление союзников. Теперь оставалось еще занять береговые форты Эгилетт и Бадагье. Но, прежде чем французы приступили к их штурму, союзники очистили их, так как их без форта Мюльграва удержать было почти немыслимо.
Участь Тулона должна была решиться в течение нескольких дней. Бонапарт предсказал падение города, но генералы и комиссары не верили еще в близкое достижение своей цели. После взятия фортов на полуострове Ле-Кер Наполеон отправился на батарею “Конвент”, чтобы деятельнее взяться за бомбардировку Мальбускэ. Тем временем восточная армия во главе с Лапойпом возобновила свой штурм Мон-Фарона и, наконец, укрепилась на высотах.
Взятие острова стало известным в городе в 4 часа утра 17 декабря. Был созван тотчас же военный совет под председательством Гуда, на котором было решено очистить город, так как форты снова взять невозможно, а Тулон, вследствие этого, держаться дольше не может.
В ночь с 17-го на 18-e неаполитанцы без особого приказа покинули форт Мисьеси, заколотив предварительно орудия. Мальбускэ, занятый испанцами и оказавший столь упорное сопротивление французам, должен был быть также очищен, так как не мог держаться без расположенного позади форта Мисьеси. Англичане, со своей стороны, очистили форт Фарон и взорвали на воздух два других форта, расположенных впереди: Де-Поммэ и Сен-Андрэ. Все остальные, кроме большого форта Ла-Мальг, который должен был прикрывать отступление союзников на суда, были очищены вечером 18-го. Войско Конвента тотчас же заняло очищенные форты и начало оттуда обстреливать город, который лишь теперь увидел, как печальна его участь. Вместо того чтобы подготовить население к предстоящему очищению крепости, для того чтобы жители могли подготовиться к бегству, союзники совершенно не посвящали их в ход событий. Паника поэтому была неминуема. Из боязни мести победителей жители, беря с собою самое необходимое, старались поспешно достичь гавани, чтобы оттуда на всевозможных судах и лодках добраться до флота. В этой панике погибло немало народа. Страх и отчаяние достигли своего апогея, когда испанцы взорвали на воздух два французских фрегата, нагруженных порохом, а Сидней Смит, впоследствии столь мужественно защищавший Акку против штурма Бонапарта и заставивший его снять осаду, поджег арсенал.
Отход союзников совершился с огромной поспешностью и походил на бегство. Они не успели, однако, взорвать на воздух нескольких французских судов и забрать с собою многочисленных беглецов, которых высадили на островах, расположенных напротив Тулона.
18 декабря войска Конвента вступили в Тулон и жестоко отомстили населению города. Хотя главным зачинщикам и удалось спастись бегством, все же несколько тысяч человек жизнью своею поплатились за то, что они жили в городе, осмелившемся выступить против Конвента!
Поспешивший из Лиона депутат Фуше в письме от 23 декабря к Калло д'Эрбуа дает волю своему ликованию: “Мы можем отпраздновать победу только одним способом. Сегодня вечером двести тринадцать бунтовщиков перешли в лучший мир… Прощай, мой друг, слезы радости застилают мне глаза – они наводняют всю мою душу”.
Судя по дошедшим до нас сведениям, Бонапарт и канониры его не принимали никакого участия в этой резне, а были заняты осмотром отчасти пораженного огнем арсенала и возведением батарей на форте Балагье и на противоположном Гросс-Туре. Через шесть дней после взятия Тулона он, будучи назначен 22 декабря бригадным генералом, испросил продолжительный отпуск.
Относительно взятия Тулона генерал Дюгомье сообщает, между прочим: “Огонь наших батарей, руководимых величайшим талантом, возвестил неприятелю гибель”. Кого разумеет он под этим “величайшим талантом”, угадать нетрудно, тем более что дивизионный генерал дю Тейль в письме к военному министру от 19 декабря 1793 года прямо говорит о военных способностях молодого артиллерийского офицера Бонапарта. “Мне не хватает слов, – пишет он, – чтобы описать тебе заслуги Бонапарта: множество знаний, высокая степень интеллигентности и бесконечное мужество, – вот, хотя слабое, представление об исключительных способностях этого редкого офицера. От тебя, министр, зависит использовать их на славу Республики”. События перед Тулоном и имя Бонапарта должны были глубоко запечатлеться в памяти человечества. Здесь началась победная карьера молодого корсиканца, который поверг всю вселенную в изумление и трепет своим гением, своей энергией, своей всесокрушимой волей, но также и насилием!
ГЛАВА VIII. НАПОЛЕОН и РОБЕСПЬЕР
В итальянской армии в 1794 году
За свои заслуги при взятии Тулона Бонапарт полномочиями комиссаров был назначен 23 декабря бригадным генералом. По требованию, он послал в военное министерство свой послужной список, изобиловавший неточностями. Он не только прибавлял себе восемь месяцев и чрезмерно преувеличивал свои заслуги, что извинительно, однако, принимая во внимание тогдашнее неспокойное время, но и, что гораздо более важно, отрицал свое аристократическое происхождение, доказать которое стоило его отцу столько трудов и расходов! Но времена изменились. То, что несколько лет тому назад считалось большим плюсом, служило теперь помехой для дальнейшей карьеры, а как отец, так и сын умели извлекать пользу изо всякого положения вещей!
6 февраля 1794 года последовало официальное назначение Наполеона бригадным генералом, a i6 марта он подучил соответственный патент. Итак, прослужив всего восемь лет, из которых половину, отчасти на основании официального отпуска, отчасти же без разрешения, он находился вдали от полка, он сделался бригадным генералом, – поистине карьера, которой мог позавидовать любой поседевший на службе генерал!
Через несколько дней после предварительного назначения бригадным генералом, 16 декабря 1793 года комиссары Конвента поручили ему произвести наивозможно быструю ревизию побережья от устья Роны до Ниццы. При этом он должен был сформировать несколько отрядов морской артиллерии и учредить, кроме того, суд для устранения господствовавших в армии злоупотреблений. Помимо этого ему было поручено поставить пламенные печи повсюду, где только он признает нужным. Он должен был, наконец, осмотреть еще форты Св. Николая и Сен-Жана в Марселе и привести их в состояние, годное к обороне, усилив на них артиллерию.
Уже 28 декабря мы находим Бонапарта в Марселе, где он встретился со своей семьей.
После осмотров фортов Лагард, Св. Николая и Сен-Жана, а также и остальных батарей, он написал 4 декабря 1794 г. письмо военному министру Бушотту, которое могло стать для него роковым:
“Форт Св. Николая не мог бы держаться даже и четверти часа.[29] Три вала, которые окружают его со стороны города, разрушены, и доступ к нему открыт со всех сторон.
Необходимо, однако, во что бы то ни стало укрепить этот форт. Для этой цели нужно восстановить хотя бы одну из трех стен.
Я приказал поставить вблизи форта орудия таким образом, чтобы они господствовали над городом.
Все соседние батареи, защищающие гавань Марселя, находятся в плачевном состоянии. Их устройство обнаруживает полнейшее незнание всех принципов обороны. Они не в состоянии даже выдержать орудийного салюта…”
Летом 1793 года марсельцы восстали против правительства, ввиду чего Бонапарт и считал необходимым восстановление укреплений фортов Св. Николая, обращенных к городу. Ясно, впрочем, также и то, что открытый с трех сторон форт не мог бы оказать серьезного сопротивления и нападению со стороны моря. Впоследствии форт был приведен, действительно, в состояние, способное к обороне, так как и теперь еще наряду с противоположным фортом Сен-Жаном он служит для защиты старой гавани и большого рейда.
Мероприятия Бонапарта, поскольку они касались восстановления крепостных стен форта Св. Николая, вызвали недовольство населения. Оно увидело в нем угрозу своему городу. Депутат Менье написал поэтому марсельскому депутату Гренэ, чтобы тот поставил вопрос этот на обсуждение Конвента и вызвал в Париж Бонапарта для оправдания, а также и его начальника, дивизионного генерала Лапойпа.
Правительственный курьер, привезший приказ, прибыл в Марсель 6 марта. Там он нашел одного лишь Лапойпа, так как Бонапарт, продолжавший тем временем свою инспекционную поездку, был извещен о намерении Менье и отправился в Тулон, где находились благосклонно расположенные к нему комиссары Конвента Саличетти и Огюстен Робеспьер. По их совету Наполеон уже 25 февраля написал письмо Мазюрье, влиятельному чиновнику в военном министерстве, в котором дал подробные объяснения относительно распоряжений, отданных им на береговой полосе и в Марселе.
Лапойп, повинуясь приказу, отправился в Париж и защищался там 13 марта перед Конвентом, который принял во внимание его оправдания и доводы. Саличетти и младший Робеспьер посоветовали Бонапарту спокойно оставаться в Тулоне и выждать конца бури. Он последовал этому совету, и, действительно, дело не получило дальнейшего хода.
“Переписка Наполеона” и дополнение к ней содержат целый ряд писем молодого генерала, в которых он говорит относительно своих распоряжений, отданных им для защиты побережья от Марселя до Ментона. Все они свидетельствуют об его уме и необыкновенной проницательности, с которой он обнаруживал слабые, незащищенные пункты на побережье и изменил их таким образом, чтобы они могли выдержать нападение. Он считал необходимым прежде всего воздвигать батареи, которые должны были препятствовать приближению к берегу неприятельской эскадры и крейсеров. Благодаря этому, по крайней мере, французские каботажные суда могли свободно и безопасно крейсировать между приморскими портами.
Уже 7 января Бонапарт был назначен артиллерийским генералом итальянской армии. Начало похода вследствие дурного времени года было отложено, однако, до начала апреля, 1 апреля Бонапарт получил от Огюстена Робеспьера и временного главнокомандующего итальянской армией Дюмербиона приказ отправиться в армию в качестве генерала и генерал-инспектора.
Нет ничего более изменчивого в мировой истории, нежели суждения о событиях и лицах. Может случиться, что человек, который при своей жизни и долгие годы после смерти встречает лишь ненависть, осуждается всеми и именуется всеми чуть ли не злодеем, находит себе справедливую оценку спустя несколько поколений, когда люди могут мыслить о нем ясно, без предрассудков, когда открываются архивы и опубликовываются аутентичные свидетельства очевидцев и современников. Он является тогда перед ними в другом, более мягком свете. Таким человеком был Максимилиан Робеспьер, знаменитый член Конвента, старший брат Огюстена Робеспьера, защитника молодого Бонапарта.
В рамки нашей работы не входит давать очерк истории Конвента и характеристики старшего Робеспьера. Но для понимания событий, трактуемых в этой главе, необходимо упомянуть, что человек этот отнюдь не был кровожадным и жестоким, как его прежде да и теперь еще всегда изображают историки. В три месяца существования революционного трибунала были приведены в исполнение три тысячи двести двадцать смертных приговоров; по закону же да прериаля II года в течение сорока девяти дней состоялось тысяча триста семьдесят шесть казней.[30]
Максимилиан Робеспьер был человеком, не любившим ни денег, ни женщин, ни удовольствий, а ведшим, в общем, спокойную жизнь, посвященную неутомимой работе. Младший брат, Огюстен Робеспьер, был отнюдь не слабой копией члена Конвента! Одаренный гуманным и мягким характером, он столь же отрицательно относился к деяниям креатур Дантона, как и генерал Бонапарт. А во время его пребывания в итальянской армии в качестве представителя Конвента там не было ни массовых казней, ни произвольных смертных приговоров, столь частых в других республиканских войсках, в которых присутствовали Карьер и Жозеф ле Бон. Когда молодой Робеспьер прибыл в качестве представителя в департамент верхней Соны, он приказал освободить много бедного люда, заключенного в тюрьмы за религиозные преступления.
Не только Бонапарт испытывал симпатию к молодому Робеспьеру: оба они скоро поняли, что сходятся или, вернее, дополняют друг друга во многих вопросах, особенно же касавшихся администрации.
5 апреля Огюстен Робеспьер писал своему брату:
“…для патриотов же я добавлю, что назвал тебе уже раз… гражданина Бонапарта, начальника артиллерии, заслуги которого совершенно исключительны. Он корсиканец. Он восстал против коварных замыслов Паоли, и владения его разрушены изменниками отечества”.
О Бонапарте и об отношениях его к ее братьям Шарлотта Робеспьер пишет в своих мемуарах:
“Бонапарт был искренним республиканцем, – я утверждаю даже, что он был монтаньяром. По крайней мере, он производил на меня такое впечатление своими воззрениями в то время, когда я находилась в Ницце. Впоследствии победы вскружили ему голову и заставили его стремиться к господству над гражданами. Будучи, однако, еще простым артиллерийским офицером в итальянской армии, он обнаруживал приверженность к делу свободы и равенства…
Преклонение Бонапарта перед моим старшим и дружба с младшим братом, быть может, и сочувствие к моему горю доставили мне при консульстве скромную пенсию”.
* * *
С 1792 года французское войско, находившееся на юго-восточном побережье, носило название итальянской армии, хотя до сих пор это гордое название было лишь пустым звуком. В течение 1792 и 1793 годов Комитету общественного спасения был представлен целый ряд планов относительно вторжения в Италию. Из четырех проектов: перейти через Альпы либо через малый Сан-Бернар, либо через Мон-Сенис, либо через Коль-ди-Тенда, или выступить из Савойи к северу, чтобы перейти Альпы при Альторэ, комитет высказался за переход через Коль-ди-Тенда. В конце 1793 года дело не подвинулось дальше попытки овладеть ущельем, запятым пьемонтцами.
До начала активных операций правительство решило прежде всего овладеть сардинской крепостью Онеглия, расположенной между Ниццей и Савойей. Итальянская армия получала почти все жизненные припасы из Генуи, но большие транспорты их захватывали часто в Онеглии и конфисковали. Так как бомбардировка города французскими военными кораблями не привела ни к чему,[31] то было решено завладеть расположенным впереди генуэзским берегом[32] и взять Онеглию с суши.
Экспедиция в Онеглию и Саорджио, откуда через Коль-ди-Тенда надеялись достичь Кунеи, преследовала одновременно и намерение не дать времени пьемонтцам как следует подготовиться к борьбе. Начальствование над двухтысячным экспедиционным корпусом было поручено генералу Массена. Комиссары Конвента и артиллерийский генерал Бонапарт, приглашенный в качестве своего рода консультанта, должны были следовать за войском. Операционный план был· составлен, по-видимому, Наполеоном или по крайней мере им развит; он по форме своей напоминает план, продиктованный им два месяца спустя, и написан, как и тот, рукою его адъютанта Юно.
6 апреля, рано утром, началось движение корпуса, разделенного на две колонны. Правый фланг, в котором находились комиссары Конвента и Бонапарт, достиг 8 апреля Онеглии, которую занял без всякого сопротивления. Первое нападение Массены на высоты, как и высадка Бригга, потерпели фиаско, благодаря неправильному распоряжению, так что 15 апреля должен был быть предпринят новый штурм. На следующий день Массена пошел на Коль-ди-Тенда и 17 апреля занял Понте ди Нава, Ормею и Гарессио.
Достигнув цели, Массена испросил дальнейших приказаний и написал 20 апреля из Гаресспо следующее письмо Дюмербиону, который вследствие болезни должен был передать ему главное начальствование над армией:
“Впрочем, ни народный представитель Робеспьер, ни я не отказываемся от экспедиции в Саорджио. Тебя известят, конечно, что вначале хотели принять участие также и Маккар или Лебрен. Вследствие этого, я сообщаю тебе план, который, как говорят, окончательно еще не утвержден”.[33]
Из этого письма видно, что ни Массена, ни Дюмербион, главнокомандующий итальянской армией, не составляли планов: составил их другой, чье имя не называлось и которого не знали также оба генерала. Этим офицером был, по-видимому, Бонапарт, советник и поверенный комиссаров Конвента, Робеспьера и Рикора.
На сей раз нападение французских войск увенчалось успехом. После многочисленных переходов и стычек пьемонтское войско было сбито с позиций, а 28 апреля в руки победителя досталось Саорджио. 29-го в Саорджио состоялся военный совет, на котором Бонапарт развивал свой план дальнейших операций. Было решено подвергнуть на обсуждение Комитета общественного спасения в Париже план слияния альпийской армии с итальянской и испросить необходимое подкрепление, – последнее было осуществлено лишь отчасти.
После военного совета в Саорджио Бонапарт отправился в Ниццу и разработал там “план двух подготовительных операций к пьемонтской кампании”, 20 или 21 мая в Кальмаре состоялась конференция, в которой принимали участие комиссары Конвента и различные генералы итальянской и альпийской армий. Они одобрили план Наполеона и послали его через представителей Робеспьера, Рикора и Лапорта на утверждение Комитета общественного спасения в Париж.
Этот составленный после детального обсуждения план, в котором с невероятной тщательностью было рассчитано каждое движение колонны, был своего рода шедевром. Единственной его ошибкой было то, что он не считался со случайностями, которые в данном случае сразу могли подвергнуть сомнению успешные движения войска. Наполеон должен был, конечно, считаться с несостоятельностью и незначительными познаниями начальников, а также и с гористой местностью. Главная причина заключается, однако, в том, что он не был совершенно свободен при составлении этого плана, а должен был сообразоваться со взглядами комиссаров Конвента. Тем не менее вследствие его военной искусности был осуществлен план нападения и признан не только пригодным, но и вызвал всем своим целым общий восторг. Нельзя согласиться с тем, что Наполеон воспользовался “запиской” генерала Клозада. Последняя – не что иное, как чрезвычайно подробное географическое исследование поля военных действий; с военно-научной точки зрения, она, однако, не имеет никакой ценности. Клозад был человеком старой школы, не понимавшим движения масс. Это, таким образом, вполне самостоятельный план Бонапарта, человека, заслуги которого “превосходят обычный масштаб”.
Вследствие взятия альпийской армией Аргентьерского ущелья, а также ввиду все более натянутых отношений к Генуэзской республике, общее политическое положение изменилось. Приходилось поэтому произвести некоторые изменения в первоначально утвержденном плане похода, 30 июня Бонапарт составил второй “план двух подготовительных операций к пьемонтской кампании” и вручил его младшему Робеспьеру, который вскоре после этого отправился в Париж, чтобы представить на рассмотрение Комитета общественного спасения.
Карно был, однако, мало склонен разделять наступательный план комиссаров и генералов итальянской армии. Его распоряжения альпийской армии состоялись перед отправкой младшего Робеспьера в Париж: согласно им, альпийская армия должна была занимать исключительно оборонительные позиции, между тем как итальянская армия должна была ограничиться восстановлением береговых укреплений, занятием твердых позиций и небольшой экспедицией в Кунею. Когда поэтому Огюстен Робеспьер прибыл в Париж, его план встретил всюду упорное сопротивление. Благодаря предстоявшему 9 термидора падению Максимилиана Робеспьера, повлекшему за собой, естественно, и падение младшего брата, Карно считал вопрос исчерпанным. Он отдал приказ обеим армиям на юго-востоке республики воздержаться от каких бы то ни было наступательных операций.
Дружба Бонапарта с Огюстеном Робеспьером едва не стала для него роковой. 13 июля (25 мессидора II года) комиссар Конвента Рикор, вероятно, в согласии с Робеспьером, поручил генералу Бонапарту отправиться в Геную. Согласно его распоряжению, он должен был вступить в переговоры с генуэзским правительством относительно обороны побережья и дороги от Ментоны в Лоано. Вместе с этим ему было, однако, дано и другое, тайное, поручение:
“1. Он должен был осмотреть крепость Савону и ее окрестности.
2. Он должен был ознакомиться с укреплениями Генуи и собрать сведения относительно ее окрестностей, необходимые в начале войны, исход которой трудно было предсказать.
3. Он должен был, по возможности, более обстоятельно осведомиться относительно артиллерии и других военных вопросов.
4. Он должен был по возвращении в Ниццу принять триста центнеров пороха, купленного для Бастии и уже оплаченного.
5. Он должен был ознакомиться с административной и дипломатической деятельностью республиканского посланника Тилли и его агента, на которого поступил целый ряд жалоб.
6. Он должен был произвести разведки, которые могли бы раскрыть намерения генуэзского правительства относительно коалиции”.
В сопровождении своего брата Лун и будущих генералов, Мармона, Юно и Сонжи, Бонапарт на следующий день (14 июля) отправился в путь и, исполнив поручение, 27 июля вернулся в Ниццу.
Как только в главной квартире итальянской армии получилось известие о падении старшего Робеспьера, всех находившихся прежде в добрых отношениях с Огюстеном Робеспьером охватил панический страх: каждый старался свалить угрожавшую ему опасность на других, чтобы не быть вовлеченным в падение Робеспьеров и их сторонников и разделить их участь. Генерал Бонапарт был в числе тех, которые должны были поплатиться за свою дружбу с младшим из братьев.
6 августа комиссары Конвента, Альбитт, Саличетти и Лапорт, высказали против него подозрение Комитету общественного спасения. Часть их донесений, касавшихся Наполеона Бонапарта, гласила:
“План похода встретил даже сочувствие; он должен был остаться втайне, но его необходимо было привести в исполнение. Теперь, однако, план этот стал известен итальянской армии! Наши враги узнали про него… Короче говоря, вы должны знать, что Бонапарт и Рикор сами признались Саличетти, что будут осаждать Кунею лишь для видимости; комиссары же при альпийской армии не должны знать ничего об этом.
Из этого мы заключаем, что нас обманули интриганы и льстецы, что вашего постановления не только не хотели исполнить, но даже, наоборот, хотели оставить в бездействии армию в восемьдесят тысяч человек. Помимо этого мы заметили, что они же старались уготовить альпийской армии поражение и затмить ее славу лаврами, завоеванными ее же отвагою. Ввиду этого они хотели занять проход Мон-Сенис и малый Сан-Бернар, который генерал Дюма снабдил недостаточным количеством войска. Нас же они намеревались заманить в Демонт, чтобы потом оставить нас там. Таков был, товарищи-граждане, ставший теперь известным план младшего Робеспьера и Рикора; он совпадает вполне со всеми движениями неприятеля. Бонапарт был их сторонником. Он составил им план, который мы должны были осуществить. Анонимное письмо из Генуи известило нас, что для подкупа одного из генералов был отправлен миллион. «Будьте настороже» – говорили нам. Является Саличетти и заявляет нам, что Бонапарт по поручению Рикора отправился в Геную. Что делать этому генералу за границей? Все наше подозрение падает на него!”
Одновременно с этим комиссары Конвента подписали постановление об исключении со службы генерала Бонапарта, главнокомандующему итальянской армией было приказано отправить его в Париж под верной охраной, предварительно, однако, конфисковав все его бумаги.[34] Распоряжения комиссаров пришли в Ниццу в ночь с 8 на 9 августа, и уже на следующее утро жандармский генерал Вьевен и адъютант Арена отправились к Бонапарту, опечатали его бумаги, а самого его на следующий день заключили в форт Каррэ, близ Антиба.
Поведение комиссара Конвента Рикора – которому вместе с женой удалось спастись в Грасс, – а также и посылка Бонапарта в Геную возбудили подозрения, хотя поручение и оправдывалось тайной миссией, найденной в бумагах арестованного генерала.
Что побудило друга Бонапарта, Саличетти, подписать столь зловещее для него донесение Комитету общественного спасения, мы до сих пор в точности не знаем. Быть может, он надеялся спасти его таким образом; может быть, после осмотра бумаг Бонапарта он снова почувствовал расположение к нему; может быть, другие комиссары, офицеры генерального штаба или другие генералы, особенно граф Лоренти, или же, может быть, все комиссары, поддерживавшие до того обвинение, убедились в невиновности Бонапарта, – мы в точности не знаем. Во всяком случае Саличетти и Альбитт 20 августа 1794 года подписали постановление об освобождении артиллерийского генерала итальянской армии, так как не нашли ничего, что могло бы оправдать подозрения, высказанные против него. Шаг этот был признан, однако, несколько смелым, так как Бонапарт обладал многими сведениями, которые могли быть весьма полезны для итальянского войска.
Уже в тот день Бонапарт был выпущен из крепости, вернее говоря, мог вернуться к расположенной к нему семье графа Лоренти в Ницце, не будучи, однако, восстановлен в своей прежней должности. Во время своего заключения он сам развил свою защиту в довольно странном обращении к комиссарам Конвента Саличетти и Альбитту:
“Вы, – возмущенно говорил он в ней, – лишили меня моего звания, арестовали и взвели на меня обвинения.
Я заклеймен, не будучи осужденным, или вернее осужден, не будучи даже допрошен!
В революционном государстве есть два класса: подозрительные и патриоты.
Взвести подозрение на патриота значит вынести ему приговор, лишающий его самого ценного, чем он обладает: доверия и уважения! К какому классу меня причисляют? Разве с начала революции я не оставался всегда неизменно верен ее принципам?
Разве я не всегда боролся либо с внутренними врагами, либо в качестве солдата с чужеземными?
Я служил под Тулоном и стяжал частичку тех лавров, которые выпали на долю итальянской армии при взятии Саорджио, Онеглии и Танаро.
При раскрытии заговора Робеспьера я держался как человек, привыкший следовать твердым принципам.
За мною нельзя оспаривать звания патриота…
На меня взвели подозрение и конфисковали мои бумаги!..
Невиновный, патриотичный, заклейменный, я все не хочу роптать на комитет, какие бы меры ни принимал он против меня.
Если трое людей заявят, что я совершил преступление, я не возражу ни слова судье, который осудит меня.
Саличетти, ты знаешь меня! Разве в течение пяти лет ты замечал что-нибудь в моем поведении сомнительного для дела революции? Альбитт, ты не знаешь меня! Тебе не могли привести ни одного доказательства моей вины. Ты не выслушал меня, но ты знаешь, как умеют сеять люди клевету. Неужели же должен быть я поставлен на одну ступень с врагами отечества? Неужели же патриоты должны потерять генерала, который не без пользы служил Республике? Неужели же комиссары Конвента должны побудить правительство к несправедливости и неполитичным поступкам?
Услышьте меня! Снимите с меня давящее время и верните мне почет патриота!
Если же клеветники захотят моей жизни, – я мало дорожу ею, я так часто готов был ею пожертвовать! Лишь мысль, что я мог быть все же полезен отечеству, заставляет меня мужественно нести тяжелое бремя!”
* * *
После 9 термидора итальянская армия ограничилась оборонительной тактикой, из которой австро-сардинцы надеялись извлечь пользу. Они, со своей стороны, готовились перейти к наступлению и направиться к Бормиде, чтобы вступить в сношения с английскими судами на побережье. Комиссары Конвента старались воспрепятствовать этому и 24 августа испросили у комитета разрешение произвести наступление по направлению к Дего. Но так как в это время поступили точные сведения о движении врага, то Саличетти и Прост – последний 26 августа заступил место Альбитта – решили не дожидаться ответа из Парижа и издали приказ приступить к операциям. Конечно, целью последних должно было быть отбитие врага с позиций в Керо, Альтаре и Маларе. Уже в начале экспедиции, 14 сентября, Бонапарт был восстановлен в своей прежней должности артиллерийского генерала итальянской армии.[35] Он принял участие в этом походе и на этот раз не преминул составить план операций. Экспедиция продолжалась недолго и не имела крупного военного значения; тем не менее успехом своим она обязана в значительной мере благоразумию Бонапарта. В донесении генерала Дюмербиона об удачной экспедиции говорится, между прочим: “Способностям артиллерийского офицера я обязан теми благоразумными распоряжениями, которые дали нам в руки победу”.
По распоряжению комиссаров, победа при Дего не была использована. Несмотря на то, что Бонапарт в военном совете, состоявшемся в Керо, высказался за продолжение экспедиции, было решено удовлетвориться достигнутыми результатами. Наполеон вернулся в Ниццу, чтобы заняться делами внутренней службы. 15 декабря он уехал в Тулон для подготовления морской экспедиции.
В конце похода в Дего в главную квартиру Дюмербиона прибыли комиссары Конвента Риттер и Тюрро, заступившие место Саличетти и Проста. Они скоро поняли значение и заслуги Бонапарта, и последний снова стал героем дня. Вследствие стягивания австро-сардинской армии перед правым флангом французов снова возникла мысль о наступательных действиях. На основании плана операций, составленного Бонапартом, комиссары 1 и 3 ноября написали снова Комитету общественного спасения и предложили начать новый итальянский поход. Они надеялись после взятия Цевы продвинуться вплоть до Турина, но комитет и Карно были другого мнения. В начале ноября пришло приказание ограничиться исключительно оборонительной тактикой. 6 декабря они повторили приказ, но в то же время задумали экспедицию на Корсику.
Смена комиссаров имела для Бонапарта значение еще и в другом отношении. Тюрро, по выражению Наполеона на Св. Елене, был “assez insignifiant”, жена же его “extrêmement jolie, fort aimable”. Она, по-видимому, произвела сильное впечатление на двадцатипятилетнего генерала, да и сам он не был ей безразличен. Император рассказывает, что во время экспедиции в Дего, в одно прекрасное сентябрьское утро она настолько очаровала его, что он, желая удовлетворить ее каприз, произвел вылазку в окрестностях Коль-ди-Тенда, во время которой было убито несколько человек. “Мы одержали, правда, победу, – говорил он, – но успеха не могло быть… вылазка была бессмысленна, – несколько людей остались на поле сражения. Вспоминая впоследствии об этом небольшом эпизоде, я всегда испытывал раскаяние”.
По-видимому, Наполеон в этом случае выставляет себя в несколько черном свете. То, что стычка эта действительно состоялась, подтверждается как свидетельством императора, так и сообщениями мадам Тюрро. Во всяком случае, однако, она могла последовать лишь после 21 сентября, так как Тюрро приехал в Ниццу вместе со своим товарищем Риттером лишь 21-го и оттуда тотчас же отправился в армию. Трудно предположить, чтобы мадам Тюрро приехала раньше своего супруга. Возможно, однако, что небольшой эпизод, о котором вспоминал в изгнании сверженный император, произошел при нападении на редут “Унион”, близ Вадо, 26 сентября. Мадам Тюрро отрицает, впрочем, что Бонапарт решился на эту стычку из желания ей угодить.
Судя по всему, что мы знаем о характере Наполеона в этом отношении, он не был способен на подобный поступок. Женщины хотя и возбуждали его интерес, но никогда не оказывали на него такого влияния, чтобы из-за пары прекрасных глаз он неблагоразумно и неосторожно согласился поставить на карту жизнь нескольких солдат. Его память, очевидно, ему изменяет. По всей вероятности, желая оказать любезность симпатичной жене начальника, он просто-напросто пригласил ее присутствовать при одной из многочисленных аванпостных стычек. Он доставил капризной красавице это “удовольствие” не только потому, что был в нее влюблен, но по всей вероятности, и потому, что знал, какое влияние имеет она на своего мужа. Комиссар Тюрро был чрезвычайно влиятельным лицом и покровительствовал генералу, а Бонапарт не хотел утрачивать этой благосклонности. Помимо этого, невероятно, чтобы стычка произошла в окрестностях Коль-ди-Тенда, так как в сентябре не было уже больше и речи об этой позиции. Несомненно, однако, лишь одно: Бонапарт не был сухим генералом, всецело поглощенным своими делами, – хорошенькая, симпатичная женщина могла, несмотря на все, вызвать его интерес.
ГЛАВА IX. НЕУДАЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА КОРСИКУ. ПРЕБЫВАНИЕ В ПАРИЖЕ. В ОЖИДАНИИ СЧАСТЬЯ
(Январь – сентябрь 1795 года
Оказывая сопротивление Конвенту, Паоли рассчитывал главным образом на поддержку английских и испанских войск. Своим присутствием в Средиземном море они должны были воспрепятствовать отправке французских подкреплений на Корсику. Но он не принял во внимание упорства правительственных войск. Комиссар Конвента Лакомб Сан-Мишель оказал ему решительное сопротивление при Сан-Фиоренцо, Бастии и Кальви. Собственными силами и собственными средствами корсиканцы не могли дольше держаться, так как у них не было ни оружия, ни денег. Единственной надеждой Паоли были поэтому англичане. Вероятно, он еще летом 1793 годa получил от них помощь отчасти военными припасами, отчасти же наличными деньгами. Когда затем они лишились Тулона и понимали прекрасно, что Франция не может тотчас же выслать войска, так как должна сперва усилить и укрепить свой флот, то англичане обратились к Корсике, чтобы использовать свой флот и солдат, оказавшихся не у дел после падения Тулона.
Первою их целью было Сан-Фиоренцо. Уже 17 февраля 1794 г. оно досталось им в руки, хотя и после упорной борьбы. Три месяца спустя, 22 мая, капитулировала Бастия, а 11 августа, наконец, и Кальви. Геройству Нельсона пришлось здесь выдержать тяжелое испытание: при осаде Бастии он потерял глаз.
Но и Лакомб Сен-Мишель сражался геройски, пока, наконец, в одну бурную ночь, 6 флореаля II года (25 апреля 1794 года), он не был принужден спастись бегством в Капраю, а оттуда в Геную, чтобы испросить там помощи. Он занялся собиранием боевых припасов и жизненных средств и попытался переправить их на лодках в Капраю, которую считал своего рода резервным депо. Груз, однако, был почти целиком захвачен английскими судами, крейсировавшими в водах Средиземного моря.
Лакомб Сен-Мишель отправился в Тулой. Там Саличетти получил, наконец, от Комитета общественного спасения разрешение оказать помощь Корсике, но приготовления к экспедиции затянулись, а тем временем и Бастия, и Кальви пошли на капитуляцию.
Занятие трех крепостей англичанами имело для острова самые обширные последствия. Паоли заключил с победителями договор, согласно которому король должен был получить верховную власть над островом и быть представленным на нем в лице вице-короля. Паоли полагал, что тем самым даст родине не только свободу, но и наиболее верную защиту и твердую опору против всех внешних врагов. Но он жестоко ошибся. Отдаться в руки англичан и подчинить своих соотечественников управлению сэра Жильберта Элиотта было все равно что совершенно лишить их свободы. Недовольство продолжало расти. Положение Паоли на родине становилось все более и более непрочным.
Все эти обстоятельства и события, разыгравшиеся на Корсике, побудили французское правительство принять решительные меры. Во главе партии, добивавшейся этого, стоял, как мы уже говорили, Саличетти, поддерживаемый в этом отношении Бонапартами. 23 сентября 1794 года (2 вандемьера II года) Наполеон писал комиссару Конвента, гражданину Мюльтедо о результатах экспедиции в Дего и в заключении письма говорил:
“Нам остается только освободить Корсику от рабства англичан. Время сейчас самое удобное, нам нельзя терять ни минуты. Испанцы вернулись в свои гавани. У нас самые свежие известия из Аяччио. Вместо того чтобы усилить этот защитный пункт Корсики, англичане, наоборот, ослабили цитадель, забрав из нее много военных припасов.
С восьмью – десятью тысячами человек экспедиция на Корсику будет в это время года лишь приятной военной прогулкой”.
“Прогулка” эта подготовлялась в Тулоне. Заново вооруженный флот был вначале предназначен правительством к экспедиции в Ливорно для высадки там войск и дальнейшей их отправки в Рим. Город этот служил центральным пунктом всех религиозных интриг и заговоров, угрожавших серьезной опасностью революции.
В январе 1793 года посланник Бассевиль был злодейски убит. Нужно было отомстить за его смерть. План экспедиции был разработан и, наверное, был бы приведен в исполнение, если бы до отплытия флота 9 февраля 1795 года не был заключен мир между Тосканой и Францией.
Лишь теперь Комитет общественного спасения высказался всецело за экспедицию на Корсику.
Наполеон был счастлив, что желание его исполняется. Он снова задумался о своем будущем на родине. При господствовавшей реакции, последовавшей за террором, и вследствие малоблагоприятного положения, в котором он находился после своего ареста, он должен был быть готов на все. Он вовсе не так уже прочно сидел в седле, как сам старался себя уверить. Как однажды Франция, так теперь Корсика была для него спасительным якорем.
Приготовления к этой экспедиции шли, однако, чрезвычайно медленно. Хотя комиссары Конвента уже 5 декабря 1794 года писали: “Все приготовления к стягиванию войск, предназначенных для Корсики, закончены. Осадные и полевые батареи на судах, провиант и военные припасы прибудут через несколько дней”, – но все же даже месяц спустя экспедиция была далеко еще не готова. Лишь в начале марта 1795 года флот двинулся к Корсике.
Начальствование над войском было поручено генералу Муре. Начальником генерального штаба был назначен генерал Берн, а бригадными командирами Первони и Лагарп. Во главе артиллерии стоял Наполеон Бонапарт, а флотом командовал адмирал Сен-Мартен. Комиссары Саличетти и Лакомб Сен-Мишель приняли также участие в экспедиции, лишь Тюрро остался в Тулоне. Бонапарт развернул снова свою обычную энергию. Он был окрылен самыми радужными надеждами на успех. Все его друзья получили ответственные должности. Юно сопровождал его в качестве личного адъютанта, – он лишь недавно был произведен в капитаны. Мармон получил начальствование над обозом. Мюирон был назначен начальником главного штаба, Сюньи и Сонжи распоряжались движениями войск. Наполеон спокойно смотрел в будущее. Малорадостное прошлое было забыто, и все мысли его были устремлены вперед, 2 апреля он со своим немногочисленным штабом вступил на борт “Амитье”. Адмирал Сен-Мартен был, однако, человеком весьма осторожным. Он не хотел брать на себя ответственности за ведение на Корсику столь многочисленного войска с малоопытным и малопригодным для морских экспедиций флотским экипажем. Поэтому он решил предварительно отплыть вместе с эскадрой, чтобы осмотреть укрепления врага. Если ему удастся очистить море от англичан, то он возвратится и возьмет войско. Флот горделиво двинулся в море. Но столкновение его с английской эскадрой, состоявшей из пятнадцати боевых судов и десяти фрегатов, окончилось довольно неудачно. Хотя французской эскадре и удалось сперва захватить английское судно “Бервик”, отправившееся в Гибралтар для починки, но вскоре после этого, 13 и 14 марта, произошло сражение между мысом Корсо и Ливорно. Сражение окончилось чрезвычайно неудачно для французов, несмотря на всю их храбрость. Они потеряли два своих лучших судна и в конце концов были принуждены скрыться под охрану береговых батарей в гавань Сен-Жуан и на Гиберийские острова.
Это поражение положило конец всей экспедиции на Корсику. Войска получили 12 марта 1795 года (29 вантоза II года) приказание тотчас же присоединиться к итальянской армии.
Надежда Наполеона рушилась! Он остался без определенной должности, так как его пост инспектора побережья был передан тем временем его соотечественнику Казабиянке. Но бездеятельность его длилась недолго. 8 апреля 1795 года он получил приказание тотчас же отправиться в западную армию. В это время он находился в кругу своей семьи в Марселе. Причина такого перемещения заключалась в том, что в Париже зародилось недоверие против многочисленных корсиканцев, находившихся в итальянской армии: их старались распределить по всему войску. Наполеон, правда, не был ни смещен, ни понижен в чине; его просто коснулась общая мера, предпринятая комитетом против двадцати дивизионных и пятидесяти четырех бригадных генералов.
Радоваться Бонапарту, однако, было нечего, так как это было равносильно отказу от всех его планов на будущее. Кроме того, он должен был стать в вандейской армии под начало смелого Гоша, равного ему по силе гения и энергии. Его честолюбие противилось этому. Но служба в Вандее была ему неприятна и вследствие самого характера тамошней борьбы: гражданская война никогда не пользовалась особыми симпатиями Наполеона.
Он старался поэтому отсрочить свой отъезд сперва под предлогом, что должен подождать своего преемника в итальянской армии. Преемником его был назначен генерал Дюжар, прибывший в Марсель лишь в начале мая. 8 мая, продав часть своих экипажей и лошадей, Бонапарт вместе с братом Людовиком, который ехал покамест в военную школу в Шалон, а также с Юно и Мармоном покинул Марсель. Они отправились в большом удобном дилижансе и в дороге не отказывали себе ни в чем. Ближайшей целью их путешествия был Париж. Сейчас, как и в 1792 году, Наполеон надеялся найти там выход из своего критического положения.
По дороге в столицу они остановились на несколько часов в Авиньоне и на несколько дней в Монтелимаре. Здесь Наполеон намеревался приобрести поместье и тотчас же уплатить за него. Вслед за этим они направились в Валанс и нашли там старых знакомых Монталиве и книгопродавца Ореля.
В Шалоне Наполеону снова пришла мысль купить себе поместье. Он осмотрел поместье Раньи, принадлежавшее де Монтиньи, и написал Жозефу: “Если бы ты был хорошим дельцом, ты бы купил это имение за восемь тысяч ассигнациями. Ты мог бы пустить в ход шестьдесят тысяч франков из приданого жены. Мне лично этого бы очень хотелось, и я советую тебе так поступить”.
Приблизительно в это время Бонапарт со своими спутниками остановился у родителей Мармона в Шатильони-на-Сене. Худощавый бледный и скупой на слово офицер произвел здесь, в этой антиякобинской семье, неблагоприятное впечатление. Все обратили внимание на его строгость по отношению к шестнадцатилетнему брату Луи, который никак не мог научиться справляться с логарифмами: скромный молодой человек вызывал жалость, особенно у дам.
Тем не менее Бонапарт сумел увлечь молодую падчерицу де Шастеней, с семьей которой Мармон находился в большой дружбе. На другой день их знакомства они уже беседовали в течение четырех часов.
Во время этой беседы Наполеон развивал молодой девушке свои взгляды на революцию. Ее удивило главным образом то, что у республиканского генерала такие умеренно-либеральные взгляды и мысли. Он говорил ей о том упорстве, с которым преследовалось революционное движение, да и теперь оно еще недостаточно сильно, чтобы одержать полную победу. Гражданская война без участия аристократии, особенно высшей, которая своим мнением и властью оказывает значительное давление на народ, ему не понятна. Наполеон также придерживался того взгляда, что огромная масса республиканских солдат совершенно чужда кровавым событиям.
Мадемуазель де Шастеней была в восторге от беседы с офицером, правда, малоинтересной наружности, и писала впоследствии в своих мемуарах: “Я никогда не встречала человека, который показался бы мне таким умным, как Бонапарт… Эти часы… для меня незабвенны. Ум и энергия этого человека всколыхнули все мое существо”.
27 мая Наполеон и спутники его двинулись в дальнейший путь и 29 прибыли в столицу. Там Бонапарт получил известие от военного министерства, что он из артиллерии перемещается в пехоту западной армии. Это было значительно более чувствительным ударом для него, чем перевод в Вандею, и не только потому, что артиллерийские офицеры пользовались большим почетом, нежели пехотные: Наполеон настолько сросся со своим родом оружия, снискал себе им уже славу и почести, что ему казался немыслимым переход в пехоту. Он не успел еще прийти тогда к заключению, что специализация начальствующих лиц армии может принести только вред. Но чем же был бы в действительности пехотный бригадный генерал Бонапарт под начальством Гоша, человека одного возраста с ним? То, что последний со своей славой был ему неудобен, Наполеон доказал немного позже, довольно ироническим пророчеством в салоне мадам Тальен. Он, шутки ради, выдал себя за ясновидца, и все обратились к нему с просьбой предсказать будущее. Среди гостей находился и Гош. Когда он подал ему руку, Бонапарт, с дурно скрываемым злорадством, сказал: “Генерал, вы умрете на своей постели!” Он и не предполагал, что его пророчество действительно сбудется. Наполеон твердо решил не брать должности в западной армии. Этим перемещением он был обязан консерватору Обри, который был выбран в Комитет общественного спасения на место Карно. Будучи старым, медленно подвигавшимся вперед по службе офицером, Обри восставал против быстрых повышений и действовал – иногда чрезвычайно несправедливо – совершенно по своему произволу. К Наполеону он питал личную антипатию. Пятидесятилетний генерал завидовал быстрой карьере двадцатишестилетнего, бывшего к тому же еще монтаньяром.
Но Бонапарт не был человеком, с которым можно было сделать все что угодно. Он отправился непосредственно к военному министру и спросил его о причине столь несправедливого к нему отношения. Обри, со своей стороны, указал на свой почтенный возраст, но Бонапарт дал ему чисто солдатский ответ: “На поле сражения быстро стареешь!” Но это, однако, не изменило решения Комитета общественного спасения. Тщетно стучался Наполеон во все двери, тщетно старался влиятельными связями расположить к себе Обри. Все было напрасно. Обри отвечал только одним: “Слишком молод! Всех генералов нельзя поместить”. Наполеон никогда не думал, что ему придется так упорно бороться. Его друг Фрерон вспоминает об этом домогательстве в своих “Исторических мемуарах” и замечает: “Бонапарт употребил на покорение Италии меньше времени, чем на те шаги, которые он делал, чтобы добиться справедливости у комитета. Ему было легче столковаться с королем Сардинским, герцогом Меденским, инфантом Пармским, великим герцогом Тосканским, королем Неаполитанским и даже с папой, чем с Обри”.
И правда. Но что же оставалось делать? Единственный выход, остававшийся Наполеону, был – выждать время и ход событий. Он подал рапорт о болезни. Уже 23 июня 1795 года он пишет Жозефу: “Я назначен бригадным генералом в западную армию, но не в артиллерию. Я болен и должен испросить отпуск на два-три месяца. Когда я выздоровею, я посмотрю, что можно будет сделать”. Он исполнил свое намерение и 12 июня подал прошение, приложив к нему свидетельство военного врача Марки. Отпуск ему дали. В это же время Бонапарт, очевидно, с целью показать вид, что он намерен отправиться в свою бригаду, в Вандею, послал туда своих лошадей; но по дороге они были захвачены игуанами.
Все свои надежды он возлагал на отсрочку. Он надеялся извлечь какую-нибудь пользу из политических событий. Повсюду говорили о предстоящем кризисе, который сразу изменит положение вещей. Это укрепляло его надежды.
Положение его было, однако, все же незавидным. Восстание монтаньяров 1 прериала III года (21 мая 1795 года), к партии которых принадлежал Наполеон, потерпело фиаско, как и первое, бывшее 12 жерминаля (1 апреля). Бонапарт, как мы знаем, был в то время не в Париже, а в Шалоне, но некоторые из его друзей, среди них Саличетти и Альбитт, были скомпрометированы этим событием. Им пришлось бежать, чтобы не попасться в руки Конвента. Саличетти нашел убежище у мадам Пермон, жившей в Париже с 9 термидора. Она взяла его к себе, переодетым слугою, и таким образом спасла от смерти. Все это, конечно, не способствовало улучшению положения Бонапарта, уже раз скомпрометированного при падении старшего Робеспьера. Приехав в Париж, он нашел там совсем не то, чего ожидал. Все революционные принципы, казалось, исчезли. Речь заходила, правда, о восстановлении Конституции 1793 года, но Конвент был очень далек от осуществления этого намерения. Все стремились к покою, к наслаждению жизнью и высказывались против каких бы то ни было переворотов, 9 термидора перевернуло все вверх дном. Единственною возможностью обеспечить себе будущее было для Наполеона покинуть партию радикалов и примкнуть к термидорцам.
Стать в Париже на твердую почву Бонапарту было очень трудно. Без связей, без денег, хотя он и продолжал получать свое генеральское жалованье, он с трудом пробивался в то дорогое время, когда бумажные деньги потеряли всякую ценность. Мармон рассказывает об этом малодостоверном периоде жизни Наполеона: “Мы все втроем очутились в Париже. Бонапарт без должности, я без легального отпуска, а Юно в качестве адъютанта при генерале, которого правительство не желало признавать. Мы проводили время в Пале-Рояле и в театрах, хотя почти не имели денег и никаких шансов на будущее”.
Наполеон встретил в Париже своего старого друга Бурьена. Последний около этого времени вернулся в столицу из Германии. С ним-то, как и в 1794 году, Бонапарт попробовал снова заняться спекуляцией домами. На сей раз они поставили на карту даже те немногие деньги, которые были у них, и Наполеон потерял все свои ассигнации, привезенные из армии. Даже тех двух тысяч шестисот сорока франков, которые он получил 15 июня от правительства в качестве прогонных, хватило очень не надолго, в то время, когда все стоило втридорога. Он, правда, жил очень скромно. Занимал комнату в три франка в неделю, и весь стол его состоял из чашки кофе утром и ужина за полтора франка.
Неудачи обескураживали его. Но и он, несмотря на свое неопределенное положение, вселявшее в него заботы, был воодушевлен общей радостью по поводу вновь обретенной свободы передвижения и мысли. Он заводил знакомства; вращался в влиятельных салонах и посещал публичные празднества. Его проницательный ум находил в новом, преображенном Париже, жившем в каком-то опьянении, широкое поле и массу материала, которым он наполнял свои письма Жозефу, рисуя ему интересные картины столичной жизни.
“Роскошь, удовольствия и искусство, – пишет он 24 мессидора III года (2 июля 1795 г.·); – снова господствуют в Париже… Аристократическое общество… Все направлено к тому, чтобы развлекать людей и услаждать хоть немного их жизнь. Стараешься отогнать от себя мрачные мысли. Да и разве было бы возможно предаваться печальным размышлениям при этой невероятной затрате духовной энергии, в этом диком хаосе? Женщины царят повсюду: в театрах, на прогулках, в библиотеках. Прелестные фигурки посещают кабинеты ученых. Из всех стран земного шара лишь здесь женщины умеют господствовать, поэтому-то и мужчины все без ума от них. Женщине достаточно пробыть в Париже полгода, чтобы понять, какой властью и силой она обладает”.
Если Бонапарт, в душе не находивший никакого удовольствия во всех развлечениях, представлявшихся ему в Париже, принимал в них все-таки участие, показывался во всех публичных местах и завязывал сношения с влиятельными лицами, то на это у него были свои соображения. Барра и Фрерон играли крупную роль. Он знал их еще из Тулона, и они были к нему всегда расположены. Фрерон даже имел одно время намерение стать его шурином. Заслуги, оказанные в то время Бонапартом отечеству, должны были теперь принести ему пользу. И он не ошибся: Июль был для него счастливее предыдущего месяца.
Итальянская армия под начальством Келлермана потерпела тяжкое поражение и находилась в жалком состоянии. Ни правительство, ни генералы армии не могли спасти ее от распада. Только когда место жирондиста Обри в Комитете общественного спасения занял умный и осторожный Дульсе де Понтекулан, появилась надежда на улучшение. Он понял тотчас же все положение дел. По его мнению, недоставало только искусного офицера, который мог бы составить хороший план действий. Но где же найти такого? Келлерман был, правда, хорошим солдатом, энергичным и решительным, но командовать огромной армией – превосходило его военные способности и силы. Еще меньше был он способен на составление обширных планов.
Понтекулан обратился за советом к чрезвычайно влиятельному Буасси д'Англа. Последний обратил его внимание на молодого артиллерийского генерала, который был превосходно знаком с положением итальянской армии, так как только что приехал оттуда. Он говорил о Наполеоне Бонапарте. Дульсе де Понтекулан тотчас же вызвал офицера в Комитет общественного спасения. Наполеон имел здесь несколько бесед с членами комитета. Все они поразились его точными выкладками, его точному взгляду относительно необходимых путей к покорению Италии и главным образом его разносторонним познаниям и взглядам. Дульсе тотчас же назначил его в топографическое бюро.
В начале термидора – между 25, и 28 июля – Бонапарт принялся за работу. Первым делом он написал для Келлермана и для Шерера – оба они были неспособны к составлению обширного плана военных действий – знаменитые “Mémoire sur l'armée d'Italie” и “Mémoire militaire sur l'armée d'Italie”. Вслед за этими работами последовали различные “инструкции” генералам итальянской армии. Но ни Келлерман, ни Шерер не были способны привести в исполнение этот грандиозный план. Самому Бонапарту было суждено годом позже осуществить свои великие идеи, изложенные им отчасти уже в этом плане военных действий.
Смело развивал он свои мысли и в вышеупомянутых сочинениях. В противоположность его плану 1794 года он предлагал вести войну не в Германии, а на итальянской территории. За это время политическое положение Франции совершенно изменилось благодаря перемирию с Пруссией и предстоявшему миру с Испанией. Единственными врагами на континенте оставались теперь Австрия и Пьемонт.
Главный интерес свой Бонапарт устремил на Вадо, – а впоследствии на Каркару и Савону. Взятие этих пунктов он считал наиболее важным. Далее, было необходимо отрезать австрийцев и пьемонтцев и отбросить их к Александрии, чтобы затем сразу обрушиться на пьемонтцев и вынудить у них мир путем угрозы похода в Турин, с которым была связана судьба монархии.
Уже в этом походе, по мнению Бонапарта, республиканское войско проникло бы до Турина, а затем, соединившись с рейнской армией, прошло бы в наследственные владения Австрии до стен Вены. Там уже можно было продиктовать императору условия мира. Лишь такой исключительный военный гений, как Наполеон, мог составить подобный план. Его проницательный взор предвидел с изумительной безошибочностью весь ход вещей и сумел тотчас же извлечь из него наивозможно большую выгоду. Перед ним не был, правда, незнакомый ему враг и незнакомая страна. Продолжительное изучение топографических и политических условий театра военных действий и военной тактики австрийцев и итальянцев обусловливали, конечно, это зрелое мышление и благоразумное предвидение всех возможных случайностей. Он ответил Дульсе де Понтекулану, когда тот посоветовал ему более зрело обдумать смелые предположения, не торопиться и спокойно изложить их на бумаге: “Не торопиться? Мне времени нужно немного. Мой план уже настолько созрел у меня в голове, что мне достаточно получаса, чтобы развить все детали. Перо и два листа бумаги, – вот все, что я у вас прошу”. План Бонапарта подвергся обсуждению членов комитета и был найден правильным во всех своих подробностях. Когда же его послали на усмотрение Келлермана, тот якобы выразился: “Автор этого плана кандидат в дом умалишенных”.
Новейший военный историк граф Максимилиан Йорк фон Вартенбург, наиболее компетентный из всех критиков военных сочинений Наполеона, говорит об его плане 1795 года: “С непоколебимой верой в непогрешимость своих планов, свойственной лишь истинному гению или полнейшей бездарности, он считает успех несомненным и смелыми штрихами рисует его результаты. Но широта его взгляда доказывает лишь, что его самоуверенность – самоуверенность гения, так как бездарность всегда ограничена: лишь истинному военному гению дана та живость фантазии, которая тотчас же предвидит все, что можно извлечь из данного положения вещей. Наполеон указывает здесь, как после вынуждения мира у пьемонтцев завоевать Ломбардию, продвинуться до Турина, соединиться там с рейнской армией и, проникнув в сердце австрийской империи, продиктовать условия мира”.
Наполеон был теперь поглощен неутомимой работой, – он просиживал иногда до трех часов ночи в топографическом бюро. Он мог быть доволен: число его друзей и покровителей возрастало. 19 августа (3 фрюктидора) он был официально назначен заведующим топографическим бюро. Он не преминул, конечно, воспользоваться случаем и позаботиться о своих собственных интересах. Нужно было ковать железо, пока горячо.
Прежде всего необходимо было постараться, чтобы его перевод в пехотные генералы вандейской армии был отменен. 18 термидора (5 августа) он подал в Комитет общественного спасения оправдательную записку, в которой энергично требовал своего возвращения в артиллерию. Он не забыл при этом упомянуть о тех заслугах, которые он оказал во время двух походов и в бытность начальником артиллерии под Тулоном, инспектором побережья и артиллерийским генералом итальянской армии. Лишь на основании составленного им плана армия могла овладеть Саорджио и Онеглией и лишь благодаря ему разбить неприятеля при Керо. Свою защитительную записку он заканчивает словами:
“Если генерал Бонапарт исключен из списков артиллерии, то это произошло без всякой причины, лишь по настоянию нескольких интриганов. Они всегда старались опутать своими интригами всех способных людей. И это они называют ведением войны!
Генерал Бонапарт ожидает справедливости членов Комитета общественного спасения, которая вернет ему его прежнее положение. Он надеется, что они избавят его от тяжелой скорби и не дадут ему увидеть свое место занятым людьми, которые всегда оставались в тени, были далеки от наших побед, чужды нашей армии и обладали достаточным бесстыдством, чтобы воспользоваться плодами победы, не подвергаясь при этом ни малейшей опасности!”
Это несомненно было отчасти преувеличено, но Бонапарт полагал, что для того чтобы достичь чего-нибудь, необходимо нарисовать положение вещей самыми черными красками. Он надеялся на блестящий успех своей записки, рассчитывая главным образом на расположение Дульсе де Понтекулана.
Тем временем отпуск его кончился. Он не постарался даже возобновить свое свидетельство о болезни. В один прекрасный день он получил категорический приказ от Исполнительной комиссии тотчас же отправиться в западную армию: если он все еще болен, то пусть позаботится о заместителе, – или же он будет немедленно исключен из списков армии.
Бонапарт твердо решил не повиноваться этому приказанию. Как, неужели же должен он служить простым пехотным генералом, – он, автор исполинских планов, он, которому правительство должно было всецело пойти навстречу? Нет, на это он не согласен. Хотя благодарности, правда, как известно, в этом мире не существует. Самое лучшее делать то, что зависит от тебя, и довольствоваться собственным удовлетворением. Тем самым не становишься, по крайней мере, лжецом и льстецом – не ожесточаешься, не испытываешь желания мести и не совершаешь никаких преступлений. В этом смысле он и написал 30 термидора (17 августа 1795 года) своему старому другу Сюси. Он жалуется ему: “Меня назначили пехотным генералом в вандейскую армию. Но я не приму этого назначения. Тысячи других офицеров умеют лучше меня командовать бригадой, но очень немногие могут сравниться со мною в руководстве артиллерией. Но я все же испытываю удовлетворение, что причиненная мне несправедливость с горечью чувствуется теми, которые ценят мои заслуги”.
Возможность остаться без всякого дела жестоко мучила Наполеона. Правда, он приобретал в топографическом бюро все большее и большее уважение, но был вовсе не создан для того, чтобы целыми днями просиживать в канцелярии, – его место на поле сражения! Ему пришло в голову использовать свои военные познания и опыт в войске султана. В сущности говоря, мысль эта тремя месяцами ранее исходила от его брата Жозефа. В то время Наполеон отсоветовал ему и сказал: “Франции в чужой стране не найдешь, подыматься со ступеньки на ступеньку не путь для человека, который хочет добиться своего счастья”. Теперь, однако, он сам ухватился за эту мысль. Париж не прельщал его больше. Занять, однако, постоянное место в турецкой армии никогда не приходило ему в голову. Чтобы не служить в Вандее, он воспользовался случаем, когда султан попросил Францию прислать несколько артиллерийских офицеров, которые должны были реформировать его артиллерию, находившуюся в чрезмерно примитивном и запущенном состоянии. Султан очень спешил, так как готовился к войне с Россией.
30 августа 1795 г. (13 фрюктидора III года) Наполеон исполнил свое намерение, подал соответственное ходатайство Комитету общественного спасения и приложил к нему записку об усовершенствовании турецкой артиллерии. На полях прошения члены комитета Дульсе де Понтекулан и Жан де Бри сделали свои заметки о генерале Бонапарте. Они выразили высшую похвалу услугам, оказанным им отечеству, его способностям и познаниям и, казалось, имели в виду побудить правительство не отсылать этого способного офицера за границу, а оставить его лучше во Франции, которая так нуждается в талантах и силах. Очень возможно, что это свидетельство было внушено непосредственно Бонапартом и что все было лишь искусным маневром для обращения на себя внимания.
Во всяком случае Наполеон был полон надежд: будущее рисовалось ему в розовом свете, и он надеялся даже вернуться на прежнюю должность. Главным образом он был, однако, убежден в том, что останется в топографическом бюро.
Между прочим, его занимали и планы женитьбы и основания своего домашнего очага. Его брату Жозефу “повезло”: он женился на богатой девушке, дочери марсельского суконного фабриканта Kлари. Почему же бы и ему, Наполеону, на стороне которого гораздо больше преимуществ, не добиться того же? Давно уже он засматривался на невестку Жозефа, Дезире (Эжени) Kлари. Он познакомился с этой шестнадцатилетней хорошенькой девушкой в Марселе и был полон иллюзий. Он рассчитывал занять дом в Париже и другой в окрестностях и приобрести трех лошадей и кабриолет, который он потребовал от военной комиссии и действительно подучил. Но, хотя Дезире и не имела ничего против этого брака, и даже отвечала Наполеону взаимностью, как явствует из ее писем, нежных и поистине полных искреннего чувства, партия эта все же вскоре расстроилась. Потому ли, что на разрыве настояли родители хорошенькой девушки, или же у самого Наполеона появилось другое намерение благодаря обществу, в котором он проводил время в салонах мадам Тальен, мадам Пермон, у Уврара и Барра, – доподлинно ничего не известно. Факт лишь тот, что он почему-то очень спешил осуществить свои матримониальные планы, так как в начале сентября писал Жозефу: “Если я здесь останусь, то возможно, что я скоро женюсь… Было бы очень недурно, если бы ты поговорил об этом с братом Эжени. Сообщи мне о результатах, и все будет сделано”. Уже на следующий день он снова писал: “Подумайте о моем деле; я не успокоюсь до тех пор пока не устрою себе семейного очага… история с Эжени должна либо решиться в благоприятном для меня смысле, либо же кончиться”.
Но потом неожиданно гимн Дезире смолкает в его письмах. Ее имени он больше не произносит. Почему?.. Дезире это было, по-видимому, крайне тяжело. Отчаяние звучит в ее письме, с которым она обратилась к Наполеону после его женитьбы на Жозефине: “Так вы, значит, женились? И бедной Эжени не позволено больше любить вас и думать о вас?.. Мое единственное утешение теперь сознавать, что вы убеждены в моем постоянстве. Я думаю теперь только о смерти. Жизнь для меня страшная мука с тех пор, как я не могу ее посвятить вам”. Вы женаты! Я не в силах свыкнуться с этой мыслью, она убивает меня… Никогда не буду я принадлежать другому!” Бедная Дезире! Ей была суждена другая блестящая участь на троне, на троне, который должен был пережить трон Наполеонидов.
Наполеону вскружили, вероятно, голову прекрасные женщины Парижа, которые одни лишь понимали, “какая власть в их руках”. Все их роскошные туалеты, обворожительные фигурки, розовые губы, блестящие глаза и изящный диалог были настолько обаятельны, что он забыл ради них маленькую провинциалку. Но мысль о женитьбе была настолько серьезна, что он даже сделал предложение подруге своей матери, недавно овдовевшей мадам Пермон. От нее, по-видимому, он получил отказ. Вслед за нею он попытал счастья у мадам де ла Бушарди, будущей мадам де Леспарда.
Тем временем его ждала новая неприятность. В тот самый день, 15 сентября (29 фрюктидора), когда было удовлетворено ходатайство Наполеона об отсылке его в Константинополь[36] и комитет назначил уже офицеров для сопровождения его,[37] прибыло также известие от артиллерийского бюро военного министерства, что генерал Бонапарт вычеркнут из списков армии. Причиной этого послужил его отказ отправиться в западную армию. Таким образом, Наполеон потерял и свою должность в топографическом бюро.
Такие меры он приписывал изменившейся ситуации в Комитете общественного спасения. Его друг и покровитель, Дульсе де Понтекулан, 15 фрюктидора (1 сентября) был заменен Летурнером, а последний был очень мало расположен к молодому генералу. В сущности, исключение Наполеона из списков армии имело свои основания, так как что стало бы с войском, если бы, особенно в те беспокойные времена, каждый офицер поступал, как он?
Он сам отнесся ко всему этому гораздо легче, чем можно было предположить. Жозефу, которому он обычно сообщал подробно о всех эпизодах своей жизни, он совсем ничего не пишет об этом. Его занимали надвигавшиеся политические события. Быть может, он уже заранее предвидел в них свое будущее! Его непоколебимая самоуверенность служит доказательством этого. И, действительно, между 29 фрюктидора и 13 вандемьера прошло ведь всего восемнадцать дней!
ГЛАВА X. ТРИНАДЦАТОЕ ВАНДЕМЬЕРА IV ГОДА
(5 октября 1795 года)
Национальный Конвент сменил Законодательное собрание. Последнее дало республиканской Франции законы, которые Конвент должен был развить и укрепить. 26 октября 1795 года (4 брюмера IV года) он объявил свою деятельность законченной. Но до своего роспуска он поручил комитету выработку новой Конституции, важнейшими пунктами которой были:
Каждый француз, достигший двадцати пяти лет и уплачивающий прямой, личный или земельный налог, объявляется французским гражданином. Каждые двести граждан избирают членов в выборное собрание; члены эти должны быть собственниками или владельцами имущества. Эти выборные собрания избирают членов законодательной власти, чинов Кассационной палаты и суда присяжных, правительственных чиновников департаментов, президентов, прокуроров и актуариев уголовных и судей гражданских судов.
Законодательная власть составляется из двух палат: Совета пятисот, члены которого должны быть не моложе тридцати лет, и Совета старейшин, состоящего из двухсот пятидесяти человек в возрасте не ниже сорока лет. Ежегодно треть членов заменяется новыми. Совет старейшин принимает или отвергает законы, внесенные в него Советом пятисот. Последний заседал в Тюильри; Совет же старейшин – сначала в Манеже, а со второго плювиоза VII года – в Бурбонском дворце.
Исполнительная власть была передана комитету из пяти директоров, из которых один ежегодно выбывал и заменялся новым. Совет пятисот должен был с этой целью предлагать десять кандидатов, из которых Совет старейшин избирал нового члена комитета. Председателем Директории избирался один из директоров на трехмесячный срок. Директории была вручена безопасность республики как внутри, так и во вне. Она отдавала приказания по армиям, но члены ее не могли занимать должности генералов. Она назначала министров, комиссаров, генералов, агентов и большую часть тех чиновников, которые получали свои должности не по выбору. Постановления Директории обладали лишь тогда силой закона, когда на заседаниях присутствовало, по крайней мере, трое из них. Собиралась Директория в Люксембургском дворце, который охранялся гвардией, состоявшей из ста двадцати человек кавалерии и ста двадцати человек пехоты. Конституция III года страдала некоторыми недостатками. Наибольшим из них был тот, что исполнительная власть была вручена не, как в Англии или Соединенных Штатах Сев. Америки, одному, а пяти лицам. Из боязни, что она может стать орудием законодательной власти, обеим властям не дали возможности согласовать свои действия путем обсуждения того или иного закона. Директория не могла ни предлагать, ни утверждать законов, ни даже опубликовывать их; она, подобно министрам, не имела права присутствовать при совещании палат. В равной мере как Совет пятисот, так и Совет старейшин не могли смещать одного или нескольких директоров. Так как ни законодательная, ни исполнительная власть не имели возможности столковаться друг с другом, та и другая, стараясь провести свое намерение, должны были прибегать к государственным переворотам. В течение 1795–1799 годов Директория произвела два таких насильственных акта против палат, а последние в свою очередь часто восставали против исполнительной власти.
До роспуска Конвент, желая “обеспечить будущее”, издал 5 фрюктидора (22 августа 1795 года) декрет, дополненный 13 фрюктидора. Декрет постановлял, что две трети членов Конвента должны войти в новые органы законодательной власти.
Оба эти декрета возбудили общественное мнение парижан и вызвали сильнейшее волнение. Подстрекаемые смелыми роялистами, писатели и агенты выборных собраний вступили в открытую вражду с Конвентом. Спор этот был разрешен в пользу палат после общего восстания всех секций 13 вандемьера IV года (5 октября 1795 года).
Собрания, избиравшие членов выборных собраний, начались 20 фрюктидора III г. (6 сентября 1795 г.) и занялись тотчас же голосованием Конституции. Конвент не пользовался широкой популярностью, но на основании полицейских сведений правительство было убеждено, что Конституция, за исключением декретов 5 и 13 фрюктидора, будет принята. Так и было: она была принята подавляющим количеством голосов; 48 парижских секций, за исключением предместья Сен-Антуана, отвергли, однако, оба ненавистных декрета.
Волнения в секциях возрастали с каждым днем. Благодаря пропаганде роялистских агентов декреты были отвергнуты не только в самом Париже, но и в провинции. Секция “Ле-Пелетье” была центром, из которого исходили все беспорядки. Она состояла из зажиточных граждан Парижа, защищавших 10 августа I792 года Тюильри против черни. Содействие всех секций в разразившемся вскоре восстании установить очень трудно, так как отчеты о заседаниях сохранились лишь в одной из них.
21 вандемьера IV года (23 сентября 1795 года) были опубликованы результаты голосования в собраниях. Из 958 226 голосов 914 853 высказались за Конституцию, a 41 892 против. Из 958 171 голоса, поданного по поводу декретов, 167 171 был подан за них и 95 373 против. По предложению члена Конвента Бодена Конвент назначил роспуск собраний на 10 вандемьера. Открытие выборных собраний должно было состояться 20 вандемьера, а созыв законодательных палат – 15 брюмера (6 ноября 1795 года).
Несовпадение обоих голосований побудило прессу и секции обратиться против Конвента: секции отказались даже признать результаты голосования. В действительности, однако, дело было не так уже опасно, так как департаменты по большей части принимали все то, что им предлагали из Парижа, а так как декреты их строго отделялись от проекта Конституции, то и за принятие их высказалось значительно большее число голосов.
Брожения в секциях становились все более угрожающими. Подстрекаемое ими население начинало волноваться. “Долой “две трети”! Да здравствует король! Долой Конвент!” – слышалось со всех сторон. В окрестностях Парижа волнения настолько возросли, что Конвент счел нужным для своей безопасности выпустить 3 вандемьера (25 сентября 1795 года) “Прокламацию к парижанам, друзьям свободы и Республики”. Он обвинял в беспорядках “горсть бунтовщиков, анархистов и злодеев” и высказал предположение, что парижане подстрекаются “подлыми роялистами”. Два дня спустя, 5 вандемьера, было опубликовано постановление о наказании председателей и секретарей секций. Это была уже открытая угроза, против которой необходимо было заявить протест. Секция “Ле-Пелетье” взяла на себя ответ на прокламацию 3 вандемьера от имени всех остальных секций. Ответ этот гласил: “Вы возлагаете на нас всю ответственность за вашу безопасность. Прогоните же от себя террористов и не ждите от нас ничего, пока эти господа подле вас. Между жертвами и палачами нельзя достичь соглашения!” Между тем наступило 10 вандемьера, день, когда должно было закрыться собрание секций. Необходимо было во что бы то ни стадо принять решение: единственным исходом было открытое восстание. Повод к нему нашелся скоро в беспорядках, происходивших в Дрё, во время которых было арестовано по приказанию Конвента двое депутатов, отправленных из этой общины в Париж.
“Ле-Пелетье” не заставила себя долго просить и выпустила сообщение об этих событиях, написанное в повышенном, почти торжественном тоне. Ее комиссары описали в других сорока семи секциях события, происходившие в Дрё, и самыми черными красками обрисовали бедствия сограждан. “В Дрё течет кровь, кровь наших сограждан!” – восклицали они. “Сограждане простирают к нам руки. Они кричат нам: неужели вы дадите нас избивать, неужели же руки злодеев и палачей должны проливать беспрестанно французскую кровь, невинную кровь французских граждан?.. Поспешим же скорее на помощь к нашим несчастным братьям! Горе нам, если мы услышим когда-нибудь: парижане дали погибнуть своим братьям, своим друзьям в Дрё, – Париж должен погибнуть!”
Вслед за этим секция “Ле-Пелетье” назначила на 11 вандемьера (3 октября 1795 года) собрание выборщиков парижских общий во Французском театре, находившемся тогда на той самой площади, на которой стоит теперь Одеон. Собрание это должно было опротестовать постановление палат и охраняться вооруженной национальной гвардией.
Собрание было, однако, немноголюдное – на нем присутствовали всего лишь восемьсот скудно вооруженных выборщиков – и не пришло ни к какому определенному решению. Но несмотря на очевидную неудачу, несколько из собравшихся секций высказались за возмущение и решили не признавать вообще никаких законов Конвента. Возбуждение умов достигло крайних пределов, и секции стали готовиться к борьбе. Париж был охвачен пламенем восстания. Все магазины закрылись, раздались звуки генерального марша, и солдаты национальной гвардии взялись за оружие.
Правительство назначило комитет из пяти своих членов, который должен был предпринять меры ввиду серьезного положения вещей. Членами этого комитета были: Летурнер, Марлин, Дону, Барра и Колломбель. Вызвав в Париж военное подкрепление, они решили захватить на следующий день (12 вандемьера) секцию “Ле-Пелетье” и обезоружить ее членов. “Лучшего средства, – говорит Барра в своих мемуарах, – поразить таких противников (граждан, подстрекаемых роялистами), как противопоставить им их естественных врагов, патриотов, арестованных после реакции 9 термидора, не было!”
Главное начальство над войском, которое было поспешно усилено вооруженными гражданами, оставшимися верными правительству, было поручено генералу Мену. Мену, умеренный республиканец, был хотя и чрезвычайно храбрым солдатом, но не обладал решительностью, безусловно необходимой в гражданской войне. Кроме того, он был недоволен присутствием террористов в своем войске, – “мошенников и злодеев”.
Когда 12 вандемьера граждане узнали о вооружении “патриотов 89-го года”, “кровопийц”, – ими овладела паника и страшная злоба; все взялись за оружие, готовые стереть с лица земли террористов. Во главе восстания стояла секция “Ле-Пелетье”.
Таково было положение дел вечером 12 вандемьера. Вместо того чтобы энергично выступить против бунтовщиков, Мену либо из мягкосердечия, либо же питая предательские замыслы, вступил в переговоры с вожаками восстания и угрожал даже, по сообщению Барра, казнить своих собственных солдат, если они осмелятся выступить против добрых граждан секции “Ле-Пелетье”.
В конце концов было достигнуто соглашение, в силу которого обе стороны должны были отступить. Но не дожидаясь отступления противника. Мену увел своих солдат, как только секции выразили свое согласие. Но едва только правительственные войска отступили, как секции в полном составе вернулись на площадь и овладели ею. Этот недостаток решительности у главнокомандующего войсками был равносилен для правительства крупному моральному поражению, из которого противники легко могли извлечь для себя пользу. Когда поэтому Конвент, заседавший непрерывно, узнал о событии, он тотчас же приказал арестовать Мену.
Но едва распространилось известие о нападении правительственных войск на секцию “Ле-Пелетье”, как на помощь поспешили вооруженные граждане всех секций. Восставшими секциями командовал генерал Даникач, исключенный из армии в 1793 году. Он был избран ночью с 12 на 13 вандемьера.
Положение правительства было в высшей степени критическое. Количество войска доходило всего до пяти тысяч человек, между тем как на стороне противников было свыше двадцати пяти тысяч вооруженных людей. Генерал Мену вместе с бригадными генералами Депьерром и Дебара были смещены, а лучшие генералы находились на границах Франции. Кому же можно было поручить начальствование над войском? Благодаря решительному поведению Барра 9 термидора, его антироялистским воззрениям и главным образом благодаря его известному красноречию в заседании Конвента было произнесено его имя. Предложение, исходившее от Бентаболя, было принято с большим сочувствием. В четыре с половиной часа утра 13 вандемьера последовало его назначенце главнокомандующим парижским войском и всей внутренней армией, а в семь с половиной часов решение Конвента было утверждено. Депутаты Дельма, Лапорт и де Фентеней были прикомандированы к новому начальнику. К находившимся в Париже, лишенным звания генералам и высшим офицерским чинам было выпущено воззвание. Многие из них тотчас же предложили свои услуги Конвенту. Среди них находился и генерал Бонапарт, уже несколько месяцев проживавший без определенных занятий в Париже.
Барра сомневался в своих способностях для выполнения серьезной задачи. Ему нужен был офицер, который мог бы помочь ему своими познаниями и своими советами. Выбор его пал на Бонапарта, которого он знал еще по Тулону и высоко ценил. Обращение к Наполеону от 11 вандемьера доказывает, что Барра еще в тот день имел намерение использовать способности молодого корсиканского генерала. Обращение это гласило: “Гражданин Бонапарт приглашается явиться завтра в десять часов утра по важному делу к гражданину директору Барра в Шейло”.
Степень участия Наполеона в событиях 13 вандемьера, в важнейшем поворотном пункте всего его жизненного пути, в дни, когда он сразу стал политической личностью, с точностью не может быть установлена. Необходимо, однако, попытаться представить сыгранную им в этот день роль в возможно более верном освещении. Обратимся же поэтому прежде всего к собственным словам Наполеона, продиктованным им на острове Св. Елены:
“Наполеон, руководивший уже несколько месяцев движениями республиканских войск, находился в театре Фейдо. Увидав, что войско Конвента отбито, он поспешно отправился в зал заседаний Конвента, чтобы посмотреть, какое впечатление произвело там это известие. Кроме того, он решил зорко следить за дальнейшим ходом событий.
Конвент был охвачен сильнейшим волнением. Для собственного оправдания народные представители прежде всего сочли нужным обвинить Мену. Они назвали предательством то, что было лишь следствием неумения и неопытности. Он был арестован. Вслед за этим на трибуну стали подниматься один оратор за другим и указывать на грозящую опасность.
Известия, получавшиеся ежеминутно от секции, доказывали, насколько она в действительности была велика. Каждый депутат предлагал от себя генерала, который казался ему наиболее подходящим для замены Мену. Термидорцы предложили Барра, но другим партиям он был неприятен. Все бывшие под Тулоном и в итальянской армии, а также и члены Комитета общественного спасения, находившиеся постоянно в соприкосновении с Наполеоном, предложили его, как наиболее способного. Своим умом, своей энергией и своим умеренным темпераментом он предотвратит опасность. Мариотт, находившийся на стороне умеренных и бывший одним из влиятельнейших членов Комитета сорока, поддержал эту кандидатуру. Наполеон сам замешался в толпу. Он слышал все и уже целых полчаса раздумывал, что ему делать. Наконец он решился и отправился в комитет. Там он категорически заявил о невозможности руководить таким важным предприятием вместе с тремя депутатами, которые пользуются своей фактической властью и тормозят все распоряжения генерала. Он добавил к этому, что сам был свидетелем событий на улице Вивьен. Главным виновником поражения был там комиссар, который только что выступал перед собранием в качестве обвинителя. Смутившись этим показанием, но не будучи в состоянии уличить комиссара, комитет решился ради общего спокойствия – нельзя было терять ни минуты – выставить кандидатуру Барра, а Наполеона назначить вторым начальником. Таким образом, удастся избегнуть участия этих трех комиссаров”.
Этому сообщению Бонапарта нельзя, однако, придавать особой веры, отчасти потому, что Наполеон при составлении своих мемуаров прежде всего был озабочен впечатлением, которое они должны были произвести на потомство, отчасти же потому, что в его собственных интересах было придать своей деятельности более крупное значение.
За это говорят не только свидетельства Тибодо и Дульсе де Понтекулана, двух людей, чрезвычайно расположенных к Наполеону, но и протоколы Конвента и сообщения “Монитора”, где вообще не упоминают его имени.
Понтекулан, правда, не отрицает, что Наполеон мог отправиться в Конвент, хотя он уже целый месяц не работал в топографическом бюро и был вычеркнут из офицерских списков; его связи, однако, могли ему открыть двери Конвента. Но он утверждает определенно, что имя Бонапарта не было упомянуто в заседании 12 вандемьера, и Конвент вообще только после событий 13 вандемьера узнал, что вторым начальником состоит Наполеон. Барра действовал совершенно самостоятельно и в своем донесении от 13 вандемьера не говорил о деятельности Наполеона. Честолюбивому Барра не хотелось ни с кем делиться славою дня.
Из писем Бонапарта к близким ему лицам известно одно, обращенное к Жозефу и написанное 14 вандемьера в два часа ночи, то есть тотчас же после событий. В нем говорится: “Конвент назначил начальником вооруженных сил Барра. Меня комитет назначил вторым начальником”.
15 вандемьера Бонапарт доставил донесение о событиях, которое послужило, очевидно, основой для донесения Барра (13 вандемьера). Отчет Наполеона, совпадающий, впрочем, с содержанием его письма к Жозефу, начинается словами: “13 вандемьера в пять часов утра народный представитель Барра был назначен главнокомандующим внутренней армией, генерал же Бонапарт – вторым начальником”.
Фрерон в своем сообщении, опубликованном 17 вандемьера в “Мониторе”, упоминает, что Бонапарт был назначен в ночь с 12 на 13 вандемьера. На следующий день, 14 вандемьера, Барра просил Конвент утвердить назначение Бонапарта вторым начальником. В своем донесении от 30 вандемьера он говорит, что вторым начальником был им назначен генерал, известный своими выдающимися военными способностями и своей приверженностью Республике.
В мемуарах же, написанных на основании бумаг Барра, утверждается, однако, что Наполеон был лишь его адъютантом и что Барра только впоследствии для укрепления за ним звания второго начальника дал ему этот титул. “Нет ничего легче этого, – якобы сказал он, когда зашла речь о смещении Мену, – у меня есть человек, которого нам недостает: это один маленький корсиканский генерал!”
По свидетельству Фена, Лавалетта, Дульсе де Понтекулана и других, которые написали свои мемуары лишь долгое время спустя после вышеупомянутых событий, Бонапарту было дано звание второго начальника. Совершенно фантастическую историю о назначении Бонапарта сообщает мадам де Ремюза в своих мемуарах. Наполеон якобы признавался ей впоследствии в своей роли в событиях 13 вандемьера и рассказал ей, между прочим, что он тотчас же потребовал пушки.
Циви приводит документ, согласно которому Бонапарт просто-напросто был восстановлен в своем прежнем звании генерала, чтобы иметь возможность вступить во внутреннюю армию, находившуюся под начальством Барра.
Из различных сообщений и из того, что произошло в день и после 13 вандемьера, следует предположить, что Бонапарту хотя и не был официально предоставлен титул “секунд-начальника”, однако в действительности он обладал полномочиями такового. Его искусные и осторожные распоряжения предоставили Конвенту победу над секциями. Относительно этого высказываются единодушно даже и все его противники.
* * *
Конвент заседал в Тюильри. Необходимо было поэтому защищать от восставших секций местопребывание правительства и окрестные улицы и здания. Хотя назначение Барра официально последовало лишь в 4 1/2 ч. утра 13 вандемьера, однако он уже в полночь вместе с Бонапартом и другими высшими офицерами стал готовиться к защите. В то время как Барра стягивал войска, Бонапарт прежде всего постарался укрепить важнейшие пункты вокруг Тюильри артиллерией, которой, к счастью, не было у противников. Он остерегался впасть в ту же ошибку, как король 16 августа 1792 года, который думал, что он вместе с войсками в полной безопасности в своем дворце. Далее Бонапарт приказал офицеру Мюрату, судьба которого впоследствии была столь тесно связана с его деятельностью, – доставить сорок орудий, находившихся в Саблоне. Поручение это Мюрат, к великому удовольствию своего генерала, исполнил в точности, хотя ему и пришлось преодолеть громадные трудности.
Войска Конвента получили приказ не начинать наступления и даже не отвечать огнем на нападение секций. Наступление секций произошло, как и всегда во время гражданских войн, без достаточного порядка, медленно и разрозненно. Лишь к вечеру оба противника выстроились друг против друга, готовые к борьбе. Неожиданно, однако, в четыре часа раздался залп, за ним другой. Кто из обеих сторон первый открыл огонь, с точностью установить не удается. Обе стороны приписывали себе заслугу и обе заявляют, что они выжидали нападения противника. Тотчас же началась рукопашная, но победа осталась на стороне Конвента, так как он не только располагал превосходной артиллерией, но и имел в лице Бонапарта человека, который гениально сумел отдать необходимые распоряжения и провести их на деле.
Что Бонапарт картечью прогнал членов секций и роялистов с паперти церкви Сен-Рош, – легенда, которая возникла лишь впоследствии и не подтверждается ни одним достоверным современным свидетельством. Мадам де Ремюза утверждает, правда, в своих мемуарах, что Наполеон сам говорил ей, будто поставил там два орудия и добавил: “Результаты были ужасающи. Толпа и заговорщики мгновенно рассеялись!” Свидетельство этой женщины настолько малонадежно, следуя бесчисленным ошибкам, найденным в ее мемуарах, что доверять ему безусловно, нельзя.
Перед церковью Сен-Рош действительно произошла стычка, но совершенно не доказано, участвовал ли в ней Бонапарт и вообще произошла ли она с его ведома. Но то, что там происходил артиллерийский бой, хотя и опровергается некоторыми новейшими историками, однако подтверждается несколько лет тому назад опубликованными сообщениями члена Конвента де ла Туша. Последний, однако, не упоминает имени Бонапарта. Правда, де ла Туш не был очевидцем этого боя, но получил точные сведения и тотчас же после события посетил место стычки. Он заявляет категорически, что стрельба происходила из орудия, которым пытались овладеть секции.
В 6 часов Мерлен мог доложить Конвенту, что все нападения удачно отбиты и что войско намерено согнать восставших даже с самых отдаленных позиций. На следующий день, 14 вандемьepa, Бонапарт пишет брату: “Все кончено… Счастье мне улыбнулось”. Относительно потерь обеих сторон в точности ничего не известно, однако они едва ли превышают двести – триста убитых и раненых как со стороны Конвента, так и со стороны секций? Наполеон умышленно преуменьшил свои потери, говоря в упомянутом письме брату: “Мы убили много народа, наши же потери всего простираются до тридцати убитых и шестидесяти раненых”. После столь неудачного нападения на Тюильри секции быстро успокоились. Пленных не было взято, так как Бонапарт не хотел порочить своего имени выдачей их Конвенту, а тем самым, несомненно, и гильотине.
Большинству главарей секций удалось бежать из Парижа, так как Конвент не обладал достаточной властью, чтобы запереть заставы. С членами секций обошлись чрезвычайно мягко. Они без труда были обезоружены 15 вандемьера. Лишь двое зачинщиков восстания, Лафон де Суде и Лебуа, были приговорены к смертной казни. Мену, обвиненный в нерешительности, был оправдан.
Барра за свою победу был утвержден в должности главнокомандующего парижской и всей внутренней армией. Награда Бонапарта состояла в официальном назначении его вторым начальником. 16 октября 1795 года (24 вандемьера) он сделался дивизионным генералом, а после отставки Барра занял его место главнокомандующего внутренней армией.
Наполеон стал теперь героем дня. Его влияние возрастало час от часа, – его расположения добивались все, и те, которые отошли на задний план, благодаря реакции у термидора, толпились теперь вокруг маленького худощавого корсиканца, который лишь недавно казался им смешным со своими странными идеями. Теперь он пользовался всею полнотою власти, особенно в качестве главнокомандующего внутренней армией. Он мог теперь устроить как и где хотел всех своих друзей и знакомых, которым он был хоть сколько-нибудь обязан. Он тотчас же назначил Вильнева батальонным командиром инженерного корпуса, а Рома инспектором обоза. Не забыл он и о своей семье. Жозефу он писал 19 вандемьера (11 октября 1795 г.):· “Люсьен сегодня вечером едет с Фререном в Марсель. Сегодня утром я отправил рекомендательное письмо в испанское посольство. Я не могу сделать больше, чем делаю для других. Прощай, друг мой, я сделал все, что может оказать тебе пользу и способствовать твоему счастью”.
Прежде всего нужно было, однако, укрепить за собою это влияние. Да и каким образом мог сделать это Наполеон, как не с помощью своего гения полководца? Он никогда не упускал из виду своей роли в итальянской армии, и теперь опять его взгляды из Парижа устремились на юг, в Италию, на театр военных действий, откуда должны были прийти вся его слава и все почести!
13 вандемьера послужило поворотным пунктом не только в жизни Наполеона, но и во всей истории Франции. Этот день закончил беспокойное время революции и открыл собою новую эру, в которой судьба страны досталась в руки исключительного по гению и по силе человека. Если бы Конвент был побежден, что было вполне вероятно при несколько лучшей организации восстания со стороны секций, – тотчас же возникла бы анархия, так как вожди восстания ничего не подготовили на случай успеха своего дела.
* * *
27 октября 1795 года (5 брюммера IV года) впервые собралось вновь избранное Законодательное собрание. На следующий день депутаты были разделены на две палаты; так как, однако, лиц в возрасте свыше сорока лет было более двухсот пятидесяти, то членов Совета старейшин пришлось избирать по жребию. Председателем Совета пятисот был избран Дону, председателем же старейшин – Ла-Ревельер-Лепо. 30 октября Совет пятисот представил пятьдесят кандидатов, из которых Совет старейшин, согласно Конституции, должен был избрать пять директоров. Во главе этого списка стояли имена Ла-Ревельера-Лепо, Ребеля, Сьея, Летурнера и Барра. Все остальные были неизвестными, незначительными людьми. Лишь по ошибке в конце списка был помещен Камбасер. Было очевидно, что · в этом отношении члены Конвента старались провести в директора пять первых лиц. Так как времени было очень мало, то Совет старейшин отказался от прений и назначил директорами пять стоявших во главе списка депутатов. Один только Сьей не принял почетного звания. В письме, с которым он на следующий день обратился к председателю Совета старейшин, он заявлял, что его жизнь и его деятельность принадлежат законодательству и что он глубоко убежден в своей неспособности нести обязанности члена Директории.
Его отказ отнюдь не поразил тех, кто знал его странный характер. Они, наоборот, гораздо более бы удивились, если бы он принял предложенное ему звание. Для замены Сьея 3 ноября (12 жерминаля) в Совет старейшин был представлен дополнительный список. Из десяти имен, содержавшихся в нем, были известны лишь имена Карно и Камбасера. Другие же, как и в первый раз, были совсем незначительными людьми. Наконец, 4 ноября место Сьея занял Карно, и Директория была теперь в полном составе.
Из пяти лиц, ставших теперь во главе правительства, выделялся Ла-Ревельер-Лепо, родом из Вандеи. Он избрал вначале карьеру юриста, но разочаровавшись впоследствии в ней, посвятил себя науке. Таким образом, он приобрел много познаний, но ни в чем не специализировался. Он был всем понемногу: и писателем, и философом, и ученым, только не государственным мужем. Будучи мыслителем, философом, публицистом, он изучал историю и проводил все свое время в Ботаническом саду. Естественные науки интересовали его, потому что ими увлекалась его молодая супруга.
Своим характером, своими речами и беседами он производил впечатление чрезвычайно нравственного, мягкого и добродушного человека. Но на самом деле он был фальшив, завистлив и желчен. Его коллега Карно говорит, что он “отвратителен и неприятен”. При этом он имел в виду фальшь Ла-Ревельера и его испорченность. Правда, это мнение не вполне лишено беспристрастности, так как Карно по настоянию трех директоров, Ла-Ревельера-Лепо, Барра и Ребеля, был смещен. Несомненно одно, что Ла-Ревельер-Лепо был чрезвычайно высокого мнения о себе и признавал только свои собственные взгляды и мнения.
Он был злейшим врагом католицизма и упорно преследовал священников. Его религией был деизм без всяких догматов. На место христианства он хотел поставить революционную религию. Руководительницей общественных нравов он считал философию.
Но не все его взгляды были таковы. Самой слабой его стороной было недостаточное знание людей, а ведь именно оно-то и необходимо главным образом для государственного деятеля.
Карно, впрочем, был в значительной мере прав относительно наружности своего коллеги. Ла-Ревельер-Лепо был, действительно, малопривлекателен. Его внешность отражала, казалось, его внутренние качества. В чертах его лица было что-то отталкивающее, а подстриженные под гребенку черные волосы еще более усиливали неприятное впечатление.
В политическом отношении он не всегда был сторонником Республики. Вначале он был роялистом и оставался им до 1791 года, как и многие другие, превратившиеся затем в пламенных республиканцев. Свои политические воззрения он менял вместе с событиями и стал в конце концов одним из тех, которые одинаково боролись и против анархистской, и против роялистской партии.
Он был также одним из одиннадцати авторов Конституции и голосовал за казнь короля. Боязнь контрреволюции толкнула его в лагерь бывших якобинцев. Против восстаний 1 прериаля и 13 вандемьера он восставал, однако, всеми силами.
На голосовании депутатов Ла-Ревельер-Лепо получил наибольшее число голосов, хотя он отнюдь не обладал способностями, которых ожидали от первых людей государства. При других условиях он был бы незначительным, никому не известным чиновником в какой-нибудь заурядной повседневной обстановке.
Ребель был также до революции юристом. На родине, в Эльзасе, он пользовался большим уважением и был членом верховного совета в Кальмаре. Как государственный деятель, он обладал большими способностями и познаниями, чем его коллега Ла-Ревельер-Лепо; прежде всего он был энергичным, трудолюбивым, хотя и корыстным человеком. Наполеон, правда, говорил о нем: “Что бы ни говорили про него, – все-таки, состоя членом Директории, он не нажил себе состояния. Хотя его всегда и окружали поставщики, но он делал это скорее потому, что, в силу своего характера, предпочитал иметь дело со смелыми, предприимчивыми людьми”.
Это мнение, сомневаться в котором нет для нас никаких оснований, так как Наполеон отнюдь не был заинтересован в выдвижении Ребелля, опровергается, однако, показаниями других коллег, за исключением Ла-Ревельера-Лепо. Несомненно, однако, одно: Ребелль был способным, деловым человеком. Не всегда, правда, дела его были кристально чисты. Многие его современники утверждают, что в этом отношении он не уступал даже Барра и умел только искусно и хитро скрывать все концы в воду. В 1792 году он был послан на осаду Майнца в качестве комиссара. Незначительная твердость его характера и неопытность способствовали сдаче города союзникам.
Ребелль был членом Учредительного собрания и Конвента. Во время избрания в Директорию ему было пятьдесят лет. Он был высокого роста, с красивым, свежим, открытым лицом. Его развязные манеры свидетельствовали об его привычке играть роль в высшем обществе. Это не мешало, однако, тому, что порой прорывалась наружу его врожденная грубость, и он становился бестактным и циничным. К тому же он был невероятно высокого мнения о своей собственной персоне и выказывал высокомерие не только по отношению к врагам и противникам, но даже и к своим сторонникам. В политике Ребелль принадлежал к числу архиреволюционеров, которые глубоко ненавидели все, что было связано с духовенством и монархией. Его единственным принципом было убеждение в том, что цели можно достичь исключительно путем энергичной защиты и поддержания революционных интересов. Об умеренности и политическом благоразумии он не хотел даже и слышать. В добродетели людей он не верил. Но ко всем солдатским достоинствам относился с нескрываемым презрением. Карно говорил о нем: “Он был, по-видимому, глубоко убежден, что честность и гражданская добродетель два несовместимых понятия. Он не понимал, как безупречный человек может кинуться в объятия революции”. Вследствие этого Ребелль был постоянно окружен толпой подозрительных лиц, защитником которых являлся благодаря своим взглядам. Но, несмотря на все это, он, после Карно, был наиболее способным и наиболее отвечающим цели из пяти директоров. Своим проницательным умом и развитой способностью суждения он ревностно и добросовестно вникал во все государственные вопросы. Его коллеги старались использовать его познания и взваливали на него все наиболее ответственные, трудные обязанности, особенно же все финансовые вопросы.
Летурнер (из Ламанша) был, наоборот, самым незначительным из всех пяти коллег. Он был инженером и служил в инженерном корпусе. Не имея твердых самостоятельных убеждений, он примкнул всецело к Карно и по большей части голосовал вместе с ним. Он взял на себя урегулирование военных вопросов, в которых Карно сам трудно разбирался.
Летурнер не пользовался особо большим уважением, не отличался выдающимся умом, широкими взглядами и большими способностями. Его избрание удивило очень многих. Наполеон сам говорил, что в Конвенте были сотни депутатов, значительно более достойных, чем Летурнер. Его умеренные взгляды, если вообще у него были таковые, его честный, добродушный характер не могли снискать ему многочисленных друзей в это бурное, беспокойное время. К этому присоединялось еще то, что его жена прежде была горничной. Она мало была способна вращаться в салонах и вести интриги, как этого требовало положение мужа.
Летурнер, однако, твердо верил в свою роль и постоянно гордился своими познаниями, к слову сказать, очень ограниченными в некоторых военных вопросах. 19 мая 1797 года он по жребию должен был уйти из Директории. Ни разу впоследствии его имя не упоминается в истории. Он затерялся, как и тысячи других, в толпе высших, но незначительных чиновников Империи.
Младшим и самым развращенным среди директоров был Барра. Он, по-видимому, призван был играть наиболее видную роль среди своих коллег, но не оправдал возлагавшихся на него ожиданий, хотя и разыгрывал из себя властелина, чуть ли не короля Директории. Наружность его, правда, говорила за это. “Он был высокого роста, сильный, крупный, прекрасно сложен, – читаем мы в мемуарах Ла-Ревельера-Лепо, – с благородными чертами лица, но на последних лежал всегда отпечаток жестокости и гордости. Он был мрачен и редко улыбался”. У него были дурные привычки и ему недоставало изящества. Несмотря на его красивую внешность и мужественное лицо, ему недоставало достоинства, и всегда в своем поведении он обнаруживал самую ординарную вульгарность, встречающуюся лишь в дурном обществе”.
Барра был офицером, воевал в Вест-Индии во время североамериканской освободительной войны и по возвращении вел в Пруссии шумный, рассеянный образ жизни авантюриста. Это-то и послужило причиной его морального и материального упадка. Революция застала его, происходившего из старинной дворянской семьи Прованса, без всяких средств к существованию в мансарде на улице Шам-Флери. Он тотчас же бросился в объятия революции и принял участие во взятии Бастилии. Тем не менее он долгое время оставался в тени. В конце концов он примкнул к партии Дантона и стал членом Конвента. Вместе с Фрероном он был в качестве комиссара под Тулоном и под Марселем и был одним из виновников резни и казней в обоих городах. Воспользовавшись этим, оба достойных мужа увеличили свое состояние на восемьсот тысяч франков за счет государственной казны. Из личной ненависти к Робеспьеру Барра стал термидорцем. Ему удалось добиться некоторой известности благодаря активной роли при низвержении диктатора 13 вандемьера, а кроме того, и благодаря красноречию, отчасти и нахальству и показной храбрости.
В действительности же ему было очень мало дела до блага своих соотечественников и он не старался заботиться об их интересах; несмотря на то, что он постоянно хвастался, что первый проколет мечом упорных и недовольных, он все же всегда избегал подвергать опасности свою драгоценную особу. Впоследствии он снова стал якобинцем и монтаньяром.
Во время избрания в Директорию ему было сорок лет, хотя он и утверждал, что ему всего тридцать восемь.
Барра нельзя отказать в уме, но его рассеянная жизнь не дала ему возможности развить свои способности, и он стал поэтому хотя и богато одаренным, но неустойчивым членом общества. Работать он не любил, но взамен этого обладал большим талантом к интригам и темным делам. Он отличался умением разбираться в запутанных государственных вопросах, иногда умело руководил подавлением восстаний, а его большие голосовые средства и страстные речи выдавали его за энергичного человека. Но это только так казалось. Способностей законодательных у него не было никаких.
Он был человеком без принципов, без убеждений и без веры, – врожденным лжецом и клеветником. Жизнь его была жизнью развратника. Его дом был очагом пороков и излишеств. Женщин, игру и вино он изучил больше, чем все науки, которыми когда-либо занимался. Он одевался с изысканной элегантностью, и его выдающаяся внешность бросалась в глаза всегда еще издали. Огромная шляпа, украшенная тремя перьями, синим, белым и красным, ярко-красный, расшитый золотом камзол с пышным кружевным воротником и синий шарф с золотой бахромой очень шли к его видной, красивой фигуре. При его расточительности ему, естественно, не хватало большого оклада в сто пятьдесят тысяч франков, который он получал в качестве директора. Он, однако, не стеснялся и пускался во всевозможные спекуляции, которые часто бывали во вред государству.
Несмотря на все эти недостатки, Барра оказывал на своих коллег огромное влияние, так что они постоянно повиновались его советам и указаниям.
Карно был сыном юриста из Нолея в департаменте Кот-д'Ор. Он начал свою карьеру инженерным офицером и к началу революции был уже капитаном.
Его положение в Директории было не из приятных. Его коллеги, за исключением, быть может, Летурнера, не любили его. В качестве бывшего члена Комитета общественного спасения он вселял в них недоверие.
Карно с легкостью переходил из одной партии в другую, менял политические взгляды и с равным усердием служил Людовику XVI, и Республике, и Империи в течение знаменитых Ста дней. В законодательном собрании и в Конвенте он был жирондистом, стал потом террористом и в начале Директории – “анархистом”. Впоследствии же он стал исповедовать конституционные взгляды.
Карно не прощали прежде всего того, что он был причиной бесчисленных жертв гильотины, среди которых находилось немало друзей других директоров. Во время господства террора он, будучи членом Комитета общественного спасения, подписал целый ряд смертных приговоров.
Между тем Карно все же оказал отечеству большие услуги в военной области; они, правда, по большей части преувеличены его потомками, тем не менее нельзя отрицать того, что Республика многим обязана ему в отношении превосходной организации республиканской армии. Наполеон, привлекший его впоследствии к своему двору, говорил об его военных способностях: “Карно не обладал военной опытностью. Даже взгляды его на оборону и защиту крепости, а также и его фортификационные принципы и те, которых он придерживался в самой ранней молодости, совершенно неправильны. Он написал много работ, но с ними может соглашаться лишь совершенно неопытный в военных делах человек”.
Тем не менее Карно в умственном отношении значительно превосходил всех своих коллег. Он был неутомимым работником. Его практический ум и умеренные взгляды принесли большую пользу внутренней и внешней политике Директории. Его открытый характер был несимпатичен его коллегам. К интригам он относился с отвращением. У него не было ни алчности Барра, ни высокомерной заносчивости Ребелля, ни жестокости и ханжества Ла-Ревельера-Лепо. Ввиду этого он скоро вступил в конфликт с другими членами Директории.
Как человек, он был очень нравствен. Его любимым занятием была поэзия. Оп писал лирические стихотворения, которые часто ему удавались. Тем не менее он все же не был таким добродетельным, как говорит о нем легенда.
Внешность Карно была заурядна. Он был среднего роста. Бледное лицо, обезображенное оспою, большой нос, белокурые волосы и водянисто-голубые глаза придавали ему чрезвычайно невинный вид: его никогда нельзя было бы принять за ярого революционера. Он сам говорит об этом. Он был большим оригиналом и чудаком, рассеянный, небрежный, всегда погруженный в свои мысли и по большей части одинокий.
После 9 термидора на Карно были взведены тяжкие обвинения. Но он постарался их опровергнуть, примкнув к главарям новых партий. Это поставило его в фальшивое положение, и 18 фрюктидора он окончательно пал.
Пятеро директоров разделили между собою дела управления соответственно своим склонностям и способностям. Ла-Ревельер-Лепо занялся народным просвещением, науками, искусствами и государственными фабриками; Ребелль – организацией финансов и дипломатией; Летурнер – морским ведомством и колониями. Барра взял на себя заботы о полиции и внешнем представительстве, а Карно, вступивший в Директорию после других, посвятил себя военному делу, в котором уже во время Конвента играл видную роль. В общем, границы деятельности каждого директора были очень расплывчаты, так что Ла-Ревельер-Лепо мог по праву сказать в своих мемуарах, что утверждение, будто каждый директор был вполне самостоятелен в своей сфере, неправильно, так как все постановления утверждались общими собраниями. Кстати, нужно заметить, что директора очень часто, как и прежде Конвент, – занимались совершенно второстепенными вопросами, которые им следовало бы поручать своим министрам и чиновникам.
Директорию ожидала огромная работа. Заседания начинались в восемь часов утра и продолжались до четырех часов дня, а в восемь часов вечера возобновлялись и длились иногда до трех-четырех часов утра. Лишь впоследствии, когда дела были несколько урегулированы, ночные заседания были отменены. Прежде всего необходимо было заняться военным делом и провиантированием армии; нужно было изыскать пути и средства для улучшения финансов. Нужно было также назначить целый ряд новых чиновников.
Назначенные Директорией министры не составляли, согласно Конституции, объединенного кабинета, а были совершенно самостоятельны каждый в своей области. Директория руководила ими всеми: она одна была тем истинным министром, который управлял всею Франциею. Те же, которые носили официальное звание министров, были лишь исполнителями воли высшей государственной власти, – механическими орудиями директоров. В числе этих сотрудников правительства, возникшего при столь исключительном положении вещей, были: во главе министерства внутренних дел стоял Бенезеш; он, вероятно, с большим удовольствием занялся бы иностранными делами и, наверное, оказал бы там более ценные услуги. Бывший адвокат Мерлен (из Дуэ) был назначен министром юстиции. Он был, правда, неутомимым работником, но не отличался особенной дальновидностью и не принес почти никакой пользы. Военное министерство досталось после 9 термидора назначенному главнокомандующим западной армией генералу Обер-Дюбайе, хотя и очень храброму солдату, но малоспособному администратору. Делакруа получил портфель министра иностранных дел. Обладая, правда, недюжинными способностями, он все же со своим тяжелым упрямым характером был малопригоден для дипломатии. Финансовое управление было поручено бывшему инженерному офицеру Фенулю. Последний хотя и не был финансовым гением, но достаточно хорошо разбирался в трудных вопросах и добился довольно ощутимых благоприятных результатов. 4 января 1796 года (14 нивоза VI года) было образовано, наконец, и министерство полиции, порученное вначале Мерлену, а впоследствии – Шарлю Кошону.
Открытие деятельности Директории состоялось без всякой помпы и без всякой торжественности. Ла-Ревельер-Лепо описывает в своих мемуарах первое заседание нового правительства.
“11 брюмера, часов в девять или восемь утра, мы, Ребелль, Барра, Летурнер и я, отправились в зал заседания Комитета общественного спасения… Мы взяли с собою несколько листов почтовой бумаги, чернила, перочинный ножик и несколько перьев, – и отправились вчетвером в экипаже, который, согласно Конституции, сопровождала лейб-гвардия из ста сорока человек кавалерии и из ста сорока человек пехоты, в малый Люксембургский дворец.[38] Войско находилось в таком жалком состоянии, что на некоторых драгунах вместо высоких ботфорт были низкие стоптанные ботинки и дырявые чулки.
Все залы дворца были пусты: там не было никакой мебели. После тщетных попыток мы собрались в маленькой комнате. Управляющий дворцом Дюпон велел поставить нам небольшой шаткий стол, одна ножка которого была совершенно сломана, и четыре стула, доставленных из его собственной квартиры. Он одолжил нам еще, кроме того, несколько поленьев дров, так как было невероятно холодно. Только по прошествии четырех или пяти месяцев мы приобрели все самые необходимые вещи как для нужд самой Директории, так и для личных потребностей членов ее.
Положение вещей казалось настолько печальным, что мы не верили в продолжительность нашего политического существования. Ввиду этого никто не вызывался нам помогать. Следует, однако, заметить, что это было вполне естественно, достаточно только дать себе отчет в положении Республики в то время как руководство ею перешло в наши руки.
Национальная казна была совершенно пуста: в ней не было ни одного су. Ассигнации почти не имели никакой ценности, а та, которой они еще обладали, падала каждый день с угрожающей быстротой… Кошельки членов правительства, по крайней мере мой, были так же пусты, как и казна… Оставшись без всяких средств, мы, вернее, моя жена должна была быть сама и кухаркой и горничной. Дочь помогала ей по хозяйству, а я, принимая иностранных послов, должен был играть роль и привратника, и камердинера, и лакея”.
ГЛАВА XI. ДИРЕКТОРИЯ (1795–1799)
I. До 18 фрюктидора V года (4 сентября 1797 года)
В ноябре 1795 года страна находилась в печальном состоянии. Никогда еще в истории не наблюдалось такой погони бедных за богатством богатых, как во время Великой революции! Несмотря на пять миллиардов, которые дала конфискация владений эмигрантов – не говоря уже о движимом имуществе, – несмотря на три миллиарда, поступившие в казну благодаря отнятию земли у клира, несмотря на бесчисленные миллиарды, собиравшиеся комиссарами Республики и командующими армиями путем обложения округов, городов и деревень, – несмотря на все это, Франция переживала страшный денежный кризис!
Благодаря конфискации имуществ, с одной стороны, парализовалась сила производительного капитала, с другой же – был нанесен непоправимый удар потреблению. Работа и творческая сила повсюду ослабели и пришли в сильнейший упадок.
Проникнутые принципами революции, множество крестьян, всю свою жизнь обрабатывавших землю, покинули деревни, стремясь в город. Ради политики то же самое делали и городские рабочие, еще недавно столь трудолюбивые. Крупная и мелкая промышленность пришли в застой, торговля совсем прекратилась, наличные деньги исчезли и приходилось отказывать себе иногда в самом необходимом. Перестали наживать предприниматели, перестали получать заработную плату и рабочие. Доходов из городов и деревень не поступало, и обложение находилось в самом печальном состоянии.
Сельские хозяева чрезвычайно страдали от насильственных мер комиссаров. Они взваливали на “aristocrates des campagnes” тяжелые подати и за ничтожное вознаграждение отнимали у них хлеб и зерно. В действительности же, эти аристократы были лишь мирными, довольно зажиточными крестьянами, считавшимися раньше твердым оплотом государства. Когда они не были в состоянии уплачивать зачастую весьма высокие и произвольные подати, у них отбирали хлеб и зерно. Тем самым наносился вред земледелию, что, конечно, не замедлило оказать своего рокового действия.
Так как промышленность была значительно менее прочна, нежели земледелие, то от революции она страдала еще больше последней. Несколько лет анархии совершенно погубили многие отрасли промышленности, как, например, изготовление мыла. Еще печальнее обстояло дело с торговлей, так как чувствовался недостаток не только в предпринимателях, но и в наличных деньгах. Условия кредита были чрезвычайно неблагоприятны, а процент рос день ото дня. Даже общественным управлениям не хватало денег для производства самых необходимых работ и для отправления неотложных нужд. Доходы государства были очень ничтожны. А об упорядочении финансового управления нечего было и думать, так как граждане не хотели платить налогов. Не существовало ни общественного кредита, ни взаимного доверия; в частных сделках за все платили наличными деньгами или кредитовали за такой высокий процент, что это неизменно должно было привести к гибели торговли. Но печальнее всего была невероятная биржевая горячка, охватившая все массы как бедные, так и богатые, как высшие, так и низшие. Ажиотаж развратил общество, поглотил все государственное и частное достояние и обогатил лишь множество мошенников, которые использовали бессилие закона и общественное презрение к ним. Когда Директория взяла в свои руки бразды правления, общественная касса была почти совершенно пуста, войскам не было уплачено, а чиновники уже долгое время не получали жалованья. В первые дни правления – 6 ноября 1795 года – Директория испросила у Законодательного собрания сумму в три миллиарда, которая и была ей отпущена. Насколько в то время упала ценность ассигнаций, видно из того, что эта огромная сумма равнялась всего двадцати четырем миллионам франков на наличные деньги.
Во время революции население Франции убавилось почти на три миллиона. Причина этого заключается прежде всего в эмиграции и в военных потерях, но так же не одна тысяча кончила свою жизнь благодаря лишениям и голоду, а в равной степени и гильотине. И не только аристократы, богатые и состоятельные люди, по большей части вовремя покинувшие отечество, но даже и люди из низших слоев общества становились жертвами палача. По мнению Прюдома, современника революции, на эшафоте погибло более всего крестьян, рабочих, мелких ремесленников и рантье. Лишь на четвертом месте стоит духовенство и, пожалуй, на седьмом – дворянство и эмигранты! В течение полутора лет – с начала мая 1793 года до конца 1794 года – почти все продовольствие народа находилось в руках правительства, и тем не менее люди все же находились на грани голодной смерти, так как во Франции ощущался недостаток в хлебе и в мясе, двух главных составных частях питания человека. Лишь с трудом парижское муниципальное управление могло выдавать каждому ежедневно по две унции хлеба и по горсти риса. Относительно же других средств существования дело обстояло еще хуже.
История едва ли знает второй такой пример распадения государства, как Франция во время Конвента, – хотя необходимо отдать справедливость последнему: желание водворить порядок было все время налицо.
Все добродетельные нравы куда-то исчезли и служили мишенью для насмешек. Не существовало ни чувства стыда, ни чести, ни морального уважения к религии. Разводы множились с каждым днем. Были разрушены все земные узы, каждый действовал по своему собственному усмотрению. Школы были закрыты, и когда закон 25 ноября 1795 года потребовал учреждения новых училищ и даже основания национального института, то не оказалось ни необходимых денежных средств, ни нужных учебников. Во время революции были сожжены и конфискованы не только все религиозные сочинения, но и целый ряд учебных пособий.
Не было ни адвокатов – большинство их кончило свою жизнь на гильотине, если не успело скрыться, – ни врачей. Больницы находились в ужасном состоянии, их кассы были пусты: не хватало вследствие этого ни медикаментов, ни служащих, ни администрации. На пожертвования граждан, которые прежде делали много для этих учреждений, нельзя было больше рассчитывать.
Повсюду царило величайшее смятение. В промышленности господствовал полный застой, так как все способные носить оружие граждане находились в армии. Дороги, каналы и мосты разрушились, что одно уже причинило огромный вред торговле. Леса были предоставлены грабежам всех и каждого, кому нужны были дрова, а так как в этом не соблюдалось ни порядка, ни системы, то скоро прекрасные французские леса исчезли с лица земли.
* * *
Период Директории чрезвычайно отличался от предшествовавших годов революции. За пять лет – от 13 вандемьера до 18 брюмера – не произошло таких коренных перемен, – мы не говорим здесь о военных и дипломатических событиях, – как за первые шесть лет революции. История Директории является скорее историей экономического быта, историей финансов, жизненных условий и общества.[39] Хотя уже повсюду обнаруживались признаки, говорившие о желании водворить порядок, – возобновлялись отправления культа, – но все же, с одной стороны, не хватало людей, которые действительно были способны водворить этот порядок, с другой же – было чрезвычайно много таких, которые хотели себя вознаградить за эпоху террора, бросались в водоворот бурной жизни и до дна опорожняли чашу наслаждений.
Войны и, пожалуй, больше еще гильотина унесли лучших представителей народа. Во главе правительства не было ни одного человека, которому народ мог бы довериться, так как, помимо Карно и Ребелля, все директора и министры были довольно заурядными людьми, к которым народ относился с небольшим уважением. Недостойное поведение Барра немало способствовало пренебрежительному отношению к правительству.
Ввиду этого, нельзя сказать, чтобы Директория начала свою деятельность при благоприятных условиях. После устранения господства террора и после многочисленных побед над внутренними и внешними врагами Республики никто не хотел верить, что правительство в состоянии упорядочить финансовое положение и изыскать нужные пути и средства для создания лучших условий жизни и прежде всего разрешить наиболее настоятельные вопросы.
Пресса с самого начала была враждебна новому правительству. Ввиду этого директора тотчас же занялись этим животрепещущим вопросом. В закрытом заседании 9 ноября было принято решение издавать газету, чтобы опубликовывать действия правительства, поскольку это входило в его намерения. Руководство газетой было поручено Гара, между тем как составление прокламаций и прочее было передано Реалю, Meгe, Генгене и Антонеллю. Вначале была выдана субсидия “Официальному бюллетеню” Антонелля, но когда последний впал в немилость Директории, правительство абонировалось на десять тысяч экземпляров “Редактора”. Газета эта стала официальным органом правительства. Точно так же субсидировалось и немецкое издание “Редактора”, а также “Journal du Bonhomme Richard”, “La Sentinelle”, “Le Patriote de 89” и “L'ami des loix”.
Во время господства Директории различались главным образом три партии, постоянно враждовавшие между собой: буржуазные республиканцы (партия правительства), демократические республиканцы (бывшие якобинцы и террористы) и роялисты. Власть находилась в руках буржуазных республиканцев. Так как, однако, они были чересчур слабы, чтобы держаться особняком, то по временам им приходилось опираться на одну из остальных партий. Директория более склонялась к демократической – к левой, как мы бы сказали в настоящее время, – чем к роялистам, так как демократическая была настроена столь же антиклерикально, как и правительство. Эта партия исповедовала еще многие взгляды и привычки II года. Она побудила, например, правительство сохранить республиканский календарь и церемонию декады и исполнять в театрах перед началом представления и в антрактах национальные мелодии: “Марсельезу”, “Ça ira”, “Veillons au salut de l'empire”, “Chant de départ” и многие другие. Кроме того, она называла улицы республиканскими именами, заставляла всех носить республиканские кокарды и вместо “мсье” и “мадам” называть друг Друга “гражданин” и “гражданка”.
Наименее национальной партией были бывшие якобинцы, террористы и монтаньяры, называвшиеся “демократической партией”. Противники называли их “Les Exclusifs”. Прежде всего они старались восстановить правительство против роялистов. Они стремились возродить прежнее якобинское общество в лице клубов “Пантеон” и “Реюнион”. Последний, однако, был скоро закрыт правительством. Вождями своими они избрали Феликса Ле-Пелетье и Антонелля, двух бывших аристократов. Целый ряд должностей находился в руках новых якобинцев. Вначале правительство терпело их махинации и следило главным образом за вновь пробуждающимися роялистами, но вскоре оно увидало опасность, грозившую со стороны якобинской партии.
Из-за поражения 13 вандемьера роялисты утратили было свое значение, но мало-помалу вернули себе прежнюю силу. “Во Франции существовали в то время две совершенно различных партии роялистов, – говорит мадам Сталь, – те, что хотели ограниченной монархии, так как она, по их мнению, наиболее благоприятна для общего порядка и свободы, и те, что стремились к монархии, чтобы восстановить старый деспотизм и привилегии. Последние старались извлечь пользу из злоупотреблений, восстановить королевские и религиозные предрассудки и главным образом воскресить старое честолюбие”. Важнейшими газетами открытых и тайных роялистов были: “La Quotidienne”, “L'Eclair ou Journal de la France et de l'Europe”, “Courrier universel”, “Le Thé ou le Contrôleur général”, “Le Véredique”, “Le Postillon de Calais”, “Le Messager”, “Le feuille du jour” и “Le Miroir”. Наиболее влиятельным клубом – клуб в Κλиши.
Первым делом Директории было освобождение Марии Терезии Шарлотты Бурбонской, будущей герцогини Ангуленской, дочери Людовика XVI. Она счастливо избегла гильотины, но все еще содержалась в Тампле.
Уже 24 июня Карлетти, посланник великого герцога Тосканского Фердинанда III, единственный дипломатический агент монарха, родственника Людовика XVI, обратился по этому поводу к Конвенту. Он писал, что в газетах появилось известие, будто участь несчастной принцессы будет облегчена. Он позволяет себе поэтому, от своего собственного имени, не будучи на это уполномочен великогерцогским правительством, осведомиться о состоянии здоровья заключенной. Не почувствовав себя задетым этим письмом, комитет ответил ему 5 июля в уклончивом тоне. Так как Карлетти опасался получить неблагоприятный ответ, то он спустя короткое время после учреждения нового правительства обратился к министру внутренних дел с просьбой разрешить ему посещение “Madame Royale”, так как он слышал, что принцесса должна была в скором времени покинуть Тампль. Министр любезно ответил, что ему ничего не известно относительно освобождения дочери Людовика XVI, но что во всяком случае он передаст его ходатайство Директории. Члены последней были, однако, крайне возмущены просьбой Карлетти, тем, что иностранный дипломат, официально аккредитованный во Франции, осмеливается вмешиваться во внутренние дела страны и предупреждает их собственные намерения. Декретом 1 декабря они порвали всякие сношения с Карлетти и отослали ему паспорта. Вместе с тем они сообщили об этом великому герцогу Тосканскому и добавили, что этот личный разрыв с посланником великого герцога отнюдь не должен омрачить отношении обоих государств и что они во всякое время с радостию примут другого посланника, которого назначит в Париж великогерцогское правительство. Фердинанд III счел наиболее удобным выразить порицание своему посланнику во Франции. Карлетти быстро уехал из Парижа, впал в немилость у великого герцога и был заменен Корсини.
Переговоры с австрийским правительством относительно выдачи бурбонской принцессы начались еще при Конвенте. Они были вначале поручены Пишегрю, но события 13 вандемьера затянули их. Наконец, 27 ноября Директория поручила министрам внутренних и иностранных дел сделать необходимые приготовления для обмена дочери последнего французского короля на Кинетта и некоторых других. 19 декабря, в четыре часа утра, принцесса вышла из Тампля и 24 прибыла в Гюнинген. Несколько дней спустя, 26 декабря, Австрия выдала попавших в ее руки благодаря измене Дюмурье французов Камю, Друэ, Кинетта, Банкаля и Ламарка, а также Маро и Семонвилля, которые были захвачены на границе Тироля, на пути к своим дипломатическим постам в Константинополь и Неаполь.
Следующим достойным упоминания событием в первый период правительственной деятельности Директории было окончание войны с Вандеей. Она велась с 1793 г. между роялистами и войсками Конвента с чрезвычайно изменчивым успехом. Лишь при Директории сопротивление бывших провинций Пуату, Анжу и Бретани было наконец сломлено.
В середине сентября 1795 г. Гош был назначен командующим западной армией и отправился в Нант, чтобы заменить там Канкло. 12 сентября к острову приплыл второй английский флот с войском, подкрепленным роялистами, – первая попытка высадки экспедиционного корпуса, состоявшего из эмигрантов и англичан, потерпела жалкое фиаско в нюне того же года, у Киберона. В этом флоте находился, между прочим, граф д'Артуа.
Гош вполне соответствовал возложенной на него миссии. Он поставил сильные наблюдательные посты вдоль Sevré nantaise, чтобы разделить Стофле и Шаретта, обоих выдающихся вождей вандейцев. Шаретт 26 июня 1795 года снова поднялся, между тем как Стофле, Сапино и Ceпo сохраняли пока нейтралитет либо потому, что завидовали Шаретту, с которым соединился граф д'Артуа, либо же потому, что боялись Гоша.
Со своим обычным умением Гош образовал три колонны, решив направить их на Бельвиль, на главную квартиру Шаретта, но последний со своим корпусом в 9000 человек двинулся дальше на юг, желая перенести туда поле военных действий. По дороге он встретился со слабым отрядом республиканцев, которых, наверное, уничтожил бы, если бы не пришло подкрепление правительственных войск, привлеченных грохотом пушек, и не обратило бы в бегство самого Шаретта. Гош вслед за этим отступил в Судан и, подкрепив значительно свои войска,[40] подготовился к отражению высадки английского экспедиционного корпуса. На острове Э царила величайшая нерешительность. Остров не имел удобных гаваней для судов, а вследствие все более и более ухудшавшейся погоды положение союзников со дня на день становилось все более критическим. Так как ввиду этого флот не мог дольше держаться, то граф д'Артуа решил отступить. Сам он 18 ноября вернулся в Англию, а 26 фримера IV года (17 декабря 1795 г.·) поднял якорь и флот. Англичанам эта экспедиция обошлась по меньшей мере в восемнадцать миллионов; до того они истратили уже двадцать восемь миллионов на экспедицию в Киберон.
Гош приступил к восстановлению порядка в злосчастной Вандее. Не военными действиями и не грубым насилием старался он подавить восстание народа, а своей умной, полумягкой, полустрогой политикой; так как противники не только умели пользоваться оружием, но в то же время обрабатывали свои поля и только по приказанию своих вождей меняли плуг на мушкет, то Гош, для того чтобы заставить их сдать оружие, решил отнять у них скот, земледельческие орудия и хлеб и не возвращать до тех пор, пока они не выдадут ему достаточного количества оружия и военных припасов. Он развесил по всей стране прокламации, содержавшие всего одну фразу: “Сдайте ваше оружие, и вам вернут скот”. Это помогло. К населению он относился с величайшей снисходительностью. Дисциплина, однако, строго поддерживалась, и благодаря этому Гош приобрел много сторонников, особенно среди духовенства, которое он привлекал на свою сторону подарками и разрешением свободного отправления богослужения. В благодарность за это духовенство способствовало его мирным намерениям. Одновременно с этим летучие отряды наводнили собою всю страну, и благодаря превосходной постановке разведочного дела генерал был осведомлен о всех движениях врага. Мало-помалу доверие населения перешло на его сторону; ему было сдано большое количество оружия, отдельные группы населения выразили свою покорность, и крестьяне вновь могли посвятить себя своим мирным занятиям.
Кольцо, которым Гош окружил Шаретта, становилось все теснее и теснее. Предводителю повстанцев удавалось, правда, сбивать аванпосты, но он все же ни за что не мог пробиться сквозь кольцо.
В январе 1796 г. Гош был вызван в Париж для совещания с Директорией относительно новых военных операций. Его враги и роялисты торжествовали, но молодой генерал скоро вернулся в Вандею с новыми расширенными полномочиями. Он стал принимать решительные меры, чтобы окончательно подавить восстание. Еще перед отъездом в Париж с Гошем вступили в переговоры Стофле и аббат Бернье; после возвращения его переговоры возобновились. Они, однако, не привели ни к чему, так как Стофле хотел лишь выиграть время, чтобы затем вновь раздуть пламя восстания.
Последнее было весьма удобно для Гоша, так как теперь он мог открыто выступить против Стофле. Окруженный со всех сторон, Стофле со своими тремястами сторонниками подвергся нападению близ Шемилэ и был разбит наголову. Преследуемый врагами, он нигде не мог найти себе убежища, а число его сторонников падало с каждым днем. В ночь с 24 на 25 февраля он был окружен сильным отрядом в поместье Ла-Согреньер, в Жаллэ и после отчаянного сопротивления, взят в плен. На допросе, в Анжере, он сказал: “Я только роялистский офицер. У меня нет ничего, кроме сабли. Она теперь сломана, и Шаретт сумеет отомстить за меня. Он будет защищаться до последнего”. В эту же ночь был вынесен Стофле приговор, а утром, 25-го, он был расстрелян.
Смерть Стофле закончила гражданскую войну в Верхней Вандее.
Гош обратился теперь против Шаретта, которого несмотря на самые искусные мероприятия поймать не удавалось. Он блуждал из деревни в деревню. И по временам занимал преимущественное положение перед врагом. Даже его сторонники советовали ему вступить в переговоры с правительственными войсками, так как ведь в конце концов сопротивление будет тщетно. Гош предложил ему даже отправить его вместе с семьей в Англию или Швейцарию, но все было напрасно! Распустив часть своей пехоты, Шаретт сделал еще последнюю попытку собрать вокруг себя приверженцев. Между тем срок, данный ему генералом Гратьеном на размышление, истек; Гратьен тесным кольцом окружил Шаретта, и несмотря на мужественное сопротивление большая часть вандейцев была убита или рассеяна во все стороны. Вождю их, однако, удалось спастись бегством с кучкой верных сторонников. Последние, спустя несколько дней, получили подкрепление со стороны населения, около двухсот молодых людей, готовых положить жизнь за своего любимого вождя: в победу его они не могли уже верить.
Еще три недели Шаретт, как затравленный зверь, блуждал по стране, не имея возможности остановиться нигде больше чем на несколько часов, так как опасался, что само население может его выдать врагу. 22 марта 1796 года решилась наконец его участь. Между Гийоньеором и Саблоном он был загнан в тупик республиканским отрядом; он бежал, но попал в руки другого отряда, под начальством генерала Траво, который после отчаянного сопротивления взял его в плен 23 марта, в лесу близ Шарлоттери. Раненого Шаретта отвезли в Нант, где он прежде справлял пышный триумф, предали военному суду и 9 жерминаля IV года (29 марта 1796 года) расстреляли. Он умер спокойно и твердо, как и Стофле. В ответ на слова одобрения духовника Шаретт заявил: “Отец мой, я сотни раз шел на верную смерть. Сегодня в последний раз иду я навстречу ей, и не противлюсь ей, и не боюсь ее”.
Смерть двух вождей восставшей Вандеи избавила правительство от тяжелых забот. Хотя преемником Стофле был избран граф д'Отишам, однако восстание было окончательно подавлено. Через несколько недель должны были сдаться Сепо и Сопино. Немного времени спустя сдался и Жорж Кадуаль, предводитель шуанов. Только Фроттэ, дю-Буаги и Пюисэй не хотели слышать о сдаче и выжидали удобного случая, чтобы снова начать гражданскую войну.
Когда, 16 марта 1796 года (21 флореаля IV года), парижане проснулись, они увидели на стенах города прокламацию, из которой, к своему великому удивлению, узнали, что избегли страшной опасности. Прокламация гласила:
“Граждане, наступающей ночью или завтра рано утром должен быть приведен в исполнение страшный заговор. Шайка воров и убийц намеревается убить всех членов правительства, генерального штаба внутренней армии и всех правительственных чиновников Парижа. Они хотят восстановить конституцию 1793 года![41]
Эта прокламация будет сигналом к грабежу домов, магазинов и лавок и повлечет за собой убийство целого ряда граждан.
Но успокойтесь, любезные граждане; правительство на страже. Оно знает главарей заговора и средства, которыми хотят они воспользоваться для его выполнения… Правительство предприняло необходимые меры, чтобы разрушить заговор и предать мести закона заговорщиков и их верных сторонников”.
Зачинщиком и главарем этого заговора был некий Франсуа Ноэль Бабеф, или, как он себя называл впоследствии, Гракх Бабеф. Родившись в 1760 году в Сен-Квентине, в бедной семье, он стал пламенным защитником угнетенных классов народа. Сам очень несчастный, не признаваемый большинством, он всю жизнь должен был мучиться и гнуть спину, не достигнув того немногого, к чему он стремился: спокойной, скромной жизни. По временам ему приходилось заботиться не только о собственной семье, но еще и о матери, братьях и сестрах. Тем не менее даже во время упорной борьбы за существование он все же улучал часы для занятий науками. В 1785–1788 годах он поддерживал литературную переписку с некоторыми писателями, особенно же с тогдашним постоянным секретарем Академии Дюбуа де Фоссе, который скоро оценил способности молодого Бабефа. Переписка по всей вероятности оборвалась потому, что Бабеф был дающей стороной, а Дюбуа-де-Фоссе хотел только обогатить свои знания на счет корреспондента!
Печальный опыт тяжелой жизни пробудил в Бабефе горькое чувство, которое мало-помалу превратилось в глухую ненависть к богатым, владетельным классам.
Революция немало способствовала развитию его коммунистических идей. С начала ее он вступил в открытую борьбу с имущим классом и в 1790 году основал газету “Le correspondent picard”, которую вел совершенно один. В сентябре 1792 года он был назначен архивариусом управления департамента Соммы, но комиссар Конвента Андре Дюмон, не симпатизировавший ему, сместил его с этой должности. Вместо нее он получил должность окружного инспектора в Мондидье.
Жизнь Бабефа была не лишена ошибок. Нужда толкала его по временам на сомнительные поступки. Так, в Мондидье он был осужден на двадцать лет тюремного заключения за подлог документа при продаже национального имения. Но ему заранее удалось узнать о возведенном на него обвинении, и он якобы изменил имена в договоре при продаже земли, а затем отправился в Париж, где его никто не знал. С трудом нашел он в столице место секретаря в одном из ведомств, что, однако, не мешало ему продолжать развивать свои взгляды в газетах и брошюрах. Тем временем его местопребывание было открыто, и он, по предписанию суда в Мондидье, был арестован и заключен в тюрьму. Оттуда Бабеф стал писать одну оправдательную записку за другой; Конвент обратил на него внимание, и дело его поступило в кассационную палату. Будучи передано в лионский суд, дело было прекращено, так как судьи признали, что оснований к обвинению Бабефа не имеется. Его выпустили на свободу. В настоящее время мы можем сказать вполне определенно, что Бабеф совершил подлог не умышленно, а исключительно по небрежности.
Вернувшись в Париж, Бабеф поступил на прежнее место и посвятил себя публицистике. Он опубликовал сочинение “Du système de population, ou la vie et les crimes de Carrier” и основал “Journal de la liberté de la presse”, который впоследствии получил название “Tribun du peuple ou défenseur des droits de l'homme”. В своих сочинениях он нападал как на Робеспьера, так и на все общество со всею горечью интеллигента, доведенного горем и нуждою до крайности. Полиция обратила на него внимание; его арестовали; он содержался сперва в парижских тюрьмах Орти и Ла-Форс, а впоследствии был переведен в Аррас. Во время своего заключения – арестованные в некоторых тюрьмах могли сообщаться между собою – он нашел людей, разделявших его взгляды, и они-то стали его первыми сторонниками. 13 сентября 1795 года (26 фрюктидора III года) заключенный был переведен из Арраса в Париж, но общая амнистия 26 октября 1795 года (4 брюмера IV года) дала ему свободу.
Недавняя антипатия Бабефа к Робеспьеру сменилась величайшим преклонением перед этим республиканцем. Выйдя из тюрьмы, Бабеф вступил в сношения с бывшими сторонниками Робеспьера и с удвоенным рвением принялся за редактирование своего “Народного трибуна”. Он сблизился с Жерменом, Дидие, Антонеллем, Амаром, Друэ и с итальянцем Филиппо Буанарроти, ставшим впоследствии его верным другом. Приверженцы его, которых называли “Les Egaux”, учредили несколько клубов и регулярно собирались в бывшем монастыре Св. Женевьевы, снятом Феликсом Ле-Пелетье, братом члена Конвента. Там заседал клуб “Пантеон”, который вскоре слился со сторонниками Бабефа. По приказанию Директории, Бонапарт 27 февраля 1796 года (8 вантоза IV года) закрыл этот клуб, члены которого не оказали ему при этом ни малейшего сопротивления.
После закрытия клуба “пантеонисты” тщетно пытались основать новый, выдавая себя за теофилантропов. Этим обстоятельством воспользовался Бабеф для увеличения числа своих сторонников. Вместе с Буанарроти, Антонеллем, Дартэ и Сильвеном Марешалем он в начале жерминаля IV года основал тайную директорию, надеясь, наконец, перейти к делу – к открытому восстанию.
Тайная директория подготовила, вероятно, при близком участии Марешаля, ко дню восстания опубликование своей программы. Манифест этот, однако, не был напечатан, так как был признан тайной директорией чересчур обширным. Он был заменен “Анализом доктрины Бабефа”, который очень ярко воспроизводит идеи этого социалиста.
Важнейшие положения, выставленные в этом “Анализе”, были следующие: “1. Природа дала всем людям равное право пользоваться всеми благами. – 2. Цель общества – защищать это равенство, нарушенное сильными и злыми, и путем содействия всех повышать общественное благосостояние. – 3. Природа возложила на каждого человека обязанность трудиться; никто не имеет права уклоняться от работы. – 4. Труд и удовольствие должны быть общими. – 5. Если человек работает неутомимо и тем не менее терпит нужду, в то время как другой, не делая ничего, купается в избытке, то это должно быть названо угнетением. – 6. Никто не имеет права, не совершая преступления, овладевать исключительным правом на богатства земли или промышленности. – 7. В истинном обществе не должно быть ни бедных, ни богатых. – 8. Богатые, не желающие отказаться от избытка в пользу нуждающихся, враги народа. – 9. Никто не имеет права лишать других образования, необходимого для его блага: обучение должно быть всеобщим. – 10. Целью революции является уничтожение неравенства и достижение общего блага.[42] – 11. Революция не закончена, так как богатые продолжают накапливать сокровища, неограниченно господствовать, между тем как бедные трудятся, как рабы, томятся в нужде и не играют никакой роли в государстве”.
Несмотря на некоторые удачные мысли, содержащиеся в принципах учения Бабефа, оно все же содержало в себе коренные ошибки, которые никогда, даже в случае успеха заговора, не дали бы возможности практически осуществить принципы Бабефа и его сторонников: труд ремесленника и низшего рабочего, которые ежедневно и ежечасно исполняют одну и ту же, быть может, чисто механическую работу, Бабеф ставил наравне с творческим трудом ученого, художника, инженера и вообще с таковым всякого самостоятельно трудящегося и мыслящего человека! Огромное большинство тех, которые развили принципы Бабефа, наверное, первые в будущем государстве убедились бы в ошибке своего учения.
Бабеф и его сторонники старались всеми возможными средствами привлечь на свою сторону солдат и распространяли среди них многочисленные прокламации, имевшие целью побудить их к возмущению. Директория, извещенная о брожении, но не осведомленная подробно о намерениях Бабефа, сочла возможным оставить в столице небольшое количество войска, а два больших отряда отправила в Гренель и Венсенн. В равной мере правительство нашло целесообразным распустить специальный отряд в шесть тысяч человек, известный под именем “полицейского легиона”, и разместить их в других частях войска на границе.
Приведение в исполнение заговора Бабефа было назначено на 11 мая. Но он рушился благодаря донесению капитана Гризеля. Последний получил сведения от агентов Бабефа о задуманном заговоре против правительства и под предлогом желания ознакомиться со взглядами Бабефа вступил в сношения с заговорщиками. В действительности же он хотел только разведать имена зачинщиков, их намерения и местопребывание, чтобы затем выдать их Директории. Он выказывал огромный интерес к задуманному делу, составил прокламацию, предназначенную для солдат и принятую с большим сочувствием сторонниками Бабефа, и сделался наконец членом военного комитета, состоявшего из бывших генералов: Росиньоля, Фиона и Мансара. 12 флореаля IV года (1 мая 1796 года) он донес о заговоре Карно, и на следующий день повторил свои показания в заседании Директории. Несколько дней спустя, 8 мая, у депутата и зачинщика Друэ на улице Сен-Оноре состоялось совещание главных заговорщиков. Хотя Гризель и своевременно известил правительство об этом собрании, настаивая на аресте всех заговорщиков, но по какой-то невыясненной причине полицейские агенты опоздали. Собрание уже разошлось. Полиция застала только Друэ и Дартэ, так что должна была отказаться от ареста, чтобы не дать возможность бежать Бабефу и другим заговорщикам. На следующий день должно было состояться последнее совещание главарей партии. Гризель не знал, однако, места, где оно было назначено, да и до сих пор вообще не проведал местопребывания Бабефа. Последнему приходилось часто менять квартиру, чтобы избегнуть преследования полиции. Благодаря чистой случайности, Гризель узнал в этот же день адрес Бабефа, и последний вместе с Буанарроти и Пелле был арестован, по его собственным показаниям, в тот момент, когда он заканчивал сорок четвертый номер своего “Народного трибуна” и написал как раз слова: “Народ победил! Тирания низвергнута! Вы свободны!..”
В этот день – 10 мая – были арестованы Друэ, Росиньоль, Жермен, Дартэ и другие заговорщики, как раз в то время, когда они совещались о последних приготовлениях к предстоящему восстанию. Та же участь постигла и Амара, Вадье, Шудье и Антонелля.
У Друэ и Бабефа нашли множество сочинений, помогших ознакомлению с задуманным восстанием и облегчивших арест остальных заговорщиков в Париже и в департаментах. Не менее тысячи двухсот рукописей было написано рукою Бабефа или, по крайней мере, имело его подпись. В последнее время он развил невероятную деятельность и превосходно организовал свою партию, которая могла стать чрезвычайно опасной для Директории, если бы среди ее членов не нашелся изменник и если бы она не отделилась от монтаньяров, которыми владело одно лишь желание господствовать.
Министру полиции Кошону Бабеф признался откровенно в своем плане, не выдав, однако, своих соучастников. Он осмелился даже несколько дней спустя написать Директории письмо, начинавшееся словами: “Граждане директора, вы сочтете, наверное, ниже своего достоинства вести со мною переговоры! Вы видели, во главе какой огромной силы стоял я. Вы видели, что моя партия может равняться вашей. Вы видели, какие у нее бесконечные разветвления. Я почти убежден, что факт этот заставит вас содрогнуться. В ваших ли интересах или даже в интересах ли отечества подымать шум из-за открытого вами заговора? По-моему, нет. Что будет, если история эта станет известна всем и каждому? Я сыграл в ней наиболее славную роль. Со всем величием характера, со всей силой, которой вы не можете за мною отрицать, я докажу святость этого заговора… Я разъясню великие принципы и буду защищать вечные права народов… Пусть меня осудят на каторгу или на смерть.
Мой приговор будет в глазах народа тягчайшим преступлением силы против слабой добродетели. Мой эшафот будет воздвигнут рядом с эшафотом Барневеля и Синдея. Уже на следующий день мне воздвигнут алтари там, где сегодня чествуют мученическую память Робеспьера и Гужона”.
Свою красноречивую оправдательную записку он заканчивал словами: “Заявите же, что никакого серьезного заговора не было! Пятеро мужей, выказав свое великодушие, могут спасти отечество! Я гарантирую, что с этого дня патриоты будут защищать вас своею жизнью и что вы для своей защиты не будете нуждаться в войске. Вы знаете влияние, которое я оказываю на патриотов. Я воспользуюсь им для того, чтобы убедить их работать рука об руку с вами, если вы действительно стоите за благо народа”.
Заговор Бабефа был рассмотрен верховным судом. Так как Друэ был депутатом, то для того чтобы не выделять его дела, оно разбиралось вместе с делом Бабефа и других заговорщиков в верховном суде.
Совет пятисот избрал местом заседания суда Вандом, так как, согласно Конституции, место, в котором может заседать чрезвычайный суд, должно было находиться, по крайней мере, в ста двадцати километрах от Парижа.
30 августа 1796 года обвиняемые были перевезены в вандомскую тюрьму, но разбирательство началось только 20 февраля “797 года. Оно затянулось, так как Бабеф вместе с товарищами хотели выиграть время. Они надеялись на политические перемены, которые могли оказаться для них очень полезными. 26 мая 1797 года, то есть после трехмесячного разбирательства, был вынесен приговор, в силу которого Бабеф и Дартэ были осуждены на смертную казнь. Буанарроти, Жермен, Моррэ, Базен, Блондо, Буэн и Менесье были осуждены на изгнание, все же остальные были оправданы. Попытка самоубийства Бабефа и Дарте при провозглашении приговора не удалась, и оба на следующий день были казнены. Депутат Друэ, ради которого был созван верховный суд, еще 17 августа бежал из тюрьмы, очевидно, с ведома Барра, который боялся его признаний. Барра еще во время подготовки заговора Бабефа поддерживал сношения с Бабефом, чтобы в случае успеха заговора извлечь себе из него пользу. Перевозка заключенных в Вандом в ночь с 28 на 29 августа 1796 года подало мысль оставшимся на свободе менее подозрительным сторонникам Бабефа и другим недовольным отважиться на восстание в целях освобождения Бабефа и других обвиняемых. Восставшие, числом около трех-четырехсот человек, подожгли в различных городах петарды и другие легковоспламеняющиеся материалы и роздали белые знамена и кокарды, надеясь возбудить роялистски настроенное население. Но город остался спокойным, и попытка потерпела крушение.
Несколько дней спустя, в ночь с 9 на 10 сентября 1796 года (23 фрюктидора IV года), другие бунтовщики попытались овладеть общественной властью. Около четырехсот человек, во главе с начальником в генеральской форме, напали на Гренельский лагерь. С кликами: “Да здравствует Республика!”, “Да здравствует конституция 1793 года!”, “Долой новых тиранов!” – они ворвались в лагерь и устремились прежде всего в двадцать первый драгунский полк, состоящий из солдат бывшего полицейского легиона. Но благодаря присутствию духа командира Мало опасность была устранена. Полуодетый, выскочил он из палатки, собрал вокруг себя кучку людей и бросился на нападавших. Разбуженные шумом, к нему подоспели на помощь другие войска, и все зачинщики, не успевшие спастись бегством, были убиты или арестованы.
Военные комиссии, разбиравшие в сентябре и октябре 1796 года их дело, вынесли гораздо более суровый приговор, чем верховный суд в Вандоме, хотя заговор Бабефа был гораздо серьезнее, чем нападение на Гренельский лагерь. Из ста тридцати трех обвиняемых двадцать пять человек были приговорены к смертной казни; шестьдесят два были осуждены на тюремное заключение и на ссылку в колонии. Лишь сорок шесть были оправданы.
Роялисты, пришедшие было в уныние после 13 вандемьера и рокового исхода воины в Вандее, снова воспрянули духом после заговора Бабефа и нападения на Гренельский лагерь. В то время во Франции было три роялистских агентуры: две военных, из которых одна заведовала восточными провинциями Франш-Контэ, Лионэ, Форэ и Овернью, а другая всем югом. Третья же, занимавшаяся исключительно политикой, была предназначена для самого Парижа и для остальной Франции. Все эти агентуры усердно работали над восстановлением монархии, но в выборе средств не всегда были достаточно искусны, так что несколько планов их было раскрыто. Во главе их стояли аббат Броттье, Депонель, ла-Виллернуа и Дюверн де Пресль. Агентуры востока и юга старались воздействовать на выборы, между тем как парижская агентура задумала заговор, который должен был быть приведен в исполнение аналогично плану Бабефа. Агентуры эти поддерживались Викгамом, английским уполномоченным в делах в Швейцарии, значительными денежными суммами, а также и русским правительством. Роялисты, стараясь найти сторонников среди влиятельных лиц, пытались склонить на свою сторону Рамеля, начальника гвардии Законодательного корпуса, и майора Мало. Но оба они, выказывая интерес к делу роялистов, в душе намеревались так же предать их, как Гризель Бабефа. Министр полиции Кошон был извещен Мало о готовящемся заговоре. Вслед за этим важнейшие главари партии, Броттье, ла-Виллернуа, мнимый барон де Проли и скрывавшийся под именем Дюнана Дюверн де Пресль, были арестованы 30 января 1797 года.
Из конфискованных бумаг – письма Людовика XVIII удалось своевременно спрятать в надежном месте – было ясно видно, что роялисты составили широкий, но чрезвычайно примитивно организованный заговор в целях свержения правительства. Он опирался на полномочия, данные 25 февраля 1796 года графом де Лилем (Людовиком XVIII) в Вероне. Процесс двадцати пяти обвиняемых, разбиравшийся постоянным военным судом семнадцатой дивизии, начался 12 марта 1797 года и продолжался три недели. Приговор, однако, не соответствовал желаниям Директории: четырнадцать обвиняемых были оправданы, а остальные были приговорены к более или менее продолжительному тюремному заключению.
Граф де Лиль решил тогда вернуть себе Францию не силою, а дипломатическими средствами. В прокламации к французам 10 марта 1797 г. он призывал своих сторонников принять деятельное участие в выборах, чтобы избрать в обе палаты антитеррористов и умеренных.
Выборы, которые, согласно Конституции, должны были произойти в марте и апреле 1797 года, чрезвычайно беспокоили депутатов, так как по непопулярности правительства и бывших членов Конвента вполне было возможно, что выбывающая треть депутатов будет замещена противниками правительства. Необходимо было избрать сто сорок пять членов Совета пятисот и семьдесят один Совета старейшин, кроме того, на место умерших и выбывших еще девятнадцать, всего же сто пятьдесят восемь в Совет пятисот и семьдесят восемь в Совет старейшин.
Республиканцы потерпели страшное поражение: из двухсот шестнадцати выбывших членов было переизбрано всего только одиннадцать. Среди вновь избранных находились Клара де Флориэ, Мюринэ, Мармонтель, Мен де Биран, Дюфрен, Буасси д'Англа, Камилл Жордан, Имбер Коломэ, генералы Вилло и Пишегрю и много других умеренных и роялистов. Пишегрю четырьмястами четырьмя голосами был избран президентом Совета старейшин. На место выбывшего 19 мая 1797 года Летурнера был избран французский посланник в Швейцарии, бывший маркиз де Бартелеми, умеренный и роялист в противоположность другим членам Директории.
После вступления вновь избранных депутатов в палаты началась ожесточенная борьба между революционерами и умеренными. В исходе ее нельзя было и сомневаться, так как последние обладали большинством и военною силою. Директория уже раскаялась в том, что она не воспротивилась вступлению новых депутатов в палаты. Теперь, однако, было уже поздно, и только насильственным актом можно было изменить положение вещей.
Политика правительства, которое не могло опереться ни на одну национальную партию, поддерживаемую средним сословием, переходила от одной крайности к другой, склоняясь то в сторону умеренных, то в сторону революционеров. Наконец, Директория решила покончить с этим политическим колебанием, которое могло легко привести ее к гибели, и вступила в сношение с самым влиятельным генералом Республики, чтобы отважиться на государственный переворот.
Манифест Бонапарта, обращенный к Венеции и представленный правительством Совету пятисот 16 мая, и особенно связанная с ним речь Дюмолара устранили, по всей вероятности, последние колебания большинства Директории и побудили ее решиться на насильственный акт. Дюмолар вначале согласился с выступлением Бонапарта против Венеции и с ораторской трибуны похвалил генерала за его отношение к Республике. Но когда мало-помалу стали известны более точные факты относительно самоуверенного образа действий начальника итальянской армии – особенно благодаря письмам Малле дю-Пана, – Дюмолар изменил свое мнение. Несколько недель спустя, 23 июня, он обрушился на Директорию за то, что она не держит палаты в курсе итальянских дел. Бонапарта и армию он пощадил и даже послал по его адресу похвалу. Речь Дюмолара возбудила большое внимание, и было тотчас же постановлено отпечатать ее.
Несмотря на то, что Дюмолар не напал на Бонапарта, ему пришлось все же занять какую-либо позицию по отношению к речи в Совете пятисот. Умеренные, правда, предчувствовали, что готовится нечто серьезное, и старались по возможности смягчить поступок Дюмолара, но Директория и республиканцы торжествовали, так как были уверены, что найдут в лице Бонапарта защитника своих интересов. И, действительно, они не ошиблись. Прочтя речь Дюмолара, Наполеон пришел в ярость, так как привык всегда действовать по собственному усмотрению и уже тогда не терпел никакой критики своих распоряжений.
Он, начальствовавший над армией в восемьдесят тысяч человек, покорявший государства и вновь восстановлявший их, издававший законы, устроивший чуть ли не двор в Момбелло, перед которым преклонялись итальянские князья, – он должен выслушивать предписания от какого-то совершенно не известного ему лица! Этого не позволяло по отношению к нему даже правительство, а если бы и позволило, оно скоро бы убедилось, что с этим генералом шутить не следует. В возбуждении Бонапарт написал 30 июня президенту Директории:[43]
“Гражданин директор, я только что получил речь Дюмолара, в которой нахожу следующее замечание: так как некоторые писатели выразили сомнение в причинах и в тяжести этих преступных нарушений народных прав, то ни один беспристрастный человек не может упрекнуть законодательный корпус в том, что он оказал доверие столь определенному, торжественному и публичному заявлению исполнительной власти.
Эта речь напечатана по приказанию Законодательного собрания; ясно, таким образом, что вся она направлена против меня. Заключив пять раз мир и нанесши последний удар коалиции, я имею право если не на получение гражданского триумфа, то во всяком случае на спокойную жизнь и на защиту первых чиновников Республики. Между тем меня обвиняют, преследуют, клеймят.
Я отнесся бы равнодушно ко всему, только не к такому позору, которым хотят покрыть меня первые чиновники Республики. Раз отечество возложило на меня столь заслуженную миссию, то я не могу спокойно выслушивать столь же нелепое, сколь и наглое обвинение. Я не могу допустить, чтобы манифест, составленный эмигрантом, поддерживаемый Англией, встретил больше доверия в Совете пятисот, чем свидетельство, выданное мне восьмьюдесятью тысячами человек. Как! Нас окружили изменники, свыше четырехсот человек погибло, а высшая законодательная власть Республики извиняется, что поверила этому на минуту?
Свыше четырехсот французов были убиты на глазах стражи крепости, их изрешетили тысячами кинжалов, а представители французского народа извиняются, что поверили этому? Если бы это заявили трусы, далекие от какого бы то ни было чувства патриотизма и славы, я бы не имел ничего против, я бы не обратил на это никакого внимания, так как прекрасно знаю, что есть классы общества, у которых на первом плане: разве кровь эта так благородна? Но я имею право восстать против позора, которым покрыли высшие государственные чиновники Республики тех, кто доставил славу французскому имени.
Господа директора, я повторяю еще раз просьбу согласиться на мою отставку. Мне необходима спокойная жизнь, раз меня пощадили кинжалы в Клиши.
Вы поручили мне вести переговоры, но к этому я малоспособен”.
В составленном в тот же день “Донесении о событиях в Венеции” он еще раз возвращается к этому. С величайшей иронией говорит он в конце донесения:
“Невежливые и болтливые адвокаты спросили в клубе в Клиши, почему мы сражаемся на венецианской земле? Господа ораторы, поучитесь немного географии и вы узнаете, что Эч, Брента и Таглиаменто, на берегу которых мы деремся уже два года, принадлежат Венеции. О мы превосходно знаем, на что вы намекаете! Вы упрекаете итальянскую армию в том, что она дважды перешла через Альпы и подступила к Вене, которая была принуждена признать ту республику, которую вы, господа из клуба в Клиши, хотите разрушить! Я понимаю прекрасно, – вы обвиняете Бонапарта в том, что он заключил мир!
Но я предсказываю вам и говорю от имени восьмидесяти тысяч солдат: времена, когда трусы, адвокаты и жалкие болтуны казнили солдат, миновали! И если вы будете продолжать на этом настаивать, то солдаты Италии подойдут к самым воротам Клиши! И тогда – горе вам!”
Спор между палатами и большинством Директории все больше обострялся. Так как, однако, правительство, благосклонно встретившее письмо Наполеона и не давшее генералу просимой отставки, не хотело ни подчиниться, ни быть низвергнутым, то оно решило возможно скорее совершить государственный переворот, который бы освободил его от опеки.
* * *
Приближался июль 1797 года. Гош отделил от армии на Самбре и Маасе отряд в двенадцать тысяч человек, решив послать его в Брест. Там отряд этот должен был войти в экспедицию, предназначенную снова для Ирландии. Гош сам поехал вперед, чтобы обсудить положение дел с морским министром Трюге. Гош был противником генерала Пишегрю, главы умеренной партии, и был склонен предоставить в распоряжение правительства свою шпагу для борьбы с непокорными палатами. Особенно хотелось ему отстранить Бонапарта, слава которого уже затмевала его собственную. Случай этот был удобен, так как войска должны были по направлению в Брест пройти мимо Парижа. Они поэтому могли в несколько часов достичь столицы. Барра был в восторге, что нашел в лице Гоша горячего, пламенного защитника большинства Директории, и оба они неоднократно совещались, каким образом лучше совершить государственный переворот.
У них не было, однако, денег, так как Гош располагал лишь несколькими сотнями тысяч франков, которые он не вручил еще казначею своей армии. Бонапарт тоже не прислал еще Директории обещанных миллионов. Кроме того, нельзя было положиться на всех чиновников, да и, наконец, необходима была также смена министерства.
Умеренная партия, по-видимому, предчувствовала бурю и старалась предупредить ее, пытаясь войти в соглашение с большинством Директории. Она тоже предложила смену министерства, правда, в совсем другом, прямо противоположном духе, чем предполагали триумвиры, Барра, Ла-Ревельер-Лепо и Ребель. Барра, по-видимому, согласился на предложение умеренных и обещал Парно поддержать его, когда он, в качестве председателя Директории, предложит общему собранию смену министерства. Собрание это должно было состояться 16 июля.
Одновременно с этим Директория старалась подготовить в свою пользу общественное мнение. Она способствовала открытию клуба в Сальме, который должен был вступить в соперничество с клубом в Kлиши, так как последний достиг чрезвычайной популярности и влияния. Мадам де Сталь, Бенжамен Констан и Талейран тоже принадлежали к этой партии и старались помогать Директории. Мадам де Сталь в 1789–1815 гг. несколько раз меняла свои политические убеждения. В то время она была горячей поклонницей Бонапарта, так что вполне понятно, почему она поддерживала триумвиров. Она видела в них защитников свободы и врагов анархии. Ее молодой друг, Бенжамен Констан, тоже предоставил свое бойкое перо к услугам правительству. Вслед за опубликованной еще в 1796 году брошюрой “De la force du gouverment actuel de la France, et de la nécessite de s'y rallier” он выпустил в свет еще две: “Des réactions politiques” и “Les efforts de la terreur”. Из небольших собраний у Констана и образовался этот клуб в Сальме, в котором, кроме философов и писателей, бывали бывшие члены Учредительного собрания и Конвента. Талейран, бывший епископ Отенский, только недавно вернулся из Америки и не имел еще случая проявить свои исключительные дипломатические способности. Он понял, однако, что его место здесь. Благодаря мадам Сталь, а также и ее влиянию на Барра, ему скоро удалось достичь руководящей роли в Директории.
Смена министерства совершилась согласно желанию большинства Директории. Несмотря на сопротивление Карно и Бартелеми, министры Делакруа, Бенезеш, Трюге, Петье и Кошон были заменены Талейраном, Франсуа де Нефшато, ле-Пеллеем, Гошем и Ленуар-Ларошем. Единогласно была принята только отставка Делакруа и Трюге. Талейран был назначен министром иностранных дел, а Франсуа де Нефшато – внутренних дел. Ле-Пелле встал во главе морского министерства, Гош – военного, а Ленуар-Ларош – во главе министерства полиции. В ведении Рамеля остались финансы, а Мерлен, которого умеренные весьма недолюбливали, сохранил портфель министра юстиции. Ленуар-Ларош оказался, однако, настолько неспособным, что 20 июля он был заменен Сотеном. Так как Гош не достиг еще законного возраста, то портфеля не получил, и военное министерство перешло в ведение генерала Шерера, друга Ребеля и предшественника Бонапарта в начальствовании итальянской армией.
Совет пятисот был неприятно поражен внезапной сменой министерства, так как представлял себе его в совершенно ином свете, думая, что может положиться на честное слово Барра.
Спустя некоторое время после смены министров в Париж пришло известие, что армия приблизилась к столице на расстояние шести мириаметров.[44] Совет был убежден, что против него замышляется переворот, но решил все же вступить в переговоры. После бурного заседания Совета пятисот, 22 июля, Обри запросил Директорию относительно причин этого движения войска в окрестностях Парижа. Так как, однако, Директория была не совсем еще готова, то она заявила, что произошла, по-видимому, ошибка со стороны военного комиссара, так как ни правительство, ни военный министр не осведомлены об этом. И в самом деле, Ребель и Ла-Ревельер-Лепо, по всей вероятности, об этом не знали, так как соглашение относительно движения войска состоялось лишь между Барра и Гошем, который хотел достичь цели как можно скорее.
Карно, председательствовавший в Директории, обрушился на Гоша с упреками. Барра не отважился на защиту Гоша, между тем как Ла-Ревельер-Лепо утверждает в своих мемуарах, что он взял Гоша под свое покровительство. После заседания Гош поссорился с директором Барра из-за того, что тот поставил его в неловкое положение и побоялся стать на его защиту. Барра ответил ему холодно и сухо, и Гош, разочарованный и преисполненный ненавистью, вернулся на свою главную квартиру в Ветцлар, куда и прибыл 2 августа. После некоторых колебаний полки, двинувшиеся по направлению к Парижу, получили приказ направляться непосредственно в Брест.
Первый государственный переворот, задуманный Барра и Гошем, окончился, таким образом, неудачей. Другому человеку было суждено помочь осуществлению планов Директории. Трое директоров, составлявшие большинство Директории, потребовали от Бонапарта, честолюбия и влияния которого они боялись, лишь “благосклонного нейтралитета”. Удар должен был нанести Гош, хотя и храбрый, и честолюбивый солдат, но недостаточно хладнокровный, чтобы в политической жизни выждать хода событий. Так как, однако, большинство Директории увидело, что Гош своим нетерпением только повредил ее планам, то снова вспомнили о Бонапарте, который из Италии зорко следил за событиями, надвигавшимися в Париже.
Бонапарт уже давно вел самостоятельную политику и избегал неосторожными действиями или словами раскрывать свои карты. Не только Гош, но и Пишегрю, и Мало, снискавшие себе почти ту же блестящую славу, как и он, потерпели фиаско, как только выступили на политическую арену.
Уже в то время у Бонапарта было в Париже много сторонников и друзей, так как он в противоположность большинству Директории относился чрезвычайно любезно к папе и надеялся скоро закончить войну. Презирая правительство за его слабость, он не мог, однако, вступить в сношения с умеренной партией, так как последняя рано или поздно восстановила бы монархию, а это шло вразрез с его собственными честолюбивыми планами. Он должен был поэтому поддерживать Директорию до того момента, пока не придет время низвергнуть ее и самому стать во главе правительства: все заманчивые обещания Бурбонов не прельщали его.
Празднование годовщины взятия Бастилии представило ему случай выказать интерес армии и свой собственный по отношению к правительству. В искусно составленном приказе армии от 14 июля он пишет: “Солдаты! Я знаю, что вы глубоко опечалены бедствием, которое грозит отечеству! Но настоящей опасности все-таки нет. Живы еще те, которые восторжествуют над соединенной Европой! Мы отрезаны от Франции горами, но, если будет нужно, вы перенесетесь через них с быстротою орла, чтобы поддержать Конституцию, защитить свободу и стать на страже правительства и Республики.
Солдаты! Правительство стоит на страже вверенных ему законов! Будьте спокойны! Поклянемся на трупах героев, павших в борьбе за свободу, поклянемся на наших знаменах!
Поклянемся вести непримиримую войну с врагами Республики, с врагами Конституции III года!”
Остальные генералы не отставали от него в выражениях симпатии к Директории. Они составляли адреса, которые подписывались офицерами и солдатами, и посылали их правительству в доказательство своей покорности. Красноречивым, хотя и несколько преувеличенно возвышенным тоном составлен адрес дивизии генерала Ожеро:
“Покрытая позором, насыщенная преступлением, несчастная кучка людей составляет заговор в Париже, между тем как мы побеждаем у ворот Вены. Они хотят залить отечество слезами и кровью и снова предать его демону гражданской войны. При страшном блеске шакалов фанатизма и разногласия стремятся они через трупы достичь свободы… Мы сдерживали свое возмущение, так как уповали на закон: но он безмолвствует…” И дальше: “Содрогнитесь же все от Эча до Рейна! От Рейна до Сены всего лишь один шаг! Содрогнитесь!”
Дивизия Массена присоединилась к этому адресу и добавила гордое замечание: “Разве дорога в Париж более трудна, нежели в Вену? Нет, ее откроют для нас республиканцы, оставшиеся верными свободе. Объединенными силами защитим мы ее, и горе нашим врагам!”
Дивизия Жубера высказала свое возмущение Законодательному собранию, которое стремится подавить свободу и устранить законы. Подняла свой голос и четвертая дивизия итальянской армии. Она писала: “Мы знаем, что теперь каждый день знаменуется убийствами искренних республиканцев, и что виновники этих убийств – эмигранты и возвратившиеся упрямые священники…”
Другие дивизии итальянской армии высказались почти в том же духе.[45] А Бонапарт сам в своих письмах настаивал на энергичных мерах. 15 июля он писал Директории из своей главной квартиры в Милане:
“Прилагаю при сем копию письма, полученного мною от генерала Кларка. Из него вы увидите, что дело затягивается. Несомненно, император хочет выждать ход событий во Франции: иностранные державы, несомненно, больше, чем принято думать, замешаны в наших интригах.
Войско получает большую часть издаваемых в Париже газет, но как раз почти только самые скверные. Они вызывают в солдатах представление, прямо противоположное тому, какое было бы нам желательно. Армия в высшей степени возмущена. Солдаты спрашивают, неужели же в награду за все их труды и за шестилетнюю войну их ждет, по возвращении на родину, смерть, грозящая патриотам? Положение вещей с каждым днем становится все более печальным, и, я думаю, граждане директора, настало время прийти к какому-либо решению.
Прилагаю при сем и свою прокламацию к армии: она произвела наилучшее впечатление.
У меня нет ни одного человека, который не предпочел бы умереть с оружием в руках, чем быть злодейски убитым в каком-нибудь тупике Парижа.
Что касается меня самого, то я привык к полному отречению от своих собственных интересов. Но к обвинениям и клевете, которыми меня осыпают ежедневно восемьдесят газет, и ни одна из них за это не привлекается к ответственности, я относиться спокойно не в состоянии. Я не могу быть равнодушным к фальши и ко всем тем мерзостям, которые содержатся в напечатанном по приказанию Совета пятисот манифесте. Я понимаю, что клуб Клиши стремится через мой труп достичь падения Республики. Неужели же во Франции нет больше республиканцев? Неужели мы зашли так далеко, что, покорив Европу, должны отыскивать себе убежище и приют, в котором могли бы закончить свои печальные дни?
Заключив мир в 24 часа, вы могли бы одним ударом спасти Республику и те двести тысяч человек, судьба которых зависит от вас! Отдайте приказ об аресте эмигрантов! Разрушьте влияние иностранцев! Если вам нужна сильная помощь, призовите армию. Разрушьте печатные станки газет, подкупленных англичанами. Они более жестоки, чем был когда-либо Марат!
Я лично, граждане директора, не могу дольше жить среди такого разногласия и неурядицы. Если нет средств положить предел бедствиям родины, преступлениям и влиянию Людовика XVIII, то я требую отставки. Прилагаю при сем кинжал, отнятый у веронского убийцы.
Что бы ни было, но я всегда с благодарностью буду вспоминать то неограниченное доверие, которое вы мне оказывали”.
Два дня спустя, 17 июля, он пишет новое послание слабой Директории, в котором не скупится на горькие упреки:
“…Хотите ли вы сохранить нации пятьдесят тысяч отличных солдат, которые должны погибнуть в этом новом походе? – пишет он в возмущении небрежностью Директории. – Разрушьте же силою станки “The”, “Memorial” и “Quotideinne”. Закройте клуб в Клиши и издавайте пять-шесть хороших газет, дружелюбных правительству!
Это поистине чрезвычайно слабая мера будет достаточна, чтобы показать Европе, что она не может еще надеяться ни на что. Это восстановит наш престиж и рассеет в солдатах беспокойство, которое всецело владеет ими и которое может вырваться наружу и повлечь за собою самые тяжелые последствия.
Позор, что мы, повелевающие Европою, не в силах сломить упорства какой-то газеты Людовика XVIII, которая, очевидно, подкуплена им! К чему же одерживаем мы ежедневно, даже ежечасно победы? Интриганы внутри страны все разрушают и заставляют нас понапрасну проливать кровь за отечество!”
Ни одного дня Бонапарт не пропускает, чтобы не дать воли своему негодованию.
“Посылаю при сем копию адреса дивизии Массена и Жубера, – пишет он 18 июля, – и под той, и под другой имеется не менее двенадцати тысяч подписей.
Дух армии высказывается определенно за Республику и за Конституцию III года. Солдаты, получающие письма с родины, в высшей степени недовольны зловещим поворотом хода вещей.
Они возмущены, по-видимому, и болтовней Дюмолара, которая была напечатана по постановлению Совета пятисот и распространена в армии. Солдаты негодуют, что в Париже сомневаются в преступлении, жертвой которого они пали. Итальянская армия питает безграничное доверие к правительству. Я полагаю, что мир и спокойствие в войске зависит от Совета пятисот. Если же эта первая власть Республики будет продолжать покорно выслушивать болтунов из Клиши, то она идет неминуемо к падению правительства. Мы не достигнем тогда мира, и наше войско будет воодушевлено лишь одним стремлением поспешить на помощь свободе и Конституции III года. Будьте уверены, граждане директора, что у Директории и у отечества нет другого войска, которое бы было предано вам так безгранично, как наше.
Я же воспользуюсь всем своим влиянием, чтобы сдерживать в должных рамках пламенный патриотизм, владеющий всеми солдатами нашей армии, и чтобы направить его в русло, благоприятное для правительства”.
* * *
Уже 24 июля трое директоров, Барра, Ребель и Ла-Ревельер-Лепо, без ведома Карно и Бартелеми, обратились к Бонапарту с письмом:
“Гражданин генерал! С чрезвычайным удовлетворением убедились мы в ревностном доказательстве вашей преданности свободе и Конституции III года. Вы можете рассчитывать на полное содействие с нашей стороны. С радостью принимаем мы ваше предложение прийти на помощь Республике. Это новое доказательство вашей искренней любви к отечеству. Не сомневайтесь, что мы используем его для спокойствия, счастья и славы Франции”.
Это письмо от директоров Бонапарт получил вместе с речью Дюмолара и в тот же день ответил Директории. Он принял решение послать в Париж преданного ему надежного офицера, чтобы тот собрал самые точные сведения о положении вещей. Он послал в Париж своего адъютанта Лавалетта, чрезвычайно осторожного и умеренного во всех взглядах человека, отчасти для того, чтобы сговориться с триумвирами, выведать их намерения и вручить им скопленную сумму в три миллиона, отчасти же разведать положение дел в противном лагере, главным образом у Карно, и сообщить обо всем Бонапарту.
“Побывайте у всех, остерегайтесь партийности, сообщайте мне только правду, – свободную от всякого пристрастия”, – напутствовал он Лавалетта. Самому отправиться в Париж даже во главе части своего войска, как он одно время думал, хладнокровный, расчетливый генерал находил неудобным. Ему казалось гораздо более целесообразным предоставить в распоряжение Директории одного из своих генералов. Выбор пал на Ожеро, победителя при Кастилионе, хорошего солдата, но плохого политика. 27 июля Ожеро отправился в Париж под предлогом устройства своих личных дел. Он должен был вручить Директории адреса армии. Именно в таком человеке и нуждался Барра. Он мог теперь, оставаясь сам в тени, развить все свои планы. 5 августа Ожеро прибыл в столицу, и несколько дней спустя был назначен командиром семнадцатой дивизии, а тем самым и начальником всех находящихся в Париже войск. Когда Директория посвятила его в различные подробности тогдашнего политического положения, он, будучи о себе самого высокого мнения, вспомнил, что призван совершить подвиг. Он рассказывал всем, что всеми победами итальянская армия обязана исключительно ему и что Бонапарт хотя и обещал стать хорошим генералом, но что ему недостает опытности. Однажды мадам Сталь спросила его, правда ли, что генерал Бонапарт намеревается провозгласить себя королем (Италии). Ожеро поспешно ответил: “Нет, конечно, нет, он для этого слишком хорошо воспитан”. Многие боялись прибытия Ожеро в Париж. Он всем говорил: “Я послан, чтобы подавить роялистов!”
* * *
Тем временем после взятия Венеции роялистский агент граф Антрег, состоявший советником при русской легации в Венеции, был взят в плен Бернадотом 21 мая в Триесте. Среди конфискованных у него бумаг была найдена запись разговора, который он имел с другим бурбонским, но подкупленным Директорией агентом, графом Монгейаром, относительно переговоров нефшательского книгопродавца, тоже роялистского агента Фош-Бореля с Пишегрю. Монгейар раскрыл графу, как утверждал впоследствии Фош-Борель в своих мемуарах, все сношения генерала Конде с Пишегрю.
Бонапарт прочел эту бумагу. Она хотя и устанавливала вину Пишегрю, но в то же время, по-видимому, выдавала и Бонапарта: он заставил Антрега составить краткое извлечение из этой беседы, в которой совершенно не упоминалось о нем, и послал ее Директории.
10 июня Бонапарт сообщил об отсылке бумаг Антрега, которые он поручил отвезти Фабру д'Оду. Барра прислал недавно д'Ода в главную квартиру, чтобы склонить Бонапарта к государственному перевороту, и Наполеон уполномочил его передать Директории важные документы.
Несколько недель спустя, 3 июля 1797 года (15 мессидора V года), Бонапарт снова послал Директории несколько писем Антрега, среди них послание к Буасси д'Англа, члену Совета пятисот. “Человек этот (Антрег), – пишет Бонапарт, – находится не в тюрьме, а в частном доме, где с ним обращаются превосходно. Дерзость этого человека невероятна: он угрожает мне чуть ли не общественным мнением Франции”.
И действительно, Бонапарт относился превосходно к роялистскому агенту, с которым часто беседовал. 28 августа Антрегу удалось бежать из своего трехмесячного заключения, но роялисты сочли его изменником бурбонскому делу.
8 августа Бонапарт послал в Париж и генерала Бернадота якобы для вручения Директории нескольких знамен, в действительности же для переговоров с правительством и для наблюдения за Ожеро: Бонапарт предчувствовал, что Ожеро особенно доверять нельзя. Бернадот, довольно неприязненно относившийся к своему бывшему товарищу по итальянской армии, был интеллигентным, умным офицером, посвященным в планы Бонапарта. Он ограничился своей ролью наблюдателя и посылал почти ежедневно донесения в Италию.
Чтобы не обидеть Гоша, а, быть может, также и для того чтобы сдержать Ожеро, Директория просила главнокомандующего маасской армией прислать еще генерала. Тот прислал своего друга и начальника генерального штаба Шерона, которому Директория поручила начальствование Директориальной гвардией. Этой сменою начальствующих лиц правительство, однако, не ограничилось и заменило еще целый ряд чиновников, бывших якобинцев, на которых можно было положиться.
* * *
После неудачной попытки Гоша освободить Директорию от власти палат последние все время были настороже. Но и Директория опасалась палат, тем более что с середины августа между триумвирами, с одной стороны, и Карно и Бартелеми, с другой, воцарилась открытая вражда. Но превосходство было все же на стороне робких и нерешительных. Пишегрю и Вилло жаловались на недостаточную поддержку со стороны их партии и считали безнадежным насильственный акт палат против Директории. Карно, которому предложили стать во главе Совета пятисот, отказался от этого, отчасти из боязни, что Бурбоны вознаградят его не по заслугам, отчасти же потому, что имел основание не верить их словам, и в качестве “убийцы короля” уже видел перед собою гильотину.
С начала августа около тридцати тысяч человек большею частью из маасской армии были готовы двинуться в Париж. Несколько отрядов подошли уже к пределу, указанному Конституцией, и даже перешли его, так что в короткое время могли достичь столицы. Но Директория, как сообщал 24, августа Лавалетт Бонапарту, отсрочила исполнение своих планов.
Несмотря на колебания правительства, Пишегрю и Вилло решили прибегнуть к крайним мерам и вместе с де Ларю составили план захвата троих директоров, которых собирались в то же время обвинить перед Советом пятисот. По всей вероятности, план этот был открыт Директории принцем Каренси.
Триумвиры должны были возможно скорее прийти к какому-либо решению, чтобы предупредить противников.
Под председательством Ла-Ревельера-Лепо триумвиры вечером 3 сентября (17 фрюктидора) объявили себя самостоятельной Директорией и решили всю ночь не расходиться, чтобы обсудить необходимые меры для государственного переворота и немедленно привести их в исполнение. Отдав приказ к наступлению войск на Париж, они поручили Ожеро окружить Тюильри. В то же время было приказано закрыть все ворота столицы и запрещено выпускать без особого разрешения правительства чьи бы то ни было экипажи. Члены палат, преданные правительству, получили приказание собраться в смежном с Люксембургским дворцом (местопребыванием Директории) Одеоне – Ecole de Santé (нынешняя Ecole de Médecine).
Заняв войсками все важные пункты, Ожеро отправился в Тюильри, чтобы исполнить данное ему приказание. Еще ночью, около часу, Рамель, начальник гвардии Законодательного корпуса, получил приказ от военного министра Шерера немедленно явиться к нему; несколько часов спустя генералы Лемуан и Пуансо приблизились к Тюильри и потребовали, чтобы Рамель сдался. Последний тем временем сговорился с Пишегрю и Вилло и послал гонцов к Симеону, представителю Совета пятисот, и к Лафону-Ладеба, председателю Совета старейшин. Рамель отклонил предложение. Было уже около четырех с половиной часов утра. Борьба ввиду чрезвычайного превосходства правительственных войск была безнадежна. Хотя большинство офицеров гвардии Законодательного корпуса и было согласно со своим начальником, однако они не могли воспрепятствовать тому, что войска их все больше отступали: некоторые офицеры и солдаты заговорили о сдаче, и противники были уже близки к победе.
Тем временем Ожеро во главе сильного отряда проник в сад Тюильри и обрушился на Рамеля, которого вызвал другой адъютант еще в половине шестого утра, за то, что он не исполнил ни его приказания, ни приказания военного министра. Рамель извинился и заявил, что от Законодательного корпуса он получил прямо противоположный приказ и что теперь он склоняется перед авторитетом Ожеро и сдается. Ожеро, как говорят, отнесся чрезвычайно грубо к арестованному генералу и сорвал с него эполеты. Показания очевидцев на этот счет, правда, расходятся. Несомненно лишь то, что солдаты кинулись на несчастного Рамеля, исполнявшего только свой долг, и сломали ему шпагу.
В ту же ночь, с 3 на 4 сентября, Пишегрю и Вилло с несколькими депутатами остались в зале инспекторов. Тибодо провел этот вечер вместе с генералом Фошем в театре и получил там от незнакомого человека бумаги, среди которых находились и прокламации, отпечатанные по приказанию Директории: на следующее утро они должны были быть разбросаны по всему городу, с целью довести до сведения изумленных парижан, что они, благодаря бдительности правительства, снова избегли страшного роялистского заговора. Тибодо тотчас же поспешил в Тюильри и показал прокламации Пишегрю и другим депутатам.
Ночью к Пишегрю и Вилло примкнуло около двадцати членов палат. Их свободно выпускали, надеясь тем легче потом арестовать. К утру солдаты Ожеро проникли во дворец и захватили депутатов, среди них и Пишегрю. Гвардия Законодательного корпуса не осмелилась оказать сопротивления и в конце концов перешла на сторону Директории. Большое число депутатов было заключено в Тампль.
Директория решила помимо значительного числа членов палат сослать и обоих директоров, Карно и Бартелеми. Карно был уже 17 извещен о намерениях своих трех коллег. Он заранее раздобыл ключ к маленькой потайной двери Люксембургского сада. Теперь он воспользовался случаем и выпрыгнул из окна своей квартиры в нижнем этаже прямо в сад. Оттуда через потайную дверь он благополучно выбрался на свободу, так как там не стояло никакой стражи. Пробыв некоторое время у своего друга, он скрылся в Женеву.
Менее посчастливилось другому, недавно избранному директору Бартелеми. В ночь с 17 на 18 фрюктидора в три часа утра к нему явился офицер с приказом об аресте. Но предварительно, однако, директору было предложено подать прошение об отставке и уехать немедленно в Гамбург, чтобы поселиться там под чужим именем. Он отказался и разделил поэтому участь других депутатов, сосланных в Гвинею.
В это время восемьдесят членов Совета пятисот собрались у де ла Позера и около сорока депутатов обеих палат у Барбе-Марбуа. Для составления бесцельного и нелепого протеста депутаты, верные правительству, собрались в Одеоне и в Ecole de Santé.
18 фрюктидора в девять часов утра Ламарк открыл заседание Совета пятисот, и Пулен Гранпрей предложил составить немедленно комиссию из пяти членов, которой должно было быть поручено принять необходимые меры для поддержания общественного спокойствия и для укрепления Конституции III года. Предложение было принято и, дав разрешение в случае надобности ввести в Париж войска, собрание разошлось до вечера.
Вечером, в шесть часов, пришло донесение от Директории, сообщавшее о событиях последних дней: правительство хвалилось, что спасло отечество от тяжелой опасности. Одновременно с этим директора послали в палаты бумаги, доказывавшие наличие роялистского заговора, – в числе их бумаги графа Антрега, Пишегрю и документы процессов Ла-Виллернуа, Броттье и Дюверн-де-Пресля. От имени комиссии пяти де ла Мерт произнес сильную речь, чтобы воодушевить настроенных дружелюбно к правительству депутатов и вселить страх в колеблющихся и нерешительных. Помимо этого он в своей речи изложил намерения правительства.
После него на трибуну поднялся Вилье и предложил собранию законопроект, который требовал признания незаконными выборов в сорока девяти департаментах, изгнания возвратившихся эмигрантов, исключения пяти депутатов: Эме, Мерзана, Феррант-Вальяна, Го и Полиссара, ссылки шестидесяти пяти депутатов, директоров, роялистов и писателей[46] и, наконец, полицейского надзора за газетами с правом закрывать их совсем в случае необходимости.
После некоторых возражений и не без труда предложение было принято и передано на утверждение Совету старейшин, заседавшему в то время в Ecole de Santé. Там, однако, законопроект встретил серьезные трения. Но после нескольких бурных заседаний, когда директора еще раз заявили о настоятельной необходимости решить вопрос возможно скорее, постановление Совета пятисот стало законом. Совет старейшин опасался главным образом, что правительство, опираясь на нескольких популярных главарей и несколько тысяч преданных ему солдат, поступит без всякого соизволения палат.
Совет пятисот издал еще целый ряд законов и занялся владениями эмигрантов и новым финансовым законопроектом, который был передан в комиссию для доклада и уже 16 сентября, к великой радости троих директоров, был утвержден вместе с бюджетом на следующий год.
В заседании Совета пятисот 20 фрюктидора (6 сентября 1797 года), спустя два дня после издания пламенного манифеста о кознях роялистов, Байель в качестве докладчика новой комиссии внес законопроект, направленный против газет и журналистов. Проект этот осуждал на изгнание не менее пятидесяти четырех журналистов, издателей, редакторов и сотрудников. Так как список показался чересчур длинным, то решено было обсуждать газеты в отдельности, а не гуртом, как при обсуждении ссылки заподозренных 18 фрюктидора. В конце концов после того как Булей и другие встали на защиту некоторых несправедливо обвиняемых, проскрипционный список был уменьшен до сорока двух. Закон этот помечен 22 фрюктидора V года. Большинство писателей и редакторов, предупрежденные о нем заблаговременно, успели скрыться и бежать.
Благодаря ссылке Бартелеми и Карно, в Директории освободилось два места. Совет пятисот составил поэтому два списка для избрания двух новых директоров. Во главе первого списка для избрания преемника Бартелеми значились лишь недавно назначенный министром внутренних дел Франсуа и министр юстиции Мерлен. Затем шел Массена и лишь на восьмом месте Ожеро. Последний твердо надеялся, что за заслугу 18 фрюктидора его изберут в Директорию.[47] Когда 21 фрюктидора совет старейшин должен был избрать из предложенного ему согласно конституции списка одного директора, его выбор семьюдесятью четырьмя голосами пал на Мерлена. Ожеро получил всего один голос! На следующий день на место Карно 205 голосами был избран в совет старейшин Франсуа. Массена собрал лишь 194 голоса, а Ожеро на сей раз всего двумя меньше. В тот же день выборы были утверждены Советом старейшин большинством голосов.
Ночью с 8 на 9 сентября (22–23 фрюктидора) Ожеро и Сотен начали перевозить осужденных на ссылку депутатов из Тампля, где они содержались до того времени. Их было всего шестнадцать человек; среди них слуга Бартелеми, не пожелавший оставить своего господина, и всего лишь пять членов Совета пятисот. Тридцать шесть человек скрылись, и лишь двое из них были схвачены через несколько дней.
В четырех наглухо закрытых экипажах с решетчатыми окошками заключенные были перевезены в начале октября в Рошфор. После тринадцатидневного путешествия они прибыли туда 21 сентября. На бригадного генерала Дютертра была возложена почетная миссия сопровождать заключенных и обращаться с ними в дороге елико возможно сурово.
22 сентября корвет “La Vaillante” поднял якорь, и 12 ноября транспорт прибыл в Кайенну. Но уже 26 сосланные были вновь посажены на корабль, который должен был отвезти их в Синамари. 9 июня 1798 года в Гвиану было привезено еще 193 человека на фрегате “La Décade”. Из 209 лиц, осужденных на ссылку, 35 погибли от болотной лихорадки, а 85 тяжело заболели.
Некоторым, однако – Пишегрю, Обри, де Ларю, Досонвилю, Рамелю и Вилло, – удалось спастись бегством; из оставшихся только Барбе-Марбуа и Лафон-Ладеба не пострадали от малярии. Рамель, де Ларю, Барбе-Марбуа и Лафон-Ладеба по своему возвращению опубликовали потрясающие описания страданий и лишений сосланных. После 18 фрюктидора большая часть юга была подчинена военному господству Бонапарта, целый ряд чиновников и высших офицеров был заменен другими, преданными правительству, а газеты на год поставлены под полицейский надзор. Кроме того, в 32 городах были учреждены военные комитеты, вынесшие около 160 смертных приговоров.
Моро, как известно, в противоположность Бонапарту и Гошу, не посылал адреса правительству. Директория не доверяла ему и поэтому 16 фрюктидора вызвала его в Париж. Она обвиняла его еще в том, что он прислал только 3 сентября, и то Бартелеми, а не всей Директории, корреспонденцию генерала Клинглена, захваченную при переходе через Рейн и содержавшую около двухсот—трехсот шифрованных писем различных французов к Конде, Энгиену, Викгаму, Клинглену и другим.
* * *
18 фрюктидора было необходимостью для правительства. Так как закон не предусмотрел другого средства для соглашения палат друг с другом, то та или другая сторона для защиты своих интересов должна была неминуемо прибегнуть к насильственным мерам. Судьба захотела, чтобы победа оказалась на стороне более решительной и энергичной Директории, у которой, однако, вовсе не было больших средств, нежели у палат, но последние зато не сумели ими воспользоваться.
Для будущего Франции было бы, однако, лучше, если бы этого государственного переворота не происходило, и Директория оказала бы Республике большие услуги, если бы проявила больше умеренности при подавлении роялистов.
18 фрюктидора означало дальнейший шаг в победном шествии Наполеона. Он все больше и больше сознавал свою силу и видел, насколько расположено в его пользу общественное мнение в Париже.
ГЛАВА XII. ОБЩЕСТВО, НРАВЫ И САЛОНЫ ПРИ ДИРЕКТОРИИ
(1795–1799)
9 термидора положило конец господству террора и его диктатору. Теперь не нужно было больше заботиться исключительно о своем существовании: политическая жизнь снова уступила место жизни частной. Словно очнувшись от тяжелого сна, парижане кинулись в опьяняющий вихрь всевозможных развлечений. Они освободились теперь от какой бы тο ни было тиранической цензуры. Чересчур долго страдали они от нее, чересчур долго наслаждались они варварскими развлечениями публичных казней, ставших чуть ли не народными празднествами с музыкой и танцами, – слишком долго жили они в спартанской обстановке! Все жаждали утонченных цивилизованных наслаждений.
Перемена была разительна. Во Франции создалось совершенно новое общество, – дурно воспитанное и в корне своем развращенное революцией. Оно воздвиглось на руинах террора и состояло из смешанной толпы людей старого и нового режима, из более или менее республикански настроенных роялистов и умеренных республиканцев.
Никогда еще Париж и его общество не представляли собою столь странной картины, как при последнем издыхании Конвента и начале господства Директории. Старое общество погибло, а новое лишь зарождалось. Восстановление в неприкосновенности прежних привычек и нравов едва ли было совместимо с республиканскими принципами, поведшими к их изменению, – а новое создать было очень трудно.
Поэтому каждый жил, как ему хотелось, свободно и непринужденно как с внешней, так и с внутренней стороны. Общество представляло собою сплошной огромный маскарад, в котором главные роли играли “merveilleuses”, “muscadins” и “incroyables”.
Республиканские привычки и обычаи снискали себе дурную репутацию. Остались лишь некоторые, как, например, ношение трехцветной кокарды, обращение “гражданин” и “гражданка” и другие. Обращение на “ты”, распространенное во время господства террора, не встретило сочувствия, и общество вернулось к прежнему, более корректному “вы”.
Никогда не приходилось видеть Парижу столько блестящих и фривольных торжеств, столь пышных и разгульных развлечений и столь крайних преувеличений в моде и в нравах, как во времена Директории! После страшных дней революции, похоронивших под своими развалинами трон, церковь, аристократию, моду и духовную жизнь, французы с радостью устремились под мирную кровлю порядка. Их манила сюда человечность и цивилизация. Но в сознании, что завтра может быть непохожим на сегодня, что в короткое время все может стать гораздо хуже, чем было раньше, они преувеличивали все наслаждения и превратили элегантный, изящный Париж прошлых веков в дом сумасшедших.
Во всех концах города давались балы и пиршества; на прогулках, в парках и на улицах появились вновь запрещенные до того времени экипажи, еще более элегантные и пышные, нежели раньше. В салонах решались вновь заговаривать, высказывать свое собственное мнение. На бульварах, в Елисейских полях, в Булонском лесу вновь появились изящные всадники и амазонки, нарядные ливреи и жокеи. Снова появились господа и слуги, а вместе с ними и классовое различие, хотя повсюду и провозглашались свобода и равенство. Господство богатства заступило место господству санкюлотизма. Клубы превратились в салоны, – правда, открытые, с доступом для всех и каждого.
На набережных, до тех пор погрязавших в грязи, и плохо освещенных улицах Парижа воцарились – правда, хотя и не с начала 1796 года, – снова порядок и чистота.
Открылось много красивых магазинов, не оставлявших желать ничего в отношении элегантности и роскоши. Витрины их привлекали публику. Элегантное общество бывало теперь всюду: в театрах, кафе, ресторанах и во вновь открытых бесчисленных летних садах. Все старались по возможности скорее и полнее удовлетворить свою жажду наслаждения.
Эта неожиданная перемена общественных привычек и нравов, естественно, повлекла за собою страшные преувеличения и излишества. Люди были точно в чаду от радости и удовольствия. Их жажда роскоши и чувственных наслаждений казалась ненасытной. То было странное время, в которое все хотели быть богатыми, в которое расточительность считалась признаком хорошего тона. Париж был скопищем всех экстравагантностей, всего великого и прекрасного, но в то же время и всего низменного и пошлого! Больше, чем когда либо, был он центром для всех гениальных людей, для всех шарлатанов, ораторов, художников и других, надеявшихся выдвинуться благодаря своим способностям или интригам.
После термидора в Париже насчитывалось 644 общественных танцевальных зала! Французы танцевали! В пляске старались они забыть кошмарные воспоминания кровавой эпохи. Но то были уже не прежние грациозные менуэты, кадрили, па-де-катры и гавоты, – изящные па и низкие поклоны старого общества. Новому нужны были более живые танцы, в которых они могли бы отразить всю свою страсть, весь свой темперамент. Появился вальс. Его привезли как новинку из Австрии, и французы тотчас же сделали его своим излюбленным танцем.
Богатые и бедные, высшие и низшие классы, – все кинулись в объятия Терпсихоры. В деревянных башмаках танцевали с тем же увлечением, как и в изящных шелковых туфельках, в прозрачных греческих или римских туниках, розовых трико и на котурнах. Были общественные балы, вход на которые стоил два су, были и такие, куда не было доступа бедным. Каждый находил удовольствие по своему вкусу. Высшее общество устраивало балы, на которые продавались абонементы, как на концерты и в театры. Вход туда стоил не менее пяти – двадцати франков. Во всех танцевальных залах были специальные помещения, в которых дамы могли менять свои трико телесного цвета.
Самым популярным из подобных заведений считался отель Бирон, оркестром которого управлял известный Жерар; посещались охотно и балы в доме Равенства, балы Гармонии и балы “Жертв” в отеле Телюссон. На последние допускались лишь те, близкие которых погибли на эшафоте. Там танцевали в траурных платьях и приветствовали друг друга троекратным кивком головы. Дамы носили коротко остриженные волосы и красную ленту вокруг шеи, – она должна была напоминать о крови обезглавленных. Парижане, таким образом, танцевали не только из жажды удовольствия, но также и из духа противоречия.
Самыми элегантными и популярными из всех этих балов были балы в отеле Ришелье. Там собирались сливки новой аристократии и высшего света. Из дам в прозрачных газовых платьях с прическами, перегруженными кружевами, бриллиантами и золотом, с обнаженными руками и плечами, из всех этих нимф и сирен выделялась “La belle Tallien” или, как ее все называли, “Notre dame de Thermidor”; там бывали также и ее близкая подруга, маркиза де Богарне, несравненная в своей греческой простоте Жюли Рекамье, а также и экстравагантная мадам Гамелен.
Мужчины являлись на всех балах резким контрастом к блестящей красоте женщин, к их свежему благоуханному телу, ко всей расточительной роскоши. Одевались они изысканно небрежно, и в то время как женщины всеми фибрами своего сердца отдавались танцам, мужчины, казалось, думали при этом о близком государственном перевороте. Этого требовал хороший тон.
Уличная жизнь совершенно изменилась. В саду Пале-Рояля – названном революцией садом Равенства – совершенно перестало бывать высшее общество, почти исключительно господствовавшее там до революции. Сад этот стал настоящей клоакой Парижа. Его посещали оборванцы, воры, сутенеры и опустившиеся до последней степени проститутки.
Сад Тюильри тоже опустел после 9 термидора. Там гуляло только среднее сословие. Элегантное общество посещало исключительно Елисейские поля и Булонский лес. Сливки же аристократии, мускадены с зелеными или черными воротниками встречались на бульварах, между улицами Гранж-Бательер и Монблана. Место это называлось “Малым Кобленцем”. По вечерам здесь сходились представители старой парижской аристократии, ненавидевшие все, что напоминало им революцию, чернь и граждан. Кто из них не хотел согрешить против хорошего тона, тот должен был хотя бы несколько раз в неделю побывать на “Малом Кобленце”. Аристократы сидели здесь на поставленных в шесть рядов стульях и давали волю своей иронии над политическим положением родины. Здесь собиралась вся знать, словно по лозунгу “Guerre aux terroristes!” Их поведение, их походка, их костюм, все говорило о противоречии! Веер, шаль, носовой платок, – все характеризовало направление политической мысли. На одном были нарисованы лилии, на другом плакучие ивы, листья которой своими очертаниями ясно напоминали всех членов погибшей королевской семьи. Многие дамы выражали свою скорбь по утраченной монархии черными газовыми платьями.
Концерты, театры и особенно бесчисленные “jardins d'été” снова вошли в моду. “Фраскати” было одним из самых элегантных помещений для концертов, игр и балов. Восемь роскошно разукрашенных в античном стиле зал с картинами Калле каждый вечер видели в своих стенах в высшей степени элегантную, аристократическую, хотя и дурно воспитанную публику. У “Фраскати” бывали главным образом политики сомнительного свойства, бонвиваны, театральные дамы, кокотки и дамы из общества с более или менее бурным прошлым. В зеленых беседках тут пили, ели и наслаждались упоительной музыкой. Очень популярными, хотя, правда, среди более серьезной публики, были садовые концерты Марбефа в Тюильри и в Пале-Рояле, кроме того, концерты “слепых”, концерты “республики” и другие.
Французы издавна были большими поклонниками искусства. Даже во время революции посреди бедствий и ужаса они посещали театры. Полные сборы в то время были не редкостью. Теперь, конечно, это проявилось в еще большей степени: ведь снова можно было свободно дышать и свободно наслаждаться! Представления в Комической опере и в театре Фейдо давались теперь ежедневно. Последний, однако, из политических соображений был закрыт в конце 1796 г. В театре Искусств, в Опере, в Водевиле, в Патриотическом театре, в театре Монтансье и в других бывали каждый день полные сборы. Многие из них, однако, просуществовали недолго, прослыв в конце концов “очагами разврата и разгула”, 24 мая 1796 года вновь открылся Французский театр. В ложах сверкали античной наготой героини дня, а актрисы появлялись на сцене более раздетыми, нежели одетыми. Женская красота и блеск бриллиантов стояли на первом месте. Однажды вечером Терезия Тальен, львица моды, появилась в своей ложе в опере одетая в костюм Дианы. Весь “костюм” состоял из тигровой шкуры, прихваченной на античный лад у плеч и у бедер и доходившей едва до колен. Ее голые ноги были обуты в золоченые сандалии, завязанные красными шнурами. С обнаженных плеч свешивался колчан, усыпанный бриллиантами. Когда представление кончилось, она, нисколько не смущаясь, прошла через толпу к своему экипажу.
Легкомыслие нравов проявлялось естественно и в пьесах, которые ставились на сцене. С 9 термидора в театр проник антиреволюционный, или, вернее, антиякобинский дух. Французы мстили революции, которая так долго подвергала все строжайшей цензуре, мстили тем, что ставили на сцене пьесы, в которых высмеивались члены клубов, публичные ораторы, партийные вожди, члены Конвента и судьи революционного трибунала со всеми их пороками, недостатками и смешными сторонами. В некоторых пьесах подвергались осмеянию и торговая, и ростовщическая лихорадка, овладевшая населением. Например, в Водевиле часто давалась пьеса “Tout le monde s'en mêle, ou la manie du commerce”, в которой коммерческие спекуляции развращают и губят целую семью. Все это, однако, нисколько не препятствовало развитию этой пагубной страсти.
Во времена Директории в театрах была запрещена песня мюскаденов “Пробуждение народа”. Перед представлением и в антрактах должны были исполняться патриотические песни, но вскоре распоряжение это потеряло свою силу. Излюбленной фигурой на сцене были парвеню и жена его, бывшая прачка, а теперь богатая и влиятельная женщина, которая, наверное бы, стала настоящей дамой, если бы у нее хватало только ума, манер, воспитания и образования! Так издевалось общество над своим же собственным обликом.
Резкое изменение участи многих людей оказывало странное воздействие. Люди, которых прежде никто не знал, которые до сих пор жили уединенно и замкнуто, благодаря обманам и ростовщичеству богатели и начинали играть крупную роль. Старинные же, уважаемые семьи лишились из-за революции всего своего состояния и терпели крайнюю нужду. От происшедшей перемены страдал прежде всего бывший клир. Так, бывший епископ Виеннский поступил в 1796 году рассыльным в арсенальную библиотеку и сам чинил себе штаны и сапоги.
Все общество напоминало тех слуг при старом режиме, которым, согласно традиции, разрешалось раз в году разыгрывать роль господ. Салоны были открыты для всех; устраивались публичные балы и празднества, все развлекались вместе. Дамы порхали в объятиях незнакомых кавалеров. Актрисы, танцовщицы, авантюристки, светские дамы и куртизанки, все были вместе, соперничали друг с другом в красоте, роскоши туалетов и экстравагантности.
Манеры того времени оставляли желать лучшего. Мужчины не снимали шляп с головы, когда говорили с дамами. Здороваясь друг с другом, еле подымали шляпы или просто кивали головою. Женщины вызывающе смотрели на мужчин через лорнет, некрасивых они громко критиковали, красивым прямо в лицо говорили комплименты. Точно так же обращались с женщинами и мужчины.
Вежливость, предупредительность, любезность и такт старого блестящего парижского общества совершенно исчезли.
Особенно сильно развилось обжорство. Гримо де ла-Реиньер, известный гурман, говорил, что Париж превратился в сплошную огромную глотку. Барра и другие влиятельные люди подавали пример своими блестящими пиршествами.
С 1796 года основалось много обществ, единственной целью которых было хорошо и плотно поесть. Лишь немногие соединяли с этим какие-либо художественные цели. Первым из этих “обжорных обществ” было “Общество обедов Водевиля”. Главный пункт устава его, изложенного в стихах, был следующий:
Champ libre au guere èrotique,Moral, critique et buffon;Mais jamais de politique, Jamais de religion, Ni de mirliton.
Оно состояло, как показывает само название, из актеров, но только из таких, которые имели в прошлом хотя бы два удачных выступления в Водевиле. Другие аналогичные общества, как, например, “Общество медведей”, члены которого вместо застольной песни рычали по-медвежьи, и, наконец, “Общество животных”, в котором каждый член получал имя какого-нибудь животного, открылись вскоре после вышеупомянутого “Общества обедов”. “Общество завтраков” собиралось каждые две недели, чтобы в течение целого дня, с раннего утра и до позднего вечера, “завтракать”.
В частных домах также устраивались роскошные пиршества. Изысканные блюда и все, что было в Париже редкого в области своей и иностранной гастрономии, дорогие вина и ликеры перегружали столы, богато украшенные, почти с восточной роскошью и расточительностью. Времена, когда гости приносили с собою хлеб и другие съестные припасы, давно уже миновали. Гости вкушали яства хозяина, а лившееся потоками вино развязывало языки. Один старался превзойти другого богатством и блеском.
Уврар, богатый банкир и щедрый поклонник Терезии Тальен, в честь того, что он получил от директора Барра эту капризную метрессу, устроил в своем замке Ренси пиршество, равного которому по роскоши и изысканности парижане еще не видали. Посреди стола, накрытого с поразительным вкусом, красовался бассейн из чистого мрамора, наполненный водой. Дно его было покрыто тончайшей золотой пылью; в нем плавали рыбы самых редких пород. В углах помпезно разукрашенного зала били фонтаны из пунша, померанцевой воды и миндального молока. Посуда была вся золотая и серебряная. Бокалы из дивного хрусталя. Кушанья подавались только самые изысканные, вина – самые дорогие, фрукты были привезены со всех концов света.
Гастрономические радости старой Франции не исчезли, таким образом, после революции, а, наоборот, стали играть еще более видную роль. Однако в такое бурное время наряду с безграничными бедствиями низших классов они казались неуместными и грубыми. Всем этим пышным, расточительным празднествам недоставало, впрочем, того благородного изящества, которым умело снабжать старое общество свои не менее лукулловские пиршества. В празднествах теперь было всегда что-то бьющее на эффект, навязчивое, в них была та преувеличенность, которая делала всю эпоху Директории чрезвычайно ординарной и вульгарной.
Верной спутницей этих празднеств была игра. Несмотря на все полицейские меры, азарт французов, превратившийся во время революции в своего рода порок, очень мало ослабел. Помимо разрешенных игорных домов, было много тайных притонов. Владельцами были по большей части частные лица, и они нередко субсидировались высокими членами правительства. Пале-Рояль и окружающая его местность были центром игры. Барра упоминает в своих мемуарах о нескольких таких домах. У всех них не было официального разрешения на азартную игру; отчасти они были также и очагами разврата.
“На улице Сен-Оноре, в доме № 58, – сообщает Барра, – некая мадам Рейяль, покровительствуемая директором Франсуа де Нефшато, содержала игорный дом. Кроме того, ее еще обвиняли в том, что она приводила для посещавших ее депутатов молодых девушек. По утрам ее посещали эмигранты и деловые люди, а вечером в доме шла игра. Неигравшие поднимались во второй этаж, чтобы заняться “политикой”. Что это значило, все великолепно понимали.
На той же улице находился и другой игорный притон. Он принадлежал возлюбленной Шенье, мадам ла-Бушардери. Дом этот посещали офицеры и дипломаты. Говорят, что баронесса де Сталь дала некоему Вивьену деньги на открытие игорного дома. Вивьен этот был в высшей степени безнравственным человеком. Он находился в интимных отношениях с ла-Бушардери, но, кроме нее, содержал еще некую мадам Кошуа…
На улице Бас-дю-Рампар мадам де ла Фар, племянница маршала де Бирона, содержала игорный салон. В числе ее постоянных гостей был генерал Шерер, страстный игрок”.
Во всех этих домах шла игра в “бириби”, “21” и “креп”. Рулетка работала всю ночь напролет. В 1795 году говорили вполне открыто, что депутат Ларивиер проиграл в один вечер в Пале-Рояле сорок тысяч франков.
В частных домах после ужина также начиналась высокая игра. “Фараон”, “вист” и “21” держали гостей до утра за зеленым столом. И на следующий день передавали о баснословных суммах, проигранных в том или другом доме.
Лучше всего можно проследить особенность нового общества в тех немногих салонах, которые снова открыли свои двери. “Изящные манеры благовоспитанных лиц, – говорит мадам де Сталь в своих “Размышлениях о Французской революции”, – выступили ярко наружу, несмотря на простые туалеты, все еще бывшие в ходу со времен господства террора. Якобинцы впервые вошли в салоны высшего света. Их тщеславие бросало тень на все, что считалось хорошим тоном. Их окружали дамы “старого режима, чтобы добиться у них разрешения вернуться их братьям, сыновьям и мужьям…”
Войдем же на минуту в самый известный из этих салонов, в салон мадам Тальен, королевы Директории, женщины, бывшей сперва аристократкой, ставшей затем республиканкой, а 9 термидора утверждавшей, что в ее руках судьба тысяч людей. И это не было преувеличением. Она была спасительницей от горя и ужаса. Ее называли “Notre Dame de Thermidor” и превозносили точно богиню. В Шейло, в конце Елисейских полей, избалованная подруга директора Барра, а впоследствии банкира Уврара, приобрела дом, называвшийся “храмом красоты и грации”. До нее дом этот принадлежал известной актрисе Рокур, – лишняя причина, чтобы тщеславная Терезия пожелала его приобрести. Здесь она принимала всех известных лиц, и весь Париж, несмотря на дальность расстояния, направлял шаги свои к обольстительной Цирцее, в ее “Chaumière”, устроенный с большим изяществом и вкусом.
Все комнаты были устроены в античном стиле по образцу раскопок в Геркулануме. В помпейском вестибюле стояла чудесная группа Нептуна из тонкого севрского фарфора, за которую галантный Барра заплатил тридцать тысяч франков. Глаз радовали здесь высокие светильники на треножниках, греческие ложа, этрусские вазы, картины из греческой мифологии и античные статуи. В маленьком будуаре собрались точно все музы. Тут стояло раскрытое фортепиано с множеством нот на подставках. Ноты лежали повсюду на стульях и на креслах; на диван была брошена гитара. Перед античным креслом стояла дивная арфа, точно тонкие пальцы ее обладательницы только что скользили по ней. В углу мольберт с начатым пейзажем; на полу палитра, кисти и ящик с красками. Тут был даже стол для рисования со всеми необходимыми атрибутами. О писательской деятельности говорил открытый письменный стол, наполненный книгами и бумагами. В книжном шкафу длинные ряды томов, словно только что чья-то рука перебирала и перелистывала их. Тут не было даже забыто наиболее любимое занятие женщины: пяльцы с начатым узором. Терезия, по-видимому, обладала самыми разнообразными талантами.
В этих комнатах мадам Тальен собиралось самое разнородное общество. Ее салоны всегда были переполнены самою разношерстной толпою: депутатами, повлекшими за собою падение Робеспьера, представителями старого общества, аристократами и дипломатами, финансистами и негоциантами, якобинцами и умеренными, роялистами и республиканцами, – все мирно встречались у прекрасной Терезии.
Она умела окружать себя людьми и среди всех муз все же оставалась богиней. Она сумела также вновь выдвинуть толпу прекрасных женщин старой Франции. У нее бывала пикантная остроумная и очень кокетливая мадам Генгерло, – перед нею склонялись все художники и поэты. Бывала и гражданка Мели де Шаторено, и стройная элегантная креолка маркиза де Богарне, белокурая лифляндская баронесса Крюденер, пленявшая всех своим мистицизмом, полумулатка Гамелен, богиня наготы, – едва скрытые смуглые пластичные формы который привлекали взгляды всех “incroyables”, и, наконец, прекрасная Жюли Рекамье, единственная девственная среди всего этого морального хаоса. Последнее объяснялось, впрочем, природным недостатком очаровательной женщины.
Из мужчин здесь бывали: сластолюбивый директор Барра, элегантный Фрерон, банкир Рекамье, чрезвычайно моральный в своих принципах Шатерно, находившийся, однако, не в таких уже моральных отношениях с мадам де Шастеней, Сеген, Готтингер, Гофман и щедрый Уврар… Певец Гара, как и многие другие, достиг своей известности главным образом благодаря тому, что почти каждый вечер пел в салоне мадам Тальен. Аккомпанировали ему на рояле Черубини или Мегюль.
Но центр всего составляла несравненно прекрасная, цветущая хозяйка дома. Она была в греческом костюме; ее изящные ноги и дивно сложенные руки обхватывали золотые браслеты. Глаза ее сверкали, а чувственный рот улыбался победно всем восторженным взглядам, которые устремлялись на нее толпой молодых повес. Звенели бокалы и слышались возгласы: “Pa'ole d'honneu' victimée, cette, femme est deli'ente!”
Особенно серьезных разговоров в Шомьере нельзя было услышать. Большинство политиков, бывавших тут, происходило из низших слоев народа, поставщики армий едва умели читать и писать, – сегодняшние выскочки вчера еще были простыми ростовщиками и нажили свои неисчислимые богатства в течение нескольких месяцев. Тут зато танцевали, пели и играли с позднего вечера и до раннего утра, иногда занимались немного музыкой и декламировали. Тальен обладала всевозможными талантами и умела занимать гостей, хотя и не всегда по их вкусу. В салонах мадам Тальен завязывались и развязывались как любовные, так и политические интриги. Пользовалась всеобщей популярностью и невинная игра, где главная роль принадлежала поцелую. Публицист Лакретель похвастался здесь однажды вечером тем, что поцеловал выше локтя руку прекрасной хозяйки и сравнил ее с Капитолийской Венерой.
Как привычки этого нового общества, таковы были и моды: свободные, смелые, преувеличенные! Женщины или “les merveilleuses”, как их называли, предпочитали греческие или римские костюмы; шея, грудь, ноги и руки были обнажены и увешены драгоценностями. Браслеты носили даже на пальцах ног. Лодыжки, а нередко и бедра обхватывались узкими браслетами. Дамы одевались в прозрачные ткани, сквозь которые не только смутно виднелись очертания форм, облеченных в трико телесного цвета, но которые и совершенно открывали их глазам восхищенных зрителей.
В 1799 году парижанки изобрели особенно утонченную принадлежность туалета. Она должна была, как выражался “Journal des Dames et des Modes”, “оттенять лилейность прекрасной груди и розовый цвет ее естественного украшения”. Речь шла об яркой черной бархатке, обвитой вокруг шеи и заколотой бриллиантовой булавкой под левой грудью, которая была или совсем обнажена или прикрыта легкой тканью.
Даже самая необходимая часть одежды – сорочка была на некоторое время исключена из гардероба парижских модниц, – откуда и наименование их “sans-chemises” в pendant к “sans-culottes”. Одна из таких нимф появилась в Елисейских полях, одетая лишь в тюлевое платье, через которое ясно можно было различить цвет ее подвязок. На одном из балов появилась молоденькая девушка в таком скудном одеянии, что ее даже в это безнравственное время освистали. В конце концов она была принуждена более приличным костюмом скрыть наготу своих едва созревших форм. В 1797 году 2 дамы – то были представительницы высшего общества, а не проститутки, – дошли до того, что появились на гулянье в толпе совсем “au naturel”, даже без трико, а только в прозрачной газовой вуали. Другая же носила легкий плащ, доходивший едва до талии.
Как на маскараде, костюмы назывались мифологическими именами. Там были, например, туалеты á la Юнона, á la Цирцея, á la Флора, á la Минерва, á la Диана. То же и прически – á la Тит, á la Каракалла. Были и головные уборы: á la folle, á la justice, á l'humanité, и шелковые шали “sang-ge-boeuf”. За платья и шляпы платили баснословные деньги. Батистовое платье, отделанное шелком, стоило две тысячи пятьсот, а тюлевое – тысячу сорок франков.
Женщины любили заниматься и спортом. Смелые амазонки соперничали друг с другом в отваге и грации. Править лошадьми считалось признаком хорошего тона. Дамы вместе с кавалерами ездили в самых рискованных античных костюмах или в соблазнительном дезабилье с обнаженными руками, в лучшем случае прикрыв плечи индийской кашемировой или английской кружевной шалью.
Эти шали, стоившие зачастую огромных денег, надевались и на голову. Очень характерным для тогдашней расточительности является следующий эпизод, о котором рассказывает композитор Бланжени в своих мемуарах. Он посетил мадам Тальен и должен был ждать в ее салоне, пока она причесывалась.
“Мне пришлось, – рассказывает он, – прождать, по крайней мере, полчаса, пока, наконец, появилась камеристка мадам Тальен. Она извинилась и попросила войти в будуар хозяйки. Там я впервые увидел одну из прославленных знаменитостей того времени: известного парикмахера Дюплана, из-за услуг которого соперничали впоследствии две императрицы. Когда я вошел в надушенное святилище, Дюплан как раз старался смять в своих руках чудесную кружевную английскую шаль: она должна была украсить собою головку мадам Тальен. Дюплан прикладывал ее несколько раз к волосам, переменял форму и положение ее, но ему все не нравилось его собственное сооружение. Неожиданно ему пришла в голову какая-то гениальная мысль, и он заявил торжественным тоном: “Мадам, шаль чересчур велика. С нею мне не удастся сделать прически, которая была бы достойна и вас, и меня”. Мадам тотчас же позвонила своей камеристке. Та пришла, принесла хозяйке ножницы, и Дюплан разрезал на мелкие кусочки дивную ткань, стоившую по крайней мере, шесть – восемь тысяч франков”.
Таково было время! За прическу, за каприз моды, которая на несколько часов делала женщину королевой вечера, жертвовали с радостью тысячи франков.
Видную роль в туалете женщины, особенно вскоре после 9 термидора, но также и при Директории, играли парики, в особенности белокурые. Признаком хорошего тона считалось менять их каждый день. Модны были все оттенки от матово-пепельного до огненно-рыжего. Элегантные дамы, как, например, мадам Раге, молодая кокетливая актриса Ланж, мадам Тальен, мадам Гамелен и другие, имели каждая штук по тридцати белокурых париков, не считая темных! И каждый такой парик стоил по крайней мере, пятьсот франков!
Вполне справедливо можно было в то время утверждать, что гардероб элегантной парижанки состоял из трехсот шестидесяти пяти причесок, стольких же пар ботинок, шестисот платьев и шести сорочек. Эта традиционная часть одежды, как мы уже упоминали, на некоторое время совершенно исчезла из гардероба элегантного света.
Не менее вызывающими были и мужские моды. Наряду с мюскаденами (прозванными так за любовь к сильным духам мускуса), которые носили невероятно узкие брюки, парик и высокий зеленый или черный воротник в знак их антиреволюционных мировоззрений, – истинными львами Парижа были “incroyables”. Их франтовство достигало крайних пределов.
Коротко остриженные на затылке волосы спадали на лоб бесчисленными локонами, напоминавшими пробочники, так что совсем закрывали брови, густо подведенные карандашом. Голова, украшенная черным цилиндром с крохотной кокардой, тонула в невероятно высоком воротнике сюртука, с еще более огромным шелковым галстуком. Виднелись только глаза и нос франта. Большею частью синие сюртуки были снабжены длиннейшими фалдами, доходившими иногда до самых пят. Руки терялись в таких же длинных и узких рукавах, едва только виднелись концы пальцев. На руках носили вышитые перчатки. На английском светлом или коричневом жилете красовались два ряда громадных перламутровых пуговиц. В кармане, большею частью на виду, носили массивные золотые часы, между тем как другие, которыми пользовались для постоянного употребления, в маленьком жилетном кармашке. На шее “incroyable’я” висел на тонкой цепочке портрет возлюбленной, который, правда, менялся чуть ли не каждый день. На правой руке красовался золотой, филигранной работы, браслет, левую же постоянно держали небрежно в кармане длинных узких брюк.
Походка и осанка поражали своей извращенностью. Все “incroyable'и” горбились, точно были калеками от природы. Они строили из себя близоруких и либо носили на носу огромные очки, либо же вооружались уродливыми лорнетами, которые каждую минуту подносили к глазам. Ссылаясь постоянно на головную боль, они то и дело нюхали из усыпанного бриллиантами флакона с солью. Они вообще старались придать себе чопорный, небрежный вид, который, однако, не препятствовал им отправляться на прогулку с огромной дубинкой; впоследствии, правда, дубинку эту заменила гибкая тросточка.
Чтобы считаться человеком высшего света, денди, нужно было обладать по возможности длинными и узкими ногами. Те, которых природа не оделила такими ногами, заставляли своих сапожников трудиться над пересозданием их.
Наибольший восторг вызывал тот, кто выкидывал самые дикие и несообразные вещи: ходил, например, в прекрасную погоду в высоких сапогах, а в грязь и дождь в розовых шелковых чулках и в открытых туфлях.
Хорошим тоном считалось также играть в обществе настоящими или фальшивыми локонами, спадавшими на лоб, или же вести разговор, совершенно искажая слова. Если к тому же фат окружал себя благоуханием амбры, то он мог быть уверен, что его назовут “délicieux”. Карманы “incroyable’я” должны были быть постоянно наполнены конфетами, чтобы он каждую минуту мог предложить их дамам. При этом проводилась совершенно определенная система. Старух угощали “bonbons a la rébus”, “dragées a la bonne aventure”, молоденьких женщин – “pistaches à la Fanchon”, “pastilles galantes” и “surprises”, молоденьких девушек – “déjeuners de l'amour”. Нельзя было даже забывать, о собачках и кошках хозяев. Первым приносили сладкие крендельки, а кошек расчесывали маленьким черепаховым гребешком, который постоянно носили при себе. Эксцентричности моды простирались и на язык “incroyable'ей”. Популярный певец Гара, известный, кроме своих талантов, еще фатовством, предпринял “реформу французского языка”. Согласная “r” казалась ему чересчур грубой, и он вообще вычеркнул ее из алфавита. В последователях у Гара не было недостатка. Он говорил поэтому “pa'ole d'honnen”, а не “parole d'honneur”, “sup'ême” вместо “suprême”, “inc'oyable” вместо “incroyable”, “me'veilleuse” вместо “merveilleuse”. Признаком хорошего тона считалось также и пришептывание: “Ze vous zu'e” говорили вместо “Je vous jure” и т. п.
В этом хаосе всех понятий не второстепенную роль играла галантность. Испорченность нравов дошла наконец до того, что женщины высшего круга, ничуть не стесняясь, предавали публичной огласке свои любовные приключения. Что прежде робко сохранялось в тайне, то теперь в глазах всего общества считалось простым и вполне естественным; для женщин не было ничего запретного: им было дозволено все. Не вредя своей репутации, они могли наряду с законным супругом иметь еще одного или нескольких любовников, а для супруга даже считалось вполне “comme il faut” содержать нескольких метресс. Дамы отыскивали любовников на улицах, на публичных балах, в театрах и меняли их как платья и парики. Тот, кто охотнее всего удовлетворял их капризы и расчетливость, пользовался наибольшим успехом. Свободная любовь в свободном государстве, таков был общий идеал!
Брак с его обязанностями на всю жизнь давно уже перестал приходиться по вкусу французам. Декретом 23 апреля 1794 года был введен развод, который разрешал каждому обманувшемуся в счастье искать нового. Это нововведение революции хотя и имело свои светлые стороны, однако принесло и много вреда. Оно положило конец многим несчастным бракам, но склоняло к невероятным злоупотреблениям. Люди сегодня венчались, а на завтра уже разводились, смотря по капризу и настроению. Малейшее недоразумение между супругами считалось тотчас же тиранией и приводило их на суд. Бывало так, что люди несколько раз в один год разводились и снова венчались. В “Монитере” от 27 декабря 1796 года опубликовано прошение одного господина, который просил разрешения жениться на своей теще: незадолго до того он по порядку развелся с ее двумя дочерьми.
Этим новшеством воспользовался некий Лиардо. Во время революции он открыл брачное бюро, в котором дамы и кавалеры могли встречаться и знакомиться друг с другом. После 9 термидора другой господин набрел на остроумную мысль учредить “пансион для молодых девушек”. Три раза в неделю он устраивал балы или концерты, на которые приглашались все элегантные, богатые кавалеры, обладавшие матримониальными намерениями. И вскоре брак стал для французов не чем иным, как торговой сделкой, которую по желанию можно было совершить и расторгнуть, когда заблагорассудится.
Это положение вещей, разумеется, было неспособно склонять мужчин к браку. Они говорили: “К чему жениться, раз женщины и так все доступны?” Они были вполне правы. У женщин времен Директории не было ни следа той тактичности, той деликатности, которыми обладало общество старого режима несмотря на все свои недостатки и пороки. Женщины в то аморальное время прежде всего старались предоставить взглядам мужчин свои неприкрытые прелести. Париж напоминал собою город проституток.
Наряду с этой невероятной роскошью, этой расточительностью и этой горячкой наслаждений, охватившей высшие круги общества, точно страшная пропасть зияла нищета и нужда низших классов населения Парижа. Какая злая ирония! Революция с ее стремлением к равенству повлекла за собою еще большее неравенство общества.
Бедные нуждались во всем. В столице не было самого необходимого. В то время как тысячи выбрасывались в один вечер на удовольствия, туалеты, женщин и простые капризы, у бедных не было хлеба. Многим приходилось уходить с пустыми руками, так как запасов булочников не хватало для массы голодных. Больше половины парижского населения кормилось исключительно картофелем. За фунт мяса платили в 1796 году шестьдесят франков, за фунт хлеба – пятьдесят. Фунт сахару стоил триста пятьдесят франков; фунт свечей – сто восемьдесят, а фунт мыла – сто пятьдесят франков. За бутылку молока платили шестьдесят, а за меру картофеля – двести франков. Сапожник брал за пару ботинок семьдесят франков, за пару сапог – сто франков. Портниха за работу простого платья считала двести франков. Уголь и дрова были еще более недоступны.
По улицам скитались жалкие фигуры с голодными изможденными лицами. Они просили у элегантных, увешанных драгоценностями гуляющих дам милостыню, в которой им часто отказывали из лени, чтобы не доставать кошелька. Бесчисленные кулаки сжимались в бессильной злобе. И в то время как богатый Париж купался в роскоши и наслаждениях, чернь роптала от своей безграничной нужды. Она клялась в кровавой мести расточителям. Вождем недовольных был Бабеф. Но голова его скатилась с гильотины в самом начале его социалистических стремлений, в самый разгар неистовства нового общества.
Нужда порождала ростовщичество, азарт, спекуляции и всевозможные темные дела и делишки. Все занимались торговлей. Пале-Рояль, которого теперь чуждалось лучшее общество, никогда не был так переполнен всякими подозрительными личностями, как после 9 термидора. Тут спекулировали ассигнациями, чеками и деньгами и торговали всем, чем только было возможно. Париж голодал, Париж мерз! Народ быть охвачен лихорадочным стремлением к наживе, чтобы тоже вкусить хотя бы долю той роскоши, которая царила вокруг. Воровство и мошенничество достигли крайних пределов. В магазинах и на улицах продавалось решительно все: материя, книги, хлеб, кружево, картины, масло, мыло, шерсть, пудра, драгоценности, соль, платки, перчатки, цветы, ленты, чулки, дрова, уголь, сапоги и другие вещи, которые Бог знает откуда взялись или, вернее, откуда были украдены.
Все увлекались биржевыми спекуляциями, даже дамы из высшего общества. В биржевые часы они объезжали в своих элегантных кабриолетах всех крупных негоциантов и финансистов к заключали с ними сделки. В салонах и на прогулках они только и говорили, что о своих спекуляциях. Еще больше увлекались женщины среднего сословия. Они не стыдились публично заниматься ростовщичеством. Даже крестьяне, приезжавшие в город для продажи на рынке своих продуктов, занимались этим позорным делом. Они повышали цены на свои товары или же брали бумажные деньги, но взимали за это невероятные проценты. Благодаря этому много бедняков нажило огромные состояния: деньги не играли для них вообще никакой роли. Во время величайшей нужды, когда в Париже ощущался сильный недостаток решительно во всем, две крестьянки хвастались на рынке, что не отказывают себе ни в чем. Они тратили на обед пятьсот пятьдесят франков, а за два места в театре платили по восьмидесяти франков.
Народная мораль пала: ее уничтожило корыстолюбие и жажда наживы. Ростовщичество и спекуляции достигли своего апогея. В конце 1796 года спекулянты повысили луидор до двадцати трех тысяч, а впоследствии до двадцати пяти тысяч франков. Несмотря на самые строгие полицейские меры, старавшиеся положить конец преступному ажиотажу, он совершался открыто, у всех на виду.
Женщины и девушки торговали открыто любовью. Уже в 1790 году в Пале-Рояле было свыше тысячи публичных женщин. С годами число их достигло ужасающей цифры, несмотря на строгие распоряжения революционного правительства. Во время господства террора они еще несколько сдерживались, но после 9 термидора, когда надзор за ними был сразу ослаблен, они достигли верха цинизма и дерзости. В садах Пале-Рояля и в Елисейских полях они предавались самому бесстыдному разврату с пьяными солдатами; совершенно голые подходили они к окнам, кричали и визжали, лишь бы обратить на себя внимание прохожих; в те времена, когда женщины высшего общества не скупились на ласку, жрицы Венеры терпели большую нужду. Но жить все-таки было нужно, и они пускались на всевозможные хитрости. Чтобы привлечь к себе внимание и даже сострадание, одни гуляли с нанятыми детьми и носили траурный креп. Другие же рассчитывали на вкус молодых людей, любивших случайные встречи и приключения. Эти несчастные создания тоже занимались всевозможными спекуляциями. Они снимали какую-нибудь лавчонку и продавали всевозможные вещи, скупая их за деньги, нажитые их ласками предыдущею ночью. Покупатели, очарованные видом прелестных продавщиц, с радостью платили за все двойные цены.
Помимо этих несчастных гетер, в Пале-Рояле и на окружающих улицах можно было встретить знаменитых жриц любви. Разряженные в пух и прах, увешенные поддельными бриллиантами, они завлекали иностранцев своими фальшивыми прелестями.
Крупную роль в развитии безнравственности играли солдаты. Число их в Париже уже в 1796 году достигало тридцати – сорока тысяч. Они почти не выходили из Пале-Рояля и ночью и днем шатались с проститутками по кофейням и ресторанам. Никакой дисциплины не существовало. Долго спустя после вечерней зори справляли они дикие оргии с женщинами. Во всех общественных местах, в театрах, на концертах, в кафе, тратили они огромные суммы. Конвент, а впоследствии и Директория платили им, правда, высокое жалованье, стараясь привлечь на свою сторону. В среднем в 1795 году республиканский солдат получал пять франков в сутки.
Результатом такого состояния общественных нравов было невероятное число подкидышей. Их отвозили в госпитали. Но ухаживали за ними очень небрежно, так как государство отпускало на их воспитание ничтожные суммы. Множество детей отдавалось в провинцию, но там за ними был еще более дурной уход, и по большей части дети вновь возвращались в воспитательные дома.
Безнравственность порождала естественно и преступления. Мягкие законы умножили число воров и убийц. Париж и окрестности его стали убежищем для шаек разбойников. Жители находились в постоянном страхе, но Директория не делала ничего для предотвращения этого зла. Еще в 1798 году слышались неоднократные жалобы на беспрестанные кражи и другие преступления.
Всем этим ненормальным явлениям положил предел лишь Консулат, хотя и он в первые годы не сумел водворить надлежащего порядка.
ГЛАВА XIII. ЖОЗЕФИНА
Юность. – Мадам де Богарне. – Генеральша Бонапарт
Имя Жозефины связано настолько тесно с крупными событиями наполеоновской истории, что политическую карьеру Наполеона нельзя проследить, не касаясь его первой спутницы жизни. Эта женщина, познавшая величайшее горе в тюрьме и величайшее счастье на одном из самых блестящих тронов Европы, с бурным и сомнительным прошлым, обладала романтичными и в то же время в последние годы своей жизни – грустно-обаятельными чарами. Они придают ей привлекательный облик, несмотря на все ее слабости и недостатки.
Жозефина, вероятно, самая популярная, хотя и наименее правильно понятая личность наполеоновской эпохи. Ни о ком другом не существовало столько ошибочных мнений, сколько о ней. Но не она ли именно должна претендовать на наиболее верное изображение ее личности и истории ее жизни? Разве она, по-своему, не способствовала величию и славе своего супруга? И разве не говорил про нее Наполеон: “Жозефина покоряет сердца, я же покоряю страны”. Она была недаром креолкой и сумела соединить врожденное обаяние своей расы с чисто парижской прелестью и изяществом.
Как и Наполеон, Жозефина родилась на острове: во французской колонии Мартинике. Ее родители оба были родом из старинных и видных графских семейств. Таше де ла Пажери принадлежали к родовитой французской провинциальной аристократии. Величайшей честью для них было служить королям. Но это не приносило им ни почестей, ни материальных выгод. Дед Жозефины, Жозеф-Гаспар Таше, был принужден поэтому в 1726 году отказаться от своей дорогостоящей военной карьеры и попытать свор счастье в колонии в качестве фермера. Выбор его пал на Мартинику.
Мадемуазель Бурро де ла Шавалери, жена его, принесла ему значительное приданое и родила двоих сыновей и троих дочерей.
Старший сын, Жозеф-Гаспар, родившийся в 1735 году, был отцом будущей императрицы Жозефины.
Предприятия старого Таше окончились, однако, очень печально. Он потерял состояние жены, запутался в долгах и, кроме того, повторил ошибку своих предков, предоставив обоих своих сыновей военной карьере и послав их во Францию.
Когда старший двадцати лет вернулся на родину, на Мартинике вспыхнула война с англичанами. Все способные носить оружие были использованы в целях защиты колонии, и Жозеф-Гаспар Таше получил должность первого лейтенанта при форте Рояль.
Нападения англичан становились все более ожесточенными. Губернатор острова, де Боннар, был вскоре уже не в силах оказывать им серьезное сопротивление. Чтобы удержать за собою остров, французское правительство послало туда энергичного человека: человек этот был отцом первого мужа Жозефины, “Мессир Франсуа де Богарне, майор морской армии”.
Де Богарне высадился вместе со своею женою 13 мая 1757 года близ форта Рояль. Он был одним из богатейших землевладельцев Орлеана, но более выдавался своим богатством, хорошими связями и высокими чинами, нежели старинным родовым гербом.
Первое сближение нового губернатора с обедневшими Таше, которые влачили на острове жалкое существование, произошло, по всей вероятности, потому, что обе семьи были из одной и той же провинции. Будучи земляками, они скоро познакомились, сдружились и закрепили дружбу родственными связями. Особенно старшая дочь Таше, Мария-Дезирэ, будущая мадам Реноден, оказывала на Богарне большое влияние. Ее дружба с последним зашла так далеко, что, когда он в 1761 году был принужден оставить колонию, она развелась с мужем и уехала с ним во Францию. Впоследствии она имела решающее влияние на судьбу своей, в то время еще не родившейся, племянницы Жозефины.
Приблизительно за год до отъезда губернатора его жена родила второго сына. Он получил имя Александра Франсуа. Это и был будущий муж Жозефины.
Чтобы избегнуть для ребенка опасного морского путешествия, родители перед отъездом с Мартиники поручили его своим друзьям Таше, и, таким образом, Александр де Богарне прожил свою раннюю молодость в доме деда своей будущей жены. За это губернатор оказал семейству Таше услугу, устроив для старшего сына Жозефа-Гаспара выгодную партию, несколько восстановившую запутанное материальное положение семьи. 8 ноября 1761 года Таше женился на Розе-Клэр де Верже-де-Саннуа.[48] Она была лучшей подругой его сестры, мадам Реноден.
Молодая чета поселилась в Труа-Илете, где у Верже были большие владения. Когда англичане снова овладели колонией, молодой Таше отказался от военной карьеры и всецело посвятил себя сельскому хозяйству. Здесь жена его после первых неудачных родов произвела на свет 23 июня 1763 года дочь, ставшую впоследствии повелительницей Франции. Она получила имя Марии-Жозефа-Розы,[49] по ее обоим восприемникам, бабке со стороны отца, деду со стороны матери и по своей матери. В последующие три года родились еще дочери: Екатерина-Дезирэ в 1764 и Мария-Франсуаза в 1766 году. Несмотря на многочисленные и самые противоположные мнения, Жозефина, подобно Наполеону, родилась француженкой! Европейский мир, возвративший Франции ее прежние владения, был заключен спустя один месяц после ее рождения, 10 февраля 1763 года.
Отец воспользовался этим удобным случаем и обратился к королю с просьбой награды за услуги, оказанные отечеству: ходатайство это было уважено, и он получил пенсию в четыреста пятьдесят франков. Этою “милостью” он был отчасти обязан жившему теперь в Париже маркизу де Богарне и своей сестре, мадам Реноден. Она была теперь метрессой маркиза и к тому же очень неглупой и расчетливой женщиной, заботившейся прежде всего о благосостоянии своей собственной семьи. Она носилась с мыслью объединить путем брака обе семьи и обратила внимание на младшего сына де Богарне. Покамест, однако, ее этот план не мог быть приведен в исполнение по очень простой причине: Александру было всего пять лет.
Положение семьи Таше было далеко не блестящее. Тетке Реноден приходилось все время помогать им. Буря в 1766 году разрушила большую часть острова и, между прочим, и владения молодых Таше. Сахарные и кофейные плантации были совершенно уничтожены, дом весь превращен в развалины: осталось всего лишь одно здание сахароварни.
В нем-то и нашла убежище вся семья, и Жозефина провела здесь свою первую молодость, пользуясь золотой свободою. За ребенком ходила мулатка по имени Марион. Она водила ее к ручью, в который смотрелась маленькая тщеславная девочка, украшая себя пестрыми цветами и раковинами. Черные слуги и служанки с нескрываемым восхищением смотрели на стройную белую девочку, нежную, добрую и приветливую. Балуемая всеми, Жозефина росла в полнейшей непринужденности, не получая никакого образования и никакого морального воспитания. Посреди богатой, щедрой природы, под тропическим небом, она превратилась в прекрасную, стройную девушку, которая впоследствии стяжала так много лавров в элегантном извращенном Париже.
Тетка Реноден решила взять на себя воспитание одной из дочерей своего брата и просила его несколько раз прислать ей в Париж Жозефину. Но родителям не хотелось расставаться с дочерью. Только когда ей исполнилось десять лет, они сочли нужным дать Жозефине хотя бы какое-нибудь образование. Ее отдали в монастырь “Dames de la Providence” в форте Рояль. Там она получила довольно скудное элементарное образование, научилась немного и музыке, в которой выказала недюжинные способности, и танцам. В монастыре она пользовалась почти полной свободой.
В пятнадцать лет воспитание Жозефины было закончено. Она вышла из монастыря и вернулась к родителям. Уже в то время она была, как передают, очень кокетлива. Некий капитан Терсье и один англичанин старались добиться ее расположения. Жозефина, несмотря на свой юный возраст, уже вполне развилась; об этом сообщает ее отец в письме к маркизу де Богарне. Но едва ли можно доверять показаниям людей, которые много дет спустя вспоминали, что знали в своей ранней молодости французскую императрицу.
Рассказывают, будто одна старая негритянка предсказала Жозефине, что она станет когда-нибудь впоследствии королевой Франции.[50]
В то время Жозефина только рассмеялась нелепым бредням старухи: ведь на французском троне восседала умная Мария-Антуанетта, высший идеал всех королев для Жозефины! Как могла она, маленькая креолка, достигнуть такой недосягаемой чести? Впоследствии разведенная императрица с грустью вспоминала в Наваррском замке это пророчество и то время, когда вся жизнь была у нее еще впереди!
Хотя Жозефина не была никогда особенно красива, все, однако, прославляют ее грацию и обаяние, два качества, превративших ее в обворожительную женщину, которую не затмевали даже признанные красавицы Парижа.
Пятнадцати лет, однако, она не достигла еще этого обаяния. У нее, правда, был очень хороший цвет лица, красивые глаза, изящные руки и ноги, но фигура еще не развилась, лицо не получило еще выражения, ее движениям недоставало жизни. Да и умственно она не была еще развита. В монастыре ограничились тем, что научили ее правильно читать и писать. У нее был красивый почерк; она пела, мило играла на гитаре и хорошо танцевала. Да и большего от молодой девушки на Мартинике не требовалось. Жозефине хотелось немного подучиться, лишь бы только обратить на себя внимание: она была очень тщеславна. Вообще она была милым, нежным созданием, мечтавшим когда-нибудь отправиться во Францию, в волшебный Париж.
Во время этих мечтаний Жозефины о далеком Париже во Франции успешно подвигался вперед план ее замужества. Александру де Богарне, воспитывавшемуся с 1766 года во Франции, исполнилось семнадцать лет. Он был красивым юношей, получил хорошее образование, отличался физической отвагой и большой находчивостью. Он тщательно ухаживал за своей внешностью, и хотя на губах его еще не появился даже пушок, он принадлежал к числу самых элегантных кавалеров тогдашнего общества.
Тетка Реноден спешила женить молодого офицера. Он же со всем пылом своей юности предавался военной службе, развлекался в кругу своих товарищей и был любимцем всех дам. Он и не думал о браке. Но желание его крестной, которую он любил сыновней любовью, было для него свято. Кроме того, брак давал ему обладание назначенной отцом крупной ренты. Это, по всей вероятности, больше всего побудило расточительного молодого человека подчиниться желанию отца и крестной.
Старый маркиз написал по этому поводу Жозефу-Гаспару Таше и не забыл упомянуть о том, что каждый из его сыновей получит ренту в сорок тысяч франков и может рассчитывать еще на другую, в двадцать пять тысяч франков. Приданого он от невесты поэтому не требует, достаточно, если она возможно скорее приедет во Францию. И он, и мадам Реноден колебались в выборе между обеими дочерьми Жозефа: старшая Жозефина казалась им слишком не подходящей по возрасту для семнадцатилетнего Александра. Они писали поэтому про вторую дочь, Екатерину-Дезирэ, но еще до получения письма маркиза Екатерину в три дня унесла лихорадка.
Прекрасная партия была, однако, настолько заманчива для Таше, что отец не хотел так легко от нее отказаться. Ведь ему нужно было выдать замуж двух дочерей! Так как Екатерина теперь умерла, то он предложил старику Богарне свою младшую дочь: ей еще не исполнилось двенадцати лет! Ему, правда, хотелось, чтобы сперва вышла замуж старшая, но в конце концов с этим можно было еще примириться. Кстати, однако, он не преминул расхвалить и достоинства Жозефины: “У нее очень нежная кожа, красивые глаза, дивные руки, она сгорает от желания увидеть Париж… У нее превосходный характер, симпатичное лицо, она чрезвычайно развита и образована для своего возраста”, – писал он, между прочим, маркизу. Таше был не прочь предложить Богарне на выбор обеих дочерей.
Но он написал это письмо без ведома матери, бабки и даже без ведома юной Марии-Франсуазы. Манетта – как звали ее дома – упорно воспротивилась при поддержке матери и бабки этому путешествию во Францию, цель которого ей, конечно, оставалась неизвестной. Отцу пришлось вновь заинтересовать маркиза де Богарне своею старшей дочерью.
Наконец сделка состоялась. Удалось уговорить и молодого Богарне, который, с целью добиться более почетного места при дворе, присвоил себе титул виконта, и маркиз отправил письмо, в котором выражал Таше свое удовольствие увидеть в скором времени его вместе с дочерью во Франции. Поездка невесты была, однако, отложена на целый год, ввиду вспыхнувшей в 1778 году морской войны, затруднившей переезд через океан.
Только 20 октября 1779 года Таше вместе с Жозефиной прибыли в Брест, гарнизон молодого Богарне. И в тот же год, когда Жозефина впервые ступила на севере на французскую землю, на юге с другого острова приехал во Францию тот, кто должен был возвести ее на императорский трон!
Первое впечатление, произведенное Жозефиной на ее будущего мужа, не вызвало у молодого человека особого восхищения. “Мадемуазель Таше де ла Пажери, – писал Александр своему отцу, – покажется вам, вероятно, не такой красивой, как вы мне говорили, но смею вас уверить, что ее мягкий, добрый характер превосходит всякие ожидания”.
В этих сухих словах не звучало, конечно, счастья влюбленного. Тем не менее Александр де Богарне спустя шесть недель, 13 декабря 1779 года, повел к алтарю Жозефину Таше де ла Пажери в Нуази ле-Гран, где у тетки Реноден была своя вилла.
Эту виллу тетка подарила племяннице ко дню свадьбы. Кроме того, она позаботилась о приданом Жозефины и истратила на это 20872 франка. Отец обязался выдавать своей дочери ежегодную ренту в пять тысяч франков, но Жозефина, по-видимому, очень редко, или, вернее, никогда не получала ее.
Первый год супружеской жизни прошел довольно благоприятно, хотя Жозефина и была одинока. Брак, заключенный при таких условиях, не мог предоставить супругам особого счастья. В огромном Париже, о котором Жозефина столько мечтала, у нее не было ни души знакомых. Богарне отчасти стеснялся провинциалки, не умевшей еще одеваться с утонченностью истой парижанки и не блиставшей ни своей внешностью, ни своим остроумием. Он отнюдь не спешил вводить в свет свою жену. Кроме тетки Александра, довольно известной писательницы, Фанни де Богарне, семья его почти не заботилась о новой родственнице. Все они видели в Жозефине только племянницу мадам Реноден, метрессы маркиза! Звание метрессы ей, наверное, простили бы в это легкомысленное время, но то, что она жила с Богарне открыто в свободном браке, – никогда!
Жозефина скучала в одиноком домике на улице Тевено, где она поселилась зимой, и еще больше, когда ее муж весною 1780 года вернулся к себе в гарнизон. Злополучная ревность Жозефины впервые дала себя знать. Александр не любил жену; супружеская любовь казалась ему скучной, и он вознаграждал себя, развлекаясь на стороне. К Жозефине он с каждым днем относился все холоднее: наставническим тоном писал он ей длиннейшие письма относительно ее поведения и старался научить ее светским манерам. Вместо нежных слов Жозефина, искренне преданная своему мужу в первые годы супружеской жизни, находила в этих письмах только поучения и сентенции.
Вскоре, однако, появились и трения в этом союзе столь различных людей. Образование Жозефины было далеко недостаточно, в духовном отношении она стояла гораздо ниже супруга, да и манеры и привычки ее были совершенно другие, чем те, к которым привыкли в Париже. Все это отталкивало виконта, вращавшегося в лучших кругах, и влекло за собою различного рода недоразумения. Богарне по-прежнему вел свой легкомысленный образ жизни и изменял Жозефине. Когда он снова вернулся в Париж, отношения супругов далеко не улучшились.
Но наступило, наконец, счастливое событие, на которое возлагали все свои надежды тетка Реноден и старый маркиз, 3 сентября 1781 года Жозефина родила своего сына Евгения. Александр, однако, столь же мало заботился о сыне, сколько и о жене. Тетка Реноден настояла поэтому на их кратковременной разлуке. Она порешила послать его в небольшое путешествие, которое должно было вернуть его на путь истинный. Выбор ее пал на Италию. Но там он повел все тот же рассеянный образ жизни, как в Париже и в гарнизоне. После шестимесячного отсутствия он возвратился во Францию таким же легкомысленным, каким и уехал. Быть может, его рассеянная жизнь и малодружелюбное отношение к жене были виновны в том, что впоследствии Жозефина так мало заботилась о святости брака.
Едва Богарне вернулся в Париж, как снова задумал новое путешествие. 26 сентября он отправился добровольцем на Мартинику, которой угрожало новое вторжение англичан и которая просила помощи у Франции. Но, прибыв на остров, он застал там уже мирные переговоры. Предоставленный снова свободе, он повел и там ту же бурную жизнь. Он считал себя вполне вправе, тем более что злые языки наговорили ему много нелепых подробностей из молодости его жены. Хуже всего было, однако, то, что Александр влюбился в одну креолку, опасную соперницу семьи Таше, и взял ее с собою в Париж.
Жозефине тем временем предстояли новые роды. 10 апреля 1783 года она подарила жизнь дочери, будущей королеве Гортензии. Отец узнал о рождении ребенка лишь два месяца спустя. Интриги и злополучное влияние его креольской подруги побудили его обвинить Жозефину в измене, отречься от ребенка и предложить жене оставить его дом. Все это было, однако, только предлогом, чтобы добиться развода. Процесс был неминуем, но общественное мнение и даже семья Александра высказались единодушно в пользу Жозефины. Она была жертвой рокового стечения обстоятельств. Она, двадцатилетняя, в то время не имела еще и понятия об измене.
Во время бракоразводного процесса Жозефина удалилась в монастырь Пантемон на улице Гренель. Монастырь этот служил своего рода убежищем для вдов, разведенных жен и старых дев высшего общества. Здесь впервые Жозефина Богарне вошла в общество парижской аристократии, закрытое прежде для нее благодаря отношениям ее тетки с маркизом. Герцогиня де Гиш, мадам де Поластрон, – вот имена, которые она услыхала в Пантемоне. Будучи женой Первого Консула, она вспомнила о них, чтобы завязать сношения между предместьем Сен-Жермен и Тюильри.
Пантемон был превосходнейшей школой для молодой Жозефины. Она усердно перенимала от дам высшей аристократии все то, из чего впоследствии она могла извлечь пользу.
Их манеру говорить, их голос, их поведение за столом, их манеру кланяться, поднимать глаза и искусство поддерживать непринужденную беседу о самых пустых вещах, – все переняла Жозефина. Недостаток образования она вскоре сумела скрыть тем, что искусно обходила в разговоре те вопросы, которых не понимала, и всегда говорила лишь о том, что было ей известно. Тут ей пригодились очень кстати два ее качества: ее мягкий, покладистый характер и наклонность ко лжи.
Три следующих года после разлуки с мужем она прожила с теткой Реноден и маркизом в Фонтенбло. Вскоре ей пришлось познакомиться и с заботами. Как проживет она с двумя детьми на те одиннадцать тысяч франков, которые она должна была получать? Несмотря на это, она старалась поддерживать знакомства. Она бывала в обществе семейств Монморен, Кадо д'Ази, виконта и виконтессы Бетези. Жозефина была теперь совершенно свободна. И только теперь жизнь начала ей представляться полной радости. Ей шел двадцать первый год, она была в расцвете сил, и было бы странно, если бы ее любвеобильное сердце не испытывало потребности в наслаждении жизнью. Ее обвиняют в многочисленных любовных приключениях, но определенных доказательств на то не имеется. А если бы даже и так, то разве можно ее осуждать? Ее благосклонностью, по-видимому, пользовались барон Шарль де Вьелль-Кастель и де Креней, бывавшие в доме старого маркиза.
Между тем обе семьи делали различные попытки с целью склонить супругов к примирению, – но безуспешно. Александр не испытывал к этому особого желания, и Жозефина неожиданно в июне 1788 года вместе с маленькой Гортензией уехала на Мартинику. Евгения отец отдал в коллеж. Причины этого отъезда не выяснены; по всей вероятности, тут была замешана либо какая-нибудь романическая история, либо же стесненное материальное положение, а быть может, и то, и другое. В то время как во Франции бушевали первые революционные бури, Жозефина, которую революция эта возвела вскоре на трон, прожила два одиноких года на своей родине подле больного отца[51] и больной сестры.[52] Кое-какое развлечение доставляли ей только известия из Франции. Из них Жозефина узнавала, что ее супруг играет видную политическую роль во Франции.
Александр Богарне пламенно отдался делу революции. Его увлекал идеал свободы, – он в Америке убедился в спасительном влиянии республики. В 1789 году аристократия Блуа, родины его матери, послала его депутатом в генеральные штаты, и он, особенно 4 августа во время ночного заседания, выдвинулся своим искренним воодушевлением в пользу уничтожения привилегий дворянства.
Некоторые утверждают, будто в то время он добивался примирения с Жозефиной и будто они поселились даже вместе. Утверждение это, однако, не соответствует действительности. Правда, Жозефина в октябре 1790 года вернулась с Мартиники, и оба вращались в одних и тех же салонах, говорили друг с другом ровно столько, сколько этого требовал хороший тон, обменивались, быть может, по временам мыслями и намерениями относительно воспитания детей, но о совместной жизни не заходило даже и речи. Лето 1791 года Жозефина провела опять в Фонтенбло. Здесь она узнала о назначении ее мужа президентом Национального собрания, последовавшем 18 июня. Два дня спустя Людовик XVI пытался ускользнуть из рук революционеров и передал свое положение первого лица в государстве президенту Национального собрания. Богарне стал героем дня! Он упивался своей видной ролью, особенно когда еще в том же месяце Национальное собрание избрало его вторично своим президентом.
Это было для Александра тем более почетным, что собрание решило закончить свое горделивое создание – первую Конституцию Франции.
Тем временем Жозефина уже окончательно вошла в высший свет. Она бывала у маркиза де Мулена, маркизы д'Эспеншаль, у мадам де Баррюель-Бовер, мадам де Ламет и мадам де Жанли. Но хитрая дипломатка не пренебрегала и видными революционными деятелями. Друзьями ее были Шарлотта Робеспьер, Лафайет, Эгильон, Крильон, Мену, Геро де Сешель и мадам Амело. Наиболее тесная дружба связывала ее с Матье де Монморанси, маркизом де Коленкур, принцем де Сальм-Кирбург и его сестрой, принцессой Амалией фон Гогенцоллерн-Зигмаринген. Ввиду светской жизни она должна была ограничивать себя в расходах, что было чрезвычайно тяжело для ее расточительной натуры. Из дома, где тем временем умер отец, она не могла ждать никакой поддержки. А Богарне вследствие событий на Сан-Доминго сам находился далеко не в блестящем положении, так что весьма неаккуратно исполнял свои обязанности по отношению к жене и детям. С 25 августа он состоял старшим лейтенантом генерального штаба северной армии, но лишь в начале следующего года мы его видим на поле сражения. Он выдвинулся своим геройством при Монсе 29 апреля 1792 года, получил быстро повышение и вскоре после этого командовал уже дивизией под Кюстеном. Тем не менее он не порвал своих связей с Национальным собранием и подробно сообщал ему обо всех событиях, разыгравшихся у него на глазах.
29 мая 1793 года он был назначен генералом рейнской армии, а вскоре ему был предложен и пост военного министра.
Он, однако, от него отказался и короткое время спустя подал прошение об отставке, так как Конвент объявил об исключении всех аристократов из армии. Военные заслуги Богарне снискали себе мало похвал; правительство находило, что он слишком много говорил и писал и мало делал. Еще до отставки его враги обвиняли его в том, что из-за его нерешительности был потерян Майнц.
Времена становились все более и более критическими. Террор точно бурный поток прокатился по Франции. Много невинных жертв пало под ножом гильотины. Королева последовала за своим мужем. Свыше двадцати генералов было заключено в глухие стены тюрьмы. Все они, жертвы низкой клеветы, заплатили жизнью своею за услуги, оказанные отечеству.
Катастрофа грозила и Александру Богарне, аристократу, бывшему члену Национального собрания. В начале января 1794 года он был арестован в родовом поместье Богарне и помещен в Люксембург.
Когда Жозефина узнала о грозившей мужу опасности, она выказала себя поистине мужественной, с всепрощающим сердцем. Ей самой приходилось бояться ареста, и самое лучшее для нее было бежать. Но вместо этого она делала все, лишь бы спасти мужа, который о ней никогда не заботился. Она испробовала все, и посещения, и письма, и просьбы, но безуспешно. Террор достиг высшей степени жестокости и избирал свои жертвы из кругов, имевших несчастье своим именем напоминать о монархии.
Вскоре и Жозефина очутилась в величайшей опасности. И настолько все знали ее, что она не могла ускользнуть из рук революционеров, 21 апреля 1794 года, когда она хотела раздобыть себе паспорт и воспользовалась данным аристократам десятидневным сроком для отъезда из Парижа, ее арестовали и отвезли в бывший монастырь кармелиток, превращенный в тюрьму.
В этой ужаснейшей клетке в одной из самых нездоровых местностей Парижа Жозефина своим симпатичным характером подействовала точно луч солнца. За мрачными решетчатыми стенами, в узких грязных переходах, среди отбросов человечества, грубых мужчин и женщин, ходивших здесь с голыми ногами и руками, нечесаными и немытыми, Жозефина пыталась еще улыбаться и вселяла в своих товарищей по несчастью мужество и надежду. Здесь встретились оба супруга, – Александр находился в этой тюрьме уже около полутора месяцев, – и, по-видимому, только теперь вполне примирились, судя, по крайней мере по письмам, которые они писали из тюрьмы своим детям.
Последние во время заключения родителей нашли в лице принцессы фон Гогенцоллерн вторую мать и покровительницу. Говорят, правда, что Евгения отдали в учение к столяру, а Гортензию к портнихе; многие современники подтверждают это сообщение. Если оно даже и соответствует истине, то это, бесспорно, было сделано лишь для того, чтобы расположить террористов в пользу заключенных родителей, которые тем самым обнаруживали якобы свое республиканское мировоззрение. В действительности же дети Жозефины хотя и были отданы в учение ремесленникам, но принцесса фон Гогенцоллерн никогда не теряла их из виду.
Над Францией господствовал диктатор Робеспьер! Тюрьмы были переполнены, и новый закон против аристократов от 26 жерминаля бросал в тюрьмы ежедневно новые тысячи. Не хватало мест, но гильотина помогала и тут. Чтобы придать страшной бойне хотя бы слабую тень правомерности, якобинцы придумали тюремные заговоры. В один день пустели все тюрьмы. Преступники, подкупленные якобинцами, выведывали у заключенных их мысли и намерения и предавали их правительству. Одного из таких накрыл Богарне, но тот обвинил его в устройстве заговора, и генерал окончил свою жизнь на эшафоте. 5 термидора Александра Богарне без допроса и следствия осудили на смертную казнь. 6-го, то есть всего за три дня до падения Робеспьера, открывшего все двери тюрьмы, он взошел на эшафот бесстрашно и гордо, в сознании своей полной невиновности.
Жозефина и для себя не надеялась на лучшую участь. С ее лица исчезла уверенная улыбка. Заключенная в глухой темнице, оторванная от детей, она могла теперь только плакать. Ее слабая, суеверная натура судорожно цеплялась за гадание на картах. Сотни раз в день гадала она, суждено ли ей остаться в живых. Волнения последних недель заставили ее слечь в постель. Это было для нее спасением. Страшная лихорадка помешала ей предстать перед революционным трибуналом, и дело ее было отложено.
Но вот произошло нечто, чего не могла себе представить самая пылкая фантазия: перст судьбы коснулся самого Робеспьера, самого диктатора! Косвенной причиной спасения тысячи несчастных был Тальен. Если поэтому Жозефина и была обязана кому-нибудь своим освобождением, то только ему, а вовсе не его возлюбленной Терезии Кабарю. С нею Жозефина познакомилась только по выходе из тюрьмы. Освобождена она была 19 термидора II года (6 августа 1794 года). Провожаемая благословением своих сотоварищей, она покинула монастырь кармелиток, оставив по себе светлую память у всех. На свободе она не забыла своих несчастных друзей. Многие благодаря ей получили свободу.
Говорят, что Жозефина в это время находилась в близких отношениях с генералом Гошем. Если это и правда, то связь их длилась чрезвычайно недолго, так как Гош покинул Париж 11 или 12 фрюктидора, то есть спустя всего три недели после освобождения Жозефины из тюрьмы, отправившись в качестве главнокомандующего прибрежной армией в Шербург. Возможно, однако, что она вступила с ним в связь еще в монастыре кармелиток, в котором он также был заключен, так как Гош был не только красивым человеком, покорявшим все женские сердца, но и большим ловеласом. Как бы то ни было, но Жозефину за это осуждать нельзя, особенно же в то аморальное время. Разве можно обвинять ее, видевшую ежедневно смерть перед глазами, ее, слабую, томящуюся натуру, ее, в течение трех месяцев видевшую только горе и ужасы? Каждая мысль, каждое слово, каждое занятие таили в то страшное время позади себя грозный призрак – смерть. А ведь Жозефина Богарне была еще так молода: она любила жизнь, а жизнь была так прекрасна.
Более всего распространению слуха о связи Жозефины с Гошем способствовало то, что Гош после своего освобождения взял к себе маленького Евгения. Генерал сделал это, однако, больше из дружбы к Александру Богарне, с которым разделял тюремное заключение. Еще менее вероятно сообщение Барра в его вообще чрезвычайно лживых мемуарах. Он рассказывает, будто Гош в благосклонности Жозефины был преемником своего конюха.
Мадам де Богарне предстояло устроить как-нибудь свою жизнь. После казни мужа она с обоими детьми очутилась в крайней нужде. Все состояние ее было конфисковано, с Мартиники нечего было ждать, так как отец ее оставил только одни долги. Правда, она заняла у тетки Реноден тысячу двести франков и еще взяла у матери тысячу фунтов стерлингов. Это было ничем для женщины с такими претензиями, как у Жозефины. Расточительность повергла ее в величайшую нужду. Она занимала у всех, даже прислуга была ее кредиторами.
Несмотря на это малозавидное положение, она завязала прежние знакомства, устраивала несмотря на господствовавшую дороговизну званые обеды и пышные приемы, покупала себе шелковые шали и дорогие платки – она заплатила, например, за пару шелковых чулок пятьсот франков ассигнациями, правда, но это была все же довольно значительная сумма для ее стесненного положения. Ей приходилось заботиться об Евгении и Гортензии. Она отдала обоих на воспитание в Сен-Жермен: Гортензию к мадам Кампан, а Евгения в ирландский институт Мак-Дернота. Все это стоило больших денег, долги росли, – это была одна из ее величайших забот, от которой она не отказалась, даже будучи императрицей, когда к ее услугам были все сокровища мира. Ей всегда нужны были деньги. Одни ее туалеты, своим богатством и вкусом делавшие ее одной из самых элегантных дам тогдашнего времени, стоили безумных денег. В конце концов для удовлетворения своей расточительности Жозефина была вынуждена искать спасения в любви.
Общество, в котором она в то время вращалась, не могло подать ей хорошего примера. Она завязала тесную дружбу с прекрасной, но чрезвычайно фривольной Терезией Тальен и ее мужем, наиболее влиятельным лицом после 9 термидора. Обстановка, в которой главную роль играли легкомыслие, галантность, интриги и любовь, нравилась жизнерадостной креолке. Терезия и Жозефина прекрасно понимали друг друга. Они точно были созданы одна для другой. Обе обращали внимание своею внешностью – хотя мадам Тальен была несравненно красивее Жозефины, обе были одинаково добродушны, хотя и сластолюбивы, расточительны, элегантны, капризны и обе старались найти человека, безразлично, мужа или любовника, деньгами которого они могли бы удовлетворить все свои утонченные прихоти. Они различались только в возрасте: Терезии не исполнилось еще двадцати лет и со всею силою своей юности она господствовала над своими многочисленными поклонниками.
Впоследствии Бонапарт положил конец этой малоподходящей для жены Первого Консула дружбе с “Notre dame de Thermidore” или “La propriété du gouvernement”, как называло Терезию Тальен народное остроумие. А ведь все же было время, когда он сам ухаживал за Терезией. Одно письмо его к Барра кончается словами: “поцелуйте мадам Тальен и мадам Шаторено; первую в губки, вторую в щечку”. Но это, правда, относится еще к тому времени, когда такое знакомство казалось ему скорее полезным, нежели вредным. Тогда он в известном смысле сам обязан мадам Тальен, так как она благодаря своему влиянию на Барра и Уврара могла оказать ему услугу. Ведь рассказывали даже, что бледный, скромно одетый артиллерийский генерал в один прекрасный день открыл свое сердце Терезии, у которой бывал частым гостем. Одевался Наполеон в то время не только скромно, но даже небрежно; кошелек его был всегда пуст. Ему нужен был во что бы то ни стало новый мундир, а он, в качестве офицера в отставке, не имел права на таковой. Но Терезия была всемогуща. Она дала генералу Бонапарту рекомендательное письмо к Лефеву, казначею семнадцатой дивизии, и Наполеон получил новый мундир. По всей вероятности, в нем-то он и блистал в столь знаменательный для него день 13 вандемьера. У мадам Тальен Жозефина познакомилась с тогдашним комиссаром Барра, приобретшим вскоре большое влияние. Он без доклада входил к Терезии, бывшей в то время обладательницей его сердца и кошелька. Ему, знатоку женской красоты во всем ее разнообразии, понравилась нежная Жозефина, в которой своеобразно перемешивались французская элегантность и креольская небрежность. Терезия ничего не имела против этого. Барра познакомил ее с богатым и щедрым банкиром Увраром. “Ребяческая ревность” была ей незнакома, и она спокойно уступила место своей подруге. Жозефина была очень довольна – теперь она была избавлена от всяких забот. О любви к Барра у обеих женщин, понятно, не могло быть и речи, а поэтому не было и признака ревности. Наоборот, они еще теснее сблизились друг с другом, чтобы сообща извлекать пользу из влиятельного покровителя.
Жозефина жила теперь в прелестном домике на улице Шантерен, который сняла у изящной Жюли Карро, разведенной жены актера Тальма. Дом был обставлен с большим комфортом, во дворе были стойла и целый ряд служб. Мадам де Богарне держала теперь двух венгерских лошадок и экипаж, полученный ею при посредстве одного благотворительного комитета. У нее были кучер, портье, повар, камеристка, словом, полное хозяйство, хотя комнаты и были обставлены довольно просто. Стол накрывался очень небрежно, но кушанья были всегда утонченные и изысканные. Сама она одевалась со вкусом и изяществом. Салон ее был центром старого и нового общества, – в нем бывали выдающиеся представители всех партий.
Почти все издержки по ведению хозяйства оплачивал Барра. Но не всегда он бывал щедрым возлюбленным. Деньги он давал неохотно, так как сам в них нуждался. Он любил платить натурой. Однажды Жозефина обратилась к своей подруге, чтобы при помощи ее влияния раздобыть у Барра денег. Но тот отказал и заявил, что у него самого ничего нет. Мадам Тальен, однако, не унималась. На столе она увидела ключ, подошла, открыла ящик и взяла деньги, какие там нашла. “Друг мой, – сказала она, – ваши подруги не должны терпеть недостатка решительно ни в чем… Разве не служат они вам верную службу?”
Таковы были отношения мадам де Богарне и Барра в то время, как она познакомилась с Бонапартом. Относительно того, как произошло это знакомство, сообщаются разноречивые сведения. Наиболее известно немного поэтическое, но в равной мере невероятное сообщение, поводом к которому послужил данный губернатором Парижа приказ обезоружить секции.[53]
Бонапарт предложил Жозефине вернуть саблю ее мужа, но двенадцатилетний Евгений воспротивился этому всеми силами и не захотел отдать оружие отца. Офицер, пришедший в их дом с этим приказом, послал Евгения к генералу Бонапарту, чтобы тот попросил его разрешения оставить саблю. “Глубокое волнение ребенка, его хорошенькое личико и громкое имя” тронули генерала Бонапарта, и он разрешил ему оставить оружие. Жозефина сочла своим долгом лично поблагодарить генерала и на следующий день нанесла ему визит. Ее обаятельная внешность произвела глубокое впечатление на робкого офицера, непривыкшего к обществу красивых женщин. Он ответил на ее визит и был в высшей степени любезно принят в домике на улице Шантерен. Этот рассказ неверен уже потому, что Наполеон знал маркизу Богарне еще до 14 вандемьера и часто видел ее во время приемов у мадам Тальен и у Барра. Таким образом, впервые их взгляды встретились там. Из многих женщин, одетых в греческие туники, Бонапарту бросилась в глаза изящная Жозефина с каштановыми волосами, несколько отливавшими матовым багрянцем, и мечтательными темными глазами. И чем больше наполнялся салон незнакомыми людьми, тем смелее становился он: робкий в обществе и отважный на поле сражения. Он признавался на Св. Елене: “Я был хотя и не совсем невосприимчив к женскому обаянию, но до тех пор (до знакомства с Жозефиной) женщины меня не баловали. Вследствие моего характера я был чрезвычайно робок в обществе. Мадам де Богарне была первой, вселившей в меня некоторое мужество. Однажды, когда я сидел рядом с нею за ужином, она наговорила много комплиментов моим военным способностям. Эти похвалы вскружили мне голову. Я говорил весь вечер только с нею и не отходил от нее. Я страстно влюбился в нее, и об этом узнало сразу все общество задолго до того, как я решился ей в этом признаться”.
Бонапарт зачастил в дом на улице Шантерен. Жозефина пленила его. Она вскружила ему голову своим утонченным изяществом, своими роскошными волосами, причесанными на этрусский лад, и красивыми томными глазами. Она казалась ему идеалом женщины и была к тому же так благородна и богата. Он не имел ведь понятия, что за всем этим блеском скрывается такая нужда, что у этой элегантной дамы всего лишь шесть сорочек, что по будням она ест из глиняной посуды, что весь запас столового белья состоит из восьми скатертей и стольких же салфеток. Всего этого генерал Бонапарт не замечал. Он видел только ее, свою очаровательницу, которая одна была в состоянии дать ему высшее счастье. Ее стройное, гибкое тело, с таким искусством облекавшееся в тонкие ткани, ее пластичные формы и мягкие движения приводили его в восторг. Ему не приходило и в голову, что эта женщина шестью годами старше его. Жозефина замечала свою власть над ним и старалась ее использовать. Их отношения, однако, долгое время оставались чисто светскими. Лишь из более позднего письма Наполеона к Жозефине можно было заметить, как далеко зашло дело. Оно было написано после одного вечера, проведенного у Барра и закончившегося, по-видимому, на улице Шантерен: “Я проснулся, преисполненный тобою. Твой образ и дивный вчерашний вечер опьянили меня. Дорогая, несравненная Жозефина, какое странное впечатление произвели вы на мое сердце. Если вы сердитесь, если я вас увижу опечаленной и озабоченной, я погибну от горя, спокойствие вашего друга будет навеки нарушено. Но зато как счастлив я буду, когда отдамся глубокому чувству, владеющему мною теперь, и выпью с ваших губ и из вашего сердца то пламя, которое меня сжигает… Через три часа я увижу тебя, пока же, mio dolce amor, тысячу поцелуев. Мне же ни одного, – они сжигают мою кровь”.
Мадам де Богарне вначале не обнаруживала особого воодушевления маленьким генералом с худощавым бледным лицом. Она, наверное, не сразу решила выйти за него замуж. Но престиж Наполеона, его гений, его предприимчивость были ей, вероятно, известны. Кроме того, ей хотелось занять определенное положение. Ее долги достигли огромной суммы; на Барра нельзя было больше рассчитывать. Что же станет с ее детьми?
Тридцатитрехлетняя женщина, прелести которой были готовы увянуть, не без расчета согласилась стать женой генерала Бонапарта, столь малоопытного в любви. Она, правда, не питала к нему отвращения, но любви, – нет, любви к нему она не могла чувствовать, так же как и к Барра. У Бонапарта было, однако, будущее, – кто мог знать, что ожидает его?
Наполеона же влекла к Жозефине только любовь. Он женился на ней только потому, что любил ее, – любил так, как только может любить мужчина женщину. Кем она была, какое у нее было положение, ему было совершенно безразлично. Его не заботило также и ее происхождение и отношения с Барра. Ему не нужны были не покровители, ни защитники, ни даже Барра. Он влюбился в миловидную стройную креолку. Она обладала всеми качествами, способными привлечь такой восприимчивый характер, как его. Она должна была стать его женою, чего бы это ему ни стоило. Своим полускрытым взглядом, сладким мелодичным голосом, которому впоследствии жадно внимал двор в Тюильри, Жозефина сумела превратить искру в сердце Наполеона в бушующее пламя. Он радовался, когда она, привыкшая, вероятно, ко всевозможной лести, краснела, слыша его смелый язык любви. И в любви он был тем же деспотом. Брак с Жозефиной казался ему величайшим счастьем. Что ему было за дело, если она всего лишь несколько недель назад играла роль хозяйки в салоне Барра? В глазах Наполеона это нисколько не умаляло ее, и она оставалась все тою же нежною обожаемою Жозефиною.
Другими глазами смотрели на новую невестку братья Наполеона. Они видели в ней только ужасную кокетку, чересчур старую для Наполеона. Люсьен, часто бывавший в салоне Барра, уже давно знал Жозефину. Он не выделял ее из толпы этих женщин. Он утверждал даже, что Жозефина никогда не была красивой, особенно же тогда, когда красота ее уже начала блекнуть. Но он все-таки старался быть справедливым. “Жозефина, – говорил он, – была не злая; или, вернее, об ее доброте говорили многие. Она была особенно добра, когда ей не нужно было ничего приносить в жертву”. Далее он пишет: “Она превосходно знала высшее общество, в которое ввел ее муж еще до революции. Она не блистала умом, была далека от того, что называется “красотой”, но ей нельзя отказать в стройности и гибкости фигуры”…
Личная неприязнь Люсьена играла немаловажную роль в этом описании Жозефины. Она казалась ему более некрасивой и менее привлекательной, чем была в действительности. Наполеон, впрочем, мало заботился о мнении семьи. Ему нравилась Жозефина такой, какой она была, со всеми ее недостатками и со всеми ее достоинствами.
19 вантоза (9 марта 1796 года) в десять часов вечера состоялось гражданское венчание Наполеона Бонапарта с Жозефиной де Богарне, урожденной Таше де ла Пажери, в мэрии Второго округа, в бывшем дворце маркиза Жан-Жака де Гадлэ-де-Мондрагона. Брачное свидетельство было изготовлено накануне у адвоката Рагидо в присутствии единственного свидетеля, гражданина Лемаруа, адъютанта Бонапарта. Будущий супруг заявил в нем, что не обладает никаким имуществом помимо своего платья и оружия, но будучи уверен в своем будущем, он обязался оставить своей жене после смерти пожизненную ренту в тысячу пятьсот франков в месяц. Он подписался “генерал внутренней армии”, хотя еще 2 марта был назначен главнокомандующим итальянской армией. Помимо этого в брачном свидетельстве было много неточностей. Жозефине шел уже тридцать третий год, когда она повенчалась с Наполеоном, а ему всего двадцать седьмой. Шесть лет разницы было чересчур много для такой кокетливой женщины. Она поэтому сбавила себе четыре года, заявив, что родилась 23 июня 1767 года. Бонапарт не считал себя слишком старым для двадцатидевятилетней женщины, прибавил себе полтора года. Декорум был сохранен. Правильность этих данных не проверялась ни на Корсике, ни на Мартинике. Много времени спустя Наполеон говорил об этом: “Бедная Жозефина тем самым могла себя подвергнуть крупным неприятностям, так как благодаря этому брак мог быть объявлен незаконным”.
Дальнейшие неправильности заключались в том, что среди свидетелей был один несовершеннолетний. То был родившийся в 1776 году капитан Лемаруа, адъютант Бонапарта. Другими свидетелями были Барра и некий Кальмелэ, старый знакомый Жозефины, названный в свидетельстве “Homme de loi”. Еще в тот же вечер Бонапарт, живший на улице д'Антена, переехал в дом своей жены. Дом этот для их скромных обстоятельств был чуть ли не дворцом. Из сада несколько ступеней вели в овальную столовую, к которой справа и слева примыкали библиотека с мозаичным полом и маленький кабинет. В конце прихожей находился салон с двумя стеклянными дверями в сад. Узкая винтовая лестница вела наверх во внутренние апартаменты. Они состояли из салона и двух комнат. Одна из них с пола до потолка была покрыта зеркалами: то была спальня. Рядом с нею находилась уютная уборная, стены которой были расписаны птицами и цветами.
Хотя мебель далеко не соответствовала роскошной отделке и во многом обнаруживала бедность хозяйки, генерал Бонапарт был поражен всем этим блеском. Его счастье было бы вполне полным, если бы любимая собачка Жозефины “le vilain Fortuné” не спала в постели хозяйки. Полушутливо, полусерьезно Наполеон говорил впоследствии одному своему Другу: “Посмотрите-ка на этого господина (Fortuné). Он занял постель моей жены в день нашей свадьбы. А мне заявили просто-напросто, что я должен спать в другом месте. Это была малоприятная для меня перспектива, но приходилось выбирать: либо брать самому, либо покориться. Но любимец был неуступчивее меня”. Fortuné укусил в ногу молодого супруга.
Наполеон мог пользоваться своим счастьем всего лишь короткое время. Через два дня он должен был отправиться на поле военных действий. Убитый горем, прощается он с Жозефиной, сладкий голос которой совершенно опьянил его. Но прощается с нею, веря в свои великие подвиги, в то, что когда-нибудь исторгнет из ее груди крик восхищения. Быть любимым Жозефиной высшая цель для его честолюбия. Сладостные воспоминания сопровождают его на поле сражения. Он видит ее в зеркальной комнате на улице Шантерен, видит “ее руки и белые плечи, ее маленькую эластичную грудь, ее изящную головку” и покрывает все эти прелести “тысячами горячих поцелуев”. Путь его вел сперва в Ниццу, где находился генеральный штаб итальянской армии, а 26 марта 1796 года он направился навстречу славе, ожидавшей его в Италии.
Но что была для него эта слава без “нее”? Удрученный разлукой, в самый разгар сражения, в то время, как пули проносятся над его головой, он, как двадцатилетний юноша, пишет ей пламенное письмо. Уже 3 апреля, прибыв в Порт-Морис, он чувствует, что не в силах бороться с тоской. “Единственная моя Жозефина, – пишет он, – вдали от тебя для меня нет радостей. Вдали от тебя весь мир пустыня, в которой я одинок и покинут… Ты отняла у меня не только сердце. Ты – единственная мысль всей моей жизни. Когда события меня удручают, когда я боюсь за исход их, когда люди становятся мне противны, когда я чувствую по временам усталость жизни, то я кладу руки на свое сердце. В нем покоится твой образ. Я гляжу на него, и любовь возвращает мне счастье… Какими чарами овладела ты всем моим существом? Какими чарами похитила ты у меня мою душу?.. Я делаю все, лишь бы быть поближе к тебе. Я умираю от тоски по тебе, я сумасшедший. Я не замечаю, что отдаляюсь от тебя… Ах, обожаемая моя! Я не знаю, что меня ожидает, но если я буду еще долго вдали от тебя, я не выдержу – терпения моего надолго не хватит…”
В то время как Бонапарт переходил от победы к победе, штурмом покоряя мир, торжественно переходил из города в город как освободитель Италии, – его пламенное корсиканское сердце, испытавшее впервые истинную любовь, невыразимо страдало от горькой разлуки с любимой женщиной. Ее образ был неотступно подле него день и ночь, даже грохот поля сражения и победные клики не были в состоянии изгнать его из его мыслей. С образом Жозефины призывал он молодых солдат к победам, для Жозефины выигрывал битвы, для Жозефины завоевывал города и страны, – для нее, все для нее. Любовь к ней и к бессмертной свободе, неразрывно друг с другом связанные, руководили Наполеоном. Но Жозефина – слабая жизнерадостная Жозефина, – была в Париже одна, в огромном соблазнительном Париже. Как доверчива все же была любовь Наполеона!